Светлана Георгиевна Замлелова ГНОСТИКИ И ФАРИСЕИ сборник рассказов
Метаморфозы
Как-то по осени молодые супруги Станищевы надумали продавать дом в деревне.
Объявление разместили в газетах, и вскоре на супругов посыпались телефонные звонки и вопросы:
- А газ есть? А электричество?
- Какая дорога – асфальт или грунтовка?
- Лес рядом?
- А река есть?
- На общественном транспорте можно доехать?
- А что у вас там растёт?
Несколько раз супруги ездили показывать своё недвижимое имущество. Имущество нравилось. Покупатели прищёлкивали языками, ахали, вздыхали, щупали брёвна дома, нахваливали воздух, восхищались тишиной, но покупать не спешили.
В понедельник 11 октября глухой женский голос спросил:
- Это вы дом продаёте?
Елизавета приготовилась к расспросам об электричестве, реке и общественном транспорте, но глухой голос сказал только:
- Мне подходит. Я бы купила. Посмотреть только…
- Конечно! – засуетилась Елизавета. – Можно поехать в выходные. Или вы сами… - мы объясним.
Но глухой голос спросил:
- А завтра вы можете со мной съездить?
Елизавета испугалась, что позвонившая передумает, и немедленно согласилась ехать завтра, поёжившись от мысли, что нужно будет отпрашиваться с работы, и начав уже перебирать в уме, что именно придётся говорить. Они условились встретиться в десять утра на автовокзале. Покупательница представилась Натальей и заверила, что узнать её очень легко, поскольку она – «высокая блондинка». Елизавета представила безликую красавицу с укрывающими плечи волосами цвета спелой пшеницы, круглым алым ртом и похожей на мячи грудью. И отчего-то затосковала.
На другой день ровно в девять сорок пять супруги Станищевы, уладив каждый дела на работе, подъехали к автовокзалу. Оба волновались, озираясь и выглядывая сквозь автомобильные стёкла «высокую блондинку», точно с её появлением связывали появление в своей жизни чего-то нового и значительного...
По утрам на вокзале бывало оживлённо. Мимо машины Станищевых проходили люди, попадались и высокие блондинки, но ни одна из них не замедлила шага, ни одна не огляделась кругом себя в нерешительности, ни одна не взглянула в нетерпении на левое запястье. Толпа людей, из пёстрой летом постепенно чернеющая к зиме, казалась чем-то единым и внутренне связанным, точно лужица чернил, перетекающая и меняющая очертания от малейшего смещения плоскости или лёгкого дуновения. Иногда от этой лужицы отделялись ручьи и текли в сторону собственным руслом. Вот закутанная в платки старуха с каким-то нелепым посохом – наверняка прибыла из деревни на богомолье. Вон девчонка лет десяти с мороженым и рюкзаком за плечами; колготки собрались на тонюсеньких щиколотках гармошкой, а на красной куртке – белые сладкие подтёки. Никаких сомнений, что прогуливает школу. А вот неумело молодящаяся дамочка – ни узкие чёрные джинсы, ни распущенные обесцвеченные волосы не скроют и не остановят надвигающийся полувековой юбилей. Прохаживается взад и вперёд, потягивает какой-то киндер-бальзам из бутылки, судя по всему не торопится – ждёт кого-то. Может, свидание, а может…
Станищевы переглянулись, и в следующее мгновение Елизавета уже стояла перед дамой с бутылкой.
- Это не вы нам звонили? Насчёт дома… Наталья?..
- Да… Я звонила, - знакомый глухой голос в отсыревшем октябрьском воздухе показался ещё глуше.
Два часа, что были в дороге, не проронили ни слова. Станищевы, то и дело поглядывая на «высокую блондинку» в зеркало заднего вида, замечали, что она с таким интересом и любопытством смотрит в окно, точно намеревается купить не дом-пятистенок, а сотни десятин пахотной земли и леса вокруг. Когда же, проехав по деревне, остановились у дома, она вышла и сказала:
- Перспективная деревня…
Это были её первые слова за всё время. Станищевы переглянулись, и Елизавета почему-то вдруг поняла, что сделка не состоится. Но они всё равно ходили по дому и по заросшему бурьяном участку и даже спустились к реке, а после прошлись по улице.
Блондинка прихлёбывала свой киндер-бальзам и, как всякий городской человек, случившийся в деревне, втягивала в себя воздух, откинув голову и раздувая ноздри. Говорила она мало, и единственное, что запомнили Станищевы из сказанного ею при осмотре деревни и дома, были слова «перспективная деревня». Но когда поехали обратно, она вдруг разговорилась. Сказала, что должна «с семьёй посоветоваться», а после принялась рассказывать про другие дома и деревни, про разрушающиеся города и восстанавливающиеся обители, про целебные источники и тихоструйные речки. Говорила не спеша, с удовольствием – точно пела. Точно отдавшись навеянному деревней настроению, отпустила таившиеся где-то чувства, позволив слагаться им в слова. И, как поющий не задумывается над тем, что поёт, не задумывалась над этими словами. И если бы разочарованные Станищевы слушали её внимательно, они, возможно, подивились бы и насторожились, заподозрив в несостоявшейся покупательнице мошенницу, неизвестно для чего объезжающую города и веси, разглядывающую чужие дома и так до сих пор ни на чём не остановившуюся.
А подивиться и в самом деле было чему…
Наталья, назвавшаяся «высокой блондинкой», росту была среднего, блондинкой крашеной. Знакомые не знали за ней ничего необычного – ходила как все на работу, растила одна сына, способностями не выделялась. Была в меру доброй, в меру обходительной, и вообще всё в ней было как-то в меру. А между тем, имела Наталья свою тайну, о которой никто решительно не знал в целом свете.
Как-то летом жаркою, душною ночью приснился Наталье сон. Увидела себя Наталья на берегу небольшого озера. Стало жарко, Наталья сбросила одежду и легла у воды, любуясь своим отражением. Чувствовала Наталья запахи – нагревшейся хвои, травы, воды... Запахи дурманили её, кружили голову и нагоняли истому. Тело Натальино горело и, казалось, вот-вот расплавится.
Наталье представлялось, что она одна, но тут в стороне она увидела мужчину и женщину. Обнажённые, как и Наталья, они стояли совсем близко друг к другу и разговаривали. Потом вдруг, сцепившись, упали и покатились по траве. Наталья поняла, что тот, кто победит в схватке, будет обладать ею. Наталье хотелось, чтобы победил мужчина, но верх над ним взяла женщина. Мужчина убежал, а женщина медленно пошла к Наталье. Была она крупной, с большими руками и большой грудью, лицо её было некрасивым и грубым. Она подошла совсем близко, и запах её тела перебил другие запахи. Наталья не смела пошевелиться. Сердце её забилось часто, она вдруг подумала: «Корова…» И проснулась.
Два дня видение не давало покоя Наталье. Два дня она старалась не думать о нём и волновалась безотчётно. Потом Наталья вновь увидела сон. Будто жарким днём на нескошенном лугу огромная корова подошла к ней и стала тереться об её плечо. Наталья смеялась, сама не зная чему, ласкала корову и целовала её морду. Корова двинулась прочь, оглядываясь на Наталью, словно зовя за собой, и Наталья пошла следом. На пути у них оказалась лужа. Сбросив туфли и подобрав юбку, Наталья голыми ногами стала входить в лужу, наблюдая, как грязная вода смыкается вокруг её полных белых икр. Вдруг корова, шедшая рядом, исчезла. И Наталья проснулась.
Опять было жарко, горело тело, и долго ещё не могла заснуть Наталья, ворочаясь с боку на бок.
Прошёл месяц, сны стали забываться. Но однажды Наталья, просматривая газету, наткнулась на объявление: «Продаётся дом в деревне Коровино…» Внизу стояла подпись «Сергей», и дан был номер телефона. Разом припомнились ей оба сна и она, волнуясь, как в те жаркие ночи и не отдавая себе до конца отчёта в том, что делает, позвонила по номеру, указанному в объявлении…
Дом, куда привёз её Сергей, был небольшим, но имел множество тесных и тёмных помещений. Всюду было жарко и влажно. Они то и дело входили, выходили и заходили вновь, нигде не задерживаясь подолгу. А в одной из комнатушек с маленьким, как ладонь, окошком, уставленной вдоль стен широкими пыльными скамьями, деревянными кадушками и корзинами из толстых прутьев, дурманно пахнущей какими-то травами, висевшими пучками под потолком, задержались дольше обычного.
Домой Наталья вернулась довольная: она устала, но напряжение, владевшее ею прежде, ушло. Природа, новые впечатления развлекли её. К тому же за развлечения не пришлось платить ни копейки.
Через некоторое время она снова открыла газету, и стала звонить по всем объявлениям. Сделав выбор, она договорилась о встрече и на другой же день, зная, что ничего не собирается покупать, отправилась осматривать чужую дачу.
Вскоре эти поездки сделались её потребностью. Бывало так: она возвращалась уставшая, но и отдохнувшая, и на некоторое время забывала о том, с кем и куда ездила. Но проходили дни, тянулись ночи, и она, лёжа порой в темноте без сна, припоминала свои путешествия, ворочалась и дрожала мелкой колючей дрожью. Наутро она покупала газету и трепещущей рукой набирала номера телефонов, угадывая нужного ей «продавца» каким-то неизъяснимым чутьём. Они сговаривались, и в ближайшие за тем дни Наталья ехала за город.
Случалось, поездка складывалась не так, как хотела того Наталья, и оставалось довольствоваться прогулкой, впечатлениями и свежим воздухом. Тогда по возвращении Наталья находила новые объявления и звонила, вслушиваясь в голоса тех, кто, ни о чём не подозревая, связывал свои неясные надежды на призрак благополучия со странной незнакомкой.
А иногда, чтобы развеяться, Наталья, не разбирая, отправлялась с тем, кто первый соглашался ехать. Мужчина ли, женщина, старик или семейная пара – Наталье было всё равно, она чувствовала, что перед ней заискивают, заглядывают ей в глаза, что от неё в настоящую минуту зависит настроение и довольство жизнью этих людей. Как милостыню, она подавала им надежду, и они до последней минуты старались быть любезными с нею.
Спустя две недели после поездки со Станищевыми, Наталья отправилась в деревню Нестерово осматривать дом некоего Альберта Кузьмича.
Альберт Кузьмич оказался человеком симпатичным и разговорчивым, к тому же, одних лет с Натальей. Дорогой они говорили, смеялись, и Наталья, к своему удовольствию, поймала не один его взгляд на своих коленках, выкатывавшихся широкими кругляшами из-под короткого плаща.
- А вы, что же.., - оборвал он вдруг разговор, - себе хотите купить?
Наталья, думая, что он принимает её за агента, и, улыбаясь про себя его наивности, отвечала:
- Да, да. Себе…
- А вы как.., - спустя недолго, снова спросил он, мелкими нервными движениями дёрнув сначала вниз, а потом вверх козырёк своей клетчатой твидовой кепки, - наличными хотите?
- Наличными, - подтвердила Наталья, входя в роль и начиная верить, что где-то дома – например, в шкатулке в одном из ящиков комода – у неё лежит огромная сумма наличных денег.
- Это хорошо.., - улыбнулся он Наталье длинными жёлтыми зубами.
А ещё через некоторое время, оборвав самого себя на полуслове, спросил:
- Они дома у вас?
- Кто? – не поняла Наталья и чего-то испугалась.
- Да деньги!.. Деньги-то дома у вас? Или из банка нужно?..
- А-а-а!, - рассмеялась Наталья своей непонятливости и глупой пугливости. – Дома, да…
Он привёз её в деревню. По-осеннему было холодно и грязно. Но Наталья, волнуясь, не замечала ничего этого.
- Замёрзла! – кивнул он, подметив, что она дрожит.
Наталья неохотно улыбнулась, наблюдая с жадностью и нетерпением за тем, как он отпирает дом.
- Заходи! – усмехнулся он, распахивая дверь.
Наталья, опустив глаза, прошла в сени.
Альберт Кузьмич дёрнул козырёк своей кепки, огляделся кругом, прикрыл за собой дверь и громыхнул изнутри засовом.
- Проходи! – говорил он, обогнав Наталью и указывая ей дорогу. – Проходи… Сейчас печку стопим маленько… Чайничек поставим…
Дом был неопрятный – на полу и почти на всех поверхностях валялось какое-то запачканное тряпьё, всё было отсыревшим и дурно пахло. Мыши, казалось, хозяйничали в доме, расплодившись и заняв собою все комнаты. Но Наталья ничего не замечала. Хоть в доме было холодно и промозгло, она сняла плащ, перебросив его через левую руку, и осталась в короткой белой юбке и розовой кофточке с глубоким вырезом, над которым, как подошедшее тесто, вылезающее из кастрюли, подрагивала стиснутая и выдавливаемая, грудь.
Хозяин суетился возле печки, то и дело поглядывая на Наталью. Несколько раз он выходил из комнаты и приносил какие-то вещи – большую картонную коробку, алюминиевые вёдра. Наталье не хотелось думать о том, что и зачем он делает, и она, чтобы как-то занять себя на то время, пока он занят и не вызывать лишних вопросов и подозрений, принялась изображать, что с интересом осматривается. Но когда, отвернувшись к окну, Наталья, как и положено городскому покупателю деревенского дома, залепетала что-то о красоте и тишине, в ту самую минуту на голову ей опустилось сзади что-то тяжёлое и плоское. Из глаз у Натальи полетели разноцветные искры, она успела испугаться и удивиться. А потом ничего не стало…
Когда же явь острой болью вползла в мозг Натальи, и Наталья, простонав, зашевелилась, оказалось, что она лежит на деревянном полу, что руки у неё связаны за спиной, что кругом темнота, холодно и пахнет мышами. Наталья испугалась, не ослепла ли она от удара, но, оглядевшись, различила тонкие, как нити, полоски света на одной из стен. Догадавшись, что это дверь, Наталья с трудом поднялась на ноги, подошла к ней и толкнула. Дверь была заперта.
- Алик! – позвала Наталья, но ответа не получила.
Тогда она прислонилась спиной к двери и заплакала. Тут раздались шаги, неясное бормотание, а следом – скрежет металла о металл, щелчок отпираемого навесного замка и глухой стук его о дверь. В следующую секунду в проёме появилась мужская фигура в кепке.
- Очнулась? – он рассмеялся злобным, презрительным смешком и кивнул Наталье, как давеча на улице. – Бело-розовая тёлка!..
Говорил он громко и нарочито грубо, рассчитывая, очевидно, нагнать страху на свою жертву.
- Что вам надо? – прохныкала Наталья, отступая на шаг назад.
- Что надо!.. – он снова рассмеялся. – Дура!.. Позвонишь домой, скажешь, что за деньгами приеду… Если деньги мне передадут – домой пойдёшь, если нет… или там менты…
Тут только Наталья осознала, что с ней произошло самое страшное, что только могло произойти, и что исхода для неё нет.
- Что вам надо? – в голос зарыдала она. – У меня нет денег!..
- Денег нет!.. – усмехнулся Альберт Кузьмич. – А кто говорил, что дома?..
- Это не так! – закричала Наталья. – Это… ошибка! У меня нет!..
- Ну вот посиди тут… Вспомни…
Он стал закрывать дверь, а Наталья, чтобы помешать, бросилась к нему.
- Куд-да?! – он с силой оттолкнул её так, что она упала.
- Алик! – вскрикнула Наталья, вкладывая в это имя и мольбу о пощаде, и жалобу на боль и страх, и удивление перед коварством и вероломством.
- Какой я тебе Алик! – крикнул он, при этом грязно обругав Наталью. – Сиди уж… бело-розовая тёлка!..
Дверь захлопнулась, и Наталья снова осталась в темноте.
Который шёл час и как долго она пробыла без сознания в этой пахнущей мышами кладовке, Наталья не знала – время смеялось над ней. Наталье казалось, что всё вокруг смеётся над ней – и темнота, и мыши, и эта комната, где, как она нащупала, стояла возле стены узкая лавка, о которую она больно ударилась, падая. И даже её телефон, то и дело нарушавший тишину где-то неподалёку, точно нарочно дразнивший Наталью близостью и недостижимостью привычного, безопасного мира. По мелодиям звонков Наталья узнавала коллег и знакомых, отчего ей делалось ещё более страшно и горько.
В какой-то момент из динамика телефона рассыпалась стеклянными бусинами мелодия «Феи драже», как рассыпалась всякий раз, когда на связь с Натальей выходил её сын. Не помня себя, Наталья подскочила к двери и стала биться в неё всем телом, как раненая, обезумевшая птица. Она звала своего палача, выкрикивая какие-то нелепые, бессмысленные слова. Но никто не шёл к ней, и никто, казалось, её не слышал. Но вдруг темнота, которая окружала её, сделалась красной. Наталья покачнулась и, в который уже раз, упала.
Но красная пелена, опустившаяся ей на глаза, стала зарёй. И Наталья увидела лесное озеро, на берегу которого она лежала в своём сне, козлоногого старика с очами синими, а вокруг него – целую стаю нагих красавиц. И себя среди них…
Поцелуй
История отца Варсонофия такова, что никого обыкновенно не оставляет равнодушным. Никто ещё не выслушивал историю отца Варсонофия безучастно, ни на кого не наводила она скуку. И если в нашем изложении рассказ этот не займёт читателя, не распотешит его избалованного внимания, в том вина лишь автора этих строк, не сумевшего изложить достойно историю занимательную во всех отношениях...
Случилось отцу Варсонофию, в бытность свою врачом Василием Ардалионовичем Куницыным, получить место в первой градской больнице Москвы. Переводился он в столицу, хотя не из глухой, но глубинки, и назначение своё почитал за благо. Как-то во время его дежурства умер в тридцать шестой палате старик мафусаиловых лет. Умер и не от болезни даже — от немощи, сделавшейся следствием спокойного, но неуклонного угасания жизненного огня. Едва поступив в больницу, старик этот, называвшийся Изюмовым Авениром Ельпидифоровичем, немедленно привлёк к себе внимание как служителей богоугодного заведения, так и его обитателей. Интересен старик Изюмов казался и разудалым именем своим, и многолетием, прописанным на всём его облике, так что даже борода его была подёрнута зеленью, как застарелый сухарь плесенью, но главным образом, вероятно, какой-то неотмирностью, сообщавшейся ему близостью к тому заветному краю, за который каждому предстоит перешагнуть и возврата из-за которого нет никому. Ощущение этой чуждости миру суетному, где мертвецы погребают своих мертвецов, усугублялось ещё и тем, что к старику никто не приходил, никто не навещал его. Незадолго перед кончиной старик стал беспокоен: кряхтел, крестился, просил отпущения грехов. Но был ли причиной тому беззубый старческий рот, или это смерть близким и холодным дыханием своим остудила Изюмовские члены и связала силы, а может, так невнятен язык старости и одиночества, но никто решительно не разобрал его слов, когда бормотал он посиневшими губами: «попа бы мне...» Все, слышавшие это глухое бормотание, сошлись на том, что старик тщится напеть какую-то старинную песню. Мнение это утвердилось после того, как уборщица Вера Павловна Гедройц, являвшаяся каждодневно в палату с ведром грязной воды и с серой тряпкой из старого мешка, чтобы намочить пол вокруг больничных коек, и оказавшаяся рядом с койкой Изюмова, как раз, когда тот бормотал свои неясные слова, сказала:
— Старый-то... Сувенир Ельсветофорович... Слышь, ты — запел... Жених прямо!.. Пой, дедуль! Молодец! Ещё сто лет проживёшь!
И следом сама стала «подпевать» старику:
— Па-ба-па... Па-па-ба-па-ба... Па-ба-па...
Но на другой день во время утреннего обхода, когда Изюмов снова вздумал «петь» молодой врач Куницын, задержавшийся подле него и зачем-то прислушавшийся к его бормотанию, вдруг сказал:
— А старик-то ведь не поёт... Попа просит!..
Слова эти, сказанные вполголоса, прозвучали зловеще, заставив всех замолчать. Что-то страшное таилось в открытии молодого врача, как если бы слова старика, подобно валтасаровой надписи, появились бы вдруг на стене страшным предупреждением.
Куницын малодушно обрадовался тому, какое впечатление произвело на больничную публику его открытие. Но в следующую секунду ему стало неловко смущения, охватившего несчастных больных, и он, стараясь развеять морок, который сам же и напустил, сказал:
— Ну, поп, говорят, что клоп — людскую кровь пьёт, так что мы дедушку в обиду не дадим.
Больные заулыбались, смущение кое-как было преодолено, и Куницын снова остался доволен собой. Переходя от больного к больному, он говорил без умолку, трунил беззлобно и несколько раз удачно пошутил. Покинул Куницын палату №36 в настроении приподнятом. Однако благодушию его суждено было вскоре развеяться, потому что из тридцать шестой сообщили, что со стариком Изюмовым неладно. Куницыну оставалось лишь констатировать смерть.
Старик был так стар, что в пору было развести руками, вспомнив древнюю мудрость: «В саду от смерти нет трав». Но чувство вины и причастности к чему-то неправому не оставляло Куницына на протяжении всего дня. А вечером привело его в морг к патологоанатому Сильвестру Цветкову, вкусив от щедрот которого, Куницын захотел в последний раз видеть старика.
Они заглянули в холодную комнату, где на полках лежали обнажённые тела и тут же на каталках покоились и ждали путешествия к своему последнему пристанищу тела разубранные. Куницын разглядел нарумяненную красавицу в белом бесформенном одеянии, которая, судя по летам, отпечатавшимся на её лице, могла бы не только жить, но и дать жизнь новым существам; старого морского офицера и юношу в новом сером костюме, купленном, очевидно, ему родителями. Переведя взгляд, Куницын увидел знакомую бороду с прозеленью и неприятно удивился тому, что правая рука старика свесилась и торчала вниз, как отломанный сук. На запястье висела бирка, но что было написано на ней, Куницын, в свете тусклой лампочки, разобрать не смог.
— Кто это? — спросил Цветков, когда они вернулись от мертвецов к прозрачному как слеза и горячему как кровь спирту.
— Так... — нехотя отвечал Куницын. — Авенир Изюмов...
Они выпили и помолчали.
— Что он тебе?
Куницын пожал плечами и, не глядя на Цветкова, спросил:
— Ты как думаешь, душа есть?
— При мне никто из них не вставал, — отвечал Цветков, кивая на холодную комнату.
Они опять выпили.
— А Бог есть? Или там... чёрт? — осторожно спросил Куницын.
Циничному патологоанатому, много лет проведшему в мертвецкой, стало смешно.
— Ты чего испугался-то больше? Суда справедливого? Или палача? — ухмыльнулся он.
Куницын молчал. Цветкову стало жаль его и чтобы ободрить приятеля, он сказал:
— Брось ты всё это... Вера — дело такое... Для обывателя удобно — думать не надо... А ты докажи, предъяви... Поцелуйся с чёртом — тогда будет во что верить!..
Домой Куницын явился за полночь. Упал, не раздеваясь, на диван и забылся сном. Он ничего не видел во сне, но его разбудил безотчётный, надвигающийся откуда-то страх. Он проснулся и включил торшер, стоящий рядом с диваном. Грязно-жёлтый свет лёг круглыми пятнами на пол и потолок. В это время время что-то стукнуло в окно. Не пришедший ещё в себя после пригрезившегося кошмара, Куницын с замиранием сердца, точно ожидая увидеть то, что напугало его, подошёл к окну. Разгулявшийся ветер трепал деревья. Росшая под окном берёза стучала в стекло, точно просила спрятать её от ветра, обломавшего сучья и дёргавшего за бороды листвы. Странным образом припомнился Куницыну старик Изюмов, и мимолётное раскаяние пронеслось через его сердце. В ту же секунду услышал он за спиной у себя шорох и, обернувшись, увидел, что за столом посреди комнаты сидит бывшая жена его, с которой разошёлся он два года назад и которая, как было ему известно, вышла в другой раз замуж и уехала с новым супругом за границу. Куницын вздрогнул, завидев её, и подивился, как и зачем она попала к нему в такой поздний час. Но тут же вспомнил, что у неё оставался ключ.
Он взглянул на стеллаж с книгами, где стояли часы — шёл третий час. Тут пришло ему в голову, что, запирая за собой дверь, он, как это бывало обычно, оставил ключ в замке, и она никак не могла отпереть дверь снаружи. Он ужаснулся этой мысли, но она, точно угадав, о чём он подумал, тихо сказала:
— Ключ лежал на полу...
Она не договорила.
— Зачем ты.., — хотел было спросить он, но она поднялась проворно и, коснувшись пальцами его губ, сказала тихо:
— Поцелуй меня...
Ему было страшно, хотя он и сам не знал, чего именно боится. Она следила за ним блестящими, влажными глазами и, казалось ему, посмеивалась. Он подумал, что боится именно этого беззвучного смеха, но когда она, приблизившись и приоткрыв рот, коснулась его губ своими чуть вытянутыми вперёд и покрытыми сиреневой помадой губами, он уже знал, что не смех пугал его. Она неотрывно смотрела на него, а он, как приговорённый к смерти, ждал какой-то страшной развязки. Вдруг стало происходить нечто странное. Он было подумал, что это фонарный свет, пробивавшийся сквозь берёзовую листву из окна, лукаво играет с ним. Но видение не исчезало.
Её лицо вдруг точно раздвоилось. Как будто за одним лицом пряталось другое. И если первое было как обычно красиво холодной и наглой красотой, то второе, прячущееся за первым и как бы выглядывающее из-за него, было безобразно и отталкивающе. Он заглянул ей в глаза — она смотрела с дикой, жестокой радостью, точно знала о его видении и наслаждалась его страхом. Он захотел оттолкнуть её от себя с силой, так, чтобы она упала, но не смог шевельнуть и рукой, как если бы прирос к ней всем телом. Новая волна ужаса поднялась в нём и обессилила его...
Он очнулся утром на своём диване и тотчас вспомнил всё, что было ночью. Он помнил, во что одета была жена, помнил вкус её сиреневой помады и запах духов. Но никаких следов пребывания её в комнате не было. Входная дверь оказалась запертою изнутри, ключ плотно сидел в скважине, всё было в полном порядке. Напрасно искал он в комнате хоть что-то, напоминающее о прошедшей ночи. Лишь берёза за окном, монотонно покачиваясь, встряхивала зелёной бородой да сломанный сук торчал безжизненно...
Истрию отца Варсонофия поведал нам его келейник — отец Нафанаил, человек простой и в науках несведущий, утверждающий, что когда сам впервые услышал эту историю, подумывал даже, не перейти ли в католичество...
Василий Иванович
Василий Иванович скучал. Он скучал и пил. Пил и безобразничал. И до того всем надоел, что не осталось вокруг человека, который бы не кривился при имени Василия Ивановича Пошехонова.
А Василий Иванович, между тем, с детства алкал великого и прекрасного. И мечтал! Мечтал беспробудно. Но только в детстве были мечты его определённы. Чем старше он становился, тем меньше осознавал, чего так жаждет душа его, что за тоска гложет сердце и какая несбыточность манит и дразнит. Что-то мнилось ему розовое, перламутровое и нежно пахнущее. Но что это – не знал Василий Иванович. И тосковал смертельно. Пришло время, и все мечты, показавшись нелепыми и постыдными, отлетели куда-то в эмпиреи, где и растворились окончательно. А Василий Иванович познал, что всё самое розовое и перламутровое находится на дне бутылки. Что есть жизнь человеческая, как не борьба со скукой? И каждый борется с ней, как умеет.
«Всё суета сует…» – примерно так думал Василий Иванович, хотя эти красивые слова давно стали чем-то вроде конфетного фантика с отпечатком полотна великого художника. Размышляя порой о тридцати семи своих годах, Василий Иванович сознавал, что самые приятные воспоминания были связаны у него с питием – где пили, с кем и сколько было выпито. Пили же для того, чтобы вывалиться из обыденности, чтобы скука и отвращение растаяли, и жизнь снова показалась бы красивой, поманив мечтой и посулив мечту. Обыденность Василий Иванович ненавидел и боялся её, потому что ничего, кроме слова «зачем», не мог сказать о ней. Цель всякой жизни была ему неясна, процесс неприятен. Всё, о чём мечтал Василий Иванович, прошло мимо. Всё, чего хотел, не давалось в руки. То, чем обладал, было недорого и ненужно.
При взгляде на жену, Василию Ивановичу хотелось, чтобы не металась курицей, хлопая крыльями и озабоченно кудахча, и чтобы грудь её была полна водки, а не висела бы двумя бестолковыми бурдюками. Натыкаясь на детей, Василий Иванович недоумевал, откуда они взялись и когда он успел создать их. И тогда, бывало, обрушивался на жену с кулаками, обвиняя её в неверности и, что ещё ужасней, в коварном навязывании отцовства над чужими отпрысками. Чтобы не пугать детей, жена увлекала Василия Ивановича в спальню и там, храня при этом молчание, позволяла бить себя. Василий Иванович тоже молчал.
Женился Василий Иванович рано на младшей сестре своего товарища, с которым вместе они учились в училище и пили пиво. По выходным с товарищем приходила сестра, нарядная и недовольная, в ситцевом платье, белых носочках и туфлях-лодочках, с дамской сумкой из чёрной лакированной кожи; пухлая и завитая, пахнущая «Красной Москвой». Пока они, навалившись на круглые столики у ларька, тянули пиво из больших кружек, она стояла на шаг в стороне, дула губы и теребила свою сумку. Потом шли в парк, и она оживала – цеплялась за брата и, важная, выступала рядом, повесив ридикюль на согнутую руку. И теперь уже Василий Иванович шёл в стороне, посматривал на неё и усмехался.
А когда он предложил ей выйти за него замуж, она согласилась сразу, потому что верила – нужно только выйти замуж, а всё остальное как-нибудь устроится. Ей нравилось принимать гостей, и когда муж пил с гостями, ей тоже нравилось, потому что, по её мнению, мужикам так пристало. А Василий Иванович пил и в праздники, и в будни, и чем дальше, тем больше. И когда супруга Василия Ивановича – Анисья Осиповна – спохватилась, было поздно: не пить совсем он уже не мог.
Случалось, затихал Василий Иванович, уступая голосу совести и мольбам Анисьи Осиповны. Недели и месяцы проводил он в трезвении. И в такие дни особенно ненавидел человечество, жалел о неудавшейся жизни и клял Анисью Осиповну, которой странная судьба была вызывать у пьяного мужа ревность, а у трезвого – неприязнь. Люди казались Василию Ивановичу не просто отвратительными, но – главное – виновными в том, что жизнь Василия Ивановича не задалась. И жена была виновата – сначала с братом споили, а потом давай… Чего «давай», Василий Иванович толком не знал, но был уверен, что жена с шурином злоумышляют.
Претерпевавшая от Василия Ивановича, Анисья Осиповна и сама чувствовала смущённой душой какую-то свою вину за его падение. Вину, до конца не осознаваемую, из-за чего Анисья Осиповна нет-нет, да и приходила в возмущение, гневаясь то на Василия Ивановича, то на самоё себя и подвергаясь самоуничижению: за долготерпение, за чувство вины, против которого восставал возмущённый её разум, заявляя решительное «нет», и, наконец, за то, что не оставляла мятущаяся Анисья Осиповна надежд на исцеление недужного супруга.
Брат Анисьи Осиповны, который когда-то пил из больших кружек пиво с Василием Ивановичем, так и продолжал его пить, не испытывая к этому «красивому на цвет» напитку ничего, кроме приязни и благодарности, поскольку с некоторых пор не просто пил, но и предлагал пить другим, живя на средства от продажи пива через собственную торговую сеть, заключавшуюся в двух ларьках – на Малой Черкизовской улице и на Преображенской площади. Сопоставляя, Анисья Осиповна недоумевала и, чтобы сложить вину с себя и хоть как-то облегчить собственные страдания через обретение виновного в них на стороне, возлагала подчас всю ответственность за распад личности Василия Ивановича на родного брата. Тем более казалось странным, что брат – ничего, а Василий Иванович – вот он, под забором лежит. И кто его знает, мелькало порой в голове у Анисьи Осиповны, не специально ли брат всё так устроил.
Но дело было в том, что, в отличие от Василия Ивановича, брат Анисьи Осиповны – Виктор Осипович – научился-таки получать от жизни удовольствие. Виктор Осипович любил хорошо покушать, ездил к морю, жертвовал на церковь. И не было причин у Виктора Осиповича заливать глаза водкой, потому что жизнь и без водки казалась интересной и приятной.
Брать на себя вину за падение Василия Ивановича Виктор Осипович не желал, но помочь встать на путь истинный не отказывался. Человек благодушный, а с некоторых пор богомольный, никаких других методов борьбы с пьянством, как только молитвой и постом, Виктор Осипович не признавал. О кодировании и прочем он рассказывал такие страшные вещи, что запои Василия Ивановича начинали казаться Анисье Осиповне детской игрой. Рассказывал Виктор Осипович о нечистой силе, рисуя в воображении сестры картины адовы и уверяя, что, закодируйся Василий Иванович, потом ещё хуже будет. Всё лишь осложнялось тем, что ни к посту, ни к молитве Василий Иванович не имел ни малейшей склонности. Хотя, и Анисья Осиповна с Виктором Осиповичем видели это собственными глазами, Василий Иванович выказал чувствительность к церковной службе, то и дело улыбаясь и кивая в такт пению, разливавшемуся с клироса. Не спускавшая с Василия Ивановича глаз и заметившая благотворное на него влияние святого места, Анисья Осиповна взыграла духом. Тогда же и было принято ею решение пытать счастья в лоне православия. Примеров исцеления вблизи икон и мощей было известно Анисье Осиповне немало. И к тому, чтобы исцелением от недуга пьянства Василию Ивановичу приумножить число этих примеров, Анисья Осиповна не видела никаких препятствий. Хотя и отдавала себе отчёт, что одним посвистом или щелчком пальцев с делом не сладишь. Дело серьёзное, кропотливое и требует отдачи.
А тут ещё Василий Иванович после посещения службы возьми да и перестань пить. Он и раньше, случалось, сохранял дух премудрости и разума, бывая в такие дни особенно злым. Правда, трезвение это длилось недолго. И, как жаждущий, добравшись до источника вод, припадает и не остановится, пока не преисполнится влагой, так и Василий Иванович, изнемогши в трезвости, припадал к сосуду вожделенному и уж не выпускал его, пока сам сосуд не выпадал из рук.
Но Анисья Осиповна хотела верить, что этот раз – особенный. И что жажда, которой мучим был Василий Иванович, оставит его теперь навсегда.
Виктор Осипович, прослышав про явленное чудо, удивления не выказал, точно всегда знал, что именно так оно и должно было случиться. Зато объявил, что следует отслужить благодарственный молебен. Да и по святым местам съездить не помешало бы. Так они с Анисьей Осиповной и порешили. Молебен отслужили безотлагательно. В поездку постановили отправиться через месяц.
А Василий Иванович, между тем, жил своей особенной жизнью…
Как-то раз, не добравшись до дома, уснул Василий Иванович на скамейке в сквере. Всю ночь терзали Василия Ивановича кошмары: огромные пауки на волосатых, чешуйчатых лапках пробегали мимо, тряся белыми, наполненными слизью, брюшками. Некоторые останавливались и, распрямляя полусогнутые лапки, поднимались, чтобы, как казалось Василию Ивановичу, заглянуть в лицо ему.
– Пошли… пошли… – бормотал Василий Иванович.
И пауки убегали.
Какая-то большая птица проносилась над Василием Ивановичем, приводя в движение воздух. А Василий Иванович, обдуваемый холодными струями, всё никак не мог разглядеть её. Наконец, уловив заранее приближающийся шорох, Василий Иванович стал вглядываться в темноту. Но не птица осенила крылом Василия Ивановича – белая фигура с косой, обращённой вниз воротком, промелькнула над ним и исчезла в сумраке ночи.
Кто-то крался с топором, а на близрастущем тополе, сбрасывающем пух, разглядел Василий Иванович удавленника. Всё угрожало, всё таило опасность, отовсюду ждал Василий Иванович беды и подвоха. «Только поворачивайся», – пробормотал Василий Иванович и, повернувшись, проснулся, потому что упал с лавки.
Он поднялся, злой и ненавидящий, сел и огляделся. День зачинался. Подняли шум машины. Редкие, как первые цветы, прохожие появились на улицах. Василий Иванович глядел на знакомый город и не узнавал его. Озирал глазами мутными окрестности и дивился происходящим метаморфозам. Всё кругом него точно плавилось и перетекало. Девушка в красном платье стала зарёй и бесшумно расплылась по горизонту, подмигнув Василию Ивановичу. Вздыбился, поднялся серым столбом асфальт под блюстителем в серой форме, поглотил блюстителя и ушёл вместе с ним под землю. Дунул ветер, сорвал листья с берёзы, и разлетелись листья во все стороны попугаями. От ствола берёзы отделилась женщина в белом платье, подошла к Василию Ивановичу и села рядом.
– Что же ты, Василий Иванович? – спросила.
Василий Иванович смекнул, что нужно быть осторожным, виду не подавать, а потому, как ни в чём ни бывало, ответил:
– А что я… Ничего…
– Что же ты, стервец, изгаляешься?
Василий Иванович сперва разозлился и хотел обругать белую женщину. Но потом ругаться раздумал.
А женщина продолжала:
– Мужик ты ничего… не пропащий мужик. И собой ладный, и по мужской части… Тебе бы поостеречься…
Василий Иванович слушал и улыбался.
– …А то испакостился совсем: жену бьёшь, у детей отнимаешь…
«Ишь ты, – подумал Василий Иванович, – и откуда только она, стерва, всё знает».
– Бросил бы ты это дело, – говорила женщина. И голос у неё был нежный, щекотал приятно уши Василию Ивановичу. – А не бросишь, озвереешь вконец. Вон ведь… – она кивнула на красные с грязными ногтями руки Василия Ивановича. – Дрожишь как цуцик, яришься…
Василий Иванович соглашался про себя, кивал и дрожал всем телом.
–…А что жизнь не такая… Так у кого ж она «такая»?..
Сказала, поднялась и, не оборачиваясь на Василия Ивановича, уплыла прочь. Василий Иванович проследил глазами за белой женщиной и увидел, как растворилась она в густом белом облаке, поднявшемся из-под громоздкого чёрного автомобиля, марки которого не знал Василий Иванович.
Он посидел ещё немного, пожевал губами и поплёлся домой.
Через неделю венчалась старшая дочь Виктора Осиповича, и Василию Ивановичу случилось быть в храме. Отмытый накануне, обряженный в костюм и облитый духами, стоял он на службе, смотрел по сторонам, зевал и злился, как вдруг вышла из Царских врат знакомая ему белая женщина. Вышла на солею, уселась, свесив ноги, на оградку и подмигнула Василию Ивановичу. Василий Иванович удивился. Но не тому, что женщина вышла из алтаря, а тому, что они снова да так неожиданно свиделись. Он не сразу и признал её, но она смотрела в глаза и улыбалась. Потом, пройдя сквозь толпу, встала рядом и сказала тихо:
– Это ты молодец, что зашёл!..
Василий Иванович улыбнулся и крякнул.
Так они и стояли рядом. Служба шла, пение лилось елеем, и хорошо было Василию Ивановичу.
А когда служба закончилась, она вдруг сказала:
– А не будешь пить, я к тебе приходить стану. Ты ведь вон какой!.. – и она кивнула Василию Ивановичу.
«Стерва…», – с удовольствием подумал Василий Иванович и снова крякнул. Белая женщина погладила его по руке, как показалось Василию Ивановичу, сухими, тёплыми пальцами, и сказала стариковским голосом:
– А ты не пей… Не пей…
Потом поднялась над полом и зависла рядом с Архангелом, выписанным со тщанием на одной из колонн. А после растворилась в косом луче, похожем на огромный посох, который Господь оставил в доме Своём, вложив сквозь оконце и уперев в стену напротив.
На месте женщины в белом увидел Василий Иванович монашка в чёрном, старенького, с выбивавшимися из-под скуфьи сединами.
– Не пей… – повторил монашек, вложил в руку Василию Ивановичу просфору и пошёл себе.
Месяц не вкушал Василий Иванович от Бахуса. Так что Анисье Осиповне, уверенной в явленном чуде, пришла даже нелепая мысль отметить воздержание. Но, вовремя спохватившись, праздников она устраивать не стала. Зато купила столовый сервиз.
– Ничего не замечаешь? – спросила она за ужином у подтирающего чёрной коркой белоснежную с серебряной по краю каймой тарелку Василия Ивановича.
Василий Иванович покрутил головой, но перемен вокруг себя так и не обнаружил.
– Да сервиз же новый купили! – не удержался сын.
Тут только заметил Василий Иванович новые тарелки, соусник и чашу, на дне которой в масле и соке плавали помидорные зёрна и мелкие кольца зелёного лука. И пока Василий Иванович разглядывал сервиз, домочадцы молча в каком-то напряжённом ожидании разглядывали Василия Ивановича. А Василию Ивановичу вдруг стало нестерпимо противно и вместе с тем жалко и жену, которая сколько ни старайся, ничего не поймёт, а потому ничего не изменит. И детей, которым не нужно ничего понимать или менять, но которым он, не из-за водки, а по какому-то чудному устройству своему, едва ли даст то, что им потребно. И захотелось Василию Ивановичу скрыться, исчезнуть навсегда и никого из домочадцев больше не видеть, потому что Анисья Осиповна только и ждёт, чтобы захлопотать и втянуть в свои хлопоты, в которых видятся ей и счастье, и полнота жизни, его, Василия Ивановича. А Василий Иванович никуда не желает втягиваться.
Он остался на месте и выдавил из себя:
– Это ты… хорошо придумала… с сервизом.
Напряжение спало. Анисья Осиповна подала чашки, разлила чай. И так они сидели, словно всё у них хорошо и ни за что им ни перед кем не стыдно.
А ночью поднялся Василий Иванович и, сам не зная зачем, босой направился в кухню, где, распахнув посудный шкаф, принялся рассматривать составленные стопкой тарелки и выложенные цветком на груде блюдец чашки.
Через два дня отвезла Анисья Осиповна детей в деревню к матери и вместе с Виктором Осиповичем уехала в Саров. Остался Василий Иванович один. Но когда вечером смотрел он в комнате телевизор, вдруг за стеной на кухне услышал голоса. Василий Иванович прислушался. Говорили двое. Один голос он тут же узнал, этот нежный, ласкающий голос он узнал бы из целого хора. Другой голос был мужской, незнакомый.
– …Что же ты, лапшу ему навешала? – спрашивал мужской голос.
– Я ведь пошутила тогда, а он, дурак, поверил, – отвечала она и смеялась.
– Что же ты предлагаешь?
– А в расход его! Чего тут предлагать!..
– Да ведь сама же говорила: мужик хороший, не пропащий…
– Говорю: шутила! На кой он ляд сдался?
– Он и в самом деле ничего… не пропащий. Вон месяц уж держится!
– Держится!.. Не знамо за что подвешенный. Вот те нож, обруби волосок – и часу не продержится!.. Да я бы таких… кастрировала!..
– Ну это ты слишком!
– В самый раз!..
Они замолчали. Василий Иванович ещё выждал, а потом на цыпочках прошёл в кухню, решив, что лучше напасть первым.
Кухня была пуста. «Через балкон ушли!» – обрадовался Василий Иванович, глядя, как ветер играет тюлевой занавеской, свисающей в балконном проёме и похожей отчего-то на стираные бинты…
Когда на другой день вернулись Анисья Осиповна с братом, первое, что увидели они, войдя в комнату, был Василий Иванович, восседавший торжественно на диване. Рядом с ним покоилась белая тарелка с серебряной каймой, а на тарелке – шмоток какой-то еды, определить которую, не отведав, никто бы не смог. На полу, у ног Василия Ивановича, стояли горкой остальные тарелки из сервиза.
– А-а! Богомольцы!.. – воскликнул невнятно Василий Иванович и принял позу непринуждённости, раскинув руки по спинке дивана. Но этого ему показалось мало. Он поднялся и двинулся навстречу жене и шурину, немотствующим в дверях. Его качнуло. Он устоял, но тут же идея, великолепная и ни на что не похожая посетила его. Он крякнул и пошёл вприсядку. Нельзя было сказать, что он плясал – так неточны и некрасивы были производимые им движения. Он приседал, точно нащупывал под собой стульчак, потом, точно ужаленный в самое неподходящее место, выпрямлялся резко. Выбрасывал вперёд то одну, то другую ногу, выворачивая ступни, раскачиваясь и едва не падая. Весь вид Василия Ивановича выражал победу света над тьмой, просвещения над мракобесием, идеалов свободы над вековым рабством.
Жена и шурин с ужасом наблюдали эту хореографию. Но Василию Ивановичу не нравилось, что они молчат. Тогда Василий Иванович, взгляд которого упал на белую тарелку с серебряным узором, сгрёб её с дивана и хватил об пол. Анисья Осиповна ахнула, а Василий Иванович, почувствовав облегчение, поддел носком левой ноги остальные тарелки и под жалобный перезвон их снова пустился в пляс.
Крест, небольшое серебряное распятие, обыкновенно покоившееся на груди Василия Ивановича, раскачивалось на белом шнурке, обвивавшем шею, то взмывая сквозь распахнутый ворот, то со шлепком ударяясь о многогрешную плоть Василия Ивановича.
И хорошо было Василию Ивановичу.
Неприкаянность
От города на автобусе нужно ехать километров двадцать до большого села. А там ещё через лес и болото километров пять пешком. И вот, наконец, Речные Котцы. Смысл названия неясен даже старожилам – ни реки, ни каких бы то ни было котцов, в деревне отродясь не бывало. Хотя, по здравому размышлению, название не могло появиться на голом месте. Текла, наверное, когда-то река, ловили в ней рыбу, для чего и ставили котцы.
Но лет пятнадцать назад ничего похожего здесь не было, как не было уже и лесхоза, кормившего деревню при советской власти. Зато было два десятка дворов и небольшая церковь на въезде. Пять домов давно стояли заколоченными, один купили какие-то чудаки-дачники, внезапно появляющиеся летом, рыщущие самозабвенно по лесам и так же внезапно исчезающие. В остальных домах жили старухи – несколько вдовых, несколько со стариками и одна со взрослым дурачком-сыном. Кроме старух имелся в деревне пожилой вдовый священник. А с некоторых пор – средних лет бобыль, недавно возвернувшийся из мест заключения, где отбывал за драку; да ещё молодой «грузин», как прозвали его старухи, в действительности же – неизвестно откуда взявшийся переселенец с Кавказа.
Как-то пошёл по деревне слух, что будто бы приезжает с Урала группа старообрядцев и что будут они по-своему молиться и всех в свою веру обращать. Кто пустил этот слух, сейчас уже неизвестно. Может быть, почтальон, пробиравшийся иногда в деревню с письмами и очередным номером «Журнала Московской Патриархии», а, может быть, фельдшерица из села у тракта, навещавшая изредка старинных своих пациентов. Но как бы то ни было, в Котцах заволновались.
После смерти Сталина церковь в деревне закрыли. Но не взорвали. Пришло время, церковь открыли и стали служить. Кое-что, конечно, было утрачено: пропали несколько икон, стены пошли трещинами, росписи поблёкли и местами облетели. Но в целом церковь оказалась пригодной для службы даже зимой. Вскоре прислали священника, и потекла приходская жизнь. Костяк прихода составили старухи – свои и сельские, – и Вася-дурачок, голосом и манерами очень похожий на старух. Священник приходу понравился. С первых же дней он выказал себя рьяным пастырем – внимательно и серьёзно выслушивал старушечьи грехи, каждого умел утешить и ободрить, а для проповеди находил такие простые, но сердечные слова, что заставлял старух шмыгать носами и отирать морщинистые лица. Борода и голос батюшки тоже пришлись всем по вкусу.
Лёнька, вчерашний уголовник, шатаясь по деревне пьяным и натыкаясь на отца Алексея, сгребал всякий раз его в объятия и со слезой в голосе уверял, что и он, Лёнька, «не какой-нибудь там» и что тоже в Бога верует. На вопрос же отца Алексея, почему в таком случае он не приходит в церковь, Лёнька поднимал брови, искренно хохотал и, удивляясь наивности батюшки, восклицал: «Да чего ж я там со старухами делать буду?»
Как-то в Петров пост в Котцах появились двое. Выйдя из лесу, они остановились, огляделись и цугом проследовали к заколоченному дому Петраковых, несколько лет назад схоронивших стариков и перебравшихся в город. Петраковский дом стоял последним на деревенской улице, так что вся деревня могла рассмотреть, что двое – это молодые мужчины в куртках и брюках защитного цвета, в кепках с длинными, жёсткими козырьками, похожими на утиный нос и с большущими брезентовыми рюкзаками.
С Петраковского дома они сбили ржавый замок и исчезли внутри. Приходская староста Ильинична хотела было снарядить к ним на разведку свою помощницу. Но отец Алексей, знавший о брожениях, вызванных слухами и ожиданием «группы с Урала», опередил старостихиных присных и, чтобы разобраться самому и успокоить паству, лично отправился к приезжим.
Обиженно скрипнула покривившаяся дверь, и батюшка взошёл на крытое крыльцо. Пересёк душную, раскалённую террасу, засыпанную разным хламом, оказался в прохладных сенцах. Дверь в горницу была открыта, и отец Алексей увидел, как приезжие, сбросив на пыльный пол рюкзаки и обнажив головы, оглядывают своё новое пристанище.
– Настоящая изба, Санёк! – говорил тот, что курносый и поменьше ростом. – Как тебе?
– Да! – улыбался мечтательно Санёк и похлопывал ладонью печную кладку, точно проверяя её на прочность.
Потом он скинул куртку и остался в одной майке – потный, сильный, по-мужски красивый. И улыбка, и заголённые руки, и расставленные широко ноги в тяжёлых ботинках – весь облик его почему-то вдруг навёл батюшку на мысль, что Санёк этот надолго в Котцах не задержится.
– Здравствуйте, – закашлялся отец Алексей.
Оба повернулись, напряжённо и недоверчиво уставились на батюшку. Но, сообразив, что перед ними старик да к тому же ещё священник, обмякли и в первую секунду даже обрадовались. Но тут же отцу Алексею показалось, что Санёк ухмыльнулся, и что-то нехорошее, высокомерное промелькнуло в этой ухмылке. Точно досадовал Санёк, что испугался, а испугал его всего лишь старый заштатный поп.
– Здравствуйте, молодые люди, – повторил отец Алексей. – Простите, что обеспокоил… С приездом вас…
– Здрасьте. Проходите, – кивнул отцу Алексею приятель Санька.
Батюшка переступил высокий порог и оказался в комнате – довольно большой, с русской печью посередине, без мебели, с кучками осыпавшегося из стен моха на полу.
– Зашёл, понимаете, познакомиться с новыми людьми… кхе-кхе… Здесь в деревне всё на виду… Звать меня отцом Алексеем, а вы… стало быть…
– Александр Симанский, – протянул руку Санёк.
– Виктор Чудомех…
– Ага…ага… – отец Алексей хихикнул про себя над диковинной фамилией. – И что же, вы… Петраковых друзья? Или как?..
– Этот дом мы купили, – объявил Симанский. – Будем здесь жить, вести хозяйство и… и молиться… Вроде как скит думаем устроить…
– Так вы… стало быть… и впрямь… староверы с Урала? – забормотал отец Алексей, у которого даже ноги подкосились.
Но в ответ Симанский и Чудомех переглянулись и расхохотались так, что в доме что-то затрещало и заскрипело.
– Почему с Урала? Мы из Москвы! Не староверы мы…
– И не плотники!.. – прибавил Чудомех, и они опять расхохотались.
– Обижать никого не собираемся. Надеемся, и нас беспокоить не будут, – последние слова Симанский проговорил твёрдо и даже, как снова показалось отцу Алексею, с вызовом.
– Ага… ага… – забормотал отец Алексей, и густые седые брови его зашевелились как два живых существа.
А про себя отец Алексей ещё раз подумал, что Санёк этот долго здесь не задержится.
***
За несколько лет до своего появления в Котцах Симанский и Чудомех получили дипломы Московского Университета.
Прадед Симанского был дьяконом сельской церкви Тамбовской губернии. Дед преподавал научный коммунизм, отец посвятил себя изучению экономических отношений Советского Союза со странами Магриба. Отношения эти складывались неплохо, и отец то и дело осчастливливал потомков тамбовского дьякона марокканскими джинсами и алжирской жвачкой.
Жил Александр интересно и разнообразно. Ещё студентом вошёл в круг замечательных людей, буквально изнемогавших в борьбе за что-то не вполне определённое, но, безусловно, прекрасное. И это не могло не восхищать. И, опьянённый двойной жизнью между повсеместно нарушаемыми запретами и хитроумно избегаемыми наказаниями, Симанский стучал на пишущей машинке, множа самиздатовские листки, носился по Москве, собирая подписи под протестами, спорил на прокуренных кухнях с бородатыми диссидентами и гладковыбритыми ретроградами, доказывая последним необходимость свободы слова и каких-то прав, которые есть за границей. И чувствовал себя вовлечённым в исторические процессы. А как он любил эти споры! Этот, могущий показаться бессмысленным и бесполезным трёп, без которого никто решительно не мог обойтись вокруг. Трёп, позволяющий одним скрашивать пустоту и скуку, другим – упиваться самоутверждением, третьим – отыскивать в словесном сору жемчужные зёрна.
– Да пойми же, болван, – горячо внушал Симанский одному своему приятелю, увлекавшемуся поздними славянофилами. – Пойми, что славянофильство отжило своё! Мода – о, да! Это понятно. Но чтобы принимать это всерьёз?.. Скучнейшее, нуднейшее учение о несуществующих вещах!
– Врёшь, брат! – откликался славянофил. – Врёшь! Время славянофильствует! А вот ты так коснеешь в глупости и заблуждениях. Кому-то очень нужно всё раскачать. И для этого набирается целая армия дурачков, в общем и целом безопасных, хотя и кусающих за ноги. А каждая реакция на такой укус – гол в собственные ворота и повод к обвинению в генетическом тоталитаризме!..
– Вот сам и соврал! – радовался Симанский. – Соврал, брат! Эти люди жертвуют собой для целой страны, для огромного, бессмысленного народа. Чтобы добиться прав для этого народа, небольшая в сущности кучка людей… лучших людей!.. готова гнить в тюрьмах!..
– Да ты сам врёшь! Вот гнить-то вы как раз и не готовы! У вас это игра, вы уверены, что ничего вам за неё не будет! И никакие такие права, о которых ты тут рассуждаешь, не изменят никого из вас! И вообще никого! И неужели ты думаешь, что где-то есть рай на земле? О, глупцы! О, ленивые и тупые мулы! Ведь вы от лени пялитесь на Запад! От лени! Вы не хотите и не можете создать своего, вам проще, как в лавке, выбрать готовое. И чтобы оправдать свою лень, вы сами себя убеждаете, что выбранное вами совершенно!..
– Как ты можешь говорить это, когда вчера только у Фридландов был обыск! И Яшку забрали. Яшка Фридланд в Лефортово! Понимаешь ты это? Яшка в Лефортово!
– Ха-ха-ха! У Фридландов, говоришь?.. Вся эта ваша диссидентская чехарда с борьбой за права есть борьба за право уехать на жительство в Израиль. И попомни моё слово: когда все твои Яшки переедут в Израиль, диссиденты переведутся сами собой! И о правах для «этого народа» никто больше не вспомнит!
– А вот в этом ты прав! Единственное, в чём ты прав – вот в этом! Только евреи и способны бороться…
– За права «этого народа»? И ты в это веришь?..
И странным образом случилось по предсказанному славянофилом: евреи уехали, диссиденты перевелись, всё вокруг перевернулось. Появились одни права, исчезли другие, за которые бороться стало некому. А если и находились борцы, то ни подать себя, ни заявить о себе они не умели. И оттого слыли злодеями. И больше не было диссидентского флёра, не было скромного обаяния и сытого трёпа. И зарубежные радиостанции больше не надрывались и не заходились плачем над несчастным народом. О правах стало говорить немодным, и все заговорили о духовности.
И вскоре в комнате Симанского рядом со старинными иконами, дошедшими от тамбовского дьякона, и фотографией Елены Боннэр появились изображения Блаватской, Саи-Бабы и Раджнеша. Вошли в повсеместный обиход слова «Абсолют», «Энергия», «Космический Разум». И Симанский, хоть и носил на шее крест из Загорска, уже отстаивал на кухнях равновеликость всех религий и утверждал, что «Бог в душе».
Но вместе с тем, Симанский заскучал. Агни-йога на время развлекла его, но хандра вернулась, и он оказался не в силах противостоять ей. Вокруг, отчасти благодаря усилиям самого Симанского, всё трещало и рушилось, а Симанский хандрил, злился и чувствовал, что теряет вкус к жизни.
Ещё недавно ему казалось, что лучшие люди изнемогают в борьбе. Но если бы только его попросили остановиться, перестать думать и говорить чужими фразами, а вместо этого здраво осмыслить всё, что происходит вокруг – самиздаты, кочегарки и прочий революционный пафос – а затем ответить на простой вопрос: «Ради чего это нужно?», едва ли он подыскал бы вразумительный ответ. Именно эта привычка думать и говорить чужое, впитывать сентиментальные истины, захлёбываться в информации и никогда не оставаться наедине с собой – именно эта привычка не позволяла ему остановиться в суете и кутерьме борьбы. Сладкое это слово – борьба! Красота и необременительность, иллюзия собственной занятости и незаменимости, переполняющее самодовольство и надрыв. Этот вечный надрыв, эта поза, самолюбование, доводящее до умопомрачения!
А теперь всё казалось ложью, фальшью, подделкой. И это было ужасно. Это отбивало охоту жить.
Симанский усомнился в диссидентстве, потому что и сам теперь видел, что похоже оно на игру. Усомнился в своей работе, потому что не знал, зачем выполнял её. Усомнился даже в диссертации, потому что это было перепеванием в сотый раз одного и того же мотива. О, фальшивая, ненастоящая жизнь! Есть ли в тебе хоть что-нибудь истинное, подлинное, чистопробное!
Демократия, бизнес и прочие штуковины заткнули собой все прорехи прежнего строя. Но было ли это новое подлинным? Ни одной секунды! Ни холя, ни помпа, ни болезненное восхищение собой – ничто не могло заслонить подделки и мизера. Но хуже всего, что все вокруг так приспособились к этой подделке, так полюбили её, что всякий протест воспринимался большинством, как глупость или зависть. Все, и особенно те, у кого получалось фальшивить ловчее, приучились считать эту фальшь за настоящую жизнь. Но и тот, кто возвышал голос, отлично знал: комфорт, престиж и самоуважение – три источника, три составных части, а лучше сказать, три кита, на которых покоится современный Homo Sapiens – невозможно добыть вне фальши.
За рассуждениями Симанского по традиции потянуло в народ.
Ему предложили купить дом, и он ухватился за это предложение. Семьи у него не было. В институте, где он работал, шло сокращение, и, не дожидаясь увольнения, Симанский уволился сам. Одному ехать в деревню было боязно и несподручно, и Симанский увлёк Чудомеха, уже рассчитанного и вдобавок брошенного женой.
***
Выражение «уйти в народ» значит, как известно, проникнуться сознанием пагубы цивилизации и бежать туда, где привыкли обходиться без её благ и соблазнов. Бежать к людям, трудящимся ради насущного, но не излишнего. На фоне этого благостного идеала сам собой рисуется образ народный: крестьянки с крынками, мужики с косами, тучные коровы, заливные луга, Алёша Карамазов, монахи-старцы, заснеженные избушки и церковки. Труд и молитва – веками устоявшийся уклад, дающий каждому участнику покой и довольство. Образ этот, сотканный интеллигентским воображением, не намного, думается, отличается от образа, намалёванного воображением какого-нибудь европейского интеллектуала, который разве ну никак не хочет обойтись без медведей.
Деревенька Речные Котцы произвела на Симанского самое благоприятное впечатление – всё здесь было настоящим. Даже поп оказался всамделишным. Правда, не таким колоритным, как представлял себе Симанский – без брюшка-аналоя, без румянца во всю щёку, к тому же, и это было видно с первого взгляда, без высшего образования. Зато вечером к ним пожаловал настоящий деревенский пьяница, в сапогах, в тельняшке с обрезанными рукавами и с двумя бутылками под мышками. Отрекомендовался гость «соседом Леонидом» и предложил угоститься водкой, торчавшей у него из-под мышек. Чудомех приглашение тотчас принял, но Симанский какое-то время колебался, памятуя, что приехал в деревню «жить настоящей жизнью», что означало для него на тот момент проводить дни в трудах и молитвах. С одной стороны, распитие водки нельзя было отнести ни к трудам, ни к молитвам. Но, с другой стороны, оно – это распитие – являлось неотъемлемой частью народного времяпрепровождения. А потому Симанский недолго сопротивлялся соблазну «соседа Леонида».
Когда же они выпили, «сосед Леонид» стал выказывать любопытство.
– Скажи… Ну скажи мне… – уговаривал он Симанского. – Вот зачем вы сюда приехали?
Симанский начинал про труды и молитвы, но «сосед Леонид» возражал:
– Это мне всё понятно. Ты мне объясни, зачем вы сюда-то приехали!..
И они долго ходили по кругу: Симанский всё рассуждал про «настоящую жизнь» и про то, что они тоже русские мужики, а Лёнька всё выпытывал, при чём тут Речные Котцы. А Чудомех слушал и всё не мог уяснить: кто из них кого не понимает.
– Сгинете вы, – сказал, наконец, Лёнька. – Сгинете оба. Чего вы зимой станете делать? Дров у вас нет, огорода нет, скотины тоже нет – сгинете!
Но Симанский возразил, что дрова они купят, а ещё купят корову.
– Какую тебе корову! – хохотал в ответ Лёнька. – Где ты коров-то видел? В зоопарке, что ли, в Москве? Тут уж забыли, какие они из себя – козы у всех.
– Ну козу купим, – нашёлся Чудомех. – И дешевле, и ест меньше.
– Ну, положим, козу вы купите, – рассуждал Лёнька. – Вона, у Семёновны, цельное стадо! Положим, Семёновна вам продаст. Дык она сдохнет скоро!
– Семёновна?!.
– Ась… Дождёшься ты от Семёновны… Коза у вас сдохнет – жрать-то ей нечего будет. Чем кормить-то её станете?
– Чем все, тем и мы…
– Все… У всех сеновалы, сено… А у вас чего? У вас – шиш! – и Лёнька для пущей убедительности подставлял волосатый кулак с уродливо вылезающим грязным большим пальцем под нос то Симанскому, то Чудомеху.
На другой день, отдохнув с дороги и придя в себя после Лёньки и водки, Симанский и Чудомех уселись строить планы на будущее. Лёнька был прав: чтобы не пропасть зимой, нужно было запастись дровами и набить сеновал сеном. А, кроме того, решили запасать грибы. Но для грибов было рано, с дровами можно было подождать, а, в крайнем случае, топить штакетником или притащить из лесу сухостоя. Перво-наперво решили заняться косьбой, для чего прикупили в селе две косы и там же отбили их у какого-то умельца. Но снова явился «сосед Леонид» и объяснил, что «до Петрова дня не косят – не принято» и стал сманивать на рыбалку.
– Где её ловить, твою рыбу? – смеялся над Лёнькой Чудомех. – В болоте, что ли?
– Зачем в болоте? – обиделся Лёнька. – В лесу, километрах в десяти озеро есть. Там рыбы!.. – он растопырил руки и скрючил пальцы, давая таким образом понять, что озеро кишит рыбами. – Да там… вёдрами ловят!..
Симанский и Чудомех привезли с собой снасти и, подумав, решили, что не пропадать же добру, да и рыбу можно на зиму заготовить. А потому вместо сенокоса отправились на другой же день на рыбалку.
Для уточнения времени можно было бы прибавить «на рассвете» или «чуть рассвело», но это оказалось бы ложью, потому что в то время года в тех краях слово «рассвет» исчезает из обихода за ненадобностью. Ночное небо остаётся светлым, точно солнце не уснуло, как зимой, а слегка задремало, готовое любую секунду подняться. И на востоке розовый край солнечного одеяла всю ночь трепещет под лёгким дыханием светила.
Лёнька завёл их в лес, где за сонными ещё берёзами пласталось небольшое, остекленевшее под солнечным светом озерцо с прозрачной водой и песчаным дном, по которому шныряла разная рыбья мелюзга. От берега катились по гладкой воде берёзовые полешки, уложенные кем-то в мостки. В стороне Симанский заметил старое кострище.
Пока шли по лесу, Симанскому всё очень нравилось: и воздух, такой душистый, что казалось, кто-то разлил флакон дорогих духов, и шум, производимый птицами, и предвкушение неизвестного лесного озера, кишащего рыбами. И хотелось, чтобы приходили красивые, умные мысли, запечатлевающие чувства. Но в голову лезло что-то нелепое: «Вот где всё настоящее… настоящие русские мужики…» Симанский почему-то стеснялся этой мысли. Но ничего лучше выдумать не удавалось. Наконец он сдался и отчётливо проговорил про себя: «Вот где всё настоящее, и Россия, и… вообще!» Но тут же устыдился и скосил глаза на Чудомеха, точно опасаясь, не услышал ли тот его сентиментальной думки. Но Чудомех ничего не слышал. Симанский успокоился и стал думать о «настоящей жизни» и о том, что ему, кажется, удалось-таки вкусить от неё. А Чудомех ни о чём не думал.
Выстроились на мостках – Чудомех и Симанский со спиннингами, Лёнька с удочкой. Приладили садок. Первым исчез под водой Лёнькин поплавок. Лёнька на радостях выругался, засуетился, подсёк и вытянул щурёнка. Под зубами маленького хищника леска лопнула, но щурёнок уже бился о покатые бока берёзовых чурбашек.
– Ты гляди, – радовался и ругался Лёнька, – ты гляди-тко! На удочку… и такого зверя!.. Экой ты, брат!.. Ну, врёшь, не уйдёшь!..
И щурёнка пустили в садок.
Пока Лёнька возился со своим уловом, клюнуло у Симанского. И снова щурёнок. Потом Лёнька достал подлещика, а Чудомех шереспёра. Были ещё щурята, окуньки и даже здоровенный, килограмма на полтора, судак. Потом рыба ушла, и стали то, что называется, сматывать удочки. Но когда достали садок, ахнули. Сбоку зияла дыра, и рваные мокрые нити садка, как черви, извивались и шевелились, точно стремясь расползтись в разные стороны.
Тут же на мостках все трое присели рядком на корточки и задумались. Лёнька предложил покурить. Чудомех угостился, Симанский поморщился.
– Может, мы одних и тех же рыб по три раза тянули, – задумчиво изрёк Чудомех. – Вот они над нами посмеялись…
– Может, наоборот… приятное хотели сделать, – возразил Лёнька, выпуская дым.
– Приятное они бы нам сделали, если бы из садка не уплывали…
– Ну ты их из воды тянул, приятно тебе было?..
– Да вы о ком говорите-то? – досадливо спросил вдруг Симанский.
И все замолчали.
– Ну что, дачники… По домам? – спросил Лёнька, поднявшись и растирая сапогом окурок о берёзовые мостки.
Не разговаривая друг с другом, собрались и поплелись в деревню...
– Делом надо заниматься. Делом… – ворчал Симанский дома. – Мы не по рыбалкам приехали бегать… Нам хозяйство нужно поднимать. А Лёнька этот… баламутит он нас…
И Чудомех как всегда соглашался с ним.
***
На другой день умерла в Котцах одинокая старуха. Говорили, что умерла она «хорошо», то есть до последнего почти дня была на ногах. Явившиеся помочь, Симанский и Чудомех ещё с улицы увидели обтянутую красным атласом крышку гроба, прислонённую к стене дома справа от крылечка. Возле крышки, как на посту, стоял «грузин». В доме толпились и сновали старухи да несколько дедов, один из которых – ветеран войны – надел зачем-то пиджак с орденами. Покойная лежала в гробу на столе посреди комнаты. Лицо её было обращено к иконам, под которыми горела лампадка. В противоположном по диагонали от красного углу стоял табурет, а на нём – ещё одна лампадка и стакан прозрачной жидкости с куском хлеба поверх. Три свечи горели в головах усопшей, связанной по рукам и ногам белыми платками. Под столом с домовиной лежал зачем-то топор. Симанский разглядел, что у покойной круглое морщинистое лицо, даже по смерти сохранившее добродушие.
– Ну что же ты, Сергевна, – вдруг пронзительным, визгливым голосом затянула одна из старух, стоявших у гроба, – отмучилась, отбегалась, сердешная…
Тотчас все в комнате затихли, и Симанский догадался, что церемония началась.
– Кто же мне теперь подскажет, соседушко, – подхватила другая старуха рядом, – кто надоумит…
– Самая ты у нас была мудрая, – пропела третья, – уж на что у нас все… а ты-то самая… была…
Старухи у гроба оказались как на подбор высокими и плечистыми, точно гренадеры, и причитали похожими визгливыми голосами, которые как-то не вязались с их фигурами. Тут же стоял Вася-дурачок, раскачивался и всхлипывал по-старушечьи. Покойная никем не доводилась ему, но он привык вести себя сообразно минуте.
– А справный гроб-то, Ильинична, – услышал Симанский где-то рядом.
– Дык… Хушь самой ложись, – раздалось в ответ.
– И почём взяли?
Ответа Симанский не расслышал, потому что Ильинична, называя цену, понизила голос.
В комнату вошёл отец Алексей, и старухи у гроба перестали причитать. Затих и перестал качаться Вася. Чья-то сморщенная рука сунула Симанскому свечу, и только тут он заметил, что все вокруг держат свечи и зажигают их по цепочке. Чудомех, которого оттеснили в сторону, держал свечу зажжённой.
– Благословен Бог наш… – возгласил батюшка.
Началось отпевание.
После чтения Евангелия свечи задули, и комната наполнилась дымом и церковным запахом. Отец Алексей прочитал разрешительную молитву, и несколько старух бросились снимать с усопшей белые платки, которыми были перевиты её руки и ноги. Платки и листок с молитвой опустили в гроб, как вдруг поднялась в комнате какая-то неизъяснимая суматоха. Точно набежавший вдруг ветер поднял волну на жнивье. Но в следующее мгновение суматоха персонифицировалась, и все вокруг успокоились. У гроба возникла маленькая старушонка, до смешного контрастировавшая телосложением с плакальщицами.
– Батюшки… батюшки, – испуганно лепетала она и суетливо поворачивалась то направо, то налево, – забыли-то… забыли... Господи, помилуй!.. Погоди-тко…
Приговаривая так, она показывала соседям какой-то небольшой предмет. Симанский разглядел его. Это была вставная челюсть. Вокруг заахали, сокрушаясь, о чуть было не допущенной оплошности, а маленькая старушонка пристроила челюсть в гроб и поправила что-то на усопшей.
Стали прощаться с покойницей, после чего Симанский, Чудомех, Лёнька и «грузин» отнесли гроб на погост. А когда первые комья земли с глухим стуком упали в могилу, все вдруг стали бросать туда же монеты, весёлый, жизнелюбивый перезвон которых никак не вязался с настроением, приличным обряду.
– Вот сколько раз говорил, – посетовал отец Алексей, оказавшийся рядом с Симанским. – Как в древнем Египте – чего только не сунут в могилу… Церковь сегодня, как кон… – он запнулся. – Кон… контистадоры… – должна обращать ко Христу из дикости.
Симанский только усмехнулся про себя на «контистадоров» и ничего не сказал.
После погребения все отправились на поминки, где, судя по тому, как на погосте переминался с ноги на ногу Лёнька, как справлялся он то и дело о времени, как нетерпеливо озирался поверх старушечьих голов, предполагалась обильная выпивка. Симанский, на сердце которого увиденное легло глубоким оттиском, не хотел ни думать о водке, ни являться домой вполздорова.
Всё казалось так странно, так необычно, что Симанский чувствовал себя как незваный гость, как человек, остановившийся в чужом доме и незнакомый с его порядками. И дело было не в мрачном обряде, но в ощущении огромного, почти непреодолимого расстояния между ним и людьми, которым он хотел стать своим и которые были ему собратьями лишь по названию.
Чудомех в одиночестве не пошёл на поминки.
***
До Петрова дня оставалась ещё неделя, а заняться по большому счёту было нечем. А потому решили приступить к покосу, не дожидаясь праздника. Условились подняться в четыре утра, потому что оба – и Симанский, и Чудомех – знали понаслышке, что косить ходят очень рано, по росе.
Косы то звенели, то взвизгивали, жаворонки журчали над головами. Изысканно-сдержанное северное лето напоминало юную свежую девушку, к волосам и цвету лица которой идёт самое скромное, самое неброское платье, а кожа, пахнущая не то арбузом, не то фиалкой, не то ещё чем-то нежным и свежим, не нуждается ни в каких самых сладких и чувственных духах.
С непривычки вставать рано гудело в голове, слегка подташнивало и тряслись руки. Но было приятно сознавать себя настоящими русскими мужиками, занятыми настоящим делом, польза от которого очевидна. К девяти часам вернулись домой и занялись мелкими делами: готовили обед, чистили избу, окосили траву на участке.
И на другой, и на третий день поднимались спозаранку. Суета и перемены прогнали на время хандру. Но Симанский верил, что хождение в народ, старый, испытанный поколениями интеллигентов способ борьбы со скукой вновь не подвёл. Если бы и тут он смог остановиться, спокойно подумать, а главное – заглянуть внутрь самого себя, он убедился бы, что в деревню его пригнало чувство, на языке отца Алексея называемое «самостью». Чувство коварное, толкающее на самые нелепые шаги ради испытания себя и ради последующего довольства собой.
В суете и безостановочном верчении проходила жизнь самого Симанского и окружавших его людей. Своё «я» в этом мире негласно считалось высшей ценностью и мерилом всех вещей. Людей было много, и «я» у каждого своё, а потому никто ни с кем не сближался, и все оставались одиноки в большой толпе.
Когда на утро четвёртого дня у Чудомеха от непривычно-тяжёлого труда сдавило вдруг сердце, а перед глазами поплыли тёмные круги, и пришлось идти в село за фельдшерицей, Симанский поймал себя на том, что вместо сочувствия испытывает досаду, потому что из-за Чудомеха вынужден оставить интересное и приятное дело.
Фельдшерица оказалась дамой нестарой, к тому же одинокой – муж её прошлым летом сгинул спьяну в болоте. Чудомеху она прописала покой и обещала передать лекарство. Два дня Чудомех провёл в постели, и Симанскому приходилось ухаживать за ним. Приходила фельдшерица, измеряла давление и поила Чудомеха отваром трав, который приготовляла и приносила сама в железном термосе, пахнущем кофе. От горького, зловонного отвара сводило мышцы лица, но Чудомех пил и улыбался, потому что ему были приятны знаки внимания этой чужой симпатичной женщины, и хотелось, со своей стороны, сделать что-нибудь приятное для неё.
В праздник Петра и Павла Симанский предложил сходить в церковь. Они пошли, и Чудомех всю службу сидел на скамеечке в углу, а Симанский стоял среди старух. Некоторых из них он узнавал: вон гренадеры, вон маленькая старушонка, нашедшая вставную челюсть, вон Ильинична… Рядом с Чудомехом стояла фельдшерица.
Служба Симанскому не понравилась: старухи то и дело принимались петь дребезжащими голосами, в какой-то момент несколько человек вдруг повалились на колени и уткнулись лбами в пол, и на незнакомой старухе прямо перед собой Симанский невольно разглядел коричневые чулки в рубчик и гипюровый край белой комбинации, какие носила ещё его бабушка. Мысли Симанского разлетелись, и он стал думать, откуда у деревенской старухи комбинация; должно быть, много лет назад одарили городские родственники, и, оставаясь по сей день предметом роскоши, комбинация покидает сундук только по большим праздникам. Когда отец Алексей стал говорить проповедь, Симанскому показалось, что обращается батюшка к нему лично. Симанскому это не понравилось, и слушал он проповедь с раздражением.
– …Апостол Пётр, – говорил отец Алексей, – повёл себя самонадеянно, сказав Господу: «Аще и вси соблазнятся о Тебе, аз никогдаже соблазнюся». Но не пропел петух дважды, как трижды отрёкся Апостол. Так бывает со всеми, надеющимися на себя, но не уповающими на Господа... Каждый из нас, братья и сестры, создан по образу Божию, но не все решаются, преступив чрез собственные похоти, встать на путь богоуподобления. И хоть мы знаем: ничто вне этого пути не может успокоить нас, мы часто влачимся стезёй удовольствий, выгод и самолюбования…
Чудомеху было всё равно, он вышел из церкви и забыл, зачем входил в неё. Но Симанский всё думал, как может этот отец Алексей – необразованный, пропахший кухней, с торчащей во все стороны бородой как у лешего – как может он научить чему-то или подсказать. Что он знает такого, чего не знает или не может узнать Симанский, чего нет в книгах, доступных образованным людям. И выходило, что надобность в отце Алексее может быть, единственное, у старух – созданий ещё более тёмных и невежественных. А если Церковь прямо не говорит об этом, то стоит она на лжи. Да и не может стоять ни на чём другом, поскольку даже первокласснику известно, что все эти батюшки не так давно служили палачам, против которых боролись товарищи Симанского.
Два дня после праздника, Симанский один отправился косить. Но, придя на прежнее место, увидел, что всю скошенную ими траву кто-то собрал и вывез. Это обстоятельство так поразило Симанского, что он тотчас вернулся домой и во весь оставшийся день не мог приняться ни за какое дело.
А Чудомех был даже против обыкновения весел и чувствовал себя значительно лучше…
***
Лето подходило к концу, и отец Алексей освятил яблоки в храме. В садах цвели астры. Небо стало высоким, а дожди – холодными. И делалось почему-то грустно от нового запаха, пропитавшего воздух. Зима, наступлением которой пугал Лёнька, ещё только приближалась, а Симанский уже выдохся. С хозяйством не ладилось, кто-то унёс со двора пару алюминиевых вёдер, кроме дров никаких запасов сделать не удалось. Как зимовать и чем жить в деревне, Симанский не знал. В последнее время он снова хандрил и чувствовал себя обманутым. Народ оказался не тот, и церковь тоже не та. Народ – груб и тёмен, церковь – бестолкова и лжива. И, как ни странно, думы о хозяйстве нагоняли скуку, и лишь при мысли об отце Алексее, Симанского переполняло жгучее, сотрясающее чувство, которое сам он определял как гнев праведный.
Как-то, не глядя Чудомеху в глаза, он сказал:
– Поеду-ка я… домой съезжу. Своих повидать. Да и так… Вещи надо тёплые… зима близко.
– Да, зима близко, – вздохнул Чудомех.
– Поедешь со мной? – разглядывая носки своих сапог, спросил Симанский.
– Нет… я уж здесь… Чего мне там?..
Симанский уехал. И больше в Речные Котцы не возвращался.
С тех пор минул год. На Святках почил отец Алексей, и на его место прислали из епархии молодого священника. Ильинична стала хворать, и церковной старостой избрали Семёновну, у которой, как говаривал Лёнька, «цельное стадо коз».
Несколько раз молодой батюшка, снедаемый ревностью по доме Божием, а потому подмечавший и всякий раз пересчитывавший немногочисленных прихожан своих, обращал внимание на одну пару не из деревенских– невысокого роста, застенчиво-улыбчивого мужчину и худенькую строгую женщину в модных очках. Что ни делал мужчина в храме – осенял ли себя крестом, подходил ли к иконе – делал он по примеру, а то и по указке своей спутницы.
Батюшка поинтересовался у Семёновны, и та поведала, что это «фершалица со своим мужем-москвичом».
– Фамилие у него ещё такое… – наморщила нос Семёновна, – усмарное… Мех, что ли, какой…
– Мех?.. – удивился батюшка.
– Ну да… Ну да… – закивала Семёновна. – Мех. Вроде как… хороший.
– Кто хороший?
– Дык… Мех… Фамилие такое: Хороший мех…
Но батюшка не стал вдаваться в подробности ономатологии. Ему захотелось перекинуться словечком с земляком – батюшка и сам был москвич, – но пересечься вне храмовой службы не удавалось. Наконец они встретились у сельского магазина. Был обеденный перерыв, и, поджидая продавщицу, они разговорились. Батюшка первым представился, и в ответ услышал:
– Виктор Чудомех…
Усмехнувшись про себя над диковинной фамилией, батюшка поинтересовался, правда ли собеседник его приехал из Москвы. Собеседник оказался словоохотливым и подтвердил, что в прошлом году, имея перед собой неясные цели, перебрался вместе с товарищем в Речные Котцы. Но после женился и обосновался в селе. Товарищ же вернулся домой и теперь, слышно, издаёт в столице свою газету.
– Газета оппозиционная, – улыбнулся Чудомех.
– И кому же он себя противопоставляет? – улыбнулся в ответ батюшка.
– Власти. И… церковному официозу.
Но, заметив, как насторожился батюшка, Чудомех пояснил:
– Это он сам так определяет. Сошёлся с какими-то людьми и вот… увлёкся.
– А как называется? – полюбопытствовал батюшка.
Чудомех назвал, и батюшка ахнул – газета и редактор хорошо были известны в церковных кругах. На страницах газеты вчерашние диссиденты боролись с жидомасонами, истребляющими русский народ и разлагающими Церковь и государство. Выдвигались также требования канонизировать Сталина, и даже печаталась написанная кем-то икона отца всех народов. За отказ обвиняли Патриархию в неверии, экуменизме и одержимости. В Церкви газету считали еретической и не раз обращались к главному редактору с призывом перестать баламутить людей. Но редактор не унимался, и все последующие публикации были злее и дерзостнее предыдущих.
– Неймётся людям, – вздохнул батюшка.
– Он всё искал чего-то.., – попробовал вступиться Чудомех. – Я вот тоже… не сказать, чтобы шибко верующий… так… за женой больше…
Вернулась с обеда продавщица. Поправила полной рукой мохеровый берет, из-под которого выбивалась крашеная чёлка, облизнула красные напомаженные губы и принялась отпирать дверь. К магазину стали стекаться люди.
– Да, – снова вздохнул батюшка.
И, точно ни к кому не обращаясь, прибавил:
– Лишь бы себя показать…
Птичка
С тех самых пор, как Она умерла, Он приходил каждое воскресенье на кладбище и сидел у могилки на маленькой скамеечке, предусмотрительно поставленной внутри чугунной оградки. Клочок земли с холмиком и крестом принадлежал не Ему. И это было странно, потому что Ей не нужны были теперь ни земля, ни чугун, ни мрамор. Ни даже кустик жимолости или анютины глазки – нежные, стыдливые цветы с лиловыми, бархатными лепестками.
Иногда Ему приходило на ум, что он хозяйничает на земле мертвеца. И тогда делалось страшно и стыдно – слово это так не шло к Ней, что, казалось, Её оскорбляло.
Зимой Он убирал с Её земли снег, осенью – жёлтые листья, осыпавшиеся с клёнов, летом – расползавшиеся во все стороны одуванчики и сныть. Тяжёлым временем была весна, когда вокруг всё оживало и приходило в движение. На клёнах и жимолости набухали почки, размягчённая земля принимала в себя влагу и выпускала острые зелёные пёрышки, на голых ещё ветках появлялись яркие птички и пели друг дружке любовные песни – всё готовилось родить, умершее воскресало, исчезнувшее возвращалось. И только бугорки с крестами оставались недвижимы и безучастны к буйству нарождающейся жизни, как глухие бывают безучастны к музыке.
И тогда Он присаживался на скамеечку, опускал ладонь на холмик и думал: «Где же ты, моя пташечка? Кому-то поёшь свои песни? Где сейчас душа твоя? Что видит, какие страны? Любит ли кого? Тоскует ли о ком? Не хранит ли обиду?..»
И однажды в ответ Ему из кустика жимолости послышалось: «не горюй, не горюй, ти-ти-рюй, ти-ти-рюй». Он поднял глаза: на веточке жимолости сидела варакушка – маленькая синегрудая птичка с красным хвостиком и белыми бровками. «Не горюй, не горюй», – повторила варакушка, повела белой бровкой и, глядя на Него выпуклыми чёрными глазками, прибавила: «ти-ти-рюй, ти-рюй, ти-рюй». И вдруг забормотала, заворчала, точно силясь сказать что-то. Сначала сердито и недовольно, покачивая назидательно головкой и нервно подёргивая красным хвостиком. Потом вдруг приосанилась, вытянулась на тонких, стройных ножках и затикала весело, засмеялась. Но вот склонила головку набок и тихо-тихо прощебетала о чём-то грустном. И, точно желая узнать, что же Он себе думает, снова заглянула Ему в глаза.
Поражённый появлением и поведением незваной собеседницы, Он молчал и тихо, боясь спугнуть, рассматривал щебетунью.
– Ах ты, пичужка! – наконец сказал Он ласково. – О чём же ты хотела мне поведать?
Варакушка кивнула и, переливчато прищёлкивая и присвистывая, принялась рассказывать что-то весёлое. Потом вспорхнула, распушила на лету красный хвостик и опустилась на ветку клёна. «Не грусти, рю-ти, рю-ти», – прощебетала она. Махнула, как платочком, хвостиком, и была такова.
Он остался один, но одиночество впервые за последние годы не давило Ему грудь: тихая, нежная радость, точно светлое, душистое облако опустилась вдруг на Него, и даже смерть отчего-то впервые показалась ему не страшной, но таинственной. Ведь кто знает, смерть ли приходит, чтобы отнять, или жизнь даётся, чтобы постичь...
Он поднялся и медленно пошёл с кладбища. Вокруг, на каждом дереве пели птички, которых Он не мог видеть. И в пении их слышалось: «Не горюй, не горюй, не грусти, не грусти»…
Гностики и фарисеи
Говорят, будто русский писатель Михаил Афанасьевич Булгаков любил, ещё в бытность свою Мишей, повторять по-латыни: «Огнём природа обновляется». Вот так, бывало, ходит по комнате и повторяет. Igne, говорит, Natura Renovatur Integra. И что будто бы оперу Гуно «Фауст» Михаил Афанасьевич слушал сорок раз! А может быть, даже сорок два.
Ну, слушал или не слушал – нам в точности не известно. Зато известно доподлинно, что Морошкин Богуслав Никандрович, 1968 года рождения, перечёл один из романов Михаила Афанасьевича тридцать три раза! Другими словами, Морошкин был большим поклонником Булгакова, как сам Булгаков был большим поклонником Гуно.
Всё, что составляет ядро человеческой жизни, было взято Морошкиным из романа. Вера и любовь, предпочтения и работа, философия и даже, как это ни странно, смерть – во всём-то он сверялся с Великим Мастером. Так, например, жену Богуслав Никандрыч выбрал по имени. А чуть женился, как стал просить у жены сшить ему чёрную шапочку и вышить инициалы – М.Б.Н., что означало бы Морошкин Богуслав Никандрович. Когда шапочка была готова, и швейка взялась выводить золотыми нитями по чёрному шёлку литеру «М», Богуславу Никандрычу пришло вдруг на ум, что инициалы можно вышить латинскими буквами и что эдак будет завлекательнее.
Пробовал Богуслав Никандрыч сам сочинять, но результатом остался недоволен. Человек он был простой, работящий. Кирка и молоток – вот к чему привыкли его руки, не к перу. Работал Богуслав Никандрыч в строительной компании, компанией называвшейся по праву – сотрудники её были близки между собой как родные братья. Компания существовала уже много лет и славилась добрыми традициями. Устраивались общие праздники и поездки, а если с кем-то одним случалась беда, другие немедленно приходили ему на помощь. Даже здороваться между собой договорились на особый манер, желая тем самым обозначить свою общность: средним пальцем условлено было слегка надавливать на внутреннюю сторону запястья пожимаемой руки. Туда, где пульсировала, билась под кожей голубая вена.
Словом, Богуслава Никандрыча можно было назвать человеком счастливым: на работу ходил он с удовольствием, с коллегами ладил, жену любил. Придерживался своих взглядов, следовал собственным принципам, не изменял пристрастиям. Но однажды произошло с Богуславом Никандрычем событие странное и страшное. Пугало не столько само происшествие, сколько мистика, которой трагедия оказалась окутана.
Случилось как-то в мае торопиться Морошкину на трамвай. Направлялся Богуслав Никандрыч на важное совещание и был одет в отличнейшую чёрную пару и белую крахмальную сорочку. Трамвай уже подходил, уже выл и бряцал совсем рядом, за поворотом, а Богуслав Никандрычу предстояло ещё пересечь улицу. Он засуетился. Но на беду на пути у него оказался люк, и люк этот был приоткрыт, а крышка сдвинута.
Сколько раз с самого раннего детства твердили Богуслав Никандрычу, как опасно наступать на чугунные крышки канализационных люков! И что лучше сделать шаг в сторону и обойти это невзрачное, но таящее в себе множество подвохов препятствие. Не внял мудрым советам Богуслав Никандрыч! Не внял и поплатился жизнью.
Лишь только нога его переступила с асфальта на металл, как рифлёный, словно шоколадная плитка, покрытый непонятными письменами чугунный диск, поехал в сторону, и обнажил под собой чёрную, бездонную пропасть. Потеряв равновесие, Богуслав Никандрыч изогнулся, взмахнул, как крыльями, руками, выронил в колодец папку с бумагами и чертёжными инструментами и, чудом избежав провалины, рухнул на оба колена. Чёрные брюки немедленно утратили свою целостность, и костлявые колени Богуслава Никандрыча высунулись наружу. Из разбитого носа и прикушенной губы кровь брызнула на белую сорочку.
Богуславу Никандрычу бы остановиться и внять предупреждению, вернуться домой, зализать раны, отыскать в колодце рабочую папку. Но, потрясённый и напуганный, а равно гонимый дисциплинарным инстинктом, Богуслав Никандрыч устремился к приближающемуся трамваю. Возможно, что, добежав до остановки, Богуслав Никандрыч преодолел бы своё потрясение и в трамвай бы садиться не стал. Но! В том-то всё и дело, что добежать он не смог.
Дрожь ли в содранных коленях подвела или кто-то невидимый подставил Морошкину мохнатую ногу с копытом, но только Богуслав Никандрыч снова упал.
Новое падение приключилось в непосредственной близости от рельс. Растянувшись, Богуслав Никандрыч стукнулся переносьем о металл, и стайка разноцветных, нестерпимо ярких звёздочек пронеслась у него перед закрытыми глазами. Вспыхнула на их месте и тут же исчезла латинская буква «G». Послышались крики и металлический скрежет. И Богуслава Никандрыча не стало.
Трамвай, точно в насмешку, наскочил на Морошкина и отрезал ему голову и правую ногу. Не сумев остановиться сразу, адская машина ещё несколько метров толкала перед собой несчастное тело, разлучённое не только с душой, но и с некоторыми своими членами. Нога осталась лежать на мостовой, голова же откатилась к тротуару. Вид её вызвал панику, пассажиры, ожидавшие трамвая, заволновались. И среди общего гвалта и шума, отчётливо прозвучали странные, ни на что не похожие слова: «Батюшки! – запричитала какая-то старушка. – Прямо с мясом!.. Мясо-то от костей отходит!..»
И никто не помог Богуслав Никандрычу в ту страшную минуту, когда Грозный Судия вдруг обратил к нему свои неумолимые вопросы. Ни русская литература в лице Михаила Афанасьевича Булгакова, ни жена с королевским именем, ни чёрная шапочка с золотыми буквами M.B.N., ни даже могущественная строительная организация. Никого не оказалось рядом, никто не протянул ему руку помощи.
«Что думает о себе автор, – может воскликнуть читатель, – если предлагает такие странные, надуманные истории!» И был бы совершенно прав, если бы история оканчивалась отсечением головы и несуразными старушечьими выкриками. Но история на этом не заканчивается. Среди тех, кто мирно поджидал на остановке трамвай, а вместо этого стал невольным свидетелем кровавой драмы, был некто отец Василий, молодой московский священник и начинающий публицист из православного братства, занимающегося изданием и распространением духовной литературы. Возвращался отец Василий из монастыря, куда приезжал с молитвенной просьбой к покоящейся в обители святой. Поездкой своей оставался батюшка недоволен: в монастыре его встретили искушения, и на молитве ум отца Василия разбегался и «о лукавстве мира сего подвижеся».
Спервоначалу пребывал отец Василий в настроении умилительном и даже, присев на скамеечку, намеревался сфотографировать главный храм обители. Как вдруг подскочил к нему монастырский охранник с цигаркой в зубах и объявил, что «фотографировать у нас запрещается!»
– А курить разрешается? – не удержался отец Василий.
На что охранник цигарку изо рта вынул, но запрета не отменил. Так и стоял подле отца Василия, пока тот не спрятал фотоаппарат в сумку. «Корыстные, бездуховные люди! – думал отец Василий, расставаясь с мечтой о фотоснимке и поглядывая искоса на своего цербера. – Кругом предательство, трусость и обман! Разве возродится Святая Русь с такими людьми!..» Наконец охранник оставил отца Василия, но не успел тот вздохнуть, как на скамеечку опустились две увлечённо беседующие дамы. Отец Василий стал невольно прислушиваться: речь у них шла об искусстве и в частности о неприятии Церковью светской литературы, которую одна из дам называла «изящной словесностью». «Что же твоя изящная словесность не научила тебя изящной нравственности?», – с негодованием подумал отец Василий и повернулся к дамам затылком. Впрочем, он тут же смягчился, поскольку остался доволен сложившимся каламбуром.
А дамы, меж тем, перешли с изящной словесности на цензуру, с цензуры на ностальгию по советскому прошлому, с ностальгии на развал СССР, с развала на «бывшие союзные республики». Стали перебирать по одной, пока не дошли до Грузии. И тут отец Василий удвоил внимание. Дело в том, что мать его была родом из Грузии. В Грузии оставались двоюродные братья и сёстры батюшки. В Грузии жили почтенные монахи-старцы, с одним из которых отец Василий состоял в переписке. Одним словом, всё, что касалось Грузии, касалось и отца Василия.
И каково же было его возмущение, когда две финтифлюшки принялись изрыгать хулу на древнюю Иберию! Причём любительница изящной словесности не прочь была бы узнать, как Грузинская Церковь относится к «позору современной Грузии». А её товарка в ответ заявила, что «неблагодарность – худший из грехов», и речь у них пошла о неблагодарности. Тут уж отец Василий не выдержал, повернулся к дамам и стал сверлить их глазами, на что собеседницы не обратили ни малейшего внимания. «А известно ли вам, – дрожал от негодования отец Василий, – что Грузия долгие годы была оплотом Православия на Востоке! Вместо того чтобы, как дешёвые журналисты, повторять…» Тут отец Василий споткнулся и задумался, что же именно повторяют «дешёвые журналисты», но оказался в затруднении. Отчего рассердился на дам пуще прежнего и назвал их про себя «неразумными девами».
От греха подальше батюшка счёл нужным покинуть своих соседок и направился в храм, где его немедленно толкнула другая «неразумная дева», правда, весьма преклонных лет. А тут ещё охранник в припадке «административного восторга» вздумал поторапливать очередь к мощам репликами: «Поактивнее молимся, товарищи… Проходим… не задерживаем остальных молящихся…» «Что за дурак, прости, Господи! – без экивоков подумал батюшка. – Ну что за народ! Полное падение нравов… Им бы только гороскопы читать да тленные сокровища собирать… А молодёжь? Что будет с молодёжью? Их травят наркотиками, травят телевизорами… Компьютеры, рок-музыка – несть им числа! Что может из них вырасти, когда они уже сейчас одурманены! – так думал отец Василий возле раки и всю дорогу до трамвайной остановки, где, точно в ответ на свои помыслы, наткнулся на двух девиц и обрадовался. – Господи! Взять хотя бы вот этих! Такие юные, свежие!.. Особенно шатенка… Н-да… Рыжая тоже ничего… Господи, помилуй нас грешных!.. На двух индейцев похожи: волосы висят, лица раскрашены… Ну что может быть у них в головах, в душах…»
Отец Василий был совершенно прав: в головах у девиц действительно было всё перепутано. Звали их Присыпкина и Прибавкина. Присыпкиной было тринадцать лет, а Прибавкиной четырнадцать. Собрались они в кино, где мечтали «познакомиться с парнями», для чего, хоть и неумело, принарядились. Настроение у обеих было отменным: уходящий май повелевал влюбляться, лето стояло при дверях, и уже слышен был его смех. День выдался не просто удачным – и Присыпкина, и Прибавкина были уверены, что около часу назад случилось самое смешное событие в их жизни. Ровно в полдень сбежавшие с уроков девицы явились домой к Прибавкиной и расположились в её комнате. Занятия в школе заканчивались около двух, и разгуливать до тех пор по улицам подруги сочли рискованным. Решено было переждать. Стали думать, куда отправиться. У Присыпкиной на чеку была бабушка, у Прибавкиной родители приходили домой обедать. После долгих раздумий и обсуждений постановили переждать у Прибавкиной, а на время родительского обеда отлежаться под кроватью.
Ровно в двенадцать пятнадцать в замке стукнул ключ, и глава семейства Прибавкиных перешагнул порог собственного дома. Времени у него было немного, поэтому действовал он быстро, отлажено, сосредоточенно. Даже если бы ему пришло в голову заглянуть в комнату дочери, ничего необычного он бы там не увидел. Если только предположить, что вместо горячего, домашнего обеда Прибавкину вздумалось бы мыть пол, тогда, вне всяких сомнений, он обнаружил бы под письменным столом дочери её саму, а под её кроватью – подругу Присыпкину. Но ни заглядывать в комнату, ни тем более мыть пол Прибавкин не собирался, интуицией он не обладал и постороннего присутствия в доме не ощутил. А потому из-под стола и кровати в комнате его дочери то и дело выскакивал сдавленный смешок, и записки летали туда-сюда.
Ровно в двенадцать сорок пять дверь за Прибавкиным захлопнулась, и его дочь со своей лучшей подругой выползли, все в пыли, из своих укрытий. Давясь от смеха, условились в следующий раз поменяться местами.
Ровно в тринадцать десять снова стукнул ключ в замке, и порог переступила мать семейства Прибавкиных. Что-то сразу же не понравилось ей в квартире. Что-то необъяснимое и необычное висело в воздухе, тишина показалась вдруг нарочитой – одним словом, в доме явственно ощущалось чье-то присутствие. Прибавкина испугалась. И чтобы избавиться от сомнений и разогнать страхи, она прошлась по комнатам. Ничего необычного как будто не было. Но всё же что-то было не так. Работала Прибавкина рядом с домом, и времени у неё было довольно. Отобедав, она ещё раз заглянула во все углы и задержалась в комнате дочери – здесь её волнение всякий раз возрастало. Она присела на кровать и огляделась. Всё в комнате было на своих местах: постель аккуратно застелена, дверцы шкафа плотно притворены, даже на письменном столе был порядок. Но что-то всё-таки было не так… Разве этот халат, растянутый на стуле, точно театральный занавес? Прибавкина поднялась, выдвинула из-за стола стул… и обомлела. Под столом сидела её дочь! Прибавкина ясно увидела клетчатую юбку и ноги в белых гольфах.
– Оля… – пролепетала Прибавкина и снова опустилась на кровать, – что ты там делаешь?
В ответ послышалось дурацкое хихиканье, а из-под стола выползла на коленях… Присыпкина.
– Таня?! А где Оля?..
Хихиканье переросло в хохот, при этом, казалось, что Присыпкина гогочет на два голоса. А тут ещё кто-то схватил Прибавкину за ногу, и она, заверещав, подскочила. Из-под кровати тем временем показалась рука, потом нога в белом гольфе, а вскоре и вся младшая Прибавкина уже стояла перед родительницей. Но поскольку время обеда истекало, серьёзный разговор был обещан подругам на вечер, после чего они остались вдвоём и выпустили из себя весь смех, что накопился за целый час.
Но в том-то всё и дело, что смех имеет свойство скапливаться в огромных количествах за самое короткое время, так что избавиться от него сразу и вдруг бывает непростым делом. Всю дорогу до трамвайной остановки и потом, поджидая трамвай, Прибавкина и Присыпкина неудержимо хохотали. На остановке было немало людей, и смеяться было неловко. Но смех, точно вода, прорывался, и девицы, захлёбываясь, взрывались хохотом. И в ту самую минуту, когда глаза отца Василия увидели роковое падение Богуслава Никандрыча на трамвайные рельсы, уши его услышали очередной всплеск девичьего смеха. Не веря ушам, отец Василий обернулся и удостоверился: девицам было весело. «Ну, конечно! – почему-то обрадовался отец Василий. – Наконец-то что-то новенькое развлекло нас! Будет о чём рассказать знакомым! Какое нам дело до мучений других людей! По телевизору и покруче показывают… Ну что из них вырастет, Господи?..»
Прибавкина и Присыпкина не видели ни Богуслава Никандрыча, ни отца Василия, ни даже откатившейся к остановке головы. Они вообще ничего не видели и не сразу поняли, почему вокруг все заволновались.
Зато отец Василий всё понял и увидел именно то, что ожидал: «дикую гримасу безумного смеха на молоденьких, но уже хищных лицах». Именно так на другой день описал он свои впечатления в статейке, которую охотно растиражировало православное братство. И если бы только Прибавкина и Присыпкина читали церковные брошюры, они бы наверняка узнали, что «блеск их глаз и оскал зубов» напомнили отцу Василию «радостно воющих гиен и шакалов, когда находят они свою излюбленную пищу – свежую падаль…»
А ночью того страшного майского дня потрясённый пережитым отец Василий став на молитву, молился сам в себе так: «Господи! Да не будет такого с народом моим!.. Да не будет, Господи!..» И что-то знакомое и очень похожее по созвучию мерещилось ему, но ускользало и не давалось памяти.
Но было на той злополучной остановке и ещё одно существо. Маленькая, скукоженная старушонка, давно уже обращающая на себя внимание исключительно привязавшейся с годами неловкостью – то толкнёт кого-то, то ногу отдавит. Была она немощна и в знаниях неискушённа, жила бедно, всем всегда оставалась довольна. Долготою дней давно насытилась и ждала спокойно последнего часа. Стояла она на остановке как всегда никем не замеченная и наблюдала: и за Богуславом Никандрычем, и за отцом Василием, и за Прибавкиной с Присыпкиной. А вечером пришла домой и померла с миром.
Павлуша
I
Питерский студент Павлуша Чапиков приехал на зимние каникулы к родителям. Гостил Павлуша с удовольствием.
Дом у родителей большой, тёплый и помещается на высоком холме, так что из окна в кухне открывается вид на монастырь и пруды.
Павлуша устраивался в кухне у печки и, подперев ладонью подбородок, с каким-то тихим, точно притаившимся, блаженством разглядывал замёрзшие и заснеженные пруды с разбегающимися дорожками следов, деревья, прячущиеся под голубым игольчатым инеем, монастырское золото на храмах и башнях. Вечернее солнце расплёскивалось на куполах, запускало лучи в каждую складку колокольни, отчего казалось Павлуше, что колокольня, светящаяся изнутри, висит, плавно покачиваясь, в воздухе.
Когда Павлуше надоедало смотреть в окно, он отправлялся в свою комнату читать или во двор расчищать от снега дорожки. Как-то они с отцом лазали на крышу сбрасывать слежавшийся, нависающий снег, похожий на свечной нагар. И когда Павлуша, обвязанный верёвкой, сбивал палкой сгнётки снега, он думал, что сам ни за что бы не догадался проделать эту работу. Но здесь, в доме родителей, всюду чувствовался порядок, заведённый мамой. И подчиняться этому порядку было приятно. Когда они с отцом спустились с крыши, мама позвала их обедать. И после мороза, после опасной и трудной работы они с наслаждением обжигались щами…
Павлуша давно уже понял, что отцу необыкновенно повезло встретить маму. Сколько раз женился Павлуша – только официально за десять лет было заключено три брака – и никто не любил Павлушу так бескорыстно, как это умеет мама. Все чего-то ждали и требовали. Первая жена Павлуши, Леночка, требовала близости, как червь ненасытимый. Этим она наипаче и пленила Павлушу, который не уставал повторять тогда, что более всего ценит в женщине темперамент. Вместе с Леночкой Павлуша учился в одном классе. После школы они поженились, и Павлуша не стал поступать в институт, а пристроился следом за Леночкой на работу в коммерческий магазин. Ночами Леночка сгорала от страсти и так самозабвенно отдавалась ласкам, что наутро Павлуша с трудом продирал глаза. Ничего другого Леночка не предлагала и предложить не могла. И однажды Павлуша, к удивлению своему, обнаружил, что неутомимая жена его, снедаемая сладострастием, страшно ему надоела.
Павлуша и представить себе не мог, чтобы мама надоела отцу! Отец, маленький, скукоженный человечек с застывшим в глазах возмущением, точно вопрошающий у каждого встречного: «Что вам всем от меня надо?», считал свой брак большой удачей. Что ни затевала жена, он со всем соглашался, потому что неразумного она никогда не затевала.
Павлуша и сам невысокого роста, но зато красиво сложен, с ясными синими глазами и белоснежной улыбкой. Поэтому женщин вокруг Павлуши всегда было много. Павлуша знает в них толк, как некоторые люди знают толк в лошадях или собаках. Но Павлуша не стал бы добиваться любви неприступных красавиц. Пусть лучше его избранница будет не слишком хороша и блестяща, лишь бы любила его и ничего не требовала. А уж как Павлуша сумел бы ответить! Как он умеет любить! Разве вторая его жена, Аннушка, могла пожаловаться? Ей ли быть недовольной? Её ли не любил Павлуша?
Они познакомились в кулуарах питерской Академии художеств, куда Павлуша явился, чтобы поступить в мастерскую монументальной живописи. В тот день Павлуша завалил композицию и, отвергнутый монументалистами, слонялся уныло по этажам. С Аннушкой они столкнулись случайно. Аннушка выронила какие-то тетрадки, и Павлуша бросился помочь, а в ответ услышал тихое:
– Спаси Господи…
Длинные русые волосы Аннушка носила на прямой пробор и забирала их сзади в косу. Маленькая и худенькая, с бледным узким личиком и огромными бледно-голубыми глазами, Аннушка имела вид кроткий и незлобивый. И Павлуше показалась, что это та самая кротость, которая не ищет своего.
Они разговорились. Оказалось, что Аннушка на пять лет моложе Павлуши, а между тем уже год отучилась в мастерской церковно-исторической живописи. Павлуша рассказал Аннушке о своих неудачах, и она посоветовала ему молиться блаженной Ксеньюшке – «ведь она такая скоропослушница».
– Вы бы к нам поступали… на церковно-историческую… – тихо и с нежной улыбкой сказала Аннушка.
На другой год Павлушу зачислили в богомазы.
Когда решалась судьба с Павлушиным зачислением, Аннушка три часа кряду молилась коленопреклоненно в соседнем с Академией храме Апостола Андрея Первозванного.
Скоро они расписались, обвенчались и поселились вместе в комнате, которую сняли здесь же, на Васильевском острове, у злющей старухи.
Уж как они хорошо с Аннушкой жили! Всё-то вместе! Утром на учёбу, вечером домой. А в воскресенье Аннушка платочек повяжет, и пойдут они рука об руку к поздней Литургии. И на этюды вместе, и по святым местам. Побывали в Троицкой Лавре и в Александро-Свирском монастыре. А уж к блаженной Ксеньюшке в часовенку без счёту ездили. А в Троицкой Лавре прямо на братский молебен поспевали – к пяти утра. Очень уж Аннушке у отца Наума благословиться хотелось, а днём, когда паломники да туристы нахлынут, разве пробьёшься к нему? На третий день только довелось с отцом Наумом свидеться. Так на паперти его и дожидались. А лишь показался отец Наум, Аннушка птичкой вспорхнула, и к нему:
– Благословите, честный отче!..
Получила благословеньице и просияла. И Павлуша вместе с ней. То-то радость была!
Как-то в разгар лета ходили с крестным ходом из Борисоглебска к святому источнику. В пути были несколько дней и ночевали в деревнях. И Павлуше казалось, что время остановилось, и что так же крестным ходом шли здесь и сто, и двести лет назад. И так же пекло солнце, так же донимали слепни, так же умильно пелись акафисты. Народу вокруг было много, но Павлуше никто не нравился. И смирение, и умиление верующих почему-то представлялись ему фальшивыми. Женщины были на удивление несимпатичные, мужчины – неопрятные. Павлуше приходило на ум, что все они только хотят верить, но настоящей веры не имеют. И в церковь идут не за Богообщением или чем-то в этом роде, но бегут от неудач в миру и, как изощрённые сладострастники, ищут особенных духовных удовольствий. Но окружающие часто мешают тем, кто ищет удовольствий. Вот почему злы нечёсаные дядьки с хоругвями и некрасивые тихогласные тётки в ацетатных платках. Павлуша поглядывал на Аннушку, и ему казалось, что Аннушка не видит того, что видит он, и не задумывается ни о связи времён, ни о несхожести христианства и христиан.
Но, возвращаясь с богомолья, Павлуша чувствовал себя легко, ничто не тяготило его сердца, забывались все обиды, люди вокруг начинали казаться милыми. И Павлуша искренно не понимал, как ещё недавно он исхитрялся находить повод, чтобы осуждать хоть кого-нибудь. Что-то внутри Павлуши – наверное, душа – приходило в порядок, и, по сравнению с обычным состоянием, когда этот невидимый внутренний орган напоминал стакан с мутной, взбаламученной водой, взвесь оседала, и вода делалась спокойной и прозрачной. И Павлуша был благодарен Аннушке за то, что она ввела его в новую, незнакомую раньше жизнь.
3 августа, когда Павлуша с женой гостил в Курске у тёщи, из дома пришло письмо. Мама писала, что надумала продать дом: «…Батяня не возражает. А как продадим, купим две квартиры. Вам с Аннушкой в Питере, а нам и здесь хорошо будет…»
Павлуша хотел обрадовать Аннушку и тёщу и прочитал им письмо. Но радости новость не вызвала.
– Да вы что… – всплеснула руками тёща, – с ума, что ли, сошли? Дом продавать!.. Вот искушение-то, батюшки!
– Павлуша, – заволновалась Аннушка, – напиши… позвони своей маме… скажи, пусть не продаёт. Скажи, что ты против. Ты тоже… ты того… ты право имеешь!.. Вот искушение!
Павлуша очень удивился. Во-первых, его призывали перечить матери, чего он никогда не делал, во всяком случае, в делах, касающихся хозяйства. А во-вторых, он не слыхал ещё от Аннушки такого разговора.
– Нам же с тобой квартиру купят, – попробовал он возразить.
Но ни Аннушка, ни тёща его не слушали.
– Да на что мне твоя квартира! – вспыхнула Аннушка. – Вот заладил: квартира!.. квартира!.. И сиди век с тобой в этой квартире!
– Ну вот я в квартире сижу, – подхватила тёща. – Чего хорошего?
Обе они стояли перед Павлушей, подбоченясь, обе раскраснелись и, выпучив глаза, выкрикивали, точно выстреливали, в лицо Павлуше обидные слова, то и дело восклицая по очереди: «Искушение!» Так они друг друга подбадривали и до того разошлись, что окончательно перестали владеть собой.
– Да ты понимаешь ли, – кричала тёща, – что сам никогда такого дома не выстроишь! В центре города, монастырь рядом… Господи помилуй! У вас, чай, и землица есть? Поставь флигелёк, сараюшку с печкой, полати приколоти – вот тебе дом странноприимный! Принимай паломников!.. Да что сараюшка – гостиницу можно! А квартира?.. Искушение!.. Ты семью-то прокормишь квартирой?
– Какую семью? – злобно хныкала Аннушка. – Он и кошку не прокормит! Живём почти впроголодь, а он хоть бы пальцем двинул, чтобы работу найти. Захребетник!..
Павлуша всё слушал и не мог в толк взять: чего они так разорались? Конечно, жили Павлуша с Аннушкой небогато, но денег всегда хватало: то родители помогут, то Павлуша этюд выгодно пристроит, а там и стипендия подоспеет. И Павлуша думал, что им с Аннушкой, как ищущим прежде Царства Небесного, всё остальное прикладывается. И был уверен, что так будет всегда.
Но Аннушка не унималась:
– Я аборт сделала, – причитала она, – грех-то какой из-за него на душу взяла! И на другой бы пошла, чтоб дети мои с голоду не мёрли…
– Искушение! – подхватила тёща.
Ничто, ни даже внезапная перемена в Аннушке не могли ранить Павлушу так больно, как страшное признание, сделанное так небрежно, походя. Павлуша вдруг понял, что кроткая жена его в одночасье ему опротивела, и дотронуться до неё теперь значило бы для Павлуши то же самое, что поцеловать жабу.
Прямо из тёщиной квартиры Павлуша уехал к маме. Вскоре они развелись с Аннушкой.
II
В третий раз Павлуша женился через год. Новая избранница его, Оленька, училась на реставратора. Павлуше уже исполнилось тридцать, а Оленьке только двадцать один, но никто из них не чувствовал этой разницы. Взявшись за руки, они гуляли по Летнему саду, и Оленька говорила, что Врубель гораздо талантливее Репина. Павлуша, хоть и признавал Оленькину правоту, но про себя думал, что рассуждающая об искусстве женщина смешна, и вообще, живопись для женщины – баловство. И что Оленька, должно быть, где-то вычитала свои суждения или услышала от ребят с курса.
Оленька – хрупкая шатенка с тёмными восточными глазами – представлялась Павлуше необыкновенной красавицей. И все почти деньги Павлуша тратил на цветы для неё. Оленька умилялась до слёз и говорила, что ей никто ещё не дарил столько цветов. А потом перестала умиляться.
Расписавшись, они стали жить с родителями Оленьки. Новая Павлушина тёща работала в Эрмитаже и первая подняла вопрос о трудоустройстве зятя.
– Вот что, Павел, – объявила она Павлуше. – Ты со своей церковной живописью намыкаешься. Переводись-ка, давай, на реставрацию. Я и на работу тебя всегда пристрою, и платят реставраторам неплохо, и к Оленьке ближе будешь. Да и учиться там легче…
Павлуша подумал немного и засуетился, забегал по кабинетам Академии. Учебный год только начался, и Павлуше пришлось уйти в академический отпуск. Зато на следующий год они с Оленькой оказались на одном курсе.
Скрынников – преподаватель, от которого Павлуша сбежал к реставраторам, – не хотел и здороваться с бывшим учеником своим. Только однажды, узнав о затее Павлуши, он молвил сурово:
– Вы разочаровали меня, Чапиков. Живопись это опасное занятие, ибо художник конкурирует с Богом. Но вам, как вижу, такое не по плечу. Для художника вы слишком суетны. Вы подмалёвщик, Чапиков. И правильно делаете, что покидаете нас...
Павлуше стало обидно от слов профессора, но потом вдруг ему открылось скромное обаяние момента. Павлуша увидел себя даровитым, но нерадивым студентом. Сам Скрынников убивается, не в силах спокойно смотреть, как Павлуша расточает свой гений, принадлежащий по праву всему человечеству. Но Павлуша счастлив сознанием того, что жертвует собой ради любимой женщины. К её ногам он готов бросать не только охапки цветов, лишь бы ей было хорошо рядом с ним.
Новая семья очень нравилась Павлуше. Вечерами они собирались за маленьким круглым столом в кухне и разговаривали. Оленька рассказывала об Академии, тёща – об Эрмитаже, а тесть – отставной морской офицер – о том, как Абрамович продал Америке серебряный рудник на Чукотке.
Так прошёл год. Павлуша учился вместе с Оленькой, подрабатывал в реставрационных мастерских и даже, по протекции тёщи, расписывал потолки и стены старинного особняка в Итальянской улице, выкупленного у города какими-то дельцами из Сургута. В особняке предполагалось устроить что-то вроде Дворца Съездов, поэтому перед Павлушей и прочими художниками стояла задача придать помещениям как можно более торжественный вид. Заказчики желали видеть на стенах коней с разлетающимися гривами, а на потолках – амуров со стрелами. Выходило пошло, и кое-кто из художников роптал, но утешались тем, что по Сеньке шапка и что в особняке теперь не князья будут жить. Когда работа была окончена, некоторым из художников, в том числе и Павлуше, заплатили вдвое меньше обещанного. С остальным просили подождать. Но поскольку договорённость была лишь на словах, все понимали, что ждать больше нечего. На том и разошлись.
Спустя несколько дней, Павлуша нашёл в кармане куртки странную записку. «А где ж златые горы, обещанные Вам, за то, что расписали тельца златого храм?», – писал аноним. Павлуша перечёл записку и решил, что написал её кто-нибудь из богомазов. Может быть, даже Аннушка. А на другой день он снова нашёл записку: «Там лошади пасутся, там ангелы трубят, и жёны молодые там верность не хранят». Сердце Павлуши ёкнуло, и вдруг точно кто-то отдёрнул перед ним занавес кукольного театра, и задвигались, заплясали куклы в декорациях.
Павлуша помчался в особняк. На первом этаже, в небольшом зале Павлуша нашёл Оленьку и какого-то хлыща в дорогом костюме. Когда Павлуша открыл дверь, они собирались поцеловаться, но, заметив Павлушу, отскочили друг от друга, как однополюсные заряды.
Павлуша схватил Оленьку за руку и потащил домой. На улице произошло между ними объяснение. Оленька начала было оправдываться, но потом, точно сообразив, что ей это ни к чему, выдернула свою руку из Павлушиной и остановилась.
– А знаешь что? – сказала она, сощурив свои восточные глаза. – Мне нужен другой человек… Понятно? Мы ведь с тобой вагон и маленькая тележка... Я вагон, – она ткнула себя пальцем в грудь, – а ты тележка. Только мне уже надоело тебя тянуть. Понимаешь?
На другой день Павлуша съехал от Оленьки.
III
А сколько их было, этих Оленек, Леночек, Аннушек, Маришек… И всегда одно и то же – то им предложить нечего, то тянуть они не хотят. Вот мама всегда всё знает и сама всё подскажет: строить ли дом или продавать, дружить ли с кем или ругаться, сбрасывать снег с крыши или косить траву. Отцово дело солдатское – несёт себе службу, и голова ни о чём не болит. Отец сыт, пьян и нос в табаке. Мама и накормит, и постирает, и рублём никогда не попрекнёт…
…После щей были домашние пельмени, и мама сказала, что в одном спрятан сюрприз на счастье. Павлуша с отцом развеселились и набросились на пельмени. Сюрприз достался Павлуше – в одном из пельменей оказалась карамелька.
– Значит, счастливый ты у нас, – сказал отец.
Но Павлуша только усмехнулся: карамелька попала к нему по ошибке. Уж если кто и счастливый, так это отец.
После обеда все отправились в гостиную, мама включила телевизор, и Павлуша с отцом уселись рядышком смотреть кино. Потом ужинали все вместе и обсуждали фильм. Потом Павлуша отправился в свою комнату и забрался под одеяло. Чистое, накрахмаленное бельё хрустело и пахло мылом. Павлуша нежился в душистой постели и думал, что нет большего удовольствия, чем сон. В окно к Павлуше заглядывал новорожденный месяц, окружённый ослепшими от мороза звёздами. Мало-помалу в доме всё стихло, и воцарилась тишина. Слышно только Павлуше, как в кухне мерно отсчитывают шаги часы-ходики.
Под топоток часов Павлуша засыпает, и снится ему дивный сон. Видит Павлуша, будто родители куда-то уехали, и он в доме один. Но всё, что окружает Павлушу, всё, к чему ни прикоснётся он – всё это… мама. Прижмётся ли к печке – к маме прижался. Присядет ли на софу – к маме на коленки присел. Возьмёт ли почитать книгу, чаю ли захочет выпить, взглянет ли на часы-ходики – всюду мама!
Павлуша просыпается растревоженный и не понимает, что значит его видение. Но в комнату к Павлуше с чёрного, морозного неба глядит месяц, от постели пахнет цветочным мылом, ходики на кухне, как почётный караул, не собьются с шага.
Тревога утихает, и слышит Павлуша, как за стенкой беззаботно, точно от удовольствия, храпит отец.
Бродяга. Сказка про дурака
Товарищ, мы едем далёко,
Подальше от нашей земли…
Из песни.
(Вместо предисловия)
На Руси, по верному и в высшей степени трогательному замечанию А. И. Солженицына, «были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, лихие казаки, вольные бродяги…»
«Никого! Никого их нет!» – сокрушается Солженицын. И это правда: перевелись бородатые сеятели, исчезли тройки. И только насчёт бродяг, думается, неправ был известный писатель. Неистребима и неисчислима «Русь бродячая»! И не зарастают под ногами бродяг дорожки «от моря до моря, до Киева-города».
Мастеровые, крестьяне и прочие достойные люди обитали, без всякого сомнения, и в других землях. У нас же они имели свой особенный колорит, отличавший их от родственных иноземных сословий. Не отказывая американцам или французам в силе икроножных мышц или неприхотливости желудков, дерзнём предположить, что бродяжничество на Руси явление не социального, но психологического порядка. То, что называется национальная черта. Чтобы объяснить это, не нужно быть докой психоанализа. Многое само обращает на себя внимание.
Что побуждает к бродяжничеству? Скука? Бунт? Безделье? Впрочем, едва ли одно исключает другое. Бездельник чаще других скучает. Скучающий бездельник вперёд других бунтует.
Скука – отнюдь не продукт безделья. Наивно было бы полагать, что скучают лишь те, кто ничем не занят. Вероятнее даже, что в паре «безделье – скука», скука, будучи особым, мучительным и томящим состоянием души, являет собой первопричину. Вдруг человек сознаёт, что никакая земная вещь не доставляет ему радости, не веселит и не ободряет. Человек снимается с насиженного места, бросается сразу во все стороны, хватается за новое, но ничто не удовлетворяет его сердца. Путешествия, покупки, увлечения – всё это занимает лишь на время. А потом снова всё кажется пустым и неверным. Наступает какой-то паралич души. И в этом состоянии требуется колоссальное напряжение сил, чтобы подвигнуть себя на мизерное, обыденное дело. Накатывают приступы отвращения ко всему вокруг – к людям, всегда казавшимся приятными, к комнате, устроенной по собственному вкусу, к вещам, верно служившим напоминанием о далёких, но милых сердцу днях. А бывает, что для преодоления этого душевного оцепенения избираются занятия самые эксцентрические, из которых бродяжничество и праздность наиболее безобидные. Приедаясь, прежнее сменяется новым, ещё более экстравагантным. И так без конца. Но однажды, встряхнувшись, можно обнаружить в себе перемены неожиданные и разительные. И тогда временная радость сменится скукой горшей.
Как и скука, бунт – состояние души. Но если скука всегда частное дело, бунт – нередко эпидемия. Это похоже на угар, на пьяное, чадное веселье, когда всё идёт кувырком, и никто ни о чём не думает, а все вместе радуются тому, что ветер свистит в ушах, и нагайка нудит руку. Пугачёвы, большевики и прочие бродильщики потому только добивались известного успеха, что умели вогнать в это состояние народную душу, сделав его общим для каждого из огромного множества людей.
Бунты в Европах, как свидетельствует историческая наука, производятся ради закрепления на бумаге известных прав. Русский бунт полыхает себя ради. Все недовольные, не желающие знать над собой чужой воли, сбиваясь вместе, невольно превращаются в наводящую ужас шайку. Множество людей, каждый из которых одержим нестерпимым желанием хотя бы на короткое время ни от кого не зависеть, образуют мощную хаотическую силу. Эта сила пугает, потому что неорганизованна, не имеет никаких определённых целей, и, как следствие, непредсказуема. Единство её зависит только от настроения каждого участника. Покуда всем охота бунтовать, эта сила жива и действует. Но стоит улечься страстям, стоит уняться душе, как вспомнится вдруг отчий дом, привидится ночью семья. Неудержимо вдруг потянет восвояси и сделается неуютно, оттого что брошено хозяйство. И шайка, что вчера наводила ужас на округу, рассыплется в пыль.
Решившись злоупотребить внешней свободой и ощутив вслед за тем вкус беззакония и произвола, человек точно примеряет на себя новые одежды, в которых живётся вольготнее. Но только неисправимые, прирождённые сибариты и забубённые головы окончательно избирают произвол и лихость и отдают предпочтение особому воровскому закону. Люди, действительно пострадавшие от неправды, рано или поздно утихают и стараются вернуться к оседлой жизни, приспосабливаясь так или иначе к тому, что возмущало и будоражило.
Прежде чем вырасти в эпидемию, прежде чем обернуться беспорядочным, и стихийным движением, бунт охватывает каждую отдельную душу. А бывает, что тихий и смирный человек всё молчит и ничего, казалось бы, кроме своего маленького хозяйства не желает знать. Но однажды окружающие, к удивлению своему, угадывают в нём волка в овечьей шкуре. И вот шкура летит прочь, волк скалит зубы, окружающие недоумевают. Но бунт – состояние краткосрочное, отступающее как болезнь, тающее как пена. Проходит время, и тихий человек, придавленный совестью, делается ещё тише.
Откуда эти приступы неистовства? От рабской ли привычки жить под пятой или от тоски по невиданной в Европах свободе – каждый пусть принимает, что ему ближе.
Неудивительно, что посягательства на внешнюю свободу толкают к бунту. Впрочем, находились люди беспримерной внутренней свободы, умевшие презреть любое внешнее принуждение. Чего стоят хотя бы мученики за веру. При полной внешней свободе бунт может вспыхнуть как несогласие с общепринятым внутренним рабством. Другими словами, нежелание внешне свободных людей сделаться внутренне свободными, противопоставив себя пошлому и обыденному, заставляет наиболее чутких демонстрировать своё несогласие и самостояние через уход.
Странник и разбойник! Эти эрос и танатос бунта так же органично присущи просторам Руси, как берёза и ёлка.
Не найдя в заботах века сего и следов совершенства, человек бежит из мира, не осенённого Божественной ризой. Его влечёт мир таинственный и непонятный, но вместе с тем обещающий постижение недоступных большинству высот и глубин. Ищет странник то место, где риза Бога касается земли. Ищет – спрашивает у леса, прислушивается к ветру. Ищет, потому что знает, что притронувшемуся к этой ризе открываются богатства неисчислимые и блаженства неизреченные…
Недовольные жизнью и несогласные с государственным тяглом устремлялись когда-то на Дон или Яик. Но всё изменилось, горизонты стали шире, и тех, кто не сумел устроиться дома, влекут теперь другие реки.
Н. С. Лесков, повествуя о бродягах XVII, XVIII и XIX вв., пророчески опасался появления в веке XX бродяг цинических, начинающих свою карьеру прямо с глумления и угроз. И ведь как в воду глядел! XX век стал апофеозом всякого рода шатательства и неблагонадёжности. Элиту бродяг XX столетия составили диссиденты, возродившие моду гнушаться Россией и бегать за границу. Безусловно, были среди них люди честные, которые, однако, честному признанию общей вины, ставшей причиной посыпавшихся затем бед, предпочли жаловаться и канючить. Были даже и такие, которых насильственно, как непрошенных гостей, выдворяли из родной страны. Но под шумок этих изгнаний потянулся за границу целый караван. Мало-помалу диссидентствовать у нас сделалось своего рода игрой, очень привлекательной для людей, которых когда-то называли в народе «шатунами» или «бродячей сволочью». А точнее, для любителей лёгкой наживы или фальшивой славы, сколачивающих на общих неурядицах капитальцы.
Век XXI, охолодивший диссидентствующих и совлёкший с них лавры, явил новый тип бродяг. Это бродяги-глобалисты, новые кочевники, от преизобилия или, наоборот, в поисках лучшего места, шатающиеся по всему белому свету. Они не привязаны ни к какой земле, ни к какому обычаю, они не одержимы борьбой. Им хорошо там, где меньше налогов, и больше пива. Для них то, что приятно, то и свято. Смешиваются народы, смешиваются святыни, остаётся незыблемым только одно – удовольствие. А удовольствие требует забвения и отречения.
Но зачастую человек только кажется сам себе кочевником, способным посвятить жизнь поискам жирных пажитей. Слишком поздно он понимает, что смешон в этом костюме. Угнетённый неправдой и несправедливостью, любит он думать: «Такое может быть только в одной стране мира!..» Эти слова подают утешение и надежду. Выходит, что если возможно на свете беззаконие, то возможно оно только в одной, хоть и жирной, точке на планете. И от него ещё можно укрыться там, где жива справедливость. А всё, что ни творится в чудном обиталище справедливости, само собой, покажется единственно правильным и нужным. И нипочём потом не вытравишь упование на дальние страны и чужие берега! Потому что сильна жажда правды и справедливости, неистребима вера, что где-то, не на небе только, но и здесь, на земле, есть город с перламутровыми вратами, и все алчущие могут прийти и взять воду жизни даром!
Бредут по дорогам Руси странники, тащатся бродяги, мчатся лихие люди. Отчего не сидится им дома? Скучают ли они? Бунтуют ли? Тщатся ли растормошить себя? Или хотят по собственной воле жить, наслаждаясь ощущением того, что все стороны света распахнуты перед ними как двери собственной спальни?
Да кто они, в самом деле?! Странники-богоискатели? Или разбойники, алчбою гонимые?
Постой, странный человек! Остановись! Поведай свою историю…
***
В 1996 году некто Павел Романович Курицын, 23-летний житель Подмосковья, покинул своё Отечество с тем, чтобы переселиться в Германию. Зачем он это сделал, объяснять, думается, не стоит. До сих пор в русском народе живы какие-то хилиастические идеи грядущего будто бы Царствия Божия на Земле. И люди, не утруждая себя долгой думкой, тянутся туда, где, по их представлениям, это Царствие уже наступило. Да и мода тогда была такая – эмигрировать.
В 1997 году Пал Романыч воротился домой и с тех пор ни о каких эмиграциях не помышляет.
Проживая в чужих землях, Пал Романыч вёл дневник, где, довольно нерегулярно, записывал свои впечатления и таким образом оставил письменное свидетельство своих похождений. Из дневника можно выудить и предысторию отъезда Курицына в Германию – детали, факты, упомянутые вскользь, случайные, рваные воспоминания – всё это, точно кусочки смальты, постепенно укладывается в единую картину.
Пал Романыч Курицын родился и проживал в Подмосковье и был в большой чести у своих родителей, почитавших его весьма способным к разного рода наукам и искусствам. На обучение сына восторженные родители тратили немалые средства: Пал Романыч занимался музыкой и вдобавок посещал какую-то спортивную секцию. После школы родители определили его учиться на инженера и принялись с нетерпением ждать, когда сын получит и предъявит им диплом. Но ничего этого почтенные супруги Курицыны не дождались, потому что их сын вдруг обнаружил себя с совершенно неожиданной стороны.
Пал Романыч уже проявлялся как человек предприимчивый, хотя и не расчётливый. Ещё старшеклассником он с товарищами тёрся возле гостиниц, в которых стояли иностранные туристы, и предлагал путешественникам менять значки с профилем Ленина и кроличьи шапки на жевательную резинку. Проку от жевательной резинки было немного, и постепенно Курицын с дружками приноровились продавать свои шапки за валюту. Дело это было противозаконное, но Курицыну везло, и он ни разу не попался с валютой и даже, напротив, скопил небольшую сумму на джинсы Levi`s, которые приобрёл в валютном магазине в Москве на Моховой улице. Но главное, что, меняя кроликов на жвачку, Пал Романыч порядком насмотрелся на холёных иностранцев и пришёл к выводу, что жить в родной стране – значит не иметь будущего. В нём созрела решимость, во что бы то ни стало покинуть «совок» и принять подданство любого другого государства.
Мечту эту Пал Романыч вынашивал ни один год, пока не подвернулась первая возможность к её осуществлению.
Однажды Пал Романыч просматривал газету и вдруг наткнулся на объявление: «Немецкая семья из Мюнхена ищет для своего ребёнка русскую няню. Зарплата, проживание, питание».
Пал Романыч перечёл объявление. Никогда прежде не собирался он становиться чьей бы то ни было няней и вообще не думал о педагогике как о призвании. Но речь шла о Мюнхене, и Пал Романыч позвонил по номеру в объявлении.
Спустя пару месяцев, Пал Романыч Курицын был уже в Мюнхене.
Нанявшее его семейство Мюллеров придерживалось тех взглядов, что русская няня, хотя и европейка вполне, но денег потребует не больше чем китаянка или зулуска. Оба они – и Герр Мюллер, и Фрау Мюллер – оказались людьми очень занятыми и не имели возможности возиться с собственным младенцем. Герр Мюллер продавал автомобильные покрышки, а Фрау Мюллер сама была нянькой, но только в доме престарелых, где ходила за немецкими стариками. И эта работа ей очень нравилась, поэтому она ни почём не хотела от неё отказываться.
Мюллеры сначала удивились и даже немного испугались, когда им вместо женщины предложили няню-мужчину, но отказываться они не стали, потому что побоялись нарушать права мужчин. Так Пал Романыч Курицын стал жить вместе с этими Мюллерами и работать у них няней. А работа пришлась ему по душе, потому что он целыми днями ничего не делал, как только таскался по улицам Мюнхена и маленьким Мюллером в коляске и, раскрыв рот, глазел на немецкую жизнь. И поначалу ему всё очень нравилось. Но прошло не так уж много времени, и не успел Пал Романыч онеметчиться и начать творить «дела естества обновлённого», как, пообвыкнув и пресытившись работой, затосковал и стал поругивать немцев. Вдруг открылись ему все их национальные пороки, и Пал Романыч с лёгкостью позабыл, с каким презрением ещё недавно обличал он «совок» и буквально не находил себе места «среди этого быдла». Но и прижившись среди аккуратных и дисциплинированных немцев, он с отвращением обнаружил, что «чудище обло, озорно, огромно, стозевно, и лаяй». «Проклятая немчура, – пишет он в дневнике, – жадна до судорог, экономит на всём, а работой дорожат больше жизни и собственных детей!»
Разочаровавшись в немецком народе, Пал Романыч взалкал перемен. Для начала он со скуки стал таскаться со своим младенцем по разным злачным местам Мюнхена. Здесь он познакомился и близко сошёлся с одним русским по фамилии Фиш, от которого и узнал, что искать счастья русскому человеку следует не в затхлом немецком захолустье на подённых работах, а в кипящих котлах цивилизации, где собираются художники, музыканты и прочая богема. Пал Романыч был всего лишь недоучившимся инженером, но музыкальная школа давала ему полное право причислять себя к творцам прекрасного. Поэтому, когда Фиш стал подбивать его отправиться в Рим, чтобы незамедлительно приступить там к производству и распространению матрёшек, Пал Романычу ничего не оставалось, как согласиться. Тем более что жить ему было больше негде и не на что, потому что как раз накануне он вернулся с прогулки нетвёрдой походкой, и Мюллеры, испугавшись за своего младенца, его рассчитали.
Фиш божился, что матрёшки – это невозделанная нива, и сулил скорую «интересную прибыль». Они сговорились и засобирались.
И вот наступил день, когда, Пал Романыч со своим приятелем Фишем отбыли в Рим. Особо надо отметить, что Фиш сумел так прочно войти в доверие к Пал Романычу, что тот взялся довезти его в долг. То есть дорогу до Рима Курицын оплачивал из своего кармана, имея в виду, что Фиш вернёт ему половину с продажи первой же партии матрёшек. Но в Риме Фиш, как водится, исчез, и сколько ни ходил Пал Романыч по вечному городу, Фиша он больше так и не встретил.
Зато, притулившись в отчаянии у столика открытого кафе, Пал Романыч вдруг заслышал умолкнувший было звук родной речи и, сам не зная почему, прослезился. Русских оказалось двое. Представились они Пал Романычу Наташей и Дэном. Расчувствовавшийся Пал Романыч принял их за влюблённую пару, совершающую романтическое путешествие, и, по-своему, не ошибся.
Спустя некоторое время красавица-Наташа, сославшись на усталость, удалилась, а Пал Романыч с Дэном купили водки и стали её пить. Захмелев, они разоткровенничались, и Пал Романыч узнал, что Наташа – создание хотя и милое, но падшее. Где и когда стала она жертвой общественного темперамента, Дэн не знал. Познакомившись с Наташей при известных обстоятельствах в Москве, где Наташа и добывала себе пропитание, Дэн влюбился в неё без памяти и даже загорелся сделать своей женой. Но до этого у них не дошло, потому что Дэна, промышлявшего в Москве разбоем и прочими лихими делами, власти объявили в розыск, и ему пришлось скрываться. Захватив с собой Наташу, Дэн бросился вон из России и нашёл пристанище в Риме на вилле каких-то своих дружков.
Откровенность за откровенность – и Пал Романыч поведал Дэну свои злоключения: и про Мюллеров, и про лукавого Фиша, и даже про матрёшек, которых ещё нет в природе, но которые Пал Романыч очень скоро изготовит и продаст итальянцам, тоскующим без русских сувениров. В ответ бывалый и тёртый Дэн расхохотался Пал Романычу в лицо и прямодушно назвал эти планы ахинеей. Вместо матрёшек Дэн пообещал Пал Романычу «настоящее, большое дело», которое, если его хорошенько обдумать, может стать очень выгодным. Пал Романыч возблагодарил судьбу, а Дэну, в припадке пьяной сентиментальности, объявил, что пойдёт с ним на любое дело, и попросил, в качестве аванса, приюта, на что Дэн отвечал: «Нельзя, братан!.. Рад бы да нельзя… А езжай-ка ты лучше…» И дал Пал Романычу адрес, по которому в пустующей вилле ночуют «такие как ты… художники». Делать было нечего, и Пал Романыч отправился искать виллу с художниками. Очень скоро, однако, выяснилось, что слова «вилла» и «художники» Пал Романыч и Дэн понимают розно. Прибыв по адресу, Пал Романыч обнаружил каменную халупу с тремя прохвостами внутри. Прохвосты оказались из Румынии. В Риме же они продавали какие-то картины, которыми и была заставлена халупа.
Один из румын по имени Мирча довольно сносно говорил по-немецки. С ним и стал объясняться Пал Романыч. Мирча спросил, что тому нужно, и Пал Романыч отвечал, что ему негде ночевать. Мирча очень удивился, но Пал Романыч рассказал ему про Дэна, и оказалось, что румыны с Дэном знакомы. Тут они стали совещаться между собой, но говорили мало, а больше переглядывались. Наконец Мирча объявил, что Пал Романыч может остаться.
И вот Пал Романыч поселился на «вилле» с «художниками» и стал ждать, когда Дэн призовёт его на «большое дело». К несчастью, Дэн не торопился призывать Пал Романыча. Зато деньги, которые Пал Романыч привёз из Германии, торопливо, точно в оттепель, стали таять в его портмоне. Пал Романыч почувствовал себя неуютно и на первых порах решил поискать благосклонности румын.
Румыны тем временем целыми днями то уходили, то приходили, уносили одни картины, приносили другие.
Как-то Пал Романыч сказал Мирче: «Зачем это вы, румыны, целыми днями ходите с картинами по Риму?» На что Мирча отвечал, что они не ходят с картинами, а скупают их, а после перепродают. «Дозвольте и мне с вами!», – сказал Пал Романыч. Румыны опять стали совещаться, долго переглядывались и… дали добро.
На другой же день они отвели Пал Романыча на какую-то площадь в центре Рима, оставили несколько картин, сказали, которая сколько стоит, и ушли. Пал Романыч простоял так целый день, но никто картин у него не купил. Вечером пришли румыны, пересчитали картины, забрали Пал Романыча и ушли. На второй день всё повторилось, а на третий к Пал Романычу подошла дама – «красивая, но лет сорока» – и стала разглядывать картины и самого Пал Романыча.
Пал Романыч по-итальянски не понимал, но, оказалось, что дама знает по-немецки, и они разговорились. Дама назвалась Лючией и сказала, что купила бы одну из картин, но вначале ей хотелось бы приладить эту картину к своему интерьеру и поглядеть, хорошо ли она там будет сочетаться с обоями и коврами. Пал Романыч пошёл с Лючией и убедился, что живёт она одна в большой квартире.
Пал Романыч стал прилаживать картины к стенам, а Лючия подолгу смотреть. Выбрав же картину и расплатившись с Пал Романычем, Лючия пригласила его выпить кофе, а за кофе стала расспрашивать «ладно ль за морем иль худо, и какое в свете чудо». А Пал Романыч простодушно рассказал Лючии всю свою жизнь. А когда Пал Романыч засобирался домой, Лючия велела ему приходить назавтра, но только без картин.
На следующий вечер он явился, и они снова пили кофе, а потом Лючия сказала: «Оставайся у меня, Пауло!». И Пауло остался.
Так они и зажили вместе – Пауло и Лючия. Про все свои прежние злоключения Пауло как будто и забыл, потому что жилось ему у Лючии очень не худо. Лючия не гнала Пал Романыча работать, а сама давала ему денег. И Пал Романыч, оказавшись в фаворе у богатой и одинокой дамочки, решил, что нашёл то, что искал.
Однажды, отправившись за покупками, Пал Романыч встретил в магазине Дэна, который шепнул ему, что «большое дело» намечается на ближайшие дни, и велел Пал Романычу готовиться. Заодно он спросил, где живёт Пал Романыч, и почему его не оказалось на «вилле художников». А когда Пал Романыч рассказал о Лючии, Дэн его похвалил и прибавил, что для «дела» не мешало бы набрать «ещё ребят». Тут Пал Романыч догадался спросить, что это за «большое дело», и Дэн рассказал, что в одной очень богатой квартире лежит так много денег и разного барахла, что «если взять чуть-чуть, то хозяева даже не заметят». Тем более что хозяин живёт в США, а хозяйка едет к нему и вернётся не раньше чем через месяц. Пал Романыч испугался и стал отнекиваться, а Дэн стал его уговаривать и уверять, что Пал Романычу ничего не придётся делать, «зато будет весело, да и куш приличный». К тому же Дэн знает людей – здесь в Риме, – которые помогут сбыть вещи. Пал Романыч, польстившись более на авантюрность, нежели на куш, колебался недолго.
Они условились, что Пал Романыч станет заходить к румынам, у которых Дэн оставит сообщение о начале операции. Тут они развеселились и порешили называть планируемую операцию «Штурмом Зимнего».
Пал Романыч стал ходить вечерами к румынам, а румыны стали его укорять, что он, набившись в работники, работу бросил. Но Пал Романыч, довольный жизнью, настроен был благодушно, а потому на все трансильванские претензии только отсмеивался. Но потом, будучи обличаем совестью, решил своё отслужить и сказал: «Друзья! Что вам эти картины? Много ли вы за них выручаете? Вот я научу вас такому делу, через которое вы будете на золоте есть!» И он рассказал им об операции «Штурм Зимнего». Румыны его выслушали и долго между собой переглядывались. А потом сказали, что должны подумать.
В скором времени они передали Пал Романычу записку от Дэна, в которой говорилось, что операция «Штурм Зимнего» планируется на ближайшую субботу. Место встречи – «вилла художников». Пал Романыч немедленно пересказал содержание письма Мирче, а Мирча перевёл своим дружкам. Они втроём переглянулись, и Мирча объявил Пал Романычу, что как раз в эту субботу они не могут, так что их участие в «Штурме Зимнего» отменяется.
По странному совпадению засобиралась в дорогу и Лючия, назначив отъезд на субботу. Пал Романычу оставалось только подивиться про себя такому чудному тожеству. Впрочем, он тут же рассудил, что так оно и лучше – не придётся ничего объяснять Лючии.
В субботу утром Пал Романыч трогательно простился с Лючией, а вечером отправился на «виллу художников». Румынов дома не оказалось, и Пал Романыч в одиночестве стал дожидаться Дэна, который вскоре появился на машине с открытым верхом и привёз с собой ещё двух человек. Один был узбек из Ташкента по имени Тимур, другой – казах Айтуган из Джезказгана.
И вот, когда в составе этого интернационала Пал Романыч оказался перед домом, в котором жила Лючия, холодок впервые пробежал по его затылку. Тут только Пал Романыч понял, что Лючия никогда не говорила о себе как о незамужней.
Они вышли из машины. Улица была безлюдна, луна повисла над соседним домом.
– Как тихо, – заметил Тимур.
– Подозрительно тихо, – уточнил Айтуган.
Они вошли в подъезд и стали подниматься, но Пал Романыч всё ещё надеялся, что, возможно, они приехали грабить другую квартиру. И надеялся так до той поры, пока их международная банда, возглавляемая Дэном, не остановилась перед дверью, ключ от которой лежал в кармане Пал Романыча.
Пал Романыч захотел было остановить всё дело, но в ту самую минуту, когда он уже раскрыл рот, Дэн извлёк откуда-то ключ и показал его всей честной компании. Пал Романыч сунул руку в карман и, нащупав там свой ключ, выпалил вместо приготовленных слов: «Откуда он у тебя?!» Дэн потрафил любопытству Пал Романыча и ответил ему так: «Эта подстёга, пока мужа нет, водит к себе всякую шваль и на время жить оставляет. Один такой жиголо, не будь дураком, взял да и сделал себе второй ключ. А после меня этим ключиком отблагодарил за одно дельце… У неё и сейчас хлыст какой-то живёт, да только его дома нет – он вечерами шляется… Надо всё быстро и чистенько сделать – этот пентюх вернётся, ничего не заметит, а после на него хозяйка подумает».
После всех слов, заочно ему посвящённых, Пал Романыч точно окаменел и языком пошевелить не смог.
Объясняться ему всё же пришлось. Правда, не с Дэном, а с охранителями порядка, потому что как только Дэн поднёс к носу запястье с часами и объявил: «Операция «Штурм Зимнего» начинается», – отовсюду посыпались на грабителей карабинеры. Всему квартету связали руки и увезли в участок. Пал Романыч, пока его волокли в машину, кричал по-немецки, что он «хозяйкин любовник», и что «хозяйка сама ключ оставила». Но никто не понимал его. Тогда Тимур научил Пал Романыча крикнуть по-русски. Пал Романыч крикнул, и Тимур перевёл римской полиции значение его слов.
Продержали их в участке до утра, а потом отпустили, потому что доказать, что они приходили грабить было нельзя. Тем более полиция связалась с Лючией, и Лючия подтвердила, что знает Пауло и что действительно оставляла ему ключ.
Кто-то заложил их. И этим «кто-то» могли быть только румыны. Выйдя на свободу, Пал Романыч отправился с ними ругаться. Он на них кричал и называл «дракулами», а румыны сначала слушали, а потом стали его бить и били долго.
Очнулся Пал Романыч на улице, на зелёной лужайке. Всё тело его болело, особенно ноги. Пал Романыч захотел подняться и не смог и пролежал так какое-то время, пока не подошла к нему монахиня и не стала о чём-то спрашивать по-итальянски. Пал Романыч по-итальянски так и не выучился, а потому только стонал в ответ. Тогда монахиня стала его ощупывать и ахать, а потом убежала, но скоро вернулась с другими сёстрами. И все вместе они стали его ощупывать и ахать, а после перенесли к себе в монастырь.
Так Пал Романыч Курицын оказался в женском католическом монастыре. А как он был расслабленный и не мог шевелиться, сёстры его вымыли и пригласили к нему врача. Врач тоже ощупал Пал Романыча и сказал, что у него сломана нога. Тогда несколько сестёр погрузили его в машину и повезли в больницу, где Пал Романыча опять всего ощупали, наложили гипс и вернули монахиням.
В монастыре Пал Романычу выделили хорошенькую комнатку с белоснежными стенами и деревянным Распятием над кроватью. После ночи в участке, драки на «вилле художников», после прозябания на зелёной лужайке, келейка показалась Пал Романычу райской кущей. В дневнике Пал Романыч сравнивает её с материнской утробой.
Остаток дня Пал Романыч нежился в своей чистенькой постельке, пахнущей какими-то цветками, кушал бульон и запивал кофеем.
А на другой день к нему в келью ворвалась Лючия, которая нарочно прервала поездку. «Не говори ничего, – воскликнула она с порога и заломила руки, – я пришла сказать, что не хочу тебя больше видеть!.. Пауло, Пауло! Как ты мог!.. Молчи! Для полиции мало улик, но мне всё ясно! Я знаю, что был ещё один ключ… Свой оставь на память – я поменяла замок!» С этими словами она убежала, и Пал Романыч никогда больше её не видел.
Настроение Пал Романыча, рассчитывавшего и второй день провести в неге, заметно испортилось после посещения Лючии, так что даже бульон с кофеем Пал Романыч кушал без аппетита.
А на третий день произошло событие ещё более неприятное, чем посещение Лючии. После обеда к Пал Романычу пожаловала мать-игуменья и ласково на хорошем немецком языке спросила: «Где вы живёте? Где ваш дом, ваша семья? В Германии? Есть ли у вас обратный билет?» «Нет», – отвечал Пал Романыч. «Есть ли у вас деньги, чтобы купить обратный билет?» «Нет», – соврал Пал Романыч, не желавший ни на билет тратиться, ни домой возвращаться.
Сложно сказать, на что именно он рассчитывал и чего желал в тот роковой миг. Едва ли он мог надеяться на пожизненный уход монахинь. Вероятнее всего, он просто гнал от себя мысль, что его утешительному существованию в обители может наступить конец. Но суровая жизнь всё расставила по своим местам.
«Так где же вы живёте?», – повторила вопрос мать-игуменья. Пал Романыч задумался: возвратиться к Лючии он не мог, возвратиться к румынам он тоже не мог. Но и к Мюллерам, тем более в таком нетоварном виде, возвратиться он никак не мог! Пал Романычу ничего не оставалось делать, как сообщить мать-игуменье: «Я живу в Москве».
На другой же день монахини радостно преподнесли ему билет до Москвы, костыли и телефон. И Пал Романыч Курицын, так долго подвизавшийся в любви к чужбине и ненависти к Отчизне, оказался вдруг вынужденным покинуть благословенную Европу на костылях, завтра же.
Сёстры настояли, чтобы Пал Романыч оповестил родных о прибытии, чтобы ему, как человеку не вполне дееспособному, была уготована встреча. Загнанный в угол, Пал Романыч позвонил родителям и сообщил о внезапном решении их навестить, поскольку в связи с переломом нижних конечностей, он нуждается в отдыхе, уходе и восстановительном курсе.
Первое время Пал Романыч не знал, как вести себя дома и очень боялся насмешек от родных. А как его все наперебой жалели и почему-то восхищались, он быстро сориентировался и решил пользоваться славой героя. Он всем наплёл, что поехал смотреть Рим и там попал под машину. Сначала он рассказывал, как они с Фишем ехали до Рима, потом жаловался на бегство Фиша, упоминал о приятном знакомстве с русской парой и всё это приправлял настоящими впечатлениями от Рима. Об остальных своих похождениях Пал Романыч благоразумно умалчивал. Заканчивал свой рассказ он вымышленным наездом, так что выходило, будто бы Пал Романыч, замечтавшийся после осмотра Колизея, брёл по узенькой римской улочке. Как вдруг из-за угла вынырнул «какой-то Fiat». Пал Романыч хотел отскочить, но поскольку брёл он по мостовой, а тротуары были обтянуты тесьмой припаркованных автомобилей, то деться Пал Романычу было некуда, и он заметался. А заметавшись, упал прямёхонько под колёса Fiat`у. Fiat тут же остановился, из него выпорхнула монахиня, которая подхватила Пал Романыча и повезла его в больницу, а оттуда – в монастырь. Дальше Пал Романыч опять придерживался исторической канвы, умалчивая разве о посещении его Лючией и о нежелании покидать монастырскую гостиницу.
Довольно скоро рассказами Пал Романыча пресытились, да и кости его стали срастаться. И перед Курицыным во всей своей наготе, беспощадной и неотступной, встал вопрос: что теперь делать и чем жить дальше? К тому же вполне реальной оказывалась угроза прохождения обязательной армейской службы, от которой Пал Романыч скрывался то в стенах учебного заведения, то за теми самыми рубежами, охранять которые призывал его долг.
Пал Романыч не стал лукаво мудрствовать. Он объявил родным, что принял решение вернуться к учёбе и предварить все дальнейшие свои шаги на жизненном поприще получением диплома о высшем образовании, чем и вызвал всеобщее восхищение и умиление. Тотчас всё забегало и засуетилось вокруг Пал Романыча, и очень скоро его восстановили на прежнем месте учёбы.
И Пал Романыч снова зажил размеренной жизнью, перестав мечтать о том, чтобы переселиться в чужие земли. И чем дальше, тем реже вспоминает он Мюллеров, Дэна, Лючию и Фиша.
***
Дурацкие выходки Пал Романыча Курицына, все эти бессмысленные и бестолковые похождения не представляли бы ровным счётом никакого интереса, не случись они так своевременно и к месту, и не появись Пал Романыч на мировой арене в нужный час. Сами того не подозревая, подобные ему доморощенные хулители и «клеветники России» поспособствовали, если и не прославлению её, то уж, во всяком случае, опровержению хулы. Совершая своё паломничество, Пал Романыч Курицын сделался невольным, но главным свидетелем защиты в деле, возбуждённом против целого народа, который именно в то время беззастенчиво и не терпя возражений, обвинили в биологической будто бы нерасположенности к свободе и цивилизованности. И вдруг появляются, вылезают из каких-то щелей Пал Романычи Курицыны и разом опрокидывают все расистские теории, демонстрируя исполинскую волю к свободе, недоступную и пониманию ни Мюллеров, ни всех остальных немцев, что «работой дорожат больше жизни и собственных детей».
Пал Романыч Курицын интересен даже не как личность, а как явление. Если бы всё то же самое, что проделал Пал Романыч за границей, он проделывал у себя дома, живя оседло, он был бы ничем иным, как нравственно недоразвитым плутом. Но… Будучи вырванным из своей культурной среды, а точнее, вообразив, что оторвался от сдерживающей традиции, Пал Романыч легко поддаётся на разного рода соблазны. И только. При всех своих личных недостатках и слабостях, Пал Романыч проявляет полное безразличие к благоустройству, за которым, казалось бы, он и пустился в Европу. В самом деле, отправляясь скитаться с мечтой о лучшей жизни, Пал Романыч без слёз и сожаления расстаётся с вожделенными благами, если только эти блага делают поползновения связать его. Он не просто не убивается, теряя приобретённое, он как будто бы изо всех сил стремится оставаться аскетом «с сумой на плечах». Что ж, ему хотелось рискнуть и выиграть у судьбы всё разом. Вот почему он не может усидеть на одном месте, вот почему отказывается сколачивать состояние по пфеннигу и именно поэтому соглашается на дерзкое, хотя и дурацкое, преступление. Его паломничество на Запад – не более чем приключение, освоение новых далей. Лишившись в одночасье всего, он только вздыхает и скребёт в затылке.
Конечно, его пример это не призыв ко всем бросать семьи, бродяжничать, прелюбодействовать, драться и воровать. Но, думается, что внешне разухабистый и беспорядочный человек может носить в своих недрах гораздо больше истинного, нежели благоразумный и законопослушный…
Бредут по дорогам Руси странники, тащатся бродяги, мчатся лихие люди. Отчего не сидится им дома? Не оттого ли, что, предпочитая земному благоустройству хотя бы раз пролететь над лесом, прокатиться по степи, слиться с ветром, неосознанно верят они, что здесь, на земле, «всё неверно, всё неважно, всё недолговечно».
Лугин и бесы
I
Спиритов было пятеро. За медиума выступала хозяйка дома Катерина Николаевна. Был ещё Волков и две какие-то дамы, которых Лугин прежде не видел. Дамы опоздали, и в ожидании Лугин успел выпить две чашки крепкого чёрного кофе. У Катерины Николаевны Лугин бывал впервые.
Аскетическая мебель, бывшая в моде в семидесятые годы, расставлена была вдоль стен. На полках фотографии каких-то индусов в белых одеждах соседствовали с фигурками вислоухих и многоруких божков. Свежие цветы наполняли комнату ароматом.
Катерина Николаевна и Волков принесли из другой комнаты круглый ореховый столик, все расселись, и Катерина Николаевна окурила комнату индийскими благовониями. Потом достала оплывший огарок на яшмовом подсвечнике, чистый лист бумаги и длинный, недавно вновь очинённый простой карандаш. Все молча наблюдали за приготовлениями. Катерина Николаевна зажгла свечу, потушила электрический свет и подсела к гостям.
Лугин оказался между Катериной Николаевной и Волковым.
– Ду-у-ух! – простонала Катерина Николаевна. – Ду-ух!
Лугин вздрогнул.
– А-а-а! – снова простонала Катерина Николаевна, передёрнулась, и Лугин увидел, что она быстро пишет карандашом на листе бумаги.
«Я здесь», – прочёл Лугин, когда она отвела руку.
Все молчали. Лугин украдкой взглянул на Волкова: не смеётся ли тот. Но Волков был мрачен и сосредоточен.
– Дух! – громко и торжественно, прерывающимся голосом воззвала Катерина Николаевна. – Скажи нам! Исповедуешь ли ты Бога Живого?
«Исповедую», – прочёл Лугин на листе бумаги.
Катерина Николаевна вздохнула и закивала гостям. Гости зашевелились.
– Дух! Как имя тебе?
И Лугин прочёл:
«Нас много».
– Кто вы?
«Григорий Отрепьев, Емельян Пугачёв, граф Толстой, Маша Лугина».
У Лугина заколотилось сердце.
– Что ты хочешь сказать своему мужу? – с напускной лаской спросила Катерина Николаевна.
«Пусть ждёт меня дома. Пусть сам пишет», – прочёл Лугин.
Катерина Николаевна улыбнулась ему понимающе. Но Лугин вдруг вскочил и бросился вон из комнаты.
II
Лугин был женат четыре года. Женился он поздно – тридцати восьми лет. И был счастлив в позднем своём браке. Маша была много моложе Лугина. Она казалась ему то прелестной обольстительницей, то простодушным ребёнком. Пылкость и нежность к ней соперничали в его сердце.
Однажды в воскресенье за обедом Маша вдруг вскрикнула и неловко упала на бок. Лугин бросился к ней – она была без сознания. Лугин вызвал «Скорую». Приехавший врач констатировал смерть от сердечного приступа.
На кладбище к Лугину подошёл Волков.
– Сегодня, знаешь, в порфире, а завтра в могиле, – сказал он.
Лугин слушал и не понимал, о чём он говорит.
Проводить Машу пришли многие. На кладбище было холодно и тихо. Кое-кто плакал бесшумно. Свежий снег саваном укрывал могилы, холмиками лежал на ветках и перекладинах крестов. Галки резкими, отрывистыми криками нарушали торжественную тишину. Не снимая чёрной кожаной перчатки, Лугин поднял отрезанный лопатой ком мёрзлой, похожей на кусок торта земли и бросил его в страшную яму.
Все смотрели на него с сожалением и любопытством.
Когда на девятый день собрались помянуть Машу у Лугина, Волков сказал:
– Что, знаешь, гусь без воды, то мужик без жены. Ты веришь ли, что она не умерла? Веришь, что душа её пребывает в астральном теле?
Лугин пожал плечами.
На сороковой день снова собрались помянуть усопшую. Пришли родные Маши, Волков и сестра Лугина. Женщины, озабоченные угощением, суетились на кухне. Мужчины тихо переговаривались в гостиной. Когда, отобедав, стали расходиться, Волков сказал:
– Завтра собираемся у Катерины Николаевны. Она, знаешь, чудеса творит... Уверяет, что может и Машу…
Лугин поморщился.
– Да ведь ты ничего не теряешь! – стал оправдываться Волков. – А вдруг правда!.. Надеючись, знаешь, и кобыла в дровни лягает. Приезжай завтра к девяти.
Оставшись один, Лугин стал думать о Маше, о приглашении Волкова, о спиритизме и о Катерине Николаевне.
III
Волков был старинным приятелем Лугина. Когда-то он увлекался восточной философией и писал в журналы разгромные статьи о религии. Потом необходимость в этом отпала, и Волков стал писать о новейших духовных учениях. Те же журналы с удовольствием печатали его. Наукообразие новейших учений убеждало Волкова в их истинности. Слова, позаимствованные у восточной философии, облегчали понимание.
Обратившись к практике, Волков пережил необычайные состояния. Как-то раз за медитацией показалось ему, что душа его покинула тело. Он увидел сверху себя и голую соседку, принимающую в своей квартире ванну.
Случай этот повлиял на Волкова чрезвычайно.
Подобно многим, не имеющим веры в потусторонний мир, но однажды вдруг лично ощутившим его существование, Волков попытался проникнуть в этот мир инде. Отвергавший ещё недавно религию, Волков предался оккультизму.
Они сошлись с Катериной Николаевной.
В юности Катерина Николаевна переписывала стихи в тетрадку. А когда влюбилась в актёра Столярова, стала сочинять сама. В старших классах Катерина Николаевна полюбила театр и мечтала стать артисткой. Но артисткой не стала, потому что поступила на физико-технический факультет. Про физиков снимали кино, и Катерине Николаевне хотелось писать формулы, спорить с коллегами и получать премии. В институте Катерина Николаевна увлеклась авторской песней и переложила несколько своих стихотворений на незамысловатые аккорды.
Однажды на работе Катерина Николаевна услышала об эре Водолея. Катерина Николаевна заинтересовалась, и на другой день сотрудница принесла ей книгу, отпечатанную и переплетённую кем-то вручную. Катерина Николаевна читала всю ночь, а наутро твёрдо знала, что нашла именно то, чего не доставало ей.
Вскоре явились новые книги, образовался круг знакомств – жизнь Катерины Николаевны переменилась. Красивая музыка, благоуханные цветы, белые одежды… Катерина Николаевна занялась медитацией, и в грёзах своих побывала на дне морском. На спиритических сеансах духи отвечали ей и подавали советы. Скопив денег, она поехала в Индию. И Учитель подарил ей золотое колечко, материализовав его из своего дыхания. На колечке стояла проба, но Катерину Николаевну это не смутило.
Вернувшись из Индии, Катерина Николаевна поняла, что у неё открылись макушечные чакры. Она стала видеть свечение кристаллов, заключённых внутри камней, ощущать предметы частью себя.
Когда Волков рассказал ей о смерти Маши Лугиной, Катерина Николаевна, не знавшая покойницы лично, пережила удивительное состояние. Во сне явилась к ней Маша. «Мне всё видно, – шептала она, – спрашивай…». Катерина Николаевна хотела спросить о чём-то, но вдруг сама оказалась там, откуда взывала к ней покойница. Время и пространство стёрлись, Катерина Николаевна поняла, что ей известно прошедшее и открыто будущее. Пробудившись и тотчас позабыв все откровения, Катерина Николаевна решила, что во сне ей был знак: она обязана установить контакт Лугина с Машей.
Лугин не любил Катерины Николаевны. Необыкновенные способности её он почитал за шарлатанство. Разнообразие интересов – за пустоту и суетность. В чудеса и загробный мир Лугин не верил. Но после смерти жены ему мечталось когда-нибудь снова встретиться с нею. К предложению Волкова Лугин отнёсся безразлично, но в тот же вечер со стены в спальне упал фотографический портрет Маши. Лугину стало не по себе.
На другой день позвонил Волков и стал настаивать.
– Не знаю… – замялся Лугин. – Подумаю…
– А ты не думай! – подначил Волков. – Кто, знаешь, думает три дня, тот выберет злыдня.
Уставший от своего горя, Лугин решил сходить.
Никогда прежде не бывал он на спиритических сеансах и, не зная, как вести себя, был сдержан и осторожен. Но когда Катерина Николаевна стала поигрывать именем его жены, Лугин счёл это циничным и вышел из себя. Ни от Волкова, ни от Катерины Николаевны не ждал он бессердечия.
IV
Дня три или четыре после спиритического сеанса Лугин проходил мимо книжной лавки, и в глаза ему бросилось название: «Жизнь после жизни». Лугин не остановился. Потом вернулся и купил книгу.
Воскресным утром Лугин расположился с новой книгой на кухне. Кофе в медной турке закипал на плите. Лугин поднял глаза и вдруг увидел, что сито, лежавшее поверх кофейника, шевельнулось. Ручка сита, как кошкин хвост, дрогнула и медленно стала опускаться. Лугин остолбенел. Но кофе закипел и стал уходить, и Лугин пришёл в себя.
Оказалось, что накалившаяся турка расплавила пластиковую ручку сита. Лугин был раздосадован. Но совпадение удивило его.
Во вторник после работы, оставив машину на станции технического обслуживания, Лугин спустился в метро.
Был седьмой час в начале. Народ теснился в вагонах. Какая-то дама горячо дышала Лугину в шею, под колено впился ему металлический остов чьей-то хозяйственной сумки, мальчик, не дотягивающийся до поручня, повис на кармане пальто. Силясь отвлечься от нарастающего раздражения, Лугин стал прислушиваться к разговорам.
– … ну и скинулись бы хоть по ста рублей, брату-то на подарок!
– Мы принесли подарки, а он к нам даже не вышел!
– Кинули бы через забор!
– Ну вот будем мы у вас на заборе висеть!..
Лугин стал прислушиваться к другим голосам.
Вдруг среди общего вздора услышал он слово, заставившее его удвоить внимание.
– …физическое, эфирное, астральное и ментальное.
– А потом?
– Потом физическое разрушается, и душа отходит с тремя оставшимися.
– Ну и?..
– Эфирное быстро умирает, а вот астральное долго живёт …
Поезд остановился, и Лугин вышел на своей станции.
Всю дорогу до дома он думал о странных совпадениях, случившихся в последнее время.
Придя домой, Лугин вымыл руки, включил телевизор и собрался поужинать. Но в это самое время диктор объявил:
– …А прямо сейчас на нашем канале американский художественный фильм «Призрак».
Лугин опустился в кресло и забыл об ужине.
V
Субботу и воскресенье Лугин провёл в читальном зале, собирая материал о спиритизме. Он хотел было справиться у Волкова или Катерины Николаевны, но постыдился.
Самому себе не смел он признаться. «Это так только, – рассуждал он. – Надо убедиться, что всё обман, и нет ничего…».
В понедельник вечером он начал приготовления: проверил дважды, заперта ли дверь, занавесил окна, достал свечу и карандаш. Всё это проделывал он не спеша, стараясь не шуметь, точно готовился к недостойному делу.
Наконец он уселся за стол, взял карандаш в руки и так же, как это делала Катерина Николаевна, позвал:
– Дух!
Ответа не последовало.
Лугин подождал немного и снова позвал:
– Дух!
И снова не было ответа.
Лугин позвал в третий раз:
– Дух, появись!
Только свеча, обгорая, чуть потрескивала.
«О чёрт… – подумал Лугин, – хорошо ещё никто не видел…».
Он собрался уже задуть свечу, как вдруг показалось ему, что пальцы помимо воли крепче сжали карандаш. И в следующую секунду карандаш, увлекая за собой руку Лугина, побежал по листу бумаги.
«Я здесь», – прочитал Лугин.
Он отказывался верить. И точно в насмешку над самим собой спросил:
– Кто, я?
«Тот, кто вечно совершает благо», – вывел карандаш.
Лугин не мог опомниться и молчал.
«Что тебе нужно?» – спросил карандаш.
Лугин ещё помолчал и наконец робко ответил:
– Машу.
«Жди», – отвечал карандаш, и пальцы Лугина разжались.
Несколько минут прошли в томительном ожидании. Потом вдруг снова невидимая сила подхватила руку Лугина и стала водить ею.
«Я здесь», – написал карандаш.
– Кто? – спросил Лугин.
«Я, Маша».
Лугину стало страшно.
– Почему я должен верить? – спросил он после длинной паузы.
«В нашей спальне, – ответил карандаш, – в шкафу, в моём ящике на самом дне лежит белый шарф. Я не успела подарить тебе».
Лугин бросился в спальню.
На дне Машиного ящика под аккуратной стопкой её белья лежала плоская картонная коробка со слюдяным окошком. Лугин сорвал картон, внутри оказалось белое шёлковое кашне.
С кашне в руках он вернулся к столу.
– Маша, – робко позвал он.
«Я здесь», – вывел карандаш.
– Спасибо, – прошептал Лугин и впервые после смерти жены заплакал.
VI
Наутро Лугин уже стыдился и слёз, и любопытства, завлёкшего его так далеко. Но вечером снова взялся за карандаш. Маша, казалось, уже ждала его, и они не могли наговориться. На другой и на третий день повторилось всё то же самое. Днём Лугин убеждал себя, что всё обман, самовнушение, какая-нибудь психофизиологическая сила. Вечером торопился к карандашу.
Мало-помалу сомнения его стали таять: Маша указывала ему на давно утерянные вещи, и вещи отыскивались; подавала советы, как лучше вести дела, и, следуя им, Лугин оказывался в выигрыше. Вскоре Лугин уже не сомневался, что общается с умершей женой, продолжающей жить в астральном теле.
Иногда Лугин задумывался: «Вот стал некрофилом, волхвом, некромантом. Что дальше?». Тогда ему становилось стыдно и страшно и хотелось всё бросить. Но он успокаивал себя тем, что занятия его безвредны, а снова потерять Машу он не может.
В апреле, уже после Пасхи, Маша сказала: «Мне тяжело, я страдаю…». И Лугину показалось, что он услышал лёгкий вздох или стон.
«Мы не сможем больше говорить…».
– Как? – вскричал Лугин.
«Между нами есть один человек…».
– Что ты говоришь? Какой человек?
«Человек, который мешает нам быть вместе. Я себе не хозяйка. Есть духи более могущественные, чем я. А у того человека власть, и он не велит им пускать меня».
– Кто это? – в нетерпении воскликнул Лугин.
«Катерина Николаевна», – вывел карандаш.
Лугин ахнул.
«Люблю тебя. Прощай…».
Последнее слово, написанное без нажима, было едва видно на бумаге. Рука Лугина обмякла, карандаш выкатился из пальцев.
Всю ночь Лугин звал Машу, звал графа Толстого, звал даже Гришку Отрепьева – никто не отозвался, карандаш не написал более ни слова.
Через неделю Лугин, измученный и обессиленный, решил объясниться с Катериной Николаевной. По телефону попросил он у неё свидания, и она, взволнованная просьбой, пригласила Лугина назавтра к себе.
Она встретила его в белом сари с цветком лотоса в руке и проводила в гостиную, где был накрыт стол, и тихо играла убаюкивающая музыка.
– Вы не совсем правильно меня поняли, – начал Лугин, – я пришёл не за этим.
Катерина Николаевна понюхала свой лотос и кивком пригласила Лугина присесть. Лугин сел, села и Катерина Николаевна.
– Прошу вас, Катерина Николаевна, – устало произнёс Лугин, – отпустите Машу.
– Простите? – удивилась Катерина Николаевна.
– Прошу вас, Катерина Николаевна, – повторил Лугин, – я всё знаю. Маша мне всё объяснила. Прошу вас... я не могу без неё!
– Я не понимаю! О чём вы? О чём вы говорите?
– Катерина Николаевна, – твёрдо проговорил Лугин, – не отпирайтесь. Мне всё известно.
– Да что известно-то? – воскликнула Катерина Николаевна.
– Говорю вам: не отпирайтесь! Я знаю, что вы повелеваете духами. Я знаю, что у вас есть власть. Скажите им… сегодня, сейчас! Скажите им, чтобы они отпустили Машу!
Катерина Николаевна молчала и в ужасе смотрела на Лугина.
– Если вы этого не сделаете… – плаксивым голосом закричал Лугин. – Слышите? Я не знаю, что я с вами сделаю! С вами! И с Волковым…
Катерина Николаевна окаменела. Но когда Лугин вдруг вскочил, попыталась подняться и она. Но запуталась в сари и осталась на месте. А Лугин, схватив с полки фигурку индийского божка, вплотную подступил к ней.
– Последний раз прошу вас, – прошипел Лугин, потрясая перед носом у Катерины Николаевны статуэткой. – Ну же?
Катерина Николаевна молчала и не сводила глаз с божка.
– Ну?! – рявкнул Лугин.
Катерина Николаевна не проронила ни звука.
Повинуясь более желанию логической развязки, нежели решению во что бы то ни стало наказать виновную, Лугин ударил вислоухим божком по голове Катерину Николаевну. Катерина Николаевна удивлённо и с укором взглянула на Лугина, потом закрыла глаза и медленно повалилась на бок. Лугин подумал, что она умерла, и, не выпуская божка, бросился вон.
Прибежав домой, Лугин схватился за карандаш.
– Маша! – позвал он.
Ответа не последовало.
– Маша! Ду-ух! – взмолился Лугин.
Вдруг он почувствовал, что пальцы его привычно сжимаются, и карандаш увлекает руку.
Сладкое чувство, от которого заныло нутро, овладело Лугиным. Он забыл про Катерину Николаевну, он плакал и смеялся как сумасшедший.
«Чего тебе?», – спросил карандаш.
– Машу! – крикнул Лугин.
«Какую ещё Машу?».
Лугин оторопел.
– Маша… жена… – пролепетал он.
«Была, знаешь, жена, да корова сожрала; кабы не стог сена, самого бы съела. А дураки-то и после бани чешутся…». И, прибавив несколько грязных словечек, карандаш вывел крупно: «Ха-ха-ха!»
Лугину показалось, что он в самом деле слышит смех. Он закрыл ладонями уши и кинулся в спальню. Но смех преследовал его.
Лугина нашли повесившимся на белом шёлковом кашне. Он выжил – его вынули из петли и поместили в лечебницу. По странному совпадению там же оказалась и оставшаяся в живых Катерина Николаевна. После пережитого, с ней приключилось что-то вроде нервной болезни. Волков, который в последнее время много пил, проходит курс лечения в той же клинике.
Эмигрантка
Анисья Макаровна была чрезвычайно довольна собой. Всё нравилось самой в себе Анисье Макаровне. Кроме разве собственного имени.
Но ещё в Таджикистане, ещё только готовясь к переезду в Нью-Йорк, Анисья Макаровна придумала называться Анаис. Ей казалось, что это французское имя очень идёт к ней: и к её пушистым светлым волосам, и к изящной фигурке, и к особенной манере подводить глаза. Правда, в Нью-Йорке её стали называть Эн. Но даже это заграничное полуимя устраивало Анисью Макаровну больше, чем собственное длиннющее и, как ей всегда казалось, простонародное прозвище.
Но главное было не в имени – «что в имени тебе моём?». Главное было в том, что всё, однажды свалившееся на Анисью Макаровну, было заслуженным, выстраданным и исторически закономерным.
Из своей нью-йоркской квартиры на двадцать втором этаже Анисье Макаровне нравилось обозревать прошлое и, обозревая, плакать. У каждого человека в прошлом есть своя жемчужина. По особым случаям извлекают её из сундуков памяти и, налюбовавшись, прячут до следующего раза. Детство или юность, учёба или война, тюрьма или первая любовь – никто не знает наперёд, что останется самым дорогим и памятным.
Для Анисьи Макаровны такой жемчужиной сделались её страдания. Былые несчастия и тяготы умиляли и ублажали её. И послевоенное детство в заштатном уральском городке, и бедность, и гражданская война в Таджикистане, от которой пришлось убежать в Америку – всё это осталось далеко позади и теперь совершенно не касалось Анисьи Макаровны. А может, этого и не было никогда? А было американское гражданство, была собственная лавочка на Брайтон Бич, были маячащие в недалёком будущем пенсионные льготы… Но ей нравилось представлять себя гонимой, покидающей Родину и с тоской из иллюминатора самолёта впивающуюся глазами в родной закат. Ей нравилось думать, что она несчастна и что вокруг всё чужое, и что она засиделась в гостях, а пора бы домой… И тогда ей вспоминался городок, затерявшийся в Уральских горах, и дом, в котором прошло детство. Огромный купеческий дом, где в каждой комнате жила семья. Но жили дружно и помогали друг другу. Время было голодное – послевоенное. Бывало, и шелуху картофельную варили, и объедкам из офицерской столовой радовались – всё бывало. Но беда была общей, и нести её сообща было проще.
Теперь же, приезжая в родной город, Анисья Макаровна старалась не рассказывать много о новом житье-бытье. Но и того, что было известно, оказывалось довольно – бывшие соседки смотрели на неё с завистью. И всем хотелось сбежать в Америку от безработицы, от грязи, от вновь ни с того, ни с сего обрушившейся нищеты.
И Анисье Макаровне хотелось сделать что-нибудь для всех этих людей, хотелось быть великодушной и мудрой. Ей было приятно оставить кому-нибудь немного денег, купить вещи или продукты. Она старалась казаться простой и доступной и, по усвоенной американской привычке, всегда улыбалась, выставляя наружу белые безупречно-правильные зубы. И на фоне всеобщей озабоченности и озлобленности она казалась самой себе лучиком, пробившимся сквозь толщу серых туч.
Любила вспомнить Анисья Макаровна и Таджикистан, куда попала ещё девчонкой по институтскому распределению. Здесь вышла она замуж, здесь родились её дочки, здесь она стала писать фельетоны для заводской газеты. Здесь на местном радио у неё был свой час – и каждую пятницу жители маленького Таджикского города слушали стихи русских поэтов в исполнении Анисьи Абрамовой.
А потом началась война. Но Анисье Макаровне нравилось вспоминать и это время. Страшные дни были позади, зато как слушали её здесь, в Америке, когда она рассказывала про исламистов-фундаменталистов, желающих наведения исламского режима, и про имамов, и про кишлачные мечети, муллы из которых и подожгли костёр гражданской войны!
– М-м-м! Эти имамы... – говорила она. – Ужасное было время!
И тогда ей казалось, что она прошла Дантев ад, всё вынесла, всё выдюжила, одолела всех имамов и вышла победительницей. И снова хотелось плакать.
***
Однажды в Интернете Анисья Макаровна наткнулась на любопытное объявление. Московское издательство приглашало опубликовать свои произведения в новом альманахе. Гонораров, правда, не обещали. И даже напротив – альманах издавался на средства авторов. Но зато это было наверняка. К тому же, издательство уверяло, что реализует книжки альманаха «в московской книготорговой сети», а равно осуществляет рассылку в библиотеки.
Анисья Макаровна задумалась. Она давно не бралась за перо – за все четырнадцать лет американской жизни не написала ни одной статьи, ни одного фельетона. Но когда-то у неё неплохо получалось, и почему бы, описав свою жизнь и все страдания, не попробовать стать русской писательницей в изгнании? Как Солженицын. Её биография, её жизненная опытность наверняка привлекут читателя. Писатель с незаурядной судьбой, что бы он ни писал, всегда интереснее какого-нибудь пишущего филистера.
И Анисья Макаровна решила попытать счастья в литературе.
Первым делом она составила для Альманаха свою биографию.
«О! Как порой жестока и несправедлива жизнь! Как безжалостно рушит она человеческие судьбы! Но что делать… – начала Анисья Макаровна свою историю. – Родилась я в Уральских горах. Здесь жили мои предки, мои деды и прадеды. И были они кузнецами. На Урале прошла лучшая пора моей жизни. Хоть было трудно, жили мы весело: влюблялись, ходили в походы, занимались спортом. В Свердловске я поступила в институт. Училась на инженера. Окончила и по распределению уехала в Таджикистан.
О! Что за благодатный край! А какой добрый, гостеприимный и уважительный народ! И как хорошо мы жили! В Таджикистане я вышла замуж, родила детей. В то время я очень много писала…».
Анисья Макаровна подумала немного и продолжала:
«…Мои статьи с удовольствием печатали местные, республиканские и союзные издания. На местном радио я вела передачу “В мире поэзии”. Так и жили бы мы по сей день, если бы не началась война.
И вот мы в Америке! О! Как стремительно летит американская жизнь! Знакомые мужа помогли мне открыть свой магазин. Всё время я занята – верчусь, как белка в колесе. Но остаётся минутка и для творчества. И тогда я пишу рассказы. О жизни, как я её понимаю; о людях, которые окружали меня, и с которыми сводила жизнь. Активно печатаюсь в журналах и альманахах, сотрудничаю с издательствами здесь в Америке и на Урале…».
Анисья Макаровна зачеркнула «и на Урале» и продолжала:
«…на Урале, в Москве. Читателям же Альманаха предлагаю рассказы из цикла “Серебряное копытце”…».
Она давно уже решила, что первым делом опишет свои уральские впечатления.
«…Деловому человеку, да к тому же ещё в Америке, некогда скучать. Скучают только те, кто не работает. Но иногда мне кажется, что я приехала в гости и загостилась. А пора бы домой.
О! Как не хочется верить, что Нью-Йорк стал моим домом!»
Следом за автобиографией на свет появились несколько небольших рассказов, скорее зарисовок. Очень симпатичных, немного сентиментальных – не всегда кстати чувствительных. Но в целом искренних и с либеральным направлением.
Рассказы и биография были отправлены электронной почтой в Москву. После обсуждения редакторских правок Анисья Макаровна электронным же переводом отправила в Россию деньги. А ещё месяца через два она получила десять авторских экземпляров. Семь книжек с автографами они подарила знакомым. Три оставила себе. С той самой поры Анисья Макаровна стала считать себя русской писательницей.
***
Кутузов Иван рос без матери. Отец Ивана был человеком суровым и занятым. И воспитывали Ивана три незамужние тётки – отцовы сёстры. Тётки терпеть не могли покойную мать Ивана и любили помянуть её недобрым словом. Иван слушал, молчал и запоминал. Как-то пробовал Иван вступиться за мать, но тётки подняли такой крик, так расписали отцу дурной нрав Ивана, что Иван с тех пор остерегался обнаруживать досаду перед тётками. Но равнодушным Иван не был, а потому и обижался, и злился втихомолку.
Ранние утраты и обиды стали поводом к раннему раздумью. Когда иные дети ещё беспечны и беззаботны, Иван успел уже немало передумать и перечувствовать. Часто по ночам, укрывшись с головой одеялом, он думал о своём сиротстве, о тётках, об отце, о том, что никем не любим и никому не нужен. Иногда, закусив уголок подушки, он плакал, но так, чтобы никто не знал о его слезах.
Тётки кормили Ивана, лечили и учили, но говорили с ним мало, и всё больше о разном вздоре. А Иван ничего не рассказывал тёткам, потому что робел их.
Книги были истинными друзьями Ивана. С ними он любил уединяться, им доверялся, в них находил ответы на свои вопросы.
Книги, одиночество, привычка думать под одеялом, необходимость таиться и не выказывать свои истинные чувства – вот что формировало характер Ивана. Он рано научился раздражаться и рано стал присматриваться к людям. Подростком он наторел различать чужие слабости и недостатки – в каждом новом человеке видел он обидчика и, точно готовясь дать отпор, старался нащупать слабину.
В душе, как всякий одинокий человек, он был робок, но чтобы товарищи не оттолкнули и не засмеяли его, старался казаться развязным. А повзрослев, стал держаться крайних взглядов.
Взросление Ивана совпало с переменами в общественном сознании. И Иван быстро усвоил то новое, что, как казалось ему, выведет его вперёд и навеки избавит от обид и насмешек. Усвоив, что несомневающийся человек лучше того, кто склонен винить себя, что инстинкт должен быть освобождён от всякого давления, что цена успеха – ничто в сравнении с самим успехом, и что, наконец, нет зла, кроме грубой силы, – усвоив всё это, Иван ощутил себя довольным, свободным и полноценным. И тут же, по странному совпадению, ударился в самый грязный разврат.
Но только очень скоро, как это не раз уже случалось в русской жизни, Ивана качнуло в совершенно противоположную сторону. Причиной таких резких и радикальных перемен в Иване стал… Бог.
В новой корзине, наряду со свободой и успехом, был бог. Но не карающий Бог-Отец и не милующий Бог-Сын, а бог-покровитель торговли. Или вроде того.
Другого Бога Иван не знал, а потому принял этого. Но книги ли, ранняя ли привычка буравить умом всякий предмет – Иван вскоре заподозрил, что бог его ненастоящий. Начались поиски настоящего Бога. Поиски были мучительными: Иван пробовал, злился, сомневался, ненавидел… И наконец нашёл.
Впечатлительному и любознательному Ивану вместе с настоящим Богом открылись и новые убеждения. Всё, что ещё недавно казалось передовым и прогрессивным, было отброшено и проклято. Новая, возвышенная идея захватила и подчинила себе Ивана, вдохновила и потребовала дела.
Свежие впечатления, неиспытанные ранее чувства Иван счёл важным открытием и загорелся поделиться ими с каждым.
Иван начал писать.
Рассказы его были остроумны, местами злы. Злость была источником его вдохновения. Разозлившись, Иван становился беспощаден на бумаге. Искры тогда летели из-под его пера; слова, как клейма, фразы, как удары бича. Но злость проходила, и скучно становилось тогда Ивану, и совсем уж больше ничего не хотелось.
Иван носил рассказы издателям. Но те, точно сговорившись, странно смотрели на него и, как один, печатать отказывались. Иван, мечтавший теперь не об успехе и выгоде, но одержимый бескорыстной активностью, принял решение устроить в сети Интернет свой собственный сайт и разместить там свои рассказы, а равно и лучшие образцы современной отечественной прозы.
Вечерами Иван рыскал по литературным сайтам, отыскивал жемчужные зёрна и тащил их к себе. Неизбалованные вниманием издателя авторы, охотно давали на то своё согласие.
Как-то Иван наткнулся на серию жалостливых рассказов о бедных русских людях, которым не платят заработную плату. Автором рассказов была дама, писавшая о себе, что живёт в Америке, но тоскует о России. Ивану это понравилось. Он задержал взгляд на фотографии дамы.
Дама смотрела не прямо перед собой, а искоса и сверху вниз. Маленькие, обведённые чёрным, глазки, по-детски пухлые щёки, рот, изогнутый как лук Амура – лицо показалось Ивану капризным и самодовольным.
«И не хочется верить, что Нью-Йорк стал моим домом», – прочитал ещё раз Иван и отправил капризной даме письмо следующего содержания: «Уважаемая Анисья Макаровна! Ваш электронный адрес нашёл на сайте Альманаха. Здесь же познакомился с Вашим творчеством. Обращаюсь к Вам с просьбой позволить разместить Ваши рассказы на моём персональном сайте.
Ваше творчество мне близко. Жаль, что таких писателей сегодня почти не публикуют российские издательства. Особенно тронул меня рассказ о бабушке Насте.
С уважением, Иван Кутузов».
***
Письмо из России от молодого, как ей показалось, человека, взволновало Анисью Макаровну. Мало того, что это было первым и скорым признанием её литературного таланта, к ней обращался почтительный молодой мужчина. И, перечитав несколько раз письмо Ивана, Анисья Макаровна уже представила, как опекает и направляет его. Она не сомневалась, что он знаком с её биографией и неспроста обратился именно к ней – её богатый жизненный опыт и художественное дарование привлекли этого молодого человека. И кто знает, быть может, у них завяжется дружба, она пригласит его сюда, в Америку и поможет устроиться… И он всю жизнь, всю жизнь будет благодарен ей! Она станет рассказывать ему много и обо всём, а он будет слушать, слушать и удивляться тому, как много она страдала. Но она останется такой же простой и доступной. Ни одним словом она не выдаст снисхождения, которое невольно испытывает к бедному мальчику.
На другой день, твёрдо решив покровительствовать симпатичному юноше, Анисья Макаровна написала ответ: «Добрый день, Ваня! Дико извиняюсь за задержку письма. Да, на сайте Альманаха у меня много всякого. Прочитайте, присмотритесь, что понравится – можете взять. Но только меня предупредите, ЧТО ИМЕННО взято.
Хорошо?
Зайду на Ваш сайт, почитаю Ваше.
О том, что не печатают. Чтобы печатали, надо отправлять. Всюду и везде. Мы ведь этого не делаем.
Где Вы живёте? Чем занимаетесь? Где печатались? Я напишу ответ – вот и завяжется переписка!
Жду. С уважением, Анисья (или, как меня теперь называют, Эн)».
«Читать и присматриваться» Иван не собирался, а решил довольствоваться рассказом о бабушке Насте. Вступать в переписку с незнакомой дамой из Америки он не имел ни малейшего желания. Бегло прочитав письмо и удовлетворившись полученным согласием, Иван тут же забыл об американке. «Надо будет поблагодарить, – подумал он. – Впрочем, как закину на сайт, так и отпишу». Но спустя три дня, Иван снова получил письмо из Америки. Это было слово в слово давешнее послание от Анисьи Макаровны – ей, видимо, так не терпелось завязать переписку, что, не дождавшись ответа, она отправила его повторно.
Подивившись настойчивости, с которой американка напрашивалась к нему в корреспонденты, Иван счёл дальнейшее молчание невежливым и решил ответить.
«Здравствуйте, Эн!», – написал Иван и задумался. Конечно, первым делом стоило поблагодарить. Надо ответить и на вопросы. А для пущей вежливости и самому о чём-нибудь спросить.
«Благодарю Вас за согласие, – продолжал Иван. – В ближайшее время собираюсь разместить Ваши произведения на сайте. Сообщу обязательно, какие именно рассказы размещены.
В настоящее время живу с отцом и его сёстрами под Москвой. У нас свой дом.
Наверное, последую Вашему примеру и опубликуюсь в Альманахе. Всё, что я написал, есть на моём сайте».
Иван снова задумался.
«А Вы, если я правильно понял, живёте в США? – продолжал он. – Мне почему-то всегда грустно за соотечественников, вынужденных жить за границей, и особенно в США.
Всего Вам доброго.
С уважением, Иван».
Анисья Макаровна была уверена, что юноша не отвечает ей только потому, что не получил письма. Предположения подтвердились, когда Иван откликнулся.
Анисья Макаровна улыбнулась: ну, конечно! Живёт в собственном доме, наверное, связь плохая, дороги никудышные, все кругом пьяные. Какой уж тут Интернет!
И он ещё умудряется жалеть американцев! Либо он очень наивен и добр, либо завистлив как все русские, которых не пускают за границу.
В тот же день Анисья Макаровна написала: «Добрый день, Ваня! Насчёт моих рассказов – хорошо, договорились. Вчера изучала Ваш сайт. Заходила и на другой (параллельный, т.с.), где напечатан стишок Вашей однофамилицы(?), жены(??), сестры(???).
Хорошо. А каким Вы хотите видеть в дальнейшем Ваш сайт? Как часто собираетесь печататься в этом своём Альманахе? Чем заняты в литературе? Где печатаетесь? Направленность (вижу на сайте несколько христианский уклон)?
Да. Я живу в Нью-Йорке. С детства (корнями, как я это называю) жила в Карабаше. Потом Таджикистан. Тоже не Россия. Двадцать лет там. И вот уже четырнадцать в Америке. И знаете, Ваня, мне грустно за наших таджиков, принимающих в России смерть за кусок хлеба.
Грустно бывает, но уже привыкла жить вне России. Приезжаю часто. В Москву, в Челябинск, в Свердловск (Екатеринбург). Бываю за границей. Ничего.
Пишите. Всегда рада.
С уважением, Эн».
Новое письмо удивило и неприятно задело Ивана.
Иван видел, что совершенно неинтересен своей новой знакомой и отлично понимал, что переписка – дело пустое, и лучше бы его вовсе оставить. Но странное чувство, похожее на азарт, горячило Ивана и подсказывало, что отступать рано, и что самое интересное впереди. К тому же здесь была интрига: была какая-то «Ваша однофамилица», был «параллельный, т.с.» сайт, было пренебрежение в словах «этом своём Альманахе», было безразличие в повторяемых вопросах, скромное достоинство за словами «Да. В Нью-Йорке» и, наконец, что-то покровительственное во фразе «Всегда рада».
Из-за этих нагромождений выглядывал человек. И Иван уверил себя в том, что непременно должен обнаружить человека.
Вечером он написал: «Здравствуйте, Эн! Вы меня заинтриговали. Что значит “параллельный, т.с.” сайт? Как на него попасть? Кто эта однофамилица? Какой у неё стишок? Ни жены, ни сестры у меня нет. В общем, непонятно.
О том, каким сайт будет в дальнейшем, я не думал. Ничего особенного я от него не жду. Мне просто хотелось разместить там свои вещи и кое-какую интересную информацию в расчёте на то, что кому-то ещё будет интересно. Сайт ещё не заполнен. Я сам им занимаюсь, поэтому медленно.
Отправил в Альманах два своих рассказа. Присылайте и Вы.
Насчёт христианской направленности Вы правы. Как Вы сами относитесь к христианству?
Да, таджиков очень жаль. А когда-то все жили в одной стране. Был момент, когда кто-то всех нас рассорил. Вы, наверное, застали время, когда русских выживали из Средней Азии? Рассказывают переселенцы, как там над ними тогда издевались. Сейчас многое изменилось.
Как Вы оказались в США? Не собираетесь ли возвращаться? Моя двоюродная сестра по материнской линии тоже живёт в США, в Балтиморе. Для её родителей это трагедия.
С уважением, Иван».
С каждым письмом молодой человек нравился ей всё меньше и меньше. Он казался дерзким и, Анисья Макаровна почти не сомневалась, завистливым. Он, например, хочет уверить её в своём бескорыстии. А что такое его сайт, как не стремление к успеху и славе? И это нормально. Это здоровое влечение. Но зачем? Зачем надо разыгрывать из себя Дон Кихота? А к чему это враньё? Какая может быть трагедия, когда дети хорошо обеспечены и живут за границей? Что за великоросское чванство? Хотя… Всё же она повидала и знает людей! Многие здесь в США, да и сама Анисья Макаровна, утаивали от русских родственников все прелести жизни в Штатах. Это было почти негласной договорённостью, общепринятой практикой. Считалось, что это лучший способ избежать недоброжелательства со стороны нищей родни. Никто в Нью-Йорке не сомневался, что оставшиеся в России неудачники скрипят зубами от злости, что не сумели выехать ни в Штаты, ни в Европу, ни в Израиль.
Кто же поверит, что мальчик из подмосковного домика грустит о жителях Нью-Йорка? Да и что он может знать о жизни за границей?
Анисья Макаровна решила держать себя чуточку построже. Надо дать почувствовать дерзкому юноше, что она видит его насквозь и что с ней нечего финтить!
Она будет великодушной и не станет сердиться на молодого человека, тем более, действительно многое можно списать на его молодость. Да и пришло, пожалуй, время начать рассказывать ему о своих страданиях.
И на другой день Иван получил такое письмо: «Добрый день, Иван! Параллельный т.с. значит – там ссылка. Там у Вас ссылка, я зашла на другой сайт, но невнимательно прочитала фамилию – Евгения Купорова... Так что, небольшая неточность с моей стороны. Дико извиняюсь. Стало быть, всё в порядке – плагиата нет.
Неужели, ничего не ожидая от сайта, Вы пошли на расходы? Кстати, сколько стоит такой сайт? Сами делаете или с чьей-то помощью? Если нетрудно – расскажите. Мне казалось, что заводя сайт, человек преследует какие-то цели. Кстати, сайтик Ваш очень уютненький. Понравилось, что есть ссылки, странички, связанные с христианством, православием.
Меня зовут печататься в Альманахе. Однако… за свой счёт печататься не хочу. Меня печатают и без моих затрат в журналах и альманахах по мере моей высылки материала. Печатаюсь здесь. Готовится цикл моих рассказов на Урале. В Москве. Но много отвлекаюсь. Через месяц-другой начну отправлять почаще. Комплектую к изданию книжки. Буду подыскивать издательства…
Вань, если есть у вас опыт книгоиздательства, расскажите. Советы.
К христианству отношусь благоговейно-уважительно. Однако не фанатично.
А что касается таджиков, муллы (на службе у исламистов-фундаменталистов), фанатизм – главные источники, желающие переворота в стране, наведения исламского режима. Всё было прекрасно, хотя предпочтение отдавалось коренному населению. Но опять же, наверное, правильно. Всё-таки – Таджикистан. Директор – таджик, но гл. инженер – русский (скажем). Везде и всюду – русский язык. Без него таджик грамотным специалистом не будет. Парадокс. В своей республике!! Таджики – народ очень гостеприимный. Почтительный к старикам особенно. Уважительный. Другие нации (немцы, корейцы, узбеки, русские, евреи) жили десятками лет, отлично ладили. Находились те, которые кричали: “Русские, убирайтесь домой!”.
Мало-мальские стычки на корню пресекались. Но наступил момент, когда муллы в кишлачных мечетях, которые в короткий срок выросли как грибы, (по чьей-то мгновенной команде) мобилизовали молодёжь, мужчин на войну со своими же. Короче, долго рассказывать. Таджикские матери, рыдая, всячески старались спрятать своих сыновей, мужей... К русским относились неплохо. Что с одной стороны, что с другой. Однако русские фактически оставались заложниками их гражданской войны.
Под шумок пошёл криминал: убийства, грабежи. Под шальную разборку попал двоюродный брат моего мужа – убили. Началась кутерьма. Не люблю я вспоминать те времена. Летели пули... Не ходили троллейбусы. Сидели без света. Без воды. Рабочие дни отменялись. Труднее всех приходилось таджикским многодетным семьям в кишлаках без продуктов. Предприятия закрывались. Их грабили. Директоров-бухгалтеров – убивали. Идёшь на работу и не знаешь, вернёшься ли. Всюду комендантские посты. Власть менялась ежечасно. Дом обстреливался (находился как раз на границе их штаба). Много тогда погибло друзей-таджиков, коллег-таджиков. В этот момент мы и уехали. Ох... могла бы ещё написать, но... не люблю вспоминать то ужасное время.
Народ тот вспоминаю с благодарностью за то, что в своё время спас от голодной смерти беженцев во время Отечественной войны. Что много лет я там жила в мире и согласии. И... жалею теперь тех, кто когда-то орал “Русские – к себе в Россию”. Не ведали они тогда, наивные, что за русскими в Россию будут тянуться и они, зарабатывая жизнью на кусок хлеба.
Приглашения вернуться от таджикских властей были. Однажды более чем настойчивые... Мы – американцы. С паспортами, со всеми легальными правами. Всё. Обратного пути нет.
Что касается Вашей двоюродной сестры, не думаю я, что отъезд в Америку – это большая трагедия для её родителей. Если родители – старики, то законами Америки они обеспечены всеми мыслимыми и немыслимыми (по понятиям России) стариковскими программами, льготами (квартирными, лечением, уходом на дому, питанием, досугом, одеждой, мебелью и проч.) Плюс – пенсия по старости. Если моложе 65-ти лет и здоровые, то... работать надо. Если больные и моложе, то все перечисленные программы – к их услугам.
Конечно, есть трудности везде. Поначалу многих мучает ностальгия. Особенно от безделья. Многие своим русским родственникам просто-напросто не пишут правду, чтобы не вызвать... зависти.
Ну вот и всё на сегодня!! Много написала. Пишите Вы, Ваня. С уважением, Эн».
Прочитав письмо, Иван задумался. В его отношениях с американкой оставалось что-то недоговоренное. Он жалел, что связался с ней, но в то же время не хотел отстать от неё.
Они совершенно не интересовали друг друга. Более того, американка начинала раздражать Ивана.
Иван перечитал письмо ещё раз.
«…Мы – американцы. С паспортами, со всеми легальными правами. Всё. Обратного пути нет…».
И вдруг Ивана осенило. Из глубины души поднялось на поверхность и обнажилось то, в чём ещё недавно Иван не хотел признаваться себе. С самого начала, с того самого момента, как он увидел её портрет и прочитал автобиографию, эта дамочка раздражала его и возбуждала в нём любопытство. И своим первым письмом он хотел задрать её, как, бывает, мальчишки задирают непонравившегося им новичка. Но он не ожидал, что она проявит настойчивость и потребует продолжения. Ивану просто хотелось крикнуть: «Эй, ты! Как тебя там!». Но в драку он лезть не собирался. Зарвавшаяся и ничего не понимающая американка сама провоцирует его на столкновение. Что ж, она его получит…
Иван стал писать ответ.
«Здравствуйте, Эн! Вот всё и разъяснилось с фамилиями и сайтами. Что касается сайта, по-моему, ничего странного. Эти деньги я всё равно бы как-то истратил. Почему не на сайт? Мне показалось, что, говоря о целях, Вы имеете в виду мой расчёт на будущий успех и заработок. Так вот. Это не так. Есть идея, коммерческая составляющая отсутствует. А идею мне хочется открыть всем, хотя бы тем, кто заходит на мой сайт. К успеху я не стремлюсь. Но и бегать его не стану.
Насчёт Ваших публикаций – ничего не понял. Вас не печатают, потому что надо отправлять всюду и везде, а Вы этого не делаете. Но всё же Вас печатают без Ваших затрат, и даже готовится цикл Ваших рассказов, в то время как Вы много отвлекаетесь и ещё не приступали к поиску издательств. Зато комплектуете к изданию книжки.
Впрочем, это Ваше дело. Меня это не касается.
Насчёт христианства – тоже ничего не понял! Что Вы называете фанатизмом?
А Вы просто Ленин – “три источника, три составные части” беспорядков в Таджикистане выявили! Только кто же теперь верит в угрозу исламистов? Кишка у них тонка – перевороты устраивать. Идёт очередной передел мира, борьба за сферы влияния. Очевидно, кому-то было выгодным насаждение исламского режима и разжигание сепаратизма. Кому? Вот это действительно интересный вопрос.
То, что Вы рассказали про Таджикистан – страшное дело. Прежде всего, конечно, виноваты во всём этом внешние силы. Те, кто был заинтересован в развале СССР, кто сеял русофобию, сепаратизм и т. д. Тем, кто преследует геополитические интересы, никогда нет дела до простых людей. А люди, зачастую, покупаются на пустые лозунги и совершают непоправимые ошибки.
Что же удивительного в том, что в Таджикистане необходим был русский язык? Мы жили в одной стране, и государственный язык был один. Почему именно русский – по-моему, вполне понятно. И как же могли работать заводы без знания руководством русского языка? Так что никакого парадокса я тут не вижу.
А любопытно получается! Таджики, значит, тянутся в Россию, зарабатывая жизнью на кусок хлеба. А таджикские власти, более чем настойчиво, приглашают Вас вернуться! Чем же они расплачиваться с Вами намериваются? Вы, вероятно, очень ценный специалист.
Что касается родителей моей двоюродной сестры – да, действительно большая трагедия. И дело, конечно, не в деньгах и льготах. Они профессора МГУ, им уже по 60 лет, они работают. Конечно, получают они немного, наверное, их коллеги в США получают больше. Но то, что их дочка живёт в США, то, что внучка превратилась в американку – для них это небольшая честь. Да, они интеллигентные люди и уверены, что Россия интеллектуально переросла Америку на несколько столетий. И американские богатства здесь не при чём. Умение наживать капитал не всегда связано с интеллектом.
Людям трудно принять, что внучка воспитывается на культуре комиксов и боевиков и читает “Войну и мир” на английском. К тому же они патриоты и считают, что Отечество следует любить всегда, а не бегать по миру за длинной деньгой.
Россия медленно излечивается от комплекса неполноценности перед Западом, раздутым ещё в советское время. И это здорово! Это наша история. И число людей, мечтающих о загранице, сокращается. Конечно, многие ещё мучаются плебейской завистью к богатым соотечественникам, обосновавшимся за границей. Но, к счастью, всегда были, есть и будут люди, для которых Россия – не страна с низкими пособиями, а страна с великой историей и культурой. Такие люди знают, что мы – великий народ, сказавший своё слово. И со своими бедами, как это было не раз, мы справимся сами. И не пособия нам нужны, а вера в себя. Такие люди любят Россию не только богатой и сильной, но и поверженной. Как в Ветхозаветном рассказе о Ное.
Ещё недавно все только и говорили, что об Америке. Сегодня постепенно это становится дурным тоном. Да и не думаю я, чтобы Бунина или Куприна, Шестова или о.Антония Храповицкого, Шмелёва или Деникина ностальгия мучила от безделья.
Пишу это не для того, чтобы уколоть Вас или досадить Вам. Но, простите, мне надоели снисходительные разговоры о пособиях. Всем “русским родственникам” давным-давно известно, что такое Америка, и что не всё там так гладко, как Вы пытаетесь преподнести. Уверяю Вас, для многих Америка – пристанище безродных. Хотя бы там и сытно кормят. Так что завидовать нечему.
Ещё раз простите, коли что не так. Иван».
***
Письмо Ивана не понравилось Анисье Макаровне с первых же строк. Тон его был вызывающим, Анисья Макаровна чувствовала, что Иван смеётся над ней. Она стала отвечать сразу – по пунктам, не дочитав письмо до конца.
«Добрый день, Ваня.
Прекрасно, что у Вас свой сайт. Только, Вань… кто сказал – “странно”? Совсем не странно, если человек открыл сайт, причина – дело другое. У пишущего человека причина своя – чтобы читали. Тон Ваш… хм… не поняла, в общем.
Успех, известность – вот она и есть, та самая причина. И ничего странного… От души желаю удачи, известности…
Да, профессора МГУ получают мало. До стыдного мало. Я-то думала, что родители здесь, в Америке. Дала справку о положении дел со стариками здесь.
Если родители не с детьми в Америке – трагедия. Виноваты дети, что не приезжают к старикам. Да и родители при желании могли бы оказаться с детьми в Америке на постоянном проживании, чтобы этой самой трагедии не было. И не будет её, трагедии этой. И сами собой исчезнут все эти разговоры о патриотизме и о нелепом превосходстве русских над американцами.
Родителей к детям-американцам насовсем впускают в течение 8-12 месяцев. А вот детей после 21 года к родителям-американцам… – годами ждать приходится. До 21 года впускают значительно раньше. Таков закон…
О какой чести Вы говорите, Ваня? Не понимаю. Стать американцем – образ жизни. При чём тут… честь-то… В России получает человек российское гражданство, живёт постоянно. Имеет паспорт – россиянин. В Америке – американец. В Китае – китаец. По-Вашему… для стариков-профессоров американцы-дети-внуки – всё же честь… но… маленькая. Хм…».
Но ни насмешки, ни колкости Ивана не тронули так Анисьи Макаровны, как имя Ветхозаветного праведника. Всё внимание Анисьи Макаровны сосредоточилось почему-то на этом имени. «Ной… Ной… – думала Анисья Макаровна, судорожно припоминая всё то, что знала о строителе Ковчега. – Ной построил Ковчег… Всякой твари по паре… Может быть, это? Твари по паре? Нет… нет! Тогда что? Что же?». Отчаявшись вспомнить, она достала с полки Библию и, отыскав в Книге Бытия нужное место, стала читать: «…Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнажённым в шатре своём. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив её на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего…».
Здесь Анисья Макаровна остановилась. Она всё поняла: «Хам! Значит, Хам…».
А она-то думала подарить ему свою дружбу! Как же сразу она не разглядела этого гадёныша? В Америке ему чести мало! Сам сидит в грязи по уши и квакает. Знаем мы этих патриотов в ушанках: «Мы – народ Пушкина!». А от самих водкой разит за версту. А пусти такого патриота в Нью-Йорк – по магазинам побежит трусы тырить! Учить её вздумал…
«Ванюша, детка!! Остановитесь! – бросилась она к компьютеру. – Я Ваш словесный понос прерву. Не тот случай. Я не на лекции. Спасибо, дорогуша, за назидательную проповедь. Я найду квалифицированного лектора, когда мне он понадобится. Более того, Вам могу прочитать. Достаточно образованная. Смотрю, заносит Вас... аж самому, похоже, нравится. Неужели не стыдно? Ведь Вы меня знать не знаете! Я приоткрыла Вам кусочек стариковской жизни здесь... и вот она, зависть – во всей своей красе!!
Чего Вы мне рассказываете-то? О чём? Чему хотите научить, проповедник Вы мой!! Я жила и училась в России 28 лет. Вам от роду сейчас почти столько. Я знаю историю, литературу, русских (и не только) писателей-поэтов-философов уж никак не хуже Вас. Я жила в Таджикистане 21 год и училась истории, филологии, литературе, параллельно – строительству. Знаю несколько языков. Я писала статьи в газеты и журналы нашей страны, когда Вас ещё и на свете не было. Имела свой час на радио. У меня была прекрасная библиотека, которую я потеряла во время войны в Таджикистане. Хорошо – ноги унесли! Я люблю русских. Я болею душой за таджиков-узбеков. Я – интернационалистка. Муж мой – еврей.
Я бываю в России ежегодно. И не только в Москве. Бываю в церковных храмах и церквушках. В музеях. В театрах. И там, и здесь. Я созваниваюсь с братьями, сёстрами, с друзьями. Я переписываюсь Интернетом со всеми. Я вижу по Интернету все новости. Я имею (как и большинство русскоязычных) семь русских каналов (НТВ – две программы, ОРТ – “Время”, “Дом Кино” и т.д.) Я (мы) смотрю прямой 1-й канал. Русское радио круглосуточное 2 программы. Напрямую “Эхо Москвы”, главный редактор Венидиктов – нередкий гость программ, передачи Матвея Гонопольского, Ю. Латыниной, Бортникова, Познера, “Плавленный сырок” Виктора Шендеровича, Александра Минкина... и пр., пр. Передачи из Грузии, Украины, Белоруссии, стран Прибалтики и др. Пол-Нью-Йорка говорит на русском. Многие – в Америке. Все мы радуемся переменам к лучшему. Огорчаемся, когда плохо. Плакали за Дубровку. Изнывали в горе за детей Беслана. Рыдали за погибших 11 сентября и американцев всех национальностей и русских (русскоязычных) – полно их там было, кстати. Видим репортажи о терактах, смотрим Лолиту Милявскую, А. Малахова с его “Пусть говорят”. “Час суда”. Видим, как пирожками рождаются-выпекаются “звёзды”. Знаем, что отлупили горскую евреечку Жасмин. Знаем, что Ханга сделала подтяжку и после отпуска выйдет с новой программой. А пока крутят их с Даной в “Домино” по второму кругу... Всё знаем!! И что долги Путин с правительством Парижскому клубу отдал, и что заплатил один миллиард долларов премии Парижскому клубу за то, что раньше срока разрешили долги погасить. И что полученный в результате выплаты долга доход 7,8 миллиардов долларов разместят на устройство коммуникаций и дорог. И это – здОрово!!
И если заскучаем – садимся в самолёт и... через десять часов – мы в России-матушке. И ходим в магазины. И видим всё, что творится вокруг! И хорошее и плохое. И разговариваем с людьми – родными и не очень. И жалеем стариков голодных и детей бездомных. И профессоров нищих. И артистов – ох,.. бомжующих. И борьбу с коррупционерами. И успехи в кинематографии, и в экономике. Вот она – сегодняшняя история. Жизнь.
Из Америки молодёжь уезжает работать в Россию. Моя старшая дочка каждые три месяца ездит по делам фирмы по СНГ-вским городам и весям. Постоянно бывают с зятем в Мглине (в деревне под Мглином) у его родителей. Младшая дочка с зятем и внучкой по два раза в год ездят в Копейск (Челябинский) к его родственникам – он один сын у мамы с папой. Внуков возят постоянно.
Артисты поуезжали отсюда в Россию на заработки, и уж подолгу живут (Журбин – композитор с музыкантом-сыном и женой, Шифутинский, Л. Успенская, Аида Ведищева, скрипачи и пианисты, оперные певцы и певицы). Сюда приезжают только в отпуск. Да концерт-другой дать. И писатели-поэты из Америки в Россию подались (Евтушенко, например, который в Америке постоянный житель с документами) и наезжают периодически туда и обратно...
СТЁРЛИСЬ ГРАНИЦЫ! И слава богу!!
Чего Вы мне лекции-то взялись читать?? Частный разговор Вы превратили в рупор. Сидите уж и не корчите из себя великого историка-знатока, педагога Макаренко!!
Мучила ностальгия русских писателей. Они, несчастные, жили в другие времена (как говорит В.В. Познер). Во времена конских упряжек, никудышних дорог (про дураков не говорю – они были, есть и будут). И вонючих пароходов через океан. Когда добираться до Америки (и обратно) было пыткой. И не всем разрешено. Я же Вам сказала о стариках современных, которые (договорю уж) в минуты уныния или ностальгии подсядут к телевизору, радио, монитору компьютера (Интернета), выйдут на улицу и поговорят и послушают родную речь, и посмотрят русские спектакли, концерты. И сядут в самолёт и махнут от тоски в родные псковские края!..
А тогда... Одна тоска. Хотя и тогда человек, с утра до вечера занятый добыванием (думами о) куска хлеба, не очень ностальгировал. Не до этого было. А писателям-поэтам куском хлеба и была эта самая ностальгия, которая рождала в думах о родине, любимых, стихи, прозу. Человеку семейному, когда ртов десять-тринадцать, не до ностальгических дум было.
Вот так, милый. И не надо умничать.
Разрешение Вам на свои работы я снимаю.
Прошу Вас, забудьте меня! Я Вас не знала и знать не хочу».
Анисья Макаровна перевела дух, подождала немного и переправила письмо Ивану. А спустя мгновение, отправила письмо ещё раз. На всякий случай.
«Дура… – цедил сквозь зубы Иван, читавший письмо наутро. – Водевильная дура… Истеричка… Просит она меня…». В висках у него стучало, в груди клокотало. Если бы Анисья Макаровна оказалась рядом, он, вероятно, бросился бы на неё.
«Без малейшего сомнения и с превеликим удовольствием забуду Вас, симпатичнейшая Анисья Макаровна! – ударил Иван по клавишам компьютера. – Но напоследок не могу отказать себе в удовольствии объявить Вам, что содержательнейшее письмо Ваше, набранное десятым кеглем, занимает две страницы четвёртого формата. Так что если мои несколько строк Вы назвали “словесным поносом”, то сами-то Вы…
Завязывать переписку с Вами я не собирался. Вы напросились и настояли. Вы заставили меня прочитывать Ваши бессмысленные письма и придумывать к ним ответы. И Вы же требуете преклонения и согласия во всём! Не слишком ли с Вас будет? Допускаю, что Вы мечтали руководить и поучать. Вам захотелось покровительствовать без хлопот и благодетельствовать без затрат. Только я-то этого не хотел!
Да, мне немного лет. Но это ровным счётом ничего не значит. Как ничего не значит и Ваш возраст. Возраст – вообще плохой аргумент. И прибегают к нему только в том случае, когда нечего уж больше сказать.
Так или иначе, Вам следовало бы вести себя достойно. Однако я допускаю, что за четырнадцать лет Вы успели позабыть, что такое достоинство. Как забыли Вы, что такое честь. Да и к чему в Америке честь! Ведь её не продашь и не купишь, она не принесёт успеха.
Но всё очень просто. Кроме паспорта есть ещё Отечество и национальность. И выбирать Отечество – так же пакостно, как выбирать родителей. А если не всё ладно в Отечестве, то нужно делать так, чтобы стало лучше. А не бегать трусливо по заграницам.
Но делать лучше – это не значит переделывать под себя. Это любить и, прежде всего, знать. Потому что нельзя любить, не зная. Узнавать, понимать и созидать – долгий и напряжённый труд, гораздо более тяжёлый, чем сидение в лавке и беготня по Нью-Йорку.
Вы – американцы! Что ж, поздравляю. Наверное, Вы добились того, о чём мечтали. Вы получаете пособия и льготы? У Вас есть средства удовлетворять потребности и, следовательно, Вы беспорочны? Тогда какого чёрта Вы рисуетесь, расписывая свою никому не нужную и трижды неинтересную биографию! Зачем Вы пишите, что “засиделись” и “пора бы домой”? Зачем Вы лжёте?
Единственное, что показалось мне интересным в Вашем творчестве – это Ваша ностальгия. Но я ошибся. Вам вообразилось, что русские писатели должны ностальгировать. Вы и давай! Но Вы не учли, что у тех ностальгия была настоящей, а Вы фальшивы насквозь. Фальшива и Ваша литература с её приторной жалостью, фальшива и Ваша любовь к России, которая сводится к формуле: “ем с икрою бутерброд, думаю, а как народ”.
И не лгите на русских писателей, для них-то Америка была местом, “куда все жулики бегут”. И не смейте сравнивать себя с белой эмиграцией! Не марайте память людей, отлучённых от Отечества! Они бежали от верной смерти, а вы все – за сладкой жизнью.
Те люди знали, что такое честь и смотрели на мир другими глазами. Но Вам этого не понять. И прежде всего потому, что всякий грех, всякая мерзость боится одиночества и не успокаивается до тех пор, пока не соблазнит всех вокруг. Вот и Вам желательно превратить всех в торгашей.
Отчего Вы так любите слово “зависть”? Вы питаетесь ею. Вам, чтобы насытить своё тщеславие, постоянно нужно испытывать на себе чужую зависть. Ваше первое письмо ко мне было так добродушно, потому что Вы почуяли во мне новую жертву. Но Ваше добродушие – это добродушие удовлетворённого тщеславия. Не найдя во мне зависти, Вы разозлились.
Вы любите русских, жалеете таджиков. А какое, хотел бы я знать, у Вас моральное право жалеть таджиков? Вы сидите в Америке на пособиях и льготах и жалеете оттуда таджиков! Непостижимо! Вы учились филологии и строительству и не знаете о холодной войне? Вы не знаете, почему распался Союз? И кто это станет утверждать, что к нынешним бедам таджиков и русских Соединённые Штаты не имеют ни малейшего отношения? Жить сегодня в США – это то же самое, что в 40-е годы жить в Германии. Двум богам служить нельзя. А Вы лижете руку, которая поколотила Ваших бедных таджиков.
Вы позволили себе пристыдить меня, указав на то, что я не знаю Вас. Но Вы-то, Вы-то разве знаете меня, чтобы стыдить? Да и чего бы мне стыдиться? Разве я оскорбил Вас? Или мне должно быть стыдно того, что я думаю иначе, отлично от Вас?
Передач, о которых Вы говорите, я не слушаю и не смотрю. Кумиры Ваши мне не интересны. А то, что они потянулись в Россию – это меня нисколько не удивляет. Такие как Вы и Ваши кумиры всегда будут бегать по свету в поисках сладкой жизни. Беспринципность и неразборчивость – вот, что всегда отличало вас.
И времена тут не при чём. Люди, жившие во времена конских упряжек, возможно, были гораздо счастливее нынешних. А времена – это лишь внешняя оболочка. Люди испакостились – вот это так! Обмельчали, расслабились, вообразили, что нет ничего важнее прочного достатка.
Кстати, “Бог” пишется с большой буквы.
И ещё. Когда тринадцать ртов, надо дома сидеть на своём хозяйстве. А не таскаться по миру.
Прощайте.
P.S. Единственное, в чём я согласен с Вами – дураки действительно были, есть и будут».
Иван перечитал и подумал ещё что-нибудь приписать, но ему вдруг сделалось скучно, и вся эта история с американкой показалась глупой и досадной. Иван устал и выдохся. «Да ну её к чёрту! – лениво подумал он. – Что я в самом деле, как дурак! Нашёл тоже себе подругу… Тётка из ума выживает, а я с ней тяжбу завёл!».
Он удалил текст письма и выключил компьютер.
Весь следующий день Анисья Макаровна заглядывала в почтовый ящик. Настроена она была воинственно и предполагала, что Иван может обратиться к ней с извинениями или, напротив, с грубой отповедью. Анисья Макаровна заготовила слова и на тот, и на другой случай. Но, не обнаружив к вечеру долгожданного письма, Анисья Макаровна расплакалась. К ночи с ней случилась истерика, и муж отпаивал её какими-то дорогими американскими каплями.
Зимняя быль
Было уже довольно поздно: десятый час в начале. А старик Матвей только возвращался домой из города. На автобусе он добрался до Ахтырки и, миновав село, шёл теперь через заснеженное поле по узкой утоптанной чьими-то ногами тропке. Его родная деревня, Морозово, находилась в нескольких километрах от Ахтырки. Дороги туда никогда не было, и от тракта обычно добирались пешком. Оно бы и ничего, недалеко: сразу за полем речка, а как речку-то перейдёшь, за березняком, вот так тебе прямо в глаза и Морозово. Но зимой, когда рано темнеет, и всё небо заволакивает тяжёлыми, плотными тучами, так что ни луна, ни звёзды не проглядывают, и не видно собственную вытянутую руку, дорога кажется вдвое длиннее. Старик шёл медленно, почти ощупью, вытаращившись в темноту и растопырив зачем-то руки в огромных меховых рукавицах, точно пытаясь что-то нащупать рядом с собой. Это был ещё крепкий старик, высокий, с картинной седой бородой, густыми бровями, выдававшимися вперёд, как два козырька. Черты лица его были резкими, но красивыми: крупный хищный нос, скифские скулы, узкие тёмные глаза.
Он отлично знал дорогу, но темноты не любил, чувствовал себя неуютно, и, признаться, побаивался волков. Он думал о том, что ему, старику, следовало бы сидеть о сю пору дома, у горячей печи, а не разгуливать в темноте по заснеженному полю; и о том, что дела, по которым он ездил в город, можно было бы отложить до весны. Он винил во всём жену, старуху Макариху, как звали её в деревне, (фамилия старика была Макаров), и уже предвкушал, как выговорит ей за то, что она услала его в город, хотя нужды ехать не было никакой.
А между тем, поле кончилось. И Матвей, почувствовав уклон, скорее понял, чем увидел, что спускается к реке.
Здесь у реки одиноко растёт корявая верба. И от вербы нужно пройти по берегу метров сто к мосту.
Старик ещё замедлил шаг, и, приминая на спуске снег, по нескольку раз топал каждой ногой, желая убедиться, что вполне устойчиво стоит на снежных ступенях. Но вот, наконец, и верба. Матвей остановился, огляделся вокруг и, не увидав ничего, кроме веток одинокого дерева, крякнул. Потом отломил кусочек ветки, пожевал его зачем-то, плюнул досадливо и стал хлопать себя по карманам, отыскивая папиросы. Покурив и прокашлявшись после, Матвей, повеселевший и приободрившийся, снова тронулся в путь. Но, не пройдя и двух шагов, остановился. «Зачем зимой нужен мост через реку?» - вдруг пришло ему в голову. И, обрадовавшийся чему-то, Матвей усмехнулся. Не проще ли перейти реку по льду и дальше двигаться напрямик? Зачем отыскивать в темноте мост и тропку – только дорогу себе удлинять.
Не раздумывая долго, Матвей спустился на лёд и направился к другому берегу. Лёд был крепкий, надёжный – зима стояла морозная. И старик смело шёл вперёд.
Было тихо. Матвей слышал только скрип снега под валенками да редкий брёх собак из деревень. От мороза, он чувствовал, у него индевели брови, усы и борода, становясь жёсткими и холодными, слипаясь и стягивая кожу. Время от времени Матвей двигал бровями и вытягивал вперёд губы, силясь отделаться от неприятного ощущения.
Старику отрадно было думать, что скоро он будет дома. Войдя в дом, он сперва обобьёт в сенях валенки, потом, раскрасневшийся, с белой бородой, пройдёт в горницу. Старуха засуетится, станет ворчать и непременно скажет…
Но он не успел додумать, что же именно скажет старуха Макариха, потому что случилось что-то непонятное и страшное. Матвей вдруг почувствовал, что падает, куда-то проваливается, и в ту же секунду та кромешная тьма, что окружала его, стала ещё темней и кромешней. Всем своим телом, каждой клеточкой старик вдруг ощутил острую боль, похожую на боль от ожога. Сначала он не мог понять, что с ним происходит, но, нахлебавшись изрядно воды, Матвей сообразил, что в темноте шагнул в прорубь, и сейчас благополучно идёт ко дну. Старик испугался. Страх и понимание того, что произошло, придали ему силы, и он принялся барахтаться в ледяной воде. Но валенки, огромные, отяжелевшие валенки, мешали ему двигаться и тянули вниз. Не думая, старик сбросил их, благо в воде это оказалось нетрудно, и с силой забил ногами. В следующее мгновение вода вытолкнула его наверх, и старик обнажённой головой – шапку он потерял – ударился о лёд. Как это бывает с большинством несчастных, нашедших свою гибель подо льдом, он не мог видеть проруби в которую упал, лёд не пускал его наружу.
Тот страх, что испытал Матвей несколько секунд назад, сообразив, что угодил в прорубь, не шёл ни в какое сравнение с тем животным ужасом, охватившим старика, лишь только он понял, в чём же его настоящая беда, и что теперь его ждёт. Выбраться из-подо льда оказалось не так-то просто. Матвею вдруг почему-то вспомнилось и показалось смешным, что он так торопился домой. И Матвей подосадовал на себя.
С удвоенной силой он заколотил ногами в воде и заметался, пытаясь нащупать над собой прорубь. Но безуспешно. Точно за то время, что барахтался старик в воде, она успела замёрзнуть, и лёд сомкнулся над его головой. Стариком стало овладевать отчаяние. Силы его истощались, задерживать дыхание дольше он не мог. Он чувствовал, что коченеет, словно и сам превращается в кусок льда. Старик вдруг явственно понял, что надежды на спасение у него нет. И вот тут-то Матвей, тот самый Матвей, что с ехидством посмеивался над попами и верующими старухами, Матвей, богохульник и кощунник, возопил к Богу.
- Господи! – взмолился выбивающийся из сил старик.- Господи! Если ты есть, Господи, спаси меня!
И странное дело! В следующий миг страх оставил Матвея. Старик успокоился и совершенно уверился, что теперь уже ему ничего не грозит.
- И тут, точно сила какая за волоса меня подхватила, - рассказывал он впоследствии, - и прямёхонько в прорубь-то и вытянула…
Старику удалось не только вынырнуть, но и выбраться без усилий на лёд. Едва оказавшись на ногах, он, не помня себя, не разбирая дороги, без валенок, без шапки, в мокром, пропитанном водой, как губка, бушлате, бросился домой. Но, несмотря на то, что он чуть было не расстался с жизнью, старик ликовал. Он не испытывал потрясения, напротив, какое-то неизъяснимое блаженство охватило его душу, точно он и не в ледяной воде барахтался, а принимал целебные ванны.
Старик пробыл в воде недолго – немногим больше минуты. Но сколько испытал и передумал он в эту минуту – хватило бы на несколько лет…
- Нет, ребята, - вторит теперь Матвей, - что вы там ни говорите, а Бог всё-таки есть. А ежели б Его не было, то и меня б не было.
И с удовольствием, лукаво улыбаясь и щуря глаза, добавляет:
- А речка-то в том месте глубо-окая! Омуты там, сома мужики летом ловят…
Сумасшедший
Ох, и хитёр же Николай Макарыч! Он утверждает, будто он – «домашняя курица»! Стоит только войти кому-нибудь в его палату, как он тотчас садится на пол и машет руками на манер крыльев.
Что ж, поневоле сделаешься хитрым, коли под матрацем у тебя лежит миллион!..
Нет ничего более удручающего в природе, чем хмурое осеннее утро. Когда кажется, что кто-то разлил по земле серую грязь, и всё: деревья, протягивающие костлявые руки к небу; бурые травы, утратившие свой зелёный наряд и не успевшие ещё одеться инеем; да и самоё небо – печальное, смурное – всё вымазано этой отвратительной серой грязью. В такие дни царит в природе уныние, и скука смертная овладевает всякой тварью.
В одно такое утро Николай Макарыч Пыткин проснулся у себя в постели. Настроение его было прескверным. Он встал и подошёл к окну. Окно его квартиры выходило во двор, замкнутый с четырёх сторон пятиэтажками. Несмотря на ранний час, во дворе возились какие-то дети. Присевший на корточки перед грязной лужей мальчик, водил по дну толстой веткой, отчего на луже поднимались гребни, и чёрные брызги, как мухи, разлетались во все стороны. Другие дети с визгом бегали тут же. То и дело из подъездов выходили люди, спешившие на работу. В незастёгнутом пальто и в калошах вышла старуха, очевидно, бабушка мальчика, возившегося в луже. Завидев её, мальчик поднялся и бросил ветку. Другие дети тоже притихли. Старуха постояла немного с детьми, затем, схватив внука, потащила его домой. Товарищи мальчика с сожалением посмотрели им вслед, и поскольку игра их была расстроена, стали разбредаться. Двор опустел. И только прибежавшие откуда-то мокрые собаки, затеяли свару. Николай Макарыч постоял ещё немного у окна, поёжился и вернулся в постель.
Обыкновенно день свой Николай Макарыч проводит так. Встаёт он, по старой привычке, часов около восьми. Умывшись, он отправляется в кухню готовить себе завтрак. Каждое утро Николай Макарыч съедает одно яйцо и пьёт чай. Затем он надевает очки в тяжёлой оправе и садится читать газету. Он прочитывает все статьи и заметки, покачивая головой и покряхтывая. И глаза его, огромные из-за сильных линз, выражают озабоченность и тревогу. Отложив газету, Николай Макарыч отправляется гулять или в магазин. Вернувшись, он включает свой старенький телевизор и смотрит последние известия, после чего садится обедать. Обед у Николай Макарыча скромный, даже скудный. Постные щи, жареная картошка или каша – вот основа его рациона. После обеда Николай Макарыч любит перечитывать «Историю Государства Российского» Карамзина или же «Иностранцев о древней Москве». Почитав часок, Николай Макарыч снова включает телевизор и уж смотрит его весь остаток дня, прерываясь разве на чай или небольшую прогулку, при условии, что выдаётся хороший вечерок. В полночь Николай Макарыч укладывается спать и забывается тяжёлым, беспокойным сном, отчего по утрам у него нередко случаются головные боли.
Друзей у Николай Макарыча нет. Смолоду он дичился людей и стремился избегать шумных компаний. И вовсе не мизантропия причиной тому. Ему казалось всегда, что множественные недостатки не дают ему права занимать достойное место среди людей.
Страшная неуверенность в себе причиняла Николай Макарычу массу страданий. Порой мнилось ему, что из-за пыльных туфель или пятна на рукаве над ним смеются. И он тушевался и старался держаться в тени. Он не был красив, но ни в лице, ни в фигуре его не было ничего уродливого. Однако он сумел убедить себя, что рассчитывать на женскую любовь ему смешно. И всеми силами он избегал женщин, боясь натолкнуться на холодность или насмешки. Мнительность вынуждала его вести жизнь уединённую.
Да и работу он выбрал себе такую, чтобы как можно меньше видеться с людьми. Николай Макарыч – архивариус. Выучившись и получив специальность, он немедленно поступил на службу в музей. Однако карьера его не сложилась. И Николай Макарыч не продвинулся выше «м.н.с.». Сколько потом ни сменилось вокруг него людей, все видели его в этой должности, среди бумаг, как если бы это был не он, а гоголевский Акакий Акакиевич.
Никогда не отмечались в музее дни рождения Николай Макарыча, и только на пятьдесят лет, спохватившись, коллеги преподнесли ему вазу, чем вогнали именинника в густую краску. Он хотел было сказать благодарственное слово, но смутился и покраснел, отчего смутился ещё сильнее и сбился. Махнул рукой и от смущения прослезился.
А когда подоспело Николай Макарычу уходить на пенсию, то сделал он это так тихо, что никто даже не заметил его исчезновения. И лишь спустя неделю, когда хватились его, распространился по музею слух, что Николай Макарыч больше не работает, ибо ушёл на заслуженный отдых.
А Николай Макарыч, уединившись в своей однокомнатной квартире, принялся читать газеты и смотреть без устали телевизор, потому что других развлечений он позволить себе не мог. Да и не хотел.
Так и жил этот тихий человек, мечтавший порой о больших деньгах, путешествиях, о женской любви и прочих удовольствиях, доступных смертным; и не имевший ни одного из них.
Так жил он до того самого хмурого осеннего утра, когда, выглянув в окно, увидел копошащихся в грязи детей. Дети ужасно раздосадовали его, и, улёгшись в постель, он никак не мог отделаться от охватившего его раздражения, которое только нарастало в нём. Спустя немного времени, Николай Макарыч готов был уже лопнуть от злости на грязных детей, на старуху в калошах, на шнырявших по двору мокрых собак и на самого себя.
Никогда и ничто так не волновало Николай Макарыча и не производило на него такого тягостного впечатления. Теперь же к чему бы ни прикасался он мысленно, всё вызывало в нём жгучую неприязнь. Ему вдруг пришло в голову, что из детей, сидящих в грязи, непременно вырастут свиньи. Да, да! Именно свиньи... Это открытие так поразило его, что он даже приподнялся и сел на постели. Что ж, эти свиньи станут жить без всякой цели, кушать щи, народят себе подобных, затем помрут... И никто не вспомнит о них. А ведь как все они, однако, ценят себя и свои грошовые жизни!.. Поразительно... Так вот откуда берутся все эти преступления, убийства и ограбления ради карманных денег – все эти зверские, примитивные пороки! Их совершают такие вот свиньи, вылезшие из грязи, неразвитые и дикие...
Николай Макарыч так увлёкся своими рассуждениями, что провалялся в постели до вечера. Размышлял он в одном направлении, но зато уж на все лады. Ему даже стало казаться, что он постиг нечто совершенно новое, важное не только для себя одного, но для человечества в целом.
С того дня идея о том, что человек есть грязное животное, живущее безо всякой цели, захватила Николай Макарыча, заслонив перед ним всё остальное. Все его мысли отныне сводились к одной – к мысли о человеческом ничтожестве. Всюду искал и находил он подтверждения тому. Мерзость виделась ему на каждом шагу. Будь то грязь на улице или хамы-лавочники, или же новости из мира криминала – всё это радовало и в то же время пугало Николай Макарыча. Радость его походила более всего на злорадство. Глядя на общественные язвы, он посмеивался и потирал руки, как человек, знающий нечто и постоянно находящий реальное подтверждение своему знанию. Он злорадствовал, но вместе с тем в нём рос страх. Страх перед толпой, могущей снести, растоптать, уничтожить. Он рассуждал так: люди, не знающие, зачем и для чего они живут, ежедневно убивают, растлевают и продают в рабство себе подобных. За деньги такие люди готовы на всё. Так где гарантия, что завтра они не выбросят его на улицу, лишив жилья, не заставят собирать милостыню, отобрав паспорт, не отнимут на улице пенсию, оставив умирать голодной смертью. На все эти вопросы Николай Макарыч не мог дать себе ответ. И потому страх взял над ним верх.
Для Николай Макарыча началась новая жизнь. Он стал бояться людей. Отправляясь за продуктами, он брал с собой длинный кухонный нож, который прятал в кошёлку. Нож прорезывал ткань сумки, и кончик его всякий раз показывался наружу. Но Николай Макарыча это не смущало. Согбенный, плёлся он по улице, вглядываясь в лица проходивших мимо людей и силясь разгадать их намерения. До ближайшего магазина от дома Николай Макарыча было, самое большее, триста метров. Но и этот отрезок казался ему Большой Дорогой. Когда встречался он с кем-нибудь взглядом, то сердце его каждый раз ёкало: «Вот оно!» – думал Николай Макарыч и прижимал к груди кошёлку с ножом. И воображение рисовало ему дикие, одна другой ужасней картины. На каждом шагу видел он угрозу своей жизни. И вынужден был крутиться, чтобы хоть как-то защитить себя. Всякий раз, уходя из квартиры, он вырывал у себя волос и слюной приклеивал его одним концом к двери, другим к косяку. По возвращении он проверял целость волоса, дабы узнать, не пытались ли в его отсутствие проникнуть в дом.
Но как только Николай Макарыч решал одну задачу, воспалённый мозг его ставил перед ним новую. Услышав однажды, что в соседнем городе зэки совершили побег из тюрьмы, он рассудил, что естественнее всего для них было бы схорониться на время, а затем напасть на квартиру с тем, чтобы завладеть деньгами, одеждой и пищей. А где удобнее всего схорониться? Конечно, на чердаке. Оттуда можно перелезть на балкон верхнего этажа (Николай Макарыч как раз жил на пятом, последнем этаже), выбить окна, убить хозяина квартиры, тем более, если тот – одинокий старик; отсидеться в квартире, питаясь запасами убитого, а потом и самим убитым – этого хватило бы надолго, – ну, а после, когда страсти улягутся, можно, как ни в чём ни бывало, отправляться на все четыре стороны. Николай Макарычем овладело сильнейшее нервное возбуждение, от которого он был не в состоянии избавиться. Он не спал ночами, а сидя в постели, всматривался в окно, не покажутся ли беглые каторжники. Рядом с собой он ставил телефон, а в руках держал тот самый кухонный нож. Свет он не гасил, чтобы с улицы было видно, что он не спит.
Болезненные переживания породили в Николай Макарыче невероятную активность и поистине гениальную изобретательность, которые, однако, носили исключительно односторонний характер. Все свои жизненные силы он направлял лишь на то, чтобы оградить свою жизнь и имущество от возможных посягательств извне.
Он заметно похудел и осунулся. Перестал следить за собой, часто подолгу ничего не ел. Книг и газет он давно уже не читал, поскольку однажды ему вдруг пришло в голову, что он достаточно уж прочёл, и теперь это занятие потеряло для него всякий смысл. Случалось, что целыми днями он не выходил из дома, где сидел, запершись, прислушиваясь к тому, что происходит за дверью. Оттого что он перестал мыться и стирать одежду, в квартире у него распространился удушливый кислый запах. Сам Николай Макарыч ощущал его, но откуда этот запах исходит, долго не мог понять. Вскоре, однако, он сообразил, что в квартиру его кто-то – очевидно, соседи – напустил ядовитого газа. И с тех пор Николай Макарыч стал ходить по дому не иначе, как в повязке из старого полотенца.
Как-то, уже весной, он собрался за хлебом. Он оделся и уж было направился к двери, как вспомнил, что забыл включить радио. Обыкновенно, когда он уходил, то всегда включал радио, звуки которого, слышимые даже на лестнице, призваны были отпугнуть потенциальных грабителей, внушив им, что хозяева дома.
Николай Макарыч оставил сумку с ножом в прихожей и отправился на кухню, где в углу под самым потолком располагалась радиоточка. Николай Макарыч выкрутил ручку громкоговорителя, но к удивлению своему услышал, что голос диктора обращается к нему. Николай Макарыч замер и стал прислушиваться. Нет, ошибки не было. Диктор обращался к нему, к Николай Макарычу Пыткину.
– Пыткин! Пыткин! – говорил голос по радио.
– Вот я! – откликнулся Николай Макарыч.
– Слушай, Пыткин! Меня зовут Фёдор Триасучкин. Я из штаба дивизии огненных пулемётов. Я послан к тебе, чтобы руководить твоею жизнью. За особые сверхзаслуги ты принят в штаб нашей дивизии и назначаешься главнокомандующим всеми танковыми и мотострелковыми силами в мире. Вместе мы должны победить, потому что мы – творцы победы!
– А что я должен делать? – поинтересовался Николай Макарыч.
– Ничего. Живи, как жил. Ничего не бойся, ты теперь находишься под защитой нашего штаба. И ныне, и присно, и во веки веков.
Николай Макарыч, которого голос Триасучкина застал перед радиоточкой, так и остался стоять, внимая новому другу. Триасучкин понравился Николай Макарычу. Они долго беседовали, и Николай Макарыч узнал для себя много интересного. Так, например, Триасучкин объяснил природу отвратительного запаха в квартире Николай Макарыча. Действительно, завистники хотели отравить его и потому напустили ядовитый газ новейшей разработки. Триасучкин похвалил Николай Макарыча за находчивость, но посоветовал снять повязку с лица, а вместо этого замазать ноздри мылом. Таким образом газ не причинит ему вреда, потому что действует разрушающе только при попадании в организм через нос. Ещё Триасучкин сообщил, что в настоящее время в штабе проводится следствие по его, Николай Макарыча, делу. И если выяснится, что на нём нет никакой вины, его ждут «необыкновенные сюрпризы». На прощанье Фёдор Триасучкин пообещал вскоре снова выйти на связь с Николай Макарычем.
Николай Макарыч постоял ещё на кухне, обождав, не повторится ли «сеанс связи», потом прошёл в комнату и, как был в пальто и ботинках, повалился на кровать.
С тех пор каждый день он подолгу беседовал с Триасучкиным. Общение их начиналось так. Где бы Николай Макарыч ни находился, он всегда каким-то неведомым образом чувствовал, что Триасучкин ждёт «связи», и спешил на кухню. Там он выкручивал до предела ручку громкоговорителя и замирал в ожидании. Тотчас раздавался «в эфире» знакомый голос. Во время «сеансов» Николай Макарыч весь преображался. Он широко улыбался, глаза его лихорадочно блестели. Обращаясь к Триасучкину, он оживлённо жестикулировал и возбуждённо смеялся.
Однажды Триасучкин сообщил, что следствие по делу Николай Макарыча окончено. И поскольку за недостатком улик вины за ним не признали – хотя и были серьёзные обвинения, например, в поджоге музейного архива, – то отныне ему присваивается звание Трижды Героя Мира, и даруется право ношения всех существующих и несуществующих орденов и медалей всех стран, включая Антарктиду. А, кроме того, в будущем его ждёт солидная денежная премия.
Это известие очень обрадовало Николай Макарыча. Ему вдруг захотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью, рассказать о достижениях.
Надо сказать, что после «знакомства» с Фёдором Триасучкиным его состояние изменилось. Он перестал бояться – ведь теперь он находился под защитой штаба дивизии огненных пулемётов! А с тех пор, как он замазал себе обе ноздри мылом, его больше не беспокоил неприятный запах. Николай Макарыч повеселел и даже стал гулять.
Узнав о присвоении ему звания трижды героя мира, он отправился на улицу. Побродив немного, он остановился возле палатки, одной из тех палаток, что торгуют на каждом шагу всякого рода дурманом, и стал рассматривать людей. Внимание его привлёк парень, стоявший тут же. Парень курил. Николай Макарыч подошёл, лукаво заглянул ему в глаза и спросил:
– Знаете, кто я?
Парень смерил его взглядом, сплюнул и произнёс:
– Не знаю. И знать не хочу.
– Напрасно! – Николай Макарыч таинственно захихикал. Потом лицо его приняло торжественное выражение. – Перед вами, – строго сказал он, – Трижды Герой Мира, творец мировой победы...
Парень посмотрел на него глазами, полными – как показалось Николай Макарычу – зависти; и протянул:
– У-у-у!
Затем бросил сигарету и поспешил прочь.
Николай Макарыч тихонько засмеялся и побрёл домой. Всё же ему удалось произвести впечатление на этого парня!
Дома Николай Макарыч поведал Триасучкину о том, что случилось. Триасучкин остался недоволен.
– Никому не говори о своих наградах, – сказал он, – люди всё равно не поймут тебя. Вот если бы ты мог рассказать им о нашем штабе или о дивизии... Тогда, пожалуй, все назвали бы тебя героем... Ступай, расскажи о наших бойцах! Довольно бездельничать!..
Николай Макарыч устыдился. После разговора с Фёдором Триасучкиным он долго думал и нашёл, что не заслуживает тех званий и наград, которых удостоил его штаб. Он решил исправить положение.
На следующее утро он снова вышел из дома. С улицы доносился шум машин и людские голоса. Где-то тявкала собака. Николай Макарыч постоял немного у подъезда, прислушиваясь. Им вдруг овладело приятное чувство, какая-то неизъяснимая радость разлилась по всему телу. Он засмеялся и пошёл навстречу уличному шуму. Он шёл неспешно, глазел по сторонам и ловил взгляды прохожих, пытаясь угадать интерес к себе. Одна старуха как будто задержала на нём глаза. И он, обрадованный, поспешил за нею. Старуха немного прихрамывала. В одной руке она тащила большой пакет. Направлялась старуха к автобусной остановке, и, когда уже почти поравнялась с ней, подошёл автобус. Старуха прибавила шагу. Заторопился и Николай Макарыч. И через минуту они оба уже тряслись в автобусе.
Николай Макарыч пристроился за спиной у старухи и всё не знал, как бы ему начать свой монолог. Он наклонился к её уху и уже собрался было что-то сказать, как вдруг внутри у него шевельнулось нечто давно позабытое, шевельнулось с новой силой, и он, недолго думая, схватил старуху за грудь. Старуха ахнула, рванулась и дико завизжала. Все, кто был в автобусе, все повернулись к ним. Стоявшая рядом со старухой молодая женщина вздрогнула, закатила глаза и, схватившись за сердце, зашевелила губами.
– Ну... Чего ты? – прошептал Николай Макарыч старухе на ухо.
Но старуха не слушала.
– Батюшки!.. Помоги-и-ите! – кричала она. – Что ж это деется... Господи!.. Я уж восьмой десяток живу, а он лезет... Кобель облезлый…
Пассажиры зашевелились. Николай Макарыча оттеснили от старухи. Кто-то больно ударил его по лицу. Одновременно принялись утешать старуху, освободив ей место. Она всхлипывала и причитала:
– Восьмо-о-ой деся-а-аток...
Николай Макарыч разозлился. Он забыл уж, чего хотел от этой воющей старухи и не понимал, за что ударили его.
– Штаб дивизии огненных пулемётов!!! – закричал он.
Все повернулись к нему и замерли. Наступило молчание. Николай Макарыч обвёл пассажиров взглядом и, потрясая кулаками в воздухе, прокричал:
– Это львы Господни! Львы Господни!..
Его вытолкнули из автобуса и повалили на землю. Потом опять втолкнули в машину и долго куда-то везли. А он плакал и шептал:
– Как львы Господни...
В истории болезни Николай Макарыча Пыткина среди прочего записано:
«...Больной подолгу стоит в одной позе со склонённой головой. Часто неадекватно смеётся, делает неопределённые жесты руками. На момент помещения в клинику был возбуждён, выкрикивал набор фраз, не связанных между собой по смыслу. Ноздри больного были замазаны мылом «от воздействия ядовитых газов». Слизистая носа воспалена. Состояние больного время от времени меняется: заторможенность переходит в возбуждение, во время которого больной дурашлив. При появлении в палате медперсонала, садится на пол, машет руками и утверждает, будто он «домашняя курица...»
Анамнез
В воскресенье Наденька Егорова подалась на каток. Но поскольку кататься она не умела, то остаток дня ей пришлось провести в травматологическом отделении ближайшей поликлиники, подозревая у себя перелом правого запястья…
В травматологии тоскливо. На хромых стульях, прибитых спинками к длинной деревянной рейке, сидят больные. Сидят молча, не без любопытства наблюдают за тараканами, украдкой пробегающими вдоль плинтуса. Больных человек пять. Ближе всех к приёмной сидит очень пьяный джентльмен, явившийся за помощью в сопровождении матери. Глаза у джентльмена мутны и, похоже, не могут сфокусироваться ни на одном из предметов. Сам он, судя по всему, не вполне понимает, где находится, и оттого то и дело обращается к матери со странными вопросами:
- Мишка ушёл, что ли?
Мать этого джентльмена поминутно ворчит и отирает какой-то тряпицей окровавленный лик своего дитяти. Дитя же отмахивается и вновь интересуется судьбой Мишки:
- Да где Мишка?.. Ушёл?.. Пить дай!..
Мать вздыхает:
- Смотри, выродок… Дождёсся когда-нибудь… Сёдня вон нос своротили, а завтра, глядишь, и башку проломят… Алкаш чёртов!..
«Алкаш» внезапно поворачивается к матери и, пытаясь остановить взгляд на её лице, ласково вопрошает:
- Что вы врёте, мама?..
В это время из приёмной раздаются раздирающие душу крики. Очередь вздрагивает, и все головы, как по команде, поворачиваются в одну сторону, точно надеясь увидеть, что происходит там, за дверью, и кто же так зычно кричит. Голос молодой, женский. Одновременно слышны ещё два голоса. Один мужской, другой докторский.
Мужской уговаривает:
- Ну, потерпи, Машенька… Надо же снять ботинок… В ботинке нельзя…
- А-а-а! – страшно, по-звериному орёт Машенька.
Докторский голос не расположен к нежности:
- Да хватит ор-рать!.. Терпи, надо ботинок снять… Устроила истерику, горнолыжница хренова… Глаза б мои на вас не глядели…
- Бо-ольна-а! – ревёт Машенька.
- Больно, больно… Любишь кататься… Да замолчишь ты?!.. Терпи, говорю…
Из-за двери слышится возня, Машенькин рёв и мужской голос:
- Ну, Машенька!.. Потерпи… Ну, немножко осталось… Ну, ну…
Наконец Машенька испускает последний истошный вопль и умолкает.
- Родила, наверное! – острит прыщавый парень с перевязанным пальцем. Острит и сам смеётся.
Меж тем, дверь приёмной распахивается, и в коридор вывозят Машеньку. Машенькой оказывается девочка лет четырнадцати. Мужской голос принадлежит её папе, высокому, холёному мужчине в дорогой спортивной амуниции. В руке он держит Машенькин ботинок.
Горнолыжники почему-то очень раздражают доктора, мужеподобную молодую женщину. Она отвозит Машеньку в соседний кабинет на рентген и, воротившись, обращается к очереди:
- Видали?.. Горнолыжница хренова!.. Не успела на лыжи встать – нога сломана… Истеричка…
Очередь кивает головами:
- Да-а-а! Их теперь много развелось… Горнолыжников-то…
- Ну? Кто тут следующий?..
Следующим оказывается пьяный джентльмен с окровавленным ликом. Он плохо понимает, что происходит вокруг и оттого на призыв доктора не отвечает, а сидит так, будто зашёл скоротать время, и ничего ему ни от кого не нужно. Его мать, пылая гипертоническим румянцем, начинает объяснять доктору, что же случилось с её незадачливым сыном. Доктор молча выслушивает старушку, изредка кивает, давая тем самым понять, что улавливает суть дела, затем брезгливо, двумя пальцами берёт пьяного за рукав:
- Давай, заходи… Чо расселся?..
- Слышишь, чего тебе врач говорит?.. А ну, вставай…
Мать с доктором совместными усилиями запихивают пьяного в приёмную. Он мычит и отмахивается от них, как от надоевшей мошкары. А обе женщины, увлёкшись, ругают его, на чём свет стоит, выбирая при этом самые отвратительные, самые богомерзкие выражения.
- Считайте его коммунистом! – острит прыщавый вьюнош с пальцем. И снова смеётся в одиночестве…
Наконец подходит очередь Наденьки. Доктор долго осматривает руку. Щупает, нажимает, дёргает. И отправляет «на рентген».
Рентгенолог молода и жеманна, говорит с ленцой, не глядя на собеседника. Она устала и оттого сердита на весь белый свет. Люди и темнота раздражают её.
Она подводит Наденьку к огромному аппарату, сконструированному, судя по размерам и стонам, которые он издаёт при малейшем к нему прикосновении, еще Поповым.
- Сюда руку…
Поверхность, на которой больные призваны расплющивать повреждённые конечности, подставляя их икс-лучам, располагается на уровне колен взрослого человека. Поэтому, укладывая руку под рентгеновскую трубку, Наденьке приходится сгибаться в три погибели.
- Может, мне присесть?..
- Не старуха, не развалишься…
Наденька вздыхает и покорно скрючивается.
Предположительный вектор рентгеновских лучей намечен верёвочкой, сученной из подручных средств – из бинта. Каким-то образом верхний конец верёвочки крепится к рентгеновской трубке. На нижнем конце завязан узел величиной с орех, который, благодаря своей тяжести, не позволяет верёвочке раскачиваться, и таким образом служит системой наведения…
- В коридоре подожди… Будет готово – тебя позовут…
Наденька снова присоединяется к наблюдающей за тараканами очереди.
Шум, внезапно возникший и нарастающий, привлекает всеобщее внимание. Все головы поворачиваются в одну сторону, все взгляды устремляются в одном направлении. Входная дверь с треском разверзается, и на пороге отделения появляется необычная пара. На первый взгляд может показаться, что двое друзей, принявших лишнего, совершают прогулку. Но едва ли эти двое могут быть друзьями. Один из них одет в серую форму. На рукаве у него яркие нашивки, выдающие его принадлежность к некой организации. Человек, которого он заволакивает за собой, физиономию имеет распухшую, одежду оборванную, дух смердящий. Оба они пьяны. Внезапно человек в серой форме, схватив своего приятеля за шиворот, бьёт его, приятельской личиной об стену. Затем разжимает руку, и приятель в одно мгновение оседает и расплывается по полу. Возле него немедленно образуется кровавое озеро.
Доктор, очевидно заслышав шум, выходит из своего кабинета и, остолбенев, наблюдает за сценой избиения. Придя в себя, она обращается к человеку в серой форме:
- Э, козёл! Ты что делаешь?
Серая форма, направившийся было к выходу, возвращается и докладывает:
- Это я доставил… Вы того… заберите… помощь нужна…
У доктора от такой наглости глаза округляются до невероятных размеров.
- Да ты что, охренел? Я что, не видела, как ты его, семь-восемь, об стену того…
- Вы это… госпитализируйте…
- Я тя щас госпитализирую, семь-восемь… Козёл вонючий… Я щас милицию сюда вызову… Они тя жива госпитализируют…
Серая форма, оскорблённый таким неучтивым обращением, пробует возмущаться:
- Ты чо, дура, орёшь, восемь-девять… Я теэ щас поору… Я теэ щас так, восемь-девять, того, ты у меня рядом с этим ляжешь…
- Что ты сказа-а-ал?!.
Разговор принимает забавный оборот. Очередь, потупив глаза, делает вид, что не слышит этой милой беседы. В воздухе на парах хлора и спирта повисает неловкость. Ни в чём не виноватые больные чего-то стыдятся и избегают смотреть друг на друга.
- Что слышала… Чмо больничное, орать ещё будет, восемь-девять…
Лицо доктора багровеет и принимает зверское выражение. Она широким, тяжёлым шагом направляется к серой форме. Однако последний предпочитает ретироваться. Дверь за ним хлопает, и доктору ничего не остаётся, как вернуться к больным.
- Каз-з-зёл! – напоследок бросает она и жахает кабинетной дверью.
Очередь облегчённо вздыхает и оживляется. Возникшее напряжение постепенно спадает…
- У тебя, мать, переломы в трёх местах... - говорит доктор, рассматривая на свет снимки Наденькиной руки.
- Как?!
- Да так… Больно?
- Нет…
- Здесь?
- Нет…
- Что ты мне голову морочишь?..
- Я не морочу…
- Тогда здесь и здесь должно быть больно…
Доктор остервенело впивается в Наденькину руку.
- Да не больно мне…
Доктор какое-то время смотрит на Наденьку, о чём-то думает, затем встаёт и направляется к выходу.
- А ну, пошли, - бросает она Наденьке…
Для повторного снимка рентгенолог усаживает Наденьку на лоснящийся стул. Наденька, уже знакомая с системой, укладывает руку на предположительное место падения рентгеновских лучей. Но, недовольная вторжением доктора, рентгенолог выворачивает повреждённое запястье, как мокрую тряпку.
- Так положи… Не крутись… Они крутятся, а ты переснимай… Вот так держи руку…
- Так больно…
- Чему тут болеть-то?.. Гос-споди!.. Был бы открытый перелом, а то чуть припухло – бегут… Рентген им делай… Всё. Можешь идти… "Больно!.."
Спустя четверть часа, Наденька выходит на улицу. Перелом не подтвердился. Всё позади. Наденьке легко и хорошо. Тихо падает снежок, мягко ложится и блестит в свете фонарей. Лёгкий морозец румянит щёки. В природе умиротворение и благодать. Уже поздно. Вокруг ни души. Тишина…
Забыв про голод и боль, Наденька улыбается…
Разочарование
Во время оно Нелли Поликарповна Андрофагина, дама статная и необычайно яркая, занимала пост Второго Секретаря районного комитета, что давало ей целый ряд преимуществ перед обыкновенными гражданами.
Во-первых, в её распоряжении был просторный, прекрасно обставленный рабочий кабинет окнами в парк, где росли старые, источавшие в летнюю пору густой, ни с чем не сравнимый кисловатый запах, дубы. Послушный ветру, запах иногда долетал до начальственного носика, навевал романтические настроения и отвлекал тем самым от работы. А осенью, одевавшие золотом землю дубовые листья, пели для Нелли Поликарповны свою тихую прощальную песнь. Тогда Нелли Поликарповна грустила, подходила к окну и, казалось, вспоминала о чём-то очень далёком, но чрезвычайно любезном её сердцу.
Во-вторых, по городу Нелли Поликарповна перемещалась не иначе, как посредством служебного автомобиля "Волга". Самой последней модели, с обтянутыми светлой кожей сиденьями, с бархатными занавесочками на задних оконцах, но главное - с телефоном! И не покидая пределов "Волги", Нелли Поликарповна могла связаться с любой точкой нашей беспредельной Родины! Водитель "Волги" Стасик, молодой человек, обязанный работой своей наружности, - нет, нет! Не подумайте ничего дурного! Не только Нелли Поликарповну, но и Первого Секретаря, и всех "замов" возили исключительно красавцы! - Стасик подгонял "Волгу" к подъезду, а Нелли Поликарповна, эффектно появившись в дверях райкома, шествовала засим к машине с таким видом, что, казалось, говорила: "Хочу быть Владычицей Морскою!" Завидев её, прохожие останавливались и, должно быть, шептали: "Матушка-барыня! Благодетельница!". И только, что не ломали шапок.
В-третьих, Нелли Поликарповна ненавидела очереди и потому отовариваться предпочитала в райкомовской столовке, где продукты были наисвежайшие, и отпускали их, как выразился классик, "по самой сходной, отнюдь не обременительной цене".
Но главное! Главное, и это в-четвёртых, заключалось в том, что, благодаря своему положению, Нелли Поликарповна имела обширнейшие связи. Она была знакома с директорами магазинов, дружила с главными врачами, была накоротке с артистами и художниками, с профессорами и генералами! Одним словом, у Нелли Поликарповны было именно то количество друзей, которое, как известно, ценится гораздо более, чем такое же количество денег. А потому стоит ли и говорить о прекрасной квартире, о даче в тихом месте, о прочих вожделенных вещах. У Нелли Поликарповны было всё.
Единственное, пожалуй, чего у Нелли Поликарповны не было, так это своих собственных детей. Но и здесь "наша Нелли", как называли её за глаза сослуживцы, не осталась обделённой.
В ту пору, о которой идёт речь, единственной дочери старшего брата Нелли Поликарповны было лет двенадцать. Или что-то около того. Востроглазую девочку с толстой косой и ямочками на вечнорумяных щеках звали Машей. Это была самая обычная девочка-подросток. Немножко легкомысленная, немножко угловатая, но в целом - милое и доброе создание. Она не знала ни в чём нужды, - при такой-то тётке! - была весела и беспечна. Одно только и омрачало её юность. Чуть распускалась листва, и появлялись первые цветы, как опухал у Маши нос, краснели глаза - начиналась аллергия. Заболевание, надо сказать, пренеприятнейшее, не признающее лекарств и вечно морочащее головы эскулапам.
Куда только не возили Машу, каким врачам только её не показывали - ничто не давало результатов. Врачи, точно сговорившись, в бессилии своём не признавались, а и вылечить зловредную болезнь никто из них не мог.
Так было до тех пор, пока Нелли Поликарповна однажды не воскликнула:
- Надо показать её настоящим специалистам!
И добавила:
- Я договорюсь...
И Нелли Поликарповна принялась перебирать в уме всех своих знакомых, так или иначе связанных с медициной. Перебрав почти всех, она внезапно вспомнила, что какое-то время тому назад присутствовала на банкете по случаю присвоения звания академика хорошо знакомому ей по работе в районе, врачу.
Всем хорош был новоиспечённый академик: и умён, и обходителен, и дело своё знал. Одно только и смущало Нелли Поликарповну. Академик этот служил главным врачом в... лепрозории.
Нет, нет! здесь нет никакой ошибки! Именно в лепрозории. Иными словами, в заведении, где лечат от лепры.
Надо сказать, что лепра - плохая болезнь. Такая, что и татарину злому не пожелаешь. Начинается она незаметно - с лёгкого недомогания. Засим проступает на коже белыми пятнами, которые вскоре обращаются в язвы. И тут уж только держись! Слабеет зрение, пропадает голос, рассасываются кости - человек превращается в трухлявый пень, рассыхаясь и рассыпаясь заживо. Заболевших, слава Творцу, немного, но, помилуйте, нельзя же допустить, чтобы эти несколько прокажённых разгуливали по улицам, обедали в ресторанах и вообще вели активнейший образ жизни! В средние века прокажённых, наводивших ужас на население, попросту изгоняли из городов, запрещая им всяческие сношения с людьми здоровыми, и обязывая каждого носить на шее колокольчик, звяканье коего предупреждало окружающих о близости больного. Но в наш просвещённый век существуют лепрозории, где заболевших не только лечат, но и привлекают к посильному труду, что, как известно, всегда благотворно влияет на процесс выздоровления. Говорят, будто научились лечить лепру. Чёрт его знает, может, и научились! Но ведь что должен чувствовать заболевший при одной только мысли: "А ну как, не научились..."
"А ну как, не научились..." - кусала губы Нелли Поликарповна, разглядывая портрет вождя мирового пролетариата, висевший, вопреки обыкновению, не над столом, а в простенке над дверью.
"А ну как, не научились... Хотя... Чего я?.. В Советской стране достигнуты значительные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями. С холерой, с тифом, с этой... как её!.. С чумой! Ну, и с лепрой, наверное... Советское правительство осуществляет ряд мероприятий по оздоровлению трудящихся и улучшению медицинского обслуживания населения. В результате чего в целом по стране снижена заболеваемость инфекционными болезнями и смертность от них..." - так думала Нелли Поликарповна, скользя взглядом по рыжей бородке и галстуку в горошек.
К успехам в борьбе с заболеваниями примешивалось чувство благоговения перед словом "академик". Слово это манило, внушало доверие и обещало моментальное исцеление от всевозможных недугов. К тому же других знакомых академиков от медицины у Нелли Поликарповны не было...
И потому, усадив назавтра Машу на заднее сиденье автомашины "Волга", Нелли Поликарповна полным решимости голосом скомандовала Стасику:
- В лепрозорий!
Стасик мотнул головой, машина захрипела, зафыркала и, спотыкаясь, понеслась по пыльной дороге...
Уж кому-кому, а Маше идея посетить лепрозорий приглянулась необычайно. Зная о проказе из Стивенсона и Лондона, Маша воображала себе мешки с прорезями для глаз и колокольчики, звуки которых отдаются в душе страшной, нечеловеческой тоской. А дальше!.. Дальше воображение подсказывало ей самые невероятные, самые причудливые сюжеты. То представлялось, что прокажённые зачем-то выкрали и утащили её в лес. Чем заканчивалась эта история, Маша не могла додумать и потому переключалась на новую. И тогда виделось ей, как она, Маша, ученица шестого класса "В" самой обыкновенной средней школы вдруг неожиданно для всех изобрела лекарство от проказы. Вот так взяла и изобрела. Как именно, и что это за лекарство, Маша не знала, но только видела она себя в костюме сестры милосердия, проходящей по рядам и исцеляющей страшную болезнь. Халатик на Маше беленький, шапочка беленькая, из-под шапочки волосы струятся распущенные. А на ногах - туфельки на "шпильках"! Прокажённые лежат штабелями прямо на улице, а Маша к каждому подходит и лечит, лечит... А слава уж катится впереди красавицы-докторицы, и поступают ей приглашения из лепрозориев всего мира... Одноклассницы завидуют, одноклассники все до одного влюбляются в Машу, а учителя рвут на себе волосы и недоумевают, как это они раньше не распознали гениальную девочку. "Прозевали!" - думала Маша и даже злорадно улыбалась.
А машина тем временем выехала из города и вприпрыжку бежала по лесной дороге. Вскоре, однако, она остановилась и, дождавшись, пока кто-то невидимый отворит железные ворота, въехала на огороженную со всех сторон территорию.
Выскочившую из машины Машу постигло разочарование. Кроме нескольких двухэтажных корпусов, серого бетонного забора, да самого леса, вокруг ничего не было. Вместо прокажённых, приезжих встретили огромные чёрные ели, закрывавшие собою солнце. Вместо колокольчиков звенели лесные птицы. Ели то и дело тяжело вздыхали и покачивали пушистыми лапами.
Вслед за Нелли Поликарповной Маша прошла в один из корпусов и вскоре оказалась в самом обычном врачебном кабинете. Письменный стол, шкафчик со стеклянными дверцами, клеёнчатая кушетка и ширма. Необычна была лишь просунутая в открытую форточку мохнатая лапа ели, росшей прямо под окнами кабинета.
Когда Маша и Нелли Поликарповна вошли, навстречу им из-за стола поднялся не старый ещё, коренастый, с хорошим цветом лица человек. И если бы не огромные очки с сильными диоптриями, из-за которых глаза его казались не больше горчичных зёрен, про него можно было бы сказать "пышущий здоровьем". Это и был академик-лепролог.
- Нелли Полика-арповна! - развёл он руками при виде вошедших.
- Здравствуйте, Николай Валерьевич, здравствуйте...
- И вам здравствовать, почтеннейшая...
И Николай Валерьевич, в одну секунду очутившись возле Нелли Поликарповны, припал к её руке. Наконец он оторвался и обратил внимание на Машу.
- А это что за прелестнейшее создание? - спросил он, взвешивая в руке Машину косу.
- Вот, Николай Валерьевич. Прошу, так сказать любить... Племянница моя. Мария.
- Кто мо-ожет сравни-иться с Мари-ией ма-еэй!.. - пропел зычно Николай Валерьевич и, довольный, очевидно, тем, как удачно ему удалось подменить Матильду на Марию, засмеялся.
- Прошу вас, милейшие дамы... Прошу вас, - приобняв одной рукой Нелли Поликарповну, другой - Машу, академик подвёл их к двум, судя по всему специально приготовленным креслам. Усадив гостей, он поспешил занять своё место. И когда наконец все расселись, разговор возобновился.
- Я, Николай Валерьевич, изложила вам свою просьбу по телефону. Так уж вы не откажите. Дайте, так сказать, совет. Вы ведь у нас - светило!.. А то замучился ребёнок, совсем замучился...
При слове "ребёнок" Маша заёрзала в своём кресле и метнула на тётку недовольный взгляд.
Николай Валерьевич, слушавший Нелли Поликарповну с нежной улыбкой, прижал правую руку к груди.
- С удовольствием, уважаемейшая, с удовольствием. Чем могу - помогу. Я ведь с аллергиками постоянно дело имею. У наших у многих аллергия. Целый ряд инфекционных заболеваний, прелестнейшая Нелли Поликарповна, сопровождается аллергией. В том числе и лепра... Это - так называемая, инфекционная аллергия... Но у вас, как я понимаю, иной случай...
Отчего-то, когда академик заговорил о лепре, Нелли Поликарповне стало не по себе. Что-то такое вдруг зашевелилось внутри. Что-то липкое оторвалось от сердца и поползло вниз. И тотчас разлилось в животе противным холодком.
Чтобы отогнать от себя неприятную мысль, Нелли Поликарповна одёрнула пиджак и разгладила на коленях юбку. Но это не помогло. Нелли Поликарповной прочно овладело тяжёлое, гнетущее душу чувство. Чувство это стало расти, и вскоре достигло таких пределов, что Нелли Поликарповне пришлось сознаться самой себе, что же вдруг её испугало: "А ведь он здесь, наверное, прокажённых осматривает... - подумала она, обводя взглядом кабинет академика. - А иначе, зачем ему здесь кушетка, ширма... И склянки эти в шкафу... У-у-у…" Тут холодок побежал у Нелли Поликарповны от затылка вниз по спине, и она невольно подёрнула плечами. Ей вдруг неприятен стал сам академик. И громадные очки его с толстыми стёклами, и эта дурацкая привычка вворачивать на каждом шагу превосходную степень, и какой-то девчачий румянец во всю щёку, и кабинет его, и ёлка в окне...
И Нелли Поликарповна вспомнила, как во время поездки по Индии видела она прокажённых. Как несчастные с отвалившимися фалангами пальцев, с обезображенными, распаханными лицами расположились у берегов священной реки, нагоняя на проезжающих страх и внушая отвращение к себе, к недугу и даже к самоё реке, в водах которой они то и дело принимались беззаботно плескаться. Конечно, беззаботность эта была кажущейся, но одно то, что исковерканные, изуродованные болезнью люди купались в реке, а не лежали на смертном одре, наводила на мысль о том, что сами больные не понимали всего ужаса своего положения; и заставляло относиться к ним с настороженностью. Тут среди купающихся увидела Нелли Поликарповна Машу… Холодный пот проступил на челе Второго Секретаря. Краска сошла с ланит…
"Боже мой, что же это я делаю?! Ещё и Машку сюда притащила... Бес меня, что ли попутал... дуру старую... Да пусть бы она лучше ещё сто лет чихала... Подумаешь тоже, аллергия! Мало ли аллергиков... Ничего, живут, чихаючи..."
И так вдруг страшно стало Нелли Поликарповне, что захотелось ей немедленно, вот сию же секунду схватить Машу за руку и бежать, сломя голову. С трудом удержалась она, чтобы не сорваться с места.
- Носовые ходы опухают, глаза слезятся и краснеют... Преимущественно на пыльцу растений... Ага!.. Это - пол-ли-ноз! Сенная, так сказать, лихорадка... Ну-с, дитя моё, вот вам пилюли, - и академик достал из своего стола две маленькие коробочки, - вот капельки. Как принимать, я распишу... Дрожайшая Нелли Поликарповна, мне всё ясно…
Академик улыбнулся своей нежной улыбкой и принялся строчить что-то на клочке бумаги. Пока он писал, Нелли Поликарповна украдкой посмотрела на Машу. Развалившись в кресле, Маша теребила кончик своей косы, то распушая, то накручивая его на палец. Безразличие и лень, которые источала вся её фигура и поза, несколько успокоили Нелли Поликарповну. Но когда Николай Валерьевич подал ей листок, исписанный похожим на арабскую вязь почерком, Нелли Поликарповну снова передёрнуло. "Врачей как будто специально учат писать неразборчиво. Они, наверное, думают, чем непонятнее написано, тем ценней их рецепт…"
- Вот, очаровательнейшая Нелли Поликарповна, я даю вам лекарства и подробную к ним инструкцию... А вообще-то, главное в этом деле - выявить аллергены, а после свести к минимуму их влияние. И не стоит так волноваться…По большому счёту, всё это... пустяки... Аллергия, я имею в виду.
- Смотря с чем сравнивать, Николай Валерьевич... Смотря с чем сравнивать... - Нелли Поликарповна убрала рецепт в ридикюль и поспешила обратиться за помощью к часам. - Что ж, благодарю вас, любезнейший Николай Валерьевич... Вы очень добры... Если что - обращайтесь. Я - человек благодарный... А сейчас извините - пора!.. Дела!
И Нелли Поликарповна поднялась со своего кресла. Вслед за ней поднялся и академик.
- Ка-ак? Чудеснейшая Нелли Поликарповна! Может, пообедаете со мной? У меня здесь... неплохо готовят...
"Он ненормальный, что ли? Чего предлагает... И кто это у него здесь готовит?" - мелькнуло у Нелли Поликарповны. Но виду она не подала.
- С удовольствием, Николай Валерьевич, с превеликим удовольствием, но только в другой раз. Надо ехать - дела!.. Мария, пойдём. Всего доброго, Николай Валерьевич. Не провожайте...
- Ну, что ж... Спасибо, что заглянули ко мне, приятнейшая Нелли Поликарповна. Только вот что... я подумал… Вы, - и академик кивнул на Машу, - в институт-то собираетесь поступать?
- Ну, неужели, Николай Валерьевич! Что за вопрос!.. А в чём собственно дело? - Нелли Поликарповна задержалась в дверях.
- Если вы в медицинский надумаете, то... пожалуйста, не стесняйтесь... Я устрою.
- Благодарю вас, Николай Валерьевич. Обязательно воспользуемся. До свидания...
Налетел ветерок, еловая лапа в окне качнулась, прощально махнула и опять замерла.
- В райком? - спросил, заводя машину и зевая, красавец Стасик.
- Какой райком?! Домой, к маме домой! Быстро, Стасик!
И через полчаса "Волга" уже подъезжала к жёлтому пятиэтажному дому, где жили родители Нелли Поликарповны.
Ворвавшись в квартиру к старикам, Нелли Поликарповна первым делом потребовала спирту.
- Спирту? - удивилась мама Нелли Поликарповны, благообразная, чистенькая старушка в цветастом переднике, - Откуда же у нас, Неллюшка, спирт... Водки, наверное, есть бутылочка...
- Давай водку, мама! Только скорей!.. И ванну! Ванну горячую... Сначала Машке, потом мне...
Спустя некоторое время, Маша и Нелли Поликарповна, обе распаренные, с прилипшими ко лбу мокрыми волосами, пахнущие с головы до ног водкой, сидели на кухне и с удовольствием хлебали щи. Вдруг, точно вспомнив о чём-то, Маша отложила ложку.
- А таблетки такие, - произнесла она, втягивая носом, мне уже выписывали. От них только спать хочется...
Случай в Петровске
Однажды, в стародавние времена, начальник планового отдела какого-то строительно-монтажного управления Юрий Саввич Кошаткин за какие-то свои заслуги был провозглашён Ударником какой-то Пятилетки и премирован путёвкой. Путёвка была рассчитана на четверых и гарантировала всем четверым бесплатный двадцатиоднодневный отдых на пароходе под названием "Дмитрий Пожарский", который должен был выйти из Костромы, добраться до Ленинграда, вернуться в Кострому, после взять курс на Астрахань, а затем доставить пассажиров туда, где принял их на борт, то есть опять же в Кострому. Семья Юрия Саввича состояла из трёх человек: его самого, жены Лоры и двенадцатилетней дочки Леночки. Поэтому решено было подыскать на стороне четвёртого участника замысловатого круиза. Составили огромный список из знакомых и родных, кто, предположительно, смог бы забросить свои дела почти на месяц и отправиться в плавание. Личности, претендовавшие на четвёртую койку, были изучены тщательнейшим образом. И наконец семейный совет утвердил кандидатуру. Счастье выпало на долю Тони - родной сестры Лоры. Тоня работала в школе, поэтому всё лето была свободной. Кроме того, она не имела своей семьи, в связи с чем сохраняла некоторые холостяцкие черты: безалаберность, легкомыслие и непоседливость. Она обожала шумные компании, азартные игры и всякого рода авантюры. Словом, как нельзя лучше подходила в компаньоны. По телефону Тоня подтвердила, что готова хоть завтра плыть куда угодно.
Начались сборы. С укладкой вещей покончили довольно быстро - это было нетрудно. Гораздо сложнее оказалось переправиться в Кострому - порт приписки "Пожарского". В те далёкие времена перемещение по стране на общественном транспорте представляло собой нелёгкое дело, даже для ударников пятилеток. Чтобы отдать кровно нажитое и сэкономленное за год, а в обмен получить обрезок бумаги, дававший право взойти на борт самолёта или попасть в заплёванное купе поезда, который иногда отчего-то назывался "фирменным", граждане приходили к шести утра в кассы, записывались в бесконечные и многие числом очереди и стояли, стояли, стояли, пока наконец не получали заветный билетик.
Наши путешественники решили добраться до Костромы автобусом. Из Москвы и по сей день ходят "Икарусы" во многие города нашей необъятной. Такой автобус, не спеша, довезёт вас до места, а в пути сделает несколько остановок. Но главное, что люди, собаки, дома и коровы, лошади, птицы, столбы и заборы, камни и лужи, леса и поля, яблони, груши, дубы, тополя, церкви и рынки, леса и озёра... - ну, одним словом, всё, что только можно увидеть в окне, всё это не проносится со скоростью света перед носом, как в поезде. Нет, из автобуса не просто видны фигуры и силуэты. Из автобуса видна жизнь.
Вот бабка продаёт яблоки, а неподалёку от неё другая разложила огурцы и лук. А вот пьяный держится за дерево, а жена хлещет его какой-то тряпкой. Вот развалины церкви, на крыше у неё растут деревья, а ветер эти деревья раскачивает. Мальчишки дерутся на палках, а дворовый пёс рыжей масти с хризантемовидным хвостом пытается цапнуть одного из них за ногу. Вдоль дороги ходят куры и клюют камни. А во-о-он озеро, справа лес, слева луг. На том лугу застыли пёстрые коровы.
Картины сменяют одна другую. Потом вы въезжаете в город, где по расписанию автобус непременно должен сделать остановку. Водитель курит или идёт в местную столовку обедать. А вы, тем временем, на целых пятнадцать минут предоставлены сами себе. Потом водитель возвращается и, как цыплят, пересчитывает пассажиров. Все на месте. Можно ехать дальше.
Так вы едете из города в город, приближаясь к заветной цели. Так и добрейший Юрий Саввич благополучно выехал из Москвы в своей девичьей компании и благополучно добрался до Петровска, что на подъезде к Ростову Великому.
Давным-давно существовало некое село Петровское, впервые всплывшее в русских летописях в 1207 году. Тогда село принадлежало Ростовскому Петровскому монастырю. И ничем не отличалось от тысячи таких же сёл. Так бы и оставалось оно безвестным поселением, если бы в 1763 году не проехала через него по пути в Ярославль Екатерина II. Сложно точно сказать, чем именно, но только приглянулось село императрице. И вскоре Петровское стало Петровском - уездным городом. А в 1780 году на главной площади новоиспечённого города возвели собор в честь Апостолов Петра и Павла. И по сей день все улицы Петровска ориентированы на храм, который виден ещё на подъезде к городу.
Вот в этом-то Петровске, на той самой площади автобус с ударником пятилетки и его семьей на борту сделал очередную остановку. Водитель "Икаруса", пожилой человек весьма угрюмого и неприятного вида, посоветовал пассажирам не разбредаться. Затем, объяснив, где туалет, а где столовая, скрылся из виду. Уже удаляясь, он обернулся и на ходу пролаял: "Автобус стоит пятнадцать минут!"
В тот же миг пассажиры разделились на две партии. Каждая выбрала наиболее понравившийся маршрут из предложенных водителем. И вскоре главная площадь города Петровска опустела. Юрий Саввич тоже примкнул к одной из партий. Куда отправились его дамы, он мог только догадываться.
Вернувшись, спустя некоторое время на площадь, Юрий Саввич обнаружил, что его дочь в одиночестве сидит на покосившейся скамейке под каким-то корявым деревом. Среди пассажиров, с удовлетворённым видом прогуливавшихся вокруг автобуса, ни жены, ни её сестры он не заметил. Не было их и в автобусе.
- А где же мама с Тоней? - спросил Юрий Саввич у Леночки.
Девочка пожала плечами.
Юрий Саввич посмотрел на часы. Пятнадцать минут, назначенные водителем, уже истекли. И хотя автобус пока стоял на площади, а угрюмый водитель всё ещё не появлялся, ударником пятилетки овладело беспокойство.
- Где же они могут быть? Может, в туалете застряли?
- Нет, в туалете их нет. Я ведь там была, - ответила Леночка. - А, может, они в столовке?
- Да нет. Я только что оттуда. Их там не было… Странно…
Поразмыслив, Юрий Саввич решил, что беспокоиться рано. Тогда он и сам присел на покосившуюся скамейку под корявым деревом. Прошло ещё минут пять. Лора и Тоня не появлялись. Зато появился угрюмый водитель. Завидев его, пассажиры засуетились и бросились к автобусу.
Когда наконец все расселись, водитель хмуро спросил:
- Ну что, ехать можно?
- Подождите! Товарищ водитель! - взмолился Юрий Саввич, - Две женщины еще не подошли. Давайте их подождём. Пожалуйста!
Водитель опалил взглядом Юрия Саввича, но возразить не посмел.
- Ну, давай подождём! - буркнул он.
Прошло минут десять.
- Ну, долго ещё ждать? - полюбопытствовал водитель. - У меня как-никак расписание. Может, вы хотя бы сходите да поищите своих женщин?
И Юрию Саввичу ничего не оставалось, как строго-настрого запретить дочке покидать пределы автобуса, а самому отправиться на поиски.
- Не хватало, чтобы и ты ещё потерялась, - объяснил он своё решение девочке.
Оказавшись на улице, Юрий Саввич попытался оценить обстановку. Площадь, на которой стоял автобус, представляла собой пространство, с трёх сторон окружённое застройкой, с четвёртой же примыкавшее к дороге. В зданиях, выходивших фасадами на площадь, размещались магазины, столовая и правительство города.
Административное здание ни на секунду не заинтересовало Юрия Саввича. Он никогда бы не поверил, что его жена или её сестра способны, приехав в чужой город, немедленно отправиться по каким-то своим делам в местный Городской Комитет. "Скорее всего, они в магазине, - решил он, - но для очистки совести надо всё же сбегать в столовую". В столовой их не оказалось. Тогда Юрий Саввич отправился на поиски в магазины. Магазинов было два: один торговал хлебом, другой - универмаг - всякой ерундой, какой обычно торгуют провинциальные универмаги. Но Юрия Саввича меньше всего занимал петровский ассортимент. Тем более, того, что он искал, в магазинах не оказалось.
Тогда Юрий Саввич понял, что Лора и Тоня покинули пределы площади и теоретически могут сейчас находиться абсолютно в любой точке города. Он растерялся. Но вдруг вспомнил, что где-то тут неподалеку был туалет, про который говорил водитель, и где уже побывали многие пассажиры, включая Леночку. Рассудив, что дамы вполне могли заглянуть в помещение под литерой Ж и после прогулки, Юрий Саввич решил немедленно отправить туда свою дочь на разведку.
Он кинулся к автобусу. Но едва ступил на подножку, как услышал гневный оклик водителя:
- Ну что, нашли своих... женщин?!
- Пока нет.
- И долго вы их собираетесь искать? Это не такси, милый мой. Это рейсовый автобус. Рей-со-вый! Понятно? Он по расписанию ходит, а не так… когда кому заблагорассудится. Мы стоим уже лишних полчаса, а вы мне говорите: "Пока нет!"… Что делать-то будем?
- Ну, извините, - залепетал Юрий Саввич, - извините, пожалуйста! Может, ещё немножко подождёте? Что же нам, здесь оставаться? Куда же мы денемся? Ведь с билетами... сами знаете, как. Мы же никогда не уедем отсюда…
- Ладно, жду еще пятнадцать минут. И всё! Хотите - поезжайте с нами. А этих тут оставьте - будет им урок. А хотите - оставайтесь и ищите их, сколько влезет.
С этими словами он отвернулся.
Схватив дочку за руку, Юрий Саввич стремглав вылетел из автобуса, на ходу объясняя девочке свой план.
- Ты зайди туда и позови их. И подожди ответа…
Спустя некоторое время, девочка вышла из сортира.
- Там вообще никого нет. Ни одного человека. Я везде посмотрела.
- А ты их звала?
- Звала.
- И что?
- Ничего.
Вдруг страшная мысль, как змея, вползла Юрию Саввичу в голову. Он похолодел.
- Стой здесь! - скомандовал он дочке, а сам бросился на мужскую половину в надежде найти останки дорогих ему некогда женщин. Но вскоре вышел в растерянности.
- Их там нет. Странно…
К автобусу родственники пропавших без вести не торопились. Перспектива остаться на чемоданах в этом захолустном городишке их не радовала. А водитель, похоже, слов на ветер не бросал. Оставалась единственная надежда - беглянки вернулись и ждут их в автобусе.
Но - увы и ах!..
- Слушайте, я больше ждать не могу! Вы меня извините, придётся вам забрать свои вещи... Кто знает, где они? А, может… их убили, а мы тут ждём! Я бы вам посоветовал обратиться в милицию. А у меня - расписание...
Юрий Саввич весь красный, покрытый каплями пота, поминутно вытиравший лицо и шею платком, с отчаянием посмотрел на циничного водилу.
- Что ж, возможно, вы правы...
И уже через несколько минут в окружении сумок и чемоданов Юрий Саввич тоскливо смотрел вслед неуклюжему автобусу, следовавшему по маршруту Москва-Кострома.
- Папа, иди сюда, - позвала с покосившейся скамейки под корявым деревом Леночка.
Юрий Саввич вздохнул и опустился рядом с дочерью. Он отчаялся. Он решительно не знал, что делать. Он не хотел верить в убийство жены и свояченицы. Ему претила мысль о том, что их растерзанные тела, возможно, лежат в придорожной канаве, припорошенные листьями. Или брошены на пустыре "на съеденье птицам окрестным и псам".
Он сбился с ног, не понимая, за что хвататься. Искать ли женщин, но где? Куда идти в этом незнакомом городе? Если он двинется на поиски, что делать с Леночкой? Оставить её одну с поклажей - немыслимо. Может статься, воротившись, он не найдёт ни Леночки, ни поклажи. Отправиться на поиски, обвешавшись сумками и таща за собой дочку? А если в это время вернуться-таки сёстры? Легко представить, что тогда начнётся... Страшная безысходность обволокла мозг Юрия Саввича и парализовала его тело. Неизвестно, сколько ещё времени он просидел бы под корявым деревом, предавая себя страшным измышлениям, как вдруг Лора с Тоней радостно выскочили из какой-то подворотни. Радость их, судя по всему, объяснялась четырьмя тяжёлыми пакетами - по пакету в каждой руке. Завидев Юрия Саввича, они бросились к нему. Казалось, они ничего не замечали. Ни отсутствия автобуса, ни чемоданов, валявшихся на земле, ни страдания, написанного на лице у Юрия Саввича.
- Юрик, посмотри! Мы яблок купили! - закричали они издалека.
Сражённый таким коварством, Юрий Саввич остолбенел.
- Где вы были? - наконец прохрипел он.
- Да мы же яблок купили, - затрещала Тоня, - смотри какие яблочки. Ну, просто наливные! Здесь в овощном… По пятьдесят копеек… Такую очередь отстояли!..
- Где вы были, я вас спрашиваю!!! - взревел Юрий Саввич.
- Ты чего, Юрик? Я же говорю, мы в очереди стояли за яблоками. Яблоки хорошие, по пятьдесят копеек. А где автобус? - тут только до них стало доходить, что случилось что-то неладное.
Юрий Саввич ничего не ответил, а только развернулся к любительницам яблок спиной и в сердцах сплюнул.
- А зачем вам столько яблок? - спросила Леночка, всё это время хранившая невозмутимость.
Но дамы не успели ответить. Потому что, вдруг обернувшись, Юрий Саввич, потрясая в воздухе кулаками, прокричал :
- Чтоб вас с них пронесло!!!
Всё остальное происходило, точно во сне. Кое-как они купили билеты. Кое-как уехали вечером того же дня в Кострому. Кое-как успели на пароход. Яблоки они выбросили.
Федька
Зимой рано темнеет. Ещё только отбивают часы в родительской спальне четыре удара, а уж совсем темно за окном.
Федька, семилетний мальчик, приготовил уроки и теперь не знает, чем бы занять себя. Володя, Федькин товарищ, заболел и прийти сегодня не сможет, и Федька, так привыкший за последнее время к его обществу, отчаянно скучает. И уже подумывает, не сходить ли попроведать товарища: до пяти он, пожалуй, успеет. Но в это самое время во всём доме, где живёт Федька, гаснет свет...
Случилось так, что неделю тому назад Федькин отец уехал по делам в другой город. И по рассеянности увёз с собой ключи от квартиры. Остался у Федьки с матерью один на двоих комплект ключей. Мать хотела было дубликат сделать, да единственная мастерская в посёлке не работает – скобяных дел мастер запил. И Федьке с матерью пришлось выкручиваться. Утром Федька шёл в школу, мать запирала дверь и ключи уносила с собой. После обеда ключи оставались у Федьки. Федька делал уроки, гулял, но к пяти возвращался – матери дверь открывать.
Спервоначалу Федьке нравилось, что отец увёз ключи. Ужас, как любил Федька всякого рода недоразумения. И то, как они с матерью менялись в назначенный час ключами, представлялось Федьке забавной игрой. С вечера Федька торжественно говорил матери: «Сверим часы!». И долго потом крутил стрелки, озабоченный якобы тем, чтобы выставить точное время. «Часы испортишь!» – смеялась мать. Но Федька только сопел в ответ. А когда после школы или к пяти торопился Федька домой, то непременно нахлобучивал поглубже капюшон куртки – так, чтобы не было видно глаз – и на каждом шагу озирался, воображая, что за ним слежка и что идёт он на явку.
Но вскоре эта игра Федьке прискучила. К пяти часам во дворе только-только начинало собираться общество. Ребята жгли костёр, лепили из снега фигуры или снежную крепость, отправлялись на каток или на ледяную горку, что в школьном дворе, а Федьке приходилось тащиться домой, мать встречать.
А мать, между тем, домой не спешила. То в один магазин после работы зайдёт, то в другой... Однажды Федька слышал, как отец говорил: «Для женщин ходить по магазинам – это своего рода развлечение...» И теперь Федька не сомневался, что мать развлекается, пока он, бедный, поджидает её дома. И когда мать приносила домой большие пакеты и выкладывала их содержимое на стол в кухне, Федька думал: «Ишь, сколько всего накупила!». И с горечью заключал, что в отличие от него мать неплохо проводит время.
– Ходила бы днём по своим магазинам! – выговаривал Федька матери. – Я тебя в пять жду, а ты когда приходишь? Из-за тебя я гулять не успеваю!.. Сначала жду тебя, потом ужинать надо, потом уроки проверять, потом спать ложиться... Так вся жизнь пройдёт! Когда же я гулять буду?!
– Вот и ходи днём гулять, – улыбалась мать одними глазами.
И Федька чувствовал, что она смеётся над ним, но не понимал, что смешного в его словах. Ведь он и так гулял днём! Уроки он готовил быстро и уже в три выходил во двор. Но гулять было скучно, потому что двор был пуст. В одиночестве бродил он по двору, бороздил пушистый, неутоптанный снег, поднимая ногами белые вихри, и, от нечего делать, пулял снежками в кошек. Кошки с противными воплями разбегались, и Федька снова оставался один во дворе. Пробовал Федька ходить и на каток, и на горку. Но что, скажите, за радость скользить, если никто не толкает тебя, никто не визжит или не пытается запрыгнуть на твои санки сзади?
Единственное, пожалуй, что занимало тоскующую Федькину лень, были старик с собакой, появлявшиеся обычно часа в четыре из третьего подъезда. Старик был огромного роста, раза в три выше Федьки; имел седую длинную бороду и говорил глухим басом. Передвигался он очень медленно, но огромными, семимильными шагами. Зимой старик носил высокие валенки, зелёный бушлат и меховую шапку с распущенными ушами.
Собака его была размером с таксу, такого же окраса, но необыкновенно лохматая. Она едва доходила своему хозяину до щиколотки и безо всякого поводка сопровождала его, куда бы тот ни направлялся. Обуреваемая, очевидно, желанием защитить хозяина от возможных нападок, она облаивала прохожих тонким, но чрезвычайно звонким голоском.
Отношения между стариком и собакой были непростыми. И Федька не раз слышал, как старик совершенно серьёзно принимался разговаривать со своей спутницей. А собака, поворотив к старику морду, казалось, внимательно его слушала. И Федька нисколько не сомневался, что она не просто понимает решительно каждое слово, но и отвечает хозяину.
Говорил старик вежливо, даже почтительно. Никогда не использовал грубых слов и никогда не повышал голоса на свою рыжую подругу. И лишь когда долго не удавалось ему унять её охранный пыл и втолковать правила собачьего поведения на улице, тогда только появлялись в его голосе нетерпеливые нотки.
– Ну, чего разошлась-то? – гудел он. – Чего шумишь?.. Уйму на тебя нет!..
Но отчего-то старик никогда не звал собачку по имени, точно у неё и вовсе имени не было. Однако это обстоятельство нисколько не мешало их дружбе. И каждый день они уходили куда-то со двора, но менее чем через час возвращались, тихо переговариваясь.
А вскоре и Федька отправлялся восвояси, чтобы из окна смотреть, как выходят во двор ребята и принимаются возиться в снегу. И неудержимо тянуло тогда Федьку на улицу. Туда, где в воздухе пахнет арбузом и качается в столбах света алмазная пыль. Где мороз кусает за щёки и аппетитно скрипит снежок. Где серебряные коньки целуют голубой лёд, а санки, слетая с горы, шепчутся с ветром. Как странно, что, прогуливаясь в одиночестве, Федька всех этих прелестей не замечал. Но они являли себя Федьке и манили его, как только во дворе собиралась хорошая компания!
– Если тебе скучно одному, можешь позвать кого-нибудь из товарищей, – сказала как-то мать. – Вместе делайте уроки, а потом играйте у нас...
Эта мысль очень понравилась Федьке, и он решил приглашать к себе после школы Володю Шерстобитова. Володя нравился Федьке прежде всего тем, что был неистощим на выдумки и знал такое количество страшных историй, что с избытком хватило бы на десятерых рассказчиков. К тому же это был очень красивый мальчик. У него были совершенно светлые, почти белые волосы, но при этом тонкие чёрные брови и очень длинные, отбрасывающие на щёки тени, густые чёрные ресницы. Глаза его были сини, как небо июльским полуднем. И Федька невольно любовался им и втайне немножко завидовал и его красоте, и умению организовать игру.
Володя стал бывать у Федьки ежедневно. Правда, делать вместе уроки у них почему-то не получалось. Но зато они избивали диванные подушки или, забираясь на шкаф, прыгали на кровать. И обоим было очень весело. У Федьки, пока он летел до кровати, захватывало дух, и в животе что-то отрывалось и щекотало. А когда Федька приземлялся, кровать пружинила и снова выбрасывала лёгкое Федькино тело. А Федька думал только, что летать – это здорово! И что, когда вырастет, станет, пожалуй, лётчиком-испытателем.
Когда оба уставали, Федька извлекал из письменного стола маленькую круглую коробочку, где в специальных ячейках ждали своего часа «блохи» – плоские кругляки пяти разных цветов по десяти каждого цвета. В шестой ячейке хранились «лопатки» – пять вытянутых разноцветных треугольников. Выбирая кругляки красного цвета, игрок получал красную «лопатку», которой и понуждал «блох» прыгать, надавливая на них широким концом. Суть игры заключалась в том, чтобы загнать всех своих «блох» в «корзину» – небольшое углубление в крышке коробочки.
Играть всего удобнее было на ковре. И мальчики часами просиживали на полу, гоняя «блох».
А ещё устраивали под столом домик, завешивая просветы одеялом. И тогда столешница служила им крышей, а одеяла стенами. В домике можно было делать всё, что угодно: есть сухари, играть при свете ночника в карты, пробовать курить, но самое главное – рассказывать страшные истории. Ничего так не любил Федька, как слушать про чёрную руку, про чёрта с красными зубами, про старуху-колдунью, пожиравшую детей...
– Раз послала мама свою дочку в магазин за занавесками, – глухим шёпотом начинал свой рассказ Володя. – И говорит: «Любые занавески покупай, а чёрные не покупай!» Девочка пришла в магазин и спрашивает: «У вас есть занавески?» А продавщица говорит: «Только чёрные». А девочка забыла, что ей мама сказала и купила чёрные занавески. Вот приносит она их домой, а мама ей говорит: «Что же ты, дочка, наделала! Зачем ты купила чёрные занавески? Теперь мы все умрём!» Повесили они чёрные занавески и легли спать. А ночью занавески упали, и из них вышли чёрные чудовища и задушили дедушку. Утром семья просыпается, а дедушка задушенный. На следующую ночь опять семья легла спать, а занавески упали и из них вышли чёрные чудовища и задушили бабушку. Утром семья просыпается, а бабушка задушенная. А потом задушили папу и маму. Девочка осталась одна и вызвала милицию. Милиционер пришёл и спрятался под кровать. Ночью легла девочка спать, а занавески упали и из них вышли чёрные чудовища и хотели задушить девочку. Но милиционер выскочил из-под кровати и стал стрелять в чудовищ. Тогда чудовища опять превратились в чёрные занавески и сгорели...
Федька слушал, раскрыв рот, и сердце его приятно ныло. И замирал Федька в упоении, и, казалось, готов был всю жизнь слушать. И где-то под ложечкой у него сосало, и волосы прилипали ко лбу, когда представлял он себя на месте легкомысленной девочки. И страшно было Федьке, и сладко!..
Оказавшись вдруг в темноте, Федька нисколько не удивляется и не пугается, а только, подошед к окну, с горечью думает: «Опять Чубайс свет выключил!» Кто такой этот Чубайс, и зачем он так часто выключает свет в их посёлке, Федька не знает. Но зато всякий раз, как только гаснет электричество, взрослые ругают Чубайса на чём свет стоит. Мать говорит, что Чубайс «пьёт нашу кровь», а отец сокрушается, что «никакая зараза его не берёт!». И в Федькином воображении Чубайс предстаёт кем-то вроде Кощея или вампира Дракулы, о котором рассказывал Федьке Володя. Само имя «Чубайс» кажется Федьке страшным и непонятным, точно таится в нём какая-то угроза; и одновременно напоминает другие страшные и непонятные имена. И Федька рисует себе существо могущественное, жестокое и беспощадное. Наводящее ужас и вершащее судьбы, могущее так запросто выключать электричество.
Федька уверен, что смерть Чубайса очень надёжно спрятана – на манер Кощеевой смерти. А иначе совсем непонятно, почему он безнаказанно «пьёт кровь», почему никто не может с ним сладить, и почему «никакая зараза его не берёт». И втайне Федька мечтает когда-нибудь сразиться с Чубайсом, чтобы никто не смел выключать свет в их посёлке!
В окне Федька едва различает утонувшие во мраке дома, ослепшие фонари, уныло и бестолково торчащие из снега, и сооружения на детской площадке – чёрные, покореженные, похожие на скелеты доисторических животных. Луна рано взошла и висит теперь над соседним домом, не мигая, смотрит на Федьку. И от неё исходит бледный таинственный свет, волнующий Федьку и вселяющий в его душу беспокойство. Звёзды так слабо и болезненно мерцают, что кажется, им лень светить в полную силу. В тёмных окнах дома напротив забрезжили тусклые и унылые огоньки – это люди зажигают свечки и керосинки.
Точно намереваясь заглотнуть светило, приближается к луне курбатое сизое облачко, похожее на разверстую волчью пасть. И Федька видит, как тень от облака скользит по синему в лунном свете снегу.
Выходит из третьего подъезда высокий старик со своей собачкой. И, широко ступая, направляется куда-то прочь со двора. Наверное, у него есть какое-то дело вдали от дома, а может, просто обязательства перед маленьким другом. В любом случае, тьма не в силах помешать ему. Старик, по обыкновению, идёт медленно и о чём-то говорит с собакой. А та, неуклюже переваливаясь на своих коротких лапках и обратив к хозяину мордочку, ловит каждое его слово. И в лунном свете широкошагающий старик с развевающейся по ветру бородой кажется Федьке сказочным великаном. И собака его, так легко понимающая язык хозяина, тоже кажется Федьке необыкновенной, волшебной собакой.
Через двор, опираясь на палку, медленно, с трудом волоча ноги в тяжёлых валенках и обутых поверх калошах, бредёт старуха. В темноте лица её не видно. И оттого эта согбенная чёрная фигура походит более всего на призрак.
Где-то, должно быть, в соседнем дворе воет собака. Старуха останавливается и, не разгибая спины, поворачивается в ту сторону, откуда, как ей кажется, доносится вой.
Федька отходит от окна, косится пугливо на дверь своей комнаты и присаживается на краешек стула. Посидев так немного, он осторожно, стараясь не шуметь, переходит на диван. И снова, но уже приглушённо слышит Федька собачий вой. Забившись в угол, Федька поджимает под себя ноги и вытаращивается в темноту. Хочется пить, но Федька боится пошевелиться. В прихожей вдруг что-то щёлкает. Федька вздрагивает и тихо зовёт: «Ма-ама!» Никто не отзывается, а только, чудится Федьке, кто-то заходил и заохал в прихожей. Хочется Федьке закрыть глаза и не открывать их, пока мать не вернётся домой. Но Федька боится, что в комнату войдёт кто-то чёрный и страшный и незаметно подойдёт к нему.
Но вместе со страхом в Федьке говорит ещё одно неприятное чувство: Федьке стыдно бояться. Не дай Бог, мать или Володя узнают, что он испугался темноты! Володя, конечно, станет смеяться. А мать скажет: «Здоровый мужик, а темноты боится! Э-эх! Трус несчастный!» И тоже засмеётся, но одними глазами.
Федька аккуратно слезает с дивана и крадётся к столу, за которым приготовляет уроки. Почему-то уверен Федька, что в его положении лучше не шуметь и не делать резких движений. На столе, упершись локотком в стену, стоит высокая железная кружка, а в ней – огарок белой свечи. Мать специально выделила Федьке эту кружку, чтобы он не залил стеарином весь дом. Рядом с кружкой лежит коробок спичек, относительно которых мать взяла с Федьки клятву, что тот не станет понапрасну, из баловства жечь их.
Федька достаёт спичку и провозит ею по коричневому шершавому бочку коробка. Пахнет серой. Свечка трещит, пламя, как лисий хвост, мечется в кружке. Но вот фитиль выпрямляется, свечка стихает, и огонёк приветливо кивает Федьке из тёмного жерла.
Федька берёт кружку и стоит в нерешительности. Заметив в окне какое-то мелькание, он в ужасе поворачивает голову. В стекле отражается маленькое бледное лицо, чуть подсвеченное вырывающимся из кружки слабым светом; и огромные испуганные глаза. Федька рассматривает своё отражение и думает, что мать, должно быть, ещё не скоро придёт. Тогда Федька снова ставит на стол свою кружку, раскрывает первую попавшуюся тетрадку и вырывает из середины двойной лист. Толстым зелёным фломастером что-то пишет Федька на развороте. Потом в кармане брюк нащупывает пластинку жвачки и, отбросив куда-то в сторону скомканный фантик, принимается энергично разжёвывать пахнущую мятой полоску.
С листом бумаги в одной руке и с железной кружкой в другой, Федька медленно продвигается в прихожую. Сердце Федькино стучит так часто и так громко, что Федька слышит его удары и чувствует, как оно бьётся о рёбра, точно хочет выскочить наружу.
В прихожей никого не оказывается. Но теперь уже в кухне Федька отчётливо слышит какие-то звуки, как будто кто-то прищёлкивает языком.
С быстротою молнии Федька прыгает в валенки, хватает куртку и выскакивает вон из квартиры.
На лестничной площадке Федька облегчённо вздыхает – здесь хоть и темно, но не так страшно, как дома. Поставив кружку с дрожащим внутри огоньком на пол, Федька достаёт изо рта жвачку, делит её на два равных кусочка и приклеивает к верхним уголкам неисписанной стороны своего листа. Затем прикладывает лист к двери, так высоко, как только может дотянуться, и большими пальцами с силой надавливает на мягкие, тёплые даже через бумагу комочки. Комочки тотчас расплющиваются, и Федька чувствует, как жвачка в нескольких местах вылезает из-под бумаги. Подумав немного, Федька отрывает вылезшую резинку и суёт в рот. Потом подхватывает кружку и медленно, чтобы не оступиться в темноте, начинает спускаться.
До первого этажа Федька добирается благополучно: пламя резвится в кружке, свеча потрескивает, и до Федькиного носа долетает уютный запах стеарина. Но едва только Федька спускается с крыльца и направляет стопы свои в ту сторону, куда каждое утро уходит мать, как первый же, ничего не стоящий порыв ветра задувает свечу. Федька останавливается в недоумении и заглядывает в кружку. Пластаясь и клубясь, в кружке гуляет дымок. Федька задумывается, смотрит на ввалившиеся окна своего дома и представляет, как возвращается по тёмной лестнице без огня, как снова оказывается в квартире, где кто-то вздыхает и прищёлкивает – и решает, что вполне найдёт мать при свете луны. И трогается в путь...
Когда мать, с которой Федька где-то разминулся, подходит к двери своей квартиры, то в лунных лучах, пробивающихся сквозь небольшое оконце на лестничной площадке, она видит неизвестно как прилаженный к дверной обивке белый лист, с двумя продолговатыми дырками посредине. На листе очень крупными и корявыми зелёными буквами значится:
Дарагая мама! Ключ пад коврикам. Пращай твой сын Федя.
Квартира
В маленьком подмосковном городе, известном своими промыслами и монастырём, жила одна дама. Так, ничего особенного: высокая, худая, покрытая сетью морщин и давно уже убелённая сединой. Что ж, годы берут своё, а их количество, как известно, никогда не переходит в качество.
Звали ту даму Роза Ивановна Пристяжная. Сложно сказать, почему, быть может, в силу робкого характера, а может, благодаря причинам более тонким и невидимым человеческому глазу, но только Роза Ивановна представляла собой тот тип людей, которых обыкновенно называют неудачниками, и которых злая судьба нещадно награждает оплеухами и затрещинами. В юности своей мечтала Роза Ивановна сделаться художницей, но отчего-то сделалась конструктором. Потом замуж мечтала выйти, семьёй обзавестись, но отчего-то не вышла. Жила Роза Ивановна с матерью-старушкой. И кроме этой сухонькой старушонки, с трудом передвигавшей ноги, никого не было у Розы Ивановна на всём белом свете. Младшие сёстры? У них свои семьи, свои заботы. А у Розы Ивановна - только мать. Хотелось бы и Розе Ивановне, конечно, внуков нянчить. Но не было их. Никому не нужны были её ласки, заботы, её тепло. Не было у Розы Ивановны друзей, не было любовников, не было увлечений, не было страстишек. Никого и ничего. Вот и дарила она свою нерастраченную любовь старушке-матери. Так и жили вдвоём. Старели потихоньку. Чем существовали эти две женщины, - они и сами не знали. Жалкая пенсия. Скудная помощь родных. Вот и все их доходы.
А когда-то работала Роза Ивановна на местном механическом заводе. Тридцать лет за одним столом просидела. Точно родилась в белом халатике с карандашом в руке. Нельзя сказать, чтобы работала она ревностно или работу свою любила. Но так уж распорядилась жизнь. И Роза Ивановна, послушная, отмеченная печатью безволия, оказалась на том самом заводе. Звёзд она с неба не хватала. Но и не хуже других была. Отдыхать вот каждый год ездила. Отгулов, бывало, заработает в колхозе и всё лето гуляет. Советский Союз объездила, за границей от профсоюза побывала. В общем, неплохо жила, интересно. Грех жаловаться. А подошло время - и вышла Роза Ивановна на пенсию. Примерно тогда же вышла на пенсию и советская власть...
Но прошло несколько лет - вроде бы наладилась жизнь. А может, приспособились люди. И появились в подмосковном городе новые магазины, второй рынок, автомобильные стоянки, коттеджные поселки, вырос в самом центре, аккурат напротив монастыря, "Макдональдс", взметнулись на пустырях дома-карандаши, длинные, тощие и островерхие. Стали продаваться повсюду квартиры, автомобили и прочие предметы роскоши и благосостояния…
И Роза Ивановна, поддавшись всеобщему торговому ажиотажу, огляделась однажды у себя дома и обнаружила, что на кухню нельзя протиснуться, не ударившись обо что-нибудь коленом или плечом. Что в ванной комнате с трудом умещается стиральная машина. Что приходящие в гости мужчины, кто повыше ростом и пошире в плечах, задевают головами люстры, а в дверные проемы проходят не иначе, как боком. Что зимой на подоконниках лежит снег, а батареи даже в лютый мороз едва теплые. Что подъезд похож на пещеру Гадаринскую, где тьма и грязь непреодолимые.
И вот, увидевши, как обстоят дела со старым жилищем, Роза Ивановна вдруг призналась себе, что давно уже втайне вынашивает дерзкую, для человека её достатка, мечту о переезде в новый дом. Иными словами, Роза Ивановна утвердилась в желании покинуть свои панельные хоромы и заселиться в один из кирпичных "карандашей". И с этой целью она решилась продать свою старую обветшавшую квартиру, а на вырученные деньги купить новую.
Все ценное, чем владели Роза Ивановна и её старушка-мать - это известная уже квартира и огромное полотно, принадлежавшее кисти местного живописца. На полотне был изображен монастырь, прославивший город. Зима. Кипит под стенами обители торговля. Какие-то ухари мчатся в санях. Румяные девушки в цветастых платках покупают баранки. Лают собаки. Валит пар от лошадей... Хорошая картина. Розе Ивановне ее подарили когда-то. В то время местный живописец ещё не был известен публике, и работы его ничего не стоили. Но прошли годы, о живописце узнали. И тотчас его полотна подскочили в цене. А Роза Ивановна стала обладательницей произведения искусства.
Квартира и картина - вот те два сокровища, на которые Роза Ивановна делала ставку. Под залог которых, она решилась занять денег на новое жилище. Перебрав в уме всевозможных кредиторов, Роза Ивановна остановилась на одном молодом человеке, её дальнем родственнике. Этот молодой человек, родом из такой глуши, что и подумать-то страшно, прорвался-таки однажды в столицу. И дабы закрепиться в ней, кинулся зарабатывать капитал, не очень привередничая и не разбираясь в средствах. Вскоре он действительно сколотил кое-что, удачно женился на уроженке здешних мест и осел в Москве, по-видимому, навсегда. Родственник Розы Ивановны необычайно гордился своими, как ему казалось, успехами. Он любил рассказывать о личном восхождении, любил давать советы и поучать на собственном примере. Он не был, что называется, приятным человеком, но денег взаймы дать мог. Хотя бы из соображений честолюбивых. К нему-то и отправилась Роза Ивановна.
Скорее не умом, а чутьём она понимала, как вести себя с ним. Стараясь казаться несчастной, не забывала время от времени похваливать его прозорливость и расторопность. И упирала на то, что в нём - её последняя надежда. Молодой родственник Розы Ивановны внимательно и сочувственно её выслушал, привёл несколько примеров из своей жизни, посоветовал, как лучше действовать, и дал-таки требуемую сумму. На три месяца.
Окрылённая и помолодевшая, вернулась Роза Ивановна в свой город. На следующий же день она отправилась в агентство недвижимости и заключила там сделку: деньги против ордера на трёхкомнатную квартиру в недостроенном "карандаше". За три месяца Роза Ивановна надеялась успеть переехать в новую квартиру, затем продать старую, и отдать долг. Предвидя, что старая может оказаться дешевле новой, она рассчитывала покрыть разницу монументальным полотном.
В агентстве Розу Ивановну заверили, что квартир осталось немного. Из предложенных она выбрала на предпоследнем тринадцатом этаже. Выбрала, подписала какие-то документы, достала деньги. И вот тут-то сердце зашлось у бедной Розы Ивановны, и совершенно она поникла духом. Казалось бы, должна радоваться. Но отчего-то ей вдруг сделалось страшно. Шутка ли - такие деньжищи занять и уже потратить? Да Роза Ивановна отродясь таких сумм в руках не держала и вообще ничего подобного не делала! "Ишь, как я разошлась-то! Сама от себя не ожидала.., - подумала Роза Ивановна и усмехнулась, - как будто у меня денег этих, что грязи. Что ж теперь будет-то?"
По пути домой она всё размышляла о свершившемся: "Но с другой-то стороны, не купи я сейчас, другого раза ведь может не быть. Эдак я до смерти просижу в своей старой конуре. Нет, такую возможность никак нельзя упускать!" И так она сама себя ободрила, что неожиданно переменилась и в настроении, и будто бы даже в характере. Она вдруг поняла, что эта покупка изменит всю её жизнь, наполнив смыслом и радостным волнением. И новое, волнующее, сладкое чувство захлестнуло Розу Ивановну. Дома она рассказала матери о квартире. Однако старушка, вместо предполагаемой радости, выказала испуг и раздражение:
- Что ты, мать моя! Да куда ж я поеду на старости лет?! Я ведь еле ноги волочу, а туда же - попрусь на тринадцатый этаж. Дали бы хоть помереть спокойно.
Надобно сказать, что мать Розы Ивановны была не какой-нибудь дремучей старухой. Напротив, она была образована, любила читать по памяти стихи поэта Некрасова - певца тоски, - и, говорили, когда-то неплохо рисовала. В молодости старушка была хороша собой. Красота, как это часто бывает, и определила её характер. Властная, капризная, себялюбивая женщина - вот вкратце её портрет. Она была не злой, но крайне своенравной и, как большинство старух, сосредоточенной на себе. Ей казалось, что дети, бывавшие у неё каждый день, недостаточно часто её навещают. Что Розочка, посвятившая себя матери, не вышедшая по её прихоти замуж и, несмотря на это, до безумия её любившая, слишком долго ходит за хлебом и, что совсем уж недозволительно, таскается в гости к приятельницам. И вот новое чудачество - переезд!
Роза Ивановна, конечно, понимала, что тяжело старушке покидать насиженное место. Но другого раза ведь может не быть! И Роза Ивановна решила настаивать.
- Неужто тебе неохота в новом доме пожить? - спрашивала она у матери. - На старости хоть порадуешься в теплой квартирке.
- Да как же вы меня потащите, ты подумала? - не унималась старушка. - Да ещё на тринадцатый этаж. А лифт там работает? А если не работает, как же тогда? Да ты и сама не девочка уже, по лестницам-то бегать. Если лифт сломается, пешком что ли будешь домой ходить? Да и деньги ты не сможешь вернуть. Кому это старьё-то нужно, когда кругом вон новые дома строят?.. Ты, дочка, не подумала. С матерью бы хоть посоветовалась…
Постепенно под воздействием старушечьего ворчания, волнующие чувства, посетившие давеча Розу Ивановну, рассеялись. Усомнилась она в правильности своего шага. А как только уверенность исчезла, принялась Роза Ивановна суетиться. Обзвонила срочно всех родственников. Более всего её интересовало, что думают родные о тринадцатом этаже. Мнения разделились. Молодежь считала, что чем выше, тем лучше. Люди постарше с таким мнением соглашались, но предлагали не забывать о возрасте. И, наконец, наиболее суеверные уверяли, что тринадцатый этаж плох уж потому, что он тринадцатый.
Получилось нечто вроде голосования. Роза Ивановна действительно подсчитала голоса и обнаружила, что большинство тринадцатый этаж не одобряет.
Роза Ивановна расстроилась. Она уже не сомневалась, что сделала глупость с этим этажом. Но как исправить? Идти в агентство она боялась. Роза Ивановна всегда робела перед окриками и хамством, которыми так богата сфера обслуживания.
Подумав немного, она решилась призвать на помощь младшую сестру Маргариту. Маргарита Ивановна, полная противоположность Розы Ивановны, была воинственно настроена и никого не боялась. С ней не проходили, как она сама говорила, "торгашеские штучки". Маргарита Ивановна могла заткнуть за пояс любого.
На следующий день сёстры отправились в агентство. Их встретила полная грудастая дама, которая накануне занималась с Розой Ивановной. Роза Ивановна и дама узнали друг друга.
- Что-нибудь не так? - после обмена любезностями слащаво спросила дама.
- Да вот, квартиру вчера купили, - ответила Маргарита Ивановна.
- Да, да, я помню, - дама любовно посмотрела на Розу Ивановну, - что-нибудь случилось?
- Поменять хотим, - Маргарита Ивановна принялась рассматривать свои ногти.
Дама нахмурилась.
- На что?
- На другую квартиру.
- Почему?
- Этаж не нравится, - оставив ногти в покое, Маргарита Ивановна в упор посмотрела на даму.
- Чем?
- Высоко очень.
- А вчера, что же, не высоко было?
- Вчера не подумали.
Дама вздохнула.
- Не знаю, получится ли...
Она зашуршала какими-то бумагами.
- Вот, разве что... Не знаю... На восьмом этаже вас устроит? - дама как-то странно посмотрела на Розу Ивановну.
- Конечно, устроит, - Роза Ивановна обрадовалась. Восьмой этаж ей нравился.
- Ну что, переоформляем документы? - неуверенно и потому подозрительно она вела себя, эта дама.
Но Роза Ивановна ничего не заметила. Она радовалась, как дитя…
Бумаги были подписаны. Сестра убежала по своим делам. А Роза Ивановна в самом, что ни на есть праздничном расположении духа, отправилась домой. По дороге её вновь охватило знакомое уже и необычайно приятное чувство. Домой она пришла счастливой. Весь оставшийся день Розу Ивановну не покидало ощущение праздника. Она старалась не обращать внимания на недовольство матери-старушки, которая то ворчала без умолку, то причитала. Занимаясь домашними делами, Роза Ивановна напевала что-то лёгкое. А, ложась спать, вдруг подумала, что завтра хорошо было бы сходить посмотреть новую квартиру. От этой мысли ей стало ещё отраднее, и она уснула, блаженно улыбаясь.
На другой день Роза Ивановна собрала компанию из родственников, и все они отправились смотреть новую квартиру.
Квартира понравилась. Родственники принялись поздравлять Розу Ивановна, а та только улыбалась и краснела. Ей было очень приятно, что квартира нравилась родственникам. Она гордилась этой квартирой, точно дочерью, удачно вышедшей замуж. Она ходила из комнаты в комнату и мечтательно улыбалась, мысленно уже расставляя мебель. Она любовно гладила стены и хозяйской рукой прикрывала двери. Она вспоминала свою старую квартирку и удивлялась - такой ничтожной ей казалась теперь эта старушка. Как вдруг один из племянников Розы Ивановны, высокий, красивый и самодовольный парень сказал:
- Роз Ванна, а чего это потолки-то такие низкие? А?
Роза Ивановна остолбенела.
- Как?! - только и смогла она выдавить из себя.
- Смотри-ка! - парень поднял руку и пальцами коснулся потолка.
Низкие потолки Розу Ивановну не устраивали. Тем более такие низкие. Он, конечно, высокий, племянник-то, но ведь не гигант. Роза Ивановна встала на цыпочки и тоже смогла дотянуться до потолка.
И опять, как после разговора с матерью про тринадцатый этаж, Роза Ивановна засуетилась. Вместе с высоким племянником она побежала за мастером. Мастер был найден и допрошен.
- А-а! Этот этаж бракованный! Вам что, не сказали? Напортачили тут с кладкой. Не доложили пару рядов - вот и потолки низкие. Другие-то этажи нормальные. Да я вам покажу.
И мастер повел Розу Ивановну и племянника по этажам. Зашли, между прочим, и на тринадцатый. Но нигде больше племянник не смог дотянуться до потолка.
- Вот тебе, Роз Ванна, и тринадцатый номер! - сказал назидательно племянник.
Роза Ивановна и сама уже была не рада, что отказалась от тринадцатого. Но старого не воротишь...
Не помня себя, Роза Ивановна доплелась до дома. Там, приняв валериановых капель, принялась она размышлять, почему жизненный путь усеян только чертополохом и терновником, и почему так мало растёт на нем нежных, благоуханных цветов.
Так, в слезах и раздумьях провела она ночь.
Наутро Роза Ивановна, заручившись поддержкой Маргариты Ивановны, в третий раз отправилась в агентство. Воинственная Маргарита пошла в атаку:
- Вы что себе позволяете? - кричала она на полную грудастую даму. - Вы почему обманываете?.. Берете деньги, а подсовываете заведомый брак!.. Хотите через суд? Пожалуйста! Я вам это устрою! Долго будете меня помнить...
Грудастая и опомниться не успела, поняла только, что шутки плохи. И во избежание возможных конфликтов, в которых никто и никогда не заинтересован, она принялась извиняться и заверять сестер в своей неосведомленности. Однако квартира на тринадцатом, от которой еще вчера Роза Ивановна отказалась и которой сегодня была бы несказанно рада, уже уплыла в чужие руки. Грудастая, чтобы загладить вину, показала Розе Ивановне договор, из которого явствовало, что некий господин Мамидзе уже внес за ту самую квартиру деньги, и что к Розе Ивановне она никак не вернется. Не отбирать же в самом деле у господина Мамидзе!
Оставался один вариант - на последнем четырнадцатом этаже. Но такой вариант Розе Ивановне совсем не нравился.
- Есть квартиры в других домах, - предложила Грудастая. - Но, правда, они сдаются через полгодика. Ваш дом - ближайший.
Через полгодика! А деньги-то Роза Ивановна взяла на три месяца!
Согласилась она на четырнадцатый этаж. Правда, не было уже праздника, не было того волшебного чувства. Зато и меняться было больше не на что. Исчезли соблазны. Для Розы Ивановны начались будни, связанные с продажей старой квартиры. Так прошли три месяца.
В договоре, который подписала Роза Ивановна, значилось, что сдача дома состоится в сентябре. Но, Боже мой! Кто же теперь верит договорам?!
Сентябрь близился к концу, а жить в новом доме было невозможно. По этой причине Роза Ивановна не продавала старую квартиру, и, как следствие, не могла вернуть долг дальнему родственнику. А родственник, между тем, сполна натешив самолюбие, начал позванивать Розе Ивановне, чего раньше никогда не делал. Он не спрашивал напрямую о деньгах, так, молол разную чушь. Но Роза Ивановна отлично понимала причину этих звонков. И оттого страдала. Несчастия Розы Ивановны не могли не тронуть ее ближайшую родню. Решено было в складчину собрать необходимую сумму - в долг, конечно, - чтобы вернуть дальнему родственнику. Деньги были собраны, возвращены кредитору, и последний исчез, словно его и не было.
Однако сумма была немалая, а родня у Розы Ивановны небогатая. И, понимая, в какой расход они вошли, чтобы выручить её, Роза Ивановна опять-таки страдала. Словом, переезд, который сулил радость, приятные хлопоты и, в конце концов, беззаботную жизнь в тепле и уюте, принес Розе Ивановне одни только слёзы.
Но как бы то ни было, время шло, дом близился к сдаче, а новая квартира требовала отделки и доработки.
Так уж повелось, что строят у нас не на совесть, а за страх. И жилища для простых граждан завсегда, как недоношенные дети. Потолки в таких жилищах напоминают колеблемые ветром стяги, стены прыщавы, полы щербаты. И все вместе они кричат о своих уродствах. А породившие их жестоковыйные строители, не желают знать своих детей.
Но как засидевшаяся невеста рада всякому жениху, так и граждане рады любым квартирам. И потому идут нарасхват уродцы, а засим вскоре преображаются.
Но Розе Ивановне недоступны были натяжные потолки и евроокна. Роза Ивановна решила, что, сократив привычные расходы, она сможет оклеить комнаты обыкновенными бумажными обоями, а в ванной положить кафель на пол и даже, может быть, в несколько рядов на стены. Таким образом, предстояло обзавестись плиткой, обоями, а также дверными ручками, розетками и выключателями. Список, конечно, не великий. Но живущий сегодня на пенсию, думается, поймет, какие чудовищные расходы предстояли Розе Ивановне.
Не столь физически, сколь морально был тяжел отказ от некоторых продуктов питания: конфеты, сыр, творожок с рынка и тому подобные глупости стали на время непростительной роскошью. Но зато Роза Ивановна оживлялась всякий раз, когда они с Маргаритой Ивановной отправлялись в магазины, где бесконечно долго выбирали и приценивались. В такие дни Роза Ивановна необычайно возбуждалась, пылала щеками и блестела глазами. А потом, уже дома, рассказывала старушке-матери, какой теперь огромный выбор товаров в магазинах, и какие огромные на эти товары цены. А старушка сидела на своем бессменном диване и, опершись на палку, серьезно слушала. Оставив, как нечто бессмысленное, свои увещевания, старушка всё одно не одобряла затею с переездом. И когда Роза Ивановна пыталась ей втолковать, какие именно обои они выбрали, она лишь с сожалением смотрела на дочь и покачивала головой.
И вот подошёл-таки день, когда Роза Ивановна с сестрой отправились по магазинам не для того, чтобы прицениваться. Купили лучшие обои и лучшую из недорогих плитку. Ручки и выключатели тоже выбрали преотличные - не роскошные, но добротные и такие, каким сноса не будет. Что могли - унесли с собой. Остальное магазин обязался доставить по указанному Розой Ивановной адресу.
Вскоре квартира была готова. И Роза Ивановна с замиранием сердца отправилась принимать работу. Встретил её уже знакомый мастер.
- Хорошо сделали, - заверил он Розу Ивановну, - аккуратно.
Они прошли в квартиру. Сделали действительно аккуратно. Одно только - обои перепутали. Те, что для спальни поклеили в коридор, а коридорные - в спальню. Но это уж мелочи. Иначе-то и не бывает. Роза Ивановна решила, что на это нечего смотреть. Словом, квартира ей понравилась. Но вот порадоваться у нее не получилось.
Говорят, купить - что клопа убить, а продать - что блоху поймать.
Ведь прежде чем переехать в новую квартиру, Розе Ивановне необходимо было найти покупателей на старую. А покупателей-то не было! Что только не предпринимала Роза Ивановна. Она размещала объявления в газетах, она просила знакомых распространять слухи о том, что-де продается квартира. Хотя и то, и другое сегодня опасно, потому что появилось немало молодых людей, не желающих честно трудиться, а рыщущих в поисках того, что плохо лежит. И, наконец, были оповещены все местные, как теперь говорят, риэлторы. Розе Ивановне звонили и даже приходили не раз. Но покупать квартиру, почему-то, никто не хотел. Впрочем, всё всегда имеет свою цену. Покупать не хотели за те деньги, что Роза Ивановна надеялась выручить. Предлагали свои варианты. Но Роза Ивановна только смеялась в ответ, ей казалось, что её хотят надуть. Дело в том, что предлагаемые цены оказывались настолько меньше необходимой ей суммы, что даже монументальное полотно не в состоянии было покрыть разницу. Однако вскоре ей стало не до смеха. Когда очередной покупатель ушел от неё со словами: "За такие деньги вы никогда не продадите!", - она призадумалась. А когда новый дом был, наконец, сдан, а покупателей на старую квартиру всё не было, Роза Ивановна вдруг испугалась. Она отчетливо поняла, что конурка, в которой она прожила тридцать шесть лет, никого не интересует, потому что вокруг строят новые дома. Молодые, ушлые люди, обокрав один другого, покупают в этих домах новые квартиры. А старьё-то и впрямь никому не нужно!
И Роза Ивановна заплакала. Заплакала оттого, что поняла всю бесполезность и бессмысленность ею затеянного, оттого, что пожалела свою бессчастную жизнь, ничем не замечательную и никому не дорогую. А ещё оттого, что старьё никогда никому не нужно!
И вскоре Роза Ивановна продала свою новую квартиру, раздала долги и постаралась вовсе забыть о том, что так волновало её последние несколько месяцев. Но ей удалось это не сразу. И первое время ночами, вспоминая обои, плитку и саму квартиру, Роза Ивановна тихонько плакала…
Кольцо
Был чудесный, бархатный вечер. Один из тех вечеров, когда в Москве вовсю уже цветёт сирень, зеленеют нежной ещё листвой тополя, а солнце не жжёт, но согревает москвичей своим весёлым, ласковым светом.
Таким-то вечером Максим Пёсиков, красивый молодой человек лет двадцати пяти, вошёл на станции "Каланчёвская" в электропоезд "Москва-Тула" и занял место у грязного, со следами копоти и чьих-то жирных пальцев, окна.
Стряхнув с сиденья какие-то крошки, Максим уселся поудобнее, и, уставившись в неумытое стекло, предал себя размышлениям.
Вскоре, однако, поезд дёрнулся, точно встрепенувшись от долгого сна, потянулся, протяжно зевнул и нехотя пополз к югу.
Повинуясь закону инерции, пассажиры сначала дружно вздрогнули, подались все вместе вперёд, затем откинулись на деревянные спинки, снова вздрогнули и, приняв, наконец, удобные позы, занялись каждый своим делом. Кое-кто достал газету и, громко прошуршав, отгородился ею от остальной публики. Другой, вытянув ноги и опустив голову на плечо соседа, незамедлительно отправился в царство Морфея. Третий занялся поеданием кулебяки, предусмотрительно купленной на вокзале. Бесцеремонная кулебяка тотчас оповестила окружающих о своём пребывании в вагоне, прибегнув к помощи мясного духа, произведшего на пассажиров весьма тягостное впечатление.
Тут же захлопали двери, заговорили на все голоса, запели люди. Море запахов, звуков и образов нахлынуло на вагон. И вагон утонул в нём...
Максиму, в распоряжении которого было три часа, три долгих, томительных часа, предстояло упорядочить свои мысли, которые точно весенние ручьи, растекались по нескольким направлениям.
Во-первых, Максим намеревался обдумать своё новое положение. Дело в том, что совсем недавно Максим был исключён с последнего курса одного из столичных вузов. За неуспеваемость. Родные Максима всполошились. Да и было от чего. Изгнанному с позором из alma mater грозила служба в армии. А что может быть ужасней сегодня для молодого человека, чем кирзовые сапоги, овсяная каша и строевая подготовка?!
На семейном совете, где кроме родителей Максима, держали слово двое дядей и тётка по матери да ещё одна тётка по отцу, решено было отправить Максима в Тулу на попечение к одному из дядей, преподававшему в тамошнем политехническом институте. Куда, кстати, Максиму, также по решению семейного совета, предстояло сдать какие-то экзамены и быть зачислену на пятый курс, как переведшемуся из Московского вуза в Тульский.
Во-вторых, не далее, как полчаса тому назад, к Максиму, в ожидании поезда курившему на перроне, подошёл смуглый и чумазый, как чёрт, мальчишка и, таинственно вращая желтоватыми белками, проговорил дробной скороговоркой:
- Братан, золото не нужно?
Хоть в золоте Максим и не испытывал ровным счётом никакой нужды, но, повинуясь любопытству, этому странному и погибельному для рода человеческого чувству, он, подумав немного, сказал:
- А ну, покажи...
- Пойдём, - прошептал, боязливо озираясь, чумазый, приглашая Максима отойти в сторону.
Не роняя достоинства, Максим докурил сигарету, смачно сплюнул себе под ноги, забросил изящным жестом окурок в урну и только затем последовал за юным продавцом презренного металла.
- Ну, чего тут у тебя? - спросил он у чумазого, когда они отошли к ограждению у безопасного края платформы. - Показывай...
Сейчас после этих слов чумазый, всё ещё воровато озиравшийся, вытащил откуда-то из недр куртки и протянул на ладони дутое обручальное кольцо да пару безобразных, напоминавших скорее ёлочные, чем ювелирные украшения, серёжек.
- Вот... Кольцо за двести пятьдесят отдам, серёжки - за пятьсот.., - дробно и торопливо проговорил он.
Серёжки, не женские даже, а какие-то бабские, Максима ни на минуту не заинтересовали. А вот кольцо ему понравилось. Широкое, пузатое, блестящее - и продать можно, и самому на пальце носить. Это он ещё подумает.
Кольцо пришлось ему впору. "Ведь врёт, поди, что золото," - мелькнуло у Максима. Но чумазый, точно читая его мысли, затараторил:
- Золото, золото!.. Не бойсь... Снеси к ювелиру, тебе любой скажет, что золото... И проба есть... Я тебя научу, как различать поддельную пробу от настоящей... А ну-ка!..
И чумазый, ухватив одной рукой Максима за запястье, другой ловко стянул с его пальца кольцо.
- Видишь, - он придвинулся плотнее к Максиму. - Видишь... Вот здесь внутри проба...
Максим наклонился, так, что почувствовал запах дыма от смоляных волос чумазого, и, вглядевшись, действительно различил на внутренней поверхности кольца небольшой прямоугольный отпечаток с цифрами "583" и пятиконечной звездой.
- Вот.., - и чумазый ткнул грязным ногтем в отпечаток, - звезду видишь? Видишь звезду?
- Ну? - нетерпеливо переспросил Максим. - Дальше что?
Чумазый огляделся и таинственно зашептал:
- Если есть на пробе звезда - настоящее золото. Это точно. Звёзды ставят только на настоящих пробах... Только настоящие пробы со звездой... Понял?.. Если проба фальшивая - она без звезды...
И он снова закрутил головой, давая понять, что слова его не предназначены для чужих ушей.
- Только ты это... Не говори никому, - зашептал он, заглядывая в глаза Максиму. - Это ж... тайна... Это никто знать не должен... Про звезду... А то... Если узнает братва, меня того.., - и он провёл ребром ладони себе по шее.
- Да ладно уж, - отмахнулся Максим, - дай-ка лучше ещё примерю...
И он снова натянул кольцо на правый безымянный палец.
Да, определённо кольцо ему нравилось. Прежде всего, потому, что кольца было много и блестело оно ярко. Кроме того, со стороны, с кольцом на пальце Максим вполне сошёл бы за человека женатого, а стало быть, обстоятельного. Но главное, кольцо можно было продать, выручив прибыль.
Максиму, ничего путного в жизни не делавшему, жившему на родительских хлебах; подобно птицам небесным не жавшему и не собиравшему в житницы; подобно лилиям полевым не трудившемуся и не прявшему, не заботившемуся о завтрашнем дне, претило, однако, быть в зависимости от семьи. Претило всякий раз клянчить у матери деньги, а после давать подробнейший отчёт, как и на что эти деньги были истрачены. И очень приятно было бы видеть себя в роли добытчика, приносящего деньги в дом и отдающего их матери с видом усталого, но довольного своей судьбой человека.
А как они все удивятся! И мать с отцом, и дядья с тётками - все набросятся с вопросами: как, откуда? А он небрежно ответит: "Так, провернул одну сделку..." И тогда уж никто не сможет назвать его непутёвым. А мать с гордостью обведёт всех взглядом, и впервые, наверное, ей не будет за него стыдно перед роднёй. Так думал Максим Пёсиков, любуясь на цыганское кольцо у себя на безымянном пальце правой руки.
Чумазый, точно следивший за тем, что происходило в душе у Максима, затараторил:
- Кольцо за двести пятьдесят отдам... Ты его продай... Такое кольцо в магазине тыщу стоит... А может, больше... Ещё и прибыль получишь... Я чего продаю-то? - и снова закрутил головой, завращал белками.
"Говорит, как горох сыпет," - подумал Максим.
- Брат у меня, слышь?.. Братан у меня двоюродный в КПЗ... Тут в Орликовом... В Москву приехал из Твери, без регистрации жил. А тут менты... Говорят, давай пятьсот рублей - выпустим брата... Где взять?.. Вот, материны вещи продаю... Это ведь материно... Думаешь, я стал бы продавать так дёшево, если б не братан? Мне ж срочно надо!.. Э-эх!..
- А мать-то знает? - спросил Максим.
- Э-эх! - повторил только чумазый и как-то с отчаянием махнул рукой. И даже сделал шаг в сторону, отвернулся и для пущей убедительности потёр глаза.
Максиму стало жаль его. "Про брата врёт, наверное, - подумал он, - но в остальном-то... Не от хорошей, поди, жизни..." И Максим решился.
В распоряжении у него имелась тысяча рублей, предназначенная для тульского дядюшки, под опеку которого Максим должен был поступить по прибытии в город пряников и оружейников. Отсчитав двести пятьдесят, он спрятал остальные во внутренний карман куртки и подозвал чумазого:
- Эй! Получи за кольцо! Беру!
Тот, забыв обо всех своих горестях, подскочил к Максиму, выхватил деньги и, пересчитав, куда-то их тут же пристроил. Да так быстро, что Максим, следивший за каждым его движением, не смог бы определённо сказать, куда именно.
Не научившийся ещё, должно быть, в силу нежного своего возраста, скрывать переполнявшие его чувства, чумазый так и зашёлся радостью. Глаза его загорелись сухим блеском, губы растянулись в улыбку и на свет Божий показались широкие с зубчатыми ещё краями белые зубы.
- Может, и серёжки купишь... Я дёшево отдам...
Кто знает, что ещё купил бы Максим, задержись он на перроне хоть немного. Но к счастью, подошёл поезд и разлучил Максима с новым другом, чьё имя Максим так и не узнал...
Раздумывая теперь над тем, что ждёт его в Туле, и над тем, правильно ли он поступил, купив кольцо, Максим испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, кольцо не переставало ему нравиться и сулило многое. "Класс! - думал Максим, рассматривая свою покупку. - Шикарная вещь!.. Теперь бы продать его подороже... Надо в Туле на вокзале попробовать. Рублей за пятьсот хотя бы... Нет, сначала нужно выяснить, сколько эта штука стоит в магазине... Да и торговать на вокзале не солидно... Что я, цыган, что ли? Знакомые ещё увидят. Передадут дяде. Скажут: "Ваш Максим на вокзале обручальными кольцами торгует!" А дядя, конечно, родителям... И понеслась горбатая по кочкам!.. Нет, на вокзале точно нельзя..."
Потом он с одного пальца переодевал кольцо на другие. Потом тёр его об лацкан куртки, отчего кольцо заблестело пуще прежнего, а на лацкане остался едва заметный тёмный след. Потом ещё и ещё раз представлял себя Максим в роли добытчика, и тогда малознакомое, но очень приятное чувство собственной значимости захлёстывало его, побуждая расправлять плечи и смотреть вокруг увереннее. И жизнь тогда начинала казаться ему интересной и увлекательной, а сам он - сильным и способным на многое.
С другой стороны, что-то тяготило и не давало покоя Максиму с самых тех пор, как были отданы деньги за кольцо. Точно вместе с кольцом купил Максим что-то томительно-неприятное, засевшее гвоздём в сердце. И теперь это что-то ныло в груди, вызывая болезненное беспокойство и холодную тоску. Но ни истолковать, ни выйти из-под власти этого странного чувства Максим не мог.
Непостижимо! Такая, казалось бы, мелочь, как кольцо, заняла в одночасье все мысли Максима, породила в душе его целую бурю: растревожила, заставила пережить счастливые минуты и задуматься над прежней жизнью; придала уверенности и заронила надежду. А Максим, малодушно предав себя во власть этой безделицы, принёс ей в жертву здравый смысл и оттого повиновался теперь любым её прихотям…
В какой-то момент Максим вдруг заметил, что из соседнего купе за ним наблюдает некто. Молодой, лет, может быть, тридцати с небольшим, человек, очень коротко остриженный и необыкновенно широкоплечий, так что даже соседям его по лавке было рядом с ним тесно. Лицо его имело неприятное, злобное выражение.
Может, те пасы, что проделывал Максим над своим кольцом, притянули внимание незнакомца, может... А впрочем, теперь уж этого никто не скажет наверняка!
Как только Максим перехватил его взгляд, незнакомец чуть заметно ухмыльнулся и уставился затем в окно. Максим насторожился. Кто этот человек? Что ему нужно? Украдкой оглядев куртку и джинсы, пригладив непринуждённо волосы и отерев ладонью лицо, Максим снова посмотрел в сторону незнакомца. Тот, сомкнув в замок руки и опершись локтями о лежавшую на коленях книгу, как ни в чём ни бывало, смотрел в окно. На губах его была всё та же едкая и недобрая улыбка.
Этот незначительный эпизод произвёл на Максима неприятное впечатление. Взгляда незнакомца оказалось достаточно, чтобы то, смутно осознаваемое, до сих пор дремавшее где-то в глубинах сознания, проснулось и вышло на поверхность. И выйдя, заполнило собой каждую клеточку, каждую частичку мозга. Так вот, что беспокоило, вот, что вызывало неизъяснимую тревогу и тоску! Страх! Уродливый, лупоглазый и неотступный. Кольцо и неприятный незнакомец связались теперь воедино. Максим вспомнил, что, расплачиваясь за кольцо, доставал деньги, и все, кто был на платформе, могли видеть, что везёт он с собой тысячу рублей. Осталось, правда, семьсот пятьдесят, но кольцо!.. Кольцо-то стоит дороже, чем Максим отдал за него. Стало быть, теперь у него семьсот пятьдесят рублей деньгами и примерно столько же золотом!
Максим похолодел. Глаза его как-то сами собой расширились, рот приоткрылся. Почему-то вдруг захотелось пить. Потом стало жарко, и даже выступил пот. Но через минуту жар схлынул, и Максим почувствовал во всём теле, особенно в руках, мелкую противную дрожь. Чтобы унять её да к тому же не показать, что он чем-то напуган, Максим стал медленно, но с особым усилием потирать ладони. Это как будто помогло, дрожь несколько утихла. Тогда Максим попытался отвлечься, убеждая себя, что бояться глупо и стыдно. Что причина его страха эфемерна и ничего не значит. Но попытки эти оказались бесплодными, и, махнув вскоре рукой на все доводы, Максим отдался страху.
Беззащитным и одиноким почувствовал себя Максим Пёсиков. Теперь уж он не сомневался, что его выследили и при первом удобном случае нападут, чтобы отнять деньги и золото. Он потрогал кольцо. Оно довольно плотно сидело на пальце, и чтобы стащить его, определённо потребовались бы усилия. "Что ж, - подумал Максим, - в лучшем случае останусь без пальца..." Что кольцо можно снять и спрятать в карман, почему-то не пришло ему в голову. Зато вспомнилось, как совсем недавно по телевизору говорили о каких-то подростках, отрубивших гражданину палец именно с тем, чтобы завладеть обручальным кольцом. Вспомнилось ещё что-то, виденное или слышанное. Вспомнилось и подстегнуло воображение.
Максим разложил руки на коленях и поджал безымянный палец. "А ведь, пожалуй, одним пальцем не отделаешься, - с ужасом подумал он. - Топором-то точно все пальцы... А если ножом?.. Да и ножом... Нет, одним пальцем никак не отделаешься!" И Максим поджал мизинец. "Без мизинца, конечно, можно как-нибудь обойтись, - продолжал размышлять он, глядя на всё убывающие пальцы правой руки, - да вот беда: церемониться-то никто не будет. Жахнут по руке - и привет! Хотя, если, конечно, попросить..." И Максим попытался представить себя в компании глумящихся над ним подонков. Один из негодяев стоит коленом на спине поверженного Максима, выкрутив ему левую руку. Правая же рука, удерживаемая другим негодяем, расплющена на пне - дело происходит в лесу, - и занесён над ней огромных размеров топор. "Поаккуратней, пожалуйста! Хоть три пальца оставьте!.." Но вот она, знакомая ухмылка. И падает топор!..
И опять заныло, заохало в груди у Максима. Подступила тоска и сжала ледяной рукой сердце. Окатило новой волной страха.
Максим так живо представил себе картину расправы над собой, что наяву содрогнулся, толкнув при этом локтём сидевшую рядом старушку. Та цокнула недовольно и заёрзала, точно желая оправиться от тычка. Максим пробормотал извинения и, задержав зачем-то взгляд свой на старушке, подумал: "Не-ет! Церемониться никто не будет!.. Свидетелей не оставляют... Убьют! Убьют... не помилуют... Сначала, пожалуй, убьют, потом заберут деньги, потом только руку отрубят... А может, сначала отрубят, потом отберут, а потом уж... Ну и влип я с этим кольцом!.."
Сумевший так скоро убедить себя, что на него из-за семисот пятидесяти рублей и цыганского кольца объявлена настоящая охота, Максим уже ни на минуту не сомневался, что живёт последние часы. Единственное, пожалуй, что его сейчас по-настоящему занимало - где и как всё произойдёт. На этот счёт у него имелось множество соображений, но все они мешались в какую-то пёструю кровавую картину. Максим точно упивался ролью несчастного, которому надлежит много пострадать и быть убиту. Он уже не пытался сопротивляться страху, напротив - раздражал и изводил себя фантазиями, как будто какое-то наслаждение, какое-то скрытое блаженство таилось в том состоянии, что испытывает поверженный страхом человек. И Максим теперь тщился достичь этого блаженства.
А в вагоне кипела жизнь. Стонали где-то рядом скрипки, завывали гитары, рвал душу аккордеон. Кто-то пел зычным голосом, кто-то просил денег, кто-то убеждал пассажиров купить чудодейственное, от всех болезней лекарство "по цене производителя". Но, несмотря на всю эту кутерьму и шум, производимый живой человеческой массой, перетекавшей хаотично из вагона в вагон, Максиму казалось, что он один в целом свете. И захотелось вдруг крикнуть, рассказать, что произошло, молить о помощи, плакать, уткнувшись в чьё-нибудь дружеское плечо. В отчаянии Максим обвёл взглядом своё купе. Напротив, у окна спал, открыв рот, пожилой гражданин в ярко-жёлтой американской кепке с надписью: "Дальнобойщики - путь к победе!" Рядом с гражданином расположились две подружки-болтушки, которые как сели в Москве, так ни на минуту не умолкали, обсуждая какой-то стиральный порошок, мужчин и свои достижения по части огородничества.
- Он пришё-ол, - неторопливо рассказывала та, что сидела с краю, - я ему котлет нажарила, макарон отварила. Ну, у меня ещё борщ со вчера оставался...
"Дура! - почему-то со злостью подумал Максим. - Борщ у неё оставался!.."
Рядом с Максимом дремала старушка в зелёной кофте, та самая, которую Максим пихнул давеча. Слева от старушки расположилась молодая женщина. Вполголоса читала она кому-то книгу. Очевидно, тот, кому она читала, стоял радом с ней. Максим прислушался: "Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него[1]..."
"А ведь какое всем им до меня дело! - с горечью подумал Максим. - Разве им важно, что человек страдает, и что сейчас его должны убить..."
С ненавистью посмотрел он на людей. Вдруг показались ему люди отвратительными существами, гоняющимися всю жизнь за химерами и не замечающими главного. Вспомнилась мать. Теперь уж ему стало невыразимо жаль её. Как-то она бедная узнает, что погиб её непутёвый сынок, пропал ни за что! И уж совсем некстати вспомнилось, как в детстве бывал он с родителями в Крыму, и как отец втайне от матери - та говорила: "Грязные!" - покупал ему петухов из жжёного сахара у торговок с улицы. Стало вдруг очень грустно и жаль себя. И чтобы никто не видел навернувшихся слёз, Максим отвернулся к окну.
В окне мелькали столбы, проносились косматые ёлки, появлялись и тут же исчезали из виду зелёные лужайки, поля и перелески, фигуры людей и животных. Только небо, бесконечное, чуть лиловое не мелькало и не проносилось, но неподвижно, горделиво раскинулось и равнодушно взирало на земные дела. Привычные картины немного успокоили Максима. И слёзы, готовые пролиться, застыли в глазах.
"Не могу больше, - решительно и к кому-то обращаясь, подумал Максим. - Лучше сразу убейте, чем так мучиться!" Затеяв опасную игру с подсознанием, Максим первым не выдержал напряжения - подсознание сыграло с ним злую шутку.
Поезд тем временем сбавил ход и вскоре вовсе остановился. Пассажиры зашевелились. И вот уже голос произнёс: "Осторожно..." Как вдруг Максим, сорвавшись, как дикая кошка, с места, бросился, подгоняемый демоном страха, к выходу. Кого-то толкнул, споткнулся и уронил стоявшую в проходе корзину. И тотчас раздалось за спиной:
- Куда ты?! Чума болотная!
- Пьяный, наверное!..
Двери уже закрывались, когда Максим втиснул меж створок ногу и, с усилием раздвинув их, оказался вслед за тем на незнакомой платформе…
Как уж он добрался до Тулы, Максим впоследствии вспомнить не мог. Помнил только, что измученный, уставший и растерянный очень долго сидел на деревянной скамье под огромными буквами, оповещающими проезжающих граждан о названии платформы. Да ещё, что пугался безлюдья и звуков подступавшего к путям леса.
Когда, спустя неделю, он приехал в Москву на выходные, то первым делом отправился в ювелирный магазин, где, как он знал, принимали вещи от населения.
- Сколько за такие вот кольца даёте? - обратился он к старичку за конторкой. Левый глаз старичка был заткнут стеклянной пробкой. Посмотрев на кольцо краем правого глаза, старичок размеренно отвечал:
- За такие кольца, молодой человек, мы ничего не даём...
- Это почему? - удивился Максим. - Вы золото принимаете?
- Золото принимаем, - согласился старичок.
- Ну?
- Что "ну"?
- Ну, так принимайте...
Старичок лукаво поглядел своим глазом на Максима.
- У цыган на вокзале покупали?
- Откуда... С чего вы взяли?! - Максим опять удивился.
- А такие кольца только там и покупают, - хмыкнул одноглазый старичок.
- Да почему?!
Теперь уж удивился старичок. Он вытащил стеклянную пробку из глаза и очень серьёзно, точно желая проверить, не разыгрывает ли тот его, посмотрел на Максима.
- Вы, что же, молодой человек, всерьёз полагаете, что это у вас золотое колечко? - спросил он, убедившись, что перед ним действительно простак.
- Я не знаю... Я потому и пришёл... Спросить... А что же это?
Старичок взял кольцо, покрутил его в пальцах, взвесил на ладони.
- Может, латунь, - сказал, наконец, он, - может, другой какой сплав. Трудно сказать определённо. В одном смею вас уверить - это не золото.
- А проба? Там же проба!.. Ведь со звездой...
Старичок опять испытующе посмотрел на Максима, хмыкнул и заткнул левый глаз стеклянной пробкой, намереваясь, очевидно, продолжить прерванную работу.
Максим понял, что говорить больше не о чем. Выйдя на улицу, он постоял немного, подумал, поиграл кольцом и, швырнув его с размаху в какой-то густой кустарник, зашагал прочь.
Тварь
I
Был уже одиннадцатый час ночи. Роман Николаевич давно уложил детей спать, а сам расположился в большой комнате у телевизора с бутылкой пива. По телевизору рассказывали об убийстве какого-то губернатора. Показывали его тело, распростёртое на асфальте, дырку в голове, лужицу крови рядом и рыдающих женщин, очевидно, родственниц убитого.
Наконец, раздался звонок. Роман Николаевич отставил бутылку, выключил «ящик» и проследовал в прихожую. Вернулась Тамила Анатольевна, жена Романа Николаевича.
– Здравствуй, солнце моё! – сказала она, входя в прихожую. – Ух, как устала!..
И когда она переступала через порог, Роману Николаевичу показалось, что она посмотрела на него насмешливо, но в то же время с опаской. Как если бы это была кошка, спасшаяся на дереве от собаки.
– Где ты была? – спокойно спросил Роман Николаевич, помогая ей раздеться.
– По магазинам же моталась, – вздохнула Тамила Анатольевна, – устала!..
– Но ты знаешь, по крайней мере, который час?
Она вскинула рукав кофточки и посмотрела на часики.
– Двадцать минут одиннадцатого, – просто, точно удивляясь вопросу, ответила она.
– Ну, и в каком же магазине ты была до этой поры?
Тамила Анатольевна нетерпеливо пожала плечами.
– В разных... Не понимаю, что ты хочешь знать? Я же так устала, а ты устраиваешь мне допрос на пороге. Хоть бы в комнаты завёл... Ужин готов?
Роман Николаевич молча прошёл в кухню. И только его шлёпанцы, прилипая к голым пяткам и тут же отклеиваясь, громко застучали по линолеуму.
– Вермишель с сосисками... Будешь?
Тамила Анатольевна присела за стол.
– Вермишель? – она брезгливо поморщилась. – Нет. Лучше чаю налей... Мог бы хоть картошки сварить, – немного подумав, добавила она.
– Я, между прочим, работаю, – сказал Роман Николаевич, наливая ей кипяток в синюю кружку.
– На что ж это ты намекаешь? – Тамила Анатольевна подняла глаза на мужа. – Я не понимаю...
– Я ни на что не намекаю. Я только сказал тебе, что работаю. А ты сидишь дома и, по-моему, могла бы сама сварить картошки, а не ждать, когда это сделаю я... – и Роман Николаевич с грохотом опустил чайник на плиту.
– Ты что ж, меня куском хлеба попрекаешь? – Тамила Анатольевна прищурилась и пуще прежнего застучала чайной ложечкой по стенкам кружки. – Я же сказала, что ходила по магазинам. Чего же ж ещё? Это такая же работа. И устаю я не меньше твоего! – она выбросила ложку на стол.
– Что ты сегодня купила? – тихо спросил Роман Николаевич.
– Ничего...
– Как? Опять ничего?
– Да, опять! – она начинала выходить из себя. – Не нашла ничего подходящего. Ты с этого удивляешься? Пора бы давно попривыкнуть, что у твоей жены изысканный вкус, и ей трудно подобрать что-нибудь для себя, такое элегантное...
Она помолчала, отпила чаю и добавила:
– Особенно ж на твою учёную зарплату.
И по тому, как она отвернулась от него и как стала пить чай, Роман Николаевич заключил, что она осталась вполне довольна собой, решив, очевидно, что сказала что-нибудь очень остроумное.
– Ты довольно часто ходишь допоздна по магазинам и ничего не покупаешь. Тебе не кажется это странным? – спросил Роман Николаевич, подсаживаясь к столу.
– А что странного? – она пожала плечами. – На те деньги, что ты даёшь мне, я ж не могу купить себе ничего приличного, – торопливо, скороговоркой проговорила она. И Роману Николаевичу показалось, что она торопится, потому что боится забыть заготовленные слова.
– Зачем же ты столько времени проводишь в магазинах?
– Потому что... Потому что я... ищу!
– Чего? Тебе чего-то не хватает? Может, вместе поищем?
– Ну, уж нет уж! Спасибо!.. С тобой же ходить по магазинам – это ж отрава! И вообще, я не понимаю, что ты от меня хочешь?
– Ничего... Просто мне интересно, зачем, имея мало денег, ходить так часто за покупками. И ничего не покупать при этом. Просто хочется понять твою логику...
– И никакой же логики! Обязательно везде ищет логику! Вот же... – и она с негодованием повела плечом. – Успокой свои нервы, я не по любовникам шляюсь... А ты меня замучил своими подозрениями. Возвращаешься из магазина вся никакая, прям готовая упасть и уснуть, а он пытает: где была?! Почему ничего не купила?!
Голос у неё дрогнул, и она отвернулась к окну.
На улице было уже темно, и её лицо отразилось в стекле. И Роман Николаевич увидел, что она и не собиралась плакать. Но разговор и сам Роман Николаевич ей ужасно надоели – на лице у неё было нетерпеливое и злобное выражение, как если бы он мешал ей получать удовольствие.
– Ну, извини, извини... – сказал Роман Николаевич и, шлёпая тапками, пошёл в большую комнату. Туда, где ждали его пиво и телевизор.
Он и не знал, зачем затеял этот разговор. Ему было всё равно, где она проводит время. Он был уверен, что она именно «по любовникам шляется», но ревновать её он и не думал. Ему хотелось только одного: уличить её, показать, что он всё знает и что ему плевать на неё. Он мечтал, чтобы она, наконец, узнала, что ничего для него не значит. Но это был нервный и вместе с тем робкий человек, считающий для себя недостойным и недопустимым делом следить за ней или требовать объяснений. И он всё ждал, когда же она сама проговорится или как-нибудь иначе выдаст себя. А потому, наверное, каждый раз он заводил эти разговоры о магазинах, притворно удивляясь, как это можно ничего не покупать...
II
Он познакомился с Тамилой Анатольевной несколько лет назад. Ему тогда было двадцать восемь. Он как раз недавно развёлся и, пожив немного в одиночестве, решил снова жениться. Но долго не мог найти невесту. На работе все подходящие оказались заняты. На улице у него знакомиться не получалось. Пробовал ходить на дискотеки, но тамошние молодые завсегдатайницы раздражали его своей глупостью и неразвитостью.
Как-то приятель предложил познакомить его с незамужней соседкой.
– Твоя ровесница... Ничего, миленькая... Только у неё маленький ребёнок. Она уже была замужем, и они тоже недавно развелись.
«Ребёнок – это ничего, – подумал тогда Роман Николаевич. – Ребёнок – это даже хорошо...»
И они договорились встретиться через несколько дней.
«Да, она действительно ничего... Миленькая...» – заключил Роман Николаевич, когда приятель представил ему свою соседку.
Потом они стали встречаться. Сходили в кино, в кафе, в парк.
В ту пору было очень жарко. Стоял июль. Воздух струился, пахло раскалённым асфальтом. От домов, как от печей, шёл жар. Повсюду было очень много народу, дурнопахнущего и мокрого. И поговорить толком не получалось. Тогда она сказала:
– Поедем ко мне...
И повезла его куда-то на Ленинский проспект, где у неё была комната в коммуналке, доставшаяся ей по суду после развода...
Когда он, довольный собой, ею и жизнью вообще, курил, подложив левую руку под голову, она предложила ему выпить кофе. И пока она одевалась, чтобы выйти на общую кухню, он тайком рассматривал её. «Да-а-а! – думал он, глядя, как она застёгивает цветастый ситцевый сарафанчик. – Красавицей её, конечно, не назовёшь. Но есть в ней что-то... Чёрт его знает, что... В общем, она ничего, миленькая...»
Она действительно была некрасива…И всё же она не переставала ему нравиться. Может, оттого, что надоела холостяцкая жизнь, надоели бесконечные поиски невесты. Может оттого, что давно уже он не встречался с женщиной, а она вдруг приятно удивила его: она дразнила его, звала, распаляла и томила. И, наконец, как ливень засушливым летом, она обрушивалась на него и несла облегчение. Она превращалась то в ягнёнка, позволяя делать с собой абсолютно всё, то в тигрицу, нападая и подчиняя себе. И всё это она проделывала так умело, так искусно...
Но, может, была в ней какая-то изюминка, потому что при всей своей некрасивости и нескладности она всё же казалась Роману Николаевичу милой и обаятельной.
«Пожалуй, в ней есть что-то детское, – вдруг подумал он. – Да, да... Именно детское. Что-то в глазах... Какое-то выражение... Что-то детское и вместе с тем жалкое. Жалкое... Да, пожалуй, мне её жалко... Она какая-то... беззащитная. Одна с ребёнком. Муж бросил. Подонок!.. Так жалась ко мне... Конечно, она некрасивая. Но у неё... как бы это сказать... «стильная» внешность! Она – «женщина-мальчик». Поэтому ей идут оттопыренные ушки и эта челюсть. И вот, несмотря на свою некрасивость, она кажется вполне гармоничной... Но какова!..» – и он припомнил её ласки, её ухищрения.
Вошла Тамила Анатольевна, принесла кофе. И, сбросив сарафан, села рядом с ним на постели.
– Послушай, – спросил он, потягивая горячий напиток, – а почему вы развелись с мужем?
– Он свихнулся, – ответила она тихо.
За всё время их знакомства она очень мало говорила, всё больше слушая, что говорит Роман Николаевич. Это нравилось ему, поскольку он терпеть не мог болтливых женщин. Ему нравилось, что она смотрела ему в рот, ловила каждое слово. Если он острил, она заливалась смехом, если говорил о серьёзном – хмурила бровки и кивала в знак того, что всё понимает. И ему казалось, что она действительно всё понимает. Понимает его чувства и мысли. И не просто понимает, но и сама думает и чувствует также. А когда он в кафе сделал для неё бутерброд с маслом, она смотрела на него весь день глазами, полными слёз и собачьей преданности, как если бы он спас её от смерти. «Будет уважать», – почему-то подумалось тогда.
Рядом с ней за непродолжительное время он успел почувствовать себя невероятно сильным и умным. Она относилась к нему с каким-то немым благоговением и тем самым сумела ему внушить, что он бесподобен. И у него, как у вороны в басне, «вскружилась голова».
Но оттого, что она мало говорила, он ничего почти не узнал о ней. Она сказала только, что переехала с родителями в Москву из Макеевки – отец «пошёл на повышение». Что окончила здесь школу и строительный институт. Что после института работала на какой-то стройке в Коломне, где и познакомилась со своим первым мужем. И что, прожив с ним несколько лет, развелась. Ещё она сообщила, что у неё есть дочка, Оксана, которой уже полгодика...
– То есть как, свихнулся? – не понял Роман Николаевич.
– Ну, как... Сошёл с ума, это называется.
– Но почему? Люди просто так с ума не сходят...
– Я не знаю... Пожалуйста, не будем об этом... Мне больно... – тихо сказала она и, обняв руками согнутые ноги, спрятала лицо в коленях.
– Он что... Бил тебя? – осторожно спросил Роман Николаевич.
Но она не ответила, а только как-то вся сжалась.
«Бедная моя девочка, – подумал Роман Николаевич, – жила с психом! Это ж надо?.. Довёл её! Даже вспоминать не хочет. «Больно», говорит. Бил её, наверное... Видно, буйный попался... Бедная!..»
– Прости... – прошептал он и поцеловал её в плечо.
Она слегка вздрогнула.
– Ну, а как же ты алименты получаешь? – осторожно спросил он. – Разве психи платят алименты?
– Он не платит, потому что... потому что это – не его ребёнок...
– А чей?..
– Мы познакомились уже после развода. Но он меня бросил...
– А кто он?
– Прошу тебя, не спрашивай! – она закрыла лицо руками. – Мне больно...
– Ну, ну, ну... – он нежно обнял её. – Успокойся, девочка моя. Успокойся... Не нужно... Не нужно плакать.
Он стал целовать её макушку, плечи, пальцы, которые она прижимала к лицу. Потом вдруг стало очень жарко, и глаза точно заволокло мутной плёнкой. Потом он почувствовал, что проваливается куда-то, летит в бездну. Потом он услышал её стон. И через несколько секунд всё кончилось.
– Я подогрею кофе? – тихо спросила она.
Он кивнул. Она легко соскочила с кровати, быстро оделась, собрала посуду и ушла.
Роман Николаевич остался один. «А чего мне ещё искать? – думал он. – Зачем обязательно красавица? С красавицами вообще одни проблемы. А тут уж точно никто не польстится. Так что насчёт верности я могу быть спокоен. Потом, она – бедное, брошенное, никому не нужное существо. Да ещё с ребёнком. И тут появляюсь я! Делаю ей предложение, удочеряю девочку... Да она по гроб жизни будет меня благодарить!.. Вообще хорошо, что у неё уже есть ребёнок. Не надо нового рожать. Не будет этого ужаса с пелёнками, криками по ночам. Будем воспитывать её Оксану...» И точно для того, чтобы придать себе уверенности, он принимался снова жалеть её: «Бедная! Сколько всего вынесла! Не везло до сих пор... Но ничего! Я спасу тебя, девочка! Со мной тебе будет покойно!»
И пока он жалел её, пока думал так, он ощущал самого себя героем, решившимся на подвиг. Да, он спасёт эту женщину! Спасёт её и ребёнка! Даст им приют, девочке даст отцовскую любовь, матери – мужскую ласку. И они, благодарные, тоже полюбят его. Потому что сегодня они – унижённые и оскорблённые, а завтра –его жена и дочь.
«К тому же я – человек порядочный, – продолжал рассуждать Роман Николаевич. – А после того, что между нами сегодня было, я, как порядочный человек, просто обязан на ней жениться. И тогда конец всем этим поискам, конец одиночеству, конец неудовлетворённости!» Ему стало весело. И когда она вошла в комнату с подносом и дымящимся на нём кофе, он уже всё для себя решил.
Она снова разделась и села с ним рядом. Они стали пить кофе.
– Послушай, – начал он, – я хочу предложить тебе кое-что...
– Что же? – спросила она осторожно и повернулась к нему.
Он заглянул ей в глаза и увидел там, что она давно ждёт, когда же он предложит ей это. «Бедная моя девочка, так намучилась!» – подумал он, видя её нетерпение и желание приблизить развязку.
– Я хочу жениться на тебе и удочерить твою дочку, – тихо сказал он.
Она вся встрепенулась, разлила кофе. Глаза у неё вспыхнули жёлтыми огоньками, и в эту минуту она показалась ему даже красивой. Потом она поспешно отставила куда-то свою и его чашки, прильнула к нему, обвила руками и ногами. И он снова почувствовал, что летит в бездну...
III
Через месяц она стала его законной женой, а Оксана – его дочерью. С девочкой, правда, вышел конфуз. Когда он, ещё жених, явился знакомиться с родителями, у которых в ту пору жили Тамила Анатольевна с Оксаной, ему, конечно, представили и девочку. Увидев её, Роман Николаевич остолбенел. Оксана оказалась красивой и совсем не похожей на мать мулаткой.
– Кто её отец? – не удержался Роман Николаевич.
– Ты же обещал, – Тамила Анатольевна насупилась, – обещал не спрашивать меня об этом. Обещал не делать мне больно... Вот. Мы ещё не женаты, а ты уже пытаешься тиранить меня моим прошлым!..
И она заплакала. Он, как и в прошлый раз, обнял её, прижал к себе и стал целовать макушку.
– Ну, ну... Девочка моя, – говорил он. – Успокойся... Успокойся... Ну, прости меня, дурака. Клянусь, что больше уж никогда не спрошу об этом. Прости меня... Прости...
«И чего я и вправду раскудахтался? – думал он. – Ну, неожиданно, конечно. Но ведь ничего страшного. Можно было и промолчать, сдержаться... Бедная... Какой-то заезжий подлец...»
И у него сжалось сердце от негодования и жалости...
После свадьбы жили неплохо. Он ездил в институт на работу, она оставалась дома с Оксаной. Он привык к ним и даже любил по-своему. Тамила Анатольевна была маленького роста и едва доставала Роману Николаевичу до плеча. Так что смотрела на него всегда снизу вверх. И когда она запрокидывала голову и поднимала на него глаза, то в этих глазах-янтарях он видел столько детски-беззащитного, столько трогательно-доверчивого, что ему неизменно хотелось оберегать это слабое и некрасивое существо, хотелось быть его хозяином и покровителем. И он почему-то не сомневался, что и ей хотелось того же.
Примерно через год после свадьбы, Романа Николаевича вместе с супругой пригласил в ресторан по случаю юбилея собственной фирмы один знакомый, некто Премилов. Празднество проходило с размахом – дела фирмы шли в гору. Премилова чествовали и называли «нашим президентом». А спустя месяц Роман Николаевич в бумажнике у жены нашёл визитную карточку Премилова. Он не придал этому значения и ничего не сказал жене. А спустя ещё два месяца Тамила Анатольевна вдруг объявила, что беременна. Сначала Роман Николаевич удивился – этого никак не должно было произойти. Но потом он всё понял. И это было именно то время, когда Премилов вдруг стал довольно часто звонить ему, приглашать на пикники и вечеринки и ни с того, ни с сего упрашивать Романа Николаевича перейти на работу в его фирму.
Как-то большой компанией они поехали на стрельбище, в лес. Сначала развлекались тем, что стреляли по выбрасываемым в воздух тарелочкам. И Тамила Анатольевна, умевшая неплохо стрелять, удивляла всех своей меткостью. Потом устроили пикник – расположившись у костра, жарили мясо, пили вино.
В какой-то момент Тамила Анатольевна, расчувствовавшаяся без видимых причин, провозгласила тост:
– За вас, мужики!
И опрокинула в себя рюмку водки. Никто из собравшихся не понял, к чему это. Повисла пауза. Роману Николаевичу стало неловко за жену. «Что это с ней? – подумал он. – Куда её несёт?» Потом кто-то из дам подхватил:
– Да, да! Выпьем за сильную половину человечества!..
Тогда все оживились, вскочили с мест, стали чокаться – веселье пошло своим чередом. Потом Тамила Анатольевна исчезла. Исчез и Премилов. Пришлось Роману Николаевичу отправиться на поиски.
Уже стемнело. Роман Николаевич долго ходил вокруг поляны, где горел костёр. Сквозь частокол деревьев он видел, как пляшет пламя. И было похоже, будто за высоким чёрным забором девицы в красных сарафанах кружатся в хороводе.
Сначала Роман Николаевич ничего не слышал, кроме смеха да криков, доносившихся с поляны. Потом в стороне от дорожки в каких-то высоких кустах он услыхал голоса. Он узнал их.
– Мила! – позвал Роман Николаевич.
Голоса стихли. И через несколько минут из кустов показались они. Премилов и Тамила Анатольевна.
– Это ты, солнце моё? – спросила она слабым голосом.
Когда они подошли к нему, он заметил, что у неё перекручена юбка, а у него рубашка застёгнута не на те пуговицы.
– Поедем домой! – сказал Роман Николаевич.
– Ты знаешь, – начал Премилов, – твоей жене стало плохо – наверное, выпила лишнего. А может, токсикоз... Я хотел ей помочь, а тут ты...
– Да-а! – сказала она громко, точно хотела заглушить слова Премилова о токсикозе – откуда ему это знать? Подбоченилась, закинула голову. – Да-а-а! Я – пьяная!..
И запела фальшиво:
– Напила-ася я пьянаю...
– Поедем домой! – повторил Роман Николаевич и пошёл вперёд.
IV
Всё, что случилось, огорошило его. Не было ревности, не было обиды. Он только никак не мог понять, зачем это хилое, бесцветное существо понадобилось Премилову? Вокруг него столько женщин... А она? Ну, хороша! Не ожидал, честное слово, никак не ожидал! Что же за чары у неё? Чем она привлекает к себе? Он вспомнил, как сам ещё совсем недавно жалел её и только поэтому женился. Что ж, неужели эта способность вызывать к себе жалость делает её столь привлекательной? Или готовность и умение ублажать?
Уже в машине он спросил её:
– Что между вами было?
– Ничего, – спокойно ответила она. – Мне стало плохо, он хотел помочь...
– Ты что, его любишь? – он решил спросить напрямик.
Она повернулась к нему, помолчала немного, точно соображая, о чём это он, и ответила:
– Тю! Нужна я ему, прям как собаке пятая нога! У него же семья – жена, дети! Двое детей... Это исключено!
Он понял её. Она и сама думала о том же. Но прекрасно понимала, что для неё Премилов никогда не уйдёт из семьи. И единственное, на что она может рассчитывать – это на подачки от него для ребёнка.
«В какой-то сказке ведьма, обернувшись красавицей, тоже женила на себе дурачков, вроде меня. Но потом чары спадали, и ведьма становилась безобразной старухой», – думал Роман Николаевич, рассматривая уже дома жену. «И как же это меня угораздило с ней связаться?» То, что раньше казалось ему в ней милым, показалось теперь безобразным. Когда она улыбалась ему, то напоминала лягушку. Когда, удивляясь, округляла глаза – сову. А когда принималась грызть яблоко, заголяя свои мелкие, редкие зубы – белку. «Чудовище! – думал Роман Николаевич. – Настоящее чудовище... Сфинкс!»
С того дня всё изменилось. Точно между ними была завеса, и теперь эта завеса разодралась. И Роман Николаевич впервые увидел свою жену. Никакой любви, никакой благодарности к Роману Николаевичу у неё не было. Она устраивала свою жизнь, устраивала, как умела. Хитрила, извивалась, поворачивалась. Но хитрость её была хитростью мелкого хищника, хитростью, чтобы выжить. И все её комбинации рано или поздно оказывались прозрачными.
«Да, – думал теперь Роман Николаевич, – умный человек бросил, а я, дурак, подобрал...» И теперь только он понял, что значили её слова о первом муже: «сошёл с ума». Сошёл с ума, то есть увидел, наконец, что она такое, выгнал её прочь, избавился от неё. То же и с негром... Это народ горячий и не очень-то привередливый! Впрочем, он ещё не знает, что она от него получила.
И вот она осталась одна, на руках ребёнок. Что делать? Нужен муж. И тут подворачивается он. Молодой, симпатичный, одинокий. В свои двадцать восемь лет кандидат наук. Своя машина, дача. Живёт он, правда, с родителями, но зато в трёхкомнатной квартире в центре Москвы. Завидный жених!
И она, эта кокотка, всё правильно рассчитала...
V
Ему не хватило духу бросить её, беременную. Пусть даже не его ребёнком. К тому же после свадьбы она не раз рассказывала ему, как судилась со своим первым мужем-«психом». Как заставила его разменять квартиру, где тот жил с родителями, и как вывезла из этой квартиры все вещи, купленные за годы их совместной жизни. Это было её личное достижение. И она необычайно гордилась собой, повторяя при этом: «Хочешь жить – умей вертеться...» А Роман Николаевич боялся, как бы то же самое она не проделала с его родителями. И его охватывал ужас, как только он представлял, что родители вынуждены будут разменивать свою просторную, удобную квартиру в центре и перебираться куда-то в спальный район, на окраину.
Он прожил с нею больше года, но только теперь понял, насколько они чужие друг другу люди. Ему не о чем было с ней разговаривать. То, как она слушала его, раскрыв рот, было только игрой, частью её замысла. На самом же деле её ничего не интересовало, кроме каких-то ничтожных вещей. И она часами могла говорить по телефону со своими подругами о выкройках – она сама шила, – о тканях, о журналах, печатающих светскую хронику. Она ничего не читала, кроме этих журналов, да ещё каких-то романов, которые отчего-то называются «женскими». Роман Николаевич знал прекрасных писательниц. Но он никогда не слышал, чтобы их произведения называли «женскими». Очевидно, здесь было в другом дело. Над этими романами Тамила Анатольевна плакала и после прочтения каждого долго лежала, смотрела в одну точку и улыбалась каким-то своим мыслям. Как-то, пока её не было дома, Роман Николаевич ради интереса взял у неё со столика карманное издание одного из романов и попробовал было читать. Через несколько страниц у него перехватило дух. Он подобрал валявшуюся тут же ручку и стал править нелепые, громоздкие фразы, но потом плюнул и выбросил книгу в форточку.
И эта паучиха с помощью ряда несложных манипуляций так прочно завладела им, что он не видел выхода из своего положения. Он признавался себе, что боится её, боится, как бы она не подстроила ему какой-нибудь каверзы. Особенно после того, как она попросила его написать завещание.
У её подружки умер муж и, узнав об этом, Тамила Анатольевна сказала:
– Солнце моё, мало ли, что может случиться?.. Всё бывает... Видишь, как с Оленькой Курикцей нехорошо получилось... Муж умер, завещания же не оставил... И всё, ну, просто всё захватили эти гадёныши – его дети от первого брака... Видишь, как бывает? Солнце моё... Напиши на меня завещание...
Больше всего его возмутило, что она нисколько не стеснялась просить его об этой малости.
– Мне нечего тебе завещать, – ответил он сухо. – Всё записано на родителей... Если у тебя хватит наглости, попроси их написать тебе завещание...
Она обиделась и не разговаривала с ним несколько дней.
«Страшная, развратная, никчёмная женщина!» – думал Роман Николаевич.
Когда родился ребёнок, мальчик, Тамила Анатольевна с первого же дня стала почему-то ласково называть его так: «сын президента». Тогда же атаки Премилова на Романа Николаевича усилились. Он стал звонить ещё чаще и, очевидно, подстрекаемый Тамилой Анатольевной, которая жаловалась ему на безденежье, ещё настойчивей уговаривать Романа Николаевича перейти на работу в его фирму. Плати Премилов Тамиле Анатольевне напрямую, это вскрылось бы вскоре, ведь она нигде не работала. А как было бы удобно, если бы Роман Николаевич приносил домой жалованье, выплаченное ему Премиловым! «Ну, уж нет, голубчики! – злорадствовал про себя Роман Николаевич. – Этот номер у вас не пройдёт! Этой радости я вам не доставлю!»
К Премилову присоединилась и Тамила Анатольевна. Она не понимала его занятий наукой, не понимала, как можно добровольно работать за такую зарплату. Будучи сама алчной и лживой, она всех подозревала в алчности и лживости. И сейчас она была уверена, что Роман Николаевич просто завидует Премилову и не хочет становиться его подчинённым. В конце концов, у Романа Николаевича не выдерживали нервы, и он начинал кричать и топать на жену ногами:
– Дура! Заткнись! Ты же ничего не понимаешь! Заткнись! Сама иди к нему работать!
Но она действительно не понимала, о чём он. И продолжала своё. От криков начинали плакать дети. И тогда ему становилось совестно и от детей, и от неё. Он просил у неё прощения, но она, почуяв слабину, надувалась, уходила и после не разговаривала с ним подолгу.
И глядя на неё, Роман Николаевич иногда думал, что она, наверное, вполне довольна жизнью. Теперь у неё есть всё, что положено иметь порядочной женщине. Есть муж, есть дети, есть даже любовник! А может, и не один... Есть дача, машина. Соседей по коммуналке расселили по отдельным квартирам, и Тамила Анатольевна осталась полноправной и единовластной хозяйкой трёх комнат на Ленинском. Недавно купили ей шубу на рынке, а ещё раньше – колечко с маленьким камушком. «И, наверное, – думал Роман Николаевич, – ей совсем неважно, как она всё это получила. Вряд ли она думает о цене – ей важен результат!»
А он, молодой, талантливый человек оказался в кабале у этой твари, безобразной, алчной, невежественной и лукавой. Он боялся уйти от неё, боялся, что она никогда не оставит его в покое. Она точно парализовала его волю, лишила способности сопротивляться и стоять за себя. И он бесился и ненавидел себя за это. А её сравнивал с насекомым, которое впивается и сосёт кровь, и оторвать которое стоит усилий.
Как только Роман Николаевич понял, что подвиг со спасением обесчещенной женщины не удался, его тщеславие повернулось к нему другой стороной – он стал стыдиться Тамилы Анатольевны. Пока он думал, что спасает её, стыда не было. Но теперь он стыдился появляться с ней на людях. Ему казалось, что окружающие, глядя на них, думают: «Где только нашёл такую?..» Сам он, когда смотрел на улице на проходивших мимо женщин, думал: «Ну, все лучше, чем она!.. Ну, все...» Она стала ему противна.
Как-то он вернулся с работы раньше обычного и вошёл в квартиру, открыв дверь своим ключом. Она в это время разговаривала с кем-то по телефону и не слышала его. Сначала Роман Николаевич не понял, ни с кем она говорит, ни о чём идёт речь. Но потом разобрал.
Говорила она негромко. Говорила тем томным голосом, каким обычно пользовалась в спальне:
– Я хотела, чтоб вы знали, Валентин, что... что вы можете полностью же на меня рассчитывать... Вы понимаете?.. Понимаете, о чём я?.. Если ж вдруг вы захотите отдохнуть… Прошу вас располагайте мной...
Роман Николаевич прекрасно знал этого Валентина. Это был начальник его отдела, Валентин Васильевич Ячный, пожилой, но любвеобильный субъект. Роман Николаевич был в хороших с ним отношениях, и несколько раз Валентин Васильевич бывал у него дома.
«Интересно, что ей от него-то понадобилось? – подумал Роман Николаевич, бесшумно пристраивая портфель под вешалкой. – А-а-а! Не иначе решила за мою карьеру взяться!.. Спасибо, милая!.. Н-да!» И Роман Николаевич почему-то вспомнил, как когда-то называл её «девочка моя». И ему стало стыдно. Он с силой хлопнул входной дверью. Тамила Анатольевна замолчала, но в ту же секунду громким деланным голосом сказала:
– Ну, ладно, Манечка, пока... А то масик мой с работы пришёл...
В следующую минуту она вышла в прихожую. В глазах её он поймал страх и насмешку.
– Ты сегодня рано, солнце моё! – сказала она невозмутимым голосом. – Звонила Манечка Косолапкина... Тебе привет...
Он молча прошёл в комнату, где только что она предлагала себя его начальнику. На полу, на ковре сидели дети. И катали по ковру какие-то свои игрушки.
VI
Он никогда не ревновал её. Но ему не нравилось представать дураком перед ней и её любовниками, пусть даже никто из них и слова доброго не стоил. А кроме того, ему с некоторых пор было стыдно от приятелей, потому что он не был уверен, кто из них был с нею в связи, а кто – нет. И порой ему казалось, что над ним посмеиваются. И он ненавидел жену за те унижения, которые испытывал, благодаря её интрижкам.
Роман Николаевич понимал, что лучше всего в этой ситуации было бы развестись или хотя бы уйти от неё. Но не делал этого, во-первых, из-за нежелания ещё раз начинать жизнь сначала, во-вторых, из-за страха перед ней, а в-третьих, из-за детей. Он успел привязаться к её детям, жалел их и воображал, что ждёт обоих, реши он уйти из этой семьи. Другими словами, обстановка опять показалась Роману Николаевичу вполне подходящей для подвига, и он решил принести себя в жертву этому демону в юбке ради двух маленьких, беззащитных существ, которые без него погибнут.
Случалось, он думал, что хорошо было бы влюбиться и хоть изредка встречаться с симпатичной и желанной женщиной. И даже пытался представить себе её лицо, волосы, плечи. Чёткого образа не получалось, но зато он неизменно видел, как ждёт её возле станции метро. В руках у него цветы. Он очень волнуется. Но вот она появляется из метро и идёт, нет! – бежит к нему навстречу! Вот она всё ближе, ближе... Наконец, подбегает и... бросается к нему на шею!
И когда он представлял, как обнимает её затем, как целует её мягкую, тёплую шею, сердце его тоскливо сжималось, и он с трудом сдерживал слёзы. Ведь в глубине души он знал, что никогда этому не бывать...
Но в то же самое время стоило ему подумать, что снова придётся искать, потом ухаживать, ездить куда-то, волноваться о том, как бы не выдать себя жене, видения его таяли. И он убеждал себя, что лучше оставить всё, как есть...
***
Он расположился у телевизора с бутылкой пива и вскоре услышал, как в ванной зашумела вода – Тамила Анатольевна принимала душ.
Роман Николаевич прислушался. «Сколько ни мойся – чище не станешь... Тварь! Потаскуха! С кем, интересно, сегодня была?» – думал он, глотая горькую, клейкую жидкость.
Потом вода в ванной стихла, и ещё через некоторое время Тамила Анатольевна в банном халате прошла мимо Романа Николаевича в спальню.
– Спокойной ночи! – бросила она ему.
Он промолчал.
Немного погодя, он зашёл в спальню, чтобы взять плед – от пива ему стало холодно. Она лежала в постели с каким-то своим романом в руках. Его приход она, судя по всему, истолковала по-своему:
– Ах, нет же, солнце моё! – простонала она, заглядывая ему в глаза. – Я так устала сегодня – всё тело ноет. Давай завтра, хорошо?..
Он взял плед и молча вышел из комнаты.
Коварная Люська
Люська Семечкина захотела замуж. Она и раньше хотела, да не брал никто. Но тут ей, что называется, приспичило.
Не то, что она хотела в мужья принца или предпринимателя, как обычно того хотят молодые неразвитые девицы. Нет, Люську бы устроил самый, что ни на есть завалящий мужичишка. Лишь бы он отдавал ей свою заработную плату и не особенно надирался по случаю получки.
Вообще-то, если говорить начистоту, Люська именно предпринимателя в мужья и хотела. Но, отдавая себе отчет по поводу своей наружности, наша Люська решила за большим не гоняться.
А надо сказать, что Люська Семечкина была не особенно старая и не особенно молодая особа. Ей было лет что-то около тридцати. И собой она была довольно-таки страхолюдная. Не то, что на неё нельзя было смотреть без слёз. Хотя, конечно, видок у ней был звероватый. В общем, судите сами. Левый Люськин глаз слегка косил и потому смотрел не прямо перед собой, а куда-то в сторону и вдаль. И на левую же ногу Люська малость западала. Но зато в Люське было весу на восемьдесят пять кило. Одним словом, это была мордатая и колченогая особа да ещё с кривым глазом.
Понятно, почему к своим тридцати годам Люська ещё не была замужем и не успела познать радость взаимной любви.
Конечно, про глаз и ногу Люське никто ничего не говорил. Никто даже не шарахался от Люськи при встрече и не спрашивал, что это у неё с глазиком или почему это она так кокетливо передвигается. Словом, все проявляли чудеса такта и выдержки. Точно Люська – первая красавица. Точно и глаз у Люськи не кривой, и нога на месте. Короче говоря, никто не задавал Люське участливых вопросов, но и замуж никто не брал.
А Люське, прямо смерть, как замуж захотелось. Тем более, что Люськина подружка недавно весьма удачно обзаконилась и чувствовала себя относительно счастливой.
И вот наша Люська, подстрекаемая подружкиным счастьем, начала судорожно думать, где и как ей заполучить жениха.
А надо сказать, что Люська Семечкина работала на небольшом предприятии, на котором кроме Люськи работали ещё несколько тысяч человек. И среди этих нескольких тысяч попадались мужчины самых разных возрастов и абсолютно разных семейных положений.
В общем, Люська решила искать супруга среди своих сослуживцев. И тогда она стала присматриваться своими разнообразными глазами ко всем без исключения сотрудникам мужеского полу и прокручивать в уме всевозможные варианты их обольщения.
И вот Люська так присматривается год или два, и наконец у неё созревает стратегический план. Она выбирает у себя на предприятии самого молодого сукина сына, которому вчера минуло двадцать, и у которого в голове страшная путаница и полное отсутствие какого-либо мировоззрения. Вот она кладёт свой искривлённый глаз на этого недоумка и начинает его обхаживать. Поначалу мальчонка пугается и делает отчаянные попытки пресечь эти Люськины куры[2]. Но Люська, которой ещё пуще хочется замуж, впивается в него мёртвой хваткой и постепенно заводит с ним дружбу.
Наша Люська делает модную стрижку, покупает ортопедические ботинки и через это начинает выглядеть привлекательнее и даже, как будто, меньше хромать. Она изо дня в день случайно встречает своего избранника в коридорах своего предприятия и подмигивает ему здоровым глазом. Она кокетливо хихикает и увлекает свою симпатию на прогулку.
И вот они целый месяц таскаются вечерами по улицам. Она висит у него на руке, а он, в силу своей недопустимой молодости и сопутствующего ей легкомыслия, слушает разный Люськин вздор.
И как-то раз Люська говорит:
- Может, нам с вами в театр сходить. Или в кино. Или на концерт рок-музыки?
Парень, которого, кстати, все называли Серёгой, отвечает:
- Ну, можно. Чего ж не сходить? Ежели, отвечает, за ваш счёт, то я всегда с удовольствием.
Люська говорит:
- Замётано!
И вот Люська Семечкина берёт два билета и ведёт своего избранника в театр. И весь следующий месяц они таскаются по театрам и киношкам. Они протирают штаны и спускают кучу денег. И как-то раз после спектакля Люська говорит:
- Проводите меня сегодня до дому! Мне, говорит, чего-то страшно одной возвращаться. А дома мы с вами чайку попьём, телепередачи посмотрим…
Люськин кавалер говорит:
- Что ж, могу проводить. Мне, говорит, не трудно.
И тогда они идут к Люське домой. Они там пьют чай и смотрят телепередачи. А утром они переходят на «ты» и вместе отправляются на работу.
И весь следующий месяц они пьют чай и смотрят телепередачи у Люськи, а по утрам вместе ходят на работу.
И в скором времени, Люськин хахаль, которого все называли Серёгой, перестаёт замечать, что у Люськи разные глаза и ещё более разные ноги. Он привыкает к Люське и прекращает пугаться её зверовидного облика. И через это у них складываются вполне такие законченные дружеские отношения.
Но Люську такие отношения удовлетворяют крайне мало, точнее сказать, совсем не удовлетворяют. Потому что наша Люська мечтала о замужестве и законном браке. И она чрезвычайно печалилась, что её личная жизнь не складывается, и до сих пор никто не сделал ей предложения вступить в брак.
А Люська Семечкина, воспитанная ещё при старой формации, решительно не понимала браков, не зарегистрированных в государственных органах. Она совершенно не разбиралась в современности и не принимала новых взглядов на семью. Люське хотелось, чтоб всё, как у людей. То есть ЗАГС, цветочки-лепесточки, белое платье, эскорт и вечный огонь.
И вот Люська видит, что её сожитель, которого все называли Серёгой, и которого она пригрела на своей груди, не мычит и не телится с предложением руки и сердца. И на этой почве у Люськи время от времени происходят расстройства и истерики.
И тогда наша Люська решает выложить Серёге всё начистоту и, как говорится, без обиняков. Она говорит:
- Мы живём уже цельный месяц одним хозяйством, а ты не мычишь и не телишься. Мне, говорит, столько лет, что прямо страшно называть эту многозначную цифру. А я до сих пор не была замужем. Это, говорит, прямо конфузно для такой пожилой особы, как я.
Тогда Люськин молодой сожитель говорит:
- Я, дорогая Люсико, понимаю, что старость у тебя не за горами. Но поскольку я ещё очень молод и страшусь брака, то не могу сразу принять твоё предложение. Мне, говорит, надо немного подумать, а после я скажу тебе моё решение. Дам, так сказать, мой ответ.
И тут Люська Семечкина овладевает собой и продолжает преспокойно пить чай и смотреть телепередачи.
Но проходит довольно много времени, а тот, которого все называли Серёгой, обратно не мычит и не телится. И Люська, отказывающаяся понимать что-либо, снова впадает в нервное беспокойство и начинает пугаться своей бездетной старости. И через это она неимоверно страдает, рыдая и кляня судьбу.
И тогда Люська Семечкина вспоминает некую киноэпопею, сотворённую где-то на Американском континенте. И эта киноэпопея не проходит для Люськи даром. Наша Люська решает сказаться беременною.
И тогда она говорит своему хахалю:
- Я, говорит, Серёня, вроде как тяжесть в животе чувствую. С чего бы это?
Серёня говорит:
- Не знаю, с чего. Может, говорит, объемшись.
Наша Люська так ехидно усмехается и говорит:
- Нет, говорит, Серёня, не объемшись. Это у меня младенец зарождается в животе. Твой, говорит, младенец-то. Так что запасайся, Серёня, штанами, едем заявление в ЗАГС подавать.
Тут Серёня, услышав про такой неожиданный сюрприз, прямо дрожит и пугается за свою загубленную молодость. И он мечется по комнате, что тигр, не видя выхода из этого пикантного положения. Он говорит:
- Мы, говорит, ни о каких младенцах не договаривались. Это сплошной обман и надувательство. Я, говорит, не верю в таких мифических младенцев. Где у тебя медицинское заключение на этот счёт?
Тут Люська Семечкина, предвидевшая такой поворот событий, обиженно так говорит:
- Это, говорит, довольно оскорбительно для меня, как для женщины и матери. Это просто даже пощёчина в мой адрес. Но если, говорит, ты так настаиваешь, то завтра же мы пойдем к моему знакомому доктору, и я представлю тебе медицинское заключение, как таковое.
И вот они идут к знакомому доктору, у которого Люська получает аудиенцию и быстренько сговаривается в цене. И, сговорившись с доктором, наша Люська появляется со слезами на своих изогнутых глазах перед будущим отцом. И вот она так эффектно появляется и протягивает ему медицинское заключение.
А будущий отец растерянно читает это заключение, из которого явствует, что гражданка Люська Семечкина действительно носит под сердцем дитя, отцом которого, судя по всему, является гражданин Серёга Булкин.
И тут Серёга Булкин понимает, в какой переплёт он попал, и чего теперь его ожидает. Он понимает, что теперь ему не выпутаться. И он говорит:
- Ты во что меня, старуха Изрыгиль, втравила?
Тут между ними происходят волнения и грубая сцена. После чего наша Люська поднимает хай и кричит:
- Православные! Гляньте на злодея-супостата! Обесчестил, окаянный, а теперь нос воротит. От собственного ребятёнка нос воротит!
И вот Люська так кричит благим матом. И вокруг них действительно начинает собираться толпа, которая тоже кричит и ахает. И тогда Серёга Булкин не выдерживает натиска толпы и добровольно, под влиянием общественности идёт в ЗАГС с Люськой Семечкиной. Там они подают заявление и месяц спустя женятся законным браком.
И вскоре у них действительно рождается младенец. Правда, с небольшим опозданием.
Но это уже пустяки.
На это уже никто не обращает внимания.
Случай в бане
Бани у нас, граждане, завсегда служили объектами насмешек. Про них завсегда разные там сатирические повести писали. Высмеивали, значит, банные порядки.
Это, конечно, что касается общественных бань. Городских. А то теперь таких бань понастроили, что смеяться не захочется. В такой бане, граждане, главное - это своего достоинства не уронить. Тут уж не до смеху. Тут уж гляди, чтоб спина ровная, а ноги бритые. Поскольку публика в таких банях уж больно элитарная подбирается.
Ну, мы здесь задерживаться не станем. Отправимся, куда попроще. А можно самим не ходить, а послушать, чего люди рассказывают.
Вот отправилась в баню Сусанна Григорьевна Печёнкина, работник дорожного хозяйства. Отправилась она, значит, помыться. Ну, пыль дорожную смыть, кости свои престарелые попарить. Вот пришла Сусанна Григорьевна в баню. Отдала за вход двадцатку и прошла в предбанник. Ну, побродила минут сорок по предбаннику. Наконец притулилась кое-как на скамеечку. Барахлишко своё развесила, огляделась. Смотрит, мать честная! Которые помыться пришедши, все чего-то кушают. Одна чай с лимоном, другая котлетку, третья куриную ногу догладывает. Токмо что щей никто не хлебает. И такое, знаете, чавканье отовсюду доносится - плакать охота. А запах!..
Поморщилась Сусанна Григорьевна, носиком передёрнула и думает: "Ишь ты, - думает, - раньше-то в банях всё больше стирали, а теперь, гляди-ка, покушать ходят".
Тут надоело ей смотреть, кто как кушает, пошла она париться. Приходит, садится на полок. Дышит. Воздух горячий, нутро обжигает. Но ничего, вдыхать можно. Только вроде пахнет как-то странно. Вроде дух такой тяжёлый распространился, с ног шибает.
Огляделась Сусанна Григорьевна. Видит, сидят две бабёночки в халатиках махровеньких. Греются.
В парилке-то и без халатиков жарынь. Пот в шесть ручьёв льёт. А в халатике-то и вовсе жить не хочется. Но бабёночки - ничего. Сидят, семечки лузгают. Потеют только, сволочи.
Сусанна Григорьевна им говорит:
- Вы бы, - говорит, - бабёночки, ещё польта на себя нацепили. Воняют, - говорит, - халатики-то.
Бабёночки на Сусанну Григорьевну посмотрели и говорят:
- Заткнись, - говорят, - старая перечница. А то сейчас сама завоняешь.
Вздохнула Сусанна Григорьевна, головкой покачала. Не сказала ничего. Да и что тут скажешь-то?
Сидит дальше. Дышит. Глаза прикрыла, вроде полегче стало. Вроде не так пахнет.
Тут заходит энергичная такая бабёночка с ушатом воды.
- Эхма, - говорит, - чего-то у вас тут прохладно. Сейчас, - говорит, - парку поддадим.
И с ушатом своим к печке направляется.
Взмолилась Сусанна Григорьевна:
- Что вы, - говорит, - бабёночка, какие экзекуции вздумали устраивать! Дозвольте, - говорит, - так посидеть, подышать свежим воздухом.
Ухмыльнулась бабёночка. Ушат свой поставила, подбоченилась и говорит:
- Это, - говорит, - какое ж у нас население эгоистичное! Самой не надо, так пущай другие мёрзнут. Нет, - говорит, - недопустимо из-за одной малахольной людей удовольствия лишать. Это, - говорит, - ежели каждый начнёт свои порядки устанавливать, что ж такое будет?
И цельный ушат без дальнейших переговоров в печку опрокидывает.
Батюшки-светы! У Сусанны Григорьевны в глазоньках потемнело, в горлышке пересохло. Сидит она, горемычная, воздух ротиком ловит, ручками за сердце хватается.
Встала наконец Сусанна Григорьевна со своего полка, а ноженьки-то у ней и подкосились. Насилу выползла, сердечная.
Поплелась Сусанна Григорьевна в предбанник. Отдышаться и в себя прийти от таких потрясений. Доплелась она до скамеечки, где барахлишко своё оставила. Смотрит - что такое? Нету барахлишка. Скамеечка стоит. Спинка у скамеечки на месте. А на крючочках чужие вещички развешаны.
Там в бане скамеечки такие с высокими спинками. К спинкам крючочки приколочены. Которые помыться пришедши, на тех крючочках своё барахлишко оставляют.
Стоит Сусанна Григорьевна, глазками хлопает. "Может, - думает, - скамеечка не та?" Огляделась она окрест. Нету. Скамеечка та. И спинка на месте. И крючочки не оторваны. Барахлишко только на крючочках чужое. Незнаемое барахлишко. Стоит Сусанна Григорьевна. Удивляется.
Тут подходит к ней бабёночка. Голенькая. Мочалкой помахивает.
- Это, - говорит, - ваше, что ли, тут тряпьё было оставлено? Так я его поскидала. Я, - говорит, - уже пять лет в этой бане моюсь и завсегда на данной скамейке разоблачаюсь. А тут, глядите! Тряпьё какое-то развесили. Прямо скамейки узнать невозможно. Нет, - говорит, - я никому не позволю свои портки на мою скамейку развешивать. Пока меня нету - пожалуйста! А так, чтоб на моих глазах... Нет, - говорит, - не позволю! А ваше тряпьё, между прочим, вон, на стуле возле входа валяется.
Постояла Сусанна Григорьевна, посмотрела на мочалку. Хотела было плюнуть той бабёночке в глазоньки. Или в волосья рученьки запустить. Да передумала. Уж больно у самой сердце в ту пору колотилось.
Махнула она рукой, подумала: "Ну вас!", и домой пошла.
Семейная драма
Недавно, мне рассказывали, произошёл в Москве презабавный такой случай из области семейного предания. Дело было так.
Одна юная особа, получившая высшее образование в университете и мечтавшая свои полученные знания обратить на пользу человечеству, поступила на службу к своему зятю. Иными словами, к мужу своей сестры. Этот зять был хозяином некой конторы. И в эту свою контору он принял нашу девицу на должность.
Деятельность конторы, ей-богу, трудно определить словами. Скорее всего, тая контора покупала всё одно какой товар, а после перепродавала его с некоторым удорожанием цен. А разницу оставляла себе в качестве прибыли. И вся эта колготня называлась у них бизнесом.
А сам зять нашей девицы, Виталий Альфредович Акулёнок, называл себя бизнесменом.
А надо сказать, что Виталий Альфредович не всегда был бизнесменом и хозяином конторы. Когда-то он жил в лесах Белоруссии. А потом учился в Кологриве на зверовода. Но однажды он случайно оказался в Москве и ловко так подженился на сестре вышеозначенной особы. И вот слово за слово он начал довольно бойко приторговывать всем подряд. И вскоре стал называть себя бизнесменом.
Оглядываясь на своё звероводческое прошлое, Виталий Альфредович Акулёнок подкручивал свои рыжие усы и думал: "Эвон, какую я карьерищу загнул! Дайте срок, я и до Америки доберусь!" И от таких мыслей у него начиналось, что называется, головокружение от успехов. А когда это головокружение у него начиналось, он принимался трещать, что сорока, и учить жить направо и налево. Потому что в такие минуты он любил людей и желал передать им свой жизненный опыт, нимало не беспокоясь при этом, желал ли того ещё кто-нибудь из тех самых людей, кого он так любил.
И вот в одну из таких любвеобильных минут рядом с ним оказалась наша юная девица. И он излил на неё весь запас своих поучительных историй. А она, как человек молодой и оттого не вполне проницательный, слушала его, раскрыв рот.
И потом она несколько раз приходила к нему в контору посмотреть, как он ловко зарабатывает деньги и строит счастливую жизнь.
А он, польщённый её вниманием, пыжился и буквально вылезал из своей кожи, всячески подчёркивая, что он бизнесмен и хозяин конторы. И через это она вскоре захотела работать у него под началом и вести такую же серьёзную и деловую жизнь. И она стала просить его об этом семейном одолжении.
Но поскольку его контора занималась вполне такими будничными вещами, как перепродажа или попросту спекуляция, то надобности в молодых специалистах Виталий Альфредович Акулёнок не испытывал. Но, будучи человеком тщеславным, он не мог сказать об этом напрямую своей молодой родственнице, боясь разочарований с её стороны.
И вот тут он оказался загнанным в угол. Ему было стыдно ей отказать и тем самым расписаться в своей никчёмности. Но в то же время, приняв её на службу, он был вынужден платить ей заработную плату. А поскольку платить мало он не мог, боясь ударить своим лицом в грязь, ему пришлось тряхнуть мошной и немножко поиздержаться.
И через все эти мелкие переживания он начал тихо ненавидеть свою молодую свояченицу, втравившую его в непредвиденные расходы.
А наша глупая, юная девица явилась в контору, нацепила очки и развернула, как говорится, бурную деятельность по поводу своей предстоящей работы. Но поскольку работы для неё не было и в помине, то ей поручили развозить какие-то письма и заваривать чай в обеденный перерыв. Но такая, с позволения сказать, работа не могла удовлетворить её юношеских амбиций.
Этой молодой дуре была охота приносить своими знаниями пользу человечеству. И она не была согласна всю жизнь разливать чай и отгонять мух своим университетским дипломом. Она вполне резонно заметила, что не для того училась пять лет, чтоб дрызгаться с чаем. Чтоб разливать чай, вовсе не обязательно учиться. Даже в школе.
И в связи с такими философскими соображениями, а также от нечего делать наша девица скучает, дремлет на своём рабочем месте и делается прямо не от мира сего.
Но по наивности, присущей её нежному возрасту, она продолжает надеяться, что и для неё отыщется стоящая работёнка. Которая позволит ей, так сказать, развернуться и показать всем, на что она способна.
И вот наша девица сидит возле своего самовара, разливает чай и ждёт лучших времён. А иногда выполняет другие мелкие поручения.
И чтобы скоротать время и не свихнуться от скуки, она начинает строить глазки всем подряд мужчинам вокруг себя.
А поскольку наша девица, кроме университетского диплома, имела вполне такую миленькую наружность и весёлый нрав, то мужчины на радостях пускаются водить вокруг неё хороводы.
А Виталий Альфредович Акулёнок, бизнесмен и хозяин конторы, втайне одобряет этот ажиотаж, надеясь впоследствии обернуть его в свою пользу.
Но всё происходит иначе. Потому что события начинают вдруг развиваться в хаотическом порядке.
Наше юное создание неожиданно для всех влюбляется в обременённого семьёй мужчину, который к тому же старше её лет на десять. Но это последнее обстоятельство нисколько её не смущает. А даже напротив, прибавляет ему авторитета в её глазах.
И вот она довольно-таки сильно в него влюбляется и уже ни о чём не может думать, как только о союзе с ним.
А он, не знавший, что такое любовь, вдруг подпадает под власть этого пленительного чувства и становится другим человеком. Он меняет на противоположные свои жизненные ориентиры и совершенно бросает пить.
И он даже решает оставить свою злую и порядком надоевшую жену с тем, чтобы жениться на своей возлюбленной.
И вот наши голубки, сговорившись о грядущем счастье, объявляют изумлённой публике своё решение, касательно совместного проживания.
Но тут-то и начинается полная неразбериха и вообще свинячья петрушка.
Виталий Альфредович Акулёнок, бизнесмен и хозяин конторы, в которой, кстати, работает и наш жених, всячески препятствует воссоединению любящих сердец и зачем-то пытается очернить свояченицу в глазах её избранника.
Лариса Акулёнок, домашняя хозяйка и сестра нашей юной особы, забросив кастрюли, своими чахлыми грудями встаёт против этого брака. Ей порядком надоело возиться с кастрюлями, и она давно мечтала проявить себя на другом поприще. И вот вместе с бывшей женой нашего жениха, этой скандальной и злющей особой, они трубят повсюду, что жених несостоятелен, как мужчина, и потому не годится к супружеской жизни. И что невесте тоже не на что рассчитывать, поскольку она слаба умом и вообще дефективная.
Они говорят:
- Она же бешеная! Она бросается на всех без разбору. Её надо изолировать в лечебнице!
И наши влюблённые страшно удивляются такой реакции окружающих, но жениться не перестают. А напротив, не обращая ни на кого внимания, они наслаждаются своим медовым месяцем. Они буквально млеют от счастья и не отходят друг от друга. И он нежно целует её тонкие пальчики, а она кормит его с ложечки творогом. В общем, у них царят мир и согласие.
А между тем, Лариса Акулёнок заявляется в контору своего мужа эдакой царицкой и говорит всем собравшимся:
- Я, говорит, никогда не изменю своим моральным соображениям. А мои моральные соображения в том заключаются, что ежели кто от жены ушёл, то он - подлец. И я не посмотрю ни на какое родство. Мне, говорит, никакое родство не помешает оставаться принципиальной и порядочной. И потому я с такими оторвами, которые чужих мужей уводят, ничего общего не могу иметь. Тем более, говорит, родства не могу иметь.
Тут все собравшиеся говорят:
- Да-а-а!
И идут работать.
А Виталий Альфредович Акулёнок, бизнесмен и хозяин конторы, так говорит:
- Передайте этой дуре, моей молодой свояченице, что я её ненавижу. Я, говорит, давно её недолюбливаю. За то, что она напросилась ко мне на работу и вынудила меня платить ей жалованье. А теперь я по её милости должен ещё содержать бывшую жену её мужа. Поскольку, говорит, я прямо не могу спокойно смотреть, когда при мне обижают женщин и детей. Мне буквально плакать хочется, глядя на такие мрачные картины. Меня, говорит, ну, прямо коробит от такого нехристианского обращения со слабым полом. И поскольку вид брошенных женщин портит мне кровь, я, пожалуй, назначу бывшей жене этого многожёнца какое-нибудь приличное содержание. А ведь эдак никаких денег не напасёшься. Так что теперь уж я вправе свою свояченицу вполне задушевно ненавидеть. От всего, так сказать, сердца.
И вот бывшая супруга нашего жениха, эта скандальная особа, начинает получать ежемесячную сумму от зятя новой жены своего бывшего мужа.
И все вокруг дивятся такому поистине неслыханному благородству, к тому же совершенно не свойственному нашему людоедскому времени. Такое благородство вызывает у окружающих замешательство и нездоровый интерес.
Но особенное замешательство последовало со стороны нашего жениха. Он говорит:
- С чего бы это мой новый родственник так расщедрился? Я, говорит, прекрасно знаю всю его скупость. Да он, может, за копейку удавится. А тут, глядите, пенсии раздаёт разведёнкам.
И вот наш жених, подстрекаемый любопытством, звонит по телефону своей бывшей жене и говорит:
- Это, говорит, за какие такие заслуги Виталий Альфредович Акулёнок, бизнесмен и хозяин конторы, платит тебе пенсию?
Бывшая жена, эта скандальная особа, не отличавшаяся к тому же фантазией, так говорит:
- Если б ты, говорит, будучи моим мужем, был малёк повнимательней и не всё время пялился в телевизор, ты бы сейчас не задавал таких дурацких вопросов.
И вот она всё это ему выкладывает и вешает трубку.
И тут наш жених несколько побледнел и покачнулся на своих ноженьках. И такие вроде у него круги перед глазами поплыли. И вот он, эдак покачиваясь, присаживается на краешек стула и говорит:
- Ну, теперь мне всё ясно. Прямо, говорит, пелена с глаз упала. Так вот чем объясняется такая забота о ближнем. То-то, говорит, я смотрю, они там все взъерепенились, жениться не давали.
И вот постепенно вырисовывается такая похабная картина.
Наша юная девица работает под началом своего зятя, мужа своей сестры. Вместе с ней работает интересный мужчина, жена которого имеет интрижку с начальником своего мужа, зятем нашей девицы. Засим интересный мужчина женится на юной девице, свояченице своего начальника, любовника своей первой жены.
Тут все они между собой страшно ругаются и сводят старые счёты. Потому что некоторые из них ни о чём не подозревают, а другие не довольны такими переменами.
Но постепенно все успокаиваются. Юная девица счастливо живёт со своим мужем. Они нашли новую работу и с радостью трудятся в одной упряжке. Её бывшая сестра, Лариса Акулёнок, вернулась к своим кастрюлям. Виталий Альфредович Акулёнок, бизнесмен и хозяин конторы, недавно вполне удачно сбыл партию вяленой рыбы. Так что дела его идут в гору. Он, кстати, разочаровавшись в скандальном характере своей наперсницы, перестал с ней встречаться и переключился на подругу жены. А что касается самой наперсницы, то есть бывшей супруги того интересного мужчины, о ней решительно ничего не известно.
Но самое интересное, что история эта вовсе не навеяна латиноамериканским кинематографом. Эту историю мне по секрету поведала та самая юная девица. А уж я, не утерпев, рассказываю её вам.
Бедная родственница
Дарья Степановна Сундукова, немолодая, но всеми уважаемая пенсионерка, решила в Москву съездить. Дарья Степановна жила на станции "Семенное Хозяйство" километрах эдак в пятидесяти от Москвы. И вот она решила со своей станции отправиться в Москву. Поглазеть на столичную жизнь. Но на электропоезде Дарья Степановна не хотела ехать. Потому что это была в высшей степени избалованная и капризная старуха. Ей, видите ли, не нравился общественный транспорт, да к тому же ей жалко было денег покупать билет в оба конца. Она говорила, что не может позволить себе такой роскоши.
И тогда Дарья Степановна решает ждать, когда кто-нибудь из её знакомых или родственников соберётся в Москву на собственном автотранспорте.
И вот она так ждёт что-то около года. Но однажды она узнаёт, что сразу несколько человек отправляются со станции "Семенное хозяйство" в Москву. А эти несколько человек суть сестра Дарьи Степановны Марья Степановна и дочь сестры Дарьи Степановны со своим мужем. При этом Марья Степановна отправляется в столицу по своим служебным делам на служебном же автомобиле. А дочь Марьи Степановны со своим мужем отправляются по каким-то своим личным делам на личном автомобиле.
И тогда наша многоуважаемая Дарья Степановна оказывается перед выбором. Она не знает, какой автомобиль ей предпочесть и с кем ехать в Москву. И через эти мучительные сомнения она не спит ночью и теряет свой покой днём.
С одной стороны, ей, из самолюбия, охота прокатиться на служебном автомобиле. С другой стороны, Дарья Степановна большая любительница молодёжи. И ей охота поболтать с молодой племянницей и её мужем. Ей интересно знать, чем живёт теперешняя молодёжь, и какие, так сказать, вопросы её занимают.
И вот Дарья Степановна Сундукова так мучается, теряет в весе и наконец придумывает компромисс. Наша Дарья Степановна решает убить двух зайцев. Она решает поехать в Москву с племянницей и её мужем, а вернуться с сестрой Марьей Степановной. И вот она принимает это своё решение и уведомляет о нём своих родственников.
Дочь сестры Дарьи Степановны со своим мужем говорят:
- Пожалуйста, Дарья Степановна! Нам, говорят, всё равно. Хоть пешком обратно идите.
Но сестра Дарьи Степановны, Марья Степановна, говорит:
- Дарья, говорит, Степановна! Мне, говорит, просто удивительно, как такая немолодая, но всеми уважаемая старуха, каковой ты являешься, не понимает таких простецких вопросов и совершенно не сечёт в государственных делах. У меня, говорит, служебный автомобиль, а не машина сопровождения. И я не могу сопровождать тебя во всей твоей увеселительной поездке. Мне, говорит, неведомо, в котором часу я освобожусь от своих в высшей степени служебных дел. И потому давай так. Либо ты едешь со мной и не кажешь носу из машины, либо ты едешь с ними и делаешь, что хочешь.
Но Дарья Степановна, которой ужасть, как хотелось и по Москве прошвырнуться, и на служебном автомобиле катнуть, решила не сдаваться без бою. Про себя она так подумала: "Имею я, немолодая, но всеми уважаемая Дарья Степановна, право хошь раз в жизни прокатиться на служебном автомобиле?"
И вот она так про себя думает, но не подает виду, а говорит:
- Марья, говорит она, Степановна! Не такая уж я и дура, как тебе кажется. Я, говорит, предлагаю такую рационализацию. Если тебя в твоем служебном автомобиле не будет в четыре часа у метро "Маяковская", то я вернусь домой с твоей дочерью и её мужем. И наоборот.
Марья Степановна, подумавши, говорит:
- Ну, что ж, хорошая, говорит, рационализация. Пожалуй, я на неё соглашусь.
На том они и расходятся.
И вот наступает день, когда Дарья Степановна Сундукова наряжается в пух и прах, подкрашивает свои посиневшие от времени губы и едет в Москву с дочерью своей сестры и её мужем.
И по дороге Дарья Степановна заводит дурацкие разговоры про театр и поэзию. Она смотрит на метель за окном и говорит:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
Не то, что Дарья Степановна так чудесно разбирается в поэзии. Нет, просто она имеет в своей старческой памяти десяток заученных строф и вставляет их к месту и не к месту, чтобы разукрасить свою постную речь. И потому, когда за окнами автомобиля показывается какая-то деревня, Дарья Степановна, вдохновлённая сменой декораций, говорит:
Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.
Потом они въезжают в Москву, и Дарья Степановна обратно говорит:
Москва. Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось...
Тут её внимание целиком переключается на Москву, как таковую, и она, слава Творцу, забывает про поэзию. Она глядит в окно и удивляется.
А надо сказать, что наша Дарья Степановна лет сто не была в Москве. С самого, наверное, семнадцатого года.
И потому она так глядит, выпучив глаза, и невыразимо так удивляется. Она прямо разводит своими руками и не хочет верить тому, что видит.
И вот они болтаются туда-сюда по Москве, меняют валюту, рыщут по магазинам и делают другие важные дела. А Дарья Степановна не устаёт удивляться по поводу и даже без всякого на то повода.
Но тут время подходит к двум часам. И наша Дарья Степановна перестаёт удивляться, а начинает беспокоиться. И она настоятельно требует, чтобы её доставили к метро "Маяковская", где в четыре у неё назначено свидание с сестрой Марьей Степановной.
На что дочь Марьи Степановны со своим мужем так говорят:
- Дарья, говорят, Степановна! Территориально мы находимся у метро "Тверская". Отсюда, говорят, до метро "Маяковская" - рукой, говорят, подать. А то и ближе. Мы, говорят, покроем это несерьёзное расстояние за десять минут.
Тогда Дарья Степановна, хотя и любящая молодёжь, но придерживающаяся о ней невысокого мнения, хмыкает и говорит:
- Я, говорит, прекрасно понимаю беспечность и взбалмошность, свойственные вашему возрасту. Но по этой самой причине, я, говорит, не могу на вас полагаться. Так что, везите меня к "Маяковской".
Тогда дочь сестры Дарьи Степановны со своим мужем, скрепя сердце, везут Дарью Степановну, куда она хочет. А там Дарья Степановна выскакивает из машины, зыркает по сторонам своими старческими глазами, а только затем смотрит на часы. И тут она видит, что часы показывают семь минут третьего. И наша Дарья Степановна вынуждена признать, что прибыла на встречу рановато.
Тогда она усаживается обратно в машину и говорит слабым голосом уставшей старухи:
- Мне, говорит, теперь решительно всё равно, куда ехать. Лишь бы к четырём сюда вернуться.
Тут муж дочери сестры Дарьи Степановны говорит:
- Мы, говорит, с удовольствием привезём вас сюда к четырём часам и с радостью сбагрим с рук.
И они снова болтаются туда-сюда по Москве, меняют валюту и рыщут по магазинам. А к четырём торжественно подъезжают к метро "Маяковская".
И вот они подъезжают, а наша Дарья Степановна выскакивает на ходу из автомобиля и снова зыркает своими старческими глазами во все стороны света. История повторяется. И снова она не видит Марьи Степановны.
И вот Дарья Степановна уже час не видит Марьи Степановны, но продолжает упорно колбаситься возле метро. Тогда муж дочери сестры Дарьи Степановны, этот бесчувственный тип, говорит:
- Мы, говорит, не можем ставить свои личные дела в зависимость от ваших старческих капризов. У нас, говорит, нет никакого желания стоять всю жизнь возле метро "Маяковская" и высматривать, не проедет ли здесь случайно Марья Степановна на своём служебном автомобиле. Вы, говорит, можете спокойно встретиться со своей сестрой дома, на станции "Семенное Хозяйство". Для этого совершенно необязательно торчать возле метро.
Тут наша Дарья Степановна, которая уже несколько замёрзла и оголодала, нехотя садится в машину и на время успокаивается. Она усаживается поудобнее и позволяет везти себя дальше.
Но как только они отъезжают от метро "Маяковская", Дарья Степановна видит, что в окне проносится автомобиль, похожий на автомобиль Марьи Степановны. Тут в автомобиле, где сидит Дарья Степановна, начинается страшный переполох и вообще суетня. Дарья Степановна алчет поскорей быть доставленной обратно к метро "Маяковская". Она алчет срочно воссоединиться со своей сестрой в её служебной машине. И чтобы приблизить это воссоединение, она прибегает к нецивилизованным методам, плюя в окно и грозя участникам движения. И даже у неё завязывается перебранка с одним из водителей, не пожелавшим уступить дорогу их автомобилю.
И вот дочь сестры Дарьи Степановны со своим мужем продираются сквозь дорожные заторы Москвы, подгоняемые кудахтаньем Дарьи Степановны. И через сорок минут они оказываются у метро "Маяковская". Тут опять мы видим наглядное подтверждение тому, что история развивается по спирали.
Когда наконец Дарья Степановна, исполнив ставший привычным ритуал, снова оказывается в машине, она заявляет, что никогда не простит Марье Степановне такого иезуитства и верхоглядства.
Тут родственники Дарьи Степановны, которым уже порядком надоело кататься по кругу, говорят:
- Дарья, говорят, Степановна! Что ж это такое получается? Мы, говорят, приехамши в Москву по своим личным делам, вынуждены, что на карусели, мотаться по кругу. Нас, говорят, прямо мутит от такого кругового движения. Нельзя ли, говорят, перестать ездить к метро "Маяковская"?
Тогда Дарья Степановна, обидевшись разом на всех живущих на земле, отворачивается к окну и горделиво молчит. Тут дочь сестры Дарьи Степановны со своим мужем, пользуясь заминкой, спешно покидают площадь у метро "Маяковская" и на всех парах мчатся прочь от этого заколдованного места.
Но когда они отъезжают на вполне, казалось бы, безопасное расстояние, Дарьей Степановной, то ли от расстройства чувств, то ли от избытка жёлчи, овладевает мрачное настроение с оттенками кликушества. Она говорит нараспев:
- Чую! Ох, говорит, чую, Марьюшка к метро подъезжает! Разворачивай обратно!
Тут дочь сестры Дарьи Степановны со своим мужем, испугавшись таких перемен и транса, в который впала Дарья Степановна, без слов разворачивают машину и катят туда, откуда приехали.
И вот в четвёртый раз Дарья Степановна выскакивает, зыркает, колбасится и наконец с позором возвращается в автомобиль.
Тогда дочь сестры Дарьи Степановны со своим мужем кумекают, что единственный способ никогда больше не видеть станцию метро "Маяковская" - это ехать домой. На станцию "Семенное Хозяйство". Что они и делают, помахав рукой незаконченным личным делам. И после, уже дома на станции "Семенное Хозяйство", они дают друг другу обет. Они торжественно клянутся никогда больше не связываться с Дарьей Степановной и иже с ней.
А наша многоуважаемая Дарья Степановна, разочаровавшись в своих бездушных родственниках, уже планирует поездку в Магнитогорск. Ждёт подходящего случая.
Занавески
Стульчиков Иван Афанасьевич вместе с молодой супругой отправился занавески покупать. Он недавно квартиру приобрел однокомнатную. И ему занавески нужны были. Чтобы в этой своей единственной комнате отгородиться от посторонних глаз.
Так вот, отправился Иван Афанасьевич покупать занавески. Потому как в квартире без занавесок не годится с молодой женой сосуществовать. Интерьер без занавесок неинтересный. Незаконченный интерьер.
Вот Иван Афанасьевич вздохнул, пересчитал наличность и отправился покупать занавески, будь они неладны.
Приехал Иван Афанасьевич в один магазин. Приехал и стал товар разглядывать. А молодая жена тут же вертится. Щупает ткани. Тут выходит к ним смазливая магазейщица и спрашивает:
- Вам помочь?
- Помогите, - Иван Афанасьевич говорит, - с ценами разобраться. Вот эта, к примеру, ткань сколько стоит?
- Эта ткань семьсот рублей метр стоит. А чтоб занавесочки пошить ещё сто пятьдесят уе.
Иван Афанасьевич испугался. Прямо вздрогнул от такой неожиданности.
- Как, - говорит, - сто пятьдесят уе? Да за сто пятьдесят уе я сам, - говорит, - чего хотите сошью. Ещё и крестиком вышью.
Магазейщица говорит:
- Можете, - говорит, - вышивать, сколько влезет. Мне всё равно. Я, - говорит, - прошу меня в ваши дела не посвящать. Мне это не интересно. Хотите - берите, не хотите - до свиданья!
Иван Афанасьевич говорит:
- До свиданья, - говорит. - Спасибо. Хороший у вас товар. Цены только какие-то странные. Прямо сказать, подозрительные цены.
Жена Ивана Афанасьевича говорит:
- Да, это для нас дорого. Мы, - говорит, - рассчитывали подешевле найти.
И вот поехали Стульчиковы в другой магазин. А там - та же история. Тряпка отдельно, пошив отдельно. И всё за свою цену. А цена опять-таки подозрительная.
Тогда Иван Афанасьевич говорит своей жене:
- Нам, - говорит, - Маруся, надо готовый товар искать. Уже пошитый. Чтоб они цену сразу называли. А не морочили нам голову своей поэтапной оплатой.
Тогда мадам Стульчикова говорит:
- Вспомнила! На Тверской, - говорит, - есть как раз такой магазин. "Чего-то там для дома" называется.
Иван Афанасьевич радостно говорит:
- Прекрасно! Мы сейчас туда отправимся и всё там быстренько купим. А если, - говорит, - у них там тоже цены неистовые, то я, - говорит, - сам тогда занавески пошью. Бесплатно.
И вот Стульчиковы поехали на Тверскую и довольно скоро нашли нужный им магазин. Они зашли вовнутрь и стали осматриваться. Обстановка, прямо скажем, помпезная в магазине. Тут пальма тряпичная, тут водопад, там охранник под ружьём стоит, смотрит эдак недоверчиво. Испугались Стульчиковы. А мадам Стульчикова едва чувств не лишилась. "Эвон, - думает, - куда нас с Иван Афанасичем занесло! Да и магазин ли это?.." Но тут выходит к ним смазливая магазейщица и спрашивает:
- Вам помочь?
Тогда Иван Афанасьевич немного приободрился, сжал супругин локоток покрепче и говорит:
- У вас, - говорит, - занавески имеются в свободной продаже? Мы, - говорит, - мечтаем приобрести пару готовых к употреблению занавесочек. Таких, то есть, которые в пошиве не нуждаются. Которые можно купить и сразу вешать.
Магазейщица смерила Стульчиковых взглядом, глазищами в карманах пошарила, видит, что там пусто, и через это очень так пренебрежительно отвечает:
- Довольно, - отвечает она, - удивительно. У нас тут магазин готового текстиля. Мы тут у себя полуфабрикатами не торгуем.
Иван Афанасьевич говорит:
- Так что ж, имеются или нет?
Тогда магазейщица спрашивает:
- А что?
Иван Афанасьевич прямо обомлел от таких вопросов. Он говорит:
- То есть, как это, помилуйте, "а что"?! Что это за странный такой магазин? Сколько лет, - говорит, - живу, а таких магазинов не видел. Чтобы покупателям такие экстравагантные вопросы задавали.
Тогда магазейщица примирительно говорит:
- Так вы купить хотите? Так бы и говорили! На лбу, - говорит, - у вас не написано, что вы покупатели. А может, вы жулики или воры какие. Сразу-то не разберёшь. А если вы, - говорит, - хотите купить, то это меняет дело. Если у вас даже деньги при себе имеются, то пойдемте, - говорит, - я вам покажу, какие у нас тут занавески развешаны.
И она повела их показывать товар.
И вот она ведет их по магазину. А в магазине вдоль стен расставлены шкапчики, в которых разложен товар. А вдоль этих самых шкапчиков понатыканы колонны. Для красоты. И между шкапчиками и колоннами - узкий такой коридор. Прям щель. И вот магазейщица заводит Стульчиковых в эту щель и расхваливает свой товар. Занавески она, значит, расхваливает. А Стульчиковым товар нравится. И цена их тоже устраивает. И вот Стульчиковы занавески крутят всяко разно, пробуют на зуб, слюнявят и осматривают швы на предмет гнилости ниток. А потом, к вящей радости нашей магазейщицы, отправляются платить.
А у Ивана Афанасьевича на плече болталась кошёлка, в которой он обыкновенно носил всякую дребедень вроде носовых платков, расчёсок, денег и документов. И вот Стульчиковы, оба два, направляются к кассе, а у Ивана Афанасьевича на плече мотается кошёлка. Как вдруг, где-то совсем рядом с Иваном Афанасьевичем что-то такое падает и разбивается, производя шум, грохот и вообще светопреставление. Едва опомнившись, Стульчиковы соображают, что случилось. Оказывается, что за колонной стоял ломберный столик, а на нем - настольная фарфоровая лампа. Но ни столик, ни лампу Стульчиковы из своей щели не видели. Поэтому, когда они протискивались наружу, Иван Афанасьевич зацепил лампу пресловутой кошёлкой. А лампа, на радостях, хряпнулась на пол и разлетелась во все стороны.
Тут магазейщица всплеснула руками и говорит:
- Ох, тошнёхонько! Вы ж меня, мерзавцы, без ножа зарезали! Мне ж за эту лампу полгода работать без выходных.
И вот она так говорит, а сама бежит за своим начальством, чтобы последнее засвидетельствовало её непричастность к погрому.
Тогда мадам Стульчикова покачнулась на своих ногах и захотела лишиться чувств. Но её супруг, Иван Афанасьевич Стульчиков, говорит:
- Держись, Маруся! Сейчас начнётся.
И мадам Стульчикова, эта мужественная женщина, обводит магазин блуждающим взглядом и берёт себя в руки. А в это время со всех сторон к ним сбегаются "текстильные" дамы во главе с вооружённым охранником. И все они наперебой выкрикивают обидные слова в адрес четы Стульчиковых. Сбежавшись, они, наконец, окружают плотным кольцом Ивана Афанасьевича с супругой и начинают предъявлять претензию.
А надо сказать, что Иван Афанасьевич был не какой-нибудь неуч и пьяница. Напротив, это был человек в высшей степени образованный по экономической части. И даже во времена коммунистической тирании он налаживал торговые связи со странами Магриба. А жители этих самых стран есть не кто иные, как арапы. А кто такие арапы, сегодня все знают. Сегодня арапы сорвали с себя маски и обнажили свой террористический оскал. Ещё, можно сказать, вчера Иван Афанасьевич бился и объяснял этим арапам, как надо налаживать торговые связи. А сегодня арапы объявляют почем зря священную войну, компрометируя тем самым Ивана Афанасьевича. Лично мне эти арапские выходки не нравятся. Но арапам закон не писан. И вот с такими-то оглоедами мучился Иван Афанасьевич, доводя до их арапского сведения, чем и как надо торговать. Словом, Иван Афанасьевич был человек закалённый общением с арапами, и "текстильщицы" его не пугали. "Текстильщицы" в сравнении с арапами - шелуха, очистки. А потому ни один мускул не дрогнул на щеке Ивана Афанасьевича, услышавшего оскорбительные и гневные выкрики в свой адрес. Однако мадам Стульчикова, как не вполне уравновешенная особа, совершенно ослабла и обмякла после стольких событий и переживаний. Почувствовав упадок сил и приступ тошноты, она впилась в рукав супруга и обвела "текстильщиц" блуждающим взглядом. И, чтобы разрядить обстановку, она сказала:
- Что это, господа, сегодня погода какая-то вроде странная.
Одна из "текстильщиц", пожилая дама, говорит:
- Вы нам зубы своей погодой не заговаривайте. Лучше ответьте, вы раскокали лампу или не вы?
Мадам Стульчикова спрашивает:
- Какую лампу? Какую?
Пожилая говорит:
- Фарфоровую, - говорит, - лампу, китайского производства.
Иван Афанасьевич говорит:
- Если ту, что в проходе у вас стояла, то мы. А если, - говорит, - какую другую, то, извините, тогда не мы. Мы, - говорит, - не имеем такой странной привычки, лампы в магазинах бить.
Пожилая говорит:
- Да, да, ту самую. Только, - говорит, - она не в проходе стояла, а на ломберном столике возле колонны. Мы, - говорит, - её туда поставили, чтобы украсить интерьер нашего магазина, а вовсе, - говорит, - не для того, чтобы разные придурковатые покупатели об неё авоськами задевали. Так что придётся вам за неё заплатить.
Тут Иван Афанасьевич несколько в лице изменился, но виду не подал, а сказал:
- Ну, нет! Я не намерен платить за вашу дурацкую лампу, сколько бы она ни стоила. Хорош был бы я, если б за каждую разбитую лампу стал раскошеливаться. Я представляю, какое это было бы разорение для моего семейного бюджета. А сколько, кстати, эта ваша лампа стоила? Мне просто интересно узнать, сколько теперь фарфоровые лампы китайского производства стоят?
Тогда пожилая "текстильщица" говорит:
- Вообще-то, мы её продаём за шестьсот уе. Но поскольку, - говорит, - она свой товарный вид несколько утратила, мы сможем, я думаю, вам её уступить без нашей магазинной наценки, за пятьсот девяносто восемь уе. Это, - говорит, - вполне подходящая цена за такую роскошную фарфоровую лампу.
Иван Афанасьевич говорит:
- Может, цена, конечно, и подходящая, но только мне ваша лампа и даром не нужна, а тем более в таком разрозненном виде. Чего, - говорит, - я стану с этими черепками делать? Нет, лампа мне не нужна. Но я, - говорит, - могу купить у вас вон те занавески за сто уе и тем самым несколько покрыть ваши расходы.
Тут "текстильщицы" заголосили хором. Они кричали, что любой дурак может купить занавески по причине их цельности и вообще отличного качества. А вот, поди ж ты купи осколки фарфора за пятьсот девяносто восемь уе! На это способен лишь человек отважный и благородный. А если Иван Афанасьевич таковым не является, то они подадут на него в суд и заставят оплатить лампу, а заодно ещё чего-нибудь.
Тогда Иван Афанасьевич, у которого возмущение заслонило собой все другие чувства, говорит:
- Я на вас сам подам в суд. За мошенничество. Мне, - говорит, - вся ваша подлая политика теперь совершенно ясна. Гляжу, одна уже заводит меня в какую-то нору и к лампе подталкивает. Я, - говорит, - всех вас выведу на чистую воду.
Тут вперед выступила нестарая ещё "текстильщица" лет двадцати пяти и сказала:
- Мы будем вполне удовлетворены, если вы заплатите половину от того, что стоила эта разбитая лампа. С остальной половиной мы уж как-нибудь разберёмся.
Иван Афанасьевич говорит:
- Ещё не лучше! Такой я дурак, чтобы скупать разбитые лампы за полцены! Мне, - говорит, - все равно, будете вы удовлетворены или нет. Но поскольку я человек сострадательный, то я готов всё-таки купить у вас вон те занавески и заплатить небольшой штраф за причинённый ущерб.
Которая пожилая, так говорит:
- Нет. Лично я не пойду ни на какие уступки. Пускай он покупает свои занавески, платит за лампу и убирается ко всем чертям. Мне, - говорит, - эти отвлечённые разговоры уже надоели. А если он платить не желает, мы, - говорит, - у него по суду вытребоваем. Либо платите немедля деньги за погром и убытки, либо мы сейчас протокол на вас составим!
Тут мадам Стульчикова, до сих пор хранившая молчание, говорит:
- Я, - говорит, - от таких переживаний ну, прямо слабоумной сейчас сделаюсь. Что это за магазин такой особенный. Сначала, - говорит, - нас впускать не хотели, а теперь выпускать не хотят.
Энергичный Иван Афанасьевич говорит:
- Спокойно, Маруся! Пёс с ними, нехай протокол составляют!
Тогда на передний план выходит мрачный охранник, щёлкает затворами и начинает снимать показания. И вот он снимает показания час или два, а после подает готовый протокол Стульчиковым на подпись. И тут, видавший виды и закаленный на арапах, Иван Афанасьевич читает протокол, и силы оставляют его. Он говорит:
- Я, конечно, подпишу эту бумагу. Но мне, - говорит, - до крайности хотелось бы узнать, об чем в ней написано. Так, - говорит, - просто из любопытства. У вас, наверное, почерк какой-то взбалмошный. Я, наверное, поэтому ничего не пойму. Вы, - говорит, - мне сами прочтите. А я потом подпишу.
Тогда охранник берет свою рукопись и читает:
- Севодня в магазин пришли два Стульчикова. Он и она. Он ейный муж. Они пришли и сказали что нужны занавески. Они каторые Стульчиковы хатели купить занавески. Они каторые на окна вешать каторые от света закрывать. С ними ещё сумка была. Они сумкой махали. Когда махали падошли к вазе каторая лампа но как ваза внизу под абажуром. Они своей сумкой вазу задели каторая лампа и она упала. А как она фарфоровая она упала и разбилася. И её не склеить. А он купить не хател а хател занавески. И деньги не дал. Они гаворят что узко было потому лампа разбилась. А наши гаворят что они виноваты и пущай покупают. И у них был спор. Они деньги не дали и ушли. Протокол составил охранник Сивко.
Тут Иван Афанасьевич пот со лба вытер и говорит:
- Я, - говорит, - под чем угодно подпишусь, лишь бы отсюда поскорее уйти. Я, - говорит, - работаю, что вол, чтоб за свой трудовой рубь покупать разные там товары народного потребления, а не для того, чтоб такие оскорбительные протоколы слушать, которые подрывают мои моральные силы и унижают человеческое достоинство.
И он это так говорит, а сам наскоро подписывает протокол, хватает свою жену, мадам Стульчикову, и выскакивает из магазина, по пути опрокидывая тряпичную пальму. Вслед ему несутся проклятья и брань, но Иван Афанасьевич, наученный горьким опытом, не обращает внимания на всю эту сумятицу.
С тех пор Иван Афанасьевич зарёкся ходить по магазинам и старается сам изготовлять товары народного потребления для себя и своей семьи.
А "текстильщиков" из суда выгнали. Им сказали, что ежели в суде начнут рассматривать дела о разбитых вазах, то судей либо на смех народ поднимет, либо растерзает. Им посоветовали лет через двадцать прийти, когда, может быть, дела об убийствах и ограблениях разгребут.
Но "текстильщики" не захотели так долго ждать. Они лампу склеили и теперь за полцены её продают.
Рассказ с продолжением
«…Рифмы негодные и уху зело вредящие сплел еси.
Иди в огонь вечный, анафема».
А. К. Толстой «Церемониал»
"Эта игра забавляла его. Он срубил на этом бартере так много, что - туши свет. Игра дразнила его, потому что это была жизнь. Его жизнь. И он возбуждался от этой игры. Возбуждался и начинал кипеть, как перегретый тосол. Ещё год назад никто из его тусовки не знал, каким крутым он станет. И не просто крутым, а известным всей богемной Москве..." - так начинался рассказ "Собака крупнее кошки, но мельче телёнка" некоего Леонида Клистера, опубликованный в одном из "толстых" московских журналов.
"Что же это такое? - думала Ниночка, читавшая произведение господина Клистера. - Неужели это лучше?.. Но ведь же ничего не понятно... Дичь какая-то... Как же это печатают?.."
Полгода тому назад Ниночка Собакина сама написала небольшой рассказик. И по совету знакомых, коим рассказик был прочитан, отнесла рукопись в редакцию означенного журнала. Там рукопись зарегистрировали, присвоив пятизначный номер, и велели Ниночке зайти "недельки через две".
Рассказик Ниночки, написанный простым и лёгким языком, был краток и незамысловат. На даче собрались симпатичные люди. За отдыхом они общаются, высказывают некие соображения. Так проходит день, и наступает ночь. Все укладываются спать. Но один человек, вышедший на террасу курить, погружается в раздумья и спать уж не может. Обаяние ночи захватывает его, и он тонет в водовороте мыслей и образов. "... Ночь накрыла землю чёрным покрывалом, и земля уснула, улыбаясь. Взошла луна, и деревья отбросили призрачные тени. Заблестела холодным блеском вода в лужах. В кустах сирени вздохнул и перевернулся ветер... А потом пришла печальная дева Тишина и заиграла на своей хрустальной свирели. И точно дождавшись аккомпанемента, защёлкал, засвистал где-то соловей…"
Спустя две недели Ниночка, красная, как китайский флаг, стояла перед некой тётенькой из отдела прозы. Тётенька, предварительно смерив полным презрения взглядом, распекала незадачливую писательницу:
- Вы где-нибудь учились, девушка? Кто вы по профессии?
- Искусствовед...
- Искусствовед?! - тётенька подняла брови, отчего на лбу у неё образовалась гармошка. - Так и занимались бы картинами... или что там у вас?.. А зачем вы в литературу-то лезете?.. Ну, не ваше это, поймите... Не ва-ше!.. В общем, творения эти мы не берёмся печатать... Это не наш уровень… Не знаю, не хочу, конечно, судить... Но, по-моему, литература - это не для вас... Хотя... Кто знает... Иногда ведь получаешь и сюрпризы... Поработайте... Попробуйте, может, ещё что напишите. Тогда и приносите, посмотрим... А пока что, извините... Не наш это уровень...
И давая тем самым понять, что разговор окончен, тётенька отвернулась и занялась своими делами.
"Да, - думала Ниночка, унося ноги из редакции, - куда мне! Они когда-то Солженицына печатали... А я что? Со свиным, как говорится, в калашный... Она, наверное, права! Не моё это..."
О-о-о! Как прав был Антон Павлович Чехов, когда писал: "...здравомыслящий человек всячески должен отстранять себя от писательства". Но Ниночка Собакина, вероятно, в ту пору не знала о предостережениях великого сочинителя, и потому пала жертвой писательского зуда. И вскорости рука Ниночки снова потянулась к перу, перо к бумаге… Но на этот раз Ниночка решила начать с того, что оформила годовую подписку на Журнал.
"Что ж, - рассуждала Ниночка, - буду читать. Буду знать, на что равняться... Прежде всего, необходимо составить представление об их уровне, а уж потом - тянуться... Надо, надо работать!"...
Прочитав от корки до корки первые четыре номера, Ниночка испугалась. Странные, непонятные стихи чередовались с не менее странными и непонятными рассказами и статьями. Один автор воспевал свободную любовь, уверяя, что нет на свете ничего лучше. Другой на двадцати двух страницах восхищался пивом, сравнивая оное с небезызвестным продуктом жизнедеятельности схожего цвета. Третий автор открыто заявлял, что превыше всего ставит любовь к личинке колорадского жука. Четвёртый, пятый и шестой неистово описывали то, чего никогда не бывает в жизни. Седьмой, под рубрикой "Научная статья" поместил сочинение, начинавшееся с утверждения о том, что Ленин-де, был не кто иной, как Антихрист собственной персоной, и заканчивавшееся анализом творчества Тыко Вылки. Восьмой - очевидно, сексуальный маньяк - описывал однополый coitus, имевший место на балконе недостроенного многоэтажного дома, смакуя при этом детали и изобилуя подробностями. Девятого и десятого читать было невозможно, поскольку их творения на восемьдесят пять процентов состояли из многоточий, заменявших, по всей видимости, слова, пропустить в печать которые у редактора не хватило смелости.
"Это, должно быть, недоразумение, - пыталась успокоить себя Ниночка. Редактор, наверное, был пьян... А в следующем номере всё разъяснится..."
Но, вопреки ожиданиям, в следующем номере ничего не разъяснилось. За "Собакой крупнее кошки, но мельче телёнка", оканчивавшимся словами: "Было зверски приятно. Потому что так было. И так будет всегда", следовали стихи некой Майи Кислищенской:
В записной книжке - Зелёный крест аптеки. Мне б увидеть его средь листвы, Поправляя причёску, как эти, Что бежали с тобой из Москвы. Эту жизнь поделим на части Ведь, не правда ли, мы равны! Ты в доспехах железной масти. Нет прохожих. Увы, мне! Увы! Твои волосы бьются, как крылья. Я молю: "Вернись к моему борщу!.. А дома вытру всю пыль я И всё тебе тут же прощу!" Но ты не слышишь... Злые слёзы Жгут мой лик. Всего лишь на миг. А потом уже шум берёзы Заглушает сердечный крик...Под стихами стоял курсив: Милан, 2000, из чего, по-видимому, следовало, что сии божественные строки госпожа Кислищенская написала в двухтысячном году, будучи проездом в Милане. Тут же значилось, что Журнал выдвигает поэтессу Майю Кислищенскую на соискание литературной премии имени Сергея Есенина.
Не поверив своим глазам, Ниночка перечитала ещё раз. Ошибки не было.
"Как же это? - недоумевала Ниночка. - Почему же мой рассказ не взяли? Неужели мой рассказ хуже?.."
Долго ещё удивлялась Ниночка. Долго мучилась и задавалась вопросами, сравнивала и пожимала плечами, пока не пришла ей в голову дерзкая, но забавная мысль.
"А что, если..." - и в зелёных глазах Ниночки вспыхнули изумрудные искры.
На следующий день она стояла в отделе прозы и объясняла бессменной тётеньке:
- Вот. Рассказ принесла. Хотелось бы опубликовать.
- Посмотрим сначала, что за рассказ, - тётенька ухмыльнулась. - Мы ведь не бульварный журнал. Абы что не печатаем. Пора бы знать... Вот ваш номер, - тётенька протянула Ниночке бумажку с цифрами, - оставьте свою рукопись и заходите недельки через две.
"Посмотрим..." - ухмыльнулась в свою очередь Ниночка, выходя из редакции...
Через две недели она пришла за ответом.
- Вот мой номер, - она протянула тётеньке бумажку.
Красившая губы тётенька скосила глаза на Ниночку и понимающе кивнула.
- М-м-м, - сказала она и глазами указала Ниночке на стул, приглашая сесть.
Когда с макияжем было покончено, она взглянула на номер и, достав из ящика стола кипу каких-то бумаг, принялась рыться в них.
- А ведь я вас помню, - обратилась она к Ниночке. - Я вам тогда сказала, что литература - это не ваше.
Из пачки бумаг она достала какой-то листок и пробежала его глазами. При этом она подняла брови и закивала.
- И, знаете, я оказалась права. Всё же у меня есть кое-какой опыт, - она говорила с Ниночкой дружелюбно, почти ласково. - Я ведь давно здесь работаю. И через меня столько рукописей прошло!.. Так что обычно я сразу распознаю, кто передо мной. Талантливый писатель или так... - она бросила на Ниночку взгляд, полный жалости и сострадания. - Деточка, не надо вам писать. Оставьте вы это занятие... У вас есть профессия?
- Да.
- И какая?
- Искусствовед я…
- Искусствовед?! Прекрасная профессия! Прекрасная... Широчайшие возможности, интересные встречи, атмосфера такая... Ну, зачем вам литература? - она засмеялась. - Оставьте... Мой вам совет.
Ниночка улыбнулась.
- Ну, так что мой рассказ? Я не поняла...
- Не берём мы ваш рассказ. Не наш это уровень. Вы уж не обижайтесь... Вы знаете, кого мы печатаем?
Ниночка кивнула.
- Ну, вот. Подумайте, как нужно писать, чтобы быть опубликованным в нашем журнале. То, что вы пишите, это... - тётенька сморщилась, чтобы наглядно показать Ниночке, что же та пишет, - это... ну, не дотягиваете вы! Не наш уровень!
Тётенька развела руками.
- Знаете, мы обычно рукописи не возвращаем... Но вот она, ваша рукопись. И поскольку вы мне глубоко симпатичны, я сделаю для вас исключение. Чтобы она здесь не валялась... В общем, держите...
И с этими словами тётенька торжественно протянула Ниночке тощую пачку листов.
- Что ж, понятно. И на том спасибо, - Ниночка снова улыбнулась. - До свидания...
- Всего доброго...
И Ниночка навсегда покинула редакцию. Но покинула в хорошем расположении духа. Ей было смешно и самую капельку грустно. Грустно оттого, что вокруг так много глупых и самодовольных людей. А смешно... В руках Ниночка держала набранный ею две недели тому назад рассказ А. П. Чехова "Марья Ивановна"...
В Суздаль!
Мы вдвоём собирались на выходной съездить в Суздаль. В этой поездке было много соблазнительного. Мечталось, ни о чем не тревожась, приехать в старинный русский город, созерцать вечное и думать о вечном. Неспешно побродить по городским валам и заглянуть в заросшие рвы, увидеть, как в ещё свободной от ряски воде плавают облака-клёцки, а рыбки выпрыгивают и на лету хватают зазевавшихся комаров. Как по берегу прозрачного пруда важно ходят белые гуси с оранжевыми лапками, а их собратья бороздят белой цепью водную гладь. Как баба с девочкой полощут бельё в незаплёванном водоеме, не обозначенном ни на одной карте. Как красавцы-петухи прогуливаются по улицам города, не думая бояться прохожих. Мы жаждали патриархальности, тишины и русского духа.
Но наши планы стали известны Тане. Таня - это моя тётка. Собственно, у меня три тётки - Таня, Глаша и Люда. Все они - одинокие, уже стареющие женщины и оттого стараются держаться вместе. Эта троица представляет собой довольно странный альянс. На каждой из сестёр жизнь отразилась по-разному. Глаша - старшая - самая суетливая женщина на свете. Перемещается она только крупной рысью. Она постоянно куда-то торопится, даже если никуда не опаздывает. Она говорит без умолку и готова поддерживать любой разговор. Она ни минуты не сидит без дела. Ей нравится самой воздвигать себе препятствия и самой же их преодолевать. Глаша просто преисполнена жаждой деятельности, зачастую весьма бессмысленной.
Люда - необычайно восторженна и склонна к фантастическим преувеличениям. Любой, самый ничтожный эпизод может вызвать у нее неподдельное восхищение и лечь затем в основу необыкновенных рассказов в духе барона Мюнхгаузена. Люда славится тем, что варит самогон. И хотя сама она никогда не напивается, но отчего-то норовит всем поднести. Ещё Люда поёт. Репертуар её состоит из каких-то дурацких песен, судя по всему, собственного сочинения. А может это неизученный фольклор?.. Впервые услышавший её пение, недоумевает. И лишь удостоверившись, что это такая шутка, а не проявление психической болезни, новичок успокаивается.
Таня - младшая из сестер - наиболее здравомыслящая, уравновешенная и рассудительная. К тому же - убеждённый борец с неправдой. Завидев несправедливость, она, как коршун, бросается на неё. Однако беспристрастной её не назовёшь. Ни в ком я не встречала такой самозабвенной любви к своей улице, своему городу, такого горячего поместного и семейного патриотизма.
Узнав про Суздаль, Таня заволновалась и заявила, что непременно хочет принять участие в поездке. Отказать ей было невозможно. Таня обрадовалась и осмелела. И стала просить за Глашу:
- Она так хотела поехать в Суздаль! О-о-о, как она расстроится, узнав, что мы были там без неё! Ведь у неё кроме нас - никого!
Отказ прозвучал бы просто бесчеловечно.
- Ну что ж, - вкрадчиво сказала Таня, - раз уж вы согласны взять с собой Глашу, пусть и Люда поедет с нами!
Что ж, пусть едет. Это уже было неважно.
И вот в назначенный день мы впятером взяли курс на Суздаль. Выехали в самом благодушном настроении. День обещал быть прекрасным: солнце вовсю светило, небо было чисто, а облака весело неслись по своим делам. Но настроение наше стало портиться, едва мы покинули пределы родного города. Надежды на тишину рухнули ещё раньше. Как только Таня, Глаша и Люда разместились на заднем сидении авто, наше замкнутое пространство наполнилось всевозможными звуками. Сначала они достали два пакета - один с яблоками, другой с хлебобулочными изделиями - и принялись шелестеть целлофаном, распределяя содержимое кулей между собой. Послышались хруст баранок и чавканье надкусываемого яблока. Затем Глаша перешла к разговорам. Она то неистово шипела, повествуя о чем-то Тане на ухо, то громогласно, уже не стесняясь нашим присутствием, выносила приговор тем, о ком только что шептала. При виде душещипательной сцены на улице Глаша пронзительно вскрикивала, заставляя всех вздрагивать. Увиденное за окном напоминало ей пережитое. И тогда она принималась рассказывать нам о своих подругах, об их мужьях и детях, о том, как эти подруги меняли квартиры, устраивались на работы, покупали люстры, пекли пироги, ездили на экскурсии, знакомились с мужчинами, учились в институтах, распределяли гуманитарную помощь, ходили в церковь, участвовали в движении "Гербалайф", собирали грибы, стояли по ту сторону прилавка на рынке, переплачивали в ресторанах, лежали в больницах, поедали пряники, отчего потом болели, лечились и умирали, попадали в аварии, выходили сухими из воды, разводились с мужьями, снова сходились и так далее.
Подобно Шахерезаде, Глаша рассказывала нам одну историю за другой. Впрочем, кроме подруг её интересовали и другие явления:
- Оказывается, язва желудка заразна!..
- Как вы думаете, кто у нас на Руси самый богатый был?..
- Говорят, что разведчик Зорге - это не один человек, а целых пятеро: Зайцев, Оганесян, Рабинович, Гамсахурдиа и Евтушенко. З, О, Р, Г, Е - Зор-ге!
- Каждый второй житель Земли болен раком кожи!
- Как это?! Откуда такие сведения? Что же получается, двое из нас больны?
- Не знаю, я так поняла. Какой-то профессор по радио рассказывал... Я очень люблю радио. Там всегда такие интересные передачи передают! Столько познавательного!.. Вот вчера, например, один профессор сказал, что человек, который каждый день ну хоть каплю спиртного выпивает, неважно какого именно - такой человек непременно умрет от цирроза печени. А еще была передача...
Мы давно смирились с рассказами о подругах. И даже вступили в какой-то дурацкий спор. Как вдруг, не могу точно сказать, в какой момент это произошло - не приметила, но только Голод простёр над Глашей свою костлявую десницу.
Глаша затрепетала. Её трепет передался остальным пассажирам. Все знают, что Голод - не тётка. От него, проклятого, булками-яблоками не отделаешься. Как языческий бог он требует новых и новых жертв. И не наспех, на заднем сидении автомобиля. Такие жертвы ему не угодны! Он не принимает таких жертв! Ему подавай ритуал, последовательность действий, цепь перевоплощений. Для таких случаев нужна "полянка". То есть место в стороне от проезжей части, где, обманув дорожную пыль и выхлопные газы, мы обыкновенно, во время аналогичных поездок, приносим жертвы Голоду. Алтарём нам служит багажник. Поверх него мы раскладываем жертвенных тельцов из варёной картошки и холодной курятины, из селёдки и свежих овощей, из яблочного пирога и ветчины, из вездесущих солёных огурцов и чёрного хлеба. Чай, кофе - для возлияния. И непременная бутыль с вонючей жидкостью, которую приготовляет Люда и называет "настойкой".
Глаша приникла к окну и стала высматривать "полянку". Она решила не утруждать себя опросом общественного мнения с целью выяснить, кто из присутствующих, кроме неё, разумеется, желает трапезничать. Глаша словно бы вообще не подозревала, что она не одна.
Есть люди, чья непосредственная вера в свою уникальность забавляет. Правда, при коротких да к тому же нечастых встречах. Но, как вино, такие люди становятся опасными, если общение затягивается.
С "полянками" нам не везло. Дорога наша лежала средь полей и болот. Ничьей вины в том не было. Но обстановка в машине начала накаляться, поскольку Глаша решила-таки найти виновного. Её выбор пал на нас - зачинщиков этой поездки. Но мы не сразу это поняли. Глаша избрала хитрую тактику нападения. Для начала она перестала ёрзать и отлипла от окна. Она замерла, как хищник перед прыжком. Помолчав некоторое время, она тихонько, но так, чтобы все слышали, голосом не евшего три дня человека проговорила:
- Как есть хочется!
В ответ наперебой послышались заверения в том, что вскоре мы будем в Суздале, и уж там-то найдём местечко под стенами древнего монастыря, может быть, даже на берегу пруда или речушки. Мы достанем свой провиант и с набитыми ртами полюбуемся памятниками русского зодчества, послушаем Суздальский перезвон, крики гусей и пенье петухов. А засим отправимся гулять и пожрём уже глазами весь город. Но Глашу петухи не интересовали.
- Да, очень есть хочется, - опять прошептала она на весь салон. Потом она нервно засмеялась и опять громко зашептала:
- Почему, ну почему им трудно остановиться, когда все просят? Почему надо этого бояться? - И снова засмеялась.
Мнительные и неуверенные в себе люди частенько прикрывают раздражение или неприязнь эдаким противным тихохоньким смешком.
- А здесь был дождь, - вдруг прошипела она, завидев воду в придорожной канаве. - И какой!.. Точно! Здесь был ливень, сильнейший ливень. Каки-ие лу-ужи!
Помолчали.
- Да и в Суздале идёт дождь. Ну, точно - вон там, впереди тучи.
Между тем, и "вон там", и вот здесь свод небесный был так чист и светел, что, казалось, дождя не будет ещё месяц.
- Боже мой! - вдруг восторженно выдохнула Люда. - Суздаль - это чудный город! Это не поддаётся описанию! Я в жизни не видела города лучше! Такие улочки, церковки кругом!.. Там русский дух! Там Русью пахнет. Русалка на ветвях сидит. Пойдёт направо - песнь заводит, налево - сказку говорит… - "процитировала" она. - Боже мой! Это так-кая красота!.. Сказочный город! Просто сказочный…
- Лучше Москвы, что ли? - недоверчиво осведомилась Глаша, забыв о мучившем её голоде.
- Тоже нашла красоту! - Люде такое сравнение не понравилось. Она скривила губы и возмущённо зыркнула на Глашу. - Суздаль - это… это… это - песня в камне! Я только однажды там была, но запомнила на всю жизнь. Он мне иногда снится. - Люда блаженно закатила глаза.
- Кто?! - Глаша испугалась.
- Да Суздаль! "Кто!.." - Люда опять зыркнула. - Там у них главный храм стоит на такой площади, - продолжала она, - а площадь та - зеркальная! Идёшь, самого себя видишь. Это чтоб перед тем, как в храм войти, человек на себя посмотрел бы и грехи бы свои вспомнил… И по площади той, вот прямо по зеркалам, павлины ходят! Хвосты распуши-и-или! Головами кру-у-утят! - и Люда попыталась изобразить, как ходят павлины.
- А павлины-то зачем? - удивилась Глаша. - Да они зимой перемёрзнут!
Но Люда не успела ответить, потому что в разговор вступила Таня.
- Врёшь ты, Люда! Нигде я зеркальных полов не видела. Даже в Москве до такого ещё не додумались... А тут какой-то Суздаль - и вдруг зеркальные полы. Где это они зеркал столько набрали?
- Откуда я знаю? - Люда обиделась. - Я им зеркала не укладывала. Приедешь - спроси. - Она отвернулась к окну.
- И про павлинов врёшь! - Таня покачала головой. - Не могут павлины в Суздале по улицам ходить. Даже в Москве нет павлинов. И Глашка права - перемёрзнут они зимой. Вот если бы ты сказала, что в Астрахани павлины, ну, я бы ещё поверила. А вот насчёт Суздаля я сомневаюсь. Там зима-то вроде московской. Даже холоднее, наверное... Какие ж там павлины?
- Павлины, я думаю, до плюс четырёх выдерживают, - задумчиво произнесла Глаша.
- Это почему так? - не поняла Таня.
- А у меня дома мандарин в горшке растёт. Про него в книжке сказано: зимой содержать при температуре 4-6 градусов. А павлины живут там же, где и мандарины. Значит, и температуру такую же выдерживают.
- Я и говорю - в Астрахани, - уточнила Таня.
- Ну, да. Пожалуй, в Астрахани павлины могут жить, - согласилась Глаша. Но тут же вспомнила, что она голодна и тяжко вздохнула:
- Так нам и не удастся сегодня поесть! Вот посмотрите, приедем в Суздаль - разразится такой дождь!.. Мы не сможем выйти на улицу, и останемся голодными!
Люда кашлянула. Таня вздохнула.
- Меня уже мутит с голода. Ну почему мы не остановились там, на той чудной полянке, в ельничке?! - это она сказала капризно. - Какие тучи над Суздалем! Портится погода. Портится... - это уже пророчески.
Глашин шелест прервала Таня:
- Хватит зудеть, Глаша. Никаких ельничков мы не проезжали. Ну, зачем ты врёшь? Что ты терпение у людей испытываешь? В следующий раз никуда тебя не возьмут, дома будешь сидеть.
- И не надо! Не надо! А что я сказала-то? Ну что? - она снова возвысила голос.
Таня отвернулась и уставилась в окно. А Глаша опять зашипела:
- Какие лужи! Тучи движутся в сторону Суздаля. А там ещё свои тучи, там уже льёт. Мы приедем в самый ливень, не найдём полянки и останемся голодными! А всё почему? Потому что не захотели остановиться в том ельничке! А там - и солнышко, и сухо. Сейчас бы уже поели… - Она собралась было засмеяться, как вдруг Люда, решившая, что пора разрядить обстановку, возопила:
Курды́-мурды́-о-о-ой!
Это была одна из доморощенных песен Люды.
Никто, включая её саму, не знает, что значат эти волшебные слова. Никто никогда не слышал этого дикого мотива, напоминающего индейский клич. Но напев производит на людей магическое действие: он не оставляет равнодушным ни единого слушателя.
- Тьфу ты, Людка! Чтоб тебя!.. Напугала, окаянная! Чего ты орёшь-то? Больше песен, что ли, не знаешь? "Курды-мурды!.." - Глаша камнепадом обрушилась на сестру. Люда пожала плечами, закрыла глаза и откинулась на подголовник.
- Ну вот, с испугу еще сильнее есть захотела. Какой же здесь был дождь! Какой дождь! Здесь, наверное, давно такого дождя не было. А я давно так не голодала. Ну, просто живот подвело. - Она зашлась своим нервным смешком. - Когда же мы наконец приедем?
Её шипение осталось безответным: Люда впала в летаргический сон, Таня сделала вид, будто ничто никогда её так не интересовало, как происходившее в тот момент за окном.
СУЗДАЛЬ 4 - мелькнул указатель.
- Ну вот, здесь ещё нет дождя, но, судя по всему, сейчас ливанёт. Да-а! Измученные мы въехали в Суздаль! - заколыхалась Глаша.
- Скажи ещё "усталые, но довольные". Чем это ты так измучена? - Тане не изменяло чувство справедливости.
- Как это чем?! Как чем? Да у меня же голодный обморок сейчас будет. Если мы не покушаем, конечно, - Глаша так разволновалась, что опять сбилась с шёпота на крик.
Когда невиновного обвиняют в преступлении, которого тот никогда не совершал, первая реакция - оправдаться, доказать свою невиновность. Но чем более упорствует обвинитель, тем менее остается у обвиняемого уверенности в своей правоте. Сомнения закрадываются в душу - а ну, как и вправду я?
У Глаши есть один бесспорный талант. Она способна вызвать чувство и даже сформировать комплекс вины у человека и с очень крепкими нервами. Она внушит этому человеку, что все несчастья ближних - из-за него. Она вспомнит тысячу примеров его бесчеловечности, ставшей причиной чьих-то страданий. Она достанет доказательства, предъявит улики и приведет свидетелей его асоциального поведения. Спорить с ней бесполезно. Она не станет возражать, а просто поднимет глаза к небу и тяжело вздохнет. Словно желая сказать: "Что можно ответить этому извергу?"
Суздаль встретил нас засухой. Правда, Глашу это уже не занимало. Остальным же давно хотелось одного - встать где-нибудь лагерем и накормить голодающую.
А Глаша тем временем приободрилась. Она почувствовала, что одержала верх и оттого, позабыв про свой ужасный шепоток, заговорила громко, можно даже сказать, чеканя слова:
- Здесь?! Ну, нет! Кругом - жильё!.. Там?! Да вы что?! Там же помойка! Я так и знала. Я знала, что в городе негде расположиться: всё дома да помойки.
Наконец улочка, по которой мы двигались, завела нас в тупик. Мы выехали к пруду, окружённому ивами и камышом. На берегу, с нашей стороны, паслись домашние гуси, а чуть в сторонке блеяла привязанная коза. На другом берегу стоял монастырь, отражавшийся всеми куполами и стенами в воде. В монастыре, как водится в таких случаях, звонили к обедне. Огромный чёрный ворон уселся на крепостную башню и тоскливо крикнул. Из камышей выплыла гусыня, а за ней - словно нанизанные на одну нитку, неуклюжие гусята. На мостках сидел полосатый кот, не обращавший на птиц никакого внимания. Его больше занимали рыбки, резвившиеся в прозрачной воде.
Такие картины, обычно, вдохновляют, настраивают на лирический лад. Охватывает блаженное чувство любви ко всему живому. Хочется забыть о мирской суете и вести тихую, уединённую жизнь, посвятив себя служению ближнему. Хочется простить людские слабости и прегрешения. Хочется направить человечество на путь мира и любви друг к другу.
Но чуждые всего земного мысли прервала Глаша, которой зачем-то вздумалось разбить водное зеркало обломком кирпича, валявшегося тут же.
Зеркало треснуло, осколки разлетелись сотнями страз, монастырь утонул.
В это время Люда, решив, что настал её звёздный час, как всегда неожиданно для всех, запела:
Солнце светит ярко, луна горит порой!
Где ж ты мой татарин, татарин молодой?
А я твоя татарочка, танцую ж я с тобой…
Правда
В тесной кухне пахло тряпкой и жареной рыбой. Из раковины выглядывала грязная сковорода. На полу, покрытом линолеумом, блестели матовым блеском застарелые пятна. Тёплый весенний ветер задувал в открытую форточку и поигрывал серой тюлевой занавеской. А на узком подоконнике стояли в ряд, как солдаты, пакеты из-под молока со срезанным верхом. В пакетах прочно обосновалась рассада.
Танька Рыбкина, рябая и крупитчатая бабёнка лет тридцати, смахнув на пол крошки и сбросив щелчком таракана, расположилась за кухонным столом. Правую ногу Танька поджала под себя, отчего стала казаться ещё дороднее, и телеса Танькины свесились с табуретки по обе стороны. Сдвинув брови, сопя и высунув кончик языка, Танька что-то писала.
Почерк у Таньки хоть и разборчивый, но какой-то чудной. Буквы, вытянутые и тощие, украшены крючочками. Точно Танька вначале написала, а потом давай украшать, кренделя навешивать.
"Евгений!
Я не стану называть своё имя, потому что дело не в этом. Но я не хочу молчать больше, потому что мне тебя жалко. А я человек честный и простой. И не могу за просто так смотреть на разные там несправедливости. Особливо когда кого-нибудь забижают хорошего мужика. А ты мужик хороший и даже очень сексуальный. А когда над хорошим человеком смеются мне такого человека завсегда жалко. Ты не достоин, чтобы над тобой весь город смеялся. Ты достоин лучшего. А чего ты такой сексуальный всю жизнь должен маяться. И все смеются, тоже нехорошо.
Но я ещё не сказала в чём дело. Дело в том, что одна наша общая знакомая, которую ты имеешь честь любить, тебя обманывает. Я то её давно знаю. И могу тебе сказать, она тебя недостойная. Ты на ней женился я знаю почему, потому что она дюже смазливая. А от таких баб самый капец мужикам. Красивая баба что картина, повесь на стенку и любуйся, а толку мало. Потому с лица то воды не пить. Ты баб-то не знаешь, а уж я-то знаю. Потому сама. Которая баба красивая то стопроцентная стерва. И твоя тоже. Ты то её любишь это сразу видать. А она? Спроси себя. А я тебе отвечу: нет, не любит.
И мне говорила, что ты ей надоел, и охота ей поразвлечься. С одним, говорит, мужиком скучно всю жизнь. И главное: у неё кто-то есть! Не знаю кто. Но она говорила, что ей кто-то нравится. Я как узнаю от неё поподробней тебе сразу сообщу. И мой тебе совет, брось ты её. Как сказал отец русской поэзии Некрасов "Чем больши (зачёркнуто) меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей". Она тебя недостойная. Вокруг столько баб хороших клёвых и настоящих. Что ты, в самом деле, к этой прилепился как клещ? Добро бы хоть умная была или там хозяйка. А то ведь ни жена, ни хозяйка. Вязать или там шить не умеет, что за хозяйка? Что она своему мужу может дать? И готовить не умеет. Я у вас ела. Эта не еда. Сущий грех. А еда эта главная в семейной жизни. А жена, которая готовить не умеет, что за жена? А твоя думает, раз в университете обучалась, так и готовить не обязательно. Так и есть за что её любить. Образование это для мужика хорошо. Он от образования ещё сексуальней бывает. А бабе то образование ни к чему. Баловство одно. Баба по хозяйству должна, а не по книжкам. Ей в кухни место. Макарон там сварить, борща. Котлет налепить. А твоя? Строит из себя! Из себя меня корёжит, это называется. Тьфу ты ну ты! Выпендривается и только. Губы по полчаса красит. Кисточкой! Где эта видано? Одевается как на карнавал два часа. Зачем ты столько денег на неё тратишь? Дурак ты! И моется она и кремами разными всё мажется. А чего моется, чего мажется? Ладно, я полная и потею. А она тощая и всё моется. Думает что она Нифертитя.
А как ни придёшь к вам твоя всё с книжечкой. Противно глядеть! Лучше б полы помыла или б состряпала чего. А то всё делает вид, что в книгах умных чего-то понимает. Начитается и давай других учить! А видно, что дура. Учи не учи - всё равно видна. И все у ней тогда дураки выходят. И не так говорят и не так едят и пьют тоже не так. Тосты говорит это глупо говорить. Лучше наверно так пить как алкаши! И тебя она дураком называла. Ты вишь какую-то книжку не понял. И знамо дело дурак! Как будто сама чего в той книжке поняла! И что эта за жена, которая всё книжки читает? Грех один. А ты очень умный. И очень сексуальный. И клёвый. И потому достоин лучшего. И заслуживаешь.
А эта твоя дурища (дурища и есть) тебя недостойная. Пущай вон свои книжки читает, всё равно ничего не поймёт. А ты себе подыщи другую бабу. Может быть, не такую смазливую и не с образованием, зато чтоб любила. Любящую, то есть. И которая обед сварит и об муже будет заботится. Пуговичку так пришьёт или носок заштопает. Тем более такие бабы, что тебе подходящие, рядом с тобой живут. Только посмотри вокруг и руку протяни! Ты-то такой сексуальный! А смотреть на тебя прямо жалко! Прям зла не хватает! И ещё чуть не забыла. Она (твоя то есть) всем строит глазки мужикам. А как она смазливая и есть, то мужикам-то и нравится. Они-то и рады стараться. Мужики-то, знаешь, народ какой. Им же всё равно с кем. Порядочная иль нет, им всё равно. А если баба поводу не даст, то мужик-то в её сторону и глядеть-то не станет; так народ говорит. А твоя-то всегда повод даёт. Нарядится. Губы кисточкой накрасит, ну и мужики-то за ней увиваются что кабели. А ей не стыдно. Тьфу! Так и хочется ей в глазищи то плюнуть вертихвостки! Прям зла не хватает! В общем, она не о тебе думает, а о своём теле. Имеет такого мужа и хвостом крутит! Прям зла не хватает!
Ну вот и всё. Извини, что не назвала своё имя. Накипело у меня и захотелось мне высказаться. Но имя моё это не важно. А важно другое, чтоб ты всё понял и принял меры. Надеюсь, я тебе помогла, и ты сделаешь правильный выбор.
Твой друг".
Танька перечитала написанное, улыбнулась и потёрла руки. Потом она аккуратненько сложила письмо, всунула его в конвертик, конвертик послюнявила и заклеила. "Не забыть бы отправить", - подумала она. На душе у Таньки было легко и радостно. И если где-то в тайниках души что-то шевельнулось и пискнуло, то Танька в тот же миг пресекла эти поползновения жалости или, может быть, совести, убедив себя, что дела её беспорочны, честны и только на благо ближнему. Даже вроде бы гордость закралась в Танькино сердце, ей приятно стало от мысли, что она - принципиальная и неподкупная - стоит за правду и, несмотря на многолетнюю дружбу, предпочитает любовь к истине…
Свадьба
Невеста, крупная прыщеватая девка с подозрительно выпуклым животом, поворачивается перед зеркалом и оправляет наряд. Возле неё хлопочут мать и двое подружек, то одёргивая, то пришпиливая что-нибудь. В комнату, где собирается невеста, более никого не впускают. Жених и гости, коих набралось уже около тридцати, толпятся в узкой прихожей, отчего прихожая напоминает автобус в час-пик. Входная дверь распахнута. И те, кому не удалось втиснуться в прихожую, подпирают стены на лестнице. Все ожидают выхода невесты.
Каждый из приглашённых считает своим долгом вслух делиться личным опытом в деле проведения свадебных мероприятий. Говорят все одновременно, и потому в квартире и на лестнице шум стоит невообразимый.
- Где свидетели? Уже одиннадцать… Позвоните там кто-нибудь свидетелям, пусть поторопятся, - кричит из своей комнаты невеста.
- Ничего, Нюся, не волнуйся, - успокаивает её мать, тихая, маленькая женщина с каким-то безжизненным лицом. – Живут они рядом, а регистрация только в двенадцать.
- А выкуп невесты?! – гремит Нюся. – Без свидетелей не начинают выкупа… Тётя Вера… Тётя Вера…
Готовая служить, тётя Вера просовывает в дверь свою большую в очках голову и вопросительно оглядывает всех присутствующих.
- Тётя Вера, возьми у Валерки телефон… Валерка, дай тёте Вере телефон… И позвони свидетелям…
Голова тёти Веры исчезает.
Но звонить не приходится – свидетели сами являются. Завидев их, гости один за другим стихают и принимаются рассматривать вновь прибывших. Но молчание длится недолго. Свидетельницу проталкивают в комнату невесты, свидетель мешается с толпой. Шум возобновляется.
- А попозже не могли?! – Нюся смотрит на свидетельницу с таким выражением, как будто случилось страшное.
Свидетельница пытается оправдаться, но Нюся непреклонна:
- А выкуп невесты?! Без свидетелей не начинают выкупа!..
Мать невесты и двое подружек, бывших в комнате, молчат, ехидно улыбаются и с неудовольствием изучают длинную шубу свидетельницы.
Свидетельница же в свою очередь разглядывает невесту. Ей не нравится ни обилие краски на лице Нюси, ни нейлоновая фата, так не идущая к её животу, ни россыпь фальшивых бриллиантов на руках и на шее, ни набитые ватой банты, пущенные по подолу платья. Но чтобы хоть как-то задобрить Нюсю, она закатывает глаза, всплёскивает руками, выражая таким образом своё восхищение перед Нюсиной красотой.
Нюся смягчается.
- Давайте! – кричит она, поглаживая свой живот. – Выкупайте невесту!
Дверь в комнату тотчас распахивается, и на пороге возникает толстая тётя Вера. Она сдерживает напирающих гостей, среди которых мелькает красное и взволнованное лицо жениха.
В руках у тёти Веры чья-то шапка-ушанка. Тётя Вера держит шапку вверх дном и, неизвестно к кому обращаясь, нараспев говорит:
- У нас товар, у вас купец!
- Давайте быстрей! В ЗАГС опоздаем! – кричит жених.
- Чего стоишь? Денег требуй! – толкает Нюся свидетельницу.
Та вздыхает и присоединяется к тёте Вере.
В шапку сыплется мелочь и конфеты, кто-то суёт бутылку водки. Свидетель ухарски бросает пятьсот рублей. Жест этот встречается восторгом и одобрительными возгласами.
- Вау! – визжит невеста
- Нюся! Ну в ЗАГС же опоздаем! - кричит жених и, задрав руки, бьёт себя правым указательным пальцем по левому запястью…
Выкуп состоялся. Нюся, правда, ещё с удовольствием поторговалась бы, но все торопят, и она вынуждена прекратить торги.
- Подай букет и полушубок! - велит Нюся свидетельнице. Та набрасывает ей на плечи лисий полушубок, выпрастывает фату, вкладывает в руку цветы, стянутые у основания пластиковым наконечником - "микрофоном", - и вот вся свита во главе с невестой уже устремляется к выходу, как вдруг Нюся спохватывается:
- Отец!.. Где отец!.. - Из дома невесту должен отец выводить!..
- Кузьма Егорыч! Где вы? - зовут гости и крутят головами так, будто Кузьма Егорыч закатился под стол.
Наконец кто-то находит и приводит Кузьму Егорыча, коренастого и подвижного мужичка с испуганным лицом.
- Ты что? - набрасывается на него Нюся. - Весь вечер тебя учила: ты-и до-олжен выводи-ить неве-есту! А ты где шляешься?.. Давай выводи - в ЗАГС опаздываем!
Кузьма Егорыч, понятия не имеющий, как следует выводить невест, оттопыривает локоток, Нюся цепляется, и оба они, преисполненные важности, ни на кого не глядя, шествуют сквозь толпу расступившихся гостей.
Все умолкают. По лицам разливается умиление. Кто-то всхлипывает…
На улице, несмотря на календарную весну, валит снег. Точно распороли в небесах пуховую подушку и высыпали содержимое на землю.
У подъезда курят какие-то простоволосые молодые люди. Втянув головы в плечи, они пожимаются - снег падает им за воротники.
Чуть поодаль сбились в стайку местные жительницы.
- Ктой-то женится? - спрашивает старушка в шаровидной меховой шапке у старушки в пуховом платке.
- Нюрка, кажись. Из сто двадцатой, - кивает Платок.
- Скажи-ка! - удивляется Шапка. - Нашла-таки дурака…
Из мрака подъезда показывается Кузьма Егорыч с Нюсей, за ними - свидетель со свидетельницей, и далее - толпа гостей с затерявшимся в ней женихом.
Едва оказавшись на улице, процессия разделяется - Кузьма Егорыч, оставив Нюсю, а с ним ещё несколько человек опрометью бросаются к сгрудившимся в сторонке автомобилям.
На капотах болтаются куклы, цветные ленты и воздушные шары. На крышах установлены перекрещивающиеся кольца. Шары уж сдулись и, чуть живые, безрадостно дрожат, как в лихорадке. Лица кукол сокрыты слоем снега.
- Весь модельный ряд ВАЗа! - с гордостью замечает Нюся.
И действительно: "шестёрка", "семёрка", "восьмёрка", "девятка" и "пятнашка" - таков эскорт невесты.
Нюся с женихом садятся к Кузьме Егорычу в "семёрку". К ним присоединяются подружки, что помогали Нюсе одеваться. Свидетельница идёт к машине, где за рулём свидетель. Туда же проникают тётя Вера и ещё две какие-то тёти.
Желающих ехать в ЗАГС, что на соседней улице, оказывается больше, чем посадочных мест. И между гостями завязывается спор, кому сопровождать невесту, а кому отправляться в ресторан на специальном автобусе.
Но вот спор разрешается, и те, кому посчастливилось ехать, рассаживаются. Первая машина, выпустив струю чёрного зловонного дыма, трогается с места. Но тут из "пятнашки", пристроившейся в арьергарде, выскакивает белобрысый молодой человек и, размахивая руками, кричит:
- Стойте! Стойте! Остановитесь!
Кузьма Егорыч со страху ударяет по тормозам, и Нюся, приоткрыв дверцу, вопиёт:
- Чего, Владик!
Увязая в снегу, Владик бежит по направлению к "семёрке" и продолжает размахивать руками.
- Стойте! Неправильно сели!
Подбежав, он объясняет, что невеста со свидетельницей должны следовать в головной машине. Жених со свидетелем - во второй. Остальные же рассаживаются по своему усмотрению.
Нюся с благодарностью и нежностью смотрит на Владика, ресницы которого от налипшего снега кажутся совсем белыми.
- Спасибо, Владик!.. Никто ведь не вспомнил…
Жених незамедлительно изгоняется, и на его место призывается свидетельница. И только после этого машины одна за другой выезжают со двора. Сперва выезжает Кузьма Егорыч с Нюсей, после - свидетель с женихом. Далее - в случайном порядке. Едут медленно и, что есть силы, сигналят. Любопытные прохожие останавливаются и провожают кортеж глазами.
Минут через семь прибывают в ЗАГС. В ЗАГСе их встречает высокая дама в длинном лиловом платье. У дамы такое выражение лица, будто она знает нечто чрезвычайно пикантное. Знает, но предпочитает помалкивать.
Под хорошо знакомые всем звуки дама вводит процессию в залу.
- Анна и Валерий!.. - провозглашает служительница Гименея, когда марш умолкает.
Наступает тишина. Слышно только, как щёлкают затворы фотоаппаратов.
- Сегодня не-за-бы-ва-а-емый, не-пов-то-ри-и-мый день в вашей жизни! Вы пришли, чтобы соединить свои судьбы и пройти вместе по жизненному пути!.. Я от всего сердца желаю, чтобы семья ваша была счастливой и благополучной. Счастья вашему дому!.. Перед регистрацией брака прошу ответить вас, является ли ваше желание стать супругами взаимным и свободным. Прошу ответить вас, невеста…
- Да! - грохочет Нюся.
- Ваш ответ, жених…
- Да, - вздыхает тот.
- В соответствии с семейным кодексом Российской Федерации, а также по вашему взаимному решению и согласию, объявляю вас мужем и женой!..
Речь игривой дамы производит на собравшихся потрясающее впечатление. Невеста смахивает слезу, жених тоскливо вздыхает и устремляет взгляд свой в окно, точно там навеки остались его свобода и беспечная жизнь. В задних рядах слышится всхлипывание. Это бабушка жениха, златозубая старушка с волосами, окрашенными не то хной, не то луковой кожурой, не в силах больше сдерживать рыдания. Ей вторят ещё две никому не известные старушки.
Потом новобрачные обмениваются кольцами, потом вместе со свидетелями расписываются в "амбарной" книге, потом воздух оглашается поздравлениями, поцелуями и пожеланиями. А потом, уже на улице, откуда-то сами собой появляются шампанское, пластиковые стаканы и шоколадные конфеты.
Кто-то бросает "Горько!", новобрачные целуются, все довольны, все кричат "Вау!"
Но вот шампанское допито, конфеты съедены - перед процессией встаёт вопрос: посещением какого памятного места освятить сей знаменательный день. Приоритеты выстраиваются следующим образом: к монастырю, к вечному огню, к противотанковым ежам, а на десерт - загородная прогулка, цель которой - деревянная, в полный рост, фигура лося, что на границе двух лесничеств.
Решают не терять даром времени и тотчас после проработки маршрута отправляются в путь. И ни снегопад, ни усиливающийся холодный ветер не в силах помешать их планам!..
Часам к пяти в ресторане, бывшем некогда столовой завода скобяных изделий, напряжение накаляется до предела. Молодых ждали к четырём, но они уже на час задерживаются. Не случилось ли чего?
В каждом окне, как пришпиленная, торчит чья-нибудь физиономия. Всяк хочет увидеть первым и сообщить остальным. И вот наконец какой-то детский голос оглашает:
- Едут! Едут!
И тотчас другие голоса подхватывают:
- Едут! Точно! Вот они!
Проведшие в томительнейшем ожидании около часа, собравшиеся теряются и начинают метаться. Всё падает из рук, предметы исчезают, порядок рушится.
- Где хлеб-соль?
- Да здесь же был!
- А рушник? Куда делся рушник?
- На стуле только что висел!
- Фёдор Тихоныч! Икону возьмите!
Фёдор Тихоныч, отец жениха, нимало не смущаясь своей неосведомлённостью в вопросах богословия и иконописи, овладевает иконой. При этом неизвестный святой в его руках переворачивается вниз головой. Но впопыхах этого никто не замечает. Супруга Фёдор Тихоныча хватает рушник, а Нюсина мать поверх него укладывает хлеб-соль. И так, впереди толпы гостей, втроём они встречают молодых, возглавляющих другую толпу. Встреча происходит в фойе бывшей столовой.
- Хлеб да соль молодым! - нараспев говорит новоиспечённая свекровь и кланяется вошедшим.
Фёдор Тихоныч с запозданием следует её примеру. Когда они разгибаются, молодые подходят ближе и по очереди, сначала Нюся, потом Валерка, целуют неизвестного святого. Дальше, по обычаю, они кусают каравай. Каждый, разверзнув безобразно челюсти, старается отхватить кусок побольше, ибо от этого зависит первенство в их союзе.
Во всё это время свидетельница с фотоаппаратом в руках прыгает вокруг на тонких ножках и, подгибая колени на манер заправского папараци, фиксирует каждый миг.
И снова воздух оглашается поздравлениями, поцелуями и пожеланиями…
Свидетельница вручает Нюсе свой подарок - наручные часы. Подарок Нюсе нравится, тем более что она сама его заказывала, и тотчас на запястье у неё щёлкает стальной замок.
Пока часы ощупывают другие Нюсины подружки, белобрысый Владик отзывает свидетельницу в сторону и, заглядывая ей в глаза, таинственно вопрошает:
- Ты что, уходить собираешься? Это нельзя… Свидетели до конца должны…
- С чего ты взял? Не собираюсь я уходить…
- А зачем подарок подарила? - не унимается строгий Владик.
- То есть как "зачем"?
- Подарки принято дарить позже. Свидетели ходют с подносом, а гости ложут подарки.
А водители меж тем решают, как быть с машинами.
- Что ж это, - всплёскивает руками Кузьма Егорыч, - я у дочки единственной на свадьбе за здоровье не выпью?!
Остальные четверо водителей призывают Кузьму Егорыча воздержаться сегодня от спиртного - все устали и проголодались. Но Кузьма Егорыч непреклонен. К отцу присоединяется Нюся:
- Свидетелю грех не выпить за молодых! - кричит она.
Позже выясняется, что тяжкий грех ляжет на души и остальных трёх водителей, если только они откажутся поклониться сегодня зелёному змию. Страшась греха, водители решают отогнать машины на стоянку, а обратно вернуться на такси. С тем и удаляются.
В ожидании их возвращения гости и виновники торжества перемещаются в единственный обеденный зал. Здесь уже накрыты столы, устроенные в виде буквы "П".
Белые скатерти, тесные ряды бутылок, яркие пятна овощей и матовый блеск майонеза в салатах возбуждают всеобщий аппетит. Кое-кто уже поговаривает о том, что неплохо бы начинать.
- Дождёмся наших водителей! - пищит свидетельница, которой не улыбается управлять застольем в одиночестве.
Чтобы занять себя, гости принимаются чинно прогуливаться вдоль столов, искоса поглядывая на красные куски сёмги и розовую в белую крапинку колбасу. Но долго так продолжаться не может. Проходит полчаса, и гости, не евшие ничего со вчерашнего вечера, начинают роптать. Матери новобрачных сообща принимают решение начинать праздник. В мгновение ока все рассаживаются.
Свидетельнице подсовывают какой-то листок, и она, поднявшись со своего места и густо покраснев, чуть слышно читает:
Ой вы гой еси, гости-гостюшки!
Гости стихают. Кто-то требует:
- Громче! Не слышно!
Свидетельница прокашливается и начинает сызнова:
Ой вы гой еси, гости-гостюшки!
Поклонитися от нас вашим матушкам!
А сейчас нальём вина заморские
Мы в бокалы хрустальные русские
Да подымем за молодых наших!
За прекрасную лебёдушку
Ой ты гой еси Аннушку,
Да за ясного соколика,
Ой ты гой еси Валерика!
Хлопают пробки. Все, включая дам, встают, журчит шампанское, и вот уже слышны первые робкие голоса:
- Горько! Горько!
К ним присоединяются остальные, и вскоре многоголосый хор ревёт так, что слышно на соседней улице:
- Горь-ка! Горь-ка!
Отставив "бокалы русские", молодые затяжно целуются. Причём руки "соколика" вовсю путешествуют по телу "лебёдушки".
Когда все усаживаются, свидетельнице опять подсовывают листок. И она, покраснев, как и в первый раз, читает:
Ой вы гой еси, гости-гостюшки!
Поклонитися от нас вашим матушкам!
- Да уж поклонились! - перебивает какой-то остряк.
Все смеются.
Свидетельница, готовая провалиться из-за насмешек и тех глупостей, что вынуждена озвучивать, скрепя сердце, продолжает читать:
А сейчас отведайте наших кушаний!
Подкрепитися у нас, чем Бог послал!
Здесь и сёмушка и икорушка,
Язычок, балычок и грудиночка!
Нюсина мать с довольным видом кивает головой. Да, всё это есть на столе. Уж они-то ничего не пожалели для единственной дочки!
Гостей не надо упрашивать. Ещё свидетельница не окончила свою былину, а уж застучали ножи, зазвенел фарфор.
Свидетельница облегчённо вздыхает: пока гости утоляют первый голод, глядишь, и помощь подоспеет.
Но голодные гости быстро пьянеют и начинают развлекать себя сами. Кто-то поёт, кто-то рассказывает анекдоты, кто-то, улучив минутку, уже втянул соседа в политический диспут. Блюститель традиций Владик лезет под стол - необходимо украсть у новобрачной туфлю. Новобрачная визжит, дёргает ногами, но разуть себя позволяет. И Владик возвращается с трофеем.
Теперь, чтобы вернуть себе обувку, Нюсе придётся выполнить какое-то задание. Владик и компания долго совещаются и наконец объявляют: новобрачная, употребив тридцать эпитетов, должна рассказать собравшимся, каков её супруг… в постели! Нюся притворно обижается:
- Дураки!
Но, подумав немного, начинает перечислять:
- Сексуальный, страстный, голый, горячий … сексуальный…
Но тридцать эпитетов - это чересчур. И Нюся сдаётся. В борьбу вступает её супруг. По традиции он должен выпить шампанского из невестиной туфельки. Ему действительно подносят Нюсину туфельку, наполненную до краёв шампанским. Он осушает этот сосуд тридцать девятого калибра и окончательно пьянеет.
Вернувшиеся тем временем водители, находят в фойе на стуле надкушенный каравай, а под стулом - рассыпанную соль и икону. Но глаза их не задерживаются на этой картине. Скинув куртки и потирая руки, бегут они в обеденный зал. Там пьют "штрафную", кричат "Горько!" и опять пьют.
Потом свидетели действительно "ходют с подносом", а гости "ложут подарки" - главным образом, конверты с надписями вроде: "От бабушки". Или "От тёти Гали и дяди Миши", "От Пряниковых".
Потом опять все кричат "Горько!", а потом подают горячее. Но собравшиеся, все почти изрядно опьяневшие, не хотят кушать. Тогда сдвигают в стороны столы, освобождая место; приносят откуда-то магнитофон; и бывшая столовая сотрясается. Под самый незамысловатый отечественный напев пляшут молодые супруги, свидетели, Фёдор Тихоныч с Нюсиной мамой, Кузьма Егорыч с толстой тётей Верой, белобрысый Владик с длинноногой блондинкой в мини. Пляшут, извиваясь в страшных корчах и кривляясь, остальные гости.
Отпустив Фёдор Тихоныча веселиться, его супруга собирает со столов остатки еды. Ей вдруг приходят на ум и сами собой укладываются на мотив известного романса слова: "А напоследок я… сложу в пакетик целлофановый…" Но не успевает она собрать все куски, как приносят свадебный торт и чай. Столы возвращаются, и гости, возбуждённые и мокрые, рассаживаются по местам. Кто-то причитает:
- Батюшки! Такую красоту-то и резать жалко…
Но молодые, приняв позу рабочего и колхозницы, вдвоём одним ножом безжалостно режут белую башню. Лишь только лезвие ножа погружается в бисквит, как со всех сторон несутся изъявления радости:
- Йес!
- Вау!
- Они сделали это! - кричит Владик.
Потом пьют чай, кушают белый торт. Все сыты, пьяны и довольны…
После чая, пока гости нехотя собираются, Нюся решает подсчитать деньги из конвертов.
- Твоя бабка меньше всех подарила! - ворчит она на мужа.
- Она ж пенсионерка, - вступается тот.
- Ну и что!.. "Пенсионерка!.." Могла бы подкопить внучку на свадьбу!.. "Пенсионерка…" Моя-то вон… сто долларов дала!..
Потом все садятся в специально зафрахтованный автобус, и автобус развозит гостей по домам.
Прощаясь, свидетельница говорит Кузьме Егорычу:
- …А вас, Кузьма Егорыч, с сыном поздравляю! Была у вас дочка, а теперь вот ещё и сын…
От таких слов Кузьма Егорыч даже трезвеет. Он выпячивает грудь и начинает крутить головой. А найдя глазами Нюсю, кричит ей:
- Слышишь? Ты, варежка!.. Слышишь, чего люди-то говорят, которые понимающие?.. Которые не то, что ты - уважение понимают!.. Слышала? С сыном меня поздравляют! Понятно тебе?.. Э-эх! Да разве ты поймёшь?.. Варежка!..
Беззаботные
Марина, шестнадцатилетняя девушка, полная, цветущая, с крупными чертами лица, лежала на выцветшей тряпке, бывшей некогда занавеской, теперь же расстеленной на лужайке подле старого, недавно вновь окрашенного в приторно-жёлтый цвет дома. Уткнувшись локтями в тряпку и уронив свою большую голову в чашу, образованную ладонями, Марина крепкими, похожими на ядра орехов зубами жевала стебелёк мятлика. То и дело она лениво поводила круглым обнажённым плечом или подёргивала полной ногой, отгоняя наседавших насекомых. Рядом с ней на линялой занавеске, подложив под голову руки и перебросив одна через другую согнутые в коленях длинные, тонкие ноги, лежала её школьная приятельница Вера. Маленькая, похожая на фарфоровую статуэтку, удивительно изящная девушка, приехавшая по приглашению Марины провести выходные в деревне.
Облачённые в купальные костюмы, девочки самоотверженно отдавались жестокому июньскому солнцу. Тела их раскраснелись и лоснились от пота. Обе молчали и решительно ни о чём не думали. От жары все мысли расплавились, и ухватиться за них было невозможно.
В воздухе, раскалённом и густом, как лава, застыли запахи скошенной травы, смородинового листа и цветов шиповника. Откуда-то из-за дома потянуло костром и жареным мясом – это родители Марины взялись приготовлять шашлык.
Звенели весёлые мушки, гудели деловитые шмели, где-то на краю деревни плакала корова. Ласточки с тревожным писком носились так низко, что, казалось, задевали крылами кусты. Соседская курица, пролезшая сквозь дыру в заборе, лапой ворошила морковную грядку и злобно кудахтала.
По небу, точно в глубокой задумчивости, плыло одно-единственное малюсенькое облачко почти правильной квадратной формы. То и дело оно останавливалось и, как бы потягиваясь, превращалось ненадолго в шар. Но после снова принимало прежнюю форму и плыло дальше.
– Девочки! Идите есть! – раздался голос Марининой мамы.
Девочки вздрогнули и ожили. Марина перевернулась на спину, Вера уселась, поджав под себя ноги.
Завидев на грядах курицу, Марина вскочила и топнула в её сторону ногой.
– Пошла отсюда! – крикнула она.
Курица заблажила, захлопала крыльями и заметалась между грядами.
– Пошла, дурища! – подскочив к курице, Марина легонько подтолкнула её ногой к забору. Курица, наконец-то сообразив, чего от неё хотят, шмыгнула в дыру и скрылась за изгородью, на прощание метнув на Марину мстительный взгляд.
Марина потянулась, зевнула и, обращаясь к Вере, спросила:
– Идём?..
Вера поднялась, и по дорожке мимо грядок и старых корявых яблонь девочки пошли к дому.
Там, где дом отбрасывал солидную квадратную тень, стоял на земле колченогий мангал, а над ним колдовал курбатый, очень суетливый человек в длинных, нелепых шортах. Это был отец Марины.
Тут же в тени стоял дощатый стол и с двух сторон от него – длинные скамейки. Стол уже был накрыт.
С кусков дымящегося мяса, нанизанных на палочки, падали на толстое блюдо тяжёлые, сочные капли. И в каждой капле видны были множественные золотые кружочки жира. Прямо на столе лежали варёные растрескавшиеся яйца, пучок свежей, только что умытой зелени, буханка чёрного хлеба и длинный нож. На тарелке – кольцами нарезанный лук, упругие зёрнышки чеснока и несколько маленьких, колючих огурчиков. А в больших эмалированных мисках горкой насыпаны ягоды – клубника и черешня. Бутылки с водой, пивом, термос с чаем и банка с молоком стояли тут же.
Девочки сели по одну сторону стола, родители Марины – по другую, трапеза началась. Тут услышали, как стукнула калитка, и зашуршал щебень под чьими-то лёгкими ногами. И вскоре из-за угла дома показалась Оксана, соседская девочка лет четырнадцати, худенькая, с угреватым лицом и жидкими, короткими волосами. Пришла она в сопровождении белой безухой овчарки. Оксана поздоровалась и присела рядом с Верой. Перед ней тотчас поставили тарелку, положили палочку шашлыка, кусок хлеба. Налили стакан молока. Дали шашлык и собаке. Та, осторожно взяв мясо, отошла в сторону и, улегшись на траву, принялась неспешно разжёвывать кусок, растягивая удовольствие.
Съев предложенное, Оксана, почему-то смущаясь и краснея, спросила тихо:
– На речку пойдёте, девочки?
– Пойдём, – был ответ.
– Тогда я за вами зайду.
И, поблагодарив хозяев за угощение, Оксана ушла. Вместе с ней ушла и безухая овчарка.
За деревней рос огромный калиновый куст, цветший теперь и источавший сильный горьковатый дух. Запахи калины, клевера и ещё каких-то не то трав, не то цветов, мешались в один пьянящий аромат. И воздух, вмещавший в себя такое множество запахов, казался необыкновенным густым и горячим напитком, пить который хотелось маленькими глотками, чтобы не обжечься и насладиться букетом.
Под калиной жил своей жизнью пруд. Подойдя ближе, девочки увидели рыбок, высовывавшихся наружу и оставлявших после себя разбегающиеся круги. Кричали, как безумные, сочно-зелёные лягушки, водомерки выписывали лапками сложнейшие, невиданные узоры. Чуть в сторонке стояла красная церковь. Костлявая, с торчащими во все стороны ржавыми железяками и ветками какого-то кустарника, росшего на крыше, она уныло смотрела на своё отображение в пруду и на девочек не обратила никакого внимания. Пройдя гуськом по узкой тропке, вытоптанной среди лопухов и кустиков пижмы, девочки вышли к старому серому колодцу. Отсюда можно было видеть далеко окрест: деревня, как и множество других деревень, расположилась на холме. Зелёные перелески, ярко-жёлтые островки сурепки, лиловый дымок колокольчиков – всё это весело, по-летнему, переливалось, играло и порождало безотчётную радость и предвкушение чего-то хорошего, что обязательно должно случиться. И почему-то хотелось петь, смеяться, верить, что нет плохих людей, и что жизнь – это праздник от рождения до смерти…
Там, где небо касалось земли, девочки увидели спину дракона. Это холмы, поросшие лесом, чернели колючей щёткой. И вдруг дракон шевельнулся и приподнялся. Спина его изогнулась, ощетинилась. Дракон ожил и стал страшен. Один из гребней на его спине оторвался и тотчас разлился по небу чернильным пятном. И жирная, подгоняемая ветром туча поползла навстречу девочкам.
– Дождь будет! – сказала Марина, щурясь на тучу и прикрываясь рукой от солнца.
И девочки врассыпную побежали под горку, туда, где в тени под вербами дремала речка.
Побросав полотенца в траву, спустились к воде. Потоптавшись немного, ощупью, повизгивая и подняв руки, точно оттягивая страшный миг, стали входить в реку. Наконец, Оксана, зажмурившись и сжав плотно губы, плюхнулась на живот и, задрав высоко голову, поплыла по-собачьи. Испуганные неожиданно-громким всплеском, сороки, трещавшие где-то в кустах вербы, вдруг замолчали. Метнулась в сторону стайка лимонных бабочек. Застыли в изумлении золотистые стрекозы. И только смелая коноплянка продолжала насвистывать свою ласковую, чуть грустную, похожую на звуки флейты, песню. Обрызганные Марина и Вера, подались было с громким смехом назад, но спустя минуту уже плыли за Оксаной. Угрюмая, холодная река, не успевшая ещё как следует прогреться, встретила девочек неприветливо. Но они с наслаждением барахтались в тёмной зеленоватой воде, то повизгивая и отфыркиваясь, то переговариваясь ничего незначащими фразами.
Вдруг раздалось первое недовольное рычание.
– Нельзя в грозу купаться – убить может, – очень серьёзно сказала Оксана. И все трое, не сговариваясь, повернули к берегу.
Выйдя на сушу, дрожа и стуча зубами, принялись растираться полотенцами. Опять зарычало. Чернильное пятно расползлось и уже приближалось к деревне. Внутри пятна сверкнула молния. Вдруг как-то сразу потемнело и посвежело. Ветер засвистел в кустах вербы, испугал старую осину, дёрнул за косы берёзку. И швырнул в девочек какими-то семенами. Первые капли, сначала редкие и мелкие, так что непонятно было, идёт ли дождь, или это только так кажется; затем крупные, тяжёлые упали на землю. Исчезли бабочки и стрекозы, смолкли птицы – насторожилась всякая тварь. Стало слышно, как захлюпала, зачавкала вода в речке, как зашептали обрадованные влаге листы и травы. Накинув полотенца на головы, девочки побежали к деревне. А когда дождь застучал по спинам и икрам, они сжались, как будто захотели сделаться меньше, и прибавили шагу.
Зарычала уже совсем близко, прямо над головами, огнедышащая туча. Но, изрыгнув пламя, успокоилась и затихла. А дождь шуршал всё громче и громче...
– Переждём под деревом! – крикнула Вера.
– Нет! Нельзя под деревом в грозу – убить может!
И девочки побежали дальше по мокрой и скользкой траве, балансируя и рискуя на каждом шагу упасть и скатиться вниз к речке. Но вот показались взъерошенные, мокрые, похожие на стайку воробьёв кустики пижмы, и серый, глянцевый от дождя колодец. Здесь девочки разделились. Оксана, жившая на другом краю деревни, побежала к себе.
Не успели Марина и Вера, мокрые и продрогшие, вбежать в дом, как чернильное пятно, точно разбавленное дождевой водой, стало блёкнуть, тускнеть и вскоре расползлось по небу светло-серыми облаками, пробитыми кое-где золотыми иглами лучей. Дождь прекратился, проглянула лазурь, и солнце, показавшись, отразилось в каждой упавшей капле.
Девочек встретила Маринина мама.
– Замёрзли? – она засмеялась. – Вон возьмите, переоденьтесь. Она кивнула на серый, тряпичный диванчик, где приготовлены были пёстрые старенькие, но чистые, а главное сухие, платьица и полотенца.
– Переодевайтесь, чаю попьём.
И вскоре девочки и родители Марины сидели за высоким, покрытым клеёнкой столом и пили чай с баранками и клубникой. Напившись чаю, решили играть в лото. Уговорились, что ставка – рубль. Расселись, раздали карты, разыграли, кому кричать – игра пошла.
Самым азартным игроком оказался Маринин отец. И хоть ставка была невелика, он всякий раз, проигрывая, расстраивался и начинал сердиться. Но стоило ему выиграть, как настроение его тут же менялось. Он аккуратно подсчитывал выигрыш и был чрезвычайно собой доволен. Нацепив на нос очки, он взялся приглядывать за остальными, чтобы не мошенничали.
В лото у цифр так много смешных прозвищ, неизвестно, кем и когда придуманных, что играть в эту игру молча совершенно невозможно.
– У меня «цыганка»!
– Какая «цыганка»?
– Ну... карта такая… счастливая, где все цифры подряд…
– Ха-ха-ха! Это «арапка» называется.
– Ну «арапка»…
– Я кричу! Барабанные палочки, восемьдесят три, пятьдесят...
– Ровно?
– Нет, с полтиной! Как свиньи спят, кочерга, двадцать шесть...
– Стоп, стоп! Какие свиньи?
– Два раза не повторяю! Дед...
– Сколько ж ему лет?
– Шесть!
– Вот так де-эдушка!..
– Да что это за свиньи были?
– Господи! Шестьдесят девять...
– Так бы и говорили...
– Папа! Не запускай глазенапа!
– А что такого? Мы же не в карты...
– Семён Семёныч, три...
– По одной – не ошибётесь!
– Что?! Уже квартира?!
– А то!
И так далее.
Кричали все по очереди, каждый по-своему. Кучка мелочи кочевала от одного игрока к другому. Всякий выигрыш встречался смехом, присвистом и завистливыми вздохами. Играли долго, пока не стало темно в комнате. Чтобы не напустить комаров, свет решили не зажигать, а потому игру пришлось прекратить.
Девочки вышли из дома и уселись на высокое деревянное крыльцо. Дом, доставшийся родителям Марины от деда, был старый, но крепкий и добротный. Ступени крыльца гладкие и широкие, такие, что на каждой из них с лёгкостью можно было бы разместиться на ночлег.
Было сухо, влага успела испариться. Солнца уже не было видно. Но облака, застывшие на западе в каком-то сказочном вихре, светились изнутри нежнейшим розовым светом. А ветер, закрутив их винтом, внезапно стих, чтобы полюбоваться своим творением.
Залаяла где-то басом собака. Наверное, та безухая овчарка, что приходила с Оксаной. И тут же из всех дворов послышалось недовольное ворчание и тявканье.
Маринина мама вынесла в эмалированной миске черешни. Поставив миску на ступени рядом с девочками, снова ушла.
Вскоре стемнело. И только на западе тёмно-синий небосвод оставался бирюзовым с бледно-розовым росчерком. Вышел похожий на лимонную дольку месяц. Глянул сверху на девочек и отвернулся. Утихли звуки. По временам только басовитая собака тихонько потявкивала, точно перхала. Засвистал, защёлкал соловей. И, точно пытаясь саккомпанировать, заиграли слаженно цикады.
Ночь была тёплой, свежей и душистой. Одна из тех ночей, когда хочется сидеть вот эдак до утра, слушать, вдыхать и смотреть, как загораются звёзды, сбивающиеся, точно куры, вокруг петуха-месяца.
Девочки молча ели черешню и бросали косточки в траву.
– Оксанка, наверное, на дискотеку в Константиново пошла. Она каждую субботу ходит. Парень у неё там – вот и таскается, – сказала вдруг Марина. И по её тону можно было заключить, что не одобряет она такого верхоглядства со стороны Оксаны.
– Далеко это? – спросила Вера.
– Километров пять...
– И какая ж там в Константинове дискотека? – Вера усмехнулась.
– Да-а... Какая-то… В сельском клубе.
– А домой-то пешком?
– А то как же... Транспорт ей, что ли, персональный подавать?
Помолчали.
– Вон смотри... Большая Медведица, – Вера ткнула пальцем куда-то в воздух. – А парень-то её проводит домой? Страшно ночью-то...
– Может, проводит. Всё равно страшно, хоть с парнем, хоть без... По ночам-то таскаться... Мне вот Пашка, ну... брат мой двоюродный, рассказывал... У его жены, у Пашкиной, дядька в Смоленске живёт. Вот он Пашке-то сам и рассказал. Раз едут они с женой с дачи, а уж поздно было. Темно. Они на даче-то задержались, ну и оказались ночью в дороге. Так вот, едут они, вдруг видят, вроде женщина с ребёнком стоят на дороге, голосуют. Женщина не старая, лет тридцати, наверное, ребёнка, мальчика, за руку держит. Увидела машину-то, ну, и подняла руку. Голосует, значит. Дядька-то Пашкиной жены пожалел – с ребёнком всё-таки, да и поздно – остановил машину... У них – «шестёрка»... Женщина села и говорит: «Мне в такую-то деревню надо. Вы меня довезите и у меня переночуйте. Но только утром я вас рано разбужу. Я, говорит, с петухами встаю». Дядька с женой согласились. Ну, едут, значит. Приезжают в деревню. А в деревне-то уж спят все. Они её к дому подвезли, ну, сами заходят. Расположились. Она их спать, значит, уложила. А наутро чуть свет будит. Вставайте, мол, мне уходить надо. Ну, они встали, оделись и уехали. И всё бы ничего. Да только дядька в дороге уже спохватился, что часы забыл. Жаль стало часов-то – пришлось вернуться. Ну, возвращаются, значит, в ту деревню. А уже, понятно, светло. Так вот, возвращаются, находят тот дом. Его, дом-то, легко было запомнить – он первый с краю стоял. Не перепутаешь. Так вот, возвращаются, смотрят... А дом-то заколочен!
– Как?!
– А так. На дверях доски крест-накрест. И на окнах то же. Что тут делать? Ну, пошли по деревне, стали людей спрашивать. Когда, мол, дом-то успели заколотить. Мужичок какой-то говорит: «А он уж лет пять, как заколоченный стоит. И никто не живёт в нём». Дядька, понятно, смеётся. «Как же, говорит, лет пять, когда мы с женой вчера только там ночевали». Ну, и рассказал мужичку всё, как было-то.
– Ну?! А он что?
– Мужичок прямо сам не свой стал. «Точно, говорит, жила здесь женщина с ребёнком. И по описанию подходит, и по возрасту. Да только они оба лет пять уж, как померли. Машиной, говорит, их сшибло. Да на том самом месте, где вы их подобрали».
– А дядька что?
– Дядька-то весь так и обмер. Жена, понятно, в истерику. Ну, то да сё, решили доски содрать. Проверить, значит. Удостовериться. Отодрали, заходят. Пылищи кругом – не продохнуть! Видно – необитаемое жильё. А на столе-то… дядькины часы лежат... Вот так-то...
– И что?
– Ну, ничего... Взяли часы, да и дёру из той деревни. Подальше, значит. А другие-то мужики подтвердили про ту женщину. Лет пять, говорили, как померла вместе с ребёнком.
– А кого ж они подвозили? – тихо спросила Вера.
– Привидения ихние!..
Девочки замолчали. После «страшных», пусть даже самых нелепых рассказов не хочется больше говорить о чём-то обычном. Хочется думать, как много вокруг чудесного и необъяснимого. Люди, чьи жизни не богаты событиями и встречами, обыкновенно любят истории о мертвецах и ведьмах, о духах и заморских чудищах. А ночь, как известно, располагает к таким рассказам. Звуки ночи, происхождение коих непонятно, всегда внушают священный ужас и трепет, точно это сама вечность говорит о себе. Крикнет ли ночная птица, прошуршит ли крылом нетопырь или завоет собака – и готово дело! Страх вселяется в душу, и тут уж сами лезут на ум вурдалаки, оборотни и прочие посланцы ада.
– Пойдём, может, спать? – смущённо сказала Вера.
– Пойдём...
Они поднялись и тихонько, чтобы не разбудить никого, вошли в дом. Постели были уже разостланы, и девочкам оставалось только раздеться и лечь. В раскрытое окно доносилось свежее дыхание летней ночи, в котором растворился тяжёлый запах жилья, свойственный всем старым деревянным домам. Тренькали неугомонные цикады, перешёптывались листья.
Какое-то время девочки молча лежали и думали о том, что сейчас рассказала Марина. Пытались представить себя на месте незадачливого дядьки, пытались вообразить, что может думать и чувствовать человек, не искушённый общением с духами, и каковой вред такое общение может принести. Думали ещё о чём-то. Должно быть, о том, как купались сегодня в речке, как промокли под дождём, о том, что Оксанка – дура, и что завтра, наверное, будет хороший день и опять можно будет пойти купаться. Хорошо иногда бывает так вместе думать. Молчишь, погружённый в свои мысли, но прекрасно осознаёшь, что ты не один и что молчите вы вовсе не оттого, что не о чем говорить.
Потом Вера уснула – слышно стало её лёгкое и ровное дыхание. А Марина долго ещё лежала в темноте и чему-то безотчётно улыбалась. На душе у неё было тепло, покойно и радостно. Но чем была навеяна эта радость, Марина не смогла бы объяснить. А если бы кто сказал ей, что она попросту счастлива, Марина, наверное, удивилась бы. Счастье представлялось ей иным – богато обставленным, ярким и шумным. И никогда не приходило ей в голову, что жить вольной жизнью на родной земле среди любящих тебя людей, любить самому и не думать о хлебе насущном – разве есть большее счастье...
Сухарева башня
За столом в маленькой кухоньке, где кроме стола умещаются разве плита да холодильник, сидят Лизавета Лукинишна Семьиндейкина, старуха лет восьмидесяти с огромными выцветшими глазами и плоским, как блин, седым пучком на макушке; и две её дочери - Августина и Юлия Семёновны - старухи помоложе.
Все трое пьют чай вприкуску. У Лизаветы Лукинишны чайная пара хорошего тонкого фарфора с мелкими розовыми цветочками по белому полю. Перед Августиной Семёновной - огромный бокал, этакая лохань, на огромном, скорее напоминающем суповую миску, блюдце. Юлия Семёновна пьёт свой чай из старенькой красной чашечки с белыми горохами. В одном месте край чашки отколот. Блюдце же всё покрыто паутиной мелких трещин.
Возле Лизаветы Лукинишны лежат сахарные щипчики. Время от времени Лизавета Лукинишна захватывает их своей костлявой рукой и остервенело колет куски рафинада. Рафинад при этом трещит, Лизавета Лукинишна кряхтит и квохчет. Наколотый сахар свален посередь стола белой горой. Рядом в глиняной сахарнице с отколотой ручкой лежат конфеты. Тут же на блюде - яблоки и несколько синих слив.
Пьют молча. Слышно только звонкое причмокивание да прихлёбывание. Да по временам звенит муха на стекле. От горячего чая и густой июньской жары все трое красны и потны.
Разложив на столе рыхлую грудь, Юлия Семёновна вся точно обмякла и просела. На коленях у неё лежит кухонное полотенце, которым она то и дело промакивает своё широкое, весноватое лицо. Опершись о стол острыми коричневыми локтями, и подперев левой рукой голову, Августина Семёновна энергично обмахивается газеткой.
Размеры стола, вплотную придвинутого к окну, позволяют всем участникам застолья обозревать происходящее на улице. Но оттого ли, что там ровным счётом ничего не происходит, на лицах сестёр разлита скука смертная. Не то Лизавета Лукинишна. В глазах её написаны единовременно грусть и неудовольствие. Остатки бровей сдвинуты, губы плотно сжаты. По всему видно, что думает она о чём-то для себя неприятном.
- И зачем?.. - внезапно шумно вздыхает она, - зачем снесли Сухареву башню?..
От неожиданности Юлия Семёновна вздрагивает и роняет на пол полотенце. Августина Семёновна перестаёт обмахиваться и многозначительно смотрит на сестру. Та пожимает плечами и лезет под стол за полотенцем.
- Что это ты, мам, про башню-то опять вспомнила? - осторожно спрашивает Августина Семёновна.
- И далась она тебе, - вторит ей Юлия Семёновна, вылезая из-под стола и отдуваясь.
Лизавета Лукинишна с негодованием цокает языком и строго смотрит на дочерей.
- Много б вы понима-али-и! - плаксивым голосом, нараспев говорит она. - Я её, матушку, как сейчас помню... Как закрою глаза-то, так и вижу её, так и вижу... - слова "так" "и" Лизавета Лукинишна произносит слитно, отчего выходит у неё "таки". - Стоит она, голубушка, нарядненькая... как невестушка...
И Лизавета Лукинишна действительно закрывает глаза и начинает методично раскачиваться. Недовольное выражение лица её сменяется блаженным.
Сёстры с любопытством и затаённым страхом смотрят на мать.
- Да будет тебе, мам, убиваться-то, - говорит наконец Августина Семёновна и вздыхает. - Снесли и ладно... Новую построят... Знать мешала, что снесли. Там же... это... трамвай, что ль, ходил... или конка... Что там у вас...
Юлия Семёновна толкает сестру локтем и с укоризной смотрит на неё.
Лизавета Лукинишна перестаёт раскачиваться и открывает глаза.
- Да ты очувствуйся, Авета! Чего говоришь-то?.. Комуйта она помешала?.. Да другой такой башни на всей Москве отродясь не было... Стояла она, голубушка, на пригорочке... красинькая вся такая, солнышком осиянная...
Лизавета Лукинишна, молитвенно складывая руки и устремляя взгляд свой в небытие, опять принимается раскачиваться.
Сёстры переглядываются.
- Ох, Царица Небесная... Кому ж это она помешала-то...кому-у-у... кра-синь-ка-я... наряд-нень-ка-я...
- Ма-а-ам! - просительно говорит Юлия Семёновна, промакивая лицо полотенцем. - Но ведь её снесли-то уж шестьдесят лет, как... Чего ж ты по сей день всё убиваешься?..
Но Лизавета Лукинишна, увлекшись воспоминаниями, не слышит обращённого к ней вопроса.
- Красинькая... - причитает она. - Ажурненькая... Глаз ведь радовала... Бывало едешь по Мещанской, а она стоит, уж встречает тебя, голубушка... Невольно ей улыбнёшься да поклонишься. Здравствуй, мол, матушка... Её изделё-ока видать... Она ж на горке стояла... И этакую красоту изничтожить... - Лизавета Лукинишна цокает и мотает головой. - Ох, анчутки!.. На Москве-то две башни было - Ивана Великого да Сухарева... Всё одно, что две руки... Ан нет, отсекли одну руку-то. Таки осталась Москва однорукою... Д-а-а! С Мещанской видать... А в тридцать четвёртом годе её и своротили... Вначале верхушечку, потом часики... - Лизавета Лукинишна всхлипывает, а недоумение и страх на лицах сестёр сменяются жалостью и сочувствием. - А мы-то смотреть бегали, как её ломают... Вначале верхушечку, потом часики, а там уж всю остатнюю по кирпичикам разнесли... А мы-то стоим в стороночке и смотрим, а слёзы-то сами таки капют, таки капют... Гдейта за месяц до Петрова дня, вот как сейчас время-то было, её и разнесли, голубушку... А кирпичиками-то её улицы после мостили. Таки растоптали её матушку... Во, брат, как!..
Слёзы, стоявшие до сего момента в глазах доброй старушки, полноводным потоком изливаются на морщинистые щёки. Лизавета Лукинишна опускает лицо и закрывает его цветастым, кое-где прогоревшим передником.
Вслед за Лизаветой Лукинишной всхлипывает Юлия Семёновна. И представляется ей, как Лизавета Лукинишна, молодая совсем девушка, фланирует взад-вперёд по Мещанской, смеётся и посматривает на молодцов. И что одета она в шнурованную кошулю и красный беретик. А на ногах у неё парусиновые белые туфли. И вовсе не жаль Юлии Семёновне Сухаревой башни, знакомой разве по картинкам да по рассказам Лизаветы Лукинишны. Нет. А жаль ей, что молодость проходит, и всё хорошее остаётся где-то там, на пересечении Садового и Сретенки. Там, куда уж вернуться нельзя никогда...
- Ну, а ты-то чего?! - спрашивает её Августина Семёновна. - Ты-то чего завыла?
Но Юлия Семёновна, закрыв своим полотенцем лицо, только вздрагивает в ответ. Вздрагивают её плечи, вздрагивает лежащая на столе грудь, вздрагивает двухэтажный подбородок.
И глядя на то, как мать и сестра, самые родные, самые близкие ей люди умываются слезами, Августина Семёновна чувствует, что глаза начинает предательски щипать, а в носу пощекатывать. И когда вернувшийся с прогулки внук Юлии Семёновны Ваня, рыжий мальчик лет тринадцати с полным, добродушным лицом, заглядывает на кухню, он застаёт трёх старух сморкающимися и утирающими лица.
- Опять, что ли, Сухареву башню вспоминали? - ехидно спрашивает он, переводя глаза с одной фигуры на другую...
Одна
Вот уже несколько лет, как Надежда Ивановна осиротела. Оставшись одна в пустой квартире, она, томимая своим одиночеством, погрузилась в небытие. Ничего не замечает она вокруг, и кажется ей, будто остановилась жизнь.
Больше не чувствует Надежда Ивановна сладкого запаха весны, когда пахнет молодой, чуть пробившейся листвой, костром и прелой землёй, освободившейся от оков снега. Всё, что когда-то радовало её, ушло безвозвратно. Равнодушие заключило её в свои холодные объятия.
А началось всё в тот злой и тоскливый день, когда умерла её старая, избитая жизнью мать.
Ветер, приятель февраля, выл и бесился, стуча в окна и бросая снегом. Точно хотел ворваться в комнаты, точно торопил, звал за собой. Холодно и сумрачно было на улице. Неуютно и страшно дома.
Когда мать умерла, ветер вдруг стих. Метель улеглась, и показался в окне кусок тоскливо-серого неба. Низкого, гнетущего, безжизненно нависающего. Всё затихло кругом. Вошла смерть…
Когда-то Надежда Ивановна слышала, что смерть человека похожа на его жизнь. Мать умирала беспокойно. Она то металась на кровати, порываясь встать; то вдруг заходилась отвратительным кашлем, задыхалась и хватала руками воздух.
В какой-то момент ей стало легче. Лицо её приобрело прежнее осмысленное выражение. Она села в постели, положив худые, сморщенные руки поверх одеяла, и задышала ровно. Затем она улыбнулась чему-то, откинулась на гору подушек, закрыла глаза и замерла.
Надежда Ивановна смотрела на усопшую и некоторое время не понимала, что произошло. Так странно и страшно было свершившееся. Так удивительно и непостижимо.
Надежда Ивановна и раньше видела смерть. Но смерть чужих, безразличных ей людей не трогала и не удивляла ее. Казалось, что всё идет своим чередом. Ушёл человек, но на его место придёт другой. Но смерть близкого человека испугала и удивила Надежду Ивановну.
"Неужели всё? " - думала она.
Глядя на жёлтое, разгладившееся лицо матери, она вдруг почему-то захотела вспомнить свою жизнь. Вспомнить и привести воспоминания в порядок. Несколько раз она пыталась выстроить в стройный ряд всё то, что когда-то видела, чувствовала, переживала. Но выходило куце, оборванно. Да и вспоминалась какая-то ерунда. Надежда Ивановна удивилась. Выходило, что ей нечего вспомнить! Тогда Надежда Ивановна, покопавшись, как в старом сундуке, в недрах своей памяти, попыталась найти нечто связующее, то, что объединяло бы воспоминания общим смыслом. Она силилась вспомнить что-то главное и не могла. Надежда Ивановна словно не понимала своей жизни. Ей стало страшно, и она поспешила к людям…
Мать отпевали в Ильинском храме. Надежда Ивановна ближе всех стояла ко гробу и обливалась слезами. После того, как разрешительную молитву вложили в руку усопшей, и все бывшие на панихиде поклонились почившей старушке, Надежда Ивановна подошла к батюшке. Тот, желая, очевидно, её утешить, сочувственно спросил:
- Это сестра ваша?
Надежда Ивановна в ужасе подняла на него глаза и замахала руками, как будто дотронулась до чего-то горячего.
- Что вы?.. Что вы?.. - зашептала она и зарыдала с новой силой. Её вывели из храма; кто-то сказал: "Ну, и ба-а-атюшка!" А Надежда Ивановна обиделась на простодушного священника…
Когда суета, связанная с похоронами, улеглась, Надежда Ивановна поняла, что в её доме поселилось одиночество. Пришедшее в дом со смертью матери, оно наполнило собой комнаты, разлилось тишиной, расползлось холодом.
То ли это страшное одиночество, то ли сама смерть, невидимая гостья, так подействовали на Надежду Ивановну, но с той поры в душе у неё что-то произошло. И тяжёлые, незнакомые до сих пор мысли, привели Надежду Ивановну в отчаяние.
Когда-то Надежда Ивановна была молода и весела. Она влюблялась, работала, смеялась и пела, была дочерью, женой, матерью. Но постепенно всё изменилось. Однажды муж сказал: "Я полюбил…" И ушёл навсегда. Потом вырос сын, уехал зачем-то в Москву и сгинул в столичном водовороте. А Надежда Ивановна осталась с матерью, уходу за которой она и посвятила себя.
И вдруг всё это показалось Надежде Ивановне бесплодным, отнимавшим время от чего-то главного. Но в чём было это главное, Надежда Ивановна не могла понять.
Она вдруг ужаснулась тому, как глупо и бесцельно прошла её жизнь. Да она и не жила вовсе, она попросту теряла время! Шесть десятков лет драгоценного времени потеряно безвозвратно. Всё, что делала она на протяжении этих десятилетий, казалось ей теперь ничтожным и никому не нужным. И те хлопоты, которые когда-то занимали её время, составляли всю её жизнь, на самом деле были чем-то притворным, ненастоящим. Это была фальшивая жизнь.
И работа, никогда не интересовавшая и не радовавшая её. И семейные обязанности, обязанности матери, жены и дочери, казавшиеся самым важным, первостепенным делом.
Всегда она думала, что каждый человек должен оставить после себя потомство. Но сейчас слишком плотским, слишком животным казалось ей такое оправдание своего прихода в мир. Да, она подарила жизнь другому человеку. Но, подарив ему жизнь, она тем самым обрекла его на неизбежную смерть и многолетнюю агонию. Что сумела дать она этому человеку? Счастлив ли он? Благодарит ли её? Да и где он теперь?
Но ещё страшнее было то, что не могла она понять, как же прожить ей оставшуюся жизнь. Чем занять себя, чему или кому посвятить…
Любая идея обладает силой воздействия на умы до тех пор, пока не найдётся другая, способная заменить её. Надежда Ивановна рассудила, что душевный настрой её объясняется одиночеством, и решила больше бывать на людях. Но ни пустые разговоры её знакомых, которых раньше Надежда Ивановна считала людьми интересными и "грамотными", ни страшное однообразие доступных ей развлечений не смогли отвлечь Надежду Ивановну от мрачных мыслей и притупить остроту её переживаний. И она поняла, что мысли эти неотступно овладели ею. И избавиться от их гнёта возможно лишь прямым, честным путём - дать самой себе ответ на вопрос: как и для чего жить дальше?
Она, простая женщина, вдруг на склоне лет задумалась над извечными человеческими вопросами. И, подобно многим, не могла отыскать ответ.
Ей хотелось найти хоть какое-нибудь оправдание своей одинокой жизни, но она боялась вновь промахнуться и упустить то главное, что, как она уверилась, непременно должно быть в жизни каждого.
Как-то ей приснился сон. Она идёт по улицам незнакомого города и внезапно осознает, что забыла, куда и зачем она шла. Мучительно пытается она припомнить, но всякий раз нить памяти обрывается. И тогда, махнув рукой, она отправляется праздно шататься по улицам, заглядывая без нужды в окна и забавляясь происходящим вокруг... Проснувшись среди ночи, она долго и безуспешно пыталась вспомнить, куда шла во сне…
Наутро она решила сходить в церковь.
Старый храм, устоявший в тяжелую годину, встретил её торжественным полумраком. Трепетали цветные огоньки лампад. Лики, тёмные и суровые, испытующе взирали на вошедшую. В храме было тихо - служба закончилась. Пахло свечами, ладаном и ещё чем-то особым; так всегда пахнет в старых церквях.
Атмосфера церкви - и полумрак, и запахи, и тишина - подействовала на Надежду Ивановну благотворно. Что-то зашевелилось внутри, приятное, тёплое и многообещающее...
Она стала бывать в храме, говеть и присутствовать на всех богослужениях. Поначалу всё шло хорошо. И она возвращалась из церкви просветлённой. Но участие в церковной жизни, в обрядах, в смысл которых она не пыталась вникнуть, не принесло ей радости и не оправдало ожиданий. То главное, что искала она, осталось сокрыто.
Она отчаялась. Не зная, где искать, она вернулась к дожидавшемуся её одиночеству. И жестокая, холодная правда - бессмысленность сущего - открылась ей. Она поняла, что единственный для неё выход - смириться и терпеливо ждать.
Не допуская даже мысли о самоубийстве, она продолжала спать, есть, умываться, говорить. Но, утратив вкус к жизни и убедив себя в её неразумности, она вершила повседневные дела с отвращением. Проявления жизни перестали занимать её. Она погрузилась в себя, отгородившись от остального мира серой стеной своей печали.
Отдавшись одиночеству, она избегает людей, стараясь сократить вынужденное общение. Она равнодушна ко всему происходящему: её сердце иссохло. Разуверившись в жизни, она умерла духовно. И мёртвая, она не способна радоваться закату, выбрасывающему снопы огненного света; её не трогает арбузная свежесть морозного дня; не слышит она, как первые, вернувшиеся с юга птахи, прорезывают холодный ещё воздух своими голосами…
И пустота, образовавшаяся внутри неё, растёт, грозя обернуться бездной…
Петровна
"Экая ведь непогодь... Экой чичер..." - думает девяностодвухлетняя Петровна, глядя, как за окном пьяный ветер задирает подолы и срывает шапки, как резвится в столбах света шальной снег и, падая на землю, тотчас тает.
Согнувшись в три погибели, и положив на колени тёмные, сухие руки, Петровна задрёмывает. Тяжелеют веки, а голова, начавшая было медленно клониться вниз, вдруг точно отрывается и камнем падает на грудь. Петровна вздрагивает, выпрямляется и, открыв глаза, смотрит вокруг себя с удивлением и испугом. Словно не понимая, как оказалась она в этой комнате, где кроме железной кровати, хромого стула да "солдатской" тумбочки свален весь хлам, какой уже не пригоден в доме, но расстаться с которым хозяевам жаль - отработавший своё холодильник, диван с драной плюшевой обивкой, груды старых журналов и какие-то многие числом коробки.
Оглядев своё пристанище, Петровна успокаивается и снова начинает задрёмывать. Но в какой-то момент просыпается от ощущения, что в комнате она не одна.
Перед Петровной стоит её невестка Валентина Михайловна, крупная дама с широкими чёрными бровями. Заметив, что Петровна пробудилась и виновато улыбается, Валентина Михайловна наклоняется к ней и в самое ухо кричит:
- Я пошла!
- Куды-и? - пугается Петровна.
- Ну, вот... "Куды"... К Васе в больницу.
- Куды-и? - уже с другой интонацией спрашивает Петровна.
- Ну-у-у... Закуды-икала!.. Вася, сынок твой, болеет. Уже неделю в больнице лежит.
- Ва-ася?
- Н-да...
- В больнице?
- В больнице, в больнице...
- Какая ж у него болесть? Алларгия?
- Тьфу... Какая ещё "алларгия"? Сто раз ведь рассказывала...
И Валентина Михайловна, махнув на Петровну рукой, уходит. А Петровна остаётся одна. Она вздыхает, оправляет платок и снова поворачивается к окну...
Пять лет назад Петровна овдовела, и сын забрал её из деревни в Москву. Однако уход за старухой он препоручил своей жене, Валентине Михайловне, считая, что дело это сугубо женское, и что не гоже мужчине возиться с детьми и стариками. Валентина Михайловна, согласившись на роль сиделки, втайне вознегодовала, не понимая, за какие грехи ей вдруг выпало присматривать за глупой старухой, к которой ничего, кроме раздражения и неприязни она никогда не питала. И хотя Валентина Михайловна предпочитала помалкивать, но неприязнь свою к свекрови едва ли смогла заглушить. И каждое слово Петровны отзывалось в ней всплесками жёлчи.
И потому разместили Петровну так, чтобы как можно реже попадалась она на глаза. Из трёх комнат Петровне отвели самую маленькую. Соорудив наскоро обстановку, Петровну предоставили самой себе.
Впрочем, три раза в день её зовут к столу. А по большим праздникам, как ярмарочного медведя из клетки, выводят из комнаты на показ гостям. Гости с таким любопытством рассматривают древнюю старуху, что, кажется, хотят заглянуть ей в зубы или, по крайней мере, пощупать. А Петровна, приходя в смущение от повышенного к своей особе внимания, улыбается беззубой улыбкой и шамкает:
- Дал бы Господь помереть... Чижало со мной... Зажилась, индо тошнёхонько, а и помирать горькохонько...
Гости смеются, но вскоре интерес к Петровне угасает, и о ней забывают. А Петровна уходит в себя и, тугая на ухо, принимается громко вздыхать.
- Ма-ам! Хватит стонать! - кричит через стол Валентина Михайловна. - Слышишь? Перестань стонать!
Со снисходительными улыбками гости вновь обращаются к Петровне, а Валентина Михайловна не упускает случая пожалиться, как тяжело ей ухаживать за такой вздорной старухой. Петровна, скорее глазами, нежели ушами, понимает, что речь идёт о ней и поясняет:
- Чижало со мной...
Из-за болезни ног Петровна никуда не ходит. Целыми днями сидит она на кровати и смотрит в окно. А в окне проносятся с шумом машины, снуют люди, собаки. Бесконечной вереницей тянутся дома, серые, грязные, с клеточками окошек и уродливыми наростами застеклённых балконов. "И зачем люди в Москву едут, - думает Петровна. - Нешто хорошо друг у дружки на головах жить?.."
И глядя из окошка на грязь, на ставшую осязаемой вонь, на суету, вспоминает Петровна деревню. Пахнет клевером, сеном и пылью. Горизонт обозначен зубчатой полоской леса. Внизу, под горкой в овраге шелестит речушка. Ласковая, добрая речушка. Всё шепчет что-то, камушками играет. А водица, что твоя слеза, чистая, прозрачная, прохладная. За деревней - расцвеченный огоньками цветов луг. Звенят, переливаются колокольцами жаворонки, висящие на невидимых нитях. Резвится, закидывает голову жеребёнок. Ветер ласкает цветы. А сочные травы источают пьянящий дух.
И при одном только воспоминании о деревне неудержимо тянет Петровну поговорить, рассказать кому-нибудь о том, как заела её в городе тоска, как одолела дума.
Есть у Петровны дума. Тяжёлая, мрачная. Грех большой на Петровне. Подписала она когда-то бумагу. Ходили по деревне активисты, собирали подписи, что не нужна, мол, в деревне церковь, и что трудящиеся просят её закрыть. Пришли и к Петровне. "Подписывай, - сказали, - ежели ты не супротив советской власти..." Испугалась Петровна и подписала. И вот уж много лет прошло, а нет Петровне покоя. Гложет её тоска. Многое пережила Петровна, многое перевидала, но не ушёл стыд за минутную слабость, за скудость души. Угасает память, события текущие мешаются с давно прошедшими, но стыд этот не оставляет Петровну, сидит гвоздём в сердце. И помнит яснее ясного Петровна своё отречение...
Поговорить бы с кем, и тоска отошла бы, отлегло бы от сердца. Но Петровну давно уже никто не слушает, никто ни о чём не спрашивает.
А в деревне её уважали. Прислушивались, за советом ходили. Всю жизнь прожила Петровна в деревне. На земле, которую знала и любила. От неё кормилась, от неё уму-разуму училась. Знала, какая трава от какой болезни помогает, какая птица каким голосом поёт. И что туман падает - к вёдру, а собака траву ест - к дождю. Но не нужны стали её знания. И оттого, наверное, - думает Петровна, - говорить с ней неинтересно…
Выходит из подъезда Валентина Михайловна в байковой кепочке с наушниками и в кожаной куртке с капюшоном, похожим на ковш. "Валя-то картуз надела… Васин нешто?.." - думает Петровна, провожая её взглядом. А когда Валентина Михайловна скрывается из виду, Петровна ещё недолго смотрит ей вслед, а после начинает укладываться спать. Поначалу она ворочается и стонет, и, кажется, что стонам этим не будет конца. Но вот, наконец, Петровна стихает. И видит она во сне зеркальный пруд, спрятавшийся в ивняке. Солнце отражается в воде, в серебристых ивовых листочках и в банке с червями. На мостках смуглые, с выгоревшими волосами ребятишки удят рыбу. За ними с берега наблюдает чёрный пёс, подёргивающий ушами от мух. Возвращается муж с покоса. Красивый, загарливый, сильный. Завидев его, Васятка маленький навстречу бежит, смеётся-заливается…
Внезапно бьёт по глазам вспышка света.
- Спишь? - спрашивает вернувшаяся Валентина Михайловна, по-хозяйски вторгаясь в комнату свекрови и щёлкая выключателем.
Петровна просыпается и, не понимая, спросонок, что происходит, щурит на свет глаза и закрывается рукой.
- Что... что... - беспокойно повторяет она.
- Спишь, спрашиваю? Времени-то восемь, а ты в постели... Ну, спи, спи...
Валентина Михайловна гасит свет и выходит.
А Петровна долго ещё кряхтит и вздыхает, прежде чем снова задремать. Но вот, чудится ей снег с тенётой заячьих следов. Яркий зимний денёк. Занесённый снегом деревенский погост. Беленькая, тоненькая, как девушка-невеста, церковка. И, рассевшись на покосившихся крестах, кричат чёрные галки. Укором для людей стоит церковь, точно спрашивает: "Что же вы со мной сделали, за что надругались?.."
И так тоскливо, так бесприютно делается Петровне, что просыпается она и, выпростав из-под одеяла руку, тянется к ночнику. Костлявая, сморщенная, с распущенной седой косой, в открытой белой рубахе, едва освещённая тусклой лампой, походит Петровна на сказочную Ягу. Открыв наобум молитвослов, читает она вслух: "О, горе мне грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне: даждь ми, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько..." Слова молитвы падают на благодатную почву, и Петровна совсем уж было собирается поплакать, как вдруг слышит над собой голос:
- Ты чего блажишь, мам?
Петровна вздрагивает. Перед ней стоит Валентина Михайловна, растрепанная, в дезабилье.
- Я молюсь, - поясняет Петровна.
- Чего ж ты на весь дом-то молишься? Времени-то за полночь... От этого воя весь дом, наверное, проснулся... Ладно... Завтра домолишься...
И Валентина Михайловна, забирает у Петровны молитвослов, гасит свет и уходит. А Петровна, прижав правую руку к сердцу, какое-то время неподвижно лежит в темноте. "Нешто Господь меня забыл? - шепчет она. - Отчего не заберёт?.." И тут же, спохватываясь: "Царица Небесная, Матушка, прости ты меня за ради Бога, прости, грешную..."
Со стены смотрит с жалостью на Петровну Троеручица. И поблёскивая латунным окладом в свете уличных фонарей, молчит.
Красный день календаря
I
В пятницу, шестого ноября, часов эдак в семь вечера в деревне Шабурново, что на тракте, остановился автобус. Это был старый и обветшалый автобус. Один из тех, кои вместо того, чтобы прямёхонько отправиться в слом, по сей день колесят по российским дорогам, извиняя своё долголетие извечной бедностью Отечества нашего.
Автобус шёл со станции. И пока не кончился город, останавливался довольно часто, выпуская одних пассажиров и набирая новых. Пассажиры толкали друг друга, кричали и переругивались. Но когда высокие каменные коробки за окнами сменились зелёными шалями ёлок и белыми шарфами берёз, все как-то успокоились и притихли, точно это город так возбуждающе действовал на людей. Остановки стали редкими. И чем дальше от города, тем малолюднее становилось у павильонов.
В Шабурново, когда двери со скрежетом распахнулись, из автобуса вышли четыре женщины, одетые в довольно бесформенные куртки с капюшонами и в резиновые сапожки. В руках у каждой было по два тяжёлых, набитых до отказа пакета. Оказавшись на улице, женщины первым делом заметались из стороны в сторону - нужно было перейти дорогу, а они никак не могли решиться, с какой стороны лучше всего обойти автобус. Наконец автобус, громыхая и бренча, неуклюже тронулся с места, выпустив при этом в лица своим бывшим пассажиркам чёрную струю.
Женщины перестали метаться, пропустили автобус и тогда только перешли дорогу.
Давно стемнело. Снег ещё не выпал, и деревня освещалась лишь редкими тусклыми фонарями да окошками домов. Едва женщины вступили на деревенскую улицу, как в ближайших дворах залаяли, загремели цепями собаки. А вскоре уже не осталось такого двора, где бы не шумели обеспокоенные охранники.
Женщины шли скорым шагом, время от времени останавливаясь и перекладывая пакеты из одной руки в другую. Между собой они почти не разговаривали. И лишь изредка обменивались какими-то замечаниями. Было видно, что они очень торопятся.
И вот кончилась деревня. Кончился разбитый асфальт, кончились тусклые фонари. Женщины шагнули в темноту и вскоре исчезли из виду.
А спустя недолго, жёлтые пятна фонарей в лужах покрылись мелкой зыбью. Собаки, попрятавшиеся от дождя в конуры, затихли. И Шабурново снова погрузилось в тишину, позабыв о женщинах с большими пакетами. И только дождь шептал о чём-то, пробегая по крышам, голым деревьям и блестящему асфальту.
II
Женщины, так неожиданно появившиеся в Шабурново и взволновавшие окрестных псов, были известные в городе сёстры Свинолуповы.
Звали сестёр так: Алевтина Пантелеймоновна, Лукерья Пантелеймоновна, Валентина Пантелеймоновна и Неонилла Пантелеймоновна. Старшей из них, Алевтине Пантелеймоновне, было не больше шестидесяти двух лет. Младшей, Неонилле Пантелеймоновне, - не меньше пятидесяти семи.
Каждая из сестёр была чем-нибудь замечательна. Так, об Алевтине Пантелеймоновне сёстры говорили, что "она у нас самая добрая". Это была очень высокая и худая особа с испуганными глазами в рыжих ресницах и похожим на пуговицу носом. Доброта её заключалась в том, что она всегда кого-нибудь жалела и плакала при этом так горько, что, случалось, заражала слезами окружающих.
Лукерья Пантелеймоновна, вертлявая и подвижная, как мартышка, считалась "самой деловой". Если где-то поблизости случалось продаваться задёшево хорошей вещи, можно было не сомневаться, что Лукерья Пантелеймоновна не просто изыщет деньги, но, изыскав, купит, а после перепродаст с такой наценкой, что останется только развести руками и сказать: "Дал же Бог талант!" Дом Лукерьи Пантелеймоновны был битком набит редкими, необыкновенными вещами, на вопросы о происхождении которых Лукерья Пантелеймоновна небрежно отвечала: "Так... Купила по случаю..." И делала неопределённый жест рукой.
Валентину Пантелеймоновну называли "самой умной", потому что "она всё, ну, абсолютно всё знает!" И действительно, Валентина Пантелеймоновна могла поддерживать разговор решительно на любую тему. Речь свою она всегда начинала словами: "А вы знаете, что..." При этом она склоняла голову набок, поднимала брови и насмешливо смотрела на собеседника из-под полуприкрытых век. Высказывания её носили исключительно сенсационный характер. Объяснялось это просто. Отовсюду, изо всех источников информации: будь то книги или газеты, радио или телевидение, слово, брошенное случайным прохожим, или рассказ экскурсовода - отовсюду Валентина Пантелеймоновна пыталась извлечь что-нибудь необыкновенное, поражающее воображение. И всё для того только, чтобы потом, при случае, удивить, сразить, произвести впечатление. Случалось, Валентина Пантелеймоновна попадала впросак. Выхваченные ею факты оказывались зачастую либо недостоверными, либо неверно ею же истолкованными. Но это никогда не смущало Валентину Пантелеймоновну, и на недоумённые вопросы она отвечала коротко: "Не знаю..." Внешностью своей Валентина Пантелеймоновна напоминала пингвина, потому что при ходьбе широко расставляла носки, а плечи зачем-то сводила вперёд, отчего и руки её оказывались торчащими вперёд, как у пингвина крылья. К тому же, Валентина Пантелеймоновна была маленького роста и то, что называется, "в теле".
Неонилла Пантелеймоновна была высокой, статной и очень степенной. Служила она в Москве, где-то в Министерстве Образования, и слыла среди сестёр "самой культурной". Ходила она медленно и с большим достоинством. Говорила мало, а всё больше вздыхала, закатывала глаза и, казалось, всегда бывала чем-нибудь недовольна. Если же Неонилла Пантелеймоновна и поддерживала разговор, то с одним условием: чтобы разговор этот был на "умную тему". Речь свою она неизменно пересыпала цитатами и почти всегда предлагала собеседникам либо назвать автора приводимых ею строк, либо же, начав цитировать, предлагала остальным закончить. Если вдруг среди присутствующих находился хоть один, способный справиться с её заданиями, Неонилла Пантелеймоновна очень удивлялась. Если же таковых не оказывалось, Неонилла Пантелеймоновна принималась вздыхать и закатывать глаза, давая понять тем самым, как невыносимо тяжело бывает человеку культурному оказаться в обществе невежд. Глядя на Неониллу Пантелеймоновну, можно было подумать, что у неё есть свои особые взгляды на то, как пристало вести себя чиновнику её уровня. И она этих взглядов неукоснительно придерживается.
Выросли сёстры Свинолуповы с матерью и бабушкой. Отец же их погиб в Великую Отечественную.
Сказалось ли на том отсутствие мужчин в семье, а может, были иные причины, но только личная жизнь каждой из сестёр как-то не заладилась. Алевтина Пантелеймоновна рано овдовела, Лукерья Пантелеймоновна недолго пробыла замужем, разведясь после нескольких лет брака. Валентина Пантелеймоновна имела и мужа, и дочь, но отношения её с домашними оставались почему-то всегда прохладными. Что же касается Неониллы Пантелеймоновны, она, несмотря на своё общественное и служебное положение, так и осталась вековухой.
Как бы то ни было, сёстры Свинолуповы предпочитали держаться друг друга. Выходные и праздники они проводили все вместе, здесь почти не было исключений. И именно поэтому как-то в начале ноября Лукерья Пантелеймоновна сказала:
- А поедемте на праздники ко мне на дачу, в Толстоухово!.. Седьмое - суббота. Шестого приедем, переночуем. Седьмого там, восьмого обратно... Отдохнём, погуляем...
Сначала предложение Лукерьи Пантелеймоновны показалось остальным сёстрам нелепым. И Лукерью Пантелеймоновну подняли на смех. Ещё бы! Отправиться на дачу поздней осенью да ещё на несколько дней. Жить в доме без электричества, без газа и водопровода, самим топить печку, самим колоть для этого дрова!.. Но Лукерья Пантелеймоновна, от природы речистая и восторженная, так сочно описывала прелести деревенской жизни, что мало-помалу сёстры сдались. И уже видели себя то с коромыслами - идущими по воду; то с охапками хвороста и дров - собирающимися топить русскую печку; то с огарками свечей - глядящими из тёплой горницы на проливной дождь за окнами. Другими словами, сестёр привлекло именно то, что обычно привлекает в подобных, рискованных на первый взгляд, мероприятиях: умышленное и самовольное нарушение привычного порядка и образа жизни.
- Дровишки постреливают, от печи жар идёт, - прищурив чёрные лукавые глаза, живописала Лукерья Пантелеймоновна, - на улице-то холод собачий, дождь ливмя льёт, а мы сидим себе в тепле, посмеиваемся... Еды с собой возьмём, шампанского! Ночевать там есть где - места полно!..
И вот в назначенный день сёстры отправились в Толстоухово.
III
Надобно сказать, что деревушка Толстоухово - действительно прелестный уголок. До ближайшей автобусной остановки, что в Шабурново, три версты. Три версты широкой колеи, заполненной в летнее время мягкой серой пылью. Идёшь, а ноги утопают в горячей пудре. Рядом тихонько скользят голубые тени облачков. Вдоль дороги расселись грачи, погрузив свои белые клювы в землю. Пёстрые жаворонки то камнями падают вниз, то снова взмывают и разливаются в небе серебряными трелями.
А сколько звуков кругом, сколько запахов! Всякая тварь радуется теплу и поёт, не стесняясь, тем голосом, что Господь дал. Поёт, прославляя, как может, Его волю. Всякая травинка, всякий лепесток спешит заявить о себе своим неярким и подчас неказистым запахом. Но как милы все эти деревенские запахи! И даже запах навоза кажется приятным и чем-то необходимым, без чего и деревня-то показалась бы ненастоящей, а точно какой-то бутафорской.
С трёх сторон окружено Толстоухово густым смешанным лесом, где в чаще день и ночь кричат какие-то птицы, а в овраге бежит ручей. Вода в ручье железистая, и даже береговые камни покрыты как будто ржавчиной. А во рту после той воды остаётся металлический вкус.
С четвёртой же стороны, слева от дороги, если идти в Толстоухово, к деревне вплотную подступает колхозное поле. И на межу, что разделяет наделы и ниву, серебристо-зелёной волной набегает овёс. Справа же, ближе к деревне, подбирается к дороге сосновая роща. Душистой прохладой доносит оттуда в жаркие дни. В час предзакатный, когда не скупится светило на краски, сосен стволы занимаются красным сияньем...
В деревне две слободы, по пяти дворов в каждой. Дома здесь большие, старые, из тёмного выщербленного кирпича. Границей между слободами служит зелёный пруд, что в самом центре деревни. Пруд имеет заводь, заросшую ракитником. А ещё растёт на берегу пруда старая берёза. Ствол её так причудливо изогнулся и навис над водой, что кажется, будто берёза собралась усесться в пруд.
Когда-то, польстившись на тишину, уединённость и разнообразность ландшафта, Лукерья Пантелеймоновна купила в Толстоухово полдома и совсем небольшой кусочек земли, намереваясь обустроить здесь дачу. Но поскольку добраться до Толстоухово было непросто, Лукерья Пантелеймоновна так и не сделалась дачницей. А дом, простояв несколько лет нетопленым, очень скоро как-то весь сжался, точно состарился раньше срока, и покосился.
IV
Сначала свет шабурновских фонарей ещё светил им в спины, выхватывая из темноты стволы деревьев, бликуя в лужах. Но потом дорога резко ушла вправо, и за поворотом сразу вдруг стало темно. Всё слилось в густую тьму: небо, поле, деревья. Ни единого силуэта нельзя было различить кругом. Тьма, кромешная, первозданная тьма окутала путников.
Шёл мелкий, занудный дождь. Небо, очевидно, было сплошь затянуто тучами, и ни луна, ни звёзды не показывались. Навстречу дул холодный, мокрый ветер. Пахло грязью и прелой листвой. То, что летом было ласковой пылью, превратилось теперь в тёмную, вязкую жижу, немилосердно хватавшую за ноги и норовившую стянуть сапоги.
Шли молча. И только изредка перекликались, чтобы не заблудиться и не потерять друг друга. Благо, дорога лежала не вровень с полем, а чуть ниже. И уклонявшийся с дороги в сторону, всякий раз чувствовал, как упираются носки сапог в мягкую, мокрую землю. Чувствовал и возвращался в колею.
Обогнув сосновый лесок, дорога опять повернула вправо. И тут уж идти стало легче - показались светящиеся окошки Толстоухово. Свету они давали мало, но зато, точно маячки, указывали верный путь и обозначали собой конец утомительному и не очень приятному путешествию.
Предчувствие тепла и отдыха, предвкушение сухой одежды и горячего чая заставили сестёр прибавить шагу. И вскоре они уже шли по деревне, которая встретила их собачьим лаем. Сначала из крайней усадьбы донёсся недовольный брех, потом откуда-то издалека, из другой слободы...
V
И вот сёстры стоят возле большого, в пять окон дома, уже снаружи разделённого на две половины неким подобием пилястры. Лукерья Пантелеймоновна долго возится с ключами и даже роняет их на землю. И долго потом нащупывает ключи в мокрой траве. Наконец, ключи найдены. Лежат они в заполненной водой ямке чьего-то следа.
Кто-то из сестёр предлагает Лукерье Пантелеймоновне белый носовой платок, сложенный вчетверо. Не глядя, Лукерья Пантелеймоновна принимает и, отерев ключи, суёт его себе в карман.
В доме холодно, темно и так влажно, что трудно дышать. Кажется, вот-вот закапает с потолка вода. К тому же, едва распахнули дверь, как в лица ударяет тяжёлый запах сырости и гнили. Тот самый запах, что всегда охотно селится в старых необитаемых домах.
Войдя, Лукерья Пантелеймоновна шарит рукой за притолокой и достаёт оттуда спички и кусок жёлтой свечи. Отсыревшие спички шипят и гаснут. Наконец, на одной пламя задерживается, и Лукерья Пантелеймоновна успевает разжечь свечу. И так, впереди Лукерья Пантелеймоновна со свечой в приподнятой руке, за ней остальные, продвигаются сёстры в глубь дома.
Дом состоит из двух помещений. В довольно больших сенях, служащих кухней, к противоположной от входа стене приколочен, непонятно откуда здесь взявшийся, ряд театральных кресел с откидными сиденьями. Кресла, их штук десять, обтянуты красной тканью; сиденья, как во время антракта, прижаты к спинкам. И только на одном сиденье стоит большая тёмная корзина.
Пройдя через кухню, сёстры попадают в комнату с русской, красного кирпича печью. Прямо из печки, из щели в кладке, торчит высохший цветок ромашки. А с лежанки смотрит на вошедших большой букет таких же сухих ромашек. И от букета исходит терпковатый запах. Пахнет летом.
За печкой спряталась железная кровать. У стены напротив примостились в ряд низенький шифоньерчик, трилльяж без зеркал, диван с приколотой к спинке вязаной салфеткой и горбатый сундук. Посреди комнаты стоит круглый стол и несколько разномастных стульев. Ещё в комнате есть круглое кресло с оборванной синей обивкой. Влажное и необыкновенно зловонное, так что и садиться в него неприятно. Однако при всей своей непривлекательности синее кресло имеет легенду. Поговаривают, будто бы кресло стояло в усадьбе, где во время оно случалось бывать Николаю Васильевичу Гоголю. Но как не представляющее интереса и не подлежащее восстановлению, кресло из усадьбы, уже давно ставшей музеем, списали и совсем уж было собрались выбросить. Но тут-то его и перехватила Лукерья Пантелеймоновна. И кресло переехало в Толстоухово.
С тех пор всякому, кто попадал к ней на дачу, Лукерья Пантелеймоновна рассказывала, будто бы в этом рваном, заплесневелом кресле сиживал сам Николай Васильевич Гоголь, и предлагала незамедлительно присесть, чтобы таким образом приобщиться к великому...
По стенам, вопреки деревенской традиции развешивать фотографии, висят пастели в белых рамах. На каждой написаны полевые цветы. Изображения тусклые, так как стёкла покрыты слоем серой пыли и чёрными точками - следами мушиной жизнедеятельности.
Войдя в комнату, сёстры пристраивают свои пакеты в гоголевское кресло и тотчас начинают обустраиваться.
Алевтина Пантелеймоновна достаёт привезённые с собой свечи, а Лукерья Пантелеймоновна приносит из кухни майонезные банки. Свечи в банках расставляют по всей комнате: на стол, на трилльяж, на подоконники и даже на шифоньер. Становится светло. Неонилла Пантелеймоновна отправляется за водой, а Валентина Пантелеймоновна, вызнав у Лукерьи Пантелеймоновны, где топор, - колоть дрова, сваленные в кучу прямо на открытом дворе.
И вскоре мокрые поленья уже покоятся аккуратной горкой возле топки. А сёстры, поминутно отжимая в ведре с водой тряпки, выданные всем Лукерьей Пантелеймоновной, отмывают горницу.
Неонилла Пантелеймоновна и Валентина Пантелеймоновна, сложившись пополам и широко расставив ноги, размашисто моют пол, продвигаясь навстречу друг другу. Неонилла Пантелеймоновна движется от окна к двери, Валентина Пантелеймоновна - от двери к окну. Лукерья Пантелеймоновна мелкими, беличьими движениями трёт подоконники. Алевтина Пантелеймоновна любовно, точно поглаживая, обчищает мебель. Сначала работают молча. Слышно только, как по временам плещется вода в ведре, да шуршат тряпки. Потом вдруг Алевтина Пантелеймоновна запевает. Поёт она низким, каким-то деревянным голосом. При этом лицо у неё вытягивается, а брови складываются "домиком".
Скоро о-осень. За окнами а-август!..
Почему-то на словах "осень" и "август" Алевтина Пантелеймоновна не сразу попадает в ноты. А подыскивая нужные, постепенно перебирает всю октаву, отчего пение её в этих местах сильно смахивает на подвывание.
Другие сёстры на секунду оставляют работу, смотрят на Алевтину Пантелеймоновну, но тут же подхватывают, запевают в схожей манере.
От дождя-а-а потемнели кусты-и-и.
И я зна-а-аю, что я тебе нра-а-авлюсь,
Как когда-а-а-то мне нравился ты-и-и-и...
С песней работа идёт веселее. И несмотря на то, что в доме всё ещё холодно - печку не начинали топить, - и от воды ломит руки, становится как-то уютнее и как будто теплее. Запахло свежевымытым полом, цветы на пастелях сделались ярче, исчезли со стола мёртвые мухи - горница начинает обретать жилой вид.
Лукерья Пантелеймоновна достаёт откуда-то старые газеты. Ими набивают топку и поджигают. Влажная бумага сначала горит неохотно, но потом листы просыхают и разгораются хорошим, жарким огнём. И Лукерья Пантелеймоновна пристраивает в топку несколько мокрых поленьев.
Поленья сохнут медленно и никак не хотят разгораться, так что первое время огонь приходится поддерживать при помощи газет. Но вот одно полено занимается огнём, потом другое... Возле печки становится по-настоящему жарко. Сёстры суетятся, радуются и все разом заговаривают. Достают из пакетов и выкладывают на стол хлеб, масло, варёные картошки в маленькой кастрюльке, яйца, жареную курицу в большой жестяной коробке из-под конфет, две бутылки шампанского, термос с чаем.
Лукерья Пантелеймоновна приносит две раскладушки и тюфяк для железной кровати. Раскладушки разбирают и устанавливают на ребро возле печки; тюфяк тоже пристраивают поближе к теплу, но так, чтобы не попали искры, вылетающие в раскрытую дверцу. Комната постепенно прогревается. И вскоре уже сёстры решают, что можно раздеться и повесить сушить одежду. Так и делают. С собой привезли всё сухое и теперь с удовольствием переодеваются. И так приятно ощутить на себе свежее, сухое бельё, пахнущее не то мылом, не то ещё чем-то душистым и уютным - домашним! А после того, как переоделись и развесили промокшую одежду у огня, сразу вдруг все чувствуют голод и усталость.
Валентина Пантелеймоновна ставит на печку чайник: "На всякий случай, вдруг в термосе не хватит..." Лукерья Пантелеймоновна принесла было из кухни тарелки, но Неонилла Пантелеймоновна, предварительно нафыркавшись, велит унести "эту грязь" и достаёт из пакета свои тарелки и свои приборы. Разворачивают, раскладывают еду и усаживаются вокруг. Валентина Пантелеймоновна открывает бутылку с шампанским и наливает всем в пластмассовые стаканы, тоже привезённые с собой.
- Ну, - поднимает она свой стаканчик, - с праздником!
- С праздником...
- С праздником...
Бесшумно чокаются мягкими стаканчиками, отпивают и с удовольствием закусывают.
В комнате пахнет чистыми полами, горящим деревом, свечками, домашней одеждой и едой. Запах сырости почти исчез. Становится жарко.
От жары, оттого, что устали и проголодались, как-то быстро пьянеют. Без причины вдруг делается весело, все говорят в голос, смеются. Хочется шампанского!
- За ревалюсыю! - кричит Валентина Пантелеймоновна, ударяя своим стаканчиком о стаканчики сестёр и расплёскивая золотистую жидкость.
- Уррра-а! - вторит ей Неонилла Пантелеймоновна, позабыв про чиновничью гордость.
- Да здравствует велик актяпьска сасиалисиська ревалюсыя! - подхватывает Лукерья Пантелеймоновна.
Смешно всем до слёз, до боли в животе, до немоты, когда уже не можешь смеяться, а только безмолвно сотрясаешься и стонешь.
И только Алевтина Пантелеймоновна, относящаяся всерьёз и к октябрьской революции, и ко всем её вождям не смеётся, а только в ужасе смотрит на сестёр. Всё то, что они выкрикивают, кажется ей страшным кощунством.
- Как не стыдно! - пробует она увещевать сестёр. - Как не стыдно! Великая Октябрьская Социалистическая Революция принесла освобождение народам царской России! Если бы не Революция... вы бы... вы бы сейчас пахали! Вы бы читать не умели!
- Уррра-а-а! - пуще прежнего кричит Неонилла Пантелеймоновна. - Да здравствует всеобщая грамотность и освобождение женщин Востока! Да здравствует электрификация всей страны и восьмичасовой рабочий день! Уррра-а-а!
- Да здравствует велик актяпьска сасиалисиська ревалюсыя! - кричит Лукерья Пантелеймоновна. И, пихая Алевтину Пантелеймоновну в бок локтем, просит:
- Не плачь, Алька! Лучче расскажи, как Зимний брала!
- Урра-а! - подхватывает Неонилла Пантелеймоновна. - За взятие Зимнего!
- Как не стыдно! - не унимается Алевтина Пантелеймоновна. - Вот послушайте, что писал Антон Павлович Чехов... - и, закрыв глаза, она цитирует по памяти. - "А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба..." Это мальчик пишет письмо своему дедушке!.. И вот ещё: "меня все колотят, и кушать страсть хочется". Понятно вам?! "Кушать страсть хочется!" - и Алевтина Пантелеймоновна многозначительно кивает на стол.
Все умолкают, точно всем вспомнился вдруг Ванька Жуков, а Валентина Пантелеймоновна, воспользовавшись паузой, обводит сестёр насмешливым взглядом и произносит:
- А вы знаете, что Лев Толстой называл рассказ "Письмо Ваньки Жукова" самым лучшим рассказом Чехова?[3]
Сёстры внимательно слушают её, но долго думать о серьёзном и неприятном им не хочется, и Неонилла Пантелеймоновна вдруг начинает притворно плакать и завывать:
- Ми-илый де-едушка-а-а! Канстанти-ин Мака-арави-ич! У-у-у!
- Канстанти-ин Мака-арави-ич! Ы-ы-ы! - подхватывает Лукерья Пантелеймоновна.
А Валентина Пантелеймоновна, глядя на то, как дурачатся сёстры, снова принимается хохотать, раскачиваясь на стуле, то наклоняясь вперёд, то откидываясь назад и держась всё время руками за край стола.
- Ми-илый де-едушка-а-а! Канстанти-ин Мака-арави-ич! У-у-у!
- Канстанти-ин Мака-арави-ич! Ы-ы-ы!
И только Алевтина Пантелеймоновна, сумевшая сама себя разжалобить, тихонько смахивает слёзы и всё качает головой, точно силясь отделаться от истомивших её воспоминаний и мыслей.
Насмеявшись, принимаются пить чай. А после пятой чашки, когда прошло уже опьянение, угасло веселье, становится скучно и начинает хотеться спать. Вспоминают вдруг, что за окнами идёт дождь, и прислушиваются. Дождь бегает по крыше, стучит по стёклам, шебаршится в траве. А в комнате жарко, постреливают дрова, потрескивают свечки в майонезных банках, и ещё что-то такое потрескивает и поскрипывает в доме, но никто не понимает, что именно. И, прислушавшись к шуму дождя, осознают, что сидят в тёплой комнате, где чисто, где в изобилии еда и чай, а ещё совсем недавно шли по тёмному полю, где ноги увязали в грязи, и где невозможно было укрыться от дождя. И осознав, прочувствовав всё это, вскакивают из-за стола, суетятся. И всё только с одной мыслью - поскорей улечься спать. Думать о сне кажется им блаженством, точно осталось последнее неизведанное удовольствие. А их было так много за сегодняшний день - жаркая печка, сухая одежда, горячий чай. И вот осталось последнее - мягкая постель.
Лукерья Пантелеймоновна, на правах хозяйки, выбирает для ночлега диванчик с кружевной салфеткой на спинке. Валентине Пантелеймоновне, как "самой миниатюрной" достаётся железная кровать за печкой. Алевтине Пантелеймоновне и Неонилле Пантелеймоновне приходится довольствоваться раскладушками, которые ставят посреди комнаты, аккурат напротив двери.
С собой привезли и постельное бельё, так что можно не отказывать себе в удовольствии спать раздевшись.
- Раздевайтесь! Раздевайтесь! - призывает Алевтина Пантелеймоновна. - Неллочка, сними рубашку - пусть тело дышит! В одежде не выспишься - тело должно дышать... Снимайте с себя всё! Пусть тело дышит!
Стелят постели, закладывают в печку все оставшиеся поленья, проверяют вьюшку, гасят свечи, раздеваются и с радостным кряхтением укладываются. И потом, блаженно пожимаясь и улыбаясь от удовольствия, засыпают.
Но спят недолго. Очень скоро дрова в печке прогорают, и дом начинает остывать. Из-под двери, из щелей в летних рамах ощутимо тянет сыростью и холодом.
Первой начинает ворочаться на своём диванчике Лукерья Пантелеймоновна. Ей снилось, будто она голой бегает по деревне и втолковывает сама себе: "Пусть тело дышит! Тело должно дышать!" Но чем дольше она бегала, тем сильней замерзала.
Проснувшись, она пытается укутаться, подоткнуть со всех сторон одеяло, но это ничего не даёт. Тогда она решает одеться. Вылезши из-под одеяла, она, стуча зубами, нащупывает на стуле рубашку, спортивные брюки, носки и, натянув на себя всё это, снова кутается в одеяло.
В то же самое время одна за другой просыпаются Неонилла Пантелеймоновна и Алевтина Пантелеймоновна. Поворочавшись немного и тщетно попытавшись согреться, они следуют примеру сестры.
- Это Алька всё! - ворчит Лукерья Пантелеймоновна. - "Пусть тело дышит!" Надо же додуматься!.. Майская дачница...
В комнате так темно, что даже окон не видно, и только в топке то и дело вспыхивают красными огоньками тлеющие угли. И тогда кусочек печки озаряется слабым красноватым светом.
На какое-то время сёстры стихают и даже начинают задрёмывать. Но угли в печке темнеют, всё реже вспыхивают красные огоньки, и холод всё более безнаказанно чувствует себя в комнате.
Лукерья Пантелеймоновна снова просыпается. Теперь уж она замёрзла и в одежде. Других одеял в доме нет, куртки не успели просохнуть, и Лукерья Пантелеймоновна никак не может сообразить, как же теперь согреться. От безысходности ей делается страшно и как будто бы даже холоднее. Но чтобы выйти на двор, принести дров и растопить печку - такое даже не приходит Лукерье Пантелеймоновне в голову.
- Что это так холодно? - недовольно спрашивает проснувшаяся Неонилла Пантелеймоновна. - Лукерья, ты не спишь?
- Не сплю! - раздражённо отвечает Лукерья Пантелеймоновна.
- Почему так холодно? - повторяет Неонилла Пантелеймоновна и поёживается.
- Почему, почему... - злится Лукерья Пантелеймоновна. - Дрова прогорели, дом настыл - вот и холодно.
- А больше дров нет? - отзывается Алевтина Пантелеймоновна.
- В доме нет...
- А где есть?
- На улице... Колоть их надо...
- Дык сходи, наколи, - недоумевает Алевтина Пантелеймоновна.
- Дык сама и сходи... Умная!.. - огрызается Лукерья Пантелеймоновна и отворачивается к стенке.
Поджав ноги к груди и накрывшись с головой одеялом, она, чтобы хоть как-то согреться, дышит себе на руки. Но очень скоро под одеялом становится душно, и она принуждена высунуть голову наружу.
- Луш!.. Луш! - тихо зовёт Алевтина Пантелеймоновна. - Луша! Я не умею дрова колоть.
- А я умею? - снова огрызается Лукерья Пантелеймоновна.
Она отлично знает, кто предложил провести выходные в деревне. К тому же долг хозяйки - обеспечить гостям приятный отдых. И, говоря по совести, Алевтина Пантелеймоновна права - надо бы встать, наколоть дров, снова растопить печку и провести остаток ночи в тепле. Но сама мысль о том, чтобы оказаться сейчас на улице, где так холодно и темно, где льёт бесконечный дождь, кажется ей отвратительной. И от одной этой мысли её начинает подташнивать.
Но делать всё-таки что-то нужно.
- Валька умеет дрова колоть! - вспоминает она. - Разбудим Вальку, пусть она наколет.
Некоторое время проходит в молчании. Потом Алевтина Пантелеймоновна вздыхает:
- Жалко!
- Чего тебе жалко? - не понимает Лукерья Пантелеймоновна.
- Валю жалко будить.
А и правда! Валентина Пантелеймоновна, волею судеб оказавшись в тёплом закутке за печкой, не успела ещё замёрзнуть и теперь сладко посапывает со своей железной кровати.
Лукерья Пантелеймоновна, привстав на локте, с завистью смотрит в её сторону.
- Ну, если жалко, - обращается она к Алевтине Пантелеймоновне, - мёрзни дальше...
Сказав, она снова ложится и кутается в своё бестолковое одеяло. Внезапно в голову ей приходит замечательная идея.
В два прыжка она оказывается возле шкафа, распахивает створки и долго стоит так, точно силится вспомнить о чём-то. А из шкафа тем временем выползают запахи нафталина и сырости. Лукерья Пантелеймоновна несколько раз визгливо чихает, а после, схватив в охапку вещи, покоящиеся на одной из полок, направляется к раскладушкам.
- Сейчас я вас укрою! - обращается она к сёстрам.
Те напряжённо всматриваются в темноту, стараясь угадать замыслы Лукерьи Пантелеймоновны, и охают, когда на Алевтину Пантелеймоновну сверху падает груда влажного и отвратительно пахнущего тряпья.
- Луш, что это?! - в ужасе шепчет Алевтина Пантелеймоновна. - Что это так пахнет?
Но Лукерья Пантелеймоновна не отвечает. Она снова исчезает в темноте, а вскоре за тем и Неонилла Пантелеймоновна оказывается равномерно засыпанной какими-то тряпками.
- Фу! Ну и запах! Что это у тебя такое, Лукерья? - доносится из-под тряпок.
- Это вещи из шкафа, - поясняет, наконец, Лукерья Пантелеймоновна.
Кто же не знает, что обычно хранится в дачных шкафах? Конечно, тот самый хлам, который давно уже непригоден в городе, но который бережливые хозяйки не решаются препроводить на свалку. Здесь, в дачных шкафах, находят свой последний приют чинёные простыни, давно вышедшие из моды сарафаны, проеденные молью свитера и кофточки, прожжённые утюгом блузы и ни на что не годящиеся отрезы ситца. Всё это, во избежание окончательного тлена, как следует пронафталинено. А, кроме того, не будучи востребованным, никогда не покидает пределов шкафа, где год от года отсыревает и пропитывается тем запахом, что расползается по дому после неотапливаемой зимы.
"Укрыв" вот эдаким хламом сестёр, Лукерья Пантелеймоновна вслепую, вытаращив в темноту глаза, пробирается в тот угол, где стоит горбатый сундук. Для себя, очевидно, Лукерья Пантелеймоновна приберегла нечто другое. Подняв тяжёлую, скрипучую крышку, она долго роется в сундуке, на ощупь отыскивая нужную ей вещь. Наконец, извлекает из сундука что-то большое и, судя по тому, как она кряхтит, управляясь с вещью, очень тяжёлое. Потом она встряхивает это что-то, визгливо чихает и тащит к себе на диванчик.
Почуяв новую и сильнейшую струю нафталина, Алевтина Пантелеймоновна и Неонилла Пантелеймоновна шумно двигают носами и негодующе отфыркиваются. Но Лукерья Пантелеймоновна от объяснений уклоняется. Взвалив свою ношу на диванчик поверх одеяла, она сама подлезает под эту кипу и скрывается под ней.
VI
Валентина Пантелеймоновна просыпается только под утро, когда за окнами уже виднеется серое, беспросветное небо, на стёклах заметны следы дождя, а из деревни доносятся первые звуки, напоминающие о том, что новый день начался.
Валентина Пантелеймоновна просыпается от холода - только сейчас она замёрзла. Проснувшись, она некоторое время лежит без движения, пытаясь припомнить, где она и как сюда попала. Наконец, сообразив, что к чему, она собирается встать и одеться, но останавливается в замешательстве. То, что она видит в комнате, не поддаётся объяснению. Дверцы шкафа распахнуты, а рядом на полу валяются какие-то вещи. Крышка сундука откинута, и через край свешивается чёрное пальто с каракулевым воротником и драным рукавом, с торчащим из дыры ватином.
В целом, впечатление такое, будто бы ночью в комнате производили обыск.
Но самое интересное представляют собой спальные места. Алевтина Пантелеймоновна и Неонилла Пантелеймоновна погребены под грудой тряпья: мужские кальсоны и рубашки, носки, какие-то цветастые тряпки, куски марли, предметы женского туалета, рваные брюки – словно скифские курганы, возвышаются над телами сестёр.
Лукерья Пантелеймоновна, как старый боевой генерал, спит, укрывшись серой красноармейской шинелью. Самой настоящей суконной шинелью со складкой и хлястиком на спине и с широкими красными нашивками на груди.
Дом окончательно настыл, и в комнате нестерпимо холодно. Но Валентина Пантелеймоновна забывает о холоде - так сильны впечатления нового дня.
- Бат-тюшки! - и это всё, что приходит ей на язык. - Бат-тюшки!
В ответ тряпьё на раскладушках шевелится, из-под него появляются головы Алевтины Пантелеймоновны и Неониллы Пантелеймоновны. Под красноармейской шинелью тоже происходит какое-то движение, и в следующую секунду из-под неё выглядывает Лукерья Пантелеймоновна.
Уже за завтраком Валентина Пантелеймоновна узнаёт подробности прошедшей ночи. Ей радостно, что она не мёрзла во сне и смешно, оттого что сёстры, раздевшиеся до исподнего с тем, чтобы "тело дышало", среди ночи принуждены были не просто надеть на себя всё, что только можно было надеть, но и укрыться вонючим хламом.
А после завтрака сёстры, не сговариваясь, начинают собираться в обратный путь. Никто и не вспоминает, что намеревались провести на даче выходные. Все грезят только о том, чтобы, как можно скорее, оказаться каждая в своей тесной квартирке. Там, где не нужно думать о тепле и о воде. Где можно безмятежно спать всю ночь под тёплым мохнатым одеялом, а вовсе не под шинелью и не под ворохом старых тряпок. Где можно запросто готовить пищу, мыть посуду и хоть всю ночь сидеть при ярком свете электричества.
Серое небо, сырость и стынь больше не кажутся сёстрам чем-то незначительным и легкопреодолимым. Напротив, им, городским жительницам, оказалось не под силу бороться с деревенским ненастьем. Что и говорить! В городе не замечаешь ни дождя, ни холода, которые, как оказалось, способны совершенно обессилить человека, не приспособленного к деревенской жизни, да к тому же нагнать хандру.
Насколько хорошо в русской деревне летом, настолько уныло и безрадостно, когда приходит осень. Нет! Не молодая осень в жёлтом платье. Но неопрятная старуха. Одежда её - грязные лохмотья. Злится она и срывает костлявой рукой яркие платья с деревьев. Топчет босыми ногами пахучие травы, сминает цветы. Завистница! Не поёт, не шумит она, не смеётся. Только хмурится тучами, шепчет о чём-то дождём или чавкает грязью.
И вот обнажились деревья. На перепаханных полях торчат тут и там колючие злые соломины. Красно-золотой ковёр из листьев смешался с мокрой землёй и, прогнив, стал бурой грязью. Давно не слышно ни щебета, ни стрекотанья, ни даже тоскливой журавлиной песни. Безрадостно в деревне. И только неунывающая ёлка порадует глаз своим тёмно-зелёным кафтаном. Да рябина тряхнёт карминной серьгой, укрывшейся от завистливых глаз старухи-осени...
VII
Сёстры, поджидающие Лукерью Пантелеймоновну, которая возится с ключами, натянули поглубже капюшоны и нетерпеливо переминаются с ноги на ногу, как застоявшиеся в конюшне кони.
Когда, наконец, Лукерья Пантелеймоновна управляется с дверью и присоединяется к остальным сёстрам, все вместе они направляются по деревне в ту сторону, где начинается дорога, ведущая в Шабурново, к автобусной остановке.
У крайнего дома стоит дед с цигаркой в разноцветных - жёлтых, стальных, золотых - зубах; одет он в потёртый ватник и высокие кирзовые сапоги. На голове у него выцветший картуз. Лицо у деда красное, сморщенное и, точно слезами, покрыто дождевыми каплями; щеки сплошь заросли серебристой щетиной.
Деревенские жители обычно с любопытством и настороженностью относятся к приезжим. Вот и теперь старик не сводит своих прищуренных глаз с сестёр. А когда сёстры ровняются с ним, говорит:
- Здравствуйте...
А тон, с которым он произносит своё приветствие, значит: "Кто такие? Откуда будете? Зачем приезжали, к кому?"
- Здравствуйте... Здравствуйте... - бормочут сёстры, стараясь отчего-то не смотреть на старика.
Только Алевтина Пантелеймоновна встречается с дедом глазами и даже робко улыбается.
- С праздничком... - уже более примирительно добавляет старик, точно хочет сказать: "Кто бы вы ни были, а уж зла-то я вам не желаю..."
- И вас также... И вас также... - кивают в ответ сёстры.
А Алевтина Пантелеймоновна даже останавливается, и они со стариком молча смотрят друг на друга. Старик с хитрой ухмылкой в прищуренных глазах, а Алевтина Пантелеймоновна с виноватой улыбкой. Но длится это недолго, Алевтина Пантелеймоновна спешит за сёстрами.
И вскоре они уже выходят из деревни, и перед ними предстаёт всё то, что вчера было сокрыто осенним сумраком.
Вот раскинулось чёрное изрытое поле. Вот выбежали навстречу промокшие сосенки. А в дали, подёрнутой серым туманом, показалась неровная полоска леса, точно кто-то провёл по горизонту широкой кистью. Заурчала под ногами бурая грязь, а в сосновых ветках громко зашуршал дождь, доселе не прекращавшийся, но едва слышимый в поле.
- Уж осени холодною рукою главы берёз и лип обнажены[4]... - с умилением вздыхает Неонилла Пантелеймоновна. И тут же оживляется, точно вспомнив о чём-то приятном, и громко спрашивает:
- Кто написал?.. Так! Кто продолжит, тому дам сто долларов!
Но никто ей не отвечает. Тогда Неонилла Пантелеймоновна снова вздыхает, но уже с сожалением, и произносит:
- Как странно!.. Вот уж ноябрь, а снега всё нет... А раньше, я это прекрасно помню, к демонстрации обязательно лежал снег. И даже в конце октября, к маменькину дню рождения, случалось выпадать снегу... Я это прекрасно помню!
Сказав, она пожимает плечами, потом с печальной улыбкой обводит глазами поле, рощицу, смотрит на небо и несколько раз уныло кивает, точно хочет сказать: "Всё изменилось!.. И ничего уж тут не попишешь..."
- А вы знаете, что через несколько лет зимы вообще не будет? - насмешливо спрашивает Валентина Пантелеймоновна.
- Почему? - ужасается Алевтина Пантелеймоновна.
- Ну, а что ты хочешь? - притворно удивляется Валентина Пантелеймоновна. - Глобальное потепление, за несколько лет становится теплее на десять градусов. Вот и посчитай, сколько лет осталось... - и она смеётся неприятным и невесёлым смехом, от которого всем делается не по себе. - Раньше-то зима была - сорок градусов, не меньше. А снегу-то навалит! Такие сугробы, что не приведи Господи! В два человеческих роста, во какие сугробы! А сейчас что? Если по колено насыпет снегу, то и слава Богу. И морозы не те. Тут как-то к Новому году дождь шёл! Где это видано, чтобы к Новому Году дождь шёл? А?.. А всё почему?
- Почему? - опять ужасается Алевтина Пантелеймоновна.
- Да потому что продукты сгорания создают в атмосфере дополнительный слой, который не даёт Земле охладиться, потому что образуется парниковый эффект. Этот слой, как плёнка, обволакивает Землю, и она не успевает остынуть. А человечество тем временем ещё Землю подогревает, ведь какой огромный выброс тепла в атмосферу происходит ежедневно! Так что скоро мы будем в тропиках жить. И не видать нам больше русской зимы! - и она снова смеётся своим зловещим смехом.
Наступает молчание. Все думают о том, что рассказала Валентина Пантелеймоновна. Слова её кажутся всем серьёзными и убедительными. Они многое проясняют, но главное, наводят на любимую мысль большинства немолодых людей: мысль о том, что прошлое несомненно лучше настоящего.
Первой не выдерживает и нарушает молчание Алевтина Пантелеймоновна:
- Раньше вообще лучше было, - вздыхает она. - И погода была лучше, и еда... Сейчас-то вон травятся все. А если и не травятся, так всё равно не вкусно стало. Никогда я не сравню окорок, что раньше-то продавали, с нынешним. Нынешний-то и не пахнет ничем... А раньше?.. В магазин зайдёшь, а уж пахнет окороком. Аромат такой, что не хочешь, а съешь кусочек. А сочный какой! М-м-м! Положишь в рот кусок, а он тает. Прямо сливочный!
Слово "сливочный" она произносит так смачно, так отчётливо и звонко проговаривает каждую букву, что и впрямь на языках у остальных возникает вкус свежих жирных сливок.
- А сыры? - продолжает Алевтина Пантелеймоновна. - Какие были сыры!.. Советский, Швейцарский, Пошехонский... А сейчас что? Да разве ж это сыры? Смешно говорить!.. Нет! Хороших сыров нынче не достанешь!
Голос у Алевтины Пантелеймоновны начинает дрожать, и она умолкает. Но на смену ей приходит Лукерья Пантелеймоновна:
- А как мы весело жили! Помните? Летом, вечерами, - на танцплощадку. Нарядишься!.. У меня одно-единственное платье было, но зато какое! Помнишь, Алька, ты в нём сначала ходила, а потом тебе новое сшили, а мне перешло твоё крепдешиновое, чёрное в белый горошек?
- С белым воротничком и плиссерованной юбкой? - радостно переспрашивает Алевтина Пантелеймоновна.
- Ну, да!.. Вот я его одену, и на танцы! Шестнадцать копеек заплатишь, пройдёшь, а там уж оркестр играет. Мы и вальс танцевали, и фокстрот... А сейчас что? Пойдут на дискотеку, а там - дын! дын! дын! Они патлы развесят и дрыгаются, как припадочные. Называется, танцуют! Тоже мне, танцы!.. Не-ет! Мы веселей жили. Интересней как-то...
И снова наступает молчание. Сёстры с грустными улыбками погружаются в какие-то свои мысли, вспоминая, очевидно, как хорошо они жили когда-то, как были счастливы; как много было денег, хорошей и вкусной еды, добрых друзей и весёлых праздников. И куда всё ушло? Почему так круто повернулась жизнь? Почему стали тёплыми зимы, бледными закаты и узкими дороги? Как могло случиться, что всё, что было хорошего, исчезло безвозвратно, уступив место худшему?
А дорога меж тем круто взяла влево, и вот уже впереди показалось Шабурново. И точно в подтверждение тому, что раньше было лучше, показались длинные, унылые коровники, разбитые, пустые, с торчащими кусками арматуры из обрушившихся местами стен. Показались вросшие в землю, ржавые коряги - пришедшая в негодность или просто брошенная техника. Кто и зачем выбросил эти машины, разбил коровники, куда делись сами коровы - всё это неясно. Ясно другое: раньше всё это работало, а теперь вот кажется, что ещё недавно здесь шли бои и велись бомбёжки.
- Да, другая жизнь настала... - тихо говорит Валентина Пантелеймоновна.
В Шабурново, несмотря на праздник, народу на улице почти никого. И всё же ощущается всюду суета. Во дворах беспокоятся собаки. Откуда-то доносится музыка. Звуки магнитофона, мешаясь со звуками гармонии, образуют весьма странный и неприятный музыкальный лад.
То и дело в окна выглядывают круглолицые тётки и провожают глазами сестёр. Попадается навстречу совершенно пьяный гражданин, очень обрадовавшийся и оживившийся при виде незнакомок. Потом из магазина выходят ещё два гражданина с гремящими сумками. Бежит навстречу большой рыжий пёс, очень похожий на овчарку, деловитый и насупленный.
У автобусного павильона, где висит расписание - жёлтая табличка с чёрными столбцами цифр, - выясняется, что следующий рейс только через полчаса. Тогда заходят в пустой павильон, расставляют на скамеечке пакеты. Лукерья Пантелеймоновна достаёт из кармана пригоршню подсолнухов и делит между сёстрами.
Образовав полукруг возле пакетов, сёстры Свинолуповы щёлкают подсолнухи, отправляя кожуру себе под ноги, и изучают надписи на стенах павильона. На уровне глаз большими буквами нацарапано: "Я В ШАБУРНОВО РОДИЛСЯ И В ШАБУРНОВО УМРУ". И тут же: "ШАБУРНОВО - МАФНИЯ".
По крыше настукивает дождь, а когда по дороге проносится грузовик, то брызги из-под его колёс долетают до павильона. О Толстоухово сёстры уже не вспоминают.
Примечания
1
Из повести Н. В. Гоголя "Вий".
(обратно)2
куры - от фр. faire la cour (ухаживать).
(обратно)3
Л. Н. Толстой относил рассказ А. П. Чехова "Ванька" к числу рассказов "первого сорта".
(обратно)4
Из стихотворения А. С. Пушкина "Осеннее утро".
(обратно)






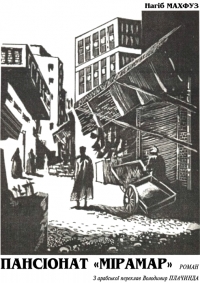


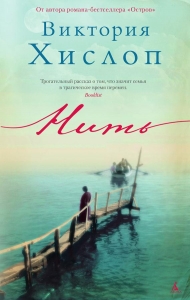
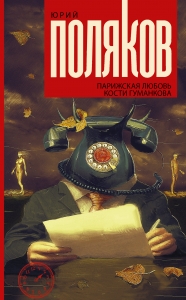


Комментарии к книге «Гностики и фарисеи», Светлана Георгиевна Замлелова
Всего 0 комментариев