Дмитрий Липскеров О нем и о бабочках
© Липскеров Д. М.
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
Аркадию Новикову, другу и первому читателю моих рукописей…
1
Арсений Андреевич Иратов спал.
Он всегда хорошо засыпал ночью. Не оттого, что в его пятьдесят с лишком нервная система сохранилась нетронутой, а вследствие когда-то правильно подобранной терапии. Уже двадцать пять лет он за три минуты до сна проглатывал две таблеточки чего-то и тотчас засыпал, выбрав позу на боку, с поджатыми к животу ногами.
Иногда ему снились хорошие светлые сны, иногда сюжет сна был обыденным, но сопровождался атмосферой тревожности. Впрочем, часто сны не снились вовсе.
Как-то Арсений Андреевич усомнился в правильности такого долгого приема препаратов и отправился к знакомому неврологу, который почти кричал, отчитывая Иратова за то, что тот сложившийся наркоман, почему ранее не информировал товарища о недуге, ему бы квалифицированно помогли, а сейчас… Сами пеняйте на свою тревожность и кошмары! Закончив возмущенно вопить, невролог сообщил, что возможность коррекции существует. Отменив старый рецепт, он выписал модный и дорогой антидепрессант.
Арсений Андреевич послушался и, отвергнув прием почти «наркотических препаратов», принялся пить новые дорогостоящие пилюли.
Через неделю пациент почувствовал себя плохо и сообщил об этом товарищу, выписавшему рецепт.
– У вас самая настоящая ломка! – оповестил невролог. – Терпите!
Иратов терпел ломоту в костях, тотальную бессонницу, необыкновенное желание все время питаться, помногу, трясущимися от нетерпения руками. Под глазами залегли синяки, и выглядел Арсений Андреевич почти стариком, чем тревожил свою Верочку, молодую женщину тридцати лет, с которой он жил неофициально, но очень хорошо – как говорят, душа в душу… Верочка проживала этажом выше, куда ее заселил Арсений Андреевич, объяснив это необходимостью проводить большую часть времени в одиночестве и покое, да и полной невозможностью заснуть с женщиной в одной постели. Красавица Верочка почти не сопротивлялась такой особенности организма своего друга, спокойно жила в выделенной квартире, на хорошей улице, в отличном доме.
Часто пара встречалась в бутиковых ресторанчиках на обед, вместе они посещали выставки и театры, интимную жизнь вели размеренную, но страстную, все еще жадно целуясь в губы по прошествии десяти лет с начала отношений.
Верочка любила Иратова сильно и глубоко, как может любить русская женщина, воспитанная правильно, чувствующая тонко и готовая к полной самоотдаче без всяких условий. Арсений Андреевич вторил сильному чувству подруги, вовсе не был эгоистом, наоборот, обладал щедростью души, понимая и преклоняясь перед прекрасным, да и кармана не затворял от любимой женщины. Обе квартиры были записаны на Верочку, а также автомобиль премиум-класса принадлежал ей, ежемесячные немалые средства на личные нужды, внушительный саквояж драгоценностей, но самое главное – она была отмечена в иратовском завещании широко, как река Волга, хоть ему и было между кем делить свое приличное состояние.
Однако ломка от отказа от старых препаратов не заканчивалась, тянулась уже третий месяц, и до этого неизменное давление скакало, как кенгуру по бушу, а стул оставлял желать куда лучшего. Но самыми неприятными оказались приходы состояния дежавю, длящиеся не редкие мгновения, как у обычных людей, доставляя им радостное удивление, а мучительные часы гиперреализма, унося сознание Иратова в прошлое, заставляя переживать ушедшие времена до полной истерзанности, хотя его жизнь было трудно сравнить с жизнью библейских страдальцев: вполне себе человеческая, со взлетами и падениями. Иратов хорошо знал, что ад – это стыд, а не сковорода с кипящим маслом, стыд, возведенный в абсолют. Гореть в аду – это гореть от стыда. Пред тобой пройдут сотни, которым ты при жизни причинил нехорошее, может быть даже не сознавая того, но тысячекратно умноженный стыд станет почти вечным. Вот в состоянии дежавю и горел Иратов в стыдном огне. Может, это кому-то было нужно?..
Будучи человеком волевым, Арсений Андреевич через не могу вернулся к ежедневным прогулкам. Гулял он обычно по арбатским переулкам и до прихода болезни неустанно восторгался старой московской архитектурой. Он понимал красоту и откликался на ее приметы благодарным знатоком… Сейчас же он ковылял, опираясь на изящную трость с эбонитовым набалдашником, и не замечал арбатских лепнин, кружевных особняков и классических шедевров девятнадцатого века. Как дикий крестьянин, Иратов стоял посреди шелкового персидского ковра в грязных лаптях, не сознавая собственной дикости, – таково было его состояние.
К нему пришли панические атаки, плетясь, он шарахался от каждого встречного, кажущегося ему каким-то выпуклым из этого мира, чересчур целлулоидным и красочным, а потому опасным. Мозгом Арсений Андреевич сознавал, что зловещие картинки обычной улицы, с монстрами-автомобилями, пешеходами из фантастических фильмов – всего лишь игра утомленного, давно не спавшего разума… Ему удавалось пройти обычным маршрутом, к концу которого, несмотря на зиму, он был совершенно взмокшим, почти плавал в поту.
Дома было легче. Он ничего не пугался, даже разговаривал по телефону в своей обычной уверенной манере, но взгляд тяжелобольной собаки мучил его подругу Верочку, которая, конечно, в эти нежданные времена почти не оставляла Иратова в одиночестве. Она сама готовила, помногу, Арсений Андреевич просил плова с крупными кусками мяса, пасту большими кастрюлями и десерт, который Верочка заказывала в кафе «Пушкин».
Все это кошмарное время мучений человеческих таблеточки, которые Иратов принимал двадцать пять лет, лежали в ящичке его письменного стола невостребованными. Подсознание то и дело напоминало, что стоит ему выпить их, как в течение часа состояние нормализуется. Но воля – главная ценность, награда для любого мужчины, – его воля была столь крепка и надежна, что она не пошатнулась и на мгновение. Так должно быть, говорил себе Арсений Андреевич, есть покой, и есть расплата за него, и есть воля принять расплату!
Но она была слишком суровой. Бессонными ночами мозг отыскивал причины для такой лютой мести – и, увы, находил их во множестве.
В какой-то момент Арсений Андреевич понял, что очень скоро может умереть. Эта мысль не напугала его, а лишь расстроила единственным – потерей Верочки, которой он недонасладился, которую недолюбил. Бокал редкого вина лишь на четверть был выпит, и поглощение его капельками, как редчайший эликсир, для обретения равновесного состояния души и тела окажется невозможным. Иратова не заботило, что он не воспользовался своим материальным состоянием досыта, понимая, что человеческое бытие – лишь короткий переход между одним и другим, а бескорыстная любовь улучшает человека в глазах Бога. Там, где он был обретен, уже построены замки для его бессмертной души, на вечном фундаменте, нерушимые и прекрасные… Или сначала стыд… Но стыд, пусть и через тысячелетия, закончится…
– Я люблю тебя! – Верочка гладила волосы Иратова, черные, словно вороново крыло, с седой прядью, волнистой и похожей на зиму, падающие к плечам. – Люблю тебя!.. – и целовала его красивое, с чертами демона, лицо, не торопясь, касаясь его почти с одинаковыми промежутками времени. Висок, щека, скулы – и к шее опускались ее чувственные губы.
В такие секунды Арсению Андреевичу казалось, что он почти выздоровел, он даже коротко наслаждался – до того момента, пока не понимал, что из глаз текут слезы. Это было фу!!! фу! – недостойное его каменного стержня, гранита, из которого он весь состоял. В камнях нет слез… Он отстранял Верочку и властно велел уходить.
Иратов, пытаясь самостоятельно выяснить, что с ним происходит, часами рыскал в Интернете, отыскивая, благодаря совершенному английскому, статьи на профессиональных медицинских европейских сайтах по его проблематике, изучал белок G, химию расстройства, средства блокировки адреналина, но, углубляясь в медицинскую терминологию, все отчетливее осознавал, что единого лечения от таких состояний просто не существует. Для него стало откровением, что множество великих людей почти не выходили из дому, мучимые паническими атаками десятилетиями, умирая в одиночестве, и, вероятно, ему, придавленному страхами, также суждено скончаться в четырех стенах лишенным полноценной жизни.
Иратов говорил с Верочкой:
– Не хочу, чтобы ты тратила свою жизнь на мое безумие!
– Ты не безумен…
– Все равно, я инвалид.
– Я твоя жена.
– Нет, мы не в браке и клятвами не обременены!
– Иратов, не будьте гадом!
– У тебя еще будет судьба! – Он протягивал свои красивые руки с длинными пальцами к лицу Верочки и гладил ее по щеке. – Все будет, поверь мне!
Она переставала сопротивляться и больше такие диалоги не поддерживала, уходила к себе наверх и, роняя слезы, думала, как помочь любимому человеку. Готовила плов…
Скорее всего, еще недавно сильный, статный красавец, светский лев, Иратов, вполне возможно, зачах бы гордым цветком, засушив ненароком и Верочку, но в один из печальных дней ему позвонил из Израиля партнер по старому, почти погибшему бизнесу по перепродаже сапфиров.
Выслушав коротко трагическую историю иратовского недуга, партнер ограничился всего несколькими фразами в ответ:
– Вы же знаете, что по образованию я врач?
– Кажется, ревматолог, – вспомнил Арсений Андреевич.
– Специализация здесь не важна. Я вам так скажу, мой дорогой: счастье, если человек нашел свою таблетку, поймите – счастье!!! Большинство не находят своей таблетки, не находят!!! А вам Господь ее открыл! Аллилуйя!
– Но наш невролог сказал…
– На свете много дураков и плохих врачей, гоните от себя шарлатанов и не путайте силу воли с идиотизмом, могущим привести к гибели! Когда придете в себя, поговорим о деле. Есть у меня сапфир…
Иратов перестал слушать израильского партнера, в его мозгу вдруг вспыхнули мощным разрядом молнии, потом пролился дождь и затопил вселенским потопом мозги, очищая правильную мысль от шелухи заблуждений и бесплодных исканий. Арсений Андреевич бросился к письменному столу, подергал за ручку ящика, наконец открыл его, отыскал свои старые таблетки, выдавил из упаковки две и закинул в рот…
Первый раз за три месяца он спал глубоко и безмятежно, а наутро проснулся совершенно свежим, с просветленной головой и наполняющимся былой силой телом. И какая-то невероятная радость охватывала все его существо. Так тяжелобольной человек, страдающий страшным недугом, находящийся на пороге смерти, вдруг выздоравливает и вместо обещанных недель получает от жизни десятилетия. Его последующие ощущения сродни детским, на что ни взгляни: будь то листик на дереве, облако, обыкновенный луч солнца, всякая недостойная мелочь – всё это открытия мирового значения, с той лишь разницей, что человек не должен осчастливливать ими человечество: счастье лишь для тебя, оно только твое!
Иратов улыбался небу, шепча слова благодарности, а потом закричал во все горло, как кит затрубил, сообщая миру, что он самый большой на свете, самый сильный и вследствие этого фонтанирующий человеколюбием и щедростью желания поделиться новой, могучей энергией!
– Я буду жить! Жить!!!
А потом он долго брился, ощущая ноздрями запах пены, лосьона после бритья, щиплющего кожу. Вымыл голову и тщательно расчесал волосы, такие черные, как немецкая краска «Хаммерайт», с блескучим отливом. Поглядел на себя в зеркало и слегка расстроился из-за излишней полноты, появившейся за время болезни. Но он знал, что через две недели от избытка плоти он избавится с помощью игры в теннис и плавания.
Ему захотелось есть, и впервые за долгое время тело его не дрожало в предвкушении обильной пищи. Иратов натянул молодежные джинсы с дырками, кричащую своим слоганом майку «I love KGB», надел кеды на босу ногу и помчался на Верочкин этаж по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки…
После обычной яичницы, гренок и кофе он любил счастливую Верочку долго и нежно.
– Мой демон! – шептала она. – Вернулся…
Они были единым целым до полудня, потом, счастливые, слегка уставшие, разъединились, вспомнив себя, и принялись строить планы на жизнь. Театры, выставки, поездки в дальние страны, спорт… Они напланировали на две жизни, но сначала договорились поужинать в маленьком грузинском ресторане, недалеко от Старого Арбата.
Он вернулся к себе в квартиру, прошел в кабинет, ощущая себя Давидом, победившим Голиафа в себе самом. Мысли повелительно завертелись в направлении созидания, и он набрал номер телефона брокерской конторы, находящейся в Швейцарии, клиентом которой являлся. Прослушав биржевые сводки, изменившиеся за время его отсутствия, он сделал несколько распоряжений о продажах энергетического сектора и приобретении европейских облигаций. Также были выставлены опционы на валютные пары развивающихся стран.
Между деловыми звонками объявилась Верочка с вопросом:
– Что же делать с пловом? Целый казан…
– Отдай консьержу. Впредь только здоровая еда!
Соединившись с израильским партнером по скайпу, он поинтересовался информацией о сапфире.
– Пришел в себя? – хмыкнул партнер.
– Спасибо, Роберт!
– Не благодари! Ты мне нужен больше, чем я тебе.
– О’кей, я твой должник.
– Так вот, есть сапфир с наилучшими характеристиками. Если бы ты видел, какой цвет, мамуля моя дорогая! Я понимаю, что ты отошел от камней…
– Что с весом?
– Двадцать восемь карат.
– Ого…
Бизнес с драгоценными камнями давно не интересовал Иратова. Огромная конкуренция, серьезные риски много лет назад отвратили его от слез земли. Так он называл бриллианты, сапфиры и изумруды – слезы земли. Тем не менее он поинтересовался у Роберта ценой на сапфир, услышав ее, спросил про дисконт. Предложенные компаньоном пятнадцать процентов его устроили – с условием, что камень со всеми бумагами завтра будет в Москве.
– Деньги перечислю тотчас!
– Покупаешь? – изумился партнер.
– Да.
Арсений Андреевич отлично понимал, что сейчас не время приобретать драгоценности, но решился на покупку не ради будущей прибыли – он сделал одолжение своему партнеру, скорее долг вернул, расплатился за чужую мудрость, ну и, конечно, этот сапфир предназначался для Верочки – за бескорыстие и любовь.
Весь день он звонил: то связываясь со своим архитектурным бюро, то портному Львову, обещая заскочить и заказать новый костюм, поинтересовался у тренера породистого жеребца по кличке Эрот, как дела у его любимца, и много чего еще собирался сделать Иратов в этот день своего чудесного исцеления.
Между тем, одетая во все белое, с покрытой белым платком головой, Верочка посетила храм Воскресения Словущего на Остоженке, где поставила свечи, положила денег на нужды храма, заказала сорокоуст, а потом исповедалась, роняя счастливые слезы… Она была чиста, как небо над Иерусалимом, а потому помощник настоятеля Иван Остяцкий, диакон, почти плакал вместе с ней, удивляясь сиянию незапятнанной души.
Остяцким были произнесены ритуальные слова, он многократно перекрестил ее, а потом Верочка оповестила диакона, что хочет ребеночка, да не получается.
– Так Матрона сейчас в Донском! Идите просите!
– Муж у меня гражданский…
– Так повенчаю…
– Он вообще не знает, что я в храм хожу.
– Откройтесь по-простому, разве не поймет он, коли любит? – диакон прижал руки к сердцу.
Верочка совсем не знала, как отнесется Иратов к тому, что она посещает храм и целиком предана Иисусу Христу, тогда как Арсений Андреевич считал Сына Божьего величайшим гуманистом всех времен и народов, но никак не Его Сыном.
– Зачем, Верочка, Творцу сын?
Она знала ответ твердо, но, не желая теологических споров в семье, просто пожимала плечами, как бы принимая слова Иратова самим сердцем. Где муж – там и правда!
– А супруг ваш верующий? – спросил Остяцкий.
– Нет, – ответила Верочка. – Но он твердо знает, что Бог существует.
– Это и есть вера!
– Он говорит, что знание о Боге важнее, нежели вера в Него.
– Интересный человек! – усмехнулся диакон Иван. – Приводите его как-нибудь… Потрапезничаем. Я думаю, что настоятель против не будет.
Ответа на предложение Остяцкого Верочка не дала, уклонилась, понимая, что совместных застолий не стоит ждать, и перевела тему на Матрону:
– Поеду по вашему совету к святой.
– И то дело!
Простояв четыре часа в очереди, она поняла, что такими темпами не успевает на ужин с Иратовым, загрустила и намеревалась выпасть из толпы в светскую жизнь, как здесь Верочку взял под локоть какой-то взлохмаченный, с горбатым носом старик, похожий на грека, очень худой и хмурый лицом, в черном до пят пальто, и, процедив, что у него занято местечко впереди, возле самого входа, потянул ее за собой. Она не успела и рта раскрыть, как оказалась возле украшенной цветами иконы Матроны. Перед ней стояла темнокожая молодая женщина необыкновенной красоты с голубыми глазами.
Откуда она здесь, на секунду подумала Верочка.
– Просите же, просите! – торопил старик.
И она стала просить Матрону о чуде, о маленьком мальчике с черными глазами, шептала про себя и тыкалась губами в защитное стекло.
Ее оттеснили к выходу. Уносимая людским потоком, она искала в толпе старика с греческим профилем, но он будто растворился в наступающем сумраке.
«Ангел, – подумала Верочка, – или черт!»
Пошел крупный мягкий снег, укрывший к вечеру весь город предновогодней манной…
Арсений Андреевич Иратов спал. Никакие тревожные сны не мучили расслабленное его сознание, лишь легкие картиночки прошедших дней мелькали мгновениями. Верочкино лицо… Чудо как хороша была намедни в белом. Голубые глаза под светлыми ресницами… Шампур с нанизанными на него кусками мяса, бокал красного вина… В каком-то далеке улыбка матери… Лишь одна картинка не подходила к экспозиции, наполненной светом, выделялась своей советской кондовостью – капитан Алевтина Воронцова, в полном парадном облачении, осклабившая рот в жуткой улыбке… Это последнее явление было послано наполненным мочевым пузырем, заставившим Арсения Андреевича проснуться, хоть и не до конца. На автопилоте он сошел с кровати и, не открывая глаз, оставаясь в связи со сном, прошел в ванную комнату, окутанную ночной, чуть зеленоватой подсветкой, уперся ногами в унитаз, приспустил спальные штаны, поискал рукой внизу живота, но не нашел искомого предмета, с помощью которого организм обычно расстается с переизбытком жидкости. Пришлось просыпаться, чтобы восстановить координацию. Он открыл глаза, оперся одной рукой в стену, а другой попытался отыскать главный орган мужского тела. Тот отсутствовал… Мозг Иратова, как старый подвисший компьютер, с трудом переваривал полученную тактильным способом информацию. Пришлось наклониться, чтобы подключить зрение. И вот здесь сознание завопило предсмертным криком, как будто в него вонзили электрический нож.
Нету его!!! Нету!!!
Под черепной коробкой вспыхнули прожекторы, мобилизующие всю нервную систему. Иратов, вспотевший от ужаса, вылезающий из штанов, придвигался к огромному, в рост человека, зеркалу. Зацепился ступней за штанину и упал, больно ударившись коленом о кафель. Поднявшись, он надеялся, что все это галлюцинация возвращающегося недуга, но, залитый включенным светом, полностью нагой, Арсений Андреевич удостоверился, что орган в отражении отсутствует, а также исчезла и приданная к нему мошонка.
Он вдруг коротко вспомнил, что когда-то в Америке была эпидемия отрезания ревнивыми женами мужских достоинств, – а вдруг это…
С кровоточащим коленом, глядя на себя в зеркало, он не находил следов раны в паховой области. Ощупывая низ живота, Арсений Андреевич чувствовал лишь ровную гладкую поверхность, и только какая-то маленькая выщербина под подушечкой пальца ощущалась…
Иратов вспомнил об увеличивающем круглом зеркале на складной металлической гармошке, как в отелях, встал на стул и притянул зеркальце-лупу к паховой области. На ровной кожной поверхности, столь гладкой, будто ничего и никогда на ней не произрастало, виднелась маленькая аккуратная дырочка. Арсений Андреевич смотрел на нее долго и внимательно, словно эта дырочка – космическая червоточина или вовсе черная дыра, затянувшая в себя его естество… Мозг отказывался верить в трансляцию с помощью зрения, но, как было уже известно, сам Иратов к вере во что-либо относился как к чепухе, убежденный, что только знание определяет существование. Познай, а потом положи на сердце!
Он спустился со стула, уселся на унитаз и по-женски помочился.
Эта дырочка не черная дыра, а выводящая мочу уретра. Отупело он спрашивал себя, как такое могло случиться, вновь и вновь засовывал руку в пах, убеждаясь, что произошедшее не галлюцинация, а реальность… Он так долго сидел на унитазе, что еще раз опростал мочевой пузырь, а потом, натянув спальные штаны, добрел до кровати и лег, забывшись до утра.
Ночью было морозно, облепивший фонари снег замерз, и множество ламп перегорело.
Конечно же, проснувшись, он тотчас залез пальцами между ляжек в надежде, что это всего лишь ночное кошмарное видение. Отыскал лишь пустоту. Порыскал в постельном белье – ничего. Впрочем, ему было уже не так жутко от произошедшего, как несколько часов назад. Мозг успокаивал себя сам, убаюкивая сознание, что это уже не главное в мужчине за пятьдесят, что в происшествии можно отыскать ироническое и, если постараться, даже совсем смешное.
Посмеяться над собой Иратову не удалось, он отправился в ванную, где почистил зубы, побрился и заставил себя расчесать волосы. Его сейчас особенно раздражала седая прядь, будто он по-прежнему сильный красивый мужчина, покоряющий следующую сотню женских сердец.
– Вот как бывает! – произнес. – Или так не бывает?
Не позавтракав, Иратов уселся за компьютер, надеясь отыскать ответ во Всемирной паутине. Ответа не было, так как он не смог за час сформулировать запрос. В пальцы из мозга просилось: «Не пропадал ли у вас половой член?» Чистая ахинея… «Не уходил ли он от вас?» – прямо сказка про Колобка… Удалось улыбнуться… «Как жить без члена?»
Он ответил на телефонный звонок. Это была Верочка, интересующаяся, завтракал ли он или можно вместе.
– Спускайся, – разрешил Арсений Андреевич.
Она приготовила отличный омлет с помидорами и грибами, тосты с сыром и сварила в машине кофе.
Иратов ел не без удовольствия, продолжая размышлять, какие такие проблемы может ему создать происшедшее. В баню он ходить не любил – брезговал. На теннис?.. Можно переодеваться в ВИП-кабине, да и плавать легче… Или подложить в плавки что-нибудь из магазина для взрослых? Еще есть и плюс – можно кататься на велосипеде, не боясь соскользнуть пахом на раму…
Тем временем Верочка повествовала о чем-то веселом, щебетала и улыбалась, словно принцесса из романтического фильма. Она описывала милых деток в их дворе, возящихся в снежных сугробах, слепивших снежную бабу, удивлялась, как раньше матери справлялись без памперсов, без добавок и смесей, похожих на грудное молоко. Верочка неосознанно рассказывала о соседских детях, ведя к теме самой серьезной для нее, к венцу жизни каждой женщины – материнству. Иратов оставил для нее только глаза и мимику, реагирующие на тон голоса. Приподнимал брови, усмехался, прищуривался в ответ, казалось, заинтересованно слушал, тогда как мозг обдумывал со всех сторон сложившиеся обстоятельства, которые можно назвать выдающимися.
Вот, сообщил мозг. Самое главное – она, Верочка, как быть с ней? Она счастливо поет о чем-то незначительном, как птичка, еще не зная, что ее ворон уже не ворон, а ворона. Вопрос этот пугал единственной, но самой большой проблемой – Верочку необходимо любить не только платонически, но нужно и радовать молодую женщину близостью. Впрочем, опытный Иратов знал много способов доставить удовлетворение женщине без использования основного. Но одно дело, иметь к главному опции и совсем другое – иметь одни лишь опции, без главного…
– Знаешь, – перебил он, – откуда пошло выражение «из него песок сыплется»?
– Нет, – ответила Верочка.
– В веке пятнадцатом-шестнадцатом мужчины, и стар и млад, носили лосины. Понятно, что у молодых из-под обтягивающей материи выпирало как следует, а старые по мере усыхания мужских органов приставляли к маленьким орешкам мешочки с песком. Вот когда такой мешочек у старика лопался, сыпался песок. Вот отсюда и это выражение!
– Никогда не слышала! – призналась Верочка. Она крайне редко раздражалась в семейной жизни, но сейчас испытала некое недовольство неуместным рассказом, не относящимся к тому, о чем она говорила, к чему вела свой монолог… Вероятно, он не хочет нового ребенка, решила она и, больно закусив губу, совершенно расстроилась, став почти некрасивой. Сославшись на недомогание, попросила разрешения подняться к себе.
– Да, конечно, – позволил Арсений Андреевич. – Если понадобится помощь…
– Нет-нет, это женские дела…
К 14:00 Иратов подъехал к знакомому врачу – урологу-гинекологу, – работавшему в частной андрологической клинике, которого он не встречал почти со студенческих времен. Случайно увидел рекламу в журнале. Седой, с лицом мясника врач обещал решить все проблемы мужского здоровья.
Странным парнем был этот врач. Деньги начал делать в восьмидесятые, как и Иратов. Учась в медицинском, будущий уролог Сытин хвастал, что является родственником того самого Сытина, который издатель всех и вся. Отличался исключительно тем, что торговал платиновыми слитками с наивысшей маркировкой, украденными с государственного предприятия. Торговал по-крупному. Ходил под расстрельной статьей, но ни разу не был принят советской милицией даже при внезапной проверке документов. В кармане всегда полный набор: паспорт, комсомольский и профсоюзный билеты. Сытина звали Магом за то, что он ворочал нетрудовыми миллионами, состоял в какой-то коллегии врачей-урологов, но с органами никогда не встречался, даже по пьяни. Потому что не пил. Иратов был частым клиентом Сытина, покупал драгоценный металл, помногу, и одновременно лечился у Мага от гонореи, которой в Союзе болели почти все.
Сытин наверняка не беднее меня, думал Иратов, ожидая приема, а до сих пор трудится обычным врачом. Может, потерял все в кризис? Или состояние профессией защищает? Косит, чтобы рейдеры не добрались?
Через несколько минут они встретились и, как товарищи по молодости, обнялись.
– Привет, Маг! – искренне улыбался Иратов.
– Ну здорово, Якут! – пробасил в ответ седой спекулянт с мощным подбородком, взял Арсения Андреевича за плечи и, отстранив на вытянутые руки, признал: – Да ты, брат, такой же красавец! Как сохранился! Кофе будешь?
– Гены, наверное. Можно и кофе!
– Марина! Два кофе! Тебе со сливками?
– Черный.
– Со сливками один! – прокричал родственник издателя Сытина.
Они сели на диван в разные его концы и все разглядывали друг друга, отыскивая воспоминания о молодости.
– Так куда ж ты тогда пропал? – поинтересовался уролог.
– До Горбачева?
– Где-то в это время, – припоминал Сытин. – Я тогда с металлом для тебя чуть не попал! Ты ж заказ-то не выкупил! Я на такие бабки попал! Но что было, то было!..
– Присел, – ответил Иратов.
– Да ладно! Я не знал! – Врач закурил сигарету и задумался на несколько минут. – Я тогда злился на тебя, Якут, думал, не прощу, а оно вот как все обернулось… Получается, что я тебя сейчас благодарить должен, что не сдал меня… Сколько тебе впаяли?
– Обещали расстрелять… – Этот момент Иратову было неприятно вспоминать. Он побледнел, одним мгновением оказавшись в том времени. – Все обошлось, даже строгого режима не дали!
– Да-а, – протянул Сытин. – Были времена, – и пустил струю дыма к потолку.
– А как тебя пронесло? Как ни разу не попался?
Уролог хмыкнул:
– Как раз я попался сразу. Но потом мне сделали предложение… – Иратов напрягся. – Нет-нет, не провокатором. Взял меня такой дядька интересный, как потом выяснилось, работал на Андропова, но больше на себя, или черт его знает. Предложил заниматься тем же и отстегивать девяносто процентов. Лимонов десять под его защитой я ему наработал, а он уже позже, в конце восьмидесятых, стал бабло распределять по принципиальным комсомольцам. Трое из них сейчас в первой десятке нашего «Форбса». Наверное, я у него был не один такой. Да не наверное, а точно… Я в ГКО все свои накопления вложил, ну и потерял все в девяносто восьмом от жадности, вернулся к профессии, через пять лет клинику выстроил на трудовые!
– Талант не пропьешь, – согласился Иратов. – Все равно ты маг, коль сумел в наши времена бизнес поднять. После падения тяжело подниматься!
– Ну а ты как, Якут? – спросил Сытин. – Что-нибудь сохранил?
– Да так, крохи… А ты правда родственник Сытина или заливал тогда для понта?
– Родственник, – подтвердил уролог-гинеколог-андролог. – Далекий, правда…
Говорить товарищам по молодости стало больше не о чем, кофе допили, и один протянул значительно:
– Да-а-а…
– Да-а-а, – подтвердил второй.
– Ну так к делу! – вернулся за рабочий стол уролог. – Ты же не вспоминать сюда пришел. Вижу беспокойство в твоих глазах! Я весь внимание, здесь не место для стеснений.
Иратов не знал, с чего начать, только смущенно хмыкал. Владелец клиники терпеливо ждал, пока пациент настроится, пристально смотрел ему в глаза, словно гипнотизировал.
– Чего, собственно, говорить! – решился Арсений Андреевич. – Я лучше покажу.
Он поднялся с дивана, расстегнул ремень и спустил брюки вместе с трусами до колен.
Врач молча глядел на гладкий, словно лист картона, пах Иратова. Смотрел и молча думал, а пациент, приподняв рубашку до пупа, давал ему возможность вдоволь наглядеться.
В дверь постучали.
– Идрисов на второй! – возвестила Марина.
– Позже! – гавкнул на запертую дверь Сытин и негромко спросил Иратова: – Подготовка к смене пола?
– Что? – не понял Иратов.
– Зачем тогда в два приема? – раздумывал вслух старый товарищ. – Заместительная терапия назначена? Почему не сформировали влагалище?
– Нет же, нет!!! – остановил дикие размышления врача Арсений Андреевич. – Тьфу! Какая смена пола?! Какое влагалище?! У тебя что с головой? Сдурел?!
– Что же? – не понимал Сытин.
Иратову пришлось поведать свою невероятную историю исчезновения половых органов. В отличие от повседневности, говорил коряво и косно, прерываясь через каждое слово, понимая всю сюрреалистичность своего рассказа и внешнего вида.
– Уверен, что не преступление?
– Ночью этой произошло! Да я бы давно от потери крови сдох!
– Это правда. Там артерии, венозный клубок, сосуды… Истек бы за час… Но что же?
Иратов пожал плечами:
– Ты врач, твои гипотезы?
Вооружившись лупой, уролог встал на колени и долго рассматривал проблемное место, трогал пальцами, спрашивая «не больно? а здесь?». В течение двадцати минут медицинских изысканий Сытин определился лишь с одним:
– Если бы не знал тебя, то сказал бы, что это классический женский лобок с неразвившейся вагиной и половыми органами. Так бывает, когда гормональный фон…
– Это не женский лобок! – зашипел от злости Иратов. – Сытин, заткнись и давай из теории в практику!
– Да-да! – Доктор был явно озадачен теориями возникновения такого пикантного случая, крайне интересного для медицинских изысканий. Феномен, понял он, так как внятных объяснений случившемуся не нашел. Если Якут не врет, конечно. – А что с либидо, половым влечением?
– Прошлым утром несколько раз удовлетворил жену.
– Не зря тогда о тебе слухи ходили, что ты половой всегдаготовчик! Вся тусовка завидовала!
– Зачем сейчас об этом вспоминать! – разозлился Иратов. – Сейчас я человек без хуя!!!
– Конечно, – согласился Сытин. – И без яиц! – добавил и тотчас спохватился: – Это не издевка – констатация медицинского факта! Нуте-с, пожалуйста, на кушетку!.. Брюки надевать пока не надо, ко мне лицом, коленочки к подбородку… Ничего не мешает?
– Уже нет, – отозвался Иратов, а во время процедуры получения секрета предстательной железы через омерзительные ощущения все уверенней укреплялся в своих выводах о том, что потерял не самое главное, и даже не второстепенное, по приоритетам.
Сытин добыл искомый сок и, призвав помощницу Марину, передал ей стекла для лаборатории и почти прошептал:
– Анонимно!
Арсений Андреевич наконец вернул одежду на привычное место и сел в кресло.
– Чего ты хочешь? – напрямую спросил Сытин.
– Чего я хочу?.. В идеале – чтобы все вернулось на круги своя.
– Признаюсь, случай для меня, да я не побоюсь сказать – для всей мировой медицины, уникальный! Совершенно отсутствуют следы хирургического вмешательства. Все выглядит как будто так природа задумала. А может, у тебя его никогда не было? – хитро прищурился врач. – Могло же быть, что ты мистифицировал всех своей любвеобильностью в кавычках? Родился таким интересным?
– Сытин, – устало вздохнул Иратов, – у меня дети, я даже точно не знаю сколько. У меня молодая жена-красавица. На хрен ей дядя без… Ну ты понял.
– Значит, ты медицинский феномен! – подытожил Сытин. – Случай, нигде не описанный, даже в байках о таком не слыхивал.
– Успокоил…
Марина принесла экспресс-заключение. Сытин ознакомился с ним, коротко бросив взгляд на бумагу:
– Все в норме! Лейкоцитов ноль, эпителия мало, следов грубой инфекции не обнаружено. Сама железа в полном порядке!
– Радует.
– Что я могу тебе предложить…
– Что же?
– Знаешь, насколько медицина продвинулась? Какие технологии в моем распоряжении имеются? Вот, не знаешь! Правда, это дорого…
– Что «это»? – начинал опять злиться Иратов. – Говори яснее!
– Фаллопротезирование – панацея для всех мужчин, получивших увечье при бытовых и военных травмах! Берем кожные покровы с боковой части бедра, растим их слои в специальном боксе, затем при оперативном вмешательстве формируем с помощью пластики новый половой член и мошонку. В последнюю будет установлен протез одного яичка, второе будет служить насосом для вставленного в сформированный орган подъемного механизма, перекачивающего жидкость. С помощью этого насоса, сдавливая функциональное яичко как грушу на аппарате для измерения кровяного давления, мы перекачиваем жидкость в орган – и происходит эрекция! Заметь, эрекция, которая никогда не заканчивается! Ты ее властелин! А когда надоест, просто переламываешь ствол, и жидкость уходит восвояси. Косметически все будет выглядеть натуральней, чем собственное!
Раскрасневшийся, довольный Сытин закончил свой монолог и ждал ответа. Иратов сидел и думал. Как оказалось, устранить проблему хоть и непросто, но возможно. Придя к такому выводу, он тотчас вернулся в свое обычное состояние уверенности в завтрашнем и послезавтрашнем днях.
– Сколько стоит? – спросил.
– Туда-сюда, зависит от протеза: есть лучше – американский, есть хуже – китайский.
– Я даже при Союзе китайское не покупал!
– Хороший выбор! Американский вместе с операцией, лабораторией, гонораром хирургам, то-се… От пятидесяти до семидесяти тысяч. Если дорого, я все же рекомендую китайский…
– Маг, у меня хватит на американский!
– Ах, шельма, Якут! – заулыбался уролог. – Значит, денежки имеются в достатке! «Так, крохи», – передразнил Иратова. – Кстати, забыл главное: удовольствие от полового акта будешь получать как в семнадцать лет! Нервные окончания предстательной железы в норме, а потому живи, пользуй женскую плоть на здоровье!
– Обнадеживает!
– Есть и не очень радостное сообщение. Детей больше не будет. Наука пока не в силах создать искусственный сперматозоид. Да тебе же и не нужно!
– И то правда…
При расставании товарищи молодости вновь обнялись, договорясь о том, что Иратов возьмет время на обдумывание, посоветуется с женой и после известит Сытина о решении.
Уже в дверях уролог осознал, что, кроме клички Якут, никаких персональных данных пациента не знает. Ни имени, ни фамилии. Странная жизнь, решил Сытин, закрывая за ним дверь. Дальше философскую мысль он развивать не стал, понимая всю зряшность мудрствования лукаво. Толку никакого! И этого, поверхностного, заключения хватало для способности нормального проживания в цивилизованном обществе… Ну, не знал он имени – и что это меняет? Жизнь?
В то же самое время, спускаясь к выходу, Иратов подумал о Сытине то же самое, созвучное. И как же зовут его врача? Вроде тридцать лет знакомы… Маг? А собственно, на кой фиг мне это нужно!..
Иратов прибыл на Остоженку, в свое архитектурное бюро, расположившееся на двух этажах исторического особняка. По-хозяйски, но демократично он обошел все отделы, поздоровался за руку даже с начинающими чертежниками, поспрашивал начальников отделов, как продвигается основная работа по проекту футбольного стадиона к чемпионату мира. Оказалось, что все идет своим чередом, большинство инженерных и архитектурных узлов обсчитано, и бюро даже опережало сроки сдачи проекта. Ранее, в Амстердаме, макет стадиона в виде полутыквы получил престижную архитектурную премию. Оранжевый, с окнами переходов в виде хэллоуинских глаз, он покорил не только голландцев – еще с десяток стран претендовали на выкуп идеи. Победила Россия, обещавшая часть подряда на строительство.
Пообщавшись с работниками, Иратов прошел в свой кабинет – просторный, выдержанный в минималистических традициях, вместе с тем очень изящный, показывающий клиентам, что его хозяин причастен к пониманию изысканной простоты.
За кабинетом имелась скрытая комната с отдельным санузлом, в которой Арсений Андреевич отдыхал на мягком арабском диване с райскими птицами на обивке и, конечно, с бахромой. В комнате имелись бар, кофейная машина и всякая другая дребедень – эскизы старых проектов, большой телевизор, а на стене висели дипломы и награды, которые Иратов заслужил за успешную жизнь в мировой архитектуре.
Арсений Андреевич посетил уборную и опять по-женски помочился. Мог бы вновь на этом акте зациклиться, но не стал, уже успокоившись насчет важных различий – стоя или сидя…
Вернувшись в официальный кабинет, Иратов, налив в стакан виски, связался с помощником Витей и удостоверился, что первая часть проекта отослана в Российский футбольный союз.
– Конечно, Арсений Андреевич!
– Про авторство не забыл? – спросил, механически крутя вокруг пальца изысканный перстень с рыбкой.
– Все как наказывали. Вырезали печать и проштамповали все листы – «Проект Арсения и Андрея Иратовых».
– Молодец! Что еще?
– В конференц-зале вас ожидает какой-то странный человек средних лет, он не назвался.
– Чем странный?
– К его запястью наручником прикован небольшой саквояж…
– Проводи сюда.
– Конечно, Арсений Андреевич!
Через минуту в дверях появился некий субъект с наружностью военного наемника. Иратов помнил это лицо, и он знал, кто это. Ах, как нехорошо, подумал. Как нехорошо! Арсений Андреевич в связи с трагическими обстоятельствами интимного характера совершенно запамятовал, что накануне договорился с израильским другом о сделке. Деньги перевести забыл, но, судя по всему, в саквояже курьера тот самый сапфир. Мужчина лет сорока, с восточным лицом, в прошлом офицер МОССАДа, много лет работал на израильтянина и сейчас стоял, недвижимый, на ковре русского партнера.
– Я не перевел деньги! – вспомнил Иратов. Курьер согласно качнул коротко стриженной головой. – Сейчас сделаю…
Через несколько минут Иратов с помощью электронного перевода переместил шестизначную сумму со своего счета на счет израильского друга. Кивнул головой курьеру, тот оперативно вытащил мобильную трубку и совершил международный звонок. Сказав несколько слов на иврите, он подождал немного, а потом отключился от связи. В одно движение отстегнул наручник, сделал несколько шагов, поставил на стол саквояж, развернулся почти по-солдатски и вышел.
Кашмирский самоцвет был просто идеален. С помощью ювелирной лупы, в свете мощной лампы, Иратов наслаждался природным шедевром цвета Атлантического океана, с безупречной огранкой, идеальным по пропорциям, чудесного синего окраса. Чистейший, без единого вкрапления чуждого.
Арсений Андреевич еще со студенческой молодости обожал драгоценные камни. Сначала он вкладывался в них, считая драгоценности более тихой и прочной гаванью, чем валюта, затем материальная составляющая ушла на второй план и Иратов полюбил камни как истинные шедевры, рожденные нутром Земли в муках глобальных температур. Он имел потрясающую коллекцию бриллиантов, сапфиров и изумрудов. Хранилась она в швейцарском банке, который Иратов навещал не реже одного раза в месяц. Он отпирал личный сейф, из которого забирал бархатный мешочек, хранящий его сокровища, возвращался в гостиницу и пару часов перебирал «чистую воду» пальцами, принимая от камней энергию, становясь чуточку моложе, тверже и уверенней. Затем он относил коллекцию в банк и возвращался в Россию.
Сапфир из Израиля чуть не дотягивал до уровня коллекции, а потому Арсений Андреевич радовался, что сегодня преподнесет его своей Верочке.
Он набрал номер ее телефона и справился о самочувствии.
– Все уже хорошо! – успокоила жена.
– Вот и отлично! Я скоро освобождаюсь и заеду. Ты же помнишь, что у нас сегодня Большой?
– Да-да…
Они посетили авангардного «Евгения Онегина», которого уже на двадцатой минуте освистали за использование в ткани сюжета настоящей марихуаны. Сидящий в президентской ложе человек, махнув рукой, закрыл сие непотребное действо, и зрители покинули зал.
– К Итальянычу? – предложил Иратов.
– А давай!
Через мгновение Арсений Андреевич услышал за спиной сказанное с английским акцентом имя – Верушка! Он обернулся и увидел в толпе человека со снежным ежиком на голове и с полным отсутствием бровей и ресниц. Он? Хотя сегодня на удивление много фриков.
Рядом с их домом находился маленький итальянский ресторанчик, владельцем которого был пожилой неаполитанец, перевезший в Москву своих детей и внуков для работы в семейном бизнесе.
Иратов и Верочка любили это веселое место, которое было островком солнечной Италии в непогожей России. Алессандро Итальянович, как называли между собой Иратов и Верочка хозяина, делал самую вкусную пасту в городе, причем у него всегда имелась батарга, вяленая икра тунца, которую он подавал лишь самым постоянным посетителям. Отличная подборка тосканских вин, домашний уют, слаженная работа семьи делали ресторан любимым местом отдыха для знатоков с Остоженки – Золотой мили Москвы. В конце ресторанного вечера хозяин брал гитару и несильным, но проникновенным тенором пел старинные неаполитанские баллады. На третьей песне даже случайные посетители подпевали репертуару, особенно грустной «Наполи» вторили.
Здесь, за самым уютным столиком, и провели вечер Арсений Андреевич с Верочкой.
Господи, в который раз наслаждался Иратов. Какой красоты эта женщина! Сегодня в нежно-серых тонах, с подобранными волосами, открывающими изящные уши, с неброскими бриллиантовыми гвоздиками в мочках, с запахом чего-то неуловимого, но прекрасного, Верочка казалась Иратову самой большой драгоценностью Вселенной, которой владел он. Конечно, здесь без чувства гордости никак нельзя было обойтись!.. В то же самое время Верочка смотрела на мужа и находила его после десятилетия совместного проживания самым красивым мужчиной на планете. Черные глаза Иратова восхищали ее глубиной пропасти, в которую она когда-то упала, в которой пропала навсегда, его длинные густые волосы черным занавесом спадали к плечам и блестели, как ночное небо, большие темные губы под крупным носом и белая прядь – сочетание, приводящее к глобальному риску для непорочности и твердой святости. Демон-искуситель!
Арсений Андреевич заказал бутылку легкого красного вина и ужин для себя и жены. Под небольшие глоточки тосканского «Каберне» они вели тихий разговор.
– Я хочу на Искью, – призналась Верочка. – Помнишь, как мы там провели несколько дней?
– Десять лет назад!.. Мы были всего две недели знакомы…
– Ты привез меня туда на яхте под ослепительным белым парусом. Забыла, как она называется…
– «Элеонора», – напомнил Иратов.
– Все время хотела тебя спросить: кто такая Элеонора?
Арсений Андреевич улыбнулся:
– Ты забыла, я рассказывал тебе. Так принято – называть яхты женскими именами. Давняя традиция… А «Элеонора» так была названа предыдущим хозяином. Вот и все. Может, бабушку его так звали.
– А ураганы – все мужчины…
– Потому что мужчины – разрушители ими же самими созданного… А на Искье зимой делать нечего. Пустынный тоскливый остров.
Он съел пасту с трюфелями, а она равиоли с персиками.
Десерт подал сам хозяин, прибавив к нему старую граппу в двух тонких высоких рюмках.
Иратов достал из кармана пиджака бархатную коробочку и поставил ее перед Верочкой.
– Что это? – удивленно спросила она, как будто не было в ее жизни еще подарка.
Такая реакция была по нраву Арсению Андреевичу, ублажала его расточительство и широту души.
– Открой.
– А что там? – глаза Верочки улыбались, а милые черты лица выражали непреходящее удивление.
– Открой!
– А вдруг там скорпион? Он ужалит меня, и я умру!
– Нет-нет, – подыгрывал Иратов. – Там нет скорпиона…
– Обещаешь?
Иратов кивнул.
– Ну давай! – поторопил.
Она открыла.
Мужчины делают щедрые подарки только тем женщинам, которые умеют их щедро принимать. Вот и Верочка, открыв коробочку и увидев большой сапфир, отражающий свет свечи, наполнивший ресторан синим, будто бы дара речи лишилась, закраснелась, переводила взгляд с камня на мужа и обратно, ее глаза наполнились восторгом, и вместе с этим весь облик женщины показывал дарителю, что не за ценность подарка в ее животе разгорелся огонь счастья, а из-за того, что ценят ее, Верочку, и любят, наверное, так же сильно, как родную душу только можно любить! И она ответила, опустив глаза:
– Я тоже люблю тебя.
Он взял жену за руку и стал нежно перебирать пальцы.
– Камень прекрасен!
– Прекрасное к прекрасному…
Она прижалась щекой к его ладони, продолжая смотреть в черную непроглядную тьму глаз Иратова.
А потом они вернулись домой, и Иратов поведал ей о случившемся, о потере им своих детородных органов при наистраннейших обстоятельствах.
Сначала Верочка посчитала повествование за не слишком удачную шутку. Она не любила юмора ниже пояса, Иратов это знал и почти никогда не использовал его. Что на него нашло? Перепил граппы?.. Но Арсений Андреевич всем своим видом показывал, что шутке нет места в его признании, все горькая правда, но есть надежда на восстановление прежнего состояния оперативным путем.
– Достаточно! – неожиданно резко попросила Верочка. – Мне не нравится. Противно!
Тяжело вздохнув, Иратов отправился в ванную и переоделся в халат на голое тело. Вернувшись в комнату, он некоторое время стоял истуканом, а потом одним движением распахнул полы халата и так стоял – высокий и одновременно кряжистый, с мощными ногами, объёмной грудной клеткой и светлой кожей.
Верочка смотрела на низ живота мужа так долго, словно осознания картинки не происходило вовсе, а потом констатировала:
– Иратов, у тебя нет хуя!
– Мне не нравится, когда женщины матерятся, – поморщился Арсений Андреевич.
– А мне не нравится, что у тебя его нет! Он пропал! – она нервно засмеялась.
– Ты думаешь, мне нравится? Я же говорил, что все можно поправить с помощью хирургии.
– Тогда это будет не твой… – Она сдержалась. – Не твой это будет!.. Но как все это могло произойти?
– Сам бы хотел знать ответ на этот вопрос, – развел руками Иратов, а потом запахнул халат, перевязав его накрепко поясом. – Но у меня его нет! И ответа тоже!
– Это ужасно!!!
– Ну а если бы я был на войне и получил такое же увечье?
– Ты не на войне! – она была исключительно шокирована и наполнена несвойственной ей злостью. – Ты потерял… потерял его в собственной постели!
Иратов и сам теперь разозлился, потому ответил ей жестко:
– Не нравится, не можешь принять меня таким – отправляйся вон!
– Ты выгоняешь меня при таких обстоятельствах? – растерялась Верочка.
– Я рассчитывал на поддержку! Я не готов к твоим обвинением, поэтому уходи! Немедленно!
Он зашел в кабинет и демонстративно хлопнул дверью.
Поднимаясь на свой этаж, Верочка терла руками лицо, будто стирая с него наваждение, галлюцинацию. Уже в квартире женщина выпила залпом два бокала красного вина и, упав в кресло, почти час тряслась в нервном припадке.
«Это инопланетяне! – судорожно думала она. – На Земле таких технологий мгновенной кастрации – без шрамов и неизменности гормонального фона – просто не существует! Или это какие-то бактерии?..»
Когда-то, давным-давно, в другой жизни, лет в двадцать, в своем родном городе Самаре Верочка трудилась фельдшером на скорой помощи и повидала за два года работы немало. Видела кровавое месиво в паху мужика, которому выстрелили мощной петардой в живот, сопровождала однажды трансгендера, у которого случился аппендицит. Там хоть что-то похожее на женские органы существовало… Инопланетяне, уверилась она.
Верочке стало стыдно. Если это инопланетяне, то зачем она с ним так жестоко – с человеком, без которого ей не жить, а жалко существовать!.. Конечно же, не сможет потеря Иратовым пениса кардинально изменить их отношения. Еще Верочка подумала о том, что, вероятно, у нее не будет детей от Иратова. И если она останется с мужем навсегда, то детей не будет никогда. Она выпила еще бокал вина, становясь опьяненно-безразличной.
Он сам к ней поднялся, понимая, что если уж врач-уролог был ошеломлен увиденным, то Верочка наверняка почти убита. Иратов застал жену спящей в кресле, осторожно поднял ее на руки и перенес в спальню. Раздел и укрыл одеялом. Уже уходя, он услышал: «Подожди!», остановился.
– Иди ко мне! – позвала.
Арсений Андреевич скинул халат и лег рядом с женой. Через мгновение он почувствовал ее ищущие пальцы внизу своего живота. Потом пальцы угомонились, и рука принялась гладить его лобок. Иратов успокоился, ему стало приятно, как кастрированному коту, которому тепло, которого чешут.
– Я люблю тебя! – пьяным голосом подтвердила Верочка.
– Спасибо.
Иратов перевернулся и стал целовать голое тело жены. Особенно он любил грудь, ту, которая чуть меньше, затем его полные губы касались ее живота, язык будто щекотал пупок, затем Верочка задышала чувственно и задвигала бедрами.
Отдыхая от односторонних ласк, Иратов вспомнил, как в далеком прошлом калека, лишившийся ног, передвигающийся на доске с подшипниками вместо колес, был остановлен его студенческой компанией вопросом: «Мужик, а как у тебя с этим?»
– Все ништяк! – ответил калека. – Женат, двое детей!
– Иди ты! – удивилась старшекурсница, комсорг МАРХИ Шевцова. – И все работает?
– Знаешь, девочка, – объяснил инвалид, – не обязательно, чтобы все работало. Природа наделила меня сноровистыми пальцами, длинным носом и языком. Пока у меня будет оставаться хоть один палец – я не импотент!
Безногому мужику зааплодировали и подарили две бутылки жигулевского пива. Он принял их, но сказал, что не пьет.
– Тогда отдавай обратно! – потребовала компания.
– Жене отнесу. Она любит!
Вот и я не импотент, подумал Иратов. И не калека!
Верочка спала, он вернулся к себе, выпил коньяка и лег отдыхать в надежде на то, что тот, кто уходит, рано или поздно возвращается…
2
Душевные страдания не покидали меня. Я бы сказал, что долго претерпевал муки от сознания того, что могу поведать миру историю Иратова. Могу, еще как могу! Но… Волновали этические и нравственные вопросы. Имею ли право я? Смогу ли сей акт совершить? Не подло ли такую чужую интимность предъявлять и кто я такой пред большим барским лицом Иратова, аристократа крови и духа?! Уж шипящий! Червь немой!.. Аж дух захватывает, обдает жаром… Но перспектива! Облегчение, когда несешь тяжкий груз чужой души и наконец оставляешь его в воспоминаниях. Соблазн сделать тайну рассказанной. Преданная огласке тайна, как девица, потерявшая невинность, уже не манит, став обыкновенностью, досказанностью… Мне показалось, что вчера, в седьмом часу, когда всемосковский офисный планктон стоял в пробках, окончив трудовой день, я наблюдал персону Иратова в кулинарии на Знаменке. Стоял он возле прилавка – нет, скорее, возвышался над мрамором, этакий аристократ, с седой, длинной, до кадыка, прядью волос, отвалившейся от прически. Прядь демонически прикрывала правый глаз, а левым Иратов пялился на свежеприготовленную, исходящую горячим паром котлету по-киевски. Но где Иратов – и где кулинария!.. Обознался грешным образом. Не он, нет, не он! Цыган какой-то знакомый, кажется, артист, что ли? Но похож… Сам зашел в отдел готовых блюд и попытался купить ту самую котлету, истекающую теплым сливочным маслом. Не хватило семи рублей, зато приобрел две полтавские, по весу больше, помяснее и сытнее, да и картошки жареной грамм двести вышло. Вот она – ясная, простая выгода. Пусть Иратов питается киевскими, денег у него… И опять совестливые нотки зазвучали в сердце моем. Во-первых, всегда считал зависть грехом, а тут еще зависть к мифической котлете – совсем не мой полет. Чувства надо сильные развивать. Пусть зависть, но возведенная в абсолют! Не к материальным ценностям, но к их бесконечному прозрачному влиянию на всех и на все. Завидовать рядом живущему – не просто мучительно фантазировать, как забрать у него красавицу жену, а как ее богатырским наскоком отнять!!! Вот у Иратова его Верушка. Ну, не стопроцентная красавица, по моим меркам, но есть в ней то, что выше всяческой красоты, – некое спокойствие под бледной кожей, тонкий ум так и бьется жилкой на виске, глаза голубые, чистые и прекрасные, – а как она смотрит на Иратова! Глядит как хорошо воспитанная матерью девушка: мой мужчина божествен, я преклоню голову пред его библейским предназначением, но и, сама просветленная, я лишь чуть ниже – чтобы светить ему, пока он по темной дороге бредет к цели, чтобы меня привести…
Полтавские котлеты оказались с душком. Вот ведь гады! А ведь самая дорогая кулинария в Москве. А цыган этот, артист, поди, сляжет на несколько дней от несварения, и займет его место какой-нибудь молоденький соплеменник по имени Бохтало, и будет голосить, стервец, на юбилее: «К нам приехал, к нам приехал Роман Давлетович дорогой!» А Роман Давлетович – что ни на есть самый щедрый из клиентов. Уже лет двадцать за собой табор таскает. В простой день в обычной ресторации осыпает стодолларовыми банкнотами коллектив черноголовых, в день рождения пачками забрасывает, а уж в юбилей камни драгоценные будет дарить, не дай бог. Дядя его, Владлен Губайдуллин, владеет угольными шахтами, а там, где уголь, там и трубки алмазные. Странно как: ведь семья татар, а как цыган привечают – как русские промышленники до революции. Да хотя что русские, что татары – все одно. Так что, возможно, Бохтало с этого юбилея и «Тойоту-Камри» сумеет купить, как истово мечтал. В двадцать два года – и новенький автомобиль! И вот теперь рыженькая Кхмали, двоюродная сестра брата ихнего цыганского барона Баро, возможно, благосклонно даст подержать свою смуглую нежную ручку в его ладони. Ею он нежно гладил гитарную деку, перебирал пальцами струны, ею же станет поглаживать щеки любимой. А глядишь, по весне и поженятся Бохтало с Кхмали, а к тому времени и у самого дяди Романа Давлетовича, Владлена Губайдуллина, юбилей поспеет, а постаревший цыган-артист вновь наестся чего-нибудь и сляжет, прибитый кулинарией или каким другим общественным питанием. И купят тогда молодые коттедж…
Всю ночь было плохо. Рвало котлетами с жареной картошкой. Было много хуже, чем шведу под Полтавой. Съел пять штук лингвального «Имодиума», закрепило так, что неделю носил в себе камни.
На восьмой день произошло освобождение, и я направился на троллейбусе «Б» в Большой театр, куда имел билет в бельэтаж на премьеру авангардной постановки «Евгения Онегина». Добыл я приглашение за ничто – нашел торжественный конверт, торчащий золоченым уголком из почтового ящика соседа. Сосед, свинья-чиновник, в театры и концерты ходить не обучен. Всегда нахожу просроченные билеты возле мусорного ведра.
Бабульки-билетерши не хотели меня пускать, так как я был экипирован не совсем для посещения храма искусств, но аккуратненько, даже с неким лоском. Мой стиль. Зыркнул на бабушек волком – они и сжалились.
– Мода! – уведомил я. – И галстук при мне!
– Пусть проходит! – низким контральто возвестила старшая билетерша. Пела, что ль? – Не в партер же идет…
– Да и пусть! – поддержали остальные.
Поднялся в буфет, занял очередь за бутербродом с красной рыбой, но тяжесть в подбрюшье подсказала не есть рыбу – был уже давеча случай конфуза для организма, хватит. Купил шоколадную конфету и чашку кофе. Расположился за столиком, потеснив пару девиц в бальных платьях, даже боком коснулся парчового платья одной – блондиночки (вторая шатенка), но здесь, вспомнив, что не арендовал бинокль, наскоро съел шоколадного «Мишку», запил крупными глотками кофе и спустился к бабушкам-билетершам. Встретили как родного, снарядили окулярами и подарили программку. Поспешил вернуться в буфет, чтобы еще раз ощутить запах кринолина, смешанный с изысканными духами, а может, и подмигнуть блондинке задорно. Но девушек я не застал и, слегка расстроенный, под первый звонок направился занимать свое законное место, обитое новеньким бархатом, с цифрой «19» на перламутровой табличке.
Парадные люстры горели солнечным светом, оркестр настраивался, особенно духовые старались и гобоисты. Струнные больше ленились, как показалось. И так хорошо мне стало от созерцания бордового занавеса, легкой инструментальной какофонии, от человеческого гургура, что улыбнулся я во весь рот, прикрывая программкой отсутствие правого резца.
Ах, театр! Какой волшебный обман! Но как обманываться рад!
Раскатисто прозвенел второй звонок, и, приникнув к биноклю, я принялся рассматривать публику в партере. Обнаружил приятельниц своих по буфету, помахал блондиночке. А она в кринолине и с веером, обернуться затруднительно – корсет. Ну да бог с ней! Поглядел по сторонам с бельэтажа в партер. Сколько же здесь знаменитостей – модельеры, политики, артисты эстрады, геи, вон, кажется, известный писатель пустил солнечный зайчик лысиной. Праздник так праздник… Здесь я перевел бинокль на ложи, там всегда самые важные и богатые. Вижу спрятавшегося за женой олигарха-промышленника Арнольда Ивановича Тюнина. Его ценит сам президент Отечества. Доверяет важные для державы проекты. А еще я обнаружил в ложе напротив откинувшегося в кресле хищно улыбающегося Майка Тайсона. Да-да, вспомнил, у него в Москве мастер-классы запланированы. Вот уж не подозревал, что татуированный бабуин что-то смыслит в опере… А в правительственной ложе никого, темно. Официальные лица на авангард не ходят, тем более на премьеру… Чуть переведя бинокль, я вдруг столкнулся с лицом Иратова, крупным портретом, и тотчас забыл обо всех знаменитостях, да и «Евгений Онегин» отошел на второй план.
Да как же он!!! Как осмелился пребывать в таком скоплении народа после того, что с ним произошло?! Рядом с лицом Иратова возникло словно из бытия лицо Верушки – прекрасное, окаймленное русыми локонами. Вся покорная и еще раз прекрасная – что же она делает рядом с Иратовым? Ведь произошедшее с ним должно было отвратить столь изысканное существо навечно!.. Я так разволновался, что даже привстал, разглядывая пару, крутя шайбу бинокля, чтобы улучшить в стеклах резкость. Кто-то сзади дернул меня за рубашку и прошипел в спину, что, мол, всем хочется поглазеть по сторонам! А здесь ваша спина! Обернулся – пухленький дядька с коровой-женой, оба с биноклями не напрокат, с шестнадцатикратным увеличением. Я сделал такое страшное лицо, что пухлый мужичок тотчас пролепетал «простите», а его половина протянула мне бинокль:
– Хотите поглядеть?
– Хочу, – ответил я грозно, но, сменив гнев на милость, улыбнулся специально криво, чтобы продемонстрировать отсутствие правого резца.
Взял бинокль и тотчас устремил его на ложу Иратова.
Какой чудесный прибор, подумал я о бинокле, увидев лицо Верушки крупным планом. Великолепной формы уши были слегка оттянуты вниз бриллиантовыми серьгами, а на шее, хотя, конечно, ниже – в ложбинке между грудей лежал большой тяжелый бриллиант чистейшей воды в опушке из россыпи изумрудов. Глаза так и резало сияющими гранями. Молодая женщина обмахивала лицо веером из белых страусовых перьев. Одна пушинка из веера, приклеившись к ее носику, трепетала от теплого дыхания, и созерцание этого наполнило меня восхитительной нежностью.
Какого черта она сейчас с Иратовым! На кой черт он ей нужен! После всего, что случилось! Ведь не понесет она сей крест до конца! Она же Верушка – помните, была такая модель в шестидесятых, невероятно, блистательно красивая женщина, по которой сходили с ума взрослые мужчины, прелестями которой грезили неполовозрелые подростки?! Верушка Иратова – это реинкарнация той Верушки во плоти! А Иратов, приземленный реалист, называет ее просто Верой или Верочкой. Еще какая-нибудь пошлость типа «Верунчик». Нет в нем романтизма и возможности понять, что рядом с ним находится сокровище всех сокровищ, солнце солнц, несбыточная мечта!
Иратов повернулся от Верушки и небрежно шутил с каким-то знакомцем. Тот наигранно смеялся, фальшивая интонация долетала до моего скромного бельэтажа. Пола черного смокинга раскрылась, сверкнув бордовой подкладкой. По-старинному гляделась витая золотая цепь-браслет на широком запястье Иратова, а уж перстень выпирал с безымянного пальца каменьями и прочим дизайном. Когда-то мне удалось рассмотреть перстень поближе, почти вплотную, в троллейбусе «Б». Иратов ехал стоя, держась за поручень, а я сидел почти под его большой, но с нежной кожей рукой и все рассмотрел внимательно. Перстень Иратова многослойный. Не какая-то печатка купеческая с большим камнем, а самый изысканный перстень, виденный мною за свою жизнь. В перстне была выемка, а в ней рыбка в виньетке белого золота, будто плавает, вставки из простых камней, кусочек мрамора и тоненькая линия гранита. Ну и, конечно, сиятельный рубин, будто кровь в стекле бурлит, помещенный сбоку, придающий ювелирному изделию изумительную асимметричность. Я даже тайком пытался сфотографировать чудо ювелирного искусства на телефон, но Иратов инстинктивно руку убрал, взялся ею за трость с эбонитовым набалдашником, другой же ухватился за поручень. И зачем Иратов путешествовал в тот день на троллейбусе, тогда как за ним двигался темный лимузин? Девушек высматривал в общественном транспорте? Глядел, нет ли за лимузином хвоста? Но нет, не глазел по сторонам, соскочил, не оглядываясь, возле Неопалимовского переулка и прошел в магазин изысканных табаков. Мне, чтобы остаться незамеченным, пришлось проехать дальше, хотя остановка та была моей…
Раздался третий звонок, и гости стали рассаживаться по местам. Иратов приобнял Верушку, и они скрылись в тени своей ложи. Люстры сменили свой солнечный свет на лунный, последние ноты какофонии вознеслись к сводам театра, легкие покашливания в зале – и вдруг тишина… Магия безмолвия! Так тихо бывает за мгновение до урагана и в театре… Сверху было хорошо видно, как дирижер взмахнул палочкой, оркестр вступил слаженно, стремительно разлетелся в стороны бордовый с золотом занавес, открывая нам первую картину великой оперы Чайковского.
Конечно, я знал, и реклама о том возвещала, что спектакль авангардный, да и слухи ходили, что все на грани, но то, что вместо усадьбы Лариных я буду наблюдать заброшенную фабрику, стены которой исписаны нецензурными словами, потрясло меня тотчас и наповал, словно Моне Лизе пририсовали фингал под глазом. А тут еще какие-то странные, словно вурдалаки, люди с подвыванием несли помещице, одетой в джинсовый костюм, вместо праздничного снопа пшеницы какую-то огромную охапку пожухлой травы. И до боли знакомая трава. Зверобой? А няня Лариных в рваных легинсах кипятит какое-то месиво в большом чане, помешивая варево деревянным черпаком. Из-за кулис доносятся слова Пушкина, распеваемые женскими джазовыми голосами, – то, видать, Ольга и Татьяна Ларины по смыслу.
– Как я люблю под звуки песен этих мечтами уноситься иногда куда-то, куда-то далеко… – пропела Татьяна.
– Ах, Таня, Таня! Всегда мечтаешь ты. А я так не в тебя – мне весело, когда я пенье слышу, – вторила Ольга.
* * *
Гадость! Определенная гадость! – вскипело во мне. Пусть авангард, пусть я ничего не понимаю в современном, но это же психиатрия! У режиссера шизофрения!
Здесь со сцены потянуло дымком. Это рабочие подожгли букет травы. И таким знакомым был сей дымок, что, казалось, весь зал в слаженном порыве задвигал носами, втягивая голубые клубы дыма от тлеющей травы.
– Марихуана! – зашептали сзади. – Точно марихуана!
– Безобразие! – выдавил дядька за мной, на что жена его, корова, велела супругу заткнуться – мол, бухгалтерской соображалке нечего делать в современной опере, и совсем грубо добавила: «Заткнись, убогий!»
Я настолько был потрясен происходящим на сцене, что и вымолвить бы ничего не смог. Шея словно схватилась бетоном, не вертелась, а кадык провалился чуть ли не до самых легких – думал, задохнусь…
Одна сцена сменяла другую. Ленский, по пояс обнаженный, вел великую теноровую партию глубочайшим басом, а кордебалет изображал хор греческих одалисок с обнаженными грудями, поющих про поля и реки.
– Я люблю тебя! – басил Ленский, артист больших анатомических форм, бодибилдер старой закалки. Да и возраста Ленский был преклонного. – Я люблю тебя-а-а-а!
Вероятно, о травке поют! – решил я. Вот концепт постановки! Вот сюрреалистический гений!
Партер пришел в легкое движение, зашептал – где вопросительно, а где и возмущенно.
– Я люблю тебя!!! – наращивал голосовую мощь Ленский.
Зрители бельэтажа – масса всегда неоднородная, редко знакомая с классическими произведениями искусства. А потому и сидели деятели пищевой, автомобилестроительной и других отраслей промышленности тихо, как будто все так и должно быть у Пушкина вместе с Чайковским. А корова сзади процедила мужу, что в цивилизованном мире анаша уже давно признана оздоровительной.
– У Галки Шмониной рак запущенный! Ей врач посоветовал по секрету анашу!
Единственная часть зала, галерка, великая оперная галерка, понимавшая, что на сцене Большого происходит чистой воды вакханалия, оргия распутства, вдруг в слаженном порыве засвистела, будто на футбольном матче, заулюлюкала и запустила в партер скомканными программками.
– Долой! – разнеслось сверху. – Позо-о-ор!!!
– Режиссер Лисистратов – пидор! – пробасил кто-то сверху так громко, что заглушил начинающийся скандал, а заодно и происходящее на сцене. Вероятно, молодой бас из консерватории. – Пи-и-идор! – пропел талант.
Партер хоть и тяжело раскачивался, но согласился с галеркой по-своему – стал захлопывать происходящее на сцене. Самим артистам, похоже, было наплевать на мнение зрителя, они продолжали исполнять режиссерскую новацию с еще большим рвением. Поди, травка сказалась, как и предупреждение постановщика Лисистратова (псевдоним, видимо) о том, что именно так и случится. На то и расчет был. На скандал. Нынче нет скандала – нет успеха. Сегодня в Большом скандал случился отменный, долго про него будут помнить.
И вдруг в правительственной ложе зажегся свет, все в мгновение оборотились к нему и увидели вытянутую из ложи руку, а затем часть бледного лица.
– Занавес, пожалуйста! – тихо проговорил некто и пальчиками так – мол, давайте-давайте.
Дирижер взмахнул руками, останавливая оркестр, действие на сцене закончилось, музыканты поднялись со своих мест и зааплодировали правительственной ложе. Артисты поддержали музыкантов и тоже захлопали мудрой власти. Здесь, конечно, и зал не удержался. Пожалуй, таких оваций театр не слышал лет этак двадцать. Занавес пошел на закрытие, словно два скоростных поезда понеслись навстречу. Свет в ложе погас, а в зрительном зале вспыхнул так, что массы зажмурились.
Из-за кулисы выбежал человек кавказской национальности и возвестил на чистом русском, что спектакль отменяется по техническим причинам. Билеты можно сдавать в кассу до 31 декабря.
Надышавшись марихуаны, партер двинулся к выходу. Недовольных почти не было, большинство смеялись, жестикулировали и толкались в дверях.
Бельэтаж также потянулся на выход, подхватив меня, словно воды реки.
– Молодой человек! – услышал в спину. – Молодой человек, биноклик верните!
– Ах да, – спохватился я, обернулся на голос и, сняв с шеи окуляры, протянул их хозяйке.
– А кто это был? – поинтересовалась тетка. – Там, на балконе?
Пожав плечами, я ответил, что сам не знаю, мол, иностранец я.
Тетка обиделась, обнаружив в моем лице признаки титульной нации, а муж ее все приговаривал: «Рита, не спеши! Я еще водителю не дозвонился!»
Лишь один человек не уходил из ложи – Майк Тайсон. Чамп не понимал, что происходит, почему все так молниеносно закончилось, у него еще оставалось три бутылки шампанского и грамм триста черной икры. Подкурившийся от сцены, он совсем не хотел покидать приятное место, набрал номер менеджера и в телефон отдал распоряжение, чтобы сюда доставили черных девушек.
Спустившись в фойе, я увидел перед собой Иратова и Верушку. Иратов склонился к ней и что-то шептал, она немного краснела, а потом Иратов незаметно лизнул ее ушко…
Нет! Нет!!!
Мое сердце разрывалось от гнева, щеки горели! Непристойное поведение – кричала во мне душа! Недостойно!!!
Вместо пощечины взамен такой распущенности Верушка рассмеялась. Многие заметили красоту этой улыбки, окаймленной влажными губами, и тонкий язычок, который слегка трогал идеальные зубы. Какая забавная привычка! Она запустила пальцы в длинную, с волнистыми локонами шевелюру Иратова и поцеловала его в плечо.
Боль. Сильнейшая нравственно-душевная боль свела судорогой мышцы всего тела. Дух безмолвно кричал, вторя душе…
Неожиданно Иратов обернулся, и мы столкнулись глазами. Просто незнакомые люди. Но смотрели чуть дольше обычного, а оттого Иратов пробурчал вежливое:
– Здрасьте!..
И я в ответ:
– Здрасьте!
Иратов отвернулся, подумал, что физиономия как будто знакомая, и нежно за талию подтолкнул Верушку к гардеробу.
Старик Федорыч, служивший верой и правдой театру с шестидесятых, расторопно вынес манто из горностая. Иратов, перехватив мех, накинул его на плечи спутницы, после чего получил от Федорыча тяжелое «шаляпинское» пальто с бобровым воротником… Сунул гардеробщику крупную купюру.
У меня есть плащ с теплой подстежкой. Универсальная вещь. Я хожу в нем и весной, и осенью, а подстежку прикрепляю к зиме. Не стареет вещь и защищает от непогоды надежно. Югославский плащ.
Увлеченный людским потоком, я попал на улицу и с грустью смотрел, как Иратов открывает дверь лимузина и Верушка исчезает в салоне с голубой подсветкой. Сам Иратов ненадолго задержался, оглянулся, будто высматривая кого-то в толпе. Долго смотрел… Его черные с седыми прядями волосы развевались на ветру… А потом лимузин укатил…
На ужин я съел пельмени от Палыча и, сев в кресло напротив телевизора, набрал номер телефона. Длинные, бесконечные гудки были мне ответом…
Давным-давно меня предупредили, что когда все плохое закончится, то я дозвонюсь и на другом конце линии мне ответят… Я очень волновался, что номер сейчас недействителен – выдан был давно, когда еще не существовало мобильных, всяческих кодов, префиксов, и вероятность того, что мне никогда не ответят, пугала. Я перепробовал все варианты, все возможные комбинации. Номера были всегда отключены, и только единственная из всех комбинаций бесконечно гудела в ухо, мучая меня ледяной безответностью…
В страхе я написал Иратову письмо, в котором рассказал, что его сын от Воронцовой умер почти двадцать лет назад, что несчастье за непризнание своей крови уже пришло к нему. В ответ, как и двадцать лет назад, я получил листок на Главпочтамт, до востребования, на котором прочитал: «Пошел на хер!»
В телевизионных новостях уже вовсю рассказывали о скандале в Большом, предъявили даже интервью с режиссером Эдмондом Лисистратовым, в котором ваятель, сияя улыбкой нашкодившего юнца, делился своими взглядами на произошедшее. Молодое чудовище рассказывало о том, что и саму оперу Чайковского долго не воспринимали. Не воспринимают и его концепцию, транспарентность старого в новое, так как искусство в России почти всегда отсталое, закоснелая страна, принимающая лишь тухлый академизм. Далее Лисистратов возвестил о том, что, видимо, сейчас не время работать на родине и он примет предложения западных театров, коих с десяток. Напоследок чудовище Лисистратов поблагодарил руководство Большого театра за предоставленную ему возможность эксперимента и зачем-то проинформировал страну о наличии у него шведского паспорта. В пандан к интервью репортер осветил арест молодого человека атлетического сложения, стриженного наголо, с тоненькой китайской косичкой до плеч, которому предъявили за нецензурную брань в общественном месте.
Так вот он – бас, который пропел с галерки «пидоры»! Талантище и колоритнейшее существо!
Студент консерватории стоял в наручниках лицом на камеру, и взгляд его был чист и светел.
– Пидоры! – подтвердил студент в прямой эфир, но нецензурное слово успели запикать. Но смысл, конечно, все поняли.
Я еще раз набрал такой важный для меня номер и слушал гудки как посланную с небес чудесную музыку. Надежда, как можешь успокоить ты напрасно!
Я уже не так злился на Иратова, лишь светлый образ Верушки будоражил мое воображение. Нет, она не нравилась мне в привычном смысле этого слова, у меня отсутствовало физическое влечение к ней, и, конечно, любовного чувства я не испытывал. Я просто боготворил сие отдельное создание Всевышнего, как можно боготворить истинные произведения искусства и восторгаться гениальными лаконичными математическими формулами, солнцем, в конце концов.
Я лег спать рано, отчаянно решившись открыть историю Иратова, к всеобщему интересу, где-то через месяц… Вот проснусь и расскажу…
3
Он чувствовал себя, но не знал, кто он. Ему было очень жарко, он пытался шевелиться, ползти, чтобы отыскать более прохладное место. Но жарко было во всей Вселенной. Он почти ничего не видел – так, мутные очертания чего-то, словно пленочкой глаза были закрыты, как у птенчика. Крошечное личико бледно-розового окраса выражало нестерпимое страдание, а на лобике выступили крошечные капли пота.
Кто я? – просыпалось сознание. Но сонное и перегретое, оно никак не отзывалось на собственный вопрос. Сознание было способно лишь шевелить его крохотные ручки и ножки. Существо рефлексивно заплакало – так новорожденный сообщает матери, что ему некомфортно, что хочется есть: мол, поторопись предоставить наполненную молоком грудь.
Но матери у него не было… У него никого не было! Оно мучилось физически и морально, так как не могло определиться, где оно, а главное – кто оно и зачем оно.
В итоге, угнетаемое жарой, существо потеряло сознание, не будучи способным цепляться за реальность, и его крошечное тельце расслабилось…
Девочка по имени Алиса, лет тринадцати, учащаяся школы номер 1 города Судогды, что во Владимирской области, возвращалась после уроков домой. Ей надо было пешком дойти до окраины городка, а потом еще десять километров до деревни Костино, в которой она жила вместе с бабушкой и коровой Глашкой в простой деревянной избе – две комнаты с большой печкой и сени. Сегодня Алисе повезло, и по пути она догнала еле плетущуюся лошадь, запряженную в сани, с пьяным рыжим пастухом Шуркой, который спал открыв рот, показывая небу отсутствие половины зубов. Девочка запрыгнула в сани, вытащила из рук спящего поводья и, усевшись поудобнее в пахучее сено, крикнула: «Ну, пошла!» Казалось, что кобыла была так же, как и ее владелец, пьяна, потому что двигалась боком, тяжело ступая по выпавшему снегу. Но это было не так, просто животина давно состарилась, всю свою жизнь скудно питалась, работала много, а радости видала мало. Она, конечно, попыталась после окрика девочки перейти на рысь, но правая передняя нога, пораженная артритом, не поспела за желанием, поехала копытом в сторону, и лошадь чуть не упала.
– У-у! – сердито проговорила Алиса. – Старая кляча!
Лошадь в ответ попыталась обернуться, но узда не позволила ей это сделать, железные мундштуки щемили язык и давили на стершиеся зубы. Она смогла лишь выпустить клубы пара на мороз и двигаться дальше в инвалидном темпе.
Примерно через километр пути проснулся рыжий Шурка. С минуту он наводил на мир резкость своих испитых глаз, а когда ему это удалось, обнаружил, что в санях не один.
– Алиска! – обрадовался возничий, присел и, дыхнув перегаром, обнял девочку, пытаясь через тулуп нащупать ее грудь.
– А ну, отвали! – грозно скомандовала девочка и дала Шурке вожжой по физиономии. К конопатому подбородку из носу потекла кровавая юшка.
– Злая ты, Алиска! – осклабился в беззубой улыбке рыжий, будто и не почувствовал удара вовсе. – Кто тебя еще обымать станет?
– Есть кому! Полшколы норовит пощупать да полапать.
– Да-а, – мечтательно согласился Шурка. – Вот и мать у тебя была такая же, грудастая не по годам. В параллельном классе мы учились с ней. Уже в седьмом у нее титьки были поболе, чем у завуча! А уж у той буфера – как два круглых аквариума… Так твоя мать давала себя лапать. А что, говорила, с меня не убудет!
– И я в седьмом классе, – кивнула девочка. – Но у нас даже в десятом все девки д-два-с.
– И мы так говорили в наше время – д-два-с. Доска два соска. – Он хлюпнул носом, но кровь уже остановилась, подморозилась холодным днем. – А чего, Алиска, пойдешь за меня замуж?
– Замуж? – сморщилась девочка. – Мне тринадцать лет!
– Я годик подожду. – Рыжий опять потянулся с объятиями.
– Да отвали ты! – грозно крикнула Алиска, так что лошадь шарахнулась в сторону и чуть не опрокинула сани. – По-настоящему врежу!
– Злая! – покачал головой Шурка. – А ну, давай с моих саней!
– Щас…
– Брысь, я сказал, а то под зад коленом ковырну!
– Никуда я не брысь! Сани не твои!
– Как не мои? – вылупил глаза возничий. – Чьи же?
– Мы за выпас Глашки платим?
– Платите летом. А при чем…
– Вот сено везешь кому?
– Вам в деревню…
– Мы пятью домами по пятьсот рублей платим за сено?
– Платите, – подтвердил Шурка, чувствуя, что ему тотчас необходимо выпить.
– Значит, сейчас, пока ты везешь наше сено для наших коров, сани и лошадь наши. Все оплачено. Это как в городе в такси. Арендовал – и машина вместе с шофером на время поездки твоя! – Девочка хлестнула вожжами по худосочному крупу кобылы. – Ну, пошла! Ишь ты, «под зад коленом»! Смотри, как бы я тебя башкой в сугроб не опрокинула!
У Шурки в голове замкнуло. Он не знал такого понятия, как логика, но чувствовал, что его разводит мелкая Алиска с не по годам развитыми женскими формами. Не найдясь, что ответить, возничий решил обидеться, полез рукой под сено, выудил бутыль самогона, а также тряпицу, в которой были завернуты чуток сала, хлеба черного четвертушка и головка репчатого лука. Мощно глотнув из горла мутного болота, мужик крякнул, затем, протяжно рыгнув, извлек из недр своего тулупа нож и порезал закуску на кусочки. Теплое от преющего сена сало, запах лука, аромат краюхи «Бородинского» насторожили острый носик Алиски, она задвигала ноздрями, затем невольно обернулась.
Ухватив пятерней бутерброд, рыжий мужик откусывал от него помногу, жевал и хитро лыбился.
– Чего скалишься? – Девочке очень хотелось есть, но, гордая, она сама попросить не могла, а потому злилась, глотая бесполезную слюну. Ехать до деревни было еще достаточно, до вечера предстояло покормить и подоить корову и только после всех домашних дел усесться с бабушкой за стол ужинать.
– Самогон будешь? – предложил Шурка.
– Мне тринадцать, рыжий! Али забыл, пьянь подзаборная?
– А ты еще скажи, что не пьешь самогон!
– Только на праздник, и не первач твой сивушный. Поди, ослепну еще.
– А закусь тока тем, кто пьет! Мамка твоя не брезговала и первачом.
– Вот и сгинула по пьяни! – огрызнулась Алиска.
Смеркалось. Солнце с фиолетовым отливом стремилось упасть за лес. Алиска встала в санях, держась за поводья, и пыталась высмотреть свет в окнах деревенских изб.
– Холодает, – оповестил рыжий и сделал еще один глоток из бутыли. Вновь запахло закуской.
– Ладно, плесни, – согласилась Алиска.
– Че? – не понял Шурка.
– Стакашка есть?
– Найдется. – Он выудил из-под сена граненый стакан, дунул в него, очищая от ошметков соломы, и заулыбался.
– Тока на мизинчик, – предупредила девочка.
– На мизинчик так на мизинчик.
Прежде чем взять стакан, Алиска стянула зубами одну варежку и подышала на руку, согревая, лишь потом приняла граненую посуду, выдохнула и опрокинула самогон в рот. Поморщившись, выдавила:
– Как вы такую дрянь пьете?!
Шурка протянул кусочек «Бородинского» с квадратиком сала и кольцами лука сверху:
– Заешь, заешь.
Алиска бутерброд проглотила, как лягушка комара, и заулыбалась рыжему.
– Ща согреешься! – ободрил Шурка и закурил папиросу. – Чуешь тепло по телу?
– Ага. – Девочку слегка разморило, и перспектива грустного вечера отошла куда-то в кладовку ненужных событий.
– Дернешь? – предложил он подкуренную папиросу, оторвав зубами часть бумажного фильтра.
– Никогда не курила и не буду! – заявила Алиска. – Чтобы у меня так погано пахло изо рта, как у тебя?
– И правильно. Гнилая привычка, – согласился рыжий, отщелкнул пальцами недокуренную папиросу, но так неловко, что угодил непогашенным окурком, самым угольком, в лошадиный круп. От внезапного ожога старая кобыла хотела взвиться на дыбы, дернулась отчаянно, но смогла оторваться от земли лишь на несколько сантиметров и рухнула на дорогу всей тяжестью, перевернув при этом сани вместе с седоками. Рыжий и Алиска полетели в разные стороны.
Пока Алиска откапывалась из сугроба, разъяренный возничий подскочил к лежащей лошади и заехал ей валенком в раздутое от больных кишок брюхо. Животное лишь выдохнуло паром и закосило глазом из-под редких белых ресниц.
– У-у, собака! – выругался Шурка и еще раз приложился ногой.
– Она не собака! – возразила Алиска. Девочка выбралась из снега и, потирая ушибленный бок, повторила: – Не собака! Она кобыла.
Еще Алиска вдруг вспомнила, что в начале учебного года учила стих Маяковского о том, как упала лошадь, а все прохожие ржали в голос, а у лошади из глаз слезы выкатывались… Почему-то кобылу из стиха было очень жаль, Алиска, заучивая строки, сама украдкой поплакала. А эта развалившаяся на дороге кляча сочувствия не вызывала, наоборот, лишь раздражение одно. Алиска к своим тринадцати уже приметила, что старость раздражает, не вызывая сочувствия. Вот и бабка раздражает изо дня в день! У Маяковского, должно быть, про молодую лошадь стих написан.
– Давай помогай! – крикнул Шурка.
Вдвоем они распрягли кобылу, потом вместе тянули сбрую, вытягивая скотине шею, пока та наконец не приподнялась сперва на колени, а затем, напрягшись, не встала на все четыре копыта. Вдвоем они перевернули сани на полозья, а потом вновь впрягли лошадь в хомут и оглобли. Запыхались, таская охапками разбросанное сено обратно в сани.
– Ах, мать твою! – заорал рыжий.
– Чего там? – обернулась Алиска. – Волки?
– Да бутыль кокнулась, едри ее в качель! Поди, на две литрухи разорился! – причитал возничий.
– А ты снега пожуй, в нем самогонка задержалась.
– Умная же ты, Алиска! – Рыжий упал на четвереньки и, обнаружив по запаху первач, собрал пригоршнями мокрый снег в шапку. – А стакашка целый! – возвестил.
Попутчики уселись в сани, хором скомандовали кобыле «Пошла!» и дальше продолжили путь молча. Шурка растапливал порцию снега в стакане и сразу же выпивал. Крепости, конечно, убыло, но количество опьянило рыжего, он замычал какую-то песню, а затем вновь заснул с открытым беззубым ртом. Алиска в санях скользила по январскому снегу и продумывала перспективы насчет будущего мужа – откуда тот возьмется, если даже во Владимире нормальных мужиков нет. Алкаши и неудачники. Чего уж говорить про родную деревню! Три старухи одинокие, один лежачий дед Выхин, за которым старухи приглядывают, они с бабкой Ксенией да Шурка рыжий. Хотя он не из их деревни, а из Степачево, где магазин. Там людей поболее, но ни парней, ни мужиков нет совсем. Старшеклассников в школе, тех, кто не ушел в ПТУ после девятого, осталось с десяток прыщавых ботаников, наглых от отсутствия конкуренции до беспредела. Руки распускают, чуть зазеваешься – под юбку! Но Алиска в обиду себя не дает, силой не обижена и не раз уже навешивала фонарей приставалам. Но они как мухи – сколько их ни убивай, все равно лезут на сладкое!
Алиска разглядела прямоугольники электрического света – значит, деревня близко. Она попыталась растолкать Шурку, но не получилось. Лошадь, почуяв близость человеческого жилья, пошла быстрее, вскоре девочка спрыгнула в снег и заторопилась по протоптанной дорожке к своей избе. Она уже не думала о рыжем, о том, что человек может замерзнуть холодной ночью насмерть, это было делом самого взрослого мужика, да и кобыла всегда довезет его до дома в Степачево, туда, где тепло и хоть сена клок имеется.
– И что так долго? – с недовольством в голосе поинтересовалась бабушка. Если точнее, она не бабушкой была Алиске, а прабабушкой. Алискину бабушку уже лет восемь как задрали бродячие собаки или волки. Так же зимой припозднилась, шла из Судогды почти ночью, ну и попала… к друзьям человеческим. – Где была? – спросила баба Ксения. Она хоть и в прабабках числилась, но лет ей всего-то без году шестьдесят стукнуло. Она в пятнадцать лет родила Алискину бабку, Пелагею, пошедшую на корм диким животным, которая много до того, в пятнадцать же годов от роду, также принесла миру дочь – мать Алиски, Ирку Капронову, а последняя так и вовсе в четырнадцать разрешилась. И все девки!
В ответ на бабкины вопросы Алиска, как обычно, отвечала что-то неопределенное, не имея желания продолжать один и тот же постылый разговор про школу и будущее, быстро переоделась в домашнее и, взяв пустое ведро, отправилась доить корову Глашку.
Вернулась через полчаса с надоем и, не ставя ведро, поглядевшись в зеркало, заметила на лбу целую россыпь назревающих прыщиков.
– Чего так мало? – Неслышно подошедшая бабка заглянула в ведро. – Литров восемь всего? Али того меньше!..
– Че подкрадываешься, как привидение! – рассердилась Алиска и на Ксению, и на юношеские прыщи. – Корми Глашку лучше, она и доиться прилежнее станет!
– Не учи ученого – съешь говна печеного! – отсекла бабка. Она забрала из руки правнучки ведро и через марлю процедила молоко в трехлитровые банки. Получилось три неполные. – Творога выйдет полкило и по пол-литра соседям. Денег – на хлеб да на пачку рожков, если завезут.
– Сядешь на диету, – съязвила Алиска. – Ща модно.
– А ты в погреб отправишься! – не уступала бабка.
– С какого перепугу?
– Чтоб хамничать охоты не было! И жрать вечером не дам!
– А я к участковому, Дыскину. Не имеешь права! Оформила опеку – обязана кормить. Не то по закону ответишь.
От такой неслыханной наглости бабка Ксения чуть банку с молоком не уронила, но капитал все же удержала и ответила едко:
– Вот и мать твоя такая же росла, дерзкая да до мужиков охочая. А где мужики, там враки и алкоголизм. Сгинешь, как и мамаша твоя!
– Так она внучка тебе! – не отступала девочка. – Ты ее такой сама воспитала, или гены у тебя порченые?
Бабка Ксения не знала, что такое гены, на матерное не похоже, да и в словах Алиски пряталась своя правда. Старуха, сменив гнев на милость, позвала внучку ужинать:
– Поживее! Тебе еще посуду мыть да уроки учить.
– А че там? – поинтересовалась Алиска, глядя на горшок, который бабка Ксения вытаскивала из печи ухватом. Она взяла с подоконника подставку и ловко сунула ее под дно раскаленного горшка.
– Картоху яйцами залила, – сообщила Ксения. – Поди достань из холодильника огурцы соленые, а с полки масло подсолнечное. Ежели осталось…
Они поужинали, Алиска отправилась в комнату поглядеть телевизор – если, конечно, повезет и сигнал попадет к ним в антенну. Черно-белый «Рубин-205» семидесятых годов пережил почти все телевизионные новшества, старательно вещал, в основном первым каналом, но, бывало, тормозил, теряя картинку, и его приходилось бить по боку, чтобы встряхнуть лампы. Иногда показывал и второй канал, но, чтобы убедиться в его существовании, надо было взять плоскогубцы и провернуть два раза вправо металлический штифт, к которому раньше крепилась ручка переключателя, утерянная еще до рождения Алиски. Делать это было влом… Девочка даже не думала готовить уроки на завтра, валялась на кровати, глядя какое-то шоу, где разряженные, как новогодние елки, бабы и мужики кривлялись и гримасничали, распевая песни. Девочка же ждала продолжения жизненного сериала: там главной была точно такая же пацанка, как и она, только чуток старше, которая приехала в Москву за любовью, а ей рога пообломали, использовали и выкинули на улицу. Алиска точно знала, что героиня превратится в принцессу и в конце сериала выйдет замуж – пусть не за принца, но хотя бы за честного мента… Но сегодня вместо сериала пустили выступления разных политиков, которые собачились на всю страну, плюясь и взахлеб оскорбляя друг друга искрометно. Политику Алиска не терпела, а потому решила ложиться спать. В ее комнате было холодно, хотелось заснуть на печке, но там было место бабки, и девочка обратилась к ней с елеем в голосе, сообщая, что простыла, наверное, в комнате зябко, придется школу пропускать.
– Иди спать на печь! – велела Ксения. – Я тебе щас малины сухой заварю! И не забудь теплым платком обернуться, а то свою бабочку застудишь. А мне еще праправнуков охота увидеть.
– А ты что ж, бабуль?
– В горнице лягу, рядом, на лавку под печкой тюфяк брошу.
– Спасибо тебе, бабулечка!
– Ишь, лиса Алиса!
Алиска запрыгнула на печь, вытянулась во весь рост и всем телом впитывала тепло горячей кладки, блаженно улыбаясь от удовольствия. Когда Ксения принесла правнучке заваренную малину, девочка уже спала. Первую половину ночи ей снились обычные детские девчачьи сны. Много разных сладостей, фруктов, названий которых она даже не знала, большие, в рост человека, говорящие куклы и какой-то светловолосый мальчик, чудо какой красивый!.. Во второй половине, ближе к утру, карамельные сны сменились на ужасы. Алиске приснились крысы с желтыми зубами. Они оглашенно пищали, готовясь напасть на девочку, голодные и мерзкие, желтозубые, хуже волков… Она очнулась ранним утром от невыносимого писка, обрадовалась, что ей все это только приснилось, отыскала спички и зажгла свечу, окончательно прогоняя сон. У девочки не было часов, ходики с мертвой кукушкой с печи не видны, но Алиска чувствовала время точно, почти до секунды, в мозжечке тикало: до подъема оставалось еще пятнадцать минут. Печь почти остыла, и она передвинулась к стене, где было немного теплее. Прижавшись щекой к теплому кирпичу, Алиска опять услышала отчаянный писк, и не во сне, а наяву. От неожиданности ее шарахнуло от стены, и писк с отчаянных нот поворотился к жалобным.
«Крыса! – поняла Алиска. – Вот зараза! Значит, не снилось! Подо мной она!»
Девочка крыс не боялась, как и любой другой живности, испытывала лишь неприязнь к серым грызунам.
– Гадина! – Она принялась искать обнаглевшее животное в складках ватного одеяла, затем в ногах, где валялись пересушенные веники для бани. – Куда ж ты сховалась? – Алиска услыхала возню в изголовье, мгновенно перевернулась и, прыгнув кошкой, засунула руки под подушки, сноровисто обыскивая войлочную подстилку. Наконец ей удалось захватить зверя правой рукой, и, вытаскивая его на свет божий, девочка уже представляла, как швырнет мерзкую тварь о стену с потрескавшейся штукатуркой. Она было уже замахнулась, но крыса отчаянно запищала, словно чувствовала, что ее убивают.
«Крысеныш, – решила Алиска, слегка разжав пальцы. – Так и есть, – убедилась, увидев розовую кожу. – Новорожденный!..» Девочка раздумала убивать зверька, открыла ладонь – и на долгую минуту лишилась дара речи. В ее руке, подергивая ручками и ножками, лежал голый человечек со сморщенным личиком, едва больше указательного пальца Алиски. Он был мужеского роду и плакал бисерными слезами.
– Живой! – проговорила девочка и охнула, возбужденная доселе невиданным чудом природы: – Гном! Я гнома поймала! – В душе рождалось что-то вроде нежданного праздника – гномик, гномик, собственный! – а потом решила, что это не простой гномик, а самый что ни на есть настоящий смурфик из иностранного мультфильма, который она не видела, но многие девчонки из класса смотрели во Владимире и потом восторженно рассказывали о маленьких смешных человечках. – Так ты смурфик? – шепотом спросила человечка девочка. Найденыш перестал плакать и теперь смотрел крохотными глазенками на Алискино лицо. – Какой ты хорошенький!
От нескончаемого шепота проснулась бабка Ксения и, как всегда неожиданно, сунула голову между печными занавесками, отделяющими лежанку от горницы, и, разглядев в первых лучах солнца правнучку, стоящую на коленях и держащую на ладони нечто шевелящееся, громко вскричала:
– Это что такое?!
Алиска от неожиданности вздрогнула и ненароком сжала тельце смурфика. Гномик, сдавленный детскими пальчиками, заплакал по-человечьи, словно малый детеныш.
Справившись с испугом, девочка обернулась к бабке и высказалась зло:
– Старая дура! Че опять пугаешь?!
– Это что такое, я спрашиваю? – Ксения ловко вскочила на лавку и тянулась к шевелящемуся в руке Алиски существу. Ей в голову пришла ужасная мысль. Икнув, она схватила правнучку за волосы и задергала их, причитая: – Как ты могла?! Маленькая сучка! Тебе же тока тринадцать! От кого выкидыш зацепила?!!
– Да ты сдурела, старая! – закричала в ответ Алиска, пытаясь освободить волосы от железной хватки Ксении. – Какой выкидыш?! Мне всего тринадцать! Я девка еще!!! А это смурфик!
– Какой еще смурфик! – не отставала бабка, но волосы больше не трепала.
– Гномик! – пояснила Алиска, заводя руку с найденышем за спину.
– Я тебе дам «гномик»! – не успокаивалась Ксения. – Как же недоглядела я! Выкидыш в тринадцать лет! Шалава!!! – И опять волосы рвать.
Алиска истово перекрестилась.
– Вот тебе крест! – кричала от боли правнучка. – Девственница я! Чтоб мне провалиться!!! Я его здесь, на печке, нашла! И не из меня он! Выкидыши не плачут! После выкидыша всегда кровь! Где кровь, а?
Последний аргумент охладил пыл старухи, она отпустила Алискины волосы и пошарила по лежанке в поисках мокрого. Обнаружив лишь сухость одну, Ксения оборотила лицо к правнучке и приказала:
– А ну покажи!
– Тока не убивай его! – роняла слезы девочка.
– Показывай!
Алиска раскрыла ладонь, и бабка долго пристально смотрела на голого человечка, который теперь лежал спокойно, лишь моргал кукольными ресницами.
– Хорошенький!
– Вот и я говорю, – обрадовалась девочка. – Смурфик это!
– На поздний абортик похож, – рассудила Ксения. – Но живой…
– Пожалуйста, – взмолилась Алиска, – бабулечка, родная, можно я его оставлю себе? Я буду заботиться о нем!..
Ксения долго раздумывала, осторожно трогала гнома пальцем с каменным ногтем, а тот улыбнулся ей ротиком, полным мелких зубов, да так заразительно, что старуха тоже заулыбалась в ответ; счастливо лыбилась и Алиска.
– Чем же кормить его?
Алиска спрыгнула с печи и подбежала к окну, за которым уже светало. Уселась против него за стол и ответила:
– Бабулечка, он такой маленький… Ему еды – в наперсток поместится!
– А заболеет? Мы че, в больницу твоего смурфика повезем?
– Не заболеет! – уверяла девочка. – Я его беречь стану, ласкать и целовать!
– Не знаю, – сомневалась Ксения.
– Я все теперь делать буду! Дрова рубить, воду носить, Глашку еще и утром буду доить, тебе спину чесать! А?
– Ну, если соврешь! – пригрозила внучке. – Я его лично в колодец брошу!
– Не совру, миленькая! Все правда, бабулечка!
– Смотри, Алиска! И чтоб не гадил где ни попадя, как твой попугай!
– Он же не птица. Человечек это! Я ему пеленочку сделаю…
– До первого нарушения! – заявила старуха, дав таким образом свое согласие на нового жильца.
– А можно, я сегодня в школу не пойду? – попросилась девочка. – У нас география только и на лыжах потом три часа. Сопли у меня, – хлюпнула носом. – Да и смурфика оставлять в первый день нельзя…
– Схожу за дровами, – проговорила Ксения. – Печка простыла, вон уж окна изнутри морозятся.
– Я схожу! – Алиска вскочила с табурета, готовая на любые подвиги.
– Сиди уж… – бабка направилась к двери. – Картохи ему дай с молоком, голодный, поди. – «И зачем люди географию учат? – подумала. – Все равно дальше Владимира никто не ездит».
Бабка хлопнула дверью, а Алиска, положив гномика на тряпку для протирки стола и прикрыв его уголком ткани, метнулась к печи, где в горшке с ужина чуток осталось… Набрала еды в пластмассовое блюдечко, сохранившееся после гибели волнистого попугайчика Адольфа, влетевшего и сгоревшего в раскаленной печи бумажным самолетиком, капнула молока сверху и понесла кушанье к столу…
…Ему совсем не нравился запах тряпки, в которую его завернула большая девочка. Влажная ткань раздражала нежную кожу, но он терпел все невзгоды почти радостно, так как спасся от, казалось, неминуемой смерти. Он поел. Девочка спичкой поддевала картофельные крошки и совала ему в рот. Еда оказалась сносной, он тщательно жевал, думая о том, кто он и откуда здесь, в деревенском доме, в образе куклы для большой ростом, но совсем еще глупой по возрасту девочки… В его крошечном мозгу проявилось слово «амнезия», смысл которого он понимал достаточно. «Со мною что-то произошло, какая-то физическая или психологическая травма». Но скорее психологическая, так как руки и ноги работают исправно и, кроме дискомфорта от грязной тряпки, никаких неприятностей организм не испытывал… Еще он задумался об очень существенной разнице в параметрах между ним и окружающим его миром. Он чувствовал себя Гулливером в стране великанов. Разве бывает такое?.. У него закралось сомнение, что все же его существом управляет галлюцинация и на самом деле он простой психиатрический больной.
В дом вернулась бабка с дровами и, закинув их в печь, объявила Алиске, что сходит в Степачево за хлебом и макаронами, а до того разнесет молоко по соседям и посмотрит, зреет ли творог.
– Ба, а как мне его назвать?
– Абортиком, как!.. – и вышла из дому.
– Фу-у! – протянула Алиска. – В ее голосе промелькнуло иностранное имя Эжен, она произнесла его вслух, и ей это звучание на французский манер понравилось. – Будешь Эженом! – решила девочка. – А по-простому Женька!
«Почему Эжен? – подумал он. – Имя какое-то не такое!.. А Женька – фамильярно…»
Алиска вытащила смурфика из тряпки и понесла в свою комнату, на полу которой стоял пластиковый двухэтажный игрушечный домик без передней стенки. В домике было все: и кроватка, и обеденный стол, за которым сейчас сидели куклы, типа муж и жена, и даже туалет имелся с крошечным унитазом. Девочка поместила Эжена в спальню, на кровать, укрыв кукольным одеяльцем:
– Нравится тебе, Эжен? Теперь это твой замок!
Он понял, что отныне судьба его – проживать в игрушечном пластмассовом доме вместе с пластмассовыми куклами и писать в унитаз без канализационного отвода. А помочиться нестерпимо хотелось. Он откинул дурацкое одеяльце, встал на ножки и поспешил в карикатурную туалетную комнату.
– Ты умеешь ходить! – воскликнула Алиска. Он утвердительно кивнул в ответ. – И понимаешь человеческую речь?!! – обалдела девочка. Ей вдруг показалось, что гномик за какие-то минуты подрос, во всяком случае он стал видимо длиннее ее пальца – или это ей только казалось? Гномик, встав спиной к девочке, помочился в унитаз, затем проследовал в комнату, прикрывая руками причинное место, вытащил из-за обеденного стола куклу-жену и вытолкал ее со второго этажа домика. Затем Эжен принялся за мужа, но прежде раздел его, напялил на себя его одежду, чтобы прикрыть срамоту и уберечь тело от холода, и только после этого выкинул голый манекен из кукольной жизни.
Все это время Алиска рассматривала происходящее, как будто находилась в театре смурфиков. Правда, в данном случае смурфик был в полном одиночестве, если не считать поверженных кукол.
– А ты умеешь говорить? – спросила девочка с замиранием сердца.
Это было вопросом и для него. Понимая человеческую речь, он, следовательно, и говорит, если только не немой. Поправив воротник рубашки, Эжен прокашлялся в маленький кулачок и подтвердил:
– Умею.
Его голос уже не казался детским, в нем появилось подростковое звучание, которое он сам расслышал в своем тембре. Значит, я молод, сделал вывод Эжен.
Неожиданно Алиска схватила его, стараясь нежно, но получилось страстно, и принялась целовать свою бесценную находку в щечки, в носик, лобик.
Эжен поначалу страшно испугался, боясь быть раздавленным, но вскоре понял, что девичьи пальчики сейчас более деликатны, нежели поутру. Он поймал себя на мысли, что поцелуи Алисы ему нравятся – слегка мокрые, они приводят его в некое возбуждение, делая более сильным и упругим. Эжену казалось, что он растет, что мускулатура его твердеет и дух укрепляется стремительно. И девочке также почудилось, что ее новый любимец прямо-таки расширяется в ладошке, она ясно понимала, что у гномика удлинились ручки, ножки и тельце, а голова покрылась темными волосиками.
– Ты растешь? – она раскрыла ладонь.
Сидя на ней, на краю, свесив ноги, Эжен услышал треск рвущейся на нем кукольной одежды.
– Видимо, да.
Девочка расстроилась:
– А ты можешь не расти?
– Думаю, что нет.
– А если я тебя не буду кормить? – Алиске вовсе не хотелось, чтобы гномик вырос. Выросший гном – это лилипут! А лилипутов она не любила и боялась. И карликов тоже…
– Если ты не будешь меня кормить, я умру.
– Нет-нет! Я буду заботиться о тебе! – Она вновь принялась целовать Эжена, как любимую куклу, а он расслабился и получал удовольствие от прибавляющейся силы. – Какой же ты прекрасный!
Обласканный, он тоже поцеловал девочку в край губ, она этого не заметила, он еще и еще целовал ее, пока Алиска вдруг не поняла, что гномик вновь подрос, толчками рвался из ладони и что ростом он оказался вдвое выше, чем когда она его нашла на печи, а кукольная одежда лопнула по всем швам окончательно и упала на пол.
Девочка поставила Эжена на стол и поняла, что, еще недавно будучи мальчиком-с-пальчик, он вырос с литровую банку и стоял сейчас возле нее, уперев руки в бока, показывая свою наготу без стеснения. Алиска засмущалась, так как взгляд ее так и притягивало то место, которое отличает мальчика от девочки. Она впервые ощутила в себе некую тонкую настройку, превращающую любопытную девочку в чувственную девушку. Зардевшись, она с неохотой перевела взгляд на лицо Эжена и отметила его привлекательность… Здесь в мозгу девочки защитной стеной вспыхнуло воспоминание о посещении ради любопытства единственного в Судогде магазина для взрослых «О», который оставил в ней мерзкое, до оскомины, чувство какой-то особенной грязи… Алиска вдруг подумала, что искушается той самой нечистотой, глядя на голого Эжена, перекрестилась и заявила:
– Будешь расти, я тебя выброшу!
– На все воля Божья! – развел руками выросший гномик.
В сенях заскрипели двери, и девочка поняла, что из Степачево бабка вернулась.
– Я тебя спрячу, а Ксении скажу, что ты сбежал.
– Поступай как знаешь, – согласился Эжен.
Она замаскировала его в кровати под одеялом и перед тем, как побежать навстречу бабушке, приподняла краешек, еще раз предупредив:
– Не шуми здесь! И не расти, пожалуйста!
Он лежал, утомленный случайными ласками, и, вдыхая Алискин запах, забытый ею на простынях, чувствовал себя опьяненным и почти довольным. Эжен перестал думать о том, кто он, как попал в деревенский дом и зачем ему здесь выпало очутиться. Он ощущал себя новорожденным и одновременно зрелым, так как здраво рассуждал, а растущего тела своего не знал. Совершенно не исследованное, оно развивалось по собственным законам стремительно, будто жизнь его будет состоять из одного зимнего дня. Спрятанный от белого света теплым одеялом, он ощупывал свои анатомические части и познавал их, как тактильно, так и чувственно, будто целую вечность прожил парализованным и нечувствительным, а сейчас вдруг все мертвое ожило и живое ощущало радость Воскресения.
– А где твой Марфик? – полюбопытствовала бабка, пока девочка раскладывала покупки по местам.
– Смурфик… Смурфик исчез! – Алиска натурально заплакала, будто горе и взаправду пришло. – Всюду искала, а его, а он… – она даже взрыднула мастерски: – А он убежал!
– Может, в щель завалился? – предположила Ксения. – Или в подпол провалился?
– Всюду смотрела, повсюду искала! – рыдала Алиска.
– Не реви! Да хрен бы с ним! Экое позорище – с абортиком неизвестным жить! И гадить не будет где ни попадя!
– Жалко-о-о! – провыла девочка.
– Жалко у пчелки.
– У нас даже кошки нет!
– Потому что нет мышей! Завтра во Владимир поеду.
– И че там?
– Пенсию не индексировали. Разбираться стану!
– Разбирайся!
– Заночую у Людмилы, буду в субботу. А ты чтобы в школу!
– Ладно, – согласилась Алиска без особого энтузиазма.
– Не «ладно», а в школу!.. Ставь кастрюлю на плитку, рожки варить станем! Сходи в подпол, капусты в миску набери!
Старуха с правнучкой пообедали.
Пока девочка мыла посуду, день из белого превратился в серый, в неосвещенной избе стало грустно, а нарядную люстру Ксения разрешала включать, когда совсем темно становилось. Говорила, что денег не напасешься на электричество! Самое правильное в жизни – научиться экономии, считала старуха. Единственными развлечениями семьи оставались телевизор и радиоточка с приемником на один канал. Ксения часто слушала политические программы, прислонив ухо к самому динамику. Она почти всегда имела свое, отличное от профессиональных политиков мнение, с Алиской не делилась, оставляя умозаключения для степачевского магазина, где к определенному времени собирались женщины из пяти близлежащих деревень, чтобы купить свежих батонов.
– Пойду к себе, – сообщила Алиска, домыв посуду и вытерев руки.
– Уроки!
– Ладно!..
Девочка закрыла за собой дверь, осторожно накинув крючок на петлю.
– Ты здесь? – прошептала.
Она приподняла краешек одеяла и чуть было не вскрикнула от неожиданности. Пригревшийся найденыш, еще недавно с литровую банку ростом, вырос за это время стремительно, его плечи стали совсем юношескими, а ниже открывать одеяло Алиска не решилась. Может ли такое быть? – стояла она с открытым ртом. Может, смурфика подменили?.. Как так могло случиться, что гном вырос с нее ростом?..
– Эжен, это ты? – Она потрясла его за плечо. – Проснись сейчас же!
На ее решительный приказ спящий молодой человек не отреагировал, лишь тихонько простонал молодым баском и приоткрыл большие сочные губы. Его длинные блестящие черные волосы разметались по подушке. Алиска невольно залюбовалась красотой Эжена, а едва уловимый запах сладости, исходящий из приоткрытого рта, волновал душу девочки своей новизной. Она нечаянно погладила его голову, но тотчас отдернула руку, будто боясь обжечься. А потом вновь прикоснулась к нему, к его лицу кончиками пальцев и больше не отрывала их, слегка поглаживая нежную кожу сказочно красивого юноши.
Он не спал, лишь вид делал. Ему нравились эти прикосновения девичьих пальчиков. По-детски неопытные, они слегка дрожали, и ресницы его глаз дрогнули.
– Ты не спишь! – поняла девочка, убрав руку.
– Нет, – подтвердил Эжен.
– И давно?
– Давно.
Алиска покраснела и принялась шепотом отчитывать нахального субъекта, превратившегося за полдня из гномика в парня ростом почти с нее, за то, что тот обещал не расти, но вырос! А зачем ей парень в кровати! Теперь бабка точно ее убьет!
– Ты обманщик!
Он сел в кровати, заложив руки за голову, и улыбнулся:
– Я не врал тебе! Ты просила меня не расти, но это оказалось не в моей власти. Я вырос. Я не знаю, кто я и откуда, но я благодарен тебе за теплоту и отзывчивость, так как мне хорошо у тебя. Ты очень добра и не дала погибнуть беззащитному существу. А еще я завтра уеду, не переживай.
– Куда?
– Мне надо в город.
– Во Владимир?
– В Москву.
– Зачем?
– Не знаю зачем… Знаю, что надо.
– Оставайся, – попросила девочка. – Будешь провожать меня в школу!
Он протянул к ней руки, и Алиска, преодолевая частые сокращения сердечка, вложила свои ладони в его. Он притянул свою спасительницу совсем близко, затем прижал к своей груди и гладил девочку нежно по волосам, а она тревожно шептала, что не надо, «волоса-то немытые». Он улыбался в сумерках прошедшего дня, а она подумала, что вот он, принц, пришел к ней странной дорогой, игрушечным гномиком, а превратился в чудесного юношу. Какой же божественный запах от него исходит…
– Уроки! – командным голосом напомнила Ксения из-за двери.
– Да делаю я! – ответила Алиска и коснулась напряженными губами мягких губ Эжена.
Ах, какая сладкая мука!.. Девочка не смогла сопротивляться. Ее губы расслабились и поддались его устам. Этот поцелуй совсем не был похож на никотиновые чмоки ботаников из школы. Чувственный и прекрасный, он стал волшебным ключиком, открывающим девичье сердце для первой, самой возвышенной любви. Она потеряла ориентацию во времени, хотя еще автоматически отвечала Ксении на какие-то вопросы, затем жадно возвращалась к его губам, будто хотела утонуть в бездонном поцелуе. Алиска отключила на время рассудок от тела, которое своей бабочкой соединилось с его обнаженной плотью и затрепетало в унисон трепыхающемуся сердечку…
Через девять месяцев Алиска родит мальчика, который станет первой мужской особью в их бабской родословной.
Конечно, сейчас она не ведала своего будущего, лишь восхитительное наслаждение захватывало всю ее природу, она плыла по теплому первобытному счастью и постанывала неосознанно, а он закрывал ей рот то влажным поцелуем, то крепкой ладонью. А потом ее дыхание перехватило спазмом, все тело стало внезапно горячим, Алиска произнесла короткое «А!», будто звякнул колокольчик, вознеслась к поющим ангелам, но ох как скоро, как скоро вернулась, постепенно складывая быстрое дыхание и рассудок в непрочное равновесие. Она заметила, что и Эжен тяжело дышал, лежа горячей щекой на ее груди. Алиска крепко обняла своего принца и жалобно попросила:
– Не уезжай!
– Я не могу, – шептал он в ответ.
– Как же ты меня оставишь, после всего…
– Ты останешься обновленной и будешь помнить меня всю жизнь.
– Ну я же люблю тебя! – Девочка все крепче обнимала юношу, словно думала, что таким способом сможет его задержать в своей жизни.
– Первая любовь всегда коротка. Она и должна быть такой. Либо ты запомнишь ее не слишком счастливой, либо она станет для тебя путеводной звездой. Все, что с тобой произойдет в жизни, ты будешь мерить по этому первому чувству!..
– Ты Иисус?
– Кто?
– Я имею в виду – ты Иисус Христос?
– Кто это?
– Как кто?! Это Бог!
– Нет, – уверенно ответил Эжен. – Я точно не Бог.
– Так кто же ты?
– Я… Я не знаю… Я знаю, что мне надо в Москву!
Она потом долго плакала, не как маленькая девчонка, а по-взрослому, украдкой утирая слезы, а он долго глядел в огромное небо или не в него, а в прострацию устремлял свой взгляд.
Они просидели молча до самого утра. Алиска слышала, как бабка Ксения, скрипнув дверью, начала свое путешествие во Владимир.
– Скоро? – спросила девочка.
– Да, – ответил сухо Эжен, и Алиска поняла, что он больше не с ней, что принц уже в дороге, а она осталась навсегда одна.
– Тебе нужна одежда.
– Да.
– У Ксении в шкафу висит. Осталась от какого-то ухажера двадцатилетней давности.
– Ага…
– Но без денег тебе никак! – Алиске было больно от такой смены настроения Эжена. Но странно: она не злилась и не расстраивалась, каким-то образом понимая, что у принца своя миссия, а у нее своя. Принесла одежду: – Примерь!
Пока молодой человек одевался, девочка достала из-под кровати копилку в виде грозной совы и грохнула по ней молотком. Эжен вздрогнул и обернулся:
– Что это?
– Это деньги. Без них тебе не добраться даже до Владимира.
– Ах да…
Молодой человек, одетый в черную рубашку, черные брюки и черное пальто до пят, наклонился над черепками и принялся собирать монеты. Он укололся и сунул палец в рот, останавливая кровь. Как она любила его в эту минуту! Алиске показалось, что больше никогда в жизни ее сердце не сможет быть способно на такое мощное, пронзительное чувство. «Брошусь в прорубь», – решила она.
Собранные деньги он сунул в глубокий карман пальто, затем обулся в черные ботинки с острыми носами. Разглядывая себя в зеркало, позволил Алиске расчесывать его черные волосы, пока они не улеглись волнами на воротник пальто.
– Хахаль Ксении работал в Судогде, в похоронке… Ничего?
– Все отлично. – Эжен повернулся к девочке и поцеловал ее в губы. В этом поцелуе не было страсти, тем более любви, так целуют тех, кто стал для целующего безразличным, так целуют человека, которого больше не увидят… – Прощай!
Вдогонку она сообщила, что рыжий Шурка должен сейчас ехать в Судогду, он подвезет его: скажи, мол, родственник Алисы…
Он быстро уходил от Алискиной избы по хрустящему снегу. Стремительная походка говорила о его целеустремленности, длинные черные волосы развевались на ветру.
– Демон! – прошептала Алиска вслед. – Демон!..
4
Проснулся…
Почесался…
Продолжаю…
Имя мальчику придумала мать, учительница английского, назвав Арсением, отчество выдумывать необходимости не было – как и положено, оно досталось от отца. Имя, которым кликали инженера Иратова, – Андрей. Так что в целом получился Арсений Андреевич Иратов, 1960 года рождения. Сразу после появления на свет Арсений Андреевич сделал такое лицо, как будто предчувствовал, что быть ему миллионером.
Совершенно не имеет смысла останавливаться на детстве Иратова. Все как у всех, лет до пятнадцати, когда в Арсении вдруг проявились красота лица и редкая манкость во всем его обличье для девиц, как старше, так и младше годами. Иратов пользовался этим даром, уже годам к семнадцати насытившись женским полом до избалованности.
В институте молодой человек имел отношения параллельно с пятью, а были времена, когда он умело тасовал до семи девушек, заодно влюбив в себя проректора по учебной части.
Ему нравилось проводить ночи со Светланой Ивановной. Проректорша была в том самом возрасте, когда цветок еще полон сил и красоты, но ощущается в нем некий легкий надлом на самом пике цветения, после которого начинается едва уловимое увядание. И в начале стремительного падения ощущаешь такую сладость, такой пряный запах от лепестков…
Другие девицы Иратова все как одна обладали упругим телом, были жадные и ненасытные, как подростки, набрасывающиеся на мороженое. Он и таких привечал, но однообразность наскучивала, утомляла к первой трети ночи. Иратов уже во сне мечтал о том, что проснется – а партнерши как будто и не было.
Со Светланой Ивановной все было по-иному. Женщина никуда не торопилась и студенту своему предлагала не спешить.
– Все будет! – обещала она, заглядывая ему в глаза. Запутывалась теплыми пальцами в черных, как деготь, волосах. – И время всему свое наступит, – и прядь на пальцы завивала локоном.
Она ему готовила. Просто и вкусно. Приводила в порядок одежду, чинила и гладила, мягко поучая, что мужчина должен следить за своим гардеробом, тщательно подбирать вещи – если, конечно, средства на них имеются.
– Главное, ни на кого не быть похожим! Пусть просто, но со вкусом. Ну и не петрушкой все же!
Была чуть-чуть замедленна как в движениях своих, так и в мыслях. Иратов рассматривал ее в первых лучах солнца, и казалось, что женщина плывет, «выступает, словно пава», как сочинил Пушкин.
Как медленны движения ее, будто парит…
Он читал ей наизусть в подлиннике стихи английских поэтов: Мильтона, Китса и, конечно, сонеты Шекспира.
Он ни разу не захотел убежать от Светы среди ночи в юношескую жизнь, всегда досыпал до позднего утра, если случалось на выходные, открывал глаза и встречался с темными, чуть влажными глазами любовницы.
– Что? – спрашивал.
– Ничего, – отвечала.
– Что-то случилось?
– Нет, просто смотрю на твое лицо.
– Зачем?
– Ты красивый…
– Ты тоже красивая, – шептал юный любовник в ответ.
– Я знаю…
И вновь она гладила его волосы, а он дышал взволнованно – и наполнялся…
Он подарил ей дорогую французскую ночную сорочку на 8 Марта, чуть большего, чем нужно, размера, чтобы, когда Света склонялась над ним, украдкой смотреть в шелковый вырез и видеть ее грудь.
А потом Света, Светлана Ивановна, вышла замуж за доктора наук, путешественника А. В. Грязева, известного денди, и очень скоро оставила Советский Союз.
Арсений Иратов много переживал и сам удивлялся этому незнакомому чувству потери, которое раньше, казалось, у него отсутствовало вовсе. Пытался даже блевать, чтобы вырвать это мучительное ощущение.
Через полгода в почтовом ящике он нашел извещение о посылке из Конго. Вертел его, понимая, что от Светы, разглядывал нервно и в извещении нашел лишь одно: «Увяла».
Арсений хотел броситься в аэропорт, он был уверен, что Свете плохо с Грязевым. Но что он мог сделать тогда, восемнадцатилетний мальчишка, – просто домчаться на попутке до Шереметьева и под подозрительными взглядами знакомых милиционеров ретироваться восвояси?
Получив в почтовом отделении маленький посылочный ящик с сургучными печатями, Иратов долго не решался его вскрыть, домой не поднялся, а, сидя на спинке лавочки, нервно курил, наблюдая за мигающим светофором… К двухтысячной желтковой вспышке продрог до костей, взбежал на пятый этаж своей хрущевки и, не поздоровавшись с родителями, закрылся в своей комнате. Ящичек стоял на полу, а молодой человек, сидя на раскладном диване, продолжал курить одну за одной, пока наконец решился…
В ящике под тонкой несоветской бумагой находился Светин запах, точнее – подаренная им французская сорочка, пахнущая Светой. Кроме возвращенной вещи, в посылке ничего не было, даже коротенькой записки.
До поздней ночи Иратов, уткнувшись носом в сорочку, все вдыхал запах Светы, до нижних корешков легких, до боли, а потом, разозлившись, отбросил ее в дальний угол комнаты, прошипел «сука, сука» и заснул…
Несколько месяцев студент-второкурсник Арсений Иратов надевал Светину сорочку на всех своих упругих девиц и спал с ними жестко, будто мстил ей. Волейболистки, гэтэошницы, комсомолки – все восхищались истовостью молодого человека, им было плевать, что в душе Иратова, лишь его дикий напор и пики оргазмов волновали активисток.
– Давай, Иратов! – вопила нападающая волейбольной команды института Катька. – Гаси!!!
– Мама дорогая!!! – восхищалась секретарь комсомольской организации Шевцова. – Да я тебя в партию рекомендую!
– А еще можешь? – Ну, это Мыкина с пятого курса обычно будила в пять. Мастер спорта по плаванию. – У дельфина такой же большой, как у тебя!
– Ты была с дельфином?..
А когда запах иссяк, Иратов закинул сорочку на шкаф и забыл про Свету.
Учился и пользовал всех, кто женского пола, до полусмерти.
Лишь через несколько месяцев, листая в парикмахерской журнал «Турист», Арсений остановил взгляд на фотографии, на которой был запечатлен мужчина средних лет, лицом похожий на Азнавура. В рубашке с засученными рукавами, в шортах, поджарый и жилистый, он позировал на фоне египетской пирамиды. А рядом с ним, опершись на сложенный солнечный зонтик, стояла она, Света. И подпись: «Доктор исторических наук, путешественник А. В. Грязев с супругой». На фотографии следом – прием в Географическом обществе Москвы, и тот же Грязев с бокалом шампанского широко улыбается на камеру. «А. В. Грязев вернулся в СССР, сделав ряд уникальных открытий».
Номер журнала был свежим, и Иратов вдруг понял, что она в Москве.
Он бросился к ней. Не дожидаясь автобуса, бежал быстрее мысли, от напряжения мышц верхняя пуговица на рубашке не выдержала и выстрелила в сторону, а он уже у подъезда, через пролеты лестницы на седьмой этаж, возле ее двери, чуть лбом не ткнулся. Заколотил кулаком так, что чуть с петель не сорвал.
– Открывай! – кричал.
Она открыла. Его Света.
– Что ты, милый? – У нее не изменился голос, или показалось. И убаюкивающая манера напевности вдруг сделала его искривленный рот безмолвным. – Что ты, милый? – повторила она, гладя его по голой груди. – А где же пуговички?
Он лишь хватал ртом воздух и, прохрипев: «Света…», набросился на нее и потащил к постели.
А потом они любили друг друга. А еще позже сидели на кухне, голые. Света рассказывала, что Грязев сейчас на своей квартире, что они вместе провели незабываемое время, что, может, пора заводить детей.
– Господи! Сколько же я видела! – тараторила она. – И пирамиды, и город ацтеков, Китайскую стену, Софи Лорен и Эйфелеву башню!.. А как Грязев разбирается в вине и моде!..
Напевность из ее голоса исчезла. Он почти не слушал ее. Шевелил, словно охотничий пес, ноздрями, пытаясь обнаружить, отыскать хоть молекулу Светиного запаха, но то ли французские духи его убили, то ли еще что. Света активно жестикулировала, восклицала восторженно, а он засмотрелся на ее голую, слегка опавшую грудь…
Он понял, что больше не любит ее.
И правда – увяла…
Удивленный, он ушел, сославшись на занятость, обещая забежать на неделе, вернулся домой, достал со шкафа шелковую сорочку и выбросил в окно, как ненужную тряпку. Вещь повисла на дереве и до зимы с ее протяжными ветрами болталась старым флагом любви и бешеного секса, а в декабре исчезла. Видать, кому-то понадобилась.
Кстати, года через полтора Грязев не вернулся из Штатов, попросив у американского правительства политического убежища. Света осталась одна с годовалым ребенком на руках, почти без средств, презираемая всем подъездом дома, в котором жила. И не за то, что она жена предателя, а за брошенность свою. Знать, такая баба хорошая, коли бросили, как собачонку при переезде…
Здесь история про Иратова и Свету завершается. Казалось, она не оставила следа в молодой, полной перспектив жизни Арсения, но через долгие годы… Кто знает, что с ним случится через годы…
Оканчивал Иратов МАРХИ, собираясь стать архитектором и построить что-нибудь стоящее в Москве, ну и, конечно, в мире, как молодой японец Кензо Танге. Грезил стать новым Иофаном для столицы… Но на четвертом курсе втянулся в спекуляцию инвалютными чеками, которыми можно было отовариваться в спецмагазинах, торгующих одеждой и техникой западного производства. В этой трудной и опасной деятельности молодой Иратов преуспел изрядно. Одеваясь как пижон, он с утра появлялся возле валютных магазинов и покупал за рубли американские доллары, немецкие марки и французские франки. Копил, решив во что бы то ни стало покинуть СССР и стать архитектором мирового уровня. Черт с ним, с Иофаном. У него не было серьезных политических мотивов, только мощное желание создавать красивое, жить в этом красивом, и было оно столь страстным, что побеждало страх перед тюрьмой. Он очень хорошо понимал, что рискует свободой, почти под расстрельной статьей ходит. Но не боялся. Пан или пропал!
К нему хорошо относились даже гэбэшники. Постоянно улыбающийся красавец знал имена жен сотрудников, их детей и надобности. Духи, детская одежда, продукты шведские к праздникам… Собственно, полезен был в хозяйственной нужде.
Отдел, курирующий район Тишинки, возглавляла капитан КГБ Алевтина Воронцова, которая как-то самолично арестовала студента Иратова возле продуктовой «Березки», думала посадить, но была покорена его демонической красотой уже на первом допросе. Парень страха не выказывал и словно просился в ее постель. Во всяком случае, ей так казалось.
«Чего такую красоту на зоне гробить? – рассудила женщина. – Пусть трудится на благо Родины!»
И Иратов трудился, пахал трактором на большом, дородном капитанском теле. Одинокая Алевтина почти влюбилась в молодого валютчика, но сей интимный порыв сдержала, призвав в помощь офицерскую закалку.
– Тысячу долларов в месяц приносить будешь, – поставила условие Воронцова.
– Так это ж… – Иратов хотел выругаться, но, сдержавшись, попытался объяснить, что на эти бабки трудовой человек может жить полтора года.
– Так ты не трудовой! – удивилась Алевтина. – На тебе вон джинсы за двести рублей, пуловер, еще перчатки зачем-то носишь посреди лета! Что за фасон?
– Они для вождения мотоцикла!
– У тебя что, мотоцикл есть? – Алевтина отхлебывала из бокала коньяк «Мартель», закусывала лимонной долькой и пускала в казенную чешскую люстру конспиративной квартиры струю дыма от сигарет «Кэмел». – А сапоги ковбойские, – продолжала перечислять Воронцова. – А? Рублей на восемьсот одет, а про трудового человека вспомнил!.. Пойдем-ка в постель, трудовой ты мой…
Иратов впервые в жизни так разозлился.
– Либо косарь, – поставил условие, – либо постель!
Алевтина заржала, как конь, вся ее дородность колыхалась, она еще и кашляла при всем сипло, отравленная никотином.
– Молодец! Ой, не могу!!! Ну, бля, ты дал!!! Во, молодежь!!! – И вдруг, в мгновение став серьезной, окаменев крупными чертами лица, тихо произнесла: – Две тысячи и два раза в неделю на квартире!
Бледный, злой, он сидел, глядя в глаза Алевтине – сурово и неотрывно. Капитан Воронцова взгляд студента выдержала легко, думая при этом, что из парня можно было бы сделать хорошего офицера. Хватка есть, чистый английский плюс внешние данные – такие дела можно закрутить!
Капитан Алевтина Воронцова в этот момент твердо решила завербовать черноглазого любовника. Плотским утехам не помеха… Институт скоро окончит, там два года школа – и младший лейтенант. Если нелегалом упорхнет, то и ей, Воронцовой, повышение. Главное – не торопиться…
– Согласен!
– Что? – сначала не поняла вербовщица, продолжая оценивать перспективы Иратова.
– Два косаря в месяц и два пистона в неделю! Только не забывай, что я учусь. У меня пять баллов по современной архитектуре!
– Молодец! Достойно!
– Свободный доступ в Шереметьево, чтоб там ваши не щипали меня! Понимаю, что не твой район, но ты договоришься… И доступ в дьюти-фри!
– Обнаглел? – Алевтина от удивления развела полными руками, словно пингвин хотел взлететь. – Страх потерял?! – Впрочем, она была готова на сделку, так, для виду показывала грозность. Прежде чем ответить, до фильтра выкурила новую сигарету, нажала клавишу японского магнитофона и под Высоцкого согласилась. – Я поля влюбленным постелю-у-у-у… – Кивнула тяжелой головой: – Согласна. – Сложив мясистые губы куриной гузкой, чмокнула ими воздух: – Ну что, зарядился, трудовой? Давай в кровать! Работать на Родину! – и пошла гиппопотамом к двуспальному дивану. – Пусть поют во сне и наяву-у-у!
– Сегодняшний пистон ты получила! В пятницу второй! Деньги будут завтра!
Иратов надел вельветовый пиджак и быстро вышел вон.
– Ты куда, сучонок?! – опомнилась Воронцова, рванулась к двери, чуть не грохнулась, устояла, выбежала на лестницу, но ее креатура в мотоциклетных перчатках уже заворачивал за угол дома…
Ни он, ни Алевтина условий не нарушали. Студент исправно приносил валюту и стрелял в цель так же пунктуально, как и в начале сделки. Его допустили до дьюти-фри, и скоро уже весь МАРХИ одевался у Иратова. За год молодой человек заработал такое количество денег, что по советским меркам хватило бы на всю жизнь. Вместе с тем Арсений каким-то мистическим образом находил время для учебы и готовил преддипломный проект… Одновременно он обзаводился связями в теневом бизнесе, где торговали металлами и приличными камнями. В бумаге деньги слабые – уже тогда понимал Иратов.
Алевтина тем временем быстро старела, оплывала, становясь похожей на городового из Салтыкова-Щедрина. Ожиревшее сердце превращалось в жадную до денег мышцу, а большое тело все больше жаждало плотских утех. Но мозг офицерши был по-прежнему ясен, а мысль остра.
Как-то на конспиративной квартире, уже после принятия ежемесячных даров, Алевтина вдруг заговорила простецким языком, будто бабушкой Иратова была.
– Ну что, Арсюха, – начала, – как думаешь, какой подарочек я тебе заготовила?
– Не знаю, – недобро отвечал валютчик. – Мне твой подарок, поди, в миллион влетит! Не люблю подарков.
– А вот и нет, милок! – Капитан Воронцова игриво придвинулась ближе. – От налога я тебя освобождаю. – Иратов поглядел на Алевтину с подозрением. – Я вот что тебе предлагаю… Да, собственно, ничего особенного не предлагаю – новую жизнь! – и заржала, как лошадь.
– С тобой?
– Там видно будет, не в этом цимес, как говорит Жанис.
– Кто это?
– Латыш, по моему ведомству проходит. Такой же трудяга, как ты, под расстрельной статьей. Но не такой красивый и любвеобильный! – И опять в голос засмеялась, точно выпь.
– Так в чем этот цимес?
Алевтина окинула Иратова суровым офицерским взглядом и выдала деловое предложение:
– Ты парень с головой, мыслишь сложными схемами!..
Иратов подумал, что его точно расстреляют. Перебивая ее, спасая жизнь, он предложил:
– Давай все по-старому. Могу денег прибавить! Сколько нужно?
– Да не бойся! Ты ж не трус. Да и ни в какое болото я тебя не тяну!
– Что же тогда?
И Алевтина поведала, чего ждет от него, молодого, перспективного, оканчивающего институт, в совершенстве владеющего иностранным языком…
– Получишь лейтенанта, станешь сам контролировать ситуацию по жизни! – Капитанша вытащила из кармана форменной рубашки красное удостоверение и поинтересовалась: – Знаешь, что это?
– Ксива ваша гэбэшная!
– А знаешь ли ты, что эта ксива на всей территории СССР, даже в этой еб… ной Прибалтике, все двери открывает?
– Подозреваю, – ответил Иратов, поняв, к чему разговор пришел. Совершенно не ожидал. Всего что угодно, но только не вербовки. – Но я архитектором хочу! Я учился… Аля, блядь, ты совсем охуела!..
– Сейчас ты валютчик! – разозлилась Алевтина. – А архитектор даже преотличное прикрытие!
– Да это западло – на гэбуху трудиться! Я Солженицына читаю, Эфраима Севелу в самиздате! Я антисоветчик и спекулянт-валютчик, подрывник экономического потенциала страны, но не офицер КГБ!
– Не на гэбуху, а на Родину, – процедила капитан Воронцова. – Чуешь разницу? А читать можешь все что угодно. Хоть Камасутру. А тренироваться на мне станешь.
Иратов выпил немного коньяка, задумался крепко, а капитан Воронцова глядела на него умиленно. Какой же все-таки красавец! Демон Врубеля! У нее имелась керамика великого художника на кооперативной квартире и еще одна голова Демона на даче.
– Подумать надо.
– Подумай, – разрешила Алевтина и в тишине сама загрустила. Оттого, что мужа нет, детеныша не завела, всю жизнь на Родину положила – и в такой тоске сердце сжалось! – Три дня хватит?
– Уложусь.
– Вот и отлично. И пистон сегодняшний… – вздернула форменную юбку к подбородку и встала на четвереньки, облокотившись о диван…
Весь следующий день у Иратова горело в мозгу, словно граната в башке взорвалась. Как ни силился, нужные мысли собрать не мог. К вечеру пламя поугасло, под черепом развиднелось, и Иратов понял, что ему нужна помощь. Перебрал всех знакомых, от директоров магазинов до деловых, но не было у него такого человека, кто мог сдернуть его с крючка КГБ. Его отказ от работы на контору – короткая прелюдия к тюрьме.
К следующему вечеру отчаянное решение пришло само и к полуночи укрепилось в своей правильности и неизбежности. Этой же ночью Иратов посетил четыре вокзала и получил в камерах хранения шесть чемоданов.
Загрузив накопленное в свои «Жигули», в семь часов утра студент-архитектор припарковал легковушку на Лубянской площади и позвонил в звонок массивной двери. Через мгновение из-за угла здания появился прапорщик с погонами внутренних войск, а с ним два солдата. Дверь так и не открылась.
– Здесь машину ставить нельзя!
– Я с повинной! – сообщил Иратов. Его лицо оставалось бледным, но глаза горели решительностью мужчины.
– Все равно нельзя! Арестуем и вас, и машину.
– Ну, я для этого и здесь!
Двери открылись, в полтуловища появился молодой майор, небрежным взмахом белой ладони отпустил караул и предложил:
– Заходите, пожалуйста, товарищ Иратов.
Фокус отличный, действенный, особенно на молодняк, но валютчик его хорошо знал. Пробили номера «жигуля». Делов-то!
– Спасибо.
Его подняли на лифте на четвертый этаж и указали в правый от лифта коридор. Майор шел следом и четкими командами указывал путь:
– Правее… Прямо, правее…
Никогда еще Иратов не видел такой внутренней архитектуры. Коридоры не просто шли направо или налево, а были подобны некоему лабиринту. Человеку, впервые находящемуся в этом здании, явно должно было быть минимум не по себе.
– Стоим, – то ли попросил, то ли приказал майор. – Пришли, Арсений Андреевич.
Через минуту Иратов сидел напротив маленького человека с подполковничьими погонами, лицом зверька и рыбьими глазами. При всем своем неприятном обличье подполковник приветливо улыбался из-за огромного стола с черным селектором справа. С такой улыбкой обычно режут человека темной ночью… Также в кабинете находилась железная клетка со стулом с продавленной сидушкой.
– Сколько у вас там? – тихим голосом поинтересовался зверек.
Иратов сначала не понял:
– Что, простите?
– На какую сумму в чемоданах?
– В чемоданах? – Такого фокуса Арсений Андреевич не знал. Он не понимал, как за такое короткое время его машину отогнали и обыскали вдобавок. Максимум минут семь прошло… Ведь он же не арестован! – Я… Я точно не знаю…
– А вы приблизительно.
– Тысяч на восемьсот… Может, больше…
– Рублями?
– Валютой…
Было заметно, как напрягся подполковник. Нажав кнопку селектора, распорядился:
– Стенографистку и вещдоки по Иратову ко мне!
Оказалось, что за ним следили давно, но, видимо, Воронцова слово держала и прикрывала как могла.
Имя, фамилия, где и когда, вы же комсомолец – сотни вопросов за полчаса. Принесли чемоданы и до следующего утра считали деньги. Все это время подполковник периодически смотрел на него, будто сканировал мозг Иратова.
– Я с повинной, чистосердечно!
– Подождите! – прервал человек-рыба-зверек и опять глядел безмолвно, отхлебывая черный чай из стакана с подстаканником, на котором способом чернения по серебру был изображен Феликс Дзержинский.
– Восемьсот двадцать три тысячи, Вадим Иванович, – доложили.
– Рокотова за миллион расстреляли…
– Я же добровольно! – нервничал Иратов. – И это при Хрущеве Рокотова! Сейчас восемь дают, но за добровольное…
– Спокойно, Арсений Андреевич. Все выясним! То, что добровольно, – это хорошо. Но сидеть придется, так или иначе. А срок от вас целиком и полностью зависит. Кстати, почему у вас кличка Якут? Вроде не похожи вы на северного жителя! Пожалуйте в клеточку!
– Я обладаю информацией, за которую хотел бы остаться на свободе, – решился заявить явившийся с повинной.
Конвойный подтолкнул Иратова внутрь клетки, пристегнув одну руку студента наручниками к специальной металлической петле.
– Интересно, продолжайте!
– Есть ли у меня гарантии?
– Часы у вас новые? – спросил подполковник.
– Что? – Иратов не понял.
– «Ролекс»?
– Нет, «Шаффхаузен». Новые почти. – Он машинально поглядел на левую руку и увидел, что стекло часов разбито наручником, а золото браслета поцарапано.
– Вот гарантию на них вы можете получить! Но в Швейцарии!
Не хотел Иратов сидеть, хотя много раз представлял тюрьму – вся жизнь под хвост. Он рискнул, выпрямил спину и заявил:
– Больше восьми не дадите, а информацию я оставлю при себе!
Дальше началась долгая и мучительная возня, с угрозами, что родителей не пощадят, что Политбюро собирается вернуться к практике Никиты Сергеича – мазать таким гондонам лбы зеленкой… Держали в холодной камере, не давая спать завывающей тревогой, через неделю оповестили, что арестовали отца с матерью, что мать в предынфарктном состоянии. Дальше пошли очные ставки с сожительницами – студентками МАРХИ. Девицы приходили без макияжа, с прическами старых большевичек, комсомольскими значками на ужатых грудях. Одна громче другой заявляла, что понятия не имела о замаскировавшемся валютчике. Волейболистка Катька утверждала, что вообще не знает Иратова, так, в институте несколько раз видела, у нее все время тренировки; секретарь комсомольской организации института Шевцова, сгустив партийные брови, процедила, что уже некоторое время сама подозревает Арсения в преступной деятельности, поступили сигналы, готовили реакцию… Еще с десяток девиц выдали нечто похожее, но Иратов слегка улыбался, глядя на своих постельных подружек, точно зная, что под неказистыми советскими платьями и блузками их упругие попки и сиськи ждут своего обнажения из-под высококлассного итальянского нижнего белья, подаренного преступником Иратовым. Можно было попросить следователя, чтобы раздел весь этот комсомольский блядушник – и пошли бы барышни с ним по этапу для услады, за поощрение к преступлению. Но Иратов зла девчонкам не желал, а потому молчал. Что там взять с женщин с этих! Все бляди! Не требуй верности от блядей!
– И скольких ты, Якут? – поинтересовался подполковник.
– Что «скольких»?
– Оприходовал, что-что!
– Много, гражданин следователь, – признался арестованный. – Много.
От него долго и методично добивались сокрытой информации, но ничего не предлагали взамен, надеясь, что рано или поздно их проверенные методики развяжут студенту язык. Но прошла неделя, другая, потом еще месяц, а валютчик молчал.
А потом неожиданно предложили свободу – если информация более чем серьезная. Под честное слово подполковника.
Сие предложение и высиживал Иратов, похудевший от застеночных мучений и недосыпа почти вдвое. Не обрили наголо, оставили длинные волосы, в которых тотчас завелись вши, и мучили студента кровососы пострашнее, чем ночные тревоги. Будто по вскрытому мозгу бегали и впивались своими челюстями в его тяжелые мысли.
– Давайте уже, Иратов, – вздохнул подполковник Вадим Иванович. – Что там у вас за информация?
И Арсений рассказал о Воронцовой. Где, когда, в какой валюте, как склоняла престарелая капитанша к сексуальным отношениям. Обо всем поведал, ничего не упустил, мечтая о свободе. Его повесть об Алевтине Воронцовой тщательно протоколировали, главу за главой, давали ему читать, вносили исправления, которые он подписывал, а когда рассказывать уже больше нечего стало, подполковник поинтересовался, все ли это, Иратов выдохнул и качнул головой:
– Все, до точки.
Ветер свободы, его дивный запах бился в зарешеченные окна.
– Вот и хорошо, – чему-то порадовался подполковник, нажал кнопку селектора и распорядился: – Попросите, пожалуйста, капитана Воронцову.
Алевтина вошла в кабинет при полном параде: в белой рубашке, галстуке и с правительственными наградами на груди.
– Товарищ подполковник Комитета государственной безопасности…
– Не надо, Алевтина. Все свои. На службе порядок? – спросил Вадим Иванович и сам же ответил: – Знаю, что порядок. Садись.
Она смотрела на Иратова, словно на жалкое животное в клетке – зачем-то мамку укусило, бесстыжее! – затем повернула монументальное лицо к подполковнику.
– Не получилось с ним! – с досадой призналась Воронцова. – Сотрудничать Якут отказался. Ярый антисоветчик и матерый преступник, несмотря на молодость! Своевременная инициатива ЦК расстрельную ввести. Как семья, Вадим Иванович?
– Твоими молитвами, Алевтина! – поблагодарил подполковник. – В общем, твои показания, товарищ капитан, приобщены к делу. Совершенно ясно из магнитофонных записей, тобой предоставленных, что молодой человек, Иратов Арсений Андреевич, 60-го года рождения, Родину не любит, помогать в изобличении врагов Советского Союза отказался – напротив, распространял антисоветскую литературу, многократно пытался тебя, то есть офицера КГБ, подкупить – доллары от тебя под расписку приняты еще три месяца назад, – ограбил трудовой народ почти на миллион долларов, целенаправленно подрывал экономическую мощь страны… распишись здесь, – поставил галочку, куда Алевтина и черкнула свидетельскую подпись. – Ну, здесь все понятно! Дело доследовано. – И к клетке Иратова. Молодой человек сидел не шелохнувшись, будто забальзамированный труп. – Может, и расстреляют, если ужесточат и инкриминируют подрыв экономической мощи СССР. – Отвернулся к свидетельнице: – Переходи уже к нам, Алевтина!
– Спасибо, Вадим Иванович! Не смогу уже. Привыкла на земле. Научилась этих гаденышей выковыривать, как свинья трюфели! От этого и радость получаю!
– Тогда свободны, товарищ капитан. Благодарю за службу!
– Служу Советскому Союзу!
– Галине привет передай.
– Обязательно, Вадим Иванович.
Алевтина Воронцова ушла, а подполковник после этого до самой ночи что-то писал, затем правил под настольной лампой. К утру посмотрел на Иратова и воскликнул:
– Забыл про вас, Арсений Андреевич! Уж простите, – и снова в селектор: – Уведите арестованного… А для вас, гражданин Иратов, есть информация, что скоро состоится суд, завтра материалы переправят прокурору, пара недель – и… Прощайте, Арсений Андреевич!
…Суд состоялся через 17 дней. Иратов с облегчением разглядел среди зрителей отца и мать – значит, суки, на понт брали. Комсомолочки всем составом пожаловали и негодующе сверкали глазами. В какой-то момент заседания он с каждой встретился глазами, и все до единой, украдкой, подарили ему по томному любовному взгляду. Сам, мол, понимаешь, мы не вольны… Много народу пришло в надежде услышать этот пугающий вердикт: «…за нарушение социалистической законности приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу».
Но на судебном процессе неожиданно выяснилось, что ректор МАРХИ выдал на Иратова отличную характеристику, особенно подчеркнув, что студент чрезвычайно талантлив, а его преддипломный проект был удостоен золотой медали в Токио. И сами японцы, и несколько других стран изъявили желание приобрести детище русского архитектора… А ректор сорок лет в партии, как такое игнорировать?
Судья, щекастый крепыш, проявил любопытство и поинтересовался: что за проект?
Представитель ректората развернул ватман с эскизом, и все засмотрелись на нечто ранее не виданное. Среди обыкновенных домов, укутанных зеленью, устремился ввысь гигантский саморез. Да-да, именно тот самый саморез, который используют в строительстве. Например, работяги плинтусы в квартире прикручивают саморезами. В зале раздались смешки, затем зрители взорвались хохотом.
Судья-крепыш, с трудом сдерживая улыбку, призвал зал к порядку.
Присяжный заседатель что-то шепнул судье на ухо.
– И сколько буржуазия предлагает за этот… проект, так сказать? – поинтересовался судья.
– Два миллиона долларов, – ответил представитель ректората, и зал тотчас смолк. Народец о таких суммах никогда не фантазировал. – Все здание рассчитано по форме обычного самореза, – кто-то из нервных икнул. – Архитектор проекта доказал с помощью инженерии, что по так называемой резьбе будут двигаться лифты, а голова самореза – пентхаус, «верхний этаж» по-английски, где может располагаться головное бюро, ну, например, Министерства советской космической промышленности. При желании можно «Восток» запустить с крыши, – пошутил. Еще представитель института заявил, что автор проекта непременно хотел, чтобы это новаторское здание было построено именно в Москве – столице Советского Союза. Потому будет не совсем справедливо вменять молодому человеку ненависть к Родине.
Процесс был отложен. Судья был призван в разные инстанции, где провел консультации. В партийных структурах ему посоветовали быть более мягким, перевести процесс в закрытый режим, дабы лишить журналистов возможности далее освещать громкое дело.
– Не отдадим же мы гения под расстрел! – заулыбался член ЦК партии. – Кто строить будет, если таланты к стенке? Да и времена сейчас гуманные. И не собирается никто расстрел вводить за доллары. Есть, конечно, старая гвардия, напирает…
– Гумилева расстреляли, – припомнил судья. – Тоже талант был!
– А за стихи Гумилева предлагали два миллиона долларов? Вот то-то и оно. Молодость без ошибок прожить нельзя, иначе к старости совсем дураком станешь. Ишь ты, дом-саморез!
– Пятнадцать? – спросил совета судья.
– Пять.
Член ЦК еще раз пожурил юриста за жесткость и предупредил щекастого крепыша, что от переизбытка сахара в питании может случиться диабет. А там, гляди, ногу отрежут… Сам боится такого исхода.
– Ну, и за хорошее поведение мы потом этого архитектора… Потом мы посмотрим… Леонид Ильич добрый!
Уже через пять дней Иратова осудили на четыре года и семь месяцев исправительных лагерей. Даже строгого режима не дали. Выделили два часа попрощаться с отцом и матерью – и под Владимир.
Иратов довольно легко прижился в колонии, был со всеми нейтрален, а некоторым полезен. В блатные не лез и с деловыми осторожно контактировал. А здесь еще и начзоны строил себе трудовую дачку, а в округе не имелось даже путного инженера. Пригодился. Чертил да строителями управлял.
– Молодец, Якут! – хлопал архитектора по плечу худой, как грузинская чурчхела, кум зоны. – Знатную ты мне фазенду замутил! И всего за полгода! Я бы лет пятнадцать ковырялся… Мы тебе за твои таланты срок накинем! Ты чего удивляешься так? Шучу! Вольноопределяющимся запишешься. Знаешь, сколько у меня друзей в округе? Мы им замки строить будем, денег поднимем! Женщины! И присмотра никакого. На хер тебе Москва?!
Иратов отшучивался, представлялся этаким московским недорослем, четко определяя головой, какую он жизнь прожить хочет. Уж точно не с вертухаями! Но до времени во всем с кумом соглашался и успевал выпускать еженедельную стенгазету, в которой превращал вертухаев в народных героев.
К нему часто приезжала мать, не пропускавшая возможность свидания. В эти посещения он тяжело страдал. Но пару раз Шевцова навестила и трахала его все двое суток увольнительной, что само по себе раскрашивало на время черно-белую лагерную жизнь в разноцветную. Вертухаи поочередно подглядывали за парочкой, которой было все по барабану. Что только не выделывал Иратов с гостьей! А она-то, мастерица не менее, чем партнер, крутилась-вертелась под ним, устраиваясь в такие позиции – а-ля женщина-каучук! Они хохотали, когда кто-то из охранников, отматерившись, басом прокричал, что щас он кончит!.. Бесстыжая Шевцова даже придвинула голую задницу к предполагаемой просмотровой дырке – ну чтобы все по ту сторону получили полное виртуальное самонаслаждение…
Через месяц приехала мать и долго причитала, что отец часто болеет, что директор школы человек несправедливый, в квартире почти вся штукатурка с потолка обвалилась.
– Одна я теперь.
Потом она долго молчала, а Иратов жевал бутерброды с сыром, заедая холодными пельменями из стеклянной банки… К вечеру немолодая учительница английского языка, урожденная графиня Рымникова, отправилась в ночную поездку в Москву. Утром ей необходимо было поспеть ко второму уроку в школу.
Уже на следующий день его опять вызвали на свиданку, причем на семейную, то есть как бы с женой, на 48 часов… Даже вертухаи удивлялись – не бывает двух свиданок подряд через сутки!
Подходя к семейному блоку, заинтригованный, он гадал, кто же отважился на такое мероприятие. Назваться женой!.. Волейболистка Катька? Или опять товарищ Шевцова – она без секса только на лекциях может обходиться, да еще на комсомольских собраниях. А здесь еще со зрителем! Воспоминание о голом теле Шевцовой делало Иратова почти счастливым.
Нет в жизни никакой логики. Едешь по прямой дороге, уверенный в ее нескончаемости, а тут пропасть – и крендец!..
В комнате длительных свиданий ждала Алевтина. Капитан Воронцова во плоти.
Огромных размеров, погрузневшая после иратовской посадки, она уселась между подушек в кровати, продавив пружины до самого пола. В простой цивильной одежде, без косметики офицерша выглядела почти старухой.
– Ты?! – изумился Иратов.
– Я.
Он был смущен и растерян, стоял в дверях, ошеломленно глядя на свою бывшую кураторшу. Да, эта жирная свинья не Шевцова… Пропасть!
– Я это, Алевтина, не признал? – и закашлялась густо, с судорожными выдохами, как старый дед после козьей ножки с махоркой, дохала.
– Ага…
Она закурила свой любимый «Кэмел» и позвала его проходить в комнату. Засуетилась над сумками и принялась сноровисто расставлять по столу привезенные деликатесы. Бутылочку водочки установила, а рядом маленькую, плоскую, с французским коньяком.
– И ветчина есть! – приговаривала Алевтина. – Венгерская, смотри, какая розовая!.. Шпротики… Мясо я сама тушила с грибами, картошечка теплая! Все укутала в газеты и два пледа. Здесь всего-то ничего от Москвы. Двести километров на машине… Садись за стол, Арсюша! Огурчики свежие и соленые! Оголодал здесь, поди?
– Ты чего приехала?
– Я? – Алевтина, собрав на стол, тяжело задышала, как будто машину с арбузами разгрузила. – Тебя проведать!
– На хера? – ощутил невероятный прилив злобы Иратов. Так и хотел ей с ноги в толстое брюхо пнуть.
– Тебя навестить! Что же еще?
– Давай собирай свои манатки и вали отсюда, старая сука! Картошечки она наварила!
– А что ж ты в сердцах на меня таких? – Алевтина плеснула на дно стакана водки. – Или я в чем виновата?
– Ты?! – Он побагровел от ненависти. – Расстрелять меня хотела, блядь!!! Расстрелять! Меня! Как бы не так, сука! Я еще по УДО отсюда выйду через пару лет. Нужен стране, понимаешь ли! Надеюсь, сдохнешь к моему звонку! Я в твою могилу кол осиновый забью!..
Ах, как хорош он был в своей ярости! Глаза – бенгальские огни под черными бровями и непокорные волосы! Алевтина залюбовалась.
– Тебя расстрелять?! Совсем ополоумел, голуба моя?! Ты ж сам меня сдал в обмен на свою свободу! Хотел, чтобы я вместо тебя села. Или забыл? Сам гнилой, милый: хоть и красив как бог, да не бог! Я по службе, а ты за шкуру свою. Разницу улавливаешь?.. И пасть на меня свою не разевай! Знаю, что тут ты как на курорте. А лес валить в Магадан? А под землю, мудила?!
– Ты пользовала меня! – Он обхватил руками плечи и напряг мышцы до боли, чтобы не удавить эту старую гадину сейчас же. – Ненавижу!
– Я?! Тебя?! – Воронцова, хрустнув огурцом, сплюнула на пол огуречный хвост. – Ты ж через меня миллионы зарабатывал! Ну не скотина ли ты после всего!
– Нет больше миллионов, – сказал угрожающе и сделал шаг в ее сторону.
– Только не глупи, я тебя умоляю, – она улыбнулась, показав коричневые от табачного налета зубы. – И никуда твои миллионы не делись. – Алевтина поглядела в его черные глаза и усмехнулась: – Ты чего, думаешь, что не знаю я? Я – и не знаю?! Ишь, восемьсот тысяч сдал! Рокотов мальчик по сравнению с тобой был! Ты в самом деле считаешь, что Алевтина Воронцова, двадцать лет в органах без взысканий, – дура? Да я о каждой твоей сделке рапорт имею! Где доллары захоронил и куда золото заныкал с камнями! Думаешь, через пару лет по УДО откинешься, схроны опустошишь – и на Запад?.. Саморез тебе в задницу!.. – заржала сочно прочищенным водкой горлом. – Если бы я открыла тогда масштаб хищений твоих, лежал бы ты в безымянной могиле со всякими маньяками и педофилами. Сгнил бы уже, поди… Пожалела дурака!
Иратов сел за стол, налил в стакан до краев водки и в один глоток вылил «Столичную» в желудок.
– Можешь! – похвалила Алевтина.
– Где деньги?
– Все на месте.
– Врешь!
– Зачем? – Капитанша от души резанула кусище розовой ветчины, уложила его на белую сдобную булку и протянула: – Закуси!
Он принял бутерброд, куснул, как испуганная собака, откинулся на спинку стула и принялся жевать.
– Венгерская, помню! – подтвердил.
– А я говорила, что вкусная. Социалистическая. Умеем! – Алевтина зацепила вилкой пару шпрот и отправила их нырять в огромный рот. Лишь потом водки выпила.
Хрустнув соленым огурцом, сглотнув рассол, он спросил:
– Так чего деньги не взяла? Сама могла бы на Запад…
– Собственно говоря, – Алевтина утерла тряпкой жирные губы, – причина, по которой я к тебе приехала, весомая. Запад подождет!..
– Чего тянешь? – открутил крышку коньячной фляжки. – Налить?
– Нет, мешать не стану. Да и не пью я сейчас почти.
– Что так? – Иратов сделал большой глоток.
– Так беременная я, Арсюша! – буднично сообщила Алевтина. – Уж рожать через пару недель. Чего же ребеночка травить?
– Ты?! Беременна?! – глянул на капитаншу и засмеялся в голос. Долго его разрывало хохотом, аж клокотало в горле, потом Иратов вдруг будто захлебнулся и, внезапно осипший, спросил: – От кого?
Алевтина, не останавливаясь, ела привезенные гостинцы.
– Понял, видать, уже…
– От кого?!
– От тебя, милый, от тебя! От тебя сынок! Это и есть весомая причина!
– Врешь!
Иратов вдруг обмяк и заплакал, словно ребенок, мамку в магазине потерявший.
– Надеюсь, от радости… Зачем мне врать? Вот скоро родится – и сам поймешь, что твой! Чувствую, мальчишка будет. И горчит у меня постоянно во рту. Говорят, это когда у плода на голове волосы растут. Ты ж волосатый… О! Толкается! Толковый, всегда понимает, что о нем говорят… Вот потому и не сдала тебя, дурака, раньше по полной! Ребенку отец нужен! Мужчина! И мужчина со средствами.
Иратов был почти уничтожен превосходящими силами врага. Сидел, словно окруженный генерал Паулюс, с ощущением скорого окончания жизни, словно самоубийца перед решением, – бледный, блуждающий погасшим взглядом, словно идиот в психушке.
Алевтина предложила Иратову потрогать ее живот: мол, ребеночек уже и отца почувствовать должен.
– Поговори с ним, поговори!..
Иратова стошнило прямо на стол.
– Кто ж натощак столько пьет! Фу, все загадил! – С трудом поднялась с продавленных пружин, намочила тряпку в раковине и прибрала на столе. – В общем, если подпишешься отцом ребенка, – поставила условие, – выйдешь через неделю! Не согласишься – жди пересмотра дела. А там…
Что было делать ему? Так попасть, когда планы до пенсии сверстаны! Сидел за столом до ночи, не ел, не пил, думал, а Алевтина храпела на семейной кровати. Живот ее, наполненный его семенем, высоко вздымался и грозно бурчал, словно вулкан перед извержением.
5
…Проснулся я в феврале. В холодильнике только тухлые яйца. Зато тепло в квартире. Почистил зубы, умылся, погладил через марлю джинсы, нанеся на брючины идеальные стрелки, оделся и вышел на улицу.
На спинке лавочки возле подъезда сидел трясущийся от похмелья сосед Иванов. Ему очень хотелось хотя бы бутылочкой пива поправиться, голову рвало на части, и, увидев меня, он обрадовался:
– О, бля, ты!!!
– Я, – согласился. – Денег нет.
– А мы все думали, что ты того!.. Может, рублей тридцать?
– Чего того? – поинтересовался я, уж никак не собираясь помогать соседу материально.
– Помер, думали!
– С чего бы?
– Так ты полтора месяца из квартиры не выходил!
– А ты сторож мне?
– Да нет…
– Брат?
Сосед Иванов притомился отвечать на вопросы, тем более что от трясучки у него клинило челюсть.
– А я все к твоей двери, к скважине замочной – нюхать…
– И?
– Ну, не разлагаешься ли ты там. У меня за шкафом мышь сдохла, так две недели сладким воняло!
– Я не мышь.
– Да вижу, что живой… С Новым годом!
– Новый год в сентябре, дурак!
Разговор с соседом исчерпался, и я направился к Даниловскому рынку. Походил между рядами, квашеной капустки пощипал с прилавков, огурчика малосольного попробовал, чеснока маринованного, тем и позавтракал…
На дворе мороз, улицы не убирают, и машины утопают в чистом снегу. Дышится легко, светит солнце, отражаясь от белых сугробов, и в глаза норовит лучами своими залезть. С удовольствием чихнул. И еще раз!.. И по третьему разу!
Шел по центру Москвы, иногда разбегаясь по тротуару и прокатываясь по ледяным дорожкам.
Дорога привела меня к Петровскому бульвару, где я посетил небольшую парикмахерскую и старый, с клокастой седой бородой грек по имени Антипатрос постриг меня машинкой, оставив волос лишь пару миллиметров. Он всегда меня так стриг. Последние тридцать лет… Помогала ему тоненькая, необыкновенно красивая мулаточка с голубыми глазами. Она принесла все необходимое, затем грек намазал мне пеной лицо и побрил щеки опасной бритвой. Приложил к чистой коже горячее полотенце, подержал его, пока на лбу у меня не вышла испарина, а потом «Шипром» побрызгал. Где Антипатрос доставал щиплющий кожу «Шипр», неизвестно. Может, еще в те времена закупился?.. Маникюрными ножницами состриг торчащие из ноздрей волосы.
Он никогда со мной не разговаривал, как, впрочем, и с другими посетителями, – ни одного слова за тридцать лет. Но грек не был немым, слыл между своими гордецом, каких мало, и с народом общаться не желал… А если нужно попросить в кассе один билет до Праги?.. Но грек никуда не ездил, даже жил в парикмахерской, и в Праге нужды у него не было вовсе… Зато я знаю, где Антипатрос жил давным-давно!
Ближе к вечеру я зашел в гости к народной артистке Извековой. Я часто бывал у нее, пил липовый чай и слушал рассказы о прошлой театральной жизни.
Пожалуй, я один навещал старую актрису, маклеров-бандитов разогнал давно, в девяностые, и сурово наказал. О народном достоянии все забыли, уверенные, что Извекова чудесным ангелом покинула этот мир, а она просто в шестьдесят четвертом перестала появляться в театре, тем более на публике, не отвечала на звонки киностудий и журналистов, предпочтя, чтобы зритель запомнил ее молодой и красивой.
Бездетная, по слухам старая дева, при такой былой красоте, всегда напудренная, с тронутыми алой помадой губами, кликала меня простецки племянником, и мне это нравилось. Почти на все вопросы ее я отвечал непременно с приставленным словом «тетушка». И ей это тоже приходилось по нраву. Например, спрашивает она меня, был ли я в каком-нибудь интересном собрании, будь то театр, кинематограф, зоопарк, я отвечаю: «Нет, тетушка, не был» – или: «Да, тетушка, посетил». Так вот с обоюдной нежностью и общались.
– И как вы поживаете, мой дорогой племянник?
– Да как сказать, тетушка… Все как-то обычно…
– Вчера ездила на кладбище, все оплатила, – Извекова достала из-под скатерти похоронную книжку и продемонстрировала синие оттиски штампиков. – На полгода вперед денег отдала, – и протянула мне книжку: – Держите!
– Рано, тетушка, помилуйте!
– Вы обещали мне!
– Я обещал, не отказываюсь. Но вы, тетушка, торопитесь. Чай, жизнь не стометровка.
– Я вам, дражайший племянник, икону Божией Матери отдам. Прямо сейчас, и дарственную напишу.
– Только не икону. Фу! Уж увольте! И вообще, тетушка, что вы так разволновались? Вам еще лет несколько жить!
– Бросьте, молодой человек! Я знаю, что скоро. Мне же в марте сто три года исполняется. – Она поднялась из-за стола и, шагнув к буфету, открыла небольшой ящичек и выудила из него изящный сигаретный мундштук. – Возьмите его, коли икону не хотите! Он из слоновой кости, с платиновыми вставками. Ар-деко. Продадите, купите что-нибудь новое, а то гляди, как поизносились.
Мундштук я принял, надежно спрятав в кармашек рубашки.
– Изящная вещица, – подтвердил, поглядев на клеймо. – Работа Тамплие… Ладно, давайте ваши документы!
Извекова обрадовалась и принялась перечислять инструкции, которые я уже знал наизусть лет двадцать:
– Пусть положат меня в платье из «Пугливой ночи», ну вы помните, в котором я с Цыгановым в последней сцене выходила. Запомнили?.. Гроб простой, без излишеств, но лицо обязательно нужно покрыть полупрозрачным белым шифоном. На отпевание в Донском приходите в одиночестве, общественность не оповещайте… И слез не ронять, племянник!
– Ни в коем случае, тетушка!
– На квартиру документы готовы, – она задумалась, что-то припоминая. – Кстати, тут вашего знакомца встретила на кладбище. Очень импозантный человек, и барышня с ним чудо какая хорошенькая! Породистая!
– Какого знакомца? – насторожился я.
– Так Иратова! И что самое удивительное – он узнал меня, руки целовал, много искреннего и нежного говорил. Очень приятный мужчина!
– А вы откуда его знаете? – Что-то дернулось у меня в желудке. Кишочка какая-то узелком завязалась.
– Вот тебе на, племянник! Так вы сами и рассказывали о нем. И знаете ли, не показался он мне таким уж нехорошим, как вы его воспроизводили.
– Так как же вы его в лицо узнали?
– Вспомнила! – Старуха заволновалась, уносясь мыслями в прошлое. – Это ж он архитектор дома моего! Когда в восемьдесят восьмом мне от Союза кинематографистов квартиру дали в новом доме, он с полгода ходил по жильцам и интересовался, все ли в доме хорошо, есть ли изъяны какие. Волновался, видно, ведь это его первый проект был, как я помню… Чаем его поила липовым, как тебя… А так думала, что вы, племянник, об его однофамильце сказываете… Мало ли Иратовых!..
– С черными волосами товарищ?
– С черными, племянник! Длинные черные волосы, с единственной седой прядью. Очень это красиво!
– Что же он там делал, тетушка?
Извекова пожала плечами:
– Откуда ж мне знать… Могилу хотел, наверное, навестить какую. А что еще на кладбище делать, племянник?
– Больше ничего не заметили?
– Да как-то меня другие вещи занимали. И на улице он мне изъяснялся, а потом я в тепло пошла. Морозно вчера было!
– Так-так… – проговорил я себе под нос.
– Да нет же! – ударила в ладоши старуха Извекова. – Вспомнила!..
– Что, тетушка? – я чуть не подпрыгнул на стуле. – Что вы вспомнили?
– А вот что, племянник. Встретился он там с молодым человеком. Отошел ваш Иратов метров на десять от своей женщины, приветил молодого человека и пообщался с ним довольно коротко. Потому и позабыла.
Я чрезвычайно взволновался. Кишочка все крепче завязывалась в узел.
– Как выглядел молодой человек?
– Не слишком высок, не слишком низок, – вспоминала Извекова. – Очень тоненький, как тростинка, и, кстати, лицом похож на вашего Иратова, как сын! Или сын и есть? Бледный лицом, будто нездоровый, и во всем черном, как похоронщик!
– О чем говорили?
– Помилуйте, племянник! Слух у меня давно нехорош, и разговоров чужих я не принимаю.
– Ах, черт!
– И что вы так разнервничались? – удивилась бывшая актриса. – Не похоже это на вас!.. Но лица у обоих выглядели заговорщицки.
– Гад, – прошипел я.
– Да что же в самом деле?!
– Помните, тетушка, рассказывал я вам про молодые годы этого Иратова?
– И прелестно помню эту грустную историю талантливого юноши. Но время тогда было такое, закон жестко карал его преступивших. Но сейчас, кажется, разрешено то, что он тогда преступил?
– Не в том дело, тетушка! Рассказ мой был чрезвычайно поверхностным, и я смягчил краски, дабы не тревожить вашу изношенную нервную систему. Повествование мое было для вашего развлечения.
– А что такое? Что вы недосказали?
– Не сейчас, тетушка.
Извекова была любопытной, как и все старухи, не имеющие социальных связей, пережившая подруг и старых поклонников ее таланта. Она жаждала информации, как космонавт кислорода, хотя телевизор не любила.
– Что же было там? – Она засуетилась возле старинного буфета и поставила на стол коробки со сладостями. – Зефир в шоколаде! Коркуновский! – объявила. – А здесь мармеладки! Сейчас чайник закипит, и мы посидим за липовым чаем, племянник, надеюсь, успокоитесь и меня от скуки спасете. А тот, кто спасает, и сам спасенным будет!
– Ну что ж, тетушка, – решился я. – Коли желаете узнать – извольте!.. – И, собравшись, закусывая зефиром, я начал.
…Не был Иратов таким, каким я его описывал раньше. Быть точнее, он вовсе другой субъект! А что рассказ мой до сего момента легкий – так то от нехватки мастерства литератора, чтобы обрисовать столь жесткий, жестокий, полный противоречий характер этого человека. Но я попробую.
Я сказывал, что родительница Иратова всю жизнь свою преподавала английский язык. Будучи дочерью эмигранта, проживавшая до его смерти в английском городе Йорке, она слушала бесконечные рассказы отца, графа Рымникова, о том, что совершил он самую страшную ошибку в своей жизни, когда покинул в двадцать четвертом году революционную Россию. Родину, Господи, покинул!!! Не была с того дня для него жизнь жизнью, так – старая кинопленка с Туманным Альбионом… Был граф до самой смерти черноголов, то ли от грузин произошел, то ли еще какая запрещенная кровь примешалась…
Его дочери Анне едва исполнилось двадцать, когда батюшка скоропостижно скончался, так и не справившись с ностальгией, и был похоронен на городском кладбище Йорка. Через полтора месяца юная девица, матери не помнящая по причине ранней смерти последней, подала прошение в советское посольство с просьбой предоставить ей гражданство СССР как этнической русской. Вскоре она получила удовлетворение на прошение и переехала в Россию, где была вознаграждена комнатой в коммунальной квартире на Тверском бульваре и званием учительницы английского языка в районной школе столицы ее новой родины городе Москве… То, что она совершила ошибку, покинув Британию, Анна поняла совсем скоро, но, не желая прожить жизнь чужестранкой, бесконечно скорбящей о потерянной родине, как ее батюшка, скоро приспособилась и мимикрировала под простых советских граждан.
Прошло несколько времени, и молодая учительница английского познакомилась со студентом строительного вуза Андреем Иратовым, за которого через год вышла замуж – и не пожалела о том, так как супруг оказался добрым, отзывчивым человеком, тянущимся к образованию, а потому слушался жену и посещал консерваторию по абонементу.
Через несколько лет у пары родился сын Арсений.
– В кого ж у него такие черные волосы? – удивился молодой отец, шевелюра которого была почти рыжей.
– В деда! – радовалась мать, кормя сына грудью. – В отца моего!
Мальчику еще не исполнилось трех лет, а он уже свободно изъяснялся как на русском, так и на английском языках. Парень рос на диво красивым и умным, прилично учился, и все бы радовало родителей, если бы не полное отсутствие у него какого-либо интереса к будущему. Ни одна из школьных дисциплин не цепляла его нутра, все ровненько, обыденно, скучно.
– Может, по дипломатической службе пойти? – пытала мать. – У тебя английский лучше, чем мой! Столько книг прочел в подлинниках! Как там у Шекспира пьеса называлась, где герцог Иллирийский Орсино?
– «Twelfth Night, or What You Will»… И кто меня возьмет в МГИМО, внука эмигранта, графа?
– И то правда… Переводчиком? Синхронистом! У тебя же еще и память! Конечно, «Двенадцатая ночь»!
– Предложи еще учителем! – злился десятиклассник Арсений Иратов.
– Что ж, – не отступала мать, – я всем довольна!
– А я нет! Какого рожна ты, спрашивается, уехала из Англии в эту идиотскую страну с паралитиками и маразматиками? Из Британии, Соединенного Королевства! Не хватило демократии?
– Если бы я не уехала, не встретила бы отца!
– Вот беда! Был бы другой! – все больше злился на мать Арсений.
– Тебя бы не было, – удивилась она.
– Я бы был! Только от английского отца!
– Как тебе не стыдно! – корила мать со слезами на глазах. – Отец жизнь кладет на тебя, ночами чертит, днем работает, а ты?!!
– А я просил? Что с того, что он работает? Мы живем в маленькой квартире и питаемся из продуктового магазина, что за углом! У нас нет денег даже в кино сходить! Мы семья Акакия Акакиевича!
– Бесстыжий!
– Оставь меня с моей шинелью, мама!
Отец Арсения Андрей Иратов, человек тихий, болел от каждого грубого слова, от взгляда, наполненного недобрым, – вот так тонка была его душа. Чтобы скрыться от реального мира с его серым бытием, он, запечатав уши берушами, ночами чертил архитектурные проекты, настолько фантастические и невероятные, что казались смешными и нелепыми, как сказка «Алиса в Стране чудес». Хотя кому казались? Жене да сыну!
Анна поддерживала мужа в его увлечении, как всякая жена должна поддерживать мужа во всем, но в глубине души считала хобби супруга наистраннейшим и трогательным. Как могут существовать в городе дома в виде грибов?.. Она представляла себе огромный боровик рядом с Кремлем, как в ножку гриба входят люди, живут в шляпке, и улыбалась застенчиво. Она любила мужа, не оспаривала его очередной фантазии – микрорайона «Опята», а лишь целовала его лицо, почти с тем же чувством, как целовала розовые щеки сына во младенчестве.
Молодой Иратов отца любил, как и всякий сын. Мягкий, добродушный человек, вечно сгорбленный перед чертежной доской, рисующий на ватмане свои фантастические видения, слабый физически, с невыразительным, смазанным лицом, он не вызывал у подростка уважения, лишь иногда жалость. Иратов часто думал про такой парадокс: как можно одновременно любить и вместе с тем не уважать человека, даже презирать иногда?
Молодой человек ответа в семье не находил и все чаще оказывался на улице, где быстро научился развлекаться, курить и понемногу пить портвейны «Кавказ» и «Солнцедар». Утешался игрой в карты и частенько выигрывал трешки и пятерки у дворовых товарищей. Бура и сека давали ему приличный месячный доход, который он тратил лишь частично, остальное откладывал на будущее. Изучив в журнале «Искатель» статью про карточные фокусы, он легко натренировался передергивать листы, что стало приносить ему больший доход. Все бы хорошо, но компанию мальцов посетил только что вышедший на свободу 22-летний сосед Залетин, севший за кражу автомата с газированной водой. Дома поставил, вместо сифона… Когда его арестовывали, милиционеры ржали в голос, заставив идиота тащить стокилограммовый вещдок с шестого этажа на первый. Он-то и подловил Иратова на шулерстве, после чего растолковал молодежи, что в таких случаях предпринимают серьезные люди на зоне.
Его били все. Даже Колбасова, единственная в компании девчонка, жирная матерщинница, отвесила ему по уху. Пацаны с особой сладостью проверяли носками башмаков крепость его ребер, под дых тыкали кулаками и всякое другое физическое насилие пробовали. Остановились лишь тогда, когда лицо Иратова стало круглым, отекшим и вздувшемся от ударов кулаками. Глаза не видели, превратившись в две якутские щелочки.
– У-у-у, рожа! – засмеялась Колбасова. – Якутская рожа! Якут!
От этого дня и прикрепилась кличка Якут к Иратову.
– Хорош, пацаны! – скомандовал Залетин. – Убьете, а это сто вторая статья! Поднимите муфлона! – Его поставили вертикально, поддерживая тело на весу, так как обмякшие ноги не держали и круглая, раздувшаяся, как футбольный мяч, голова болталась на тонкой петушиной шее. – Все пацанское лавэ вернешь! – приказал Залетин. – Завтра же!
– Денег нет, – с трудом прошепелявил окровавленным ртом Иратов.
– Не понял?..
– Нету…
– А где они, Якут? – оторопел от такой наглости Залетин.
– Матери отдал…
– Так заберешь!
– Да пошел ты! – Иратов сплюнул кровью на ботинок садиста. – Лох газированный без сиропа!
Его опять били, и на следующий день мучили, и так целый месяц. Ежедневно после школы, в парке, он получал сильный удар в нос, отчего сломанный еще в первое избиение хрящ сгибался в разные стороны как резиновый.
– Мудаки!!! – неизменно отвечал Иратов. Били под дых, вот такая двоечка боксерская, голова – туловище. И все равно – «Мудаки!!!» в ответ.
А потом Иратова оставили. Просто надоел компании один и тот же распорядок дня.
Что же родители? Мать, безусловно, страдала оттого, что с сыном происходит неописуемый кошмар, пыталась в отделение милиции обратиться, но в ответ получила такой заряд сыновьей злобы, после которого только плакала, прикладывая к лицу Арсения свинцовые примочки.
Для Иратова это была первая наука в жизни, из которой он вынес главное: нужно быть хитрее и мастеровитей, никогда не ломаться и не сознаваться…
Старшеклассник поменял тактику и играл теперь в карты только со взрослыми. Летом – на Водном стадионе, где купались и загорали лоховатые москвичи, заглатывающие ящиками припасенное жигулевское пиво, осенью – в парке Горького за столиками с простым отдыхающим людом. С дворового времени он уже не старался выигрывать за одним столом помногу, вовремя уходил, чтобы не заподозрили.
К концу десятого класса Иратов накопил приличную сумму, на которую можно было купить три двухкомнатные кооперативные квартиры.
В парке Горького, ранней осенью, в чешском пивном баре «Пльзень», за его столик подсели двое мужчин. Взрослые, оба с серыми лицами и синими от наколок руками. Один, который побольше, отхлебнул из кружки пива, продемонстрировав отсутствие двух передних зубов, второй хоть и был с зубами, но нос имел лилового оттенка.
– Катаешь? – осклабился беззубый.
– Что? – не понял Иратов.
– Смотри, Лиловый, умный! Так катаешь? В карты играешь?
– Ну, играю…
– Не нукай, не запряг! Так давай иди играть!
– Не, – отказался Иратов. – Я играю только тогда, когда хочу!
– Смотри, Лиловый, да он главный по парку!
Лиловому шутить не хотелось, уже неделю стреляло в ухе, и ничего от боли не помогало. Ни компресс, ни капли. Пробовал даже водку заливать, но стало еще больнее.
– Слышь, Якут, – заговорил Лиловый, – мы все про тебя знаем! Уже месяц, как срисовали…
– А можно портретик? – попросил Иратов.
– Шутник, однако…
В руке беззубого блеснула сталь финского ножа, незаметно прорезавшего новенькую куртку Арсения и проткнувшего кожу. Струйка крови потекла в джинсы. Он чувствовал ее длинный и горячий след.
– Мы тоже любим шутить, – признался беззубый. – Но не в рабочее время. Слушай внимательно, паря. Мы не босота какая-нибудь, мы смотрящие по парку. Платить будешь каждую неделю половину от рывка. Вот Лиловому будешь приносить в бильярдную!
– А что так много? – удивился Иратов, зажимая кровоточащий бок.
– Такая такса для залетных!
– Уйду в другое место! – пригрозил школьник.
– На Водном там у нас кто?
– Жора Водник и Кеша Менгель… – припомнил Лиловый.
– Там тебе совсем жопа, шкет, – предсказал беззубый. – Знаешь, кем был доктор Менгеле?
Иратов отпил пива из кружки и, пожав плечами, признался, что никакого доктора Менгеле не знает.
– Это такой фашистский доктор был во время войны, – прояснил историю беззубый. – Он опыты ставил на пленных. Так вот по сравнению с Кешей немецкий доктор просто сявка! Вы что, в школе не учили?
– Слушай, пацан, ты от уха никаких средств не знаешь? – спросил Лиловый. – А то такая стрельба в голове, будто Октябрьская революция!
– Я не доктор. Не знаю.
– Ты не лепила – ты катала! – заржал тот, придерживая от тряски ухо.
Посидели.
– Подумал? – Лиловый допил пиво, икнул, закусил соленой корочкой черного хлеба и почти ласково поглядел на Иратова.
– Да не разбираюсь я в ушах! Честно!
– О половине подумал?
– Чего ж так много? – покраснел от злости Иратов. – Работа моя, бабки мои и риски! Всюду менты, да и лохи отмудохают – мало не покажется!
– Знаешь, сколько хороших людей по зонам чалятся? Думаешь, там как у мамы кормят?
– Общак?
– Знаешь… – с удовлетворением произнес Лиловый, но в ухе стрельнуло пушкой, и лицо уголовника искривилось в гримасе боли.
– В общем, так, – резюмировал беззубый. – От ментов мы тебя прикроем, если какой кипеж с лохами – отобьем, во всех шашлычках хаваешь бесплатно. Так что половина не зазорно! Если на Водный потянет, маякнешь, а мы Кешу Менгеля оповестим о нашем договоре.
– Ладно, – кивнул Иратов, – согласен, так как отступать некуда – за нами Москва.
– Вот и переговорам конец! – улыбнулся Лиловый через боль. Стороны ударили по рукам.
Синие тотчас исчезли из чешского бара, будто в мультике. Раз – и Хоттабыча нет! В этом случае – Хоттабыча и Омара Юсуфа, его брата.
Стоя под душем, смывая засохшую кровь, Иратов думал о недалеком будущем. Ему совсем не хотелось ходить под уголовниками, и с Менгелем встречаться желания не было вовсе. Надо было придумать что-то другое. А пока половина так половина! Черт с ними!.. Иратов поклялся отражению в зеркале, что обязательно будет жить на Западе, в достатке и без блатных харь!
…Окончил Иратов школу без троек, но к концу июня никаких мыслей о выборе профессии так и не появилось. Перебраны были все институты.
– Может, в мясо-молочный? – переживала мать. В те времена в мясо-молочный шли только абсолютные дегенераты, так как там по конкурсу был вечный недобор. – Тоже образование… И учиться там не надо, говорят, и одного раза в неделю приходить достаточно…
– Давай уж сразу на токаря в техникум! Или на клоуна в цирковое! Никулиным стану или Шуйдиным!
– Никулиным было бы хорошо… Как он сыграл в «Когда деревья были большими»!
После бесплодных разговоров мать уходила в комнату плакать, а Иратов сматывался из дому, чтобы развеять пряными радостями свою молодую жизнь.
Уже год, как молодой человек приметил кафе «Лира» на углу Тверской. Народу там было не то чтобы много, но весь контингент – из зажиточных. Простых работяг не пускали. На дверях служил кудрявый швейцар по кличке Артемон. Фарца, спекулянты, дети цеховиков и другой непростой народец гуляли в «Лире», спуская огромные по тем временам деньги. У Иратова с наличностью все было в порядке, всегда пачка полусотенных во внутреннем кармане пиджака, он не скупился на себя, да и любил угощать симпатичных девиц фирменным коктейлем «Шампань-коблер». В один из вечеров к нему приклеились девчонки-подружки – студентки-мархистки, обе хорошенькие, как мороженое с розочкой. Грудки, попки – все на месте. Веселые, напоенные коктейлями, будущие архитекторши строили глазки черноволосому красавцу, а потом, захмелев, и вовсе затащили Иратова в общагу, где научили щедрого юношу любви а-ля труа, да с прибамбасами. Иратов со своей внешностью девственником не был с восьмого класса, но здесь голову снесло напрочь. Девицы предлагали и исполняли такое, о чем он и помыслить не мог. Комсомолка была на вкус сладкой, а волейболистка – с легкой кислинкой. Сам парень оказался не только записным красавцем, но и силы любовной имел достаточный запас. Научаясь новым постельным фокусам легко и задорно, продержался почти до утра и под яичницу с любительской колбасой посетовал подругам на то, что нет в нем призвания – никчемное существо он, а потому загремит в армию в осенний призыв.
– Так ты к нам поступай! – предложили девчонки. – Мы для поступления тебе эскизы подберем и проектики… Возьмут!
– Идея! – хором обрадовались подруги.
– А что, Шевцова, ты ж комсорг института, скажешь там кому надо!
– Скажу, – пообещала активистка. – А ты, Катька, по спортивной части подсуетишься, сообщишь, что он тоже волейболист или боксер какой. Ты, часом, не спортсмен?
– В карты могу, на раздевание, – ответил Иратов. – А чего мне в архитектурном делать? Скучно… Панельные дома строить?
– А мы? – обиделась комсомолка Шевцова. – Мы не панельные дома!
– И то верно, – подтвердила волейболистка. – Мы индивидуальные проекты! Заниматься нами можно все свободное время. Разве скучно? – удивилась она, оголив из-под халата крепкую стоячую грудь.
Иратов потянулся к наготе и засмеялся:
– Первый значимый аргумент в пользу высшего образования!..
Иратова вдруг осенило, что ему надо делать, когда он сидел на трибуне Водного стадиона и обувал очередных лохов в буру. От отчаянной мысли он вздернулся, да так неловко, что козырная карта, заныканная для выигрыша, – пиковый туз, вдруг выскочила из рукава летней рубашки, взметнулась птицей ввысь, пропев компании здоровенных мужиков, что они лохи и в данный момент их обувает простой школьник-выпускник. Тяжелая от выпитого пива, оскорбленная компания была готова расправиться с гаденышем, кто-то уже отрывал от трибуны доски, на которых сидели, другие выкручивали Иратову руки, хрустящие в суставах, готовые сломаться в следующий момент. Но здесь подоспела синяя помощь – Жора Водник и Кеша Менгель. Предплечья обоих были обхвачены красными повязками народной дружины, да еще юного рядового милиционера, пришедшего на заплыв по ГТО общества «Динамо», подключили. Блатные вырвали нерасторопного каталу из рук трудового народа и пообещали, что пацан понесет тяжелое заслуженное наказание, вплоть до расстрела.
– Ведь правда, мент? – дернул служаку за китель Жора Водник.
Юный рядовой, ощущая ляжкой червонец, уплаченный Кешей, бодро ответил:
– Точно расстреляем! Или утопим!!!
Лохи, конечно, не верили двум верзилам с наколотыми на руках перстнями и восходящим солнцем, но конфликтовать с блатными никто не желал. Да еще и рядовой мент путал мысли. Короче, Иратова отбили. Мента отпустили на заплыв, а с каталой провели жесткую короткую беседу.
– И какого хера? – поинтересовался Жора Водник.
– Жара, – ответил Иратов. – Пальцы потные! Она и скаканула…
– А ты платочек заведи! – посоветовал Кеша. – А то у нас кривые руки в задницу хозяину засовывают!
Половину ночи Иратов простоял на стремянке, копаясь в антресолях. Сотни отцовских проектов перебирал, удивляясь, как родитель умудрился произвести столько ненужного хлама. На одну бумагу денег ушло немерено! Ладно бы кому показывал, а чтобы для себя…
Иратов выбрал три ватмана с чертежами и эскизами домов. Решил остановиться на овощной теме, совершенно безумной. Дом «Помидор», высотка «Огурец» и спортивный стадион в виде разрезанной вдоль полутыквы вызывали гомерический хохот.
А что, решил, эти проекты и станут работами для моего поступления. Непонятый гений! Хоть мать на время успокоится… Тщательно изучив детали эскизов, Иратов сдал работы в приемную комиссию и, закончив дело, тотчас забыл о нем, отвлекся на другие, правильные и своевременные мысли.
Некоторое время назад он заприметил, как какой-то модный ломщик, сидевший с целой компанией фарцы, незаметно расплатился в кафе «Лира» десятидолларовой банкнотой. Сунул под салфетку бармену… Бля-я-я!!! Иратов понял, что больше никогда в карты для заработка играть не станет, пошли на хер Лиловые и Менгели, трояки и пятерки, грязные и вонючие – что те, что другие! Теперь он точно знал свое призвание. Если на десятку можно накормить и напоить целую ораву, то, если бы у него в кармане пряталась пачка стодолларовых банкнот, можно было бы залить бухлом и нахарчить всю Москву с одного захода! Это вам не парк Горького и не Водный стадион. Чистое дело, без всяких лохов с пьяными харями и блатной романтики, дело хоть и рисковое, но для него, для его эго стоящее… Иратов уже представлял свою полную конвертируемость в мировом пространстве, значимость на финансовых рынках, знакомства с сильными мира сего; настроение у него поднялось до небес, и духом Вселенная заполнилась.
Лежа бессонной ночью в кровати, с мефистофельской улыбкой он неустанно шептал: «Здравствуй, призвание»!
Несколько дней будущий валютчик терпеливо поджидал в «Лире» незнакомого ломщика для деловой беседы, но тот исчез бесследно. Молодость и терпение, как известно, трудно совместимы. Для выхода на валютную сцену Иратов решительно подсел к бармену и без обиняков заявил:
– Мне нужно пять тысяч долларов!
Бармен Леша, ездящий на единственном «вольво» в столице, поглядел на пацана снисходительно и снисходительным же тоном поинтересовался:
– Мозгами отъехал?
– Я серьезно!
– А с чего ты взял, что я валютой занимаюсь?
– Видел.
– Глазастый… Ты же катала? Якут, так? По паркам промышляешь! Каталы валютой не занимаются! Другая тема.
Теперь пришла очередь Иратова удивляться:
– Ты откуда про меня знаешь?
– Это моя профессия, – пояснил бармен Леша. – Знать, кто где и чем занимается. Выпьешь?
– На рубль больше заплачу за каждый зеленый! Налей «Шартрёза»!
– Знаешь, что в Индии есть четыре основные касты?
– На фиг мне?
– Есть брахманы – священнослужители индийские, это высшая каста, – бармен Леша плеснул в рюмку ликера. – Чуть ниже кшатрии – воины, за ними вайшьи – ремесленные люди и шудры – разнорабочие и слуги… Есть еще неприкасаемые. Кто до них дотронется, сам неприкасаемым станет! Низшая каста…
– Зачем ты мне все это рассказываешь?
– Невозможно из одной касты подпрыгнуть в другую. Можно только упасть. Нельзя стать брахманом, если ты кшатрия. Ни родством, ни деньгами, никак. Родился вайшьей – им и умрешь!.. Если тебе из школьной программы пример нужен, то здесь совсем просто: «Рожденный ползать летать не может»!
– То есть, – вывел Иратов, – если я катала, то, чтобы валютой заниматься, голубая кровь нужна? Так получается?
– Вывод правильный, – улыбнулся Леша. – Еще выпьешь? За мой счет?
– Лучше ты за мой.
– Не жалей, парень! Зато за карты вышку не дают.
– На три.
– Что «на три»?
– На три рубля больше дам за доллар, нежели на черном предлагают!
– Ну ты приставучий! Тебе что, своих бабок мало?
– Не в этом дело, – не унимался Иратов.
– А в чем? – Леха взял с блюдечка апельсиновую дольку и вместе с коркой засунул в рот.
– Брахманы брахманами, а гусеница ползала-ползала, а потом взлетела! Будешь посредником – можешь трешку себе взять. На сделке пятнадцать тысяч рублей поднимешь. Дачу Зыкиной купишь! На трех гектарах! Три дома, баня, свое озеро! С маклером сведу.
Бармен Леха, сохраняя на зависть полное спокойствие, сказал, что несколько времени подумает.
– Посиди пока, – попросил. – Жюльены будешь? Бутерброды с икрой?
Иратов нервно ждал. Его почти трясло от нетерпения. Леха куда-то выходил, наверное в подсобку звонить по телефону, советоваться с кем-то. Он долго не возвращался, затем появился с кровавым лангетом на тарелке. Порезал на стойке мясо на кусочки и принялся медленно есть. Жевал нудно, как корова травяную жвачку.
Прошло еще полчаса. Затем следующие. Стрекотал на барной стойке вентилятор. Иратов, глядя на жующего, как верблюд, бармена, терпел.
Бармен наконец доел и подцепил на вилку зеленую горошину, оставшуюся от гарнира. Разглядывая ее на свет, как драгоценность, кивком головы подозвал Иратова и коротко предупредил:
– Если какой косяк – пуля. И тебе, и мне. Понял?
– Понял. А чего так долго ел? Мясо жесткое?
– Брахманы каждый кусок жуют до шестидесяти раз… Завтра здесь же в восемь утра.
– А с чего ты решил, что ты брахман? Может, неприкасаемый…
– С бабками не просчитайся! – пропустил сарказм мимо ушей Леха.
– Справлюсь…
Следующим утром произошел обмен. Все случилось просто и быстро. На старом «москвиче» к кафе подрулил дядька в мятой шляпе, с маленькими глазками за толстыми стеклами очков, похожий на бухгалтера из ЖЭКа, зашел в «Лиру», где его уже ждал Иратов, доедающий глазированный сырок. Рядом суетился Леха, нервно протирая столы. Сегодня кудесник коктейлей не был таким спокойным и уверенным, как вчера. Он боялся. Боялся, что парень запросто мог запалить его гэбухе, что может возникнуть роковой казус, подстава, – но пятнадцать косарей!.. Леха отдавал себе отчет в том, что рискует жизнью, отчего немного потел и чувствовал в своих яйцах лед.
Дядька вошел и, проигнорировав предложение Лехи позавтракать, вытащил из кармана плаща пухлый конверт с маркой «авиа» и небрежно бросил на стол.
– Здесь? – кивнул на спортивную сумку, висящую на спинке стула.
– Здесь, – подтвердил Леха.
– Твои? – повернулся к Иратову.
– Мои.
Дядька сунул Иратову визитку, взял сумку, предложил звонить, если что, и, не заглядывая внутрь, отбыл.
– Это что? – спросил Иратов, глядя на конверт.
– То, что хотел! – Леха еще по инерции нервничал, но горячая кровь прилила к ягодицам, согревая ледяные яйца. – Где мои пятнадцать?
Иратов, заглянув в конверт, нашел там пачку стодолларовых банкнот. Вот как выглядят пять тысяч долларов!.. И в тот же самый миг, как мозг осознал, что на такую сумму, умещающуюся в обычный конверт для писем, можно купить в Сочи домик со своей пальмой и персиковым деревом, – в этот самый миг его сознание будто расширилось беспредельно, словно сверхновая звезда взорвалась, и заявило душе: теперь Я могу делать все! Я ЗНАЮ ПРИКУП! Душа на такое заявление не отреагировала. Душа вообще никогда с сознанием не общалась.
– Бабки мои где? – Леха помешал иратовской эйфории забрать в плен все его существо. – Ты куда отъехал?
– Приехал! – очнулся новоиспеченный валютчик. Вытащил рубашку из штанов, снял с голого тела самодельный полиэтиленовый пояс с деньгами и бросил его Лехе: – Держи, Зыкин!
– Ты чего, мудак?!! – бармен поймал денежный пояс. – Засветишь! – и быстро запихнул деньги за батарею.
– Не паникуй!
– Не мог полторы пачки сотенных принести? Червонцами там, что ли! – злился Леха.
– И червонцы есть, и пятерки с трешками. Сам знаешь, что за стольник цеховики платят по десять рублей. Итого с пятнадцати тысяч минус полторы. Могу поменять!
– Да пошел ты в жопу, – выругался бармен. – В следующий раз чтобы стольниками было!
Иратов поднялся из-за стола и направился к выходу. Обернулся в дверях и произнес с улыбкой:
– А следующего раза не будет! – и помахал визиткой, оставленной дядькой. – Бывай, брахман! Или ты неприкасаемый?.. Мне не бабки были нужны, а конец!.. Маклер наберет тебя завтра.
Леха понимал, что ему никогда не дорасти до высших сфер, знал про себя, что мудак, в который раз расстроился на эту тему, но мысль о пятнадцати тысячах рублей в полиэтилене все же отогрела его яйца до нормального состояния… Ну и пусть мудак, зато с зыкинской дачей! А много ли мудаков за сутки пятнадцать косарей снимают за посредничество?! Не-е, я не мудак! Мудаки вон там, в метро спускаются!
В этот же день Иратов на такси подъехал к валютному магазину, вошел в него по-свойски, кивнул комитетчику, маячащему на пороге засаленным костюмом – мол, вот он я, из КГБ, – и спросил красивую продавщицу по имени Маша на прекрасном английском, где бы он мог посмотреть верхнюю одежду. Девушка, трудящаяся в валютке третий год, в ответ заулыбалась, заискрила глазами, мечтая, чтобы какой-нибудь иностранец из дипломатов рассмотрел ее получше, ведь она может быть отличной женой и матерью в Европе, но лучше в Америке, конечно! К молодому черноволосому красавцу она отнеслась как к потенциальному избраннику, надеясь, что юноша сын какого-нибудь значимого посла, и, оборотившись стопроцентной прелестью, показывала с невинным задором посетителю зимние французские костюмы, свитера финские, дубленки ирландские.
Иратов покачнулся и чудом не потерял сознание – хорошо, спиной оперся о стойку с вешалками. Он, конечно, фантазировал о том, как выглядят валютные магазины, рассматривая время от времени импортные журналы, но то, что каждая вещь, каждый кусочек самого магазина, да и продавщица-прелестница вместе с кагэбэшником станут для него немыслимой силы культурным шоком, мощным потоком эндорфинов, ожидать никак мог. Сотни баночек с дефицитной рыбой, ветчина разных сортов, соки экзотических плодов, про которые он только в приключенческих романах читал, мясной и рыбный прилавки, жвачки по шесть и двенадцать пластинок и сигареты «Мальборо» многочисленными блоками – все это кружилось в его сознании непостижимым, ирреальным миром, в который он попал, в котором он пропал…
Увидев ценник на дубленке, разглядев цифры в валюте, он посчитал, что может позволить себе купить вместо домика в Сочи всего лишь пять пусть модных, но попросту бараньих тулупов. Эта арифметика ошеломила его, вогнала в ступор от еще одного осознания, что только в одном этом магазине товара на миллионы советских рублей… Посмотрев в зеркало, Иратов нашел в нем лицо идиота. Пунцовый, с дурацкой улыбкой и глазами орангутанга из зоопарка, впервые лицезрящего корзину, полную бананов, он осознал себя неконвертируемым совком, у которого всего-то средств, чтобы купить себе в том, другом мире, куда он лишь понарошку шагнул, всего два чемодана иностранного шмотья, ну и на пожрать иностранных консервов останется.
– Нашли что-нибудь приятное для себя?
– Да, Маша. Я бы купил сок апельсиновый, бутылку шампанского и блок сигарет.
– Отлично! – Продавщица, то и дело вздергивая ресницами, укладывала продукты в полиэтиленовый пакет. – Тридцать пять долларов сорок центов! А откуда вы знаете, как меня зовут? – Это был старый, отработанный приемчик. Впрочем, с ним он никогда не срабатывал.
– Бирка на груди… А сколько стоит пакет?
– Пакеты бесплатно. Все время забываю про бирку… Давайте я пакет в пакет положу для надежности, чтобы не порвался. Вот ваше шампанское. Празднуете что-то?..
Машинально Иратов подумал, что такой пакет с рекламой сигарет можно реализовать по пять рублей за штуку, итого десять.
– Праздную.
– Здорово!
– Шампанское для вас, Маша! И вы мой праздник!
Иратов приехал к ней домой в половине двенадцатого. Огромная луна висела над Москвой… А у Маши ночью светилась кожа. Очень белая, будто мукой посыпана, мягкая и нежная… Она стонала, шептала «Алекс!», старалась попасть узкими бедрами в такт его движениям, целовалась жарко и страстно, в конце сильно кричала, и Иратову пришлось накрыть ее запекшийся от страсти рот ладонью, дабы не перебудить соседей:
– Тише, Маша! Тише!..
Утром, натянув джинсы, он пожелал проснувшейся и счастливой Маше «гуд морнинг», а потом повторил по-русски:
– Доброе утро, Маша!
– У тебя хорошее произношение! – признала девушка, нежно целуя иратовское лицо.
– Маш, да я свой, советский! Не надо по-английски! Меня Васей зовут!
Пауза…
Столько грязной ругани прокричала в его адрес прелестная Маша, сколько он даже от мужиков никогда не слышал! Под истерические вопли Иратов быстро натянул майку и, не зашнуровывая кроссовки, бросился вон. Сбегая по лестнице, ржал как конь, слыша, как вопит вслед его ночная фея, все больше удивляясь кудрявости матерных выражений. Ее крик ненависти был точно таким же, как крик страсти, – отчаянный, он проникал сквозь этажи с бетонными перекрытиями, а Арсений, молодой и удовлетворенный, прыгая через четыре ступеньки к выходу, ощутил, что жизнь прекрасна, что все счастливое только начинается и не будет ему конца!.. Последнее, что уловило ухо, было: «Я тебя, сука, сдам!» – после чего он вырвался в теплое московское утро с поливалками и запахом отцветающей сирени.
Иратов никак не мог знать, что о его приходе в валютный магазин немедленно сообщили в отдел КГБ, курирующий район Тишинки.
Сделал это лейтенант, тот самый, у которого на лице было нарисовано, что он комитетчик, со странными именем и фамилией – Фотий Прыткий.
– Наш? – поинтересовался дежурный по отделу.
– Наш, начинающий! Я наших срисовываю на раз!
– Поэтому ты, лейтенант, и в валютке! Глядишь, до дьюти-фри дорастешь!.. Может, родственники у него за границу ездят, какие-нибудь посольские? Покупка-то на большую сумму?
– Нет, копейки, – доложил Фотий Прыткий, у которого зарплата была в три раза меньше, чем стоимость покупки в долларах. – Может, и родственники… Хотя тогда они должны валюту на чеки менять… И расплачивался он стодолларовой банкнотой.
– Верно… Вы там поглядывайте коллективом… Еще появится – сигнализируйте.
– Есть!
– А что продавщицы, блядуют?
– Если да, то не со мной…
– Бди, Прыткий!
На имя Арсения Иратова по почте прибыл конверт из МАРХИ, в котором сообщалось, что творческий конкурс абитуриент прошел, допущен к экзаменам, но прежде должен явиться в ректорат на коллоквиум.
Мать, вскрывшая депешу с новостью, встретила сына с удивлением и восторгом.
– Я верила! – слезы счастья катились по пухлым щекам. – До самого конца! Почему ты скрывал? Андрей, ты слышишь? – обратилась она к мужу. – Наш сын прошел творческий конкурс на архитектора!
Иратов удивился этой новости и поглядел на сгорбленную спину отца, который, казалось, не слышал торжественного сообщения жены. На мгновение Арсений ощутил прилив нежности к родному человеку, глаз замутнел от набегающей слезы, сын разглядывал затылок отца – потускневшие рыжие волосы, торчащие перьями в разные стороны, маленькую плешь на макушке… Мгновения нежности ушли, слезы высохли…
Собеседование проводили педагоги института во главе с самим ректором – как потом узнал Иратов, легендарной личностью в архитектуре, человеком, по приказу Хрущева в соавторстве придумавшим пятиэтажки, давшие народу возможность иметь крошечные, но собственные квартиры.
Голова ректора Староглебского возвышалась над всеми макушками в приемной комиссии. Высокий седовласый старик, похожий на памятник какому-нибудь герою-полярнику, с моржовыми усами, свисающими к подбородку. Края усов окрасились желтым. Староглебский был заядлым трубочным курильщиком, никотин въедался темным янтарем в его усы и подушечку большого пальца, которым он табак приминал.
– Фамилию назовите! – попросила секретарь приемной комиссии, по совместительству жена Староглебского. Она была много моложе мужа, но с такой же седой головой. Она тоже курила, но сигареты без фильтра, пыхая в атмосферу облачками ядреного дыма. Она любила мужа, гордилась им и старалась быть верной партийной подругой…
Позже Иратов станет любимчиком ректора за талант и возьмет на себя маленькую обязанность время от времени презентовать Староглебскому изящные курительные трубки для коллекции. И про жену его не забывал, доставая американские сигареты «Лаки Страйк» без фильтра. Но это все позже… Сейчас молодой человек выслушивал из уст ректора слова похвалы таким необычным идеям, пришедшим в столь юную голову:
– В вас, Иратов, есть искра! Надо же, тыква!
Староглебская пустила клуб дыма к потолку и дополнила слова мужа:
– Постарайтесь из искры раздуть пламя, а не тыкву!
– Но вы понимаете, что ваши проекты – это отдаленное будущее, – заявил ректор. – А сейчас советский человек нуждается в современном жилье, простом и удобном! – Он говорил торжественно, как на партийном собрании. – Мы должны проектировать новые очаги культуры, не просто какие-то дома культуры с танцами и кружками кройки и шитья, а именно очаги! Здания по десять тысяч метров, в которых будут располагаться и театры, и выставочные залы, куда будут иметь доступ народные таланты, чтобы получить наставления уже маститых, так сказать, художников… – Староглебский закашлялся и выпил из граненого стакана воды. – А вы знаете, молодой человек, кто придумал вот это? – И вытянул длинную сухую руку со стаканом, как с факелом.
Иратов не имел понятия, что стаканы надо придумывать.
– Вот этот граненый стакан? – продолжал ректор. – Это великая Вера Мухина! Все мы умрем, наши дети и внуки уйдут в небытие, а стакан Мухиной останется навечно, ибо он – произведение искусства!
– Да, – согласно кивнул Иратов, никогда не слышавший про Мухину. Он вообще не знал ни одного архитектора. И опять сын испытал нежность к своему родителю. Это чувство одновременно болезненно раздражало молодого человек и вместе с тем было мучительно приятным.
– Готовьтесь к экзаменам! – подытожил ректор. – Есть в вас искра!
За дверями приемной комиссии Иратова ждали две подружки, комсомольский вожак Шевцова и волейболистка Катька, обе с немым вопросом на розовощеких девичьих лицах.
– Прошел, – ответил Арсений.
– Ура-а-а-а! – закричали студентки от радости. – Гуляем!!!
Оказалось, что еще не всем любовным забавам обучили подружки недавнего школьника. Празднуя прохождение творческого экзамена, опиваясь «Советским шампанским», объедаясь эклерами с заварным кремом, девчонки увлеклись, и вдруг губы их встретились в страстном поцелуе. Удивленный Иратов, лежащий голым на постеленных на пол покрывалах, со смехом спросил, не перепутали они чего. Не лучше ли заняться тем, что уже готово к бою? Но девушки не отрывались друг от друга, возбужденно дышали и, казалось, вовсе забыли про Арсения.
Он не подозревал, что такое существует, решил второпях, что это как-то совсем уж за гранью, но через секунды его мозг отказался мыслить, перейдя в режим рефлексий. Зрелище двух занимающихся любовью девушек оставило Иратову из органов осязания только глаза да нос. Последний что-то учуял незнакомое, тревожащее и животное, отчего тело молодого человека затряслось как в лихорадке, он обхватил плечи руками. Возбужденный, предельно напряженный, Арсений все ближе придвигался к любовницам, словно доминантный шимпанзе, а когда Шевцова тихо застонала, сообщая, что пик наслаждения совсем рядом и любовные молекулы рассеяны в атмосфере, Арсений выстрелил, как сжатая пружина, и, как дикий кот, прыгнул на подружек… Три человеческих тела одновременно достигли кульминации одного события и еще долго оставались сплетенным клубком единого сознания, прилипнув кожей друг к другу… Через несколько минут, когда сознание вернулось в выпростанное тело, победив рефлексы, Иратов вновь подумал, что все только начинается, что создан человек для счастья и к нему это счастье пришло навсегда.
6
Я прервался… Мне надо было напиться воды. В горле пересохло. Прильнув к водопроводному крану, я жадно глотал тепловатую струю, пока не напился вдоволь.
Старуха Извекова спала, откинувшись в кресле.
Теперь можно и зефира поесть, подумал, вернувшись за стол. Но зефир неожиданно оказался черствым как камень, хотя я прекрасно помнил: он должен был быть свежим. Поглядев в окно, я обнаружил, что огромные белые сугробы опали, а из-под их почерневших оснований в разные стороны текли весенние ручьи. Открыл форточку и услышал гомон птичьих голосов. Точно весна, подумал. И как я так упустил время?.. Неожиданное предположение заставило меня вплотную подойти к тетушке и наклониться к ней, хотя я уже и так понял, почуял, так сказать, ее – смерть. Я всегда чую мертвое… Народная артистка СССР Извекова, моя названая тетушка, скончалась… Вот ведь прозорливая, усмехнулся я. Все-то она почувствовала загодя…
Мне нужно было на время вернуться домой, но прежде я поднял мертвое тело с кресла и положил его, легкое и сухое, на ковер. Чтобы тело действительно лежало, а не сидело на полу, словно ряженая кукла, я распрямил окостеневшие суставы, подвязал ей подбородок бинтиком, огляделся вокруг и вышел вон.
Как прекрасна Москва весной! Запах нового, аромат возрождения щекотал ноздри. Даже автомобили, стоящие в пробках, не казались безнадежно унылыми. Все здания умылись весенним дождиком и выглядели обновленными.
Зашел на Петровский бульвар к Антипатросу. Грек привычным образом побрил меня, выровнял машинкой волосы и выстриг из ноздрей постороннее.
Перед уходом я поинтересовался, как у него дела, но грек обыденно молчал и на вопросы внимания не обращал.
– А как же ты попросишь в кассе билет до Праги? – поинтересовался напоследок. – Или тебе туда не нужно?.. В Прагу нужно всем! Как он билет попросит? – обратился я к мулатке, но она лишь захлопала голубыми глазами и скрылась в подвале, оставив легкий след сладкого мускуса. Они здесь все немые.
Возле своего подъезда я встретил, как всегда трясущегося от похмелья, соседа Иванова и предупредительно выпалил:
– Денег нет!
– А я думал, что ты того! – сосед чиркнул себя пальцем по шее.
– Чего того?
– Ну, помер… Три недели не выходил из дому! Я уж к замочной скважине принюхивался, со слесарем Георгадзе договорился вскрывать дверь.
– Надо милицию вызывать в таких случаях, а не вскрывать чужие двери! – зарычал я. – У меня в квартире ничего ценного нет! И нечего лезть к посторонним! Ты что, брат мне?
– Дай рублей пятьдесят, – взмолился сосед Иванов. – Не похмелюсь – на преступление пойду! Зинку-ларечницу грабану!
– Да хоть Сбербанк! Денег нет, я безработный!
Сосед Иванов что-то тараторил вслед, но я уже поднимался по лестнице, взволнованный одной мыслью. Вдруг повезет? Ведь не может это продолжаться вечно!
Сев на стул, я поставил на колени проводной телефон и долго смотрел на него…
Я не решался звонить по мобильной трубке, а этот старый черный дисковый аппарат внушал мне оптимистические надежды. Набрал все известные комбинации номеров. На другом конце трубку не поднимали, а я все слушал и слушал ноту гудка. До-диез, на две четверти… Я даже повыл в унисон… Прождал у телефона несколько часов, а потом учуял тянущийся в открытую форточку запах пожара.
Выглянув в окно и рассмотрев горящую за рядом старых тополей продуктовую палатку, я тотчас понял, что сосед Иванов все же грабанул Зинку-ларечницу. Да, подумал, у этого вечно похмельного человека слово с делом не расходится. Послышался вой пожарных сирен. Но мне было уже неинтересно. Насущные дела ждали безотлагательно. Выпотрошив в пакет мусорное ведро, я вышел из дому и… На привычном месте сидел удовлетворенный сосед Иванов. Рядом с ним на скамейке расположилась початая упаковка баночного пива. Три пустые смятые жестянки валялись в грязи. Выбросил в контейнер мусор…
– Зинка-то жива? – поинтересовался.
– А что с ней станется! – улыбнулся сосед Иванов. – Орала только очень. Надо было и ее заодно сжечь!
– Она же сдаст тебя!
– Да и хер с ней!.. А ты чего так волнуешься? Брат ты мне, что ли? Передачи станешь носить?
И правда, подумал я, какого хрена я с этим дураком веду постоянные диалоги. У меня своих неотлагательных дел множество… Я вернулся в квартиру Извековой. Старуха лежала на ковре. А куда она могла деться… Порывшись в секретере и открыв ключиком нужный ящичек, я выудил из него бумаги, среди которых была дарственная на квартиру – естественно, на меня, – нашел в обложке паспорт актрисы и пластиковую карту крупного банка. На обратной ее стороне заботливо была приклеена бумажка с цифрами кода. Все найденное я положил в нагрудный карман пиджака и вызвал участкового. Все по закону!.. Пока ждал участкового, попытался все-таки разгрызть зефир, но даже моим крепким зубам это было не под силу.
Участковый прибыл довольно скоро. Войдя в комнату, он лишь чуть наклонил голову к мертвому телу и спросил:
– Вы ее на ковер определили?
– Так точно! – отрапортовал я. – Санитары из труповозки всегда недовольны, когда обнаруживают мертвых в сидячем положении.
– Откуда опыт? – поинтересовался участковый. Полицейский выглядел усталым, но обязанностями не манкировал, осматривал квартиру тщательно.
– Нынче при жизни такой почти у всех имеется похоронный опыт!
– И то верно… Паспорт ее где?
– Так у меня, – я достал документ и протянул участковому.
– Ого! – в голосе полицейского зазвучал интерес. – Сто три года!
– Да… Живут же люди – больше века! А многие до пенсии еле дотягивают, а то и вовсе… Платишь государству налог, а потом за год до трудовой пенсии протянешь ноги и денежки государство себе захапает!
– Мне до пенсии далеко. Хотя дядька мой именно в пятьдесят девять помер.
– От какой такой болезни, позвольте поинтересоваться?
– Не от болезни. Надорвался… У него там на заводе огромный станок сорвало с фундамента, и заскользила железяка по разгильдяйски брошенным трубам. Так дядька три тонны держал целых десять минут, пока помощь не пришла.
– Зачем же?
– Добро спасал…
– Чье?
– Вот и я его перед смертью спрашивал: мол, дядь Вить, на какой хер? Это же не государственное предприятие, а преступно-олигархическое! Ты чего – добро капиталистическое пожалел? А он мне в ответ: не знаю, мол, на какой хер, как-то само получилось… И помер. А вы кем бабушке приходились?
– Племянником меня считала…
– Документики, – попросил. – Данные ваши перепишу.
Поговорили еще о разном социальном и обсудили скандальную телевизионную программу. Нормальный собеседник этот участковый!
Дверной звонок оповестил нас о прибытии труповозки. Приехавшие на вызов ребята угрюмо оглядывали пейзаж.
– Давайте бумаги! – приказал полицейский. – Я распишусь. Заполните сами… – и ко мне обернулся: – Завтра справку о смерти получите, если никакого криминала.
– Какой уж тут криминал!
Участковый крепко пожал мою руку и отбыл по служебным надобностям.
Угрюмые парни уложили Извекову на носилки и понесли по лестнице ногами вперед.
– Я поеду с вами, – твердо сказал я, когда носилки затолкали внутрь старой «газели».
Работники морга пожали плечами. Им было все равно. Даже денег не попросили.
В машине трясло.
– Старуха-то давно померла, – констатировал работник, который пошире в плечах. – Замумифицировалась!
– Мумифицировалась, – поправил я.
– Что?
– Все хорошо, – успокоил.
– Как Ленин, – заявил второй, поуже в плечах. – Ленин тоже мумия.
– Его забальзамировали, – уточнил. – А тетушка моя жизнь праведную прожила, вот и не разложилась после кончины.
– Я точно разложусь, – проговорил тот, который пошире.
– И я, – кивнул тот, что поуже.
После такого утверждения санитары уставились на меня.
– Я не знаю, – замялся. – Впрочем, почему не знаю – тоже загнию через час, как вы. – Мне не хотелось расстраивать работников морга.
Так и случилась наша компания – сбившись на общем понимании важных вещей. Который пошире достал из кармана униформы бутылку водки, а тот, что поуже, – пластиковые стаканы. Быстро разлили.
– За нас!
– За нас!
Ну, и я повторил этот тост. Выпили не закусывая. Санитары наклонились над старухой и, глубоко вдохнув, занюхали водку. Я воздержался…
Прибыли в морг 36-й больницы. На стук в металлическую дверь санитарам открыла женщина лет сорока, с крупной головой в маленькой медицинской шапочке. Бросила короткий взгляд и скомандовала:
– Бумаги!
Санитары передали судмедэксперту документы, а тот, что пошире, спросил:
– Нина, ты не в духе?
– Это ты, Жора, не в духе! – ответила работница морга. – От вас водярой несет, такой духан, а у меня работы полно! Давайте тащите на восьмой стол.
Санитары занесли носилки внутрь, я семенил рядом.
– Нина… – обратился к судмедэксперту. – Как вас по батюшке величать?
– Соломоновна, – ответила суровая женщина.
– Достойное имя подарено было вашему батюшке!
– Вам дальше не положено! – Она достала из кармана банку с кока-колой, ловко вскрыла и выпила шипящий напиток до дна. Рыгнула в ладонь…
– Видите ли, – попробовал объяснить я, – воля покойной такова, чтобы я, и только я, подготовил ее тело в последний путь. Только мне доверяла…
– А вы кто?
– Я?.. Я в некотором смысле гример… Это актриса Извекова, если помните такую…
– Не помню. Мне все равно, кто ее будет снаряжать. Только извольте явиться послезавтра часов в семь утра. До этого времени я успею обследовать тело.
– Можно ли не вскрывать? – попросил я. – Бабушке сто три года! Естественные, так сказать, причины…
– Проведу визуальный осмотр, если не будет необходимости, резать не стану.
– Спасибо, – обрадовался я.
– Извекова… Нет, не помню… До свидания.
Я откланялся и первым делом отправился к ближайшему банкомату и снял достаточно денег. Поймав попутную машину, попросил отвезти на улицу Герцена.
– Дорога покажещь – пятьсот!
– Дорого! За навигацию сотню скинь.
– Садись, навигатор!
В машине плохо пахло, двигалась она по дороге как-то боком, а водитель, узбек или таджик, бодро вторил своей национальной песне… Доехали, слава Всевышнему, живыми. Я расплатился пятисотрублевой бумажкой и услышал привычное:
– Э-э, сдачи нет!
– Нет так нет, – заключил. – Тогда я на сдачу твою музыку заберу, – и потянулся к автомобильному магнитофону.
– Ай! – испугался таксист. – Музыка не трожкай! – Мои пальцы мертвой хваткой вцепились в приборную доску. – Щас, щас отдам. Че ты такой нервический!..
Получив свою сторублевку на сдачу, я вошел в магазин театральных принадлежностей, где купил белый прозрачный шифон в количестве двух метров и коробку театрального грима. Также приобрел колонковую кисточку и тушь для ресниц. Взял еще пару пуантов…
На обратном пути я разменял сотенную, купив пачку сигарет без фильтра, достал из кармана извековский мундштук работы Тамплие, засунул в него «Приму», попросил в киоске зажигалку и подкурил… До сего дня я табака не пробовал, а потому всецело отдался новым ощущениям. Пуская дым носом, перекатывая его на языке, я не смог найти в курении ничего радостного, но и грустное в нем отсутствовало… Выбросив окурок в урну, решил, что иногда буду все же пускать дым, как грозные вулканы Камчатки – просто так, для форсу.
Далее путь мой лежал в магазин готовой одежды итальянских марок, где после нескольких примерок я выбрал темный костюм, две рубашки, одну белую, другую черную, и к ним три пестрые модные бабочки. Подобрал ботинки и несколько пар носков. На выходе я столкнулся лицом к лицу с Иратовым, и меня передернуло. Он дольше положенного незнакомцу задержал на мне взгляд. Потупившись, я уставился на Верушкины бесподобной красоты ноги. Бочком покинул бутик, думая: как же Иратов может без него обходиться? И зачем он ТАКОЙ нужен Верушке?
Возвращаясь к своему дому, я радовался, что теперь уж точно не встречу соседа Иванова. Наверняка этого нищеброда на пару лет определят в казенные апартаменты.
Каково же было мое удивление, когда на привычном месте, на лавочке возле моего подъезда, я обнаружил довольного соседа. К тому же он был не один – обнимал за талию дородную женщину с черными мешками под глазами и с непрокрашенными седыми корнями малиновых волос.
– Моя Зинка! – довольно осклабился сосед Иванов и принялся беззастенчиво лапать пышные формы подруги. – А ты, поди, думал, что я уже в СИЗО?
– Не думал, а был уверен!
– Ну не надо… – просила басом Зинка-ларечница, когда сосед полез к ней под блузку. – Здесь посторонние мне!
– Какие же это посторонние? – удивился сосед Иванов. – Соседи не бывают посторонними! Сосед даже важнее жены. Сторожит меня от бесчинств!
– И за какие же достоинства эта благородная дама простила тебя? – поинтересовался.
– Я предложил Зинаиде стать мне боевой подругой на оставшееся для моей печени время! И она великодушно согласилась. Правда, Зин?
Пенсионного возраста Зинка, опустив к земле несветлые очи, кивнула и опять шаляпинским голосом пробасила короткое:
– Да…
– Зинка будет жить в моей квартире, а за то я становлюсь долевым участником ее ларька. Все пополам! И квартира, и бухло с колбасой!
– Так ларек же сгорел! – удивился я.
– Сгорел, – подтвердил сосед Иванов. – Но не Зинкин, а Тамаркин! Нашему только бок подпалило…
– Так это вы ее? Тамарку?
– Тебе, как брату, отвечу честно. Мы. На семейной летучке решили убрать конкурента.
– Надеюсь, Тамарки не было внутри?
Сосед и Зинка переглянулись:
– Мы не проверяли…
– Если конкурентка сгорела, – просветил я, – и вас поймают, то могут определить лет на двадцать. Да, в общем, сами разбирайтесь! Мне здесь с вами недосуг. – И пригрозил: – Не плевать, окурки не затаптывать здесь и не распивать под окнами! Дети малые наблюдают. А то сам вас сдам! Понятно выразился?
– Понятно, – безрадостно согласился сосед, а Зинка задумалась над судьбой Тамарки – вроде как сестра родная…
Поднявшись в квартиру, опять набрал тот же телефонный номер… Не надо так часто звонить – раздражаю и рискую никогда не услышать ответ.
Заказал по мобильному суши из ресторана, находящегося в двух кварталах от дома. Быстро и с удовольствием пообедал… Затем онлайн оплатил гроб, катафалк и венок из гвоздик на послезавтра. Кажется, все было сделано, и я, поставив будильник на шесть утра на послезавтра, со спокойной совестью уснул.
В 6:45, с двумя сумками в руках, я уже звонил в дверь морга.
Патологоанатом открыла тотчас, так как сама только что прибыла на место работы. Женщина еще не успела сменить цивильную одежду на форменную, выглядела милой и домашней.
– Рановато! – Указала на стул: – Сядьте и ждите!
Через пятнадцать минут она вернулась и позвала меня.
– Готов! – вскочил я и вошел за ней в большой зал, который, казалось, был залит светом.
– Сегодня хороните?
– Да-да, – ответствовал я, рассматривая дверцы холодильных камер. – Ого сколько!
– У нас самый большой морг в городе.
– А где ассистенты?
– Как всегда, опаздывают, подлецы!.. Кстати, я вспомнила вашу Извекову, хотя правильнее было бы сказать, что мама моя вспомнила. Ей восемьдесят шесть… Сказала, что была та легендарной красавицей и фильмы с ее участием всегда шли с большим успехом.
– Могу приступить? – поинтересовался я, имея в запасе ограниченное время.
– Валяйте! Четвертая камера. А вашу актрису я не вскрывала… Стол на колесах, подгоните к холодильнику и перекатите носилки. Справитесь или санитаров дождетесь?
– Что уж тут, справлюсь…
В маленькой транспортировке ничего сложного не оказалось. Через пять минут голое тело старухи Извековой лежало на столе из нержавейки, и я приступил. Достал из сумок все необходимое, первым делом развернул сверток, который хранился у меня почти три десятилетия. В нем хранилась сорочка, которую когда-то Иратов на 8 Марта подарил Светлане, своей первой возлюбленной, сорочку, в которую он одевал всех своих институтских любовниц, та ВЕЩЬ, которую он в сердцах выкинул из окна… А я, пришло время, подобрал и подобающе хранил.
В эту шелковую одежду любви я облачил старуху Извекову. Мне казалось, что, пропитанная сотнями оттенков страсти, сорочка своей энергетической мощью скрасит унылую девственность актрисы… Сухие ступни тетушки я обул в пуанты и взялся за лицо. Я и вправду когда-то был гримером. Но не кинематограф, не телевидение обеспечивали меня работой, а некий фотограф Бескрылов, специализирующийся в семидесятые годы на эротической фотографии. Вот его ассистентом я и был тогда – приводил лица девушек, бледные, тусклые от плохих продуктов питания, в порядок. Бескрылова вскоре арестовали и посадили за порнографию. Я был оставлен на свободе, больше гримером не работал, но навык сохранил.
Через пятнадцать минут работы кисточками и специальными палочками сухое лицо старухи с впалыми глазами преобразилось. Со свежей, розового оттенка кожей, алыми губами, как любила тетушка, накладными ресницами старуха Извекова казалась живой, просто прикорнувшей до вечернего чая с зефиром. Укрыл худенькое тело вместе с головой прозрачным белым шифоном. Проглядывающее сквозь ткань лицо актрисы теперь казалось почти детским.
– А вы дело свое знаете! – услышал голос сзади.
– Спасибо, – ответил, обернувшись к заведующей морга. – Просто постарался.
– Кто бы так надо мной постарался, когда время придет!
– Вот и не думайте пока об этом. Да и все равно вам будет не до красоты лица, когда призовут! Важно только живым…
– А для чего пуанты?
– Костюм Джульетты. Первая ее роль… Говорят, прелестница такая была – глаз не отвесть.
– Гроб привезли, – сообщила патологоанатом. – Сейчас мои санитары помогут вам переложить в него тело. Кстати, вот справка о смерти, – и протянула конверт.
– Спасибо.
Я подарил женщине теплую улыбку на прощание, и мы расстались добрыми товарищами. Профессионал всегда ценит профессионала!
Катафалк двигался по наполненным автомобилями улицам. Казалось, что солнце – само расточительство, столько света было разлито по городу. Свет заполнял все пространство мира, мириады лучей были посланы в самые темные места природы и урбанизма. Люди чихали, жмурились на светило, а умирающие на подоконниках за долгую зиму цветы в горшках оживали и расцветали в ответ красочно. Только одного полицейского свет раздражал, так как бил прожектором прямо в лицо, мешая регулировать движение. Весна!!! В такой день и хоронить радостно!
Катафалк въехал в ворота Донского монастыря. Водитель поинтересовался:
– На отпевание везти?
– Нет, сразу на аллею.
– Это хорошо, – обрадовался похоронный служащий.
– Чего хорошего? – поинтересовался я.
– Нет-нет, я не то имел в виду! Без отпевания, конечно, плохо!.. Я…
– На час раньше освободитесь, – подсказал.
– Вот правильно.
«Зачем отпевание? – подумал я. – Сам спою».
Здоровенные молчаливые ребята ловко переправили гроб в заготовленную могилу, в несколько минут засыпали землей и установили в изголовье венок с надписью «Любимой тетушке от племянника». Приняв мзду в размере пяти тысяч, команда растворилась среди кладбищенских памятников.
Сидя на лавочке соседней могилы, я пропел для тетушки нежную песню Элвиса Пресли «Love Me Tender» и со слов «Итак, моя дорогая тетушка» продолжил рассказ.
Через десять дней Иратов вышел из ворот колонии по УДО. Его пришел проводить кум зоны и все увещевал, убеждал остаться на просторах Владимирской области, строить частные дома для «своих» тысячами, проявляя могучий талант, и пользоваться благами от созидания без счета, без всяких там приглядов и окриков из Москвы.
– Я тебе дом построил? – спросил Иратов.
– Отличный дом!
– Ну и отъебись от меня!
Лицо кума аж набрякло кровью от злости:
– Да я тебя, падла неблагодарная…
– Что ты меня? Опять пугаешь?
– Я тебя при попытке к бегству! Ты, вражина!!!
– Ты знаешь, кто мне УДО организовал? Или совсем хорек глупый? Я в зоне выживу, а тебе конец!.. Довольствуйся тем, что урвал, откусывай дальше, но без меня. Это понятно?
Кум зоны догонял, что УДО для валютчика организовал кто-то из КГБ, оттого понимал, что сделать ничего не может, и почти умирал от ненависти…
Если быть точным, досрочным освобождением Иратов был обязан не комитету и даже не капитану Воронцовой, а Галине, подружке Алевтины. Галя указала мужу-министру, где случилась несправедливость, и вот – свобода! И все за его, иратовские, камни, лучшие из тех, что удалось сокрыть от государства.
Алевтина его не встречала, и бывший зэк добирался до электрички на маленьком автобусе. Купил билет и, объятый переполнявшими вагон согражданами, через три с половиной часа прибыл в столицу.
Успел к ужину и с особой нежностью прижал к своей груди мать, целуя в заплаканное от счастья лицо. А отца просто крепко обнял. До срока постаревший, сгорбленный родитель вжимался в крепкую грудь сына и тоже плакал. И не только оттого, что его мальчика отпустили из лагеря и что он выжил, а еще и потому, что плюсовал к своему отпрыску счастье собственной состоятельности, пусть через сына, через его заимствование отцовского труда, Андрей Иратов впервые в жизни ощущал себя реализованным в собственном предназначении, а стало быть, и в мужском состоялся. Золотая медаль в Токио!
Надо отдать должное – Иратов со времени приемных экзаменов в МАРХИ больше никогда не пользовался отцовскими трудами. Его постепенно затягивала сокрытая гармония, и башню «Саморез» он уже сам спроектировал. Видно, там, наверху, талант был передан от отца к сыну, но куда масштабнее оказалось дарование младшего Иратова.
Ближе к ночи он набрал номер телефона Алевтины Воронцовой. Потерянное сердце молодого человека почти замерло от предвкушения сиплого голоса 55-летней матери его будущего ребенка, но трубку подняла не она – ответил голос незнакомого мужчины:
– Кто ее спрашивает?
– Муж…
– Какой муж? Она не замужем!
– Гражданский.
– А-а, гражданин Иратов?
– Я уже товарищ! У меня паспорт в кармане. Вы кто?
– Приезжайте! – разрешил голос. – Приезжайте сюда немедленно, товарищ!..
В квартире Алевтины Воронцовой оказалось много народу, все курили, в том числе и фотограф, снимающий каждый предмет обстановки. Лужа еще не запекшейся крови отражала резкий свет люстры.
– Капитан госбезопасности Фотий Прыткий! – представился человек со знакомой физиономией. – Это я с вами разговаривал.
– А что случилось? Мы знакомы?
– Дело в том, – начал Прыткий, – что два часа назад Алевтину Воронцову смертельно ранили…
– Блядь! – не поверил Иратов. – Как – ранили? Убили, если смертельно! Так понимать?
– Ранили, если быть точным. Умирая, она смогла доползти до телефона и сообщить имя убийцы.
– Я только что из Владимирлага. Последние часы был у родителей. Подтвердят…
– Вас никто не подозревает, товарищ.
– Блядь!!!
– Алевтину Воронцову смертельно ранил некий Жанис Петерсон, кстати ваш коллега.
– Какой коллега?! Из МАРХИ, архитектор? Блатной?
– Валютчик, как и вы, этот Петерсон… Три раза ударил пожилую женщину по голове молотком.
– Да, припоминаю что-то… Когда-то Алевтина упоминала это имя… И что сейчас?
– Сейчас врачи борются за спасение жизни ребенка. – Фотий Прыткий отошел на секунду, что-то прошептал в ухо коллеге, а потом вернулся к ошарашенному происходящим Иратову. – А помните ваш первый приход в валютный магазин несколько лет назад?
Арсений посмотрел на офицера вопросительно.
– Вспоминайте!
– Я вас узнал! Вы комитетчик из того магазина! На Васильевской?
– Точно так…
– А теперь вы…
– А теперь, Арсений Андреевич, – сказал Прыткий, – я следователь по особо важным государственным делам.
– Поздравляю.
– А карьера моя началась именно с вас. Кто бы мог подумать! Думал, что навсегда в смотрителях – деревенский парень из-под Вязьмы, простых кровей, но, когда срисовал вас и мое руководство уяснило, что вы не мелкий деляга, а рыба, быстро набирающая вес, рыба-кит почти, – тогда меня повысили и перевели в Шереметьево, в дьюти-фри, там я уже в мониторы смотрел, слежку приставил, выявил все ваши схроны и заначки… Помните Алексея?
Иратов затряс лохматой головой – столько информации за короткое время:
– Я многих Алексеев знаю.
– Ну Алексей, Лехой кликали свои. Припоминаете? Бармен из кафе «Лира».
– Что-то такое…
– Купил все же, идиот, дачу Зыкиной! Простой бармен – и дача любимицы Леонида Ильича!.. Когда его брали, выволакивая из озера, он обгадился. Извините за подробность. В СИЗО Леха обломался сразу, от страха у него что-то с головой случилось. Он все повторял, что у него яйца изо льда… Срок ему определили пожизненный, но не в суде, а в психиатрической лечебнице. В Кащенко теперь его яйца отогревают…
– И зачем вы мне об этом? Пытаетесь пугать? Это странно, учитывая, откуда я прибыл. Да и на ледяные яйца я кладу с теплым прибором. У меня обыкновенные, а у вас?
– Что вы, – успокоил Прыткий. – Я только для информации! – Фотий раскурил сигарету, жадно затянулся и продолжил: – А Машеньку помните? Ну, продавщицу из нашей валютки? Красотку, которую вы той же ночью, прикинувшись иностранцем, отодрали, так сказать, во все дыры?
– Машенька, – проговорил Иратов, уносясь в прошлое. Это прошлое взошло в его воображении и заставило улыбнуться.
– Вспомнили? Вижу, вспомнили!.. Так вот, Машеньку на следующий день за блядство взашей из системы – благодаря вам. А она, бедная, не знала, что вы отечественный персонаж, потому выперли со статьей. А следом из комсомола и… Никуда не брали на работу с таким клеймом, а Машенька беременна была. Родила в полной нищете. Ребенка забрала опека. Драма для МХАТа…
– Как вас там? – прервал комитетчика Иратов. – Фокий…
– Фотий Прыткий, с вашего позволения…
– Что вы мне тут Достоевского разыгрываете? Блядь, Порфирий Петрович нашелся!.. Вы на себя в зеркало смотрели когда-нибудь, по чесноку? С вашей физиономией вяземской, уж простите, только за мониторами и сидеть! А если вам нужен Раскольников, так ловите этого, Петерсона! Он Алевтину по башке молотком, не я! Давайте адрес больницы!
– Сейчас дам, – пообещал Прыткий. – Но на места ваших заначек уже выехали специалисты для изъятия. Алевтина умерла – кто теперь защитит? Новое дело, а там и новый срок! Уж я постараюсь, поверьте!
– И звание внеочередное? – усмехнулся Иратов.
– Не без этого…
– Шибздец тебе, Фотий!
– Что-то я вас не понимаю, Арсений Андреевич. Как раз вам эта милая участь и уготовлена!
– Все заначки уже давно по другим местам заныканы! Алевтина постаралась перед смертью. Письмо от нее было на праздник. Сейчас уже можно сказать, коли копыта двинула. Воронцова жизнь нашего ребенка обеспечивала. Так что, Фокий, вернешься ты в валютку соглядатаем и без звезды! А может, и вовсе на хуй пошлют! И Машеньку, сука, уморил напрасно.
Прыткий умел держать удар, только уши покраснели расплавленным металлом.
– А знаете, за что Петерсон Воронцову молотком забил?
– Это ваше дело – знать! А мне пора!
– Ваша гражданская жена с этим Петерсоном, как и с вами, работала… На крючке держала, принуждая, как вы там называете это – пистоны ставить? Все накопленное латышом перепрятала и шантажировала тонкую балтийскую душу… Вероятность, что ребенок ваш, так невысока! Кроме вас, иратовых и петерсонов, она со столькими работала!
В ответ Иратов искренне расхохотался. Дал себе возможность и похрюкать в удовольствие.
– Ну и мудак ты, Фотий! Был бы туалет валютный, туда бы и определили!.. Ты даже не понимаешь сейчас, просто не допираешь, как я счастлив, что латыш завалил эту старую суку! Не он – так я бы собственноручно это сделал. Только бы сто раз ей по башке молотком дал! Ставить пистоны старым гэбэшницам не мое призвание. И до выблядка ее мне дела нет. Так что свобода, Прыткий, свобода!!! Давай адрес, мудила!..
Иратов съездил в больницу, но Воронцову ему не показали. Уходя длинными коридорами, он наткнулся на палату со спящими новорожденными. Хотел пройти мимо, но, коротко остановившись, вдруг увидел через огромное стекло крошечную ножку ребенка с привязанной к розовой пятке бирочкой, сделанной из разрезанной клеенки, на которой синей шариковой ручкой было четко выведено: «Иратов»…
7
Вагон, в котором Эжен отправился в Москву, был переполнен, в нем было холодно и нестерпимо пахло кислым.
До Судогды молодого человека довез рыжий Шурка, болезный с похмелья, но подозрительный, как мелкая собачонка, посаженная на цепь вместо алабая сторожить хозяйский дом.
– Какой такой родственник? – учинил допрос возничий.
– Это лошадь? – поинтересовался Эжен, игнорируя вопрос рыжего.
– Она и есть! Кобыла. А ты что, городской? И лошадей не видел?
– Старая, – заключил молодой человек.
– Еще походит, – уверил спутника возничий. – Откуда у Алиски в городе родственники?
– Они у нее еще и в США имеются.
– Эх ты!.. Заливаешь!..
– Еще в конце девятнадцатого века Алискин пращур переселился в Техас, затем придумал телевизор, автомобиль и паровоз. Все запатентовал и стал миллиардером. Наследники в каждом поколении приумножили капиталы, а его прапраправнучка Жаклин Кеннеди оказалась бездетной, так что Алиске могут перейти огромные деньги. Ну, конечно, после смерти Жаклин.
Врет городской! – напрягся рыжий, забывший о своем тяжелом похмелье. Али не врет?.. А не врет, так надо к бабке Ксении первым подкатить, чтобы она после смерти этой Жаклин ему молодую лошадь дала в долгосрочную аренду. Платить деревенским капиталистам он, конечно, не станет, у них денег что блох на собаке. Может, у Ксении и денег занять, полста тысяч рублев, и не отдавать?.. Еще Шурка одним вопросом задался: что лучше для него – чтобы городской соврал про родственника из США или правду сказал? В одном случае будут новая лошадь и бабки, но и Ксения с Алиской вознесутся до небес, швыряя деньгами в степачевском магазине. А заслужили ли они такое богатство? Чем эти бабы лучше других и его, Шурки?.. Нет!.. Пусть лучше врет городской, решил рыжий. Черт с ней, с новой лошадью, с миллионами, пусть остается все как было! Нам никаких потрясений не нужно, революций капиталистических не потерпим, а на США сбросим атомную бомбу. Мужик сказал – мужик сделал!
– Сам-то кем будешь?
– Я же сказал, что родственник. – Эжен спрыгнул с саней и пошел рядом, поглаживая старую кобылу по крупу. Лошадь радостно взмахивала хвостом, приветствуя хорошее отношение к лошадям.
– Кем работаешь? – уточнил рыжий.
– Студент я.
– И на кого учишься, студент?
– На ученого.
– Так ученые щас что нищие.
– Призвания не изменишь…
Шурке больше не хотелось балакать с Алискиным гостем, он тоже соскочил с саней и развернул свою фигуру по ветру. Расстегнул штаны, дабы отторгнуть из себя лишнюю жидкость, но через секунду закричал на всю округу благим матом:
– А-а-а-а-а-а!!! Да шоб я еще незнакомую самогонку пил!!! Паленая самогонка, едрить-колотить! Белку схватил! Помираю-у-у-у!.. Мать ее через плечо!.. – потом вдруг стих и побежал догонять сани, придерживая расстегнутые штаны обеими руками. – Слышь, студент!..
– Чего тебе? – обернулся Эжен к возничему. – Чего орал?
– Ты ж ученый!..
– Пока студент.
– Погоди, студент! Гляди-ка! – Шурка остановился, опустил трясущиеся руки по швам – и штаны упали прямо на его валенки, обнажив низ живота. – О как!
– И чего?
– Видишь или нет?
Эжен смотрел на белое подбрюшье возничего:
– Вижу.
– У меня правда хрен пропал или белочкины глюки?
– Хрен пропал, – подтвердил молодой человек и стал подниматься в горку к автобусной остановке. А Шурка побежал догонять лошадь, которая успела развернуться к дому, и орал нечеловеческим голосом в сторону леса:
– Кому не спится в ночь глухую?!!
А эхо ему отвечало неприличное…
В поезде Эжену стало нехорошо. Не хватало кислорода, нестерпимо воняло немытым человеческим телом. Кто-то ел вареные яйца, кто-то жвачку жевал, заглушая мятой перегар. Орали малые дети, а одна из молодых мамок без всякого стеснения кормила дитя большой рыжей грудью.
Эжен боялся потерять сознание, особенно в таком месте. Он терпел, но до Москвы еще добрых полтора часа мучиться. Поезд дернулся, его сдавили с разных сторон, и из носу пошла кровь.
– Эй, сопливый! Вали отседа в тамбур! – приказал какой-то битюг с мордой питбуля. – А то всех перепачкаешь здесь. Расступитесь, граждане!
Согласная толпа вытеснила Эжена в тамбур, он утирал рукавом пальто льющуюся кровь, не вызывая никакого интереса у курильщиков. От сигаретного дыма его внутренности крутило, словно на вертеле, в глазах помутилось, но его поддержал под руку небольшого роста мужичок и вывел в переход между вагонами.
– Блюй, – посоветовал он, одновременно рыская по карманам Эжена. – Блюй, малой!
Эжена стошнило какой-то зеленой субстанцией, но почти тотчас стало легче. Он глубоко задышал морозным воздухом, а от лязга колес прояснилось в голове.
Между тем мужичок обнаружил у молодого человека лишь металлические деньги, рублей на двести, и больше ничего.
Ни документов, ни лопатника, даже ключи от квартиры отсутствовали… Мужик обозлился на неудачу и, ударив обобранного лоха свинчаткой по затылку, скрылся в вагоне в поисках следующей жертвы.
Бессознательным Эжен прибыл в столицу России город Москву. Кто-то позвонил на выходе в полицию, и его полумертвое тело оттащили в привокзальный ОВД.
Дежурный старшина по фамилии Кипа, пятидесяти восьми лет от роду, ругнул двух сержантов, притащивших пьяного в отделение.
– Да не пьяный вроде, – пожал плечами младший наряда. – Не пахнет.
– Загашенный?
– Хер его знает! – ответил старший наряда. – Рожа в крови – может, его по носу стукнули?
– Так какого рожна вы скорую не вызвали?! Че я с ним здесь делать буду?
– Михалыч, – попросил старший, – вызови ты скорую, на перроне он бы замерз.
Потап Михалыч Кипа работал в отделении Курского вокзала тридцать восемь лет. Отслужил армию и был направлен на ментовскую работу. Времена тогда были спокойные, бандитизм отсутствовал, только карманники, разбойники и каталы промышляли по поездам. Зарплата была ничего, и Михалыч, пригревшись в отделении, так и проработал дежурным почти четыре десятка лет. Дослужившись до старшего сержанта, он женился на вокзальной аптекарше, и родили они двоих детей. А недавно старшина Кипа стал четырежды дедом. Нрав дежурный имел спокойный, сторонился беззакония, творимого новыми ментами, не встревал с нравоучениями, а потому все относились к нему как к батьке и подкидывали деньжат, добытых с беспредела. Кипа денег не чурался, вкладывал их во внуков и отпускную рыбалку.
– Бог с вами, – согласился старшина. – Скорую вызову, а вы его пока в обезьянник определите. И сгоните там с нар таджиков на пол. Малого вместо черных положите. Только голову приподнимите.
– Без базара! – согласился наряд.
Через два часа прибыла скорая, констатировавшая у молодого человека травму черепа. Эжена тотчас погрузили на носилки, затем в реанимобиль и под завывание сирен доставили в 1-ю Градскую. В приемном покое молодого человека переместили на каталку, откатили на второй этаж и оставили в очереди на МРТ. Еще через два часа мозг Эжена отсканировали, не найдя ничего критичного, лишь легкое сотрясение, и то под вопросом.
– А чего он без сознания? – спросила ассистентка врача.
– Возьми нашатырь и сунь ему под нос.
Ассистентка Лиля Золотова работала в травме лишь третий месяц, а уже такого насмотрелась, чего в фильмах ужасов не увидишь. На прошлой неделе тетку привезли с пельменного завода. Она попала на лопасти громадной мясорубки, вращающиеся с огромной скоростью. В больницу доставили кровавый кусок мяса с открытыми глазами. Все кости были перемолоты, голова смята, будто катком по ней проехали, грудная клетка вскрыта, а в ней обнаженное сердце, прекрасное и бьется ритмично, как у здорового человека. Врачи молча исполняли свои обязанности, что-то вкалывали шприцами в фарш, шили артерии и вены, дренажировали кровь отсосом – в общем, работали до конца. Мозговой активности – ноль, собственно говоря, там и мозга-то не было, лишь серая кашица, а люди работают уже два часа. И сердце пострадавшей стучит так же ритмично – 60 ударов в минуту. А давление измерить возможности нет, так как и ноги и руки отсутствуют. Они вновь и вновь шили, все так же молча, – и так семь часов кряду. Наконец необъяснимое подошло к концу: красивое сердце, похожее на тюльпан, затрепыхалось, изменило цвет с красного на лиловый – и остановилось. Его пытались реанимировать разрядами электричества, но все тщетно. Хирург объявил время смерти, и только после этого операционная впервые за время своего существования услышала такое великолепие хорового исполнения матерных ругательств. Семь часов хирурги делали напрасную работу, абсолютно точно понимая, что сделать ничего невозможно. Но сердце-то билось зачем-то!..
Хирург сообщил мужу о смерти жены, тот расплакался, но не от жалости к себе, а от сострадания к четырем осиротевшим дочерям в возрасте от пяти до четырнадцати лет:
– Как же они без матери?!
Вот для чего билось сердце – для детей, понял хирург и отправился на празднование дня рождения пухленькой ординаторши из третьего отделения.
Ассистентка Лиля подошла к пациенту и сунула к его носу ватку, обильно политую нашатырем. Молодой человек дернул ноздрями, затем, искривившись лицом, открыл глаза и оттолкнул Лилину руку.
– Вы меня слышите? – справилась она у больного, заглядывая ему в самые зрачки.
– Слышу, – слабым голосом подтвердил Эжен, вращая глазами, пытаясь понять, где он.
– Вы в больнице, – успокаивала Лиля. – Вас ударили чем-то тяжелым по голове. Вы понимаете меня? – Он кивнул. – Но с вами все будет хорошо! К счастью, тяжелых травм нет!
А через мгновение Лиля рассмотрела пациента, его необыкновенную красоту лица с большими глазищами, которые притягивали черными космическими дырами, где пропадает все и вся без разбора. И Лилю притянул к себе загадочный космос. Девушка мгновенно ощутила прилив любовной химии и, будь она одна в помещении, непременно бы поцеловала юношу в самые губы – или укусила бы… Превратившись в нежность, она объявила, что сама отвезет пациента в палату и передаст его заведующему профильного отделения.
Ассистентка вкатила каталку в грузовой лифт и нажала кнопку.
– Ты так добра, – поблагодарил Эжен.
Лиля почувствовала необыкновенный аромат его дыхания – немного похожий на ладан, но с примешанными к нему иными, сводящими с ума компонентами. Она сама чуть было не лишилась чувств, но удержалась.
– Так вот сразу и на «ты»? – Молодая женщина хотела сложить обиженные губки гузкой, наморщить лобик, но не смогла, а вместо этого заулыбалась и позволила: – Можно и на «ты»! И как же тебя зовут, загадочный мальчик?
– Эжен.
– А я Лиля.
Он смог самостоятельно перебраться с каталки на кровать, снять черные одежды и переодеться в больничную пижаму, а Лиля, присев на краешек матраса, ободрила молодого человека, пообещав, что силы скоро вернутся, а она будет его навещать.
– Ты ведь не против?
– А можно попросить что-нибудь поесть? Или чаю?
– Конечно. Сейчас!
Девушка деловым шагом вышла из палаты и поговорила с дежурным ординатором Петей Савушкиным тет-а-тет. Она училась с ним в меде, он даже пытался ухаживать за ней, но как-то не случилось, а потом будущий психоневролог, окрутив Петю, женила его на себе, после чего он стал смахивать на пациента психиатрической больницы.
– Петя, – строго наказывала Лиля, – его нужно покормить!
– Ужин в семь, – отозвался в заложенный нос Савушкин.
– Еду я скоро принесу. Ты, пожалуйста, следи за ним!
– А что он, особенный? И что ты командуешь здесь?
– Особенный!
– Особенней, чем я? – Петя сделал разочарованные глаза и чихнул.
– Для меня – да. А ты женат на психиаторше. И надень маску, у тебя полное отделение!
– Эти сволочи меня и заразили!
– Петя, ты меня понял? Последи за ним, родненький!
– Родственник? – смягчился Савушкин от слова «родненький».
– Ага… Я побежала?
– Беги, Золотова, беги!
Ассистентка юркнула к лестнице, а Петя Савушкин, вспомнив свою жену и сравнив ее с однокурсницей, грустно вздохнул и поплелся глядеть на Лилькиного родственника.
Постояв в дверях палаты, окинув контингент суровым взглядом, кашлянул грозно, чтобы знали – главный здесь, и лишь потом степенно проследовал к кровати только что поступившего пациента:
– Ну-с, как у нас дела?
От этого «ну-с» Савушкина самого передернуло. Ведь не чеховские времена! А впрочем, лицо Лилькиного протеже, бледное, с чахоточным блеском в глазах, как раз казалось выловленным из тех времен.
– Немного голова болит, – признался Эжен.
– Травм особых нет, – успокоил Петя. – Вот эта таблеточка вам поможет, а пока давайте заполним приемный лист. – Ваша фамилия?
Молодой человек задумался, напрягся, сморщив лоб, и у него опять пошла носом кровь. Врач достал из кармана кусок чистой марли и, промокнув ею кровь, велел запрокинуть голову.
– Повторите вопрос, – попросил Эжен.
– Напрягаться не надо, вопросы отложим, а сейчас давление померим. – Савушкин включил аппарат и затянул на предплечье манжету.
– Меня зовут Эжен, – назвался пациент.
– Сейчас помолчите… Дышите спокойно, расслабьтесь!.. – быстро нагнал резиновой грушей воздуху, приставил стетоскоп и послушал ритм пульса. – Ну, все вроде нормально, сто двадцать на восемьдесят. Пульс учащенный только. А кровь от дистонии. Фрукты едите?
– Нет…
– Мясо, сыры?
– Нет.
– Что же тогда?
Эжен подумал недолго и ответил:
– Картошку… И молоко…
– Студент, что ли?
– Студент.
– Ха! – обрадовался Савушкин. – И я был студентом! И тоже бедным. Но, как говорится, бедность не порок! Лилька тебя подкормит. Эх, как она вкусно готовит, – мечтательно сказал Петя. – Какие котлетки, рулетики, пирожки! Зачем в мед пошла! Лучше бы дома сидела и мужа радовала.
Пациент от кулинарного повествования заметно побледнел и чуть было опять не отправился в обморок. Но здесь как раз вернулась Лилька с сумкой, отослала Савушкина за ненадобностью в ординаторскую и, раскладывая на тумбочке завернутую в фольгу еду, приговаривала:
– Вот, на здоровье!
Эжен ел с такой скоростью, будто от этого зависела жизнь его. Откусив от котлеты половину, одобрительно кивая в сторону Лильки, он коротко жевал и глотал. Затем принялся за хваленные Савушкиным пирожки с яйцом и гусиными шкварками, а салатики разные, с тончайшим вкусом приготовленные, проскочили в желудок молниеносно.
– Нравится? – спросила Лиля.
– Пирожки тобой пахнут.
Она покраснела:
– Как так – мной?
Почти насытившийся, Эжен пояснил:
– Молекулы твоего тела попадают в приготовленную тобой еду, а потом в меня. Я чувствую каждую. Мне кажется, что именно отсюда пошло выражение «путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Вместе с едой, приготовленной женой, он ежедневно поглощает и саму жену в гомеопатических дозах, а потому не может покинуть ее, так как она становится его наркотиком. Хотя, как правило, мужья редко любят своих жен. Мужу просто надо ее сожрать целиком!
– Ты на кого учишься? – спросила Лилька, слегка удивленная нафантазированным актом каннибализма. – И сколько тебе лет?
– По инженерной части я. А лет мне столько, сколько тебе нужно.
Она не поняла про возраст, но спонтанно решила попроситься сегодня на ночное дежурство. Она смотрела, как лицо Эжена постепенно розовеет, щеки его окрашиваются багровым закатом, а губы напухают, источая теперь не ладан, а что-то совсем неизвестное. Лиля взяла себя в руки и, как медицинский работник, проанализировав едва уловимые процессы, происходящие в ее носу, дала точный ответ:
– Это феромоны.
– Что? – не понял молодой человек.
– Наелся? – спросила она, чувствуя, как бюстгальтер под медицинским халатом стал неожиданно ей мал. Чашечки бельевого аксессуара приподнялись, показывая молодому человеку голубого цвета кружева.
– Спасибо.
– Благодарить будешь позже, набирайся сил! – хитро улыбнулась Лилька, не скрывая одернула лифчик и, мучаясь активным кружением бабочек в животе, вышла из палаты.
Все медицинские работники довольно циничные люди. Это профессиональная защита, которую еще студентами они перенимают от своих педагогов. Невозможно сострадать всем болезным и умирающим, никакие мозг и сердце этого не выдержат, просто сгорит душа дотла. Сострадать можно только своим близким и родным, на большее организм не рассчитан. К тому же сострадание – это эмоция, исходящая от сердца, а где сердцем думаешь, там жди беды. Разум человеческий, очищенный от эмоций, почти всегда принимает нужное решение. Ибо разум – единственное, что нас отличает от всего живущего.
Но если ты уже стал профессиональным циником, то так и относишься ко всему, тебя окружающему.
Лилька была продуктом своих педагогов и медицины, рассусоливать разучилась, романтику разлюбила навеки и формулировала свои желания четко.
Спускаясь на лифте в общую хирургию, она определилась наверняка, что хочет этого мальчика любить физически, несмотря на его философские причуды. Она вспомнила аромат его феромонов, пожонглировала ими на язычке, и в глазах вновь помутилось.
Она пришла за ним в двенадцатом часу, разбудила, погладив тыльной стороной ладони щеку, приставив пальчик к губам – «тсс…» – и, наклонившись к уху, дотронувшись до него носиком, жарко прошептала:
– Пошли!..
Не спрашивая, куда и зачем, Эжен поднялся с кровати и быстрыми шагами пошел следом за Лилей.
Девушка к этой встрече готовилась тщательно, со скандалом напросившись на внеочередное дежурство. Она застелила в ординаторской кушетку, поставила на тумбочку сладкое шампанское и фрукты, за которыми гоняла в магазин санитара, простояла в душе с полчаса, брея скальпелем ноги, проверила подмышки, чуть подправила внизу живота свою бабочку, затем намазалась французским кремом с едва уловимым запахом дикой японской вишни и лишь потом надела медицинский халат на голое тело. Она была невероятно взволнованна, так как предполагала в своем избраннике неопытность и бесхитростность. Она хотела обучить его всему, что умела, а Лиля, как она сама о себе думала, умела многое.
Когда она отчаянно сбросила халат, обнажив перед ним все свои соблазны, он не набросился на нее, как иногда бывает с юнцами, но и не впал в ступор. Эжен спокойно приблизился к Лиле и, не торопясь, рассмотрел ее, нагую, начав с коленок и закончив нежной шеей.
На секунду Лиле показалось, что она на медицинском осмотре, но в ту же секунду Эжен взял руками ее голову и поцеловал в губы так умело, так проникновенно и сладко двигался его карамельный язык, что тело молодой женщины мгновенно разогрелось и словно раскаленная лава вулкана огненной рекой исторглась из нее. Она ничему его не учила, а уже после всего поняла, собравшись с мозгами, что чувствовала себя с этим странным юношей, почти мальчиком, неумелой, но похотливой девственницей. Он играл на ее теле, словно виртуоз на рояле, нажимая подушечками пальцев именно те клавиши, которые требовалось, затем брал сложнейшие аккорды, от которых Лилино горло пело меццо-сопрано, переходил в нижнюю, басовую часть инструмента, проникая в суть его. Мгновением позже исполнитель внедрял брутальные вставки в импровизационную партитуру, и опять Лиля пела, теперь уже самым низким женским голосом. Ее контральто слышала вся больница, и все, кто мог, ощутили в это мгновение кульминацию, апофеоз произведения. Даже в реанимации произошло чудо: двое больных мужчин вышли из комы и обратно в нее не собирались, судя по показаниям мониторов.
Позже, лежа рядом с ним на растерзанном диване, она чувствовала себя обессиленной до самого предела, после которого только смерть. Молодая женщина ощущала, что он побывал в каждой ее клеточке, уверенно забрав все тело в плен раковой опухолью, обильно политой головокружительным морфином. Одновременно Лиля, влажная от страсти, помнила, что и сама вкусила своего партнера безудержно и безбрежно, будто впрок насыщалась, пила его бесконечно, как диабетик воду перед смертью.
Через некоторое время, когда рассвет возвестил о своем приближении, когда силы стали к ней постепенно возвращаться, она вдруг поняла, что становится с этой минуты самой несчастной женщиной на свете, что больше никогда подобного с нею не случится, что ей уже не доведется вкусить такого эпического наслаждения! Бедрами она чувствовала его похолодевшую кожу и подумала о нем уверенно – демон! Я была этой ночью с демоном!..
Неожиданно он вдруг стал сух с ней, спросил, который сейчас час, услышав, оделся и направился к двери.
– Ты куда?
– Мне нужно вернуться в палату.
– Есть еще несколько минут…
– У тебя, – обернулся Эжен. – У меня их нет. В девять утра я выпишусь.
Она хотела крикнуть ему вдогонку, что из больницы просто не выпустят, что милиция вначале должна опросить… Но промолчала, лишь прошептала ему вслед:
– И паспорта у тебя нет, маленький демон!..
Голой, бесстыдно свесившей с дивана ногу, пахнущей сексом, – в таком виде застал ее прибывший на дежурство Савушкин. Подумав, что блюдо приготовлено для него, он бросился молодым кобельком на наготу, чихнув при этом дважды, а потом грохнулся об пол, пытаясь быстро стянуть с себя штаны сразу вместе с трусами.
– Мудак ты, Савушкин! – проговорила Лилька, взяла с тумбочки бутылку с остатками шампанского и из горлышка их допила.
Голый и восставший мужеством Петя, себя не помнящий, оскорбленный, но возбужденный, медлить не стал и силой завалил однокурсницу на спину. Овладел ею, казалось, по-богатырски, а она, вдруг перестав сопротивляться, успокоилась и попросила:
– Только не в меня!
– Ага…
Она ничего не чувствовала, ни савушкинских щипков, ни сопливых поцелуев, ни самого его внутри. От безразличия Лили к происходящему Петя быстро закончил, как бегун стометровку пробежал. Десять секунд – и гонг возвестил победу. Раздраженный, Петя быстро оделся и сказал ей:
– Фригидная ты, Лилька! Фантик без конфетки!
– Ты прав, Савушкин. Я фригидна!..
Травматолог заставил ее одеться, оскорблял непристойно и велел убраться вон. Прибирал в ординаторской сам и обнаружил многочисленные следы, говорящие, что оставлены пятна страсти не им, не его рук… это дело. Внезапно поняв, с кем растратила силы ассистентка хирурга, он испытал приступ ярости. Набрав номер телефона жены и сославшись на стресс, Петя попросил ее о сеансе психотерапии тотчас. Захлебываясь, он поведал, как много нехороших людей вокруг, какие они злые и лживые, от этого у него пропадает вера в себя, вера в свою мужественность и исключительность… Мудрая жена во всем поддержала супруга, однако, заподозрив неладное, попыталась выяснить, что произошло в реальном времени и конкретно. Савушкин промямлил что-то о сумасшедшей Лильке, пытающейся его соблазнить, которую застал голой в своей ординаторской. Но он, сказал, верный муж, отверг домогательства стоически. Жена Пети, умница и профессионал, тотчас поняла, что произошло на самом деле. Ее благоверный совсем не стоик, и ясно, что он, мечтавший о Лильке с юности, переспал с ней однозначно, но что-то в интимном сближении пошло не так, вызвав у мужа истерику. Она приблизительно понимала что, зная Петечку, способности его организма – стрелять быстро и мимо цели. Вероятно, это и случилось с ним этим утром. Женщина не стала копать глубже, сделала вид, что целиком на стороне мужа, что он лучший, а работа – самое мощное успокоительное. Савушкин безмерно был благодарен жене, так как и в самом деле почти сразу успокоился. Поклявшись ей в преданности и любви, травматолог принялся готовиться к обходу. Единственное, что портило настроение, – это то, что при осмотрах он будет вынужден соприкоснуться с пациентом, поступившим вчера, с которым, видимо, и провела столь бурную ночь Лилька…
– Паскудыш! – выдавил в сердцах Петечка.
В это время Эжен, облачившись в черные одежды, подаренные Алиской, стоял в холле больницы и звонил по бесплатному телефону-автомату. Он попросил к телефону господина Иратова, а на вопрос, по какому делу, ответил, что по личному, ему объяснили, что не могут соединить, не зная существа обращения, и единственное, чего удалось добиться, – это разговора с Витей, помощником Иратова. Витя, будучи опытным референтом, сразу понял, что звонит не проситель, а кто-то, возможно, важный для босса.
– По личному? – переспросил Витя.
– Именно…
– Арсения Андреевича сейчас нет в офисе…
– Почему сразу не сказали?
– Не волнуйтесь, я сейчас свяжу вас с мобильным господина Иратова…
8
Следующее утро после ссоры и примирения с Верочкой выдалось депрессивным. Серое небо, падавшее на землю вместе со снегом, вызывало приступы какого-то отчаяния. И поход в ванную комнату усугубил настроение своей неполноценностью. Иратов поймал себя на мысли, что хочет, как настоящий мужик, придерживать его, попадая тугой струей в унитаз, да хоть бы и мимо.
Почему-то ему совсем не хотелось видеть Верочку, какое-то новое отношение к ней поселилось в груди. Он понимал, что тот, кто не может, почти всегда испытывает чувство неприязни к тому, кто может и делает. Иратов старался гнать такие мысли, объясняя себе, что все можно преодолеть, что не главное он утерял в отношениях с любимой женщиной.
Выпил кофе, плеснув в напиток немного коньяка.
«Рано, – подумал, – еще и девяти утра нет».
В его кабинете одновременно тревожно запищали компьютерные мониторы. Отставив недопитый кофе, Арсений Андреевич подбежал к столу, взглянул на графики, затем, усевшись в кресло, пролистал несколько бизнес-страниц и понял, что за это утро он потерял что-то около пятидесяти миллионов долларов. Биржи Китая, Японии и всей Азии рухнули почти на семь процентов.
Надо отдать должное выдержке Арсения Андреевича. Он никогда не терял контроль над собой в таких случаях, считая, что победы на торговых рынках, как и провалы, почти равновесны, неизбежны, что всякие кризисы, черные понедельники и пятницы будут случаться всегда, но не было еще такого в истории, чтобы рынки, пусть и со временем, не возвратились к своим историческим максимумам. Терпение – самая главная черта инвестора. Случается падение, но зеленое ралли все равно ведет человечество в гору.
Иратов написал несколько писем своим брокерам с распоряжениями уменьшить потери за счет игры против валют развивающихся стран, пояснив, какие и против каких выставлять.
Арсений Андреевич отвлекся от биржевых дел и просмотрел другие новости. Не найдя ничего интересного, из праздности он ввел свою фамилию в адресную строку и нажал кнопку «Enter». Новости по его персоналии также отсутствовали. Зачем-то Иратов нажал опцию «картинки» и увидел свою физиономию в многочисленных вариантах. Поглядел на себя молодого, получающего разные призы за достижения в архитектуре, затем – как он в своем «Бентли» позирует с какой-то модной группой певичек, которых он, не торопясь, перетоптал одну за другой; всякие тусовки и вечеринки бесконечные. Он видел богатого, степенного, уверенного человека магической наружности, под волшебство которой подпало огромное число противоположного пола – от периферийных простушек до голливудских звезд. Дальше пошли фотографии, где он уже с Верочкой. Официальные мероприятия, многочисленные модные дефиле, которые любила жена, снимки с театральных премьер, а также официальная съемка – награждение Арсения Андреевича Иратова Президентом РФ орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».
Закончив с официальными фотографиями, Иратов полез в личные, долго рассматривал кадры своей жизни, порой счастливые и не очень. У него даже имелись фото из уголовного дела, где он юный и в профиль, и в фас. Вспомнилась Владимирская колония, но он тут же прогнал от себя негатив, нажав на фотоальбом «США». И снова он молодой, только что эмигрировавший через Израиль в Америку, богатый спекуль из Москвы, архибогатый по тем временам… Вот он на встрече с работниками его собственного таксопарка. Человек сто эмигрантов, работавших на него под таксистскими медалями, внимают его речам. Именно он, Иратов, придумал, как изгнать с Брайтон-Бич таксистов-индийцев и прочих старожилов-асов нью-йоркского таксомоторного бизнеса. Залетным и желтым кебам разрешалось только привозить клиентов на Брайтон, обратно никак, все порожняком. И жители половины Бруклина могли заказывать, и заказывали, только своих извозчиков, при этом значительно дешевле. Не обошлось без помощи боксеров, которые во множестве прибыли искать счастья на американских рингах и попа́дали с них один за другим как недозрелые яблоки от порыва ветра. Именно они, кудесники кулачного боя, голодные как волки, отвадили от Брайтона чужих… На него тогда пытались влиять воры, также прибывшие на землю Дяди Сэма, скрываясь от отечественного правосудия, а заодно подминая под себя некоторые зоны влияния других национальных сегментов. Зарезали даже пару спортсменов, а те воров постреляли в ответ… Но еще с молодости, дав себе зарок не тереться с синими, Иратов слова своего не нарушил, хотя проблем из-за блатных появилось много. Он потихоньку их решил с помощью нескольких дипломатов, а на самом деле – офицеров ГРУ. Западло с ментами – с разведчиками круто… Фотографии матери и отца. Они оба умерли, пока он был в эмиграции. У отца обширный инфаркт, и мать вслед за ним ушла – тихо, по-английски. Высохла без мужа и сына… Но Иратову почему-то чаще вспоминался отец – сидящий за чертежным столом согбенный и странный человек с почти рыжими волосами…
А потом он вновь вернулся в Россию – обновленную, таящую в себе неограниченные возможности вознесения на олимп успеха. И Арсений Андреевич преуспел. Имея огромные финансы, он открыл собственное архитектурное бюро, набрал сотрудников – молодых архитекторов – и уже через три месяца спроектировал жилой дом для деятелей кинематографа и театра, который построили в самом центре Москвы. Он как пацан бегал по народным и заслуженным жильцам, допытываясь, все ли хорошо устроено, удобная ли планировка и не шокирует ли их совмещенный санузел… В память об отце, передавшем ему свой нереализованный талант, Иратов решил воплотить его идеи, модернизировав их, добавив свое экстраординарное видение. Конечно, в Москве такие проекты осуществить было невозможно. Строили только коробки с крошечными квартирками, никакого творчества, ни капли новаторства. Зато на Западе и на Востоке его идеи пользовались огромным спросом. Он строил в Дубае, Японии, Панаме, подписывая проекты своим именем и именем отца.
Иногда Иратов навещал своего постаревшего ректора Староглебского, позволившего бывшему зэку экстерном окончить МАРХИ и получить диплом архитектора. Обнищавшим старикам он приносил лучшие продукты и, как в бытность студентом, поставлял ему трубочный табак, а ей сигареты «Лаки Страйк».
Все его институтские подружки, комсорг Шевцова, Катька-волейболистка и другие, давно повыходили замуж, родили детей и обабились в самом славном смысле этого слова. Иратов вспомнил, как сразу после эмиграции его навестила Шевцова, он только купил офис и приводил его в порядок. Круглолицая, широкозадая, с грудью под пятый размер, она ничего у Иратова не просила, ни денег, ни протекции для мужа, просто вытащила из продуктовой сумки бутылку «Московской» и грамм триста нарезанной любительской колбасы. Разлила по принесенным стаканам и, произнеся «со свиданьицем», опрокинула водку в себя. Он сам не понял, как она взяла его в оборот, как оказался зажатым между ее мощных ног, а Шевцова ржала и скакала на нем кавалеристом. Иратов веселился не меньше подружки, особенно глядя, как прыгают вверх-вниз ее огромные тугие сиськи – будто баскетбольные мячи… После, измазанные свежей побелкой, они сидели, голые, на газетах и допивали водку.
– А ты знаешь, кто придумал граненый стакан?
– Разве стакан надо придумывать? – удивилась Шевцова и заржала.
– Архитектор Мухина придумала стакан с гранями, она и дизайн гвоздя сочинила!
– Да ладно?!
– Ага.
– Ты не бойся, Иратов, я к тебе больше не приду. Я мужу не изменяю, просто хотела вспомнить прошлое!
– А Катька где?
– Катька?.. – Бывший комсорг уже оделась и оправляла юбку. – Сначала возле «Националя» стояла, а потом сгинула в Турции…
– Времена…
– Я пошла, – объявила Шевцова. – Детей из школы пора забирать… Будь!..
Больше Иратов никогда ее не видел.
Когда он отстроился и начал заниматься практической архитектурой, тесно сотрудничая с мэрией Москвы, ходоков в его офис, к нему лично, выстроилась очередь как в Мавзолей. Кто-то предлагал совместные проекты, например заняться нефтью, но он всегда отказывался, говоря: «Где нефть – и где я?», предлагали конструировать архитектуру совместно. Ну, на этом безбрежном поле он и сам был с усам. На кой черт ему партнеры… Но в основном шли просители, состоящие из давних знакомых, друзей и друзей родителей. Жуликов и проходимцев гнал в шею, а тем, кого узнавал, посильно оказывал помощь.
В один из дней, когда Иратов был очень занят на переговорах с изворотливыми бизнесменами из Сингапура, помощник Витя сообщил ему, что пришла немолодая женщина с подростком лет пятнадцати.
– Перенеси на завтра! – попросил Арсений Андреевич.
– Она готова ждать, сказала, что в другое время не решится.
– Почему не завтра?
– Она не уверена, что хочет вас видеть, но мне кажется, что для вас это будет важно!
– Она хоть назвалась?
– Да, – ответил Витя. – Ее зовут Светлана Ивановна.
Покрутив в голове имя и отчество, Иратов пришел к выводу, что они ничего ему не говорят, но тем не менее попросил помощника, чтобы посетители подождали его еще пятнадцать минут:
– В перерыве приведи.
– Хорошо, Арсений Андреевич.
Когда в его кабинет вошла немолодая, просто одетая женщина с подростком, он окончательно уверился, что знать ее не знает, но мальчик чем-то был ему знаком, хоть этого и не могло быть.
Он поздоровался, попросил садиться и поинтересовался, чем обязан.
Женщина повернулась к сыну:
– Я говорила, что он не узнает…
Он действительно не узнавал ее. Но голос! Что-то в его мелодике отсылало душу Иратова в прошлое, в раннюю юность. Он задумался…
– Пойдем, сынок, – тихим голосом позвала подростка.
Они поднялись из удобных кресел, женщина попросила извинить их за беспокойство, Иратов кивнул, одновременно прощая и прощаясь… Несколько минут просидел с отрешенным взглядом, все еще не возвратившись из воспоминаний о юности. И когда он почти выбрался, вылетел тяжело из медитативного состояния, когда мысль почти перепрыгнула через грань, разделяющую прошлое и настоящее, Иратов очнулся и вдруг вспомнил! Не может быть!!! Он вскочил с кресла и без пиджака, с расстегнутым воротом рубашки бросился за этой странной парой, бежал по улице, глядя по сторонам, ища ее со страстью и болью в глазах. И когда он увидел их, стоящих на троллейбусной остановке, падающий им на плечи тополиный пух, то закричал, как кричал когда-то в молодости от тупого отчаяния и бессилия.
– Света-а-а-а!!! – пронеслось по московским улицам и переулкам. – Света-а-а-а!!!
Она обернулась, а он уже бежал к ней навстречу, и его волосы развевались на ветру. Он стоял перед ней, часто дыша.
– Светлана Ивановна… Света… Ты?..
Она кивнула.
Он уговорил ее вернуться в офис, отвел в личную комнату, где сварил кофе и поломал на куски плитку шоколада.
– Ну, как ты? – спросил, взяв ее руки в свои. Ее ладони были мягкими и влажными.
– Да как же можно жизнь рассказать?
– Ты права… Может быть, мальчик пока посмотрит офис? У нас можно порисовать на огромном ватманском листе, – повернулся к Светиному сыну – и опять Иратову показалось, что где-то он видел лицо подростка. – Тысяча фломастеров!..
– Можно, – согласился мальчик и через пару минут ушел вместе с Витей исследовать архитектурное бюро.
– Ну, как ты?
– Ты спрашивал, – она улыбнулась.
– Да…
Он сидел молча, внезапно поняв, что ему не о чем с ней разговаривать. Совместное прошлое было столь мимолетным, словно день и ночь, но в нем помещались его первая любовь и первые страдания.
– А как твой Грязев?
Она пожала плечами, а Иратову нестерпимо захотелось обидеться на нее за прошлое, за посылку, посланную из экзотической страны, за украденную веру, – но не получалось. Невозможно обижаться на немолодую женщину, которая спасла тебя от жизни с немолодой женщиной. Ее можно только благодарить!
Он положил ей голову на колени, а она, как когда-то, гладила его волосы, завивая на пальцы черные локоны. Иратов понял, что это единственные колени, в которые он может уткнуться и побыть немного слабым. Мать умерла, а каким-то проходным женщинам доверяться – и мысли такой не приходило. Он спросил, как зовут ее сына.
– Арсений…
– Тезка… В честь меня?
– В честь поэта Тарковского.
– Да-да… Это здорово – Арсений Грязев…
– Арсений Иратов, – поправила Света, и колени ее напряглись.
Он никогда еще не думал о детях серьезно и сейчас не желал. Услышав, казалось, столь неожиданную информацию, судьбоносную, способную изменить жизнь, Иратов даже не вздрогнул. На мгновение он подумал, что Света сватает ему грязевского сына, но тотчас понял, что это не так. Еще ему стало ясно, что именно казалось знакомым ему в лице мальчика – он сам. Таким было его собственное лицо в тринадцать лет.
Он поднял голову с ее колен:
– Что я должен делать?
– Не знаю, – ответила Света. – Я просто думала, что тебе надо знать про сына.
– Почему раньше не рассказала?
– Ты бы не поверил. Я была не твоей женой. Да и зачем было портить тебе жизнь? Ты был славным мальчиком…
Иратов посмотрел в окно, и ему показалось, что там, внизу, на кривой тополиной ветке полощется на ветру когда-то подаренная им ее шелковая ночная сорочка, пропитанная запахом всех сук, которые в ней спали после Светы, в которой их драли с первобытным животным натиском, дабы вытравить из ноздрей ее запах…
– Я не хочу с ним знакомиться, – жестко уведомил Иратов. – Решение оставить ребенка твое. Ты в это время жила с археологом. Я тогда почти умер!
Она тотчас поднялась с кресла. Выражение ее лица не изменилось.
– Я должна была тебе сказать… Всего хорошего! – и вышла из комнаты.
Он и не собирался ее догонять, вдруг смутившись своего прежнего ностальгического порыва. Смущение быстро перешло в досаду, смешанную со злобой, и пришлось выпить большую порцию коньяка, чтобы расширить сосуды и нейтрализовать адреналин.
Появился Витя и спросил, широко улыбаясь, показывая роскошные белые зубы:
– Ваш сын?
– Пошел в жопу! – прорычал Иратов в бешенстве. Его лицо исказилось от непонятного помощнику гнева, а глаза вылезли из орбит. – В жопу пошел!!!
Он перестал вспоминать. Ему было неприятно…
Для ремарки: позже он отыскал Свету и инкогнито помогал ей денежными переводами. Не из чувства долга, просто считал это разумным.
Иратов отключил компьютер и отправился на кухню, где пожарил себе три яйца с помидорами. Поел, отгоняя плохие воспоминания, выпил пятьдесят грамм коньяка.
Арсений Андреевич решил, что сегодня в офис не поедет, надо подняться к Верочке и попытаться начать перестраивать отношения, исходя из нынешнего положения вещей. К 16:00 он хотел поехать поиграть пару в теннис и посетить массажиста… Хотя массаж в данном положении будет лишним.
Он уже закрывал дверь, когда прозвонил мобильный, забытый на письменном столе. Пришлось вернуться и ответить на звонок. Это был помощник Витя, которого он полчаса назад послал в пятую точку.
– Чего тебе? – ответил не совсем дружелюбно.
– Арсений Андреевич, могу я вас соединить с городом?
– Срочное?
– Молодой человек не назвался, но он так настаивает, словно жизнь его решается!..
– Витя, всегда найдется тот, у кого в данный момент решается жизнь!
– Мне отказать?
– Соединяй, если уж жизнь…
– О’кей…
Несколько секунд в трубке играла фоновая музыка, потом раздался щелчок, после которого Иратов услышал незнакомый голос, принадлежащий, по всей видимости, действительно молодому человеку:
– Арсений Андреевич?
– Да… – Он не услышал в голосе звонящего отчаяния, о котором упоминал Витя. – С кем говорю?
– С самим собой, – сообщил голос.
– Я не располагаю временем для идиотских шуток! – жестко ответил Иратов, собираясь взгреть Витю и предупредить, что еще один такой косяк – и он лишится работы.
Арсений Андреевич хотел оборвать связь, но в трубке предупредили:
– Не отключайтесь, это крайне важно для вас!
– Чем же?
– Я знаю, что с вами произошло.
– Не понимаю…
– Вы что-нибудь теряли важное в последнее время?
– Говорите яснее, или я вешаю трубку!
– Не теряли ли вы в последнее время некую часть собственного тела?
Кто? – подумал Иратов. Сука Сытин сдал? Кроме него и Верочки никто не знает… Так или иначе, его, могущественного и твердого, как камень, сейчас пытаются шантажировать.
– Я на шантаж не ведусь! – предупредил Арсений Андреевич. – Более того, я жестко отвечаю на такие действия и уверяю вас, что вы скоро узнаете, насколько я могу быть жестоким!
– Я знаю, каким жестоким вы можете быть. Собственно говоря, я знаю о вас все до последней мелочи… Ну, например, вы сегодня потеряли почти пятьдесят миллионов долларов и купили большой опцион против юаня. Я знаю, что вы лично отдали приказ замучить в тюрьме Залетина…
– Это кто?
– Это мелкий уголовник, который когда-то вас подловил на карточном мухлеже. Вы еще школьником были. Вас потом целый месяц били по лицу и дали кличку Якут – так физиономия заплыла. Когда в позапрошлом году на вятской зоне Залетину сунули заточку в печень, то сопроводили убийство словами: «Помнишь Якута?» Вы же Якут, я не ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь… Кстати, Залетин перед смертью так и не вспомнил, кто такой Якут…
Иратов молчал. С расставленными мощными ногами, опущенной головой, он сейчас был похож на быка, растравленного наглыми пикадорами. Он не боялся, но, в отличие от быка, цели не знал и не видел, а оттого горел изнутри сжигающим желудок бешенством.
– Чего ты хочешь? – процедил в трубку.
– Я?.. Да как бы и ничего совсем. Ежели только поесть? Я голоден.
– Дать тебе денег на сосиски?
– Давайте я к вам приду, мне час понадобится. А вы пока Верочку попросите приготовить что-нибудь. Я невзыскателен.
– Слушай, ты, не знаю, как тебя там!.. – мрачнел Иратов.
– Эжен. Меня зовут Эжен.
– Так вот, Эжен, Верочка не имеет отношения к нашим с тобой… – он хотел сказать «делам», но, отредактировав желания, произнес: – …проблемам. Пусть она остается там, где она есть, ты же можешь прийти ко мне!
– На квартиру?
– Именно.
– Кстати, Верочка имеет самое непосредственное отношение к нашим проблемам. – Он подчеркнул: – К нашим проблемам! Вы сейчас в бешенстве, но, поверьте, я не тореадор и не собираюсь вонзить в ваше сердце шпагу!
– Блядь! – выругался Иратов. – Приезжай, гаденыш!..
Когда позвонили, Арсений Андреевич, подходя к входной двери, уже вернул самообладание, сжимая крепкими пальцами именной пистолет «макаров». Желание убить незнакомца было столь сильным, что Иратов боялся сорваться и вместо выстрела в ногу пустить пулю гостю в лоб.
– Кто? – спросил.
– Это я, Эжен… Только прошу вас – уберите, пожалуйста, оружие. Оно способно нанести вред нам обоим.
Иратов поднял руку с пистолетом, собираясь ударить вошедшего рукояткой по голове, другой же щелкнул замком, впуская шантажиста.
Когда Арсений Андреевич увидел лицо вошедшего, то инстинктивно отпрянул назад. В проеме двери стоял он сам, но лет на тридцать моложе. Юноша в черных одеждах улыбался, был бледным и казался слабым. Арсений Андреевич опустил пистолет и спросил:
– Ты Светин сын?
– Чей сын?.. А-а, нет, конечно… Я, как вам сказать… вы только не серчайте… Может, мы в комнаты пройдем, я правда очень голоден.
– Иди за мной! – скомандовал Иратов, продолжая держать оружие стволом вверх.
– Ага…
Они прошли в кухню, Арсений Андреевич открыл дверцу громадного холодильник и разрешил:
– Пользуйся!
Эжен отломил треть французского батона, руками взял нарезанную буженину и принялся жадно есть. Он откусил от помидора, и томатные брызги украсили стену, а в кровавый подтек тотчас угодила муха, отчего-то проснувшаяся зимой. Он выпил бутылку можайского молока и интеллигентно выпустил в кулак проглоченный воздух.
– Ты не договорил, – напомнил Иратов, дождавшись, пока молодой человек наконец утер салфеткой рот.
– Да, конечно… – Эжен немного покашлял, прочищая горло. – Я не сын Светланы Ивановны… а, как бы вам сказать… Я плоть от плоти Андрея Иратова и Анны Рымниковой. Ваших родителей…
Иратову непреодолимо захотелось выстрелить. Костяшки пальцев побелели.
– Ты хочешь сказать, что мы братья?
– Да что вы, нет, конечно!
– Кто же ты? – терял самообладание Иратов.
– Я уже говорил… Разве вы не помните?
– Я застрелю тебя!
– Я – это вы! Что же здесь непонятного?
Арсений Андреевич подошел к молодому человеку и приставил дуло пистолета к его лбу:
– Говори, у тебя есть двадцать секунд!
– Несколько времени назад вы утеряли часть своего тела. Достаточно важную и при странных обстоятельствах…
– Кто тебе об этом сообщил? Сытин?
– Нет, Сытину сейчас не до вас, у него проблемы. И уберите, пожалуйста, оружие от моих мозгов.
Иратов приставил пистолет к сердцу Эжена, переживая, что все же это Верочка допустила утечку.
– Дальше! – приказал он.
– У вас сейчас зашкаливает давление!
– У тебя его вовсе не будет через мгновение!
– Почему вы такой бестолковый! – вспылил Эжен. – Я вам объясняю, что я – это вы, что часть тела, которую вы утеряли, – это я!
Иратов коротко ударил молодого человека рукояткой пистолета по голове, и тот по стене сполз на пол, пачкая кровью шелковые обои.
– Сволочь! – выругался Иратов, но Эжен его не слышал, пребывая в бессознательном состоянии.
Арсений Андреевич уселся в кресло и стал пристально смотреть на безмятежное бледное лицо пришедшего. Чувство злости прошло, и он мучительно пытался понять, что все это значит. Происходящее по меньшей мере казалось ему странным, несколько театральным и эксцентричным. Иратов попытался систематизировать информацию начиная с недавнего прошлого. Потеря детородного органа, Сытин, сапфир, биржевые потрясения, Верочка – все это сплелось в клубок бессмысленности, в которой ему чудился смысл!..
– Чушь какая! – проговорил вслух Иратов.
Он вновь и вновь всматривался в бледное лицо юноши и видел в нем себя времен первых валюток. Неожиданно он понял, кто это, поднялся, вытащил из холодильника бутылку минеральной воды и половину вылил на голову раненому. Эжен застонал, но почти сразу открыл глаза:
– Вы все же ударили меня!
– Тебе удалось меня достать.
– Просто вы не слышите, что вам говорят! – Молодой человек потрогал руками голову, а затем посмотрел на свои окровавленные пальцы. – Что ж вы так несоразмерно! Я вас ни о чем не просил, ничего злого не сделал, а вы бьете меня железом по голове…
– Ты сын Воронцовой?
– Да что вы в самом деле! У вас рациональные мозги. Мне едва восемнадцать, а Алевтину убили в восемьдесят четвертом. Стало быть, мне, если я сын Воронцовой, сейчас не меньше тридцати пяти лет… Похоже?
– Нет, – признался Иратов, кинув гостю кухонное полотенце. – Утрись!
Молодой человек, приводя себя в порядок, предложил отложить этот разговор, коли он так плохо происходит:
– Давайте встретимся во второй половине дня, когда все успокоятся?
Арсений Андреевич прикидывал, какие опасности его могут ожидать, если этот молодой человек раскроет такую информацию о нем. Но, собственно, что мы имеем? Ну скажет он, что у меня отсутствует половой орган, – кто же ему поверит? Информация о Залетине? Никакое следствие не сможет связать убийство какого-то мелкого рецидивиста на зоне с ним, почтенным гражданином своей страны. Потеря денег? Вообще никого не парит. Нет, никаких рисков он не видел.
– Где?
– Где встречаемся, вы имеете в виду?
– Именно.
– Давайте на Донском кладбище?
– Почему именно на кладбище?
– Вы никогда не были на могиле своих родителей. Перед их памятью, надеюсь, вы будете спокойней и для меня безопасней. В семнадцать вам будет удобно?
– Вполне…
Арсений Андреевич все же решился подняться к Верочке. Она встретила мужа утренней улыбкой, хотя время шло к полудню, поцеловала его в щеку и спросила:
– Как дела?
Иратов, вспомнив все события сегодняшнего дня, от информации о падении бирж до явления – ха-ха! – себя себе, только лет на сорок моложе, ответил:
– Все хорошо, родная.
– Ну и славно. Ты завтракал?
– Да, очень рано встал, но кофе выпью.
Верочка улыбнулась прекрасной улыбкой и направилась в кухню. Иратов рассматривал ее со спины и думал, насколько эта женщина совершенна. Прямая спина, как у балерины, налитые ягодицы и ноги, длинные, кружащие голову своей бесконечностью. Его глаза наполнились слезами. Арсений Андреевич отвернулся и обреченно потрогал себя между ног.
– Господи! – прошептал он. – Я же верю в Тебя. И я верю в то, что Ты всегда справедлив в своих деяниях!.. Благодарю Тебя, Господи, да сияет Твое имя в веках!.. – Он вспомнил о страданиях Иова, сравнил их со своими и тотчас вернул себе уверенность. Вот кому не повезло, так это Иову… Спасибо Всевышнему, ибо Он дает, что считает нужным, и забирает по такому же принципу. Правда, здесь ангелы выступили провокаторами…
Вернулась с подносом Верочка. Она сервировала кофе на журнальном столике и поинтересовалась, не нужна ли ему газета. Он поблагодарил, оповестив, что новости все знает, что лучше пить кофе и смотреть на нее, на Верочку.
– Ты придумала, что делать с сапфиром?
– Нет… А надо?
– Совсем не обязательно. Сходишь сегодня со мной на кладбище?
– Кто-то умер?
– Нет-нет! Хочу навестить могилу родителей…
Иратов сам не понял, зачем позвал Верочку, будто провокатор-ангел дернул его за язык, а она почти сияла, радуясь за него, что наконец он решился на то, чего раньше никогда не делал, что, вероятно, большим грехом лежит на его сердце, а теперь, возможно, его душа успокоится и грех простится…
– Ты молодец, – одобрила она. Еще ей было очень приятно, что он берет ее с собой – как самого близкого человека, как жену. В этот миг ей вновь очень захотелось стать матерью, родить именно от него и жить с ним счастливо. Он как будто услышал ее желание.
– Ты помнишь, что у меня отсутствует половой член? – произнес будничным тоном, будто информировал о том, что побрился.
– Да, – ответила Верочка, опустив большие глаза к полу.
– Так что ты думаешь о протезировании?
– В этом вопросе я совершенно полагаюсь на тебя.
– Конечно… – Допив кофе, он поднялся из кресла и пообещал жене зайти за ней в 16:30, сейчас же он, как всегда по вторникам, отправится играть в теннис пару. – Надо приводить себя в порядок! А то одни напасти: то от отмены лекарства чуть не загнулся, то… – махнул рукой и вышел.
Собирая кофейную утварь обратно на поднос, Верочка с отчаянием подумала, что, как раньше, уже не будет никогда… Это «никогда» пугало смертельным диагнозом. И она боялась! Очень!
9
Задумал переселиться к Извековой. Все же отдельная квартира, да и записана она на меня. Иногда хорошо сменить место жительства, полезно, особенно перебраться из худших условий в лучшие. Поменяв белье, я нежился на старинной перине и уплетал зефир в шоколаде, которого было в запасе стратегическое количество. И чего актриса столько сладкого накупила?.. А потом из-под перины выпала сберегательная книжка на предъявителя. На ней размещалось восемнадцать миллионов рублей с копейками. На первой страничке простым карандашиком было помечено «моему племяннику». Ах, милейшая тетушка, спасибо вам от страждущего странника, что не потратили средства на себя, а оставили своему старинному, своему верному собеседнику на прожитие! Вы же знаете, как часто я чувствовал себя в нужде, а вы меня одарили за все муки разом!
Хорошо, что у Извековой тоже старый проводной телефон с дисковым набором.
Зашел в Сбербанк, заполнил документ на миллион и протянул девице с заспанными глазами.
– Такую сумму надо заказывать, – проныла операционистка.
– Это какую «такую»? – рассердился я.
– Какую вы указали…
– Помилуйте, да с какой стати я должен заказывать свои деньги?
– Таков порядок.
– Менеджера! – потребовал я.
– Гришечкин! – крикнула себе за спину девушка и по-простецки зевнула во весь рот.
Из стеклянного офиса-бокса на призывы появился молодой прыщавый долдон неопределенных лет и, настроив улыбку, подошел к зовущей.
– Требует миллион. И менеджера, – пояснила девица.
– Я весь ваш! – улыбнулся менеджер.
– Вы Гришечкин?
– Старший менеджер сего отделения! – с некоей гордостью подтвердил долдон.
– Мне, Гришечкин, миллион нужен, а не ты! Ты как инструмент, всего лишь даешь распоряжение на выдачу.
– У нас правило…
– Закрываю вклад и требую немедленно его в наличной форме и полном объеме! – объявил я, чувствуя себя совершенно расслабленным из-за отсутствия очереди и наличия свободного времени. – И ты, Гришечкин, лично будешь виноват в потере клиента! И как, ты думаешь, к тебе звезды после сего расположатся? Кстати, ты кто по национальности?
– Русский…
– Так вот, для тебя звезды могут выстроиться как угодно! Нет звезды для… Ну, эта инфа тебе ни к чему. Так что думай, Гришечкин, сколько в этом клоповнике желающих сесть в твой аквариум!
Я был приглашен в застекленный апартамент метров десяти, который так не хотел терять старший менеджер. Аппарат выдал мне чашку кофе сомнительного качества, прозрачные стены закрыли жалюзи, и Гришечкин поинтересовался:
– Вы что-то там про звезду…
– Я всегда про звезды, мой друг! Астрология наука тонкая, но очень достоверная.
– Так вы астролог?
– Владею.
Лицо Гришечкина запылало любопытством. Он всегда верил во все и всех. От знахарок и колдунов, в президента и, конечно, в астрологию. У него был один очень важный вопрос о будущем…
– Я тотчас распоряжусь выдать вам миллион рублей! – решил старший менеджер. – Девочки иногда перегибают палку. Их можно понять – у них-то миллиона нет!.. А можно вопросик как к профессионалу?
– Ты Близнец?
– Как вы…
– Посмотрел на тебя – и узнал, – сработал я на опережение. – Девятого числа родился в 8:45…
– Боже! – всплеснул руками Гришечкин.
– Нет, – открестился я. – Я не Он. Я астролог. Ты, Гришечкин, не волнуйся, Елена Ивановна Стаканова тебя хоть и не любит, но замуж пойдет. Видит в тебе перспективы. Надо же женщине из Хабаровского края как-то и на что-то воспитывать свою дочь!
Старший менеджер слушал с открытым ртом, а потом ойкнул:
– Какая…
– Вижу, не знал о дочке-то?
– Да нет, конечно!.. Вот тебе и звезды…
– Ну, дочку при удачном раскладе можно в интернат поступить!.. В общем, не морочь, Гришечкин, мне своими копеечными проблемами голову. Подавай миллион за информацию!
– Да как же это?.. – мрачнел на глазах менеджер.
– Все бабы суки! – подбодрил я. – С давних времен. Начиная с Евы. Первостепеннейшая сука была! Так что с миллионом?
– Конечно-конечно!
Менеджер поставил витиеватую подпись на документе.
– Ну и молодец! А чтобы подбодрить тебя, скажу, что дочка Елены Ивановны Стакановой страдает олигофренией, так что наследственность любимой вами женщины под сомнением. Нужны вам дети-олигофрены?
– Да как-то… – промычал в ответ Гришечкин невразумительно.
– Так вот, хорошая новость состоит в том, что вы проживете долгую жизнь и умрете в свой день рождения.
Покинув кабинет Гришечкина, я подошел к окошечку все еще непроснувшейся операционистки и придвинул к ней документ. Электронный счетчик отмерил двести пятитысячных купюр, деньги – две пачки – были перехвачены резинкой и переданы мне в свободное пользование.
– Не потеряйте, дядя! – предостерегла девица.
– Ваше родимое пятно на правой груди надо удалить. Из-за него ваш сожитель вас не хочет. Да и не может…
Уже в дверях я услышал вопль Гришечкина:
– А как долго жить-то буду?
– Да живи сколько хочешь! – ответил, а про себя молвил: все тридцать два – твои. А потом в ванне захлебнешься, отравленный рукой клофелинщицы.
Пошел я в блинную, где съел под сметанку и медок пару сотен штук, мог бы и больше, но официантка смотрела на меня, словно я урод какой.
– Я чемпион Европы по скоростному поеданию блинов! – информировал служительницу общепита. – У меня медаль есть. Показать?
– Лучше деньгами, – попросила официантка.
Я оплатил счет и, допивая седьмой стакан чая, глядел в стекло витрины, за которым под падающим снегом брели куда-то люди. Почти все они имели унылый вид, как, впрочем, большинство населения среднерусской равнины. Зачатые без радости, так и живут в тоске. Откуда им знать, что падающий снег – это благо? Все, что сверху происходит, – радость, а снизу – ничего хорошего. Вот поскользнется человек, шарахнется башкой об лед насмерть и если на затылок, лицом в небо, преставится – повезло, а ежели мордой в землю – вселенская неудача.
Задумался, вспомнил Гришечкина, а от него мысль волшебным клубочком повела к еще одной истории, связанной непосредственно с Иратовым.
Когда убили Алевтину Воронцову, когда она уже мертвой была разрезана скальпелем, жертвуя миру свое потомство, когда Иратов проследовал мимо палаты с новорожденным и рассмотрел розовую пятку младенца со своей фамилией, я был там же, в роли счастливого отца. Я никого не рожал, именно в драматической роли растворялся. Арсений Андреевич прошел мимо меня, и в его глазах я отчетливо разглядел жестокое сердце. Месть свершилась, казалось, торжествовал он. Я и сам совершенно не против мести, как же без нее порядку существовать, мало ли что кто-то сказанул про физиономию. Старый закон вернее нового… И вот Иратов, сам не запачкавшийся, был отомщен. Он праздновал свою свободу и избавление во всех лучших ресторанах Москвы, а я держал его ребеночка на руках, и не Петерсона сын был, а именно Иратова, новорожденная плоть пахла Арсением Андреевичем. Одна незадача ждала врачей, которые на следующее утро констатируют, что мозг младенца Иратова вследствие гипоксии и еще чего-то там вышел из строя на восемьдесят процентов. Малышу будет объявлен приговор: развитие максимум до уровня трехлетнего ребенка. А потом его передадут в специальные ясли. Родственников Алевтины Воронцовой хоть и отыскали, но те наотрез отказались брать на воспитание будущего дегенерата. Вот он, зачатый без радости…
Мальчонка Иратова был очень красив, что помогло ему выжить в первые три года коррекционных яслей. Мало кто доживал до столь почтенных лет. Совсем не добрые нянечки-воспитатели, ворующие питание, предназначенное убогим детям, глядя в глубокие черные глаза малыша, испытывали нечто вроде религиозного благоговения. А когда к трем годам у мальчишки отросли до плеч черные волосы, нянечки и вовсе стали относиться к нему как к ангелу. Черненькому ангелу. Ребеночка холили и лелеяли, насколько это возможно в таком государственном учреждении, кормили вволю, даже из дому приносили кусочки.
Маленького Иратова нарекли Иосифом в честь поэта Бродского, которого выгнали из СССР за тунеядство. Имя придумала нянечка Евдокия, которая других русских имен не знала. Совсем юной, лет шестнадцати, она приехала в столицу из Якутии и наполовину была буряткой. Ее саму не признал родной отец, второй секретарь обкома КПСС, так как Евдокия была прижита на стороне, ее зачали в яранге наспех. Молодая женщина, уже сосватанная за главного оленевода, была взята на выезде партактива силком, коммунист разорвал на ней меха и насладился национальным колоритом сполна. Так и появилась на свет Евдокия, с раскосенькими глазками, белая кожей да ладная телом. Росла среди оленей, а училась по единственной в яранге книге. И та была рукописью, которую, по преданию, забыл при изнасиловании ее родной отец. Оказывается, секретарь почитывал на досуге самиздат и настроен был на высокое. Этим «высоким» и случилась Дашка, как называла ее мать. Женившийся оленевод так и не смог принять чужое дитя, пару лет пил, а потом помер вместе со своим стадом, сраженным какой-то угрюмой болезнью. Дашка подросла и уехала от безысходности в Москву, где и нашла место нянечки в интернате для слабоумных детей на шестьдесят рублей оклада. Она неутомимо таскала детские горшки, стирала обмоченное белье, кормила с ложечки совсем маленьких – в общем, была на подхвате. У нее оставалось свободное время, которое она полностью посвящала малышу Иосифу и даже пыталась его учить говорить. Но тщетно: казалось, при ангельской внешности ребеночек был абсолютно туп и безэмоционален… Остальной персонал состоял из почти пожилых женщин с полным отсутствием образования, которые называли своих подопечных овощами, и только заведующая яслями Белла Юрьевна была дипломированной особой. Правда, подчиненные, в большинстве своем мерзкие мародерки, называли ее дипломированной сукой.
Рассиживаться на бытописании советского призорного заведения совсем не хочется, да и вряд ли нужно. Единственное, на чем можно коротко остановиться, – так это на отношениях маленького Иосифа и няньки Дашки. Когда мальчику пришло время покидать ясли, единственный выживший в группе, он прильнул к Дашиным коленям, как к родным, и сердобольная девушка разрыдалась от надвигающейся потери своего любимца. Мальчик впервые совершил эмоциональный поступок, который подтолкнул юную особу к душевным переменам. Утерев слезы, она явилась к заведующей и попросила оставить Иосифа ей, то есть усыновить захотела. На сей запрос заведующая подумала, что не только подопечные этого заведения полные идиоты, но и персонал. Ну чего с эскимоски взять!..
– Тебе самой сколько? – с легким презрением поинтересовалась заведующая.
– Месяц назад восемнадцать исполнилось.
– Ну и зачем тебе этот дегенерат? Он даже без крайней плоти родился, убогий!
– Полюбила я его всем сердцем! – простодушно объяснила Даша. – Он как цветочек – красивый и безобидный.
– А ты знаешь, что этот цветочек, когда подрастет, морду тебе станет бить? Это сейчас он как маленький волчонок – кроткий и ласковый, а в пятнадцать, когда гормоны ударят в безмозглую голову, он тебе шею сломает и даже не вспомнит!
– Зря вы так, Белла Юрьевна! – побледнела Даша. – Не все в жизни так плохо. Бывают и чудеса…
– На что жить будешь, дура? – разозлилась заведующая.
– Господь подскажет…
– Ни хера он тебе не подскажет! Потом, когда наиграешься, сдашь в интернат. Не ты первая, не ты последняя! А если влюбишься, то недалеко и придушить помеху. Была у нас такая сердобольная, взяла девку-дауна, а потом, когда у ней хахаль нарисовался и вопрос встал, либо он, либо убогая, решение было принято быстро: подушку на лицо – и при оформлении как несчастный случай пошло. Ирония судьбы в том, что убивица забеременела от своего хахаля и родила девочку с синдромом Дауна.
– Все люди разные, Белла Юрьевна. Я совсем не такая.
Чувствовала Белла Юрьевна своим профессионально очерствевшим сердцем, что девушка действительно хорошая, что есть в ней самоотверженность русских женщин из фильмов пятидесятых, а потому, совсем для себя неожиданно, подошла к Дашке и погладила по голове, а затем к немалой груди прижала:
– Ну хорошо, хорошо! Поступай, как сердце велит. Пока можешь оставаться в общежитии, работать будешь по-прежнему у нас, Иосифа можешь приводить, а мы его подкормим, и одежду получать бесплатно будет. Хорошо так?
Даша перехватила руку заведующей и принялась целовать ее:
– Спасибо, родненькая!
Белла Юрьевна руку от целований отдернула и сама скупо заплакала, отвернувшись к портрету министра здравоохранения.
Таким образом, судьба Иосифа Иратова на какое-то время была решена.
Также не стоит вдаваться в подробности тягот Даши по воспитанию убогого мальчика, как тяжела была жизнь девушки, что творилось в темной душе Иосифа. Ну, жили себе трудно, но жили…
Я же в свою очередь предпринял ряд попыток вынудить истинного отца Иосифа, Арсения Андреевича, помогать воспитывать своего отпрыска, хоть и нежеланного. Послал письмо на его адрес, анонимно, в котором убеждал молодого архитектора и бизнесмена поучаствовать в жизни ущербного первенца хотя бы материально.
На мой адрес «до востребования» пришел скорый и отвратительный ответ: «Пошел на хер!»
Я очень вспыльчивый персонаж, очень пытливый и мстительный. В ответ на «пошел на хер» я отправил Иратову вторую корреспонденцию, в которой намекнул на знание некоторых важнейших деталей его преступных деяний и обещание вскрыть незаконную деятельность перед компетентными органами. Почти незамедлительно получил от него предложение встретиться возле памятника Гоголю в темное ноябрьское время.
Готовился к встрече тщательно, не желая раскрывать перед Иратовым свою настоящую внешность. Как я уже рассказывал, имея опыт гримера, я наклеил себе бородку-эспаньолку, усики, состарил лицо, особенно мне удались мешки под глазами, и надел парик с легкой проплешиной. Пришел на встречу раньше означенного часа, проводя рекогносцировку. Часы показывали две минуты двенадцатого, когда возле бронзовой фигуры великого русского писателя появилась человеческая тень, а за ней и личность вынырнула из-за постамента. Я вглядывался в темноту, пытаясь узнать Иратова, напрягая глаза до рези. Он или не он? И в самую напряженную секунду кто-то, подошедший сзади, спросил меня в самое ухо:
– Вы на встречу с Арсением Андреевичем?
– Да, – ответил я, даже не оглянувшись.
– Господин Иратов просил вам передать…
– Что же?
– А вот что!
Вместо текстового сообщения я получил сильнейший удар в затылок металлическим предметом и тотчас рухнул в мокрый снег, как отслужившая свое новогодняя елка. Краем глаза я успел рассмотреть темную фигуру, оторвавшуюся от памятника и метнувшуюся в мою сторону.
Меня не били – меня убивали. Удары наносились сначала по затылку, а потом нападающие перевернули меня и свинчатками разрушили мне зубы, сломали челюсть и надбровные дуги. Один из злодеев пальцем выдавил мне глаз, шепча: «Умри, сука!», затем они оба принялись тыкать в мое тело башмаками с острыми тяжелыми носами. Тогда модно было заливать в обувь кусочки свинца, дабы крушить нижней конечностью ребра и внутренние органы.
Хватит, подумал я, надо умирать и перестал дышать. Меня еще некоторое время били, а потом, убедившись, что тело мое мертво, а значит, и личность погибла, успокоились.
– Готов? – спросил один.
– Вполне! – ответил второй.
Мой труп сфотографировали на «Полароид», и преступники отбыли на отчет.
Некоторое время для страховки я лежал недвижимо, весь превратившись в слух. Вдруг злоумышленники оставили своего, который в случае чего добьет. Но все было тихо, и я потихонечку, чтобы не растерять выбитые зубы, стал подниматься, кося одним глазом по сторонам. Стоя на коленях, я вдруг увидел трехрублевую купюру, которая, подгоняемая ветром, подсвеченная тусклым фонарным светом, слегка кружась, летела мимо меня, будто имела осмысленную цель. Перехватив деньги, я был несказанно рад, что теперь могу поймать такси и отправиться домой с комфортом, не рискуя быть остановленным милицейским нарядом.
На удивление быстро поймал машину и велел ехать на Дорогомиловскую, где тогда обитал.
Немолодой таксист даже не взглянул на меня через зеркальце заднего обзора, просто кивнул и нажал на акселератор. Поездка заняла всего шесть минут. Мы подъехали к подъезду, и я протянул водителю три рубля, прошамкав изувеченным ртом, что сдачи не надо. Открыв дверь, почти уже выбравшись из салона, я вдруг услышал:
– Стой!
Остановился, не оборачиваясь.
– Стою, – подтвердил.
– Ты что мне такое дал?
Таксист включил в салоне свет и, обернувшись, тряс моей трешницей.
– Это три рубля, – пояснил я, показывая таксисту свое разрушенное лицо. Но водителю, казалось, не было вовсе дела, что я почти труп с выбитыми зубами, одноглазый и весь окровавленный. Он продолжал трясти купюрой и сказал про нее удивительное:
– Это дореформенная трешка! До шестьдесят первого в обращении была! Ты еще в морду хочешь? Где нормальные деньги?
Вот это номер! Оптический обман! Кривляния судьбы!.. Надо же, дореформенная трешка. Откуда ей взяться в наше время, летящей по ночному бульвару?
– Давайте обмен? – предложил я. – Вы меня довезли, а я вам открою информацию, которая будет стоить этих трех рублей.
– Какую такую информацию? – все больше злился таксист. – У меня план!
– У вашей дочки Светочки, которая проживает с вами и вашей супругой, абсцесс третьего зуба снизу. Уверяю вас, никакие полоскания не помогут, более того – вам срочно нужно везти девочку в больницу и вскрыть нарыв, иначе к утру гной устремится к головному мозгу!
Немолодой водитель глядел на меня с открытым ртом. В его мозгу всплыли картинки мучений Светочки с раздувшейся от флюса щекой. До него дошло, что ситуация может окончиться трагедией. Он только и молвил:
– Господи Христе, Сыне Божий!..
– Это не я! Не сын и не отец!
– Поеду? – попросился таксист.
– С богом! – напутствовал я, поняв, что обмен состоялся.
Взвизгнули колеса «Волги», и машина с шашечками унеслась в непроглядную ночь.
Поднялся в свою квартиру, включил в прихожей свет и тотчас напоролся на старуху Морозову в комбинации, пробирающуюся к туалету.
– Вий! – молвила она и захлопнула за собой дверь санузла.
– Не забудьте выключить свет, – напомнил я и прошел в общественную ванную, где, на мою удачу, никого из соседей не оказалось. Я сбросил с себя одежду и единственным глазом рассмотрел свою физиономию. Вий не Вий, а на жертву авиакатастрофы я вполне годился. Все передние зубы находились сейчас не во рту, а в моем кулаке. Я промыл их под струей воды и по одному вставил в десны. Отмылся от крови, потрогал переломанные кости и в нижнем белье поплелся к себе в комнату отлеживаться. В коридоре мне вновь встретилась старуха Морозова, проскрипевшая:
– Циклоп!
– Не желаете ли руки помыть после туалета? – полюбопытствовал и, не дожидаясь ответа, быстро вошел в свою комнату. Вспомнил, что оставил верхнюю одежду в ванной. Мне было наплевать, а потому я сразу улегся в постель и сию же секунду заснул до декабря.
Проснувшись свежим, морозным предновогодним днем, я чувствовал себя замечательно. Выдавленный глаз восстановился, взирал орлом, кости срослись идеально, и зубы все как один прижились. Звонил по телефону, но ответа не было. Слишком мало времени прошло.
– Ну-с, мой дорогой Иратов, – выдохнул я решительно, – пора вами заняться всерьез. – Коли вы меня убить пытались… а я не сопротивлялся, хотя мог…
Вышел из комнаты, и, на беду, все соседи по причине субботы находились дома. Кто-то жарил картошку на сале, возбуждая аппетит, кто-то оккупировал туалет и словно играл в нем в войну. Старуха Морозова была здесь же, сидела в коридорчике на общественной мебели и глядела за кипящей жизнью коммунальной квартиры. Я прошел мимо к ванной с полотенчиком на плече и услышал вслед:
– Ишь, крепкий! И не сдохнет все никак!..
– И вам не хворать, бабушка! А то похоронные принадлежности сейчас ой как вздорожали. Дешевле кремация!..
Наконец попал в ванную и побрился. Из зеркала на меня смотрело лицо уверенного, пышущего здоровьем человека. Вышел на кухню и поставил вопрос:
– Кто заныкал мою одежду, любители свининки?
Толстозадые тетки молчали, лишь активнее застучали ножами, что-то шинкуя, каждая свое. Еще сильнее запахло картошкой с салом. И только холостой мужик Медведев с кофейником в руке ответил:
– Так что там с этой одежды осталось! Вся в клочья да окровавленная. Убил кого?
– Так где же?
– Выстирали и на тряпки порвали…
Вернулся в комнату и надел спортивный костюм. Ноги обул в лыжные ботинки, за неимением иных, и вышел из квартиры на дело. Я знал, где Иратов прячет нажитые незаконным путем ценности. Дошел пешком до Донского монастыря, а там на кладбище попал. На нем Арсений Андреевич еще до тюрьмы откупил несколько участков для захоронения. Родителям, так понимаю, и два про запас, надеюсь для себя, пусть поперек ложится. В изголовьях установил гранитные плиты, но без надписей, так как никто пока не умер. На 432-м участке гранитный камень легко отодвигался, опирающийся постаментом на колесико, ездящее по закругленной рельсе. Здесь и находился один из тайников спекулянта Иратова.
Отодвинув могильную плиту, я вытащил из полиэтиленового мешка небольшой сверток, поковырялся в нем, достал пачку иностранной валюты и прозрачный камень с голубиное яйцо. Потом положил пустой кулек на место и испражнился в тайник по-большому. Лишь после этого деяния я вернул гранитную плиту на место.
На Шаболовке я несколько минут стрелял двухкопеечную монету. Дала какая-то студентка, спросив, где мои лыжи.
– Лыжи, деточка, они всегда на лыжне.
– А я коньковым ходом люблю, – призналась студенточка, протягивая двушку. – У меня еще есть! Держите…
– Хорошего мужа тебе! – поблагодарил я и скрылся в телефонной будке. Набрал нужный номер и дождался ответа. – Здравствуйте, господин Иратов!
– Здравствуйте… Кто это?
– Я тот, кого вы предпочли месяц назад убить жестоким способом, нежели просто помочь собственному сыну.
– Выжил? Силен!
– Но без сантиментов. Я вас предупреждал о своей информированности. Теперь я вынужден действовать более решительно. Я уже побывал на Донском кладбище, взял десять тысяч долларов для мальчика и двадцатикаратный бриллиант.
– Сволочь!
– Совсем забыл сказать – я еще и насрал в ямку! – и положил трубку.
Оставив немножко сотенных купюр себе, деньги, конечно, я передал узкоглазенькой Даше, не в руки, а анонимным переводом, написав пожелание: «Пусть сынок ваш будет счастлив!»
Пошел в валютку на Тишинке и купил себе чуток одежды. Не ходить же, в самом деле, в лыжных костюме и ботинках. За мной отправили хвост, но я ловко ушел от него, нырнув в метро и смешавшись с толпой…
Отчаянно трудясь, я создал несколько блестящих планов, которые должны были подточить тайное могущество гражданина Иратова, подставить, так сказать, подножку набирающему разрушительную силу человеку-пароходу. В голове рождались прекрасные мысли, одна другой ярче, и я улыбался в предвкушении оглушительного фиаско Арсения Иратова.
Через две недели, набрав номер телефона вышеозначенного гражданина, я вдруг встретился с женским тембром, сообщившим, что Арсюши нет.
– А когда будет?
– Никогда, – с печалью в голосе отозвалась женщина.
– Умер?! – воскликнул, не сдержавшись.
– Да что вы такое говорите! – вскричала женщина. – Господа на вас нет!
Как раз на меня Он был.
– Что же тогда?
– Эмигрировал мой Арсюша…
– Стало быть, вы его мамаша?
– Да, мать! – гордо ответила женщина. – Вы кто будете?
– А куда эмигрировал?
– В Израиль.
– В Израиль? На Святую землю?
– Пока да…
– Он же не еврей!
– Что-то отыскал по линии отца, – выдавала информацию мать Иратова.
– Вы что там готовите? – спросил. – Чувствую запах рыбы!
– Так и есть – заливную рыбу…
– Любите?
– Муж приветствует, и Арсюша любит…
– Ваш Арсюша брюхо свое любит. Если бы он любил рыбу, то отпустил бы ее в озеро, ну, или там в реку!
– Подмена понятий! – вдруг стала строгой мамаша Иратова. – Я хоть и учительница английского языка, но и русский неплохо чувствую. Вы использовали слово «любить» в прямом и христианском смысле этого слова – любить человека, но есть и другие значения этого слова. Можно любить вареную картошку с селедкой, шампанские вина, себя, в конце концов! Куда же в таком случае себя отпустить? В какое озеро?
Женщина была неглупа, но в пучине заблуждений.
– И ни с какой христианской позиции я не говорю! Это дерзость так заявлять!
– Вы магометанин?
– Тьфу!
– Кто же?
– В этом и суть, – тожественно объявил я. – Десятка в мишени! Куда человеку самому себя отпустить! В вашем вопросе уже заложена вселенская ошибка. Человек не вправе отпускать себя куда-то, он не лошадь. Человек должен заставить себя идти определенным путем. Чем яснее и осознаннее путь, тем определеннее будущее!
– Я поняла, вы сектант.
– Конечно же, – разочарованно согласился я. – Такой вывод из моих слов прямо-таки и напрашивается. – Не буду вас задерживать, рыба в духовке пересыхает!
– Постойте, а вы кто? Вы товарищ сына? Как вы узнали, что я рыбу…
– Подмосковный клещ ему товарищ! – и повесил трубку.
Сообщение матери Иратова о его эмиграции почти выбило почву у меня из-под ног. По некоторым условиям я не мог оставлять Россию (периодические звонки), а оттого преследование мною Иратова было отложено до лучших времен.
Зачем-то поплелся в парикмахерскую к Антипатросу, и он брил меня и стриг, как всегда молча, не интересуясь тем, что я только третьего дня прихорашивал свое лицо, – зачем так скоро? Греку тоже надо было время от времени звонить и вслушиваться в безответную Вселенную, поэтому на частоту визитов клиентов ему было плевать.
Вернулся домой злой, как бык, которому не дали забодать споткнувшегося тореадора. И соседи еще все в коридор выперлись и смотрят так на меня с вызовом. Особенно старуха Морозова глядела исподлобья, будто ей лично было поручено расстрелять меня после оглашения приговора.
– Ну, чего уставились? – поинтересовался я.
Коммунальное сообщество мялось, переступая с ноги на ногу, пока холостой мужик Медведев решался на выступление.
– Вы у нас уже два года проживаете, – наконец вымолвил он.
– И?
– Мы не знаем даже вашей фамилии! Не говоря уж об имени и отчестве.
– И?
Мужик Медведев пытался продолжать, но старуха Морозова опередила его:
– Не доверяем мы тебе, милок! Подозреваем в тебе врага.
– О как! Повесите сейчас или сначала дадите справить малую нужду?
– Мы хотим написать на вас письмо в органы, – продолжил мужик Медведев. – Вы подозрительны, являетесь в ночи весь в крови, то у вас, кроме лыжного костюма, ничего нет, то вон, – развел руками оратор, – во всей фирме воплотились.
– И месяцами из своей берлоги не выходит! – добавила старуха Морозова. – Чем живет?
– Да-да, – зашептали остальные соседи и соседки, пряча за свои могучие задницы малых детей, пахнущих непоменянными подгузниками.
– Товарищи! Так в чем причина? Пишите куда угодно!
– Но мы не знаем ваших ФИО! – напирал мужик Медведев. – На кого писать, не знаем!
– Позвольте! – возмутился я. – Наряду со всеми мне приходится платить за электричество, газ, воду и радиоточку. Как же у меня денежки принимают без ФИО? – Всем телом я навис над старухой Морозовой. – Не кроется ли здесь, бабушка Яга, ошибочки? Или хотите меня обвинить в неуплате?
– Нет, квитанции все оплачены, – подтвердил мужик Медведев. – Все в срок…
– Так на них же мои ФИО, неумные вы мои!
– Теперь вы позвольте! – укреплялся в своей доказательной базе холостяк. – Здесь в графе «имя» написано «Е», в графе «отчество» – тоже «Е», и фамилия «Е». Так что же получается? Ваше полное имя звучит как ЕЕЕ?
– Так точно, – кивнул я. – ЕЕЕ, позвольте представиться тем, кто не знал.
– Не бывает таких имен! – просипела старуха. – ЕЕЕ, хали-гали, – проскрипела.
И все остальные жилички с мужьями подтвердили:
– Не бывает!
– Паспорт показать?
– Желательно, – согласился Медведев.
Я выудил из внутреннего кармана паспорт и протянул его в пространство. Старуха Морозова было дернулась, но холостяк ее опередил и открыл документ.
– Имя Е, – констатировал. – И фамилия с отчеством также ЕЕ.
– Подделка! – завопила бабушка.
– Да заткнись ты, старая блядь! – не выдержал Медведев и, взяв себя в руки, продолжил изучать документ: – Национальность – алтиец!.. Не знаю… Может, описались, буковку не дописали? Может, балтиец?
– Ну в самом деле, товарищи! – возмутился я. – Балтиец – это моряк, служащий на Балтике! Я же – алтиец!!!
– Это еще что такое? – не затыкалась бабка. – Еврей?
– Почетно, – кивнул головой. – Но нет…
– Кто же вы? – скромно подключилась одна из задастых мамаш. – Из каковских?
Сделав театральную паузу, возведя очи к потолку, затем опустив их к грязному полу, скромно сообщил обывателям:
– Я сын команданте Че…
В общественном коридоре воцарилась гробовая тишина. Было слышно, как урчит в животе у старухи Морозовой.
Холостяк Медведев, выйдя из оцепенения, вопросил:
– Так вы сын… Че Гевары? Я правильно понял?..
– Единственный.
– А как вы здесь? – спросила смелая мамаша.
– Куда органы разместили, – развел руками. – Наше дело маленькое…
– Чего ж отдельную не дали? – тряслась от злобы бабушка.
– Замолчь, Ирина! – скомандовал холостяк Медведев, и стало понятно, что он и жиличка с пацаном в гражданском родстве. – Ясно, что человека скрывают. Там не дураки сидят! – Открыл одну из страниц паспорта. – И прописка на месте! Смотри, Морозова, преставишься – мы твою комнату товарищу Е отдадим!
– А мне по вашему интернациональному барабану будет, когда я помру! И уж комната точно волновать меня не будет! Ишь, комендант нашелся!
Старуха вовсе не дура, подумал я и предложил сегодня же организовать вечером банкет по случаю восстановления дружеских чувств коммунального сообщества.
– Конечно, за мой счет! – уточнил. – И сдвигайте побольше столов, а то продукты не поместятся.
Настроение у коллектива поменялось. Халява и мертвого из могилы поднимет, и палача с жертвой местами поменяет.
– Ура! – по-пионерски приветствовала сожительница Медведева.
– Ура! – вторили остальные соседи. Лишь старуха Морозова нервно крутила во рту зубные протезы.
– Можно документик? – попросил я.
– Конечно-конечно! – Медведев передал мне паспорт и сообщил, что если застолье будет водочное, то у него имеется банка соленых груздей.
– Все за мой счет!
– А во сколько?
– Так к семи вечера будет в самый раз! Так, товарищи?
– Так, – согласились соседи.
Запершись у себя, я, не раздеваясь, долго вслушивался в длинные гудки телефона. Мне вовсе не хотелось веселиться со своими соседями по коммуналке, люмпенами и бывшими коммунистами. Особенно после такого оглушительного провала с Иратовым.
10
Иратов и Верочка подъехали к Донскому монастырю заблаговременно. Здесь же, перед воротами, купили цветов и под руку прошли по аллее к храму Иконы Божией Матери. Внутрь зашла лишь Верочка, перекрестилась на входе и на голоса певчих, отпевающих какого-то усопшего Зиммермана, вероятно выкреста. Затем Верочка прошла к киоску, заказала сорокоуст для Иратова, написала записки – кого помянуть, кому за здравие. Набрала свечей и, оставив киоскерше две крупные купюры, наказала:
– Все, что лишнее, – на храм!
Подошла к иконе Божией Матери и зажгла первую свечу. Она попросила Мать Бога, чтобы та заступилась за нее, чтобы совершила чудо и дала Верочке возможность испытать счастье материнства… Часть цветов молодая женщина установила в вазу под образом, перекрестилась, кланяясь, затем отошла. Она некоторое время колебалась, подойти ли ей к распятию, но почему-то убоялась в результате и почти бежала от Христа к Иратову.
– Зачем столько свечей? – не понял Арсений Андреевич.
– Много не бывает. У памятника родителям поставим.
Некоторое время пара потратила на поиск родных могил.
– Здесь все изменилось! – оправдывался Иратов, хотя на кладбище Донского монастыря давно ничего не менялось. В историческом месте почти не хоронили, только подхоранивали, если места были выкуплены. Даже крематорий уже давно закрыли – пугал народ черным дымом из трубы…
Собственно говоря, Иратов не был на похоронах его родителей. Он отдал все распоряжения по телефону из Нью-Йорка, а его люди все организовали, засняв процесс на видеопленку. Пришлось идти к директору кладбища, постоять в очереди, затем оба оказались в крошечной комнатке, где тот отрабатывал свои похоронные гонорары. Сия персона встретила вошедших весьма недружелюбно, попыталась даже жестко попенять им за столь долгую помесячную неуплату за соблюдение чистоты на захоронениях, но Иратов эту попытку остановил лишь взглядом одним, дав понять директору, что перед ним особа колоссальных размеров, способная походя раздавить, расплющить и даже не заметить.
– Покорнейше прошу простить, – сменил гнев на милость хозяин мертвецов. – Не признал! – и протянул широченную ладонь для пожатия. – Глеб Аристархович!
Иратов руки не принял, а лишь констатировал свою догадку:
– Землицы перебросали немало…
– Из рабочих вышел, – подтвердил директор.
– Под кем в девяностых работали?
– Не понял?.. Может, чайку? На улице знатный морозец!
– Под измайловскими?
– Сами знаете, какая жизнь была…
– Так и сейчас измайловские здесь копейку имеют.
– Хозяин старый – и бизнес старый. А вы из каковских будете? Будто ваше изображение мне знакомо…
– Я вольный стрелок… Показывайте, уважаемый, могилы!
– Конечно.
Гуськом они пошли по узенькой, протоптанной в снегу тропинке, все больше отдаляясь от центрального входа. Миновали могилу Майи Кристалинской – певицы, которую Иратов неплохо помнил еще в черно-белом изображении телевизора. Герои войны и труда, генералы и артисты, сопровождали их путь грустным взглядом со своих надгробий.
– Уже недалеко, – подбодрил директор.
Верочка чувствовала, как стынут ноги в тонких изящных сапогах, но виду не показывала, лишь пальчики на ногах напрягала, пытаясь разогнать кровь.
– Не чистите снег-то! – раздражался Иратов, которому снег залез под брючину и застрял комками возле щиколотки.
– Так никто не платит, мы и не чистим.
– Тоже верно…
– Вот за этой стеной и ваши могилы, – оповестил директор. – Пришли. Обратно по натоптанному куда легче возвращаться. Вот они, могилки!
Верочка и Иратов стояли возле одной на двоих оградки и смотрели на выцветшие фаянсовые фотографии надгробий. Сами могилы утопали в свежем снегу, и красногрудый кладбищенский снегирь склевывал с куста рябины мерзлые ягоды.
– Я пойду? – спросил директор.
– Идите.
– Если что нужно, я у себя в конторе… – И пошел назад по тропинке.
Иратов обнял Верочку, и они стояли молча.
Арсений Андреевич краем глаза видел ступающую по тропинке сутулую фигуру Эжена в черном облачении. Его черные волосы развевались на зимнем ветру, и Иратов невольно залюбовался своей копией.
– Пойду поищу какую-нибудь лопату, – проговорила Верочка. – Или веник, на худой конец.
Она передала букет мужу, сказав, что к чистому поставим. Только она отошла, как Эжен наконец добрался до Иратова.
– Я не опоздал? – спросил молодой человек. – А то у меня и часов нет…
– В самый раз, – ответил Арсений Андреевич.
– Прекрасные были люди! – проговорил Эжен и склонил голову.
И опять Иратов с трудом сдерживал раздражение. Будь его воля, он бы прострелил эту черноволосую башку, а труп подселил бы к Бурыгину Ивану Сергеевичу, начальнику треста, бюст которого взирал с противоположной стороны тропинки уверенным бульдожьим взглядом. Вместо этого поинтересовался:
– Как дела?
– Вы опять злитесь!
– А что прикажешь делать?
– Смириться! Рано или поздно придется.
– Ты не боишься, что я тебя здесь завалю?
– Завалить меня – то же самое, что самому застрелиться…
– Да перестань ты нудить!!! Какая-то околесица, в самом деле!
– А помните, у вас на нем еще крошечное родимое пятнышко было, которое во младенчестве прижгли жидким азотом? – Иратов сверкнул глазами. – Латинской буковкой V? Пятнышко со временем стало еле заметным…
Неожиданно Эжен сбросил пальто на снег и задрал до затылка свитер, демонстрируя Арсению Андреевичу голую спину, по всей площади которой растянулась бледно-розовая литера V. – Видите ее? Видите?
Иратов смотрел на Эжена и думал о том, что ситуация сюрреалистическая, достойна Дали. Некий молодой человек старательно доказывает некоему субъекту, что он его половой член!.. Вместе с тем и пропажа у Арсения Андреевича вышеозначенного предмета никак не меньший абсурд, чем труды Кафки.
– Оденься! – приказал Иратов.
Эжен натянул свитер и влез в пальто. Его слегка потрясывало от холода, но он вопрошающе глядел на Иратова:
– Видели?
– Видел.
– Вы здорово мною управлялись, надо заметить! Виртуозно, как Паганини владел скрипкой, так вы владели…
– Да помолчи ты уже!
Из-за стены появилась Верочка. Она вела с собой двух мужиков с испитыми лицами, но главное – могильщики были вооружены лопатами.
– Короче, – наказал Арсений Андреевич, – ты мой новоявленный сын Эжен. Я сам с тобой только что познакомился.
– Ясно, – согласился молодой человек. – Не будем огорошивать слабую женщину сразу!
Иратов вдруг увидел на соседнем участке старуху, лицо которой было ему чем-то знакомо. Поди, какая-нибудь старая мхатовская актриса, предположил. Он только ночью вспомнит ее, актрису-легенду Извекову, которая поселилась в его первом доме, которая поила молодого архитектора липовым чаем и потчевала зефиром в шоколаде… Когда он отвлекся от старухи, то увидел Верочку с выражением такого неописуемого удивления, что у самого черты лица исказились, но физиономия Эжена, чувственная и порочная, вернула его лицу монументальность. А ведь похоже, что все правда!..
– Мой сын Эжен, – представил Арсений Андреевич свою копию Верочке. – Моя жена Верочка…
– Ах, – произнесла женщина в ответ. – Насколько ошеломительно сходство!.. – и протянула руку в лайковой перчатке. Эжен ее слегка пожал, но от этого «слегка» все в Верочкином организме вдруг изменилось, словно частички ее тела переменили знак минус на плюс, ноги тотчас согрелись, а тело, все ее интимное, будто кто-то исследовал беспардонно, и ей, как блуднице, сии манипуляции пришлись по душе.
– Итак!.. – голос Иратова вырвал жену из плена иллюзий. – Надо почистить могилы от снега. Начинайте, ребята.
– Нам дамочка по пятьсот обещала, – сообщил дядька постарше.
– Ну, раз обещала, – улыбнулся Иратов. – Только резво!
– Резво нельзя, – заявил младший. – Мрамора́ можно поцарапать. Все с расстановкой надо!..
– Так вперед!
Рабочие вышли на объект и сноровисто стали разбрасывать снег.
– Я о вас никогда не слышала, – со смущением призналась Верочка.
– Так и я о нем только сегодня узнал! – Арсений Андреевич похлопал Эжена по плечу. – Думал, самозванец, но как с таким его лицом можно не поверить!..
– Удивительное сходство, – признала Верочка. – А кто ваша мама?
– Мама?.. Она умерла.
– Что же вы ранее не объявились?
– Да как-то зависим был от сильных мира сего!
– Ну, слава богу, что вы сейчас к нам присоединились.
Эжен улыбался, ему нравилось такое обходительное радушие.
– Фотографии протереть? – поинтересовался старший рабочий.
– С осторожностью, – разрешил Иратов.
Что-то в лице рабочего показалось ему знакомым, но он тотчас переключился на взгляд Верочки, такой лучезарный и светлый, каким она обычно только на него смотрела. А сейчас все роскошество ее глаз было обращено к Эжену. Арсений Андреевич хотел было озлиться, пресечь эти детские переглядки суровым рыком, но злости в груди не оказалось, как бы он ни попытался ее отыскать.
– Надолго к нам? – полюбопытствовала Верочка.
– Так пока до города добирался, обворовал меня лихой человек в поезде. Документы и деньги выкрал и зачем-то по голове шарахнул. Ну, это даже на пользу, так как я ночь провел в больнице, в тепле и сытости…
– Ужас какой! – захлопала заиндевевшими ресницами Верочка. – Ведь мы поможем Эжену?
– Ну… – замялся Иратов.
– Ты же сам знаешь, как трудно сейчас молодым людям. Надо помочь хотя бы с восстановлением документов!
– Спасибо, – поблагодарил Эжен.
– Поможем, – согласился Иратов.
– Все, командир! – Иратов обернулся на голос и лицом к лицу столкнулся с рабочим. – Все сделали. Подавай тысячу!
– Леха?! – признал Иратов.
– Так точно, Алексей Иванович, – подтвердил рабочий.
– Леха, бармен! Ты помнишь «Лиру»? Как гуляли, какие дела делали!..
На мгновение в глазах рабочего блеснуло прошлое, но тут же и погасло.
– Нет, не помню…
– Да как же, ты мне еще посредничал с валютой!
– Путаете что-то…
– Ты Леха? Леха с зыкинской дачи?
– Мало ли на свете Алексеев? Вон и сын у меня Алексей. По чести живем. Пожалуйте тысячу!
Иратов вытащил из портмоне стодолларовую купюру и протянул рабочему.
– Мы в валюте не принимаем! – отказался Леха, а его сын закачал головой в подтверждение.
Иратов обозлился. Как к людям пытался отнестись, а здесь… Словно в лицо плюнули.
– Тогда пошли оба на хер! – Рабочий развернулся и пошел, за ним зашагал и сын. – И правильно, что тебя тогда вытряхнули с зыкинской дачи! Лохам – лоховское место! Тоже мне брахман!
– Кто это? – спросила Верочка, удивленная такой невыдержанностью мужа.
– Так… Из прошлого…
Надпочечники господина Иратова к этому моменту снизили выработку тестостерона на шестьдесят процентов. Он еще не понимал этого, но такой истерический срыв был как раз следствием этого процесса.
На убранные от снега могилы Иратовых были возложены цветы. Особенно долго поправлял букет Эжен – словно президент венок для фотографии.
– А поехали к Алессандро Итальяновичу? – предложила Верочка. – Я есть хочу, уже вечер!
В этот раз они ели много и обильно. Эжен сноровисто накручивал на вилку спагетти и улыбался по-свойски, как будто давно адаптировался к новым реалиям. Наелись десерта и напились вина, а в конце пели вместе с хозяином «Наполи». Лицо Верочки светилось необыкновенно, она щебетала птичкой, и казалось, что ей не больше двадцати. Иратов метался между двумя чувствами: ненависти и пофигизма. Тестостерон в его организме еще присутствовал, хоть и в незначительном количестве, мозг силился укрепить гормон, чтобы родить желание вышибить дух из этого красавца-прощелыги Эжена, который окончательно освоился и даже шутил на уровне. Хер с ним, решил Иратов. Как ни крути, он – это я… Арсений Андреевич чувствовал себя изрядно подшофе и просил у официантов подливать в десертную рюмочку лимончелло. Его мысли скакали, как и у всякого нетрезвого человека, он размышлял о Верочке, потерянном половом органе и обретении оного в лице псевдосына Эжена… Он видел, как Верочка к нему обращается, но откуда-то издалека пробивался ее волшебный голос, он невпопад кивал ей в ответ, стараясь сохранить лицо властителя судеб, но покрасневшие глаза, кривящийся от алкоголя рот делали его просто немолодым человеком в сильном подпитии… Верочка сама рассчиталась, а официанты с помощью Эжена усадили Иратова в автомобиль. Она попыталась припомнить, когда еще лицезрела своего мужа в таком разобранном состоянии, но не смогла.
Вышли из лифта и остановились возле двери Арсения Андреевича.
– Он вас приютит, – улыбнулась Верочка.
– Нет! – наотрез отказался Иратов. – Мне с утра работать, и у меня нет гостевой спальни!
– Я на вокзале переночую, – спохватился Эжен.
– Вы, сын Иратова, – и на вокзале?! – возмутилась Верочка. – Остановитесь у меня! Я никогда его таким мужланом не видела!
Иратов неважно себя чувствовал и еле дотащился до своей квартиры. В коридоре он уселся на диван и безучастно подумал, что еще несколько дней назад Верочка бы просидела над ним целую ночь, с аспирином и холодными примочками, а сегодня…
– Сука! – выругался Арсений Андреевич. – Да и черт с вами!!!
Он так и заснул в коридоре…
Они сидели на кухне и пили красное вино, стараясь продлить замечательный вечер. Раскрасневшаяся Верочка по инерции опять говорила о собственном муже, о его уникальности и великодушии, а Эжен кивал, поддерживая:
– Да, достойный человек! Без всяких натяжек.
Молодой человек хрустел фисташками, а глаза его глядели в самые сокрытые уголочки Верочкиной души. Она была для него открытой книгой, в которой он без труда читал между строк. Он видел, сколько чувств у нее к Иратову, как благородно и влюбленно она относится к мужу, но одновременно с этим от Верочкиного живота слегка веяло холодом рушившихся надежд. Так канатоходец идет по проволоке через пропасть, но уже где-то в глубине внутренностей чувствует, что сорвется и погибнет. Эжен знал, что причиной ее гибели станет он. Еще минут пятнадцать он насладится домашней обстановкой и заберет то, что по праву принадлежит ему.
– Посидите здесь минуточку. Я вам постелю в гостевой.
– Не торопитесь, прошу вас…
А потом Верочка предложила ему воспользоваться ванной, указав на большое банное полотенце. Он, не торопясь, вымылся, наслаждаясь запахом дорогого шампуня, а потом вышел босой, намотав вокруг бедер полотенце. Глядя на его обнаженный торс, она пыталась стыдливо опустить глаза к полу, но зрачки никак не двигались, наоборот, жадно глазели на юную мускулистую плоть. Верочка уже сорвалась с проволоки в пропасть, хотя еще и не осознала того, что уже скоро и неумолимо упадет.
Она не поняла, как оказалась в своей спальне, совершенно голая, возбужденная до трясучки, а к шее прикасались горячие губы сына Иратова, и казалось, что в этих поцелуях сошлись все таинства лобзаний Байронов, Казанов и Распутиных.
Верочка по инерции продолжала рассказывать о нежной сексуальности своего мужа, пока ее тело, накрытое молодым мужчиной, растапливалось, как масло. Она чувствовала на своей груди его крошечные соски, будто выточенные из мрамора. Ее подмышки стали влажными и вместе с вылетающими из живота бабочками источали запах летнего сенокоса, возбуждая исключительным количеством феромонов. Вместо любовных махаонов Эжен поместил в Верочку себя, отчего у нее перехватило дыхание на целую минуту. Вместе со вздохом ее тело в первый раз сотряслось будто от электрического разряда, ноги мелко-мелко задрожали, а Эжен смотрел в ее широко открытые глаза почти безучастно. Он знал свое дело, обладал Верочкой мастерски, вытравливая из ее нутра все следы других мужчин, заполняя его собой. Она восторженно пищала, словно мышь, обнаружившая целую голову сыра, опять задыхалась, ей казалось, что она умрет от переизбытка всего, а потом ей привиделось, что за дверью стоит муж и смотрит на ее преступное совокупление вожделенно.
– Иди к нам! – призвала она. – Иди же!..
– Там никого нет, – прошептал Эжен и больно укусил ее грудь, ту, которая поменьше, которую так любил Иратов.
Верочка вскрикнула и больше не отвлекалась на миражи, порождаемые кружением чувств и сексуальной революцией. Она целиком служила Эжену, внимала его прихотям, подставляя упругие ягодицы, а потом, словно неумеха, благодарила его своими красиво очерченными поджатыми губами, дабы не поцарапать белыми зубками гений молодого человека.
Она более не вспоминала мужа, даже когда они останавливались на отдых и сидели на кухне, поедая все, что находилось в холодильнике. Она была уверена, что перед ней сам Арсений Андреевич, прошедший через горячее омолаживающее молоко, на которое подул Конек-Горбунок…
Ранним утром, с больной от похмелья головой, не будя Верочку, Иратов прибыл в андрологическую клинику и встретился с Сытиным.
– Я согласен! – рявкнул с порога.
– Подожди.
– Чего же ждать?
Только сейчас Иратов разглядел неестественную, мертвенную бледность лица товарища:
– Случилось что?
Доктор Сытин встал из-за рабочего стола и снял халат. Затем молниеносным движением распустил брючный ремень и скинул брюки вместе с нижним бельем:
– Видишь?
Иратов глядел на практически женский лобок врача.
– И ты?! – воскликнул Арсений Андреевич. – И у тебя?!!
Не надевая штанов, Сытин засеменил к Иратову:
– Больше тебе скажу… За последние два дня у меня было двенадцать таких пациентов!
– Оденься, – попросил Иратов. – И попроси секретаршу кофе!
Сытин натянул брюки и заговорщицки зашептал:
– Она сегодня мужа своего приводила… – и крикнул: – Два кофе!
– И? – торопил Арсений Андреевич.
– У него тоже… Ничего нет!!! Ни яиц, ни хера!
Они уселись на диван и хранили суровое молчание, ожидая кофе. Иратов был почти ошеломлен происходящим.
Секретарь принесла кофе, а мужчины долго смотрели ей вслед, но совсем не сексуальным взглядом, скорее вопросительным.
– Эпидемия? – предположил Арсений Андреевич.
– Возможно, – теребил брюки в паху Сытин. – Но на эпидемии можно нажиться. Ты вложишь деньги, а я организую хирургов, обучу их делать фаллопластику. Отличная идея!
У Иратова в мозгу крутились какие-то ошметки мысли, которая так и не сложилась.
– Голова какая-то тупая, – признался он.
– Это тестостерон упал! Я у себя и у пациентов замерял. Стремится к нулю. – Сытин на мгновение просиял: – Надо в государственных масштабах закупить тестостерон! В пластырях, гелях, приобрести сопутствующие лекарства, снижающие эстроген в организме, мотивирующие мужской гормон! Давай пятьдесят на пятьдесят?
– Я вчера наблюдал, как мою жену трахает посторонний человек! – вдруг сказал Иратов.
– Как это?! – крякнул Сытин.
– Вот так… Представляешь, появился молодой оголец, абсолютно моя копия, и назвался кем бы ты думаешь?
– Внебрачный сын?
– Он мой половой член, сказал. И привел исчерпывающие доказательства. Он часть меня, а потому выполнял мои супружеские обязанности. Он Верочку и так, и туда… То есть я их выполнял – и со стороны смотрел одновременно… Признаться, испытал доселе неизвестные ощущения. Вроде бы и ревность лютая, а вместе с ней мозг так возбудился!..
– Ну, это распространено довольно, – подтвердил андролог. – Особенно у пресытившихся классическим сексом… Но все равно: человек – твой половой член?!
– Именно.
– Может, скорее это что-то нервическое?.. Иллюзия? Галлюцинация?
– Я нормален.
– Не сомневаюсь. – Сытин дошел до аптечного шкафа и, достав коробку, передал Иратову.
– Что это?
– Это тестостероновый гель. Будешь втирать его в грудь по утрам.
– И зачем? Мой половой член отделился от меня, как модуль от космической станции, и действует теперь автономно.
– Слушай, Якут! Кто здесь врач?
– Ты.
– Тестостерон нужен прежде всего для мозга! Чтобы соображать! Мыслить! Наличие тестостерона делает нас мужчинами. Доминантами! Ты думаешь, почему женщины не способны рационально мыслить? А потому, что у них тестостерона мизер!
– Давай, – согласился Иратов, снял рубашку, выдавил гель на ладонь и втер его себе в мощную грудь.
– Если будешь ложиться на женщину, надо его смыть. А то у нее на груди волосы попрут, как сорняки! Ха-ха-ха!
– Зачем мне на нее ложиться?
– И то правда… Так что насчет бизнеса? Беспроигрышная тема…
– Ты помнишь, зачем я приходил?
– По поводу фаллоимитации.
– Назначай операцию!
Иратов шел к офису пешком. Городом владела оттепель, отовсюду сочилось, и легкие ботинки Арсения Андреевича утопали в холодной жиже. Параллельно следовал его автомобиль.
Интересно, подумал Иратов, а у водителя моего есть член? Или тоже потерялся? Он хотел тотчас расспросить об интимном, но здесь с ним поравнялся человек, которого Арсений Андреевич тут же признал. Он видел его в толпе зрителей Большого театра. Ему еще тогда показалось, что человек сказал на английский манер имя его жены – «Верушка»…
– Здравствуйте, господин Иратов! – поздоровался фрик.
– Мы знакомы?
– Если только заочно.
Из открытого в машине окна водитель окликнул босса, спросив того, все ли в порядке.
Арсений Андреевич махнул рукой: мол, нормально.
– Вам что-нибудь от меня нужно?
– Собственно говоря, нет. Уже нет.
– Тогда что было нужно?
– Помните, давно, лет двадцать пять назад, вы дали указание убить человека, невесть откуда прознавшего ваши тайны?
– Я никогда…
– Да прекратите! Я не из органов, ничего не пишу. Ваши люди меня почти убили!
– Не убили же… Да, вспоминаю, судя по всему, это вы нагадили в мой тайник?
– Не отказываюсь.
– А за что, простите, такая ненависть?
– Нет, ненавидеть я не умею. Просто во мне присутствует ощущение правильности происходящего.
– О боже! Вы что, из церкви?
– Упаси Господь!
– Тогда кто?
– Вы не поймете… Кстати, я знаю про все ваши проблемы.
– Да? И какие же такие проблемы?
– У вас нет детородного органа, и вашу жену Верушку удовлетворяет ваш отделившийся половой член по имени Эжен. Я ничему во Вселенной не удивляюсь…
– Сейчас еще скажете, что вы мои яйца!
– Помилуйте!.. Недостоин такой чести.
– И то радует!
– Я бы мог вам отомстить за все, что вы понаделали в этой жизни, даже сделал бы это с удовольствием двадцать пять лет назад, но вы покинули родину, перебравшись в Израиль, а затем в США. Кстати, у вас действительно еврейские корни?
– Действительно. Бабушка моего отца еврейка…
– Ага… Судя по всему, вы не захотели стать евреем?
– Нет. Мне больше по душе американский стиль жизни.
– Жизнь еврея не стиль!
– Да как скажете, я не религиозен, хотя и знающий.
– Как можно знать и не быть религиозным?
– Да вот так случилось… – Иратов остановился, замедлился и его спутник. – А у вас у самого член есть?
– Нет, и не было никогда.
– Так чего ты мне мозги здесь полощешь?
– Зачем вы так? Я же к вам с приличиями, а вы…
– Чем ты лучше меня?
– Нас невозможно сравнивать. Я вообще другая субстанция!
– Ну да, конечно… У тебя члена нет, известно, по высоким причинам! – Иратов усмехнулся. – А у меня исчез за грехи мои…
– Так у меня с момента создания его не было! Не предусмотрен!
Иратов уже видел свое офисное здание и терял интерес к разговору с фриком:
– Есть у вас что-нибудь еще для меня?
– Скорее, это у вас что-то имеется для меня.
– Что же?
– Об этом в следующий раз!
– Ну и слава богу! – Арсений Андреевич улыбнулся странному субъекту. – Я пришел, мне надо работать! – и запрыгал по сухим островкам в сторону подъезда.
– На всякий случай – меня господином Е зовут! – крикнул фрик вдогонку.
11
Хочу продолжить рассказ о судьбе отказного сына Иратова, усыновленного девушкой Дашей, ибо он имеет непосредственное отношение к предстоящему будущему. Эта молоденькая буряточка оказалась сильной духом и ни разу не сорвалась на маленьком Иосифе, как бы трудно с ним ни было. Она даже ни разу не пожаловалась сторонним о том, как ей приходится тяжело. Может, ночами она и плакала в подушку от отчаяния, но слабость эта случалась крайне редко. За такое мужество в интернате девушку уважали, директор прибавила к зарплате семь рублей, коллеги помогали задаром, и жизнь как-то шла своим чередом. Иосиф подрастал и в ответ на любовь приемной матери давал ей взамен свою красоту и ясность взора, за которым не было мысли. Мозг мальчика не погиб окончательно, его разум соответствовал трехлетнему развитию, зато половая сфера сохранилась стопроцентно. Иосиф не ходил под себя, был приучен к унитазу, за что всякий раз получал поощрение в виде печенья или конфетки. А когда мальчик забывался и писал просто на стену, Даша журила его, пригрозив не читать на ночь. Тогда Иосиф брал тряпку и убирал за собой.
В основном Даша читала ему стихи Бродского с потертой рукописи самиздата, доставшейся в наследство от матери. Смысла текстов Иосиф не понимал, но этим был тождествен своей матери, для которой все тонкие течения поэзии нобелевского лауреата были также сокрыты, лишь мелодика стиха рождала в ней душевную благодать. Ей казалось, что Иосиф Бродский – это ее отец, забывший свою книгу. Он не знал про существование Даши, так как его выслали из страны за тунеядство. Девушка по долгу службы часто бывала в интернатской библиотеке, где хранились книги детских поэтов, и здраво считала, что все эти Маршаки, Кушаки, Чуковские были высланы вслед за ее отцом за тунеядство, отлученные от Родины навеки. Девушка и сама считала, что стихи – это не работа, так, выплески настроений. Работа была у нее, у Даши, трудная и важная, с никому не нужным будущим, значит, бескорыстная, а потому она была уверена, что ее не уволят из интерната для умственно отсталых детей и подростков. Директор Белла Юрьевна с возрастом теряла свой сучизм, потихоньку слепла, а оттого дела в интернате шли худо – много воровали, и дети мерли сверх нормы значительно. Беллу Юрьевну отправили на пенсию, вручив грамоту «За доблестный труд», все на проводах плакали и обещали ежедневно навещать бывшую начальницу… За следующие пять лет, отпущенных Белле Юрьевне, никто так и не проведал ее. Господь прибрал ее поутру через минуту удушья после остановки сердца.
На место Беллы Юрьевны прислали директора мужского пола, Владлена Степановича Кошкина, скорее сослали, так как до этого он был замминистра транспорта, в чем-то провинился и оказался главным в интернате. Крепкий мужчина не отчаялся от такого своего падения, наоборот: все, что ни делается, – все к лучшему! Поэтому смертность в интернате еще повысилась, так как денег на питание недоразвитых Владлен Степанович урезал втрое, считая, что именно для этого государство поставило его на столь ответственное место – сокращать популяцию убогих. Воровать в интернате почти перестали, так как положение с продуктами оказалось столь же печальным, как в блокадном Ленинграде. Дети от слабости мало двигались и в основном лежали в своих кроватях. Интересно, что директор Кошкин не присваивал средства для прокорма, а тратил их на благоустройство территории, ремонт здания и всякие прочие хозяйственные нужды. Владлен Степанович просто был идейным идиотом, которого стоило поместить в интернат для умственно неполноценных взрослых, что находился здесь же, через лесок. Так кто ж это сделает! В роно были довольны деятельностью бывшего замминистра, почему-то не замечая смертности призренных детей, – видимо, указания какие свыше вышли по сокращению населения.
Все бы ничего, но Дашины дела в заведении сильно ухудшились, так как Владлен Степанович остановил свой взгляд на ее девичьих прелестях и недвусмысленно предлагал решать общие физиологические проблемы «в тихий час». Даша еще даже не задумывалась об отношениях между мужчиной и женщиной, помня наставления Беллы Юрьевны о том, что половые контакты могут отразиться на маленьком Иосифе. Она категорически отказала Кошкину в близости, а тот в отместку запретил Иосифу кормиться за счет интерната. Положение становилось отчаянным, так как денег у Даши не хватало, чтобы прокормить двоих, она недоедала, погибая на глазах у коллектива. И здесь пришлось вмешаться мне.
Я встретился с ней, когда она шла к общежитию, крепко держа за руку Иосифа. Ребенок громко орал, так как сегодня за то, что он сходил в унитаз, премию не выдали, извивался, поджимая колени, так что Даше пришлось его тащить. Я подошел из-за угла, положил ладонь на голову мальчику, он тотчас успокоился и пошел спокойным шагом рядом с матерью.
– Как вам это удалось? – удивилась Даша.
– Да ничего особенного, – улыбнулся я.
– А вы кто?
– Я добрый.
– Это я чувствую…
– Вас же Дашей зовут?
– А откуда вы знаете? – снова удивилась Даша и скосила на меня и без того раскосые глаза.
– Да это не важно. Я много чего знаю. Так вот, Даша, в вашей комнате общежития лежит почти целая пачка американских долларов. Вы, скорее всего, не знаете о существовании оных, но наверняка помните, что пару лет назад вам пришла посылка со странной пачкой зеленых бумажек.
– Да-да, – припомнила она. – Было такое… Одно время я подкладывала бумажки под горшки с цветами. Крестиком. Было красиво.
– А сейчас что с этими бумажками?
– Лежат где-то… Цветы посохли, так что пока без надобности.
– Государство наше великодушное и велело вам передать три тысячи рублей за то, что вы усыновили больное дитя. Ну а доллары, зеленые бумажки, мы у вас изымем за ненадобностью.
– Шутите?
– Зачем? – Я вытащил из нагрудного кармана пачку рублей и протянул Даше: – Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Пройдем к вам домой, расписочку дадите, что все сполна получили.
Увидев в конверте деньги, девушка словно онемела, ее круглое плоское лицо стало похоже на только что испеченный блин, радостный и вкусный. Мы пришли в общежитие и выполнили оговоренные процедуры. Даша карандашиком нацарапала расписку и вернула мне оставшиеся доллары, хранившиеся под камнем. Некоторое время мне пришлось потратить на объяснение, что можно купить на такую огромную сумму. Я перечислил: вы можете снять квартиру в центре, ближайшие три года не экономить на питании, купить новые вещи для мальчика и для себя и иногда пользоваться такси.
Я оставил ее с открытым ртом, удивляющим множеством мелких зубов.
Она воспользовалась советом, сняла квартиру, но, конечно, не в центре, а однушку возле Беляево, купила новую одежду, но только для Иосифа, и уволилась из интерната – к огромному разочарованию директора Кошкина.
– Подохнешь, как кош… – он хотел сказать «кошка», но из суеверия поправился: – Сдохнешь, как собака под забором!
Больше половины денег Даша потратила на лучших врачей для Иосифа. Мальчика в течение года исследовали, выписывали новейшие препараты, собирали консилиумы, но к положительному результату это не привело, только к финансовым потерям. Иосиф пописал на стену кабинета самого главного невролога страны, и лечение было остановлено сейчас же. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит – олигофрения!
Ну что ж, рассудила Даша. Жили как-то – и дальше проживем, не тратясь на напрасные надежды. Она устроилась уборщицей подъездов в доме, в котором снимала квартиру, чтобы мальчик был всегда на глазах… Менялись времена, Иосиф превратился в ангельской внешности подростка, но, как и предупреждала Белла Юрьевна, гормоны принялись мучить молодого человека, взяв над ним верх одномоментно. Ему не хватало мозга, чтобы понять происходящее с телом, он часто бегал по квартире голым, с восставшей молодостью, крутил ее в разные стороны, ломал причиняющую муки штуку, пока та вдруг однажды не прыснула жидкостью, отчего пришло временное облегчение. С этого момента Иосиф почти все время тратил на рукоблудие, даже продолжал это интереснейшее занятие во время еды. Даша на него замахивалась полотенцем – но что могла сделать бедная женщина, только терпеть. Однажды она вышла из ванной в слегка распахнутом халате. Глаза Иосифа засверкали, лоб вспотел, несколькими извилинами он дошел, что вот оно – то, что ему было всегда необходимо, вот он – сладкий плод, совсем рядом. Подросток справился с матерью легко, да и находившаяся в совершенном смятении Даша защищалась вяло. В ее голове проскользнула мысль о порочной связи матери и сына… Он уже был в ней, когда она пришла к выводу, что мать любым способом должна помогать больному страдающему ребенку. Тем более приемному. Она ничего не чувствовала физически, даже царапаний и укусов, так как за долгие годы и так к ним привыкла. А что там у нее между ног происходит, ей было совершенно не интересно… Теперь Иосиф по пять раз в день укладывал Дашу в постель, а в промежутках продолжал заниматься рукоблудием. Женщина даже извлекла пользу из животной ненасытности сына. Она теперь сопротивлялась, заставляя подростка подметать квартиру, мыть посуду, и только за труд приносила себя в награду.
Так продолжалось несколько месяцев. К радости Даши, Иосиф стал более спокойным, моменты агрессии пошли на убыль, а потом он назвал ее по имени – «Даша», чем поразил женщину. Конечно, до этого ему удавались простые слова, например «мам», «есть», «на горшочек»… И несложным было ее имя в произношении, просто произошло это впервые, а потом так и продолжалось – не «мам», а «Даша».
А где-то через год у нее пропали месячные. Она не обратила на это внимания, хотя живот набух, чем вызвал у Даши панику, так как за долгое время лечения ребенка она навидалась всяких болезней, в том числе и огромную опухоль в животе видела, правда у мужчины. Оставив Иосифа на сменную уборщицу, Даша понеслась в районную поликлинику, где принимал онколог, записалась на прием и с ужасом ожидала своего часа. Не за себя боялась, а за Иосифа, которому отпускала максимум год жизни, если она умрет и отправится в тот мир, в котором живут съеденные олени… Через неделю ее принял внешне равнодушный онколог, уложил на кушетку и несколько минут трогал ее надувшийся живот.
– Специализация не моя! – предупредил он. – Но по всей видимости, дорогая, вы беременны, и очень плотненько беременны.
– Как беременна?! – испугалась пациентка.
– Так, – ответил врач. – Гинеколог точнее объяснит.
После ухода женщины с лицом, похожим на прокисший блин, онколог долго жаловался медсестре на всеобщую сексуальную неграмотность населения, удивляясь, что женщины даже не знают, что такое спираль и противозачаточные пилюли, не говоря уж об изделии номер два.
– А что такое «изделие номер два»? – не поняла медсестра.
– Она ведь даже не понимает, что с ней! – всплеснул руками онколог. – Как же она будет воспитывать несчастное дитя?.. Изделие номер два – это гондон!
Выходя из поликлиники, Даша на все сто понимала, что внутри нее живет человечек. Она сама хорошо помнила, как жила в животе матери, как сладко в нем спалось, как тепло было в безбрежных водах материнского океана… Ей не нужен был какой-то гинеколог, чтобы понимать неизменную суть вещей. Ей, минуя мозг, преобразуясь в эмоции, все объясняла сама природа.
Вернувшись домой, Даша сообщила Иосифу, что носит в животе ребенка, братика или сестричку сына. Потом спохватилась и подумала, что отцом ее ребенка будет ее же сын. Сердце сжалось от ужаса, но тотчас пришла спасительная мысль, что Иосиф приемный, что по-человечьи ошибок нет и хоть бы все обошлось!
Лишь сменщица почуяла что-то неладное и кидала на животастую Дашу подозрительные взгляды. Как-то, не выдержав, взрываясь от любопытства, уборщица спросила напрямую:
– Снасильничал?
– Что?
– Сынок твой убогий?
Она не понимала, а потому опять спросила:
– Что?
– Сын тебя обрюхатил?! – почему-то разозлилась сменщица.
– А?.. Нет! – наконец поняла Даша. – Что ты такое говоришь!
– Кто же?
– Так это поэт Бродский! Его отпрыск во мне!
– Какой такой поэт?
– Обыкновенный. Нобелевский лауреат…
– А-а-а, – дошло до сменщицы. – Сиделец, что ли? Зэк?
– Ага, – соглашалась на все Даша.
– По переписке познакомились?
– Ага…
– Ну, известная история! Вышел, попользовался – и слинял, как переполненная маршрутка от лишнего пассажира!
– Так и было…
Потом женщины попеняли на тяжелую бабскую долю и разошлись каждая по своим делам. Даша трудилась на лестничных клетках, между тем живот рос, приближая все более многочисленными растяжками рождение ребенка, а Иосиф продолжал использовать мать для более-менее равновесного состояния разрушенного мозга.
Ей пришлось рожать дома – не с кем было оставить больного подростка. Она не страшилась процесса, ведь на ее родине женщины даже в тундре рожают, как олени. Даша позвала на помощь лишь все ту же сменщицу, так как больше ни с кем не была знакома.
– Может, скорую? – предложила товарка.
– Сама!
– Сама так сама…
Приготовили все полотенца, имеющиеся в доме, и прокипятили тряпки. Остатки околоплодных вод тоненькими струйками стекали по ногам роженицы, но, не обращая на это внимания, игнорируя нарастающие схватки, женщина проглаживала утюгом марлю для дезинфекции. Достали из закрытого шкафа канцелярские ножницы и прокипятили инструмент.
– Тупые, – поморщилась сменщица.
– Сойдет.
– Ох, не завидую тебе, подруга! Может, все-таки скорую?
– Начинаю! – предупредила Даша, стянула с себя бандаж и улеглась на кровать.
Как и все бабы, она кричала в схватках, старательно тужилась, а в это время запертый на кухне Иосиф выл как собака, будто помер кто.
На шестой час процесса Даша наконец разрешилась от бремени чудесным мальчиком.
– Поздравляю! – улыбнулась сменщица и перерезала ножницами пуповину. – Пошла на смену.
Таким образом и родила Даша уже родного сына, которого назвала в честь отца его и ее Иосифом. В загсе новорожденного так и записали – «Иосиф Иосифович Бродский».
– Имя еврейское, – уточнила госслужащая. – А записала русским!
– Так давайте перепишем, я не знала.
Регистраторша взяла новый формуляр, заполнила его, а потом с удовлетворением вывела в графе «национальность» жирным шрифтом – «ЕВРЕЙ».
– Держи свидетельство! – и гадко улыбнулась.
– Так хорошо?
– Очень!..
С удвоенной силой Даша вкалывала на домоуправление, где народец на нее поглядывал с презрением: мол, нагуляла двоих, а сама одуванчиком прикидывается. Подливала масла в огонь остракизма сменщица, принимавшая роды:
– От зэка у нее выблядок. Чернявенький такой мальчишка вышел… Она мне за помощь ни рубля не дала! Все косоглазые такие!..
Иосиф Иосифович вышел здоровым карапузом, жадно сосал грудь, а Даша производила молока в избытке, как маленькая молочная ферма. Удовлетворяя сексуальные надобности, находясь в процессе, отец маленького Иосифа тоже прикладывался к соску и тянул из него досыта.
Жизнь продолжалась, дети подрастали, младший Иосиф был столь же красив лицом, как и отец его, только мозги у него работали как положено и даже, более того, опережали остальных сверстников.
Дашин родной сын уже давно перестал питаться материнским молоком. Ему исполнилось семь, и он пошел в школу. Младшего зачислили мгновенно, как только завуч поглядела на невероятно красивого мальчика с большими печальными глазами и черными, как лак пианино, волосами, спадающими на плечи. Она живо представила его в белых перчатках со школьным знаменем в руках.
– Не похож он на вас! – заметила завуч.
– Весь, как две капли, – отец.
– Так бывает, когда отец доминантный.
Даша старалась, чтобы старший Иосиф не пользовал ее в присутствии младшего. А так для него он был реальным отцом и вроде все в семье нормально… Женщина даже сохранила молоко в грудях, которое так любил приемный сын и муж.
А потом старший Иосиф заболел. Начиналось все как обычная простуда, с соплями и кашлем. Двадцатитрехлетний молодой человек не понимал, что с ним происходит и отчего все так плохо в нем. Он перестал сосать пересохшим ртом материнскую грудь, утерял физическое влечение и все держал свою голову в слабеющих ладонях, пытаясь выдавить из черепа нестерпимую боль. Он рычал, но сил в его организме сильно убыло, а потому рык не львиным был, а кошачьим. Все средства перепробовала Даша, даже топленый олений жир внатирку и внутрь. Но тщетно, а потому женщина решилась вызвать скорую, которая увезла его и ее в ближайшую больницу, а маленький Иосиф остался в группе продленного дня, где обыгрывал всех подряд в шахматы, даже старшеклассников.
– Он неврологический! – неустанно повторяла в больнице Даша. – Он сам на вопросы не ответит! – объясняла медсестре.
Как оказалось, объяснять ничего и не надо было. Вышедший к матери пожилой врач с калининской бородкой рассказал, что у молодого человека какой-то мудреный менингит и что же мамаша раньше к медицине не обратилась? – попенял.
– Идите прощайтесь, – сказал доктор.
Она еще не понимала, а потому спросила:
– Надолго? Я здесь, на диванчике, подожду…
– Он умирает… Да-с, надолго. Очень…
Она стояла в коридоре, чувствуя, как ее ноги врастают в пол, отяжелевшие, словно бетоном налитые. Когда до нее дошел смысл сказанного, она шатнулась в сторону палаты, где умирал ее сын и муж. На негнущихся ногах прошла внутрь, оглядела склонившихся над Иосифом врачей и сведенными губами попросила всех уйти, оставить ей хоть две минутки его жизни… А потом, оставшись наедине с ним, прилегши на больничную кровать, она вытащила правую грудь, поднесла ее к мертвенному рту сына и, надавив на нее, выцедила каплю. Иосиф краешком серого языка поймал ее, втянул язык обратно и в одно мгновение умер.
Хоронили старшего Иосифа на каком-то деревенском кладбище в Козино, возле Солнцево. Все было обставлено просто и совсем дешево. Без батюшки, без приглашенных, только с маленьким сыном, она стояла над свежей могилой и стучала палочкой в детский барабан, словно шаман бил в бубен.
И не ведала Даша, что на другом конце города Москвы в тот же день умерла молодая женщина от недиагностированной болезни. Ей было столько же, сколько и старшему Иосифу, и у нее осталось дочь… Надо добавить, что умершая женщина в свою очередь была дочерью некоей Марии, попросту Маши. Той Маши из валютного магазина, с которой когда-то, в те времена, когда жизнь казалась вечной, провел веселую ночь молодой Иратов…
И зажила Даша с маленьким Иосифом сиротливо. Молочный ручей в грудях пересох, женщина от страданий сделалась худой и мосластой, только лицо оставалось круглым. Ей каждую ночь снился умерший Иосиф, она мучилась виной, что не уберегла сына и мужа, понимала, что от невежества случилась трагедия. Она тихо выла в подушку, чтобы не напугать ребенка, и все больше удивлялась, что сын ни разу не вспомнил отца.
– Не держи в себе! – обнимала Даша Иосифа. – Выпусти птицу смерти, станет легче.
– Ее нет во мне.
– Просто ты не хочешь вспоминать отца, а надо, ведь он твой отец. Я вот своего все время вспоминаю, деда твоего, Иосифа Бродского, нобелевского лауреата, еврея.
– А я не вспоминаю.
– Почему? Поедем в воскресенье на могилку?
– Там холодно и ничего в земле нет.
– Отец там твой зарыт.
– Тело его зарыто. А отец нынче в другом месте.
– У Бога? – спросила Даша.
– Кто такой Бог?
– Это Тот, Кто нас создал.
– Значит, у него. И зачем тогда ходить к могиле, если отец оставил свой сломанный скафандр, уйдя к… Богу, а мы этот ненужный скафандр закопали? Сто́ящую вещь отец бы здесь, в яме, не оставил…
Даша никогда не слышала столь непонятных речей от своего сына, а потому смотрела сейчас на него словно на перерожденного. Вероятно, она упустила момент возрастания ума Иосифа, будучи поглощенной больным приемным сыном, физическими отношениями с ним и его будущим.
– Сыночек, – поведала она, – я не была рождена умной, оттого знания ко мне пришли, но я их не впустила, не понимала, для чего они. А потому то, что ты говоришь, мне непонятно.
– Ты моя мать! – по-взрослому признал Иосиф. – Нет ничего главнее матери и отца в жизни. Отец ушел, только ты у меня осталась. И мне не важно, сколько ума тебе отпущено… – Мальчик приблизился к матери, обнял ее за талию и прильнул к груди, самому безопасному месту для каждого человека. Она обняла его за голову и целовала долго и страстно, как будто целовала сразу двух Иосифов, или трех, считая отца-поэта.
– И у меня разума нет, – заплакала Даша. – И у твоего отца не было. Все в тебе встретилось и перемешалось. В твоей голове наш разум…
Они жили-поживали, не чувствуя времени. Даша постепенно перестала так глубоко горевать, отпустила птицу смерти за пределы Вселенной, радуясь, что подросший сын замечательно успевает в школе, выигрывает все олимпиады, на которые его посылают, и имеет уже несколько грамот с подтверждением, что он призер разных шахматных соревнований среди взрослых. Как-то к ним в школу приехал экс-чемпион мира Валерий Эстин и провел сеанс одновременной игры. В последнее время он делал это нечасто – и силы были не те, да и интерес был давно удовлетворен… Принимали участие как школьники, так и учителя. Все проиграли, в том числе и Иосиф Бродский. Но юноша в середине партии сделал такой необычный ход, что Эстин сидел над доской в течение следующих трех ночей, пока не понял, что сей ход был революционной новацией, трансформирующей все идеи сицилианской защиты. Уже позже эта фантастическая стратегия открытия была продана действующему чемпиону мира, который использовал новинку в матче с претендентом, благодаря чему остался с шахматной короной. Эстин послал в школу в Беляево своего товарища, Митю Шварца, математического теоретика и доктора наук в придачу. Задание у сорокалетнего ученого было простым – выяснить уровень IQ юноши.
Завуч, конечно, не могла отказать людям, столь влиятельным в своей стране и даже во всем мире. Для общения с математиком был выделен целый класс, в котором учились первоклашки, сегодня ради тестирования отпущенные по домам. В школе объявили день повышенной тишины.
Иосиф зашел в класс, когда там уже обживался математик Шварц, доедающий пирожное эклер, крошки от которого разлетались по всему помещению. У ученого была копна рыжих волос, лицо в веснушках, а глаза прятались за толстыми стеклами очков.
– Митя, – представился доктор наук и протянул подростку руку.
– Иосиф.
Познакомившись, они уселись за последнюю парту. Эти двое были чем-то похожи друг на друга, хотя Митю Шварца никак нельзя было назвать красавцем.
– Все очень просто, – пояснил математик. – Я дам тебе тест Айзенка, который ты должен пройти за тридцать минут. Вопросы, правда, на английском, но я переведу.
– Я справлюсь.
– Откуда знаешь язык?
– Из школьной программы… Ну, и читал кое-что на английском. Книги.
– Тогда вперед! – благословил Митя. – Помни, ровно полчаса. Я пойду на улицу покурю пока. Время пошло.
Когда математик через двенадцать минут вернулся, Иосиф отдал ему стопку листов.
– Не получилось? – не удивился Митя, пахнущий табаком. – Не расстраивайся. Большинство вообще не понимают, что это.
– Нет, здесь есть все мои ответы.
Теперь Митя удивился, но не так, чтобы уж очень, взял работу Иосифа. Сел за парту и просмотрел ответы. Шварц несколько минут глядел на мальчика, а потом протянул руку:
– Мне надо идти!
Иосиф кивнул, провожать ученого не пошел, лишь из окна посмотрел, как тот выходит. Но Митя Шварц не выходил, а выбегал из школьного подъезда. Математик, как заправский спринтер, помчался по школьной территории, пока не скрылся из виду за воротами.
Уже через час он встретился на спортивной базе с Эстиным и, жуя булочку-калорийку, дал чемпиону мира ответ:
– Сто восемьдесят!
– Высший. Гений.
– Вот только в чем? – задумался Шварц, выковыривая из булки изюм. – Ты сам знаешь, сколько этих с таким IQ канули в Лету.
– В шахматах он точно не гений, – уточнил Эстин. – Хотя бы вничью сыграл… Да, с таким умом можно запомнить наизусть три тысячи книжных страниц. Вот только для чего? Без призвания эти ребята самые несчастные люди. Если уж они и устроились на работу в какое-нибудь КБ, то там их не понимают. Такая скорость мышления, что компьютер не успевает. Они думают, что выражаются доступно, а доктора наук теряют смысл уже на втором слове. Это то же самое, как если бы взрослый человек объяснял годовалому ребенку теорию относительности.
– Согласен. Подающим надежды математиком к этому времени он бы тоже стал. А так в школе четверка. Что будем делать?
– Ничего, – ответил экс-чемпион. – Последим, помониторим… Может, актером станет, как Джеймс Вудс.
На том и порешили.
Окончив школу с золотой медалью, Иосиф в артисты не пошел, впрочем, он никуда и не пробовал поступать. В основном сидел дома и читал какую-то толстую книгу на непонятном для Даши языке.
– Сынок, тебя же в армию возьмут, – предупреждала она. – А ты непривычный!
– Всюду люди живут…
Мать переживала и, глядя в глаза сыну, иногда видела в них отца его, старшего Иосифа.
Полгода после сдачи школьных экзаменов молодой человек ездил в город Истру, в ешиву, где вольным слушателем напросился посещать уроки по книге, которую читал дома. Иосиф демонстрировал глубокие знания текста и зрелость мышления. Вечерами он беседовал с учителем, ребе Ицхоком, уже весьма пожилым человеком, удивляя его неожиданными трактовками некоторых мест книги, которая была подарена Всевышним Моисею на Синайской горе.
– Где вы нашли такой мидраш? – временами спрашивал учитель. – Очень странное толкование!
– У меня почти нет литературы, так, какие-то буклетики… Думаю…
– А откуда вы знаете Тору?
– Не поверите, в школьной библиотеке стояла между Ильфом и Чуковским.
– Чего ж не верить… Тора где надо, там и стоит! Притырили книгу? – подмигнул учитель.
– Так нехорошо же!
– Она для вас там стояла, потому не грех.
– Я предпочел запомнить ее наизусть.
Старый учитель улыбнулся:
– Все можно выучить наизусть! Только не нужно – книгу не учат, а изучают, каждый день, тогда и Господь, пусть сияет его имя, возможно, оценит!.. Я вам книгу подарю.
– Спасибо.
– У нас их достаточно… Вы еврей?
– В паспорте написано «еврей», потому я и заинтересовался.
– Мама у вас кто по национальности?
– То ли бурятка, то ли… Сейчас точно не помню. Но она точно откуда-то с Севера.
– Значит, не еврей, – почему-то расстроился учитель.
– Вам виднее.
– Хотите стать?
– Я думал, что уже, а сейчас не знаю…
– Да, – покачал бородой учитель. – У нас по маме евреи.
– А я читал, что по матери – это только потому, что после Вавилонского пленения думали, брать ли жен-неевреек и их детей от смешанных браков в Святую землю. Решили оставить в Вавилоне, чтобы не смешивать еврейскую кровь. Но только для этого приняли закон, что национальность определяется отныне по матери, а так до этого, конечно, по отцу была. Ну, и говорится, что сына и дочь рождает мужчина.
Учитель почти рассердился:
– Артефакт!.. Хоть отец у вас еврей?
– Насколько знаю, да.
– Метрики сохранились?
– Мой дед – Иосиф Бродский.
– Поэт?
– Нобелевский лауреат.
– Его личная трагедия.
Набрав в рюкзак самых разных книг, Иосиф решил больше не посещать истринскую ешиву; ему показалось, что учиться самостоятельно будет гораздо продуктивнее.
В конце осени Иосифа Иосифовича Бродского забрали в армию.
Прощаясь с сыном, Даша казалась безутешной, будто в последний раз видела его. Она долго висела у него на шее и роняла огромные слезы из раскосых глаз:
– Ты ведь даже стрелять не умеешь!
– Мама, сейчас войны нет… А стрелять меня научат!
Даша смотрела вслед удаляющимся автобусам с новобранцами и, как все русские женщины, махала им платком и кричала:
– Береги себя, сынок!
Иосифа на полгода отправили в учебку, чтобы армия заимела еще одного сержанта в своих рядах. Прибыв по месту предписания, он сразу попал на собеседование с майором Беличем, который интересовался умственным развитием обритого наголо новобранца с модельной внешностью:
– Школу как окончил?
– Ровно, без троек.
– А что не поступил? Провалился?
– Нет, никуда не поступал. В армию хотел.
Белич смотрел на солдата с подозрением. Не доверял старый офицер патриотам, особенно в непатриотическое время.
– Спортсмен?
– Нет.
– Рисовать умеешь? Нужен нам стенгазетчик!
– Нет.
– А чего умеешь? – уже с безразличием в голосе спросил майор.
– В шахматы…
– Разряд?
– Так точно.
– Чего из тебя все тянуть нужно! – разозлился Белич. – Какой разряд?
– Первый…
Майор откинулся в старом кресле из кожзаменителя так глубоко, что чуть было не опрокинулся. Впрочем, годы тренировок в балансировании не прошли зря, и он этого даже не заметил и потер руки от удовольствия:
– Есть у меня здесь один полковник, уж очень охоч до шахмат. Приходится с ним играть, хотя он наголову сильнее. Еще и презирает потом: мол, что-то ты, Белич, мозгами не вышел!.. Обыграешь полковника – полгода в офицерской столовой питаться будешь!
– Мне бы книги вернуть, – попросил Иосиф. – Не надо в офицерскую…
– Они же на иностранном языке.
– Даже на двух.
– Вот видишь, – развел руками майор, полез в стол, вытащил конфетку, аккуратно развернул и, положив себе на выпяченную губу, ловко закинул в рот и спросил, понравился ли фокус.
– А при чем здесь языки?
– Может, это враждебная пропаганда? Откуда мне знать!
– А кто у нас сейчас враги? – удивился Иосиф. – Мы сейчас со всеми дружим. Вон какая конверсия вышла. В армии, говорят, и патронов уже нет?
– Ага, отсырели! Государство сейчас такие деньжищи в оборону вкладывает!
– Нельзя так нельзя! А шахматы я давно бросил.
– Чего ж нельзя? Я еще не решил! Что хоть за книги?
– Новый и Ветхий Завет, вспомогательная литература.
– Верующий?
– Знающий.
Белич вновь порылся в ящике стола и, выудив горсть леденцов, предложил Иосифу. Солдат принял угощение, и они оба захрустели мятными драже.
– Сейчас все в религию подались. Во всем Горбачев виноват! Он начал страну разваливать! А Бога нет!
– Ельцин поболее развалил.
– И нынешний тоже верующий! – сморщился майор, отчего у него в ноздрях обнаружились два пучка волос, а когда физиономия приобрела прежний вид, растительность убралась восвояси. Иосиф улыбнулся.
– Так играешь? – уточнил Белич.
– Книги.
– Решил… Разрешаю в Ленинской комнате читать! Можешь быть свободным!
– Есть, товарищ майор! – Иосиф ловко развернулся на каблуках кирзовых сапог и зашагал на выход.
И потекла у молодого человека армейская жизнь. Занятия по матчасти, физическая подготовка и столовка, где скудно кормили, и почти всегда перловой кашей с жирной селедкой. Казалось, что Белич забыл об Иосифе, а тому и спокойней от этого было. В свободное время он находился с книгами, что-то искал в них, подчеркивал и бубнил себе под нос на непонятном языке. За это его чуть свои здоровья не лишили, думая, что чечен. У всех еще были свежи в памяти две войны, а потому Иосиф получил несколько раз в лицо от будущих сержантов.
– За что? – спросил он, сплевывая кровь. При этом солдат сохранял невозмутимость, а тон голоса его был почти безразличным.
– За то! – ответили ему сослуживцы. – За то, что тварь, чечен! – И самый маленький из курсантов, по фамилии Тапкин, отвесил врагу сочную оплеуху.
– Секунду! – попросил Иосиф. – Во-первых, я не чечен, а если бы и был таковым, так это сейчас почетно.
– Я тебе дам «почетно»! – завопил маленький, осмелев, будто Голиафом сделался вмиг. Он размахнулся для очередного удара, но Иосиф, встав на цыпочки, получил тычок не в лицо, а в плечо. Было смешно, и будущий младший комсостав заржал.
– Еще раз ударишь, – предупредил Иосиф, – умрешь!
Солдаты затихли, ожидая продолжения.
– Чего сказал? – прыгал обезьяной маленький Тапкин.
– Кстати, наш президент любит чеченский народ, вашими словами – народ тварей! – Для маленького были приготовлены особенные, страшные слова. – А у тебя нехватка гормона роста, вот ты и не вырос! – Недомерок уже решился на бросок, щекой дергал, но был остановлен: – Подожди, не рыпайся! Я тебе вот что хочу сказать. Нехватка гормона роста запустила медленно разрастающуюся цепочку изменений в организме, в частности регресс белков, затем химия иммунной системы растеряла баланс, и у тебя в итоге сейчас в голове набухает аневризма!
– Чего?!
– Бомба в башке, которая в любой момент может взорваться. Там такой сосуд в голове испорченный, с шишкой. Шишка лопнет – и весь мозг затечет кровью. По-хорошему, тебе не прыгать надо, а лечь на асфальт, а пацаны вызовут кого из медчасти.
Иосиф рассказывал про болезнь коротышки Тапкина столь обыденно и бесстрастно, что рота поверила каждому его слову. Коротышка побледнел и медленно лег на асфальт. Кто-то метнулся за врачом.
Военврач Адамян шла по плацу в стоптанных тапках, неторопливо, колыхая бедрами, как закормленная на фуа-гра утка.
– Джульетта Гургеновна! – торопили солдаты. – Умирает же!
Большой танкер, загруженный по полной, – это вам не быстроходный спасательный катер. Танкер не ускоряется, он всегда хоть и на малом, но на крейсерском ходу. Военврач плыла, и казалось, вечность пройдет, пока ее восхитительные бедра докачаются и пристанут к телу несчастного коротышки. Полуденный зной напекал солдатские затылки, орали в соседнем лесу пьяные от жары птицы, ни одного дуновения ветерка.
Дошла, подняла руки:
– Ну-ка!
Солдаты взяли ее под полные руки и осторожно опустили безбрежное тело рядом с коротышкой.
– И кто сказал, что тут аневризма? – оттянула веки, пульс пощупала.
– Я, товарищ капитан медицинской службы! – признался Иосиф.
– Можно просто Джульетта Гургеновна… Ты врач, что ли, сынок? По возрасту не похож…
– Никак нет!
– И чего ты меня нервы трепать вызвал? Ты рентген ереванский, что ли?
– Я не из Еревана.
– Чего звал, сынок? – Врач продолжала полусидеть-полулежать на земле. – Гауптвахту никто не отменял.
– Поверьте, – настаивал Иосиф, – у него аневризма! И если он здесь… Сами понимаете… А у вас проблемы в Карабахе!
Джульетта Гургеновна была женщиной обстоятельной и умной. У нее действительно жили в Карабахе двоюродные внуки, надо деньги посылать, помогать… Сидя на горячем асфальте, она думала, что, если этот красавчик дурит ее немолодой мозг, она найдет способ поквитаться, но если у лежащего мальчишки действительно аневризма и он умрет… проблемы будут и у нее. Вышибут на пенсию, а собственного жилья в России нет. Мать солдата будет жалко, отпустила Родине послужить, а получила назад цинковый гроб… Решение пришло быстрое и правильное.
– Носилки! – скомандовала военврач. – Быстро-о-о-о! – Голос ее иерихонской трубой разнесся над военной частью, и почти мгновенно появились санитары с носилками. – Машину! – скомандовала Джульетта Гургеновна и негромко стоящим вокруг: – Поднимаем меня, мальчики, не роняем старую армянскую женщину!
Коротышку увезли в военный госпиталь, а Иосиф сидел в медчасти напротив уставшей бабушки и отвечал на вопросы.
– Откуда ты? Звать как?
– Из Москвы. Иосиф.
– Красивое имя. Так каким манером ты, Иосиф-джан, знаешь про аневризму?
– Чувствую.
Военврач выругалась по-армянски:
– Мало ли я что чувствую! Почти всегда не то. И мужчины были не те, и подруги не мои… Есть хочешь?
– Да.
Женщина указала ему на шкаф:
– На второй полке сверху, в марле завернутая… Видишь?
Иосиф задвигал ноздрями:
– Чувствую.
– Доставай.
Солдат вытащил что-то твердое и дурманящее своим запахом.
– Бастурма. Гамлет из Котайка передал. – Откуда-то выудила нож и велела нарезать: – Только тонко!
Они жевали волшебное мясо и разговаривали о незначащем.
– Очень вкусно…
– Гамлет сам делает. И вино, в котором мясо замачивает, тоже сам делает! Вообще он молодец, Гамлет!
– Я еврей… – зачем-то сказал Иосиф. – Они меня за мусульманина держали.
– А я армянка. За всю жизнь в Армении прожила только первые два года. Папа военным был, я и пошла на военврача. Я знаю наизусть Давида Сасунского!
– Кто это?
– Это армянский эпос, сынок.
– Я тоже много чего наизусть знаю, – признался Иосиф, дожевывая кусочек бастурмы.
Последней фразы Джульетта Гургеновна уже не слышала. Свесив голову, она спала сном пожилого человека, при этом похрапывала и дышала прерывисто. Иосиф, подложив руку под голову, глядел сквозь окошко на залитый солнцем плац, наблюдая за трясогузкой с приоткрытым клювом. Она потрясывала задком с двумя перьями, и ей явно хотелось пить. Солдат почувствовал приближение сна, похлопал глазами и, не в силах бороться, заснул. Снилась ему Даша…
Обоих из сна вырвал оглушительный звонок телефона.
– А? – проснулась военврач. – Тревога?
– Телефон, – успокоил Иосиф.
– Телефон! – Джульетта Гургеновна подняла указательный палец и покачала им. – И твое время, солдат, пришло. Подай-ка трубку! Капитан Адамян слушает!.. Подтвердилось? Рентген делали?.. Большая?.. О боже! И что дальше?.. Уже оперируют?.. Ну спасибо, спасибо! – положила на стол телефонную трубку и утерла со лба пот. – Молодец ты! – похвалила врач. – Иди-ка ко мне! – Она обняла Иосифа, как вселенская мама – большая, пахнущая сладким потом, – наполняя его нутро доброй советской ностальгией. – Мальчик мой, дорогой! Спас сослуживца! Друга! Не надо будет смотреть в глаза его несчастной матери! Живи, Иосиф, триста лет! – Из глаз ее текли слезы радости, падая живой водой на бритую голову солдата.
Он не стал говорить Джульетте Гургеновне, что смерть за ней придет через три весны, примерно в это же время. Ей так же будет жарко, она так же заснет и тихо перейдет к Господу. Он не сказал ей, просто погладил полные руки и спросил:
– Могу быть свободным?
– Иди, сыночек! Ступай, дорогой!
С этого дня весь состав учебки доканывал Иосифа просьбами определить состояние их здоровья. Солдат отказывался, уверяя, что случайно диагностировал аневризму у коротышки, что не экстрасенс он вовсе. Ему предлагали деньги и сигареты. А один даже пообещал литр грузинской чачи, если Иосиф вылечит грыжу его папы на расстоянии…
Спас Иосифа майор Белич, послав за ним нарочного:
– Полковник едет! Так что долг платежом красен. Ешь вволю целый день, там рыбу для тебя готовят, чтобы фосфор! Главное – не обожрись и не обосрись! Завтра в одиннадцать будет игра.
Полковник Жамин оказался особистом – по-старому. Правда, их не только не жаловали, но и не боялись в наши времена. Просто относились с легкой осторожностью, чтобы, часом, не нагадили по-маленькому… Фигура колоритная. Большой мужчина с крупными чертами лица и голосом Шаляпина. Когда-то полковник, будучи курсантом в Ленинграде, пробовался в Мариинку. На прослушивании его приветили, но в артисты не взяли, предложив учебу в консерватории. Его отец, генерал КГБ, ответил сыну, как подобает рыцарю без страха и упрека:
– Нам в семье только пидоров не хватало!
После этого высказывания судьба сына окончательно решилась.
Прибыл полковник Жамин – ровно царь к своей армии. На двенадцатилитровом, семи метров длиной, синем, как небо Отечества, «Крайслере», который вызывал уважение звериным урчанием двигателя. Солдаты дивились на чудо техники, а потом задняя дверь отворилась и появился сам седок. Сначала хромовые сапоги, затем и вся персона проявилась, наряженная в праздничную форму с внушительной наградной колодкой на груди.
– Здравия желаем, товарищ подполковник! – слаженно приветствовал гостя весь состав учебки.
– Господин! – уточнил Жамин. – Времена другие… Слышали, как к президенту обращаются?.. Господин! Прошли времена товарищей. – Он поглядел по сторонам, ища цепкими глазами майора Белича, а тот уже здесь, с правого бока, в отутюженной форме:
– Здравьжелтовполкник!
– Брось ты эти почести! – Жамин протянул руку для пожатия, а сам глядел в сторону молодых поварих, вышедших поглазеть на американское ретроавто. – Пожевать есть что?
– А то!
Они обедали вдвоем в офицерской столовой. Их застольный разговор гулко расходился по всему помещению. Выпили по сто, закусили селедочкой с молокой, огурчиками майор угостил, выращенными прямо за пищеблоком, затем поварихи принесли подносы с зажаренной рыбой, наловленной здесь же, в части, в протекающей по военной территории реке Плюй, и компотик холодненький ко всему.
– Смотри, Белич, ежели зря позвал, осерчаю!
– Да что вы, товарищ полковник!
– Господин!
– Все честь по чести. Парень шахматами владеет.
– Ставки?
– В случае проигрыша с меня тридцать килограмм вяленого леща, тов… господин полковник.
– Ну а я ящик водки ставлю – «Русский стандарт»! Только появилась в наших краях!
– Играем из трех партий, – объявил майор.
– Из пяти, – поправил Жамин, опрокинул в себя соточку и запел своим роскошным басом частушку «По реке плывет топор…»
Серьезный мужчина, подумал про себя майор, а с двухсот плывет, как старшеклассница.
– Отдыхать? – услужливо уточнил Белич.
– Ах, люблю я в твоей баньке на втором этаже на сене вздремнуть! Какой запах, чистые хрустящие простыни… Ты мне это… повариху пришли с розовыми волосами.
– Ну товарищ полковник!
– Господин! Я ей сотенную в долларах!..
– Завтра матч…
– Большая теплая женская жопа еще никому не мешала!
– Спрошу, – обещал майор и прокричал: – Мануйлов, Стеклов! – Тут же явились два ефрейтора. – Господина полковника в спальню над баней!
Иосифа кормили вкусно и вволю. Молодые стряпухи сгрудились вокруг него и благоговейно взирали на красавца с глубокими черными глазами. Им нравилось, как он ел. Сам солдатик на девок не обращал внимания, думая о чем-то своем. После выпитого компота Иосиф вздрогнул, прикрыл глаза и стал шепотом произносить какие-то слова на непонятном поварихам языке. Но они их слушали, как фанатки – песню модной группы. Когда он закончил шептать, одна из вольнонаемных поинтересовалась:
– Ты что пел-то?
– Молитву.
– Что за молитву?
– Поминальную… Умер Тапкин…
Следующим утром, ровно в одиннадцать часов, в Ленинской комнате полковник Жамин пошел королевской пешкой и отбил часы. Особист не имел каких-то особых заготовок на матч (не для кого), а потому глядел на Иосифа с некоей долей жалости: мол, новобранец, салабон, брому придется выпить столько, что Останкинская башня упасть может, а у него всю ночь сопела под боком горячая жопастая повариха с розовыми волосами. Жамин целиком ушел в эротические воспоминания, автоматически делая ходы, как по вызубренному учебнику, отстукивал время, закатив глаза, представляя свою ночную гетеру а-ля рак, как вдруг в его мозг ворвалось короткое холодное слово: «Мат»! Полковник очнулся и долго пялился на шахматную доску, не понимая, как его король в столь короткое время был захвачен неприятелем… Надо было видеть, как радовался Белич! Майор чуть не прыгал от счастья, корчил рожи и готов был целовать Иосифа взасос. Победитель сохранял обычное расположение духа и собирал шахматные фигуры для начала следующей партии, перевернув доску к себе для игры белыми. Полковник Жамин, когда осознал свое поражение от рядового, побагровел лицом, облился от злобы потом и не сдержался.
– Еврей? – спросил и указал пальцем на Иосифа, который уже приготовился играть белыми.
– Еврей, – ответил солдат. – Есть какая-то разница?
– Я тебе потом объясню, – пообещал особист. – Ходи, еврей! Где ермолка?
В этот раз партия продолжалась тридцать два хода, после чего на доске остались три основные фигуры белых против почти одинокого короля черных с пешечной прикрышкой. Иосиф давно мог закончить муки соперника, но старался сделать так, чтобы тот сам сдался, избежав полного позора, означенного словом «Мат». Особист не уступал, роняя на доску капли пота, бегал королем туда-сюда, а Иосиф ставил ему все новые шахи, пока Белич наконец не кивнул – мочи!
Иосиф передвинул по горизонтали ладью и объявил:
– Мат!
Казалось, что майор тотчас пойдет плясать вприсядку, его лицо покраснело, как у Жамина, но по другой причине – от счастья, тогда как полковника, казалось, хватит удар.
– Жид! – ответил особист. – Жидяра!
– Любитель анального секса! – неожиданно огрызнулся Иосиф.
– Да что ты себе позволяешь, сучонок! – вскочил офицер при орденских колодках, дергая потной ладонью за кобуру. – Я тебя, выблядок, сгною в сортире! Застрелю на глазах у Ленина!.. Кстати, какого хера Ленина до сих пор не убрали?!!
Пришлось вступаться майору:
– Все после, господин полковник! У нас регламент! Третья партия! Уговор есть уговор! А там и самого Ленина можете расстрелять!
– И тебя, сука, сгною! – прорычал Жамин. – Ишь, Белич!.. Тоже жид! Все здесь жиды!
– Как угодно, – соглашался майор. – Жид так жид, только походите пешечкой! Или еще чем…
Полковник сделал несколько глубоких вдохов, желая успокоиться. Он напряг мозги, будто бы вжал педаль газа своего мощного «Крайслера» в пол, и пошел искрометно: Е 2 – Е 4.
Третья партия завершилась на пятнадцатом ходу изящной комбинацией, приведшей к тотальному уничтожению противника.
Как только Иосиф провозгласил «Мат», майор Белич закричал:
– Беги отсюда, парень! Беги!
От лютого бешенства, от прилившей к мозгу крови полковник вскочил, хотел было схватить Иосифа за грудки, но быстрый и легкий парень выскользнул и уже бежал по плацу к калитке, ведущей в лес, а вслед за ним неслось раскатисто:
– Стоять! Убью, жидяра!!!
Послышались выстрелы и шестиэтажная матерщина.
Иосиф до поры до времени остался целым, а Жамин и Белич примитивным образом подрались, расквасив друг другу носы… Когда, шумно дыша, разошлись по сторонам, утирая кровищу, в небе вдруг громыхнуло, и началась летняя гроза. Дождище полил знатный, обещая крепкий белый гриб.
– Из Мачулищ я, – под шум ветра уточнил Белич. – Белоруссия…
– Я твое дело наизусть знаю, – оправлял форму полковник. – Скрытый жид!
– Изволите расплатиться? – И нарочито иронично: – Господин… Кстати, президент наш приглашает жидов вернуться на родину. Встречать обещал с почестями!
– Ну и чего ты, Белич, выкаблучиваешься? – Сердце Жамина успокаивалось, кожа лица охладилась от жара, лишь немного крови осталось возле носа. – Сам выиграть не можешь, так еврея поставил! Для того и приглашает власть, чтобы вырезать всех поголовно! Суки, чужую науку подняли, а от нашей съебнули!..
– Так ты сам вызвался!
– Но ты мне о нем рассказал!
– А за язык кто тянул?
– Знаешь, что горяч!..
Те, кто давно проживал в этой военной части, регулярно принимали полковника Жамина на шахматный матч, и всегда дело заканчивалось одним и тем же – самой примитивной дракой, а потом примирением. Офицеры не были врагами, скорее наоборот – товарищами, которым не хватало чего-то по жизни: кому пыток, а кому звезды на погонах, – вот и подменяли свои желания игрой, женскими прелестями да мордобоем. Жамин сам притащил из «Крайслера» ящик новомодной водки, пожал Беличу руку и простился до следующего раза.
– До свидания, товарищ полковник!
– Да уж… Нам до господ – что еврею до генерала.
Жамин залез в свое авто, где дуло из кондиционера, и велел водителю трогать.
На следующий день привезли гроб с Тапкиным и установили для прощания на плацу. Казалось, покойный стал еще меньше, лицо усохло, и трогательно было видеть на его голове платочек: вскрыт-то был череп аккуратно, а потом кости сложили кое-как. Мертвецу по барабану!
Беличу позвонили из центра и сообщили, что к нему претензий нет, даже удивлялись, как можно в военной части аневризму диагностировать. Майор пояснял, что в эти сложные анархические времена часть старается поддерживать свой моральный дух на высоком уровне, по советским стандартам, в том числе и военную медицину. Диспансеризация – залог здоровья!
Солдаты ходили мимо гроба как сонные мухи, ускоряя шаг от странного запаха.
– Формалин, – поясняла Джульетта Гургеновна.
Казалось, что старая армянка постарела на десять лет, все не уходила от гроба, стоя на больных варикозом ногах у изголовья, поглаживая платочек на голове Тапкина… Вечером армянскую бабушку проводили до комнаты, напоили валерьянкой и оставили в одиночестве. Поварихи под покровом ночи таскали ведрами быстро тающий лед, обкладывая им мертвое тело Тапкина. Завтра приезжают родители умершего, и все должно иметь приличный вид.
Белич всю ночь пил выигранный «Русский стандарт», опьянел достаточно и все предлагал Иосифу стакашку на помин души Тапкина и за выигрыш у Жамина. Иосиф пить отказывался, а есть ел, так как бабы с кухни нажарили рыбы пропасть…
– Вот так вот, жид… – сказал напоследок майор рядовому Бродскому. – Такие дела! – после чего отбыл на ночевку.
А на следующее утро за Иосифом приехала черная «Волга» с генералом, командующим округом, и Митей Шварцем. Беличу было велено доставить немедленно дело курсанта Бродского и его самого.
– Не виноват он! – пытался защищать парня протрезвевший, но болеющий похмельем майор, думая о пакости Жамина, но генерал строго велел не мешать.
– Да комиссуют его по болезни, – успокоил Белича Шварц.
Иосифа увезли в Москву, улучшили матери жилищные условия, все же отыскав в юноше с IQ 180 призвание, а вместе с ним и смысл для его жизни. Будто он сам не знал его…
12
Каждый год я бегаю в конце зимы марафон в честь римлянина Фидиппида, которого не существовало. Вообще, римляне многое нафантазировали в истории, придумав богов и кумиров для воспитания своих жен и детей, чтобы спать с ними и изменять им. Но творческие люди были эти парни. Мир поменяли, поди, Творца удивили… В общем, люблю, когда капель, ручьи… Надеваю тренировочные штаны с растянутыми коленками, кеды, сохранившиеся с пятидесятых, маечку с трафареткой «Динамо» на груди – и…
Короче, побежал. Шлепаю по тающему снегу, а народ глазеет на меня, как на ненормального. То ли одет как-то не так, то ли еще что… Мне мой облик очень нравится. Как раз нынче модные тенденции в спортивной одежде – ретро. И «Адидас» имеет ретролинию, и «Фила». Странные люди в городе Москве. Улыбку встретишь, если, поскользнувшись, грохнешься об лед. Поскользнулся и грохнулся физиономией прямо в грязный снег. Сколько радости принес окружающему миру! Девчонки-студентки хохотали, парни им по привычке вторили, типа заигрывая на моей беде, хотя у самих в штанах поселилась беда так беда! Все они вчера поутру обнаружили себя евнухами. Даже старуха, которой жизни-то осталось полтора дня, лыбилась беззубыми деснами, глядя, как я красиво бегу.
– Тебя, бабка, простят! – пообещал я. А потом, поглядев на мир вокруг, проговорил неслышно: – А вас – нет!
Дотрусил до Бульварного кольца и побежал по чищеному. Неожиданно встретил престарелого мужика и признал в нем своего давнишнего соседа по коммуналке Медведева, который когда-то выселить меня хотел, заручившись поддержкой соседей-подлецов… Побежал помедленнее и говорю так спокойно:
– Помнишь меня, Медведев?
А он с сумками – мол, из «Пятерочки» возвращается с продуктами, – посмотрел на меня, и словно вчера расстались:
– А, это вы, ЕЕ…
– Так точно.
– Не меняетесь, будто старость не для вас.
– Бегать надо, товарищ Медведев. Теперь-то между ног ничего не мешает?
Сосед явно не хотел меня слушать, а потому остановился, будто отдохнуть. А мне же нельзя прерывать свой грациозный бег – я на марафоне, пришлось оставить Медведева, но ассоциативный ряд привел меня в ту противную квартиру, в которой мне не давали жить спокойно…
Как и обещал, я к вечеру соорудил стол в общественном помещении, одна из мамок застелила его белой скатертью, на которую я выставил столь дивные угощения и в таком количестве, что даже старуха Морозова пустила слюну, но и прокомментировала на случай:
– Наворовал, поди, эскимос!
Почему эскимос? – хочется спросить. Жареные поросята, черная паюсная икра, три курицы-гриль, салаты, включая оливье и «Московский», куча банок с разной рыбой, водка «Столичная» – упейся, а для дам дефицитное вино «Алазанская долина».
Сели, поели, попили. Старуха Морозова единолично сгрызла целую курицу-гриль и все равно была чем-то недовольна. Народ русский размяк душой, подобрел и поднял бокал за меня как за сына команданте Че. Долго пели про коня, про партизан и «Семь сорок»… А потом квартира сгорела. Виновата была старуха Морозова, намешавшая красное с водкой и прикорнувшая с дымящейся папиросой на своей кровати; уголек поджег ватное одеяло, оттуда язычок пламени прыгнул на синтетические занавески, а там дело техники…
Тетки с детьми и сожителями, словно ведьмы и ведьмаки, сгорели в блудном костре, и только холостяк Медведев каким-то чудом выбрался из дома и стоял, наблюдая за разгулявшимся на весь дом пожаром, держа на руках старуху Морозову, которая материлась на всю округу, оповещая, что у нее в пожарище осталась сберегательная книжка на предъявителя, а на ней аж целый миллион.
– Хотела жертвовать на ремонт Мавзолея великого вождя пролетариата! – орала. – Копила!!!
Доживала в Кащенко, в спокойном отделении, умудрившись стать секретарем партийной ячейки второго корпуса… А ну тебя, эта квартира! Сколько их было – хуже, лучше… Сейчас хоть обустроился в квартире Извековой. Никто не мешает. Продолжил бег, стараясь ни о чем не думать, а просто созерцать. Небо было набрякшим, черно-серым, казалось, что вот-вот прорвется оно перезрелым чирьем и хлынет из него черная дыра.
Вбежал на Петровский бульвар, спугнув голубей, – и на тебе: гляжу, старик какой-то, поставив ногу на скамейку, подвязывает шнурочки. Одет старик в такие же кеды, как у меня, только красные, в треники и майку с трафаретом «ЦСКА». Ну и кого я узнаю в этом дряхлом спортсмене? Моего брадобрея, парикмахера, молчуна с ножницами – Антипатроса! И побежал грек в ту же сторону, что и я. Резвый, как осел на анаболиках.
– Эй, – кричу. – ЦСКА – кони!
Неожиданно Антипатрос обернулся и впервые на моей памяти ответил сквозь развевающуюся бороду:
– «Динамо» – мусорная яма! Мусарня! Кто болеет за «Динамо», у того стоит не прямо!
Я был потрясен. Заговорил!!! Тот, кто десятилетиями молчал, а может, и того больше! Я и обращаюсь к нему с радостью:
– Дорогой Антипатрос, годы молчания в прошлом!
– А тебе что?
– Мы с тобой одной крови! Сеном пахнет, ржанье слышно, ЦСКА на поле вышло!
– Кровь у людей… – проскрипел старый грек, шлепая кедами по хлябям, – а ты не человек.
– Ты ж не бегал? – удивился я.
– Это ты не бегал!
– Я всегда бегаю в честь Фидиппида! А как твою мулатку зовут?
– Зойка… А тебе какое дело? Не лезь! И вообще, это я – Фидиппид.
– Вымышленный персонаж!.. Просто красивая девушка…
– Сам ты вымышленный!
Старый грек не врал, по глазам было видно. Мне стало жаль Антипатроса. Сердце сжалось в орешек и стучало молоточком быстро-быстро.
– Сколько же ты здесь?
– Посчитай.
– Долго! И за что тебя?
– Не лезь куда не просят! Я тебя не спрашиваю, и ты не лезь, мусор!
– Мои извинения… Но Фидиппид умер, добежав до Марафона… Отбросил копыта! ЦСКА – кони!
– А потом воскрес! По-настоящему! Не как некоторые фантазеры напридумывали.
– А у тебя тоже есть телефон? – продолжал я столь неожиданную беседу с собратом.
– А что, по-твоему, у римлян телефоны были?
– Как же тогда ты узна́ешь, когда тебе возвращаться?
– Там найдут способ, – хмыкнул грек. – А ты все трубку слушаешь?
– Признаюсь, да. И сам иногда звоню, когда тоскливо…
– Ждите ответа, ждите ответа, как в справочной! – Антипатрос засмеялся, и смех его был будто кашель из прошедших веков. – Тебе куда?
– По Бульварному кольцу, – ответил я.
– А мне по Садовому! – Старый грек вновь засмеялся, или закашлял, и побежал направо, в сторону от меня.
Я сам не дурак, давно понимаю – что-то намечается грандиозное. А уж если старый грек отворил уста, то это лишь подтверждение моим выводам. Я бежал и мечтал, что вместе с этим грандиозным и со мною что-то произойдет революционное…
Небо все же прорвало, и стена собранного со всего мира дождя упала на Москву. Я хотел постоять под каким-нибудь навесом, дабы обождать ненастье, нашел длинный козырек над входом в какой-то ресторан и встал там под защитой, верней, не встал, а продолжал бег, только на месте.
И тут я увидел ее. Совершенная, нежный овал лица проявлялся сквозь мокрую витрину общепита, и даже дождь не мог смыть это чудесное изображение. В ее руке – чашечка с кофе, белая на фоне белого джемпера с вырезом на тонкой грани полуобнаженности и одетости… Верушка!!! Мне было не видно, с кем она сидит, непринужденно болтая и чуточку заигрывая. Поди, со своим Иратовым. Но как можно?.. На фиг нужно!
Я сделал шаг под падающий сверху океан и увидел молодого человека, да-да, именно молодого, лет двадцати с небольшим, удивительно похожего на старого Иратова, но это был не он! Не он, хотя как две капли! Сын? Никак нет, всех детей Иратова я знаю. Иосифа – сына Алевтины, покойника, отпрыска от Светы и девочку от Маши из валютки… Нет, этот чужой! Я глядел на незнакомца и чувствовал к нему неприязнь. Сквозь стекло носом чуял запах недавнего преступного соития этих двух, а потому, забыв про марафон, взялся за массивную ручку двери входа в ресторан, вошел в него с воинствующим видом. Мне даже было жаль старого Иратова, с которым произошло несчастье, я было пошел к молодому человеку, но в грудь мне уперлась здоровенная ладонь ресторанного менеджера.
– Куда? – с презрением прищурился руководитель смены, оглядывая мой стайл, правда изрядно вымокший. И все подталкивал меня в грудки, чтобы вытеснить в могучее ненастье.
– Так в ресторан, – ответил я.
– И чего тебе надо тут?
– Дык чаю попить, холодно на широких улицах Москвы. А почему на «ты»?
– Дома попьешь!
– Почему это – дома? – начинал злиться и я.
– А потому! У нас дресс-код! Вали домой!
– А кипяточку?
– Пшел! – Менеджер двумя руками толкнул меня в грудь, но я решил не поддаваться и стоял, словно каменная статуя, даже не шелохнувшись. Работник общепита, будучи мужчиной со статусом бодибилдера, удивился, поглядел на свои ручищи, а потом на меня. – Сопротивляться?!! – и еще раз вдарил, на сей раз кулаком под дых. Костяшки его пальцев разбились о сталь моего живота, он охнул и отшатнулся от меня, глядя на свой покалеченный кулак. Я умею, когда надо, быть побитым и защитить себя при случае могу.
– Не кипешуй! – предупредил.
– В полицию позвоню, – все еще хмурясь от боли, предупредил менеджер.
– Давай! Они там узнают о вашем втором незаконном терминале для пластиковых карт, деньги с которого падают не в банк, который вас обслуживает, а в собственный банк. Уклонение от уплаты налогов! Учредители будут рады. А уж как вы, молодой человек, преуспеете в жизни, угробив чужой бизнес из-за стакана кипятка!
– У нас дресс-код…
– Вот заладили! Вы меня за занавесочку пристройте. И делов-то!..
Бодибилдер усадил меня на место, где обедает персонал, лично принес стакан чая, а за ним спешила официантка, несущая тот самый персональский обед на подносе. Бледные сосиски с гречкой и тарелку борща с куриной ножкой.
– Не «Мишлен»! – прокомментировал я. – А теперь, будьте так любезны, оставьте меня в одиночестве.
– Я рядом, я наблюдаю, – предупредил менеджер, то и дело посматривающий на кулак, который распух и стал вдвое больше прежнего.
Будучи от торопливого бега до истощения духа голодным, я в три ложки проглотил борщ и куриную ножку, обсосав косточку до блеска. Сосиски оказались из сои, а гречка вместо ядрицы – продел! Тем не менее желудок кое-как был заполнен, первый глоток горячего чая стек по кишкам и согрел тело.
Конечно, даже во время еды я наблюдал за Верушкой и наглым молодым человеком с лицом Иратова. Но как эта молодая женщина изменилась в своей мимике! Точно тинейджер гримасничала. Верушка, чьей красоте я поклонялся многие годы, стреляла глазами, выпячивала грудь, почти полностью вылезшую из выреза белого джемпера. Молодой человек иногда дотрагивался до ее лица, гладя щеку. В его глазах, черных и бездонных, жило полное равнодушие. Холод космический, если можно так выразиться, исходил из его нутра. И пальцы равнодушные, восковые. Один из них он сунул в рот Верушке, а она фалангу его прикусывала и вся, от пяток до макушки, источала феромоны. Будь я заинтересованным в эротическом плане, вряд ли бы выдержал напор любовных молекул и ретировался бы немедленно. Но меня все эти физиологические радости совсем не затрагивали, а потому я напряг слух, пытаясь услышать, в чем состоит беседа.
– Эжен, – произнесла с фривольной интонацией она, отчего меня перекосило. – Мне уже совсем не страшны перемены, которые во мне происходят!
– Отлично, – ответил молодой человек, как я сейчас понял, с именем Эжен. Какое-то блядское имя! – Я говорил, что напрасные терзания и мучения пройдут. Иратов не вся твоя жизнь!
– Да, – согласилась она покорно. – Теперь ты моя жизнь!
О-о, великий падишах! Я не могу больше слушать слюнявые признания этой потрясающей женщины человеку, который просто ее использует! И здесь она прошептала омерзительное для всей моей натуры:
– Я хочу тебя!..
– Мы в ресторане, – грубоватым тоном ответил молодой человек с именем, подходившим только стриптизеру.
– Все равно, – продолжала она. – Здесь пусто, а женские комнаты еще и обустроены, как будуары.
Пожав плечами, согласился:
– Пошли.
Я был раздавлен, словно мышь слоном. Совокупляться в общественном месте! Ну это даже для сопливых подростков, нанюхавшихся черт-те чего, чересчур! И она сама разверзла перед ним такую бездонную глубину падения… Ах, верно, она не понимает происходящего, вероятно, находится под воздействием неких чар, исходящих от дурного начала, и не отвечает за свои поступки! Не твои ли это проделки, соплеменник мой?..
Пара вышла из-за стола, и Верушка, взяв Эжена за руку, потянула его за собой в сторону дамской комнаты. Я не мог позволить этому состояться, а потому по глупости обратился к менеджеру-бодибилдеру, указав, что мужчина и женщина отправились поиметь друг друга в туалетные комнаты.
– А тебе какое дело? – не внял официант.
– У вас будут проблемы, – я выходил из себя. – Санэпидстанция наложит на вас штрафы! Угроза всему добропорядочному бизнесу!
– Ты, что ли, вызовешь?
– Не хотите останавливать это безобразие – я сам пресеку его без сожалений.
– Кто тебе позволит? – Официант встал передо мной славянским шкафом. Пришлось подняться ему навстречу и ударить ступней между ног. Никакой реакции не последовало, и я, поняв, что и этот крутыш уже не того, ухватил его за бычью шею и пережал сонную артерию. Теперь у меня есть минут двадцать. Я выбежал из-за занавески и огромными кенгуриными прыжками помчался к помещениям для большой и малой нужды.
Ворвавшись, я услыхал омерзительные звуки торопливо совокупляющихся особей, а потом увидел их у мозаичного окна. Она была усажена на подоконник, с раздвинутыми до бескрайности ногами, а он вонзался в нее этаким напористым жуком египетским. Скарабей! Она пошло стонала, забыв весь мир, а он косился на обложку глянцевого журнала «Яхты». И еще раз я уверился, что здесь без колдовства не обошлось, что не бывают просто падения, есть толкающие в геенну огненную. Этот Эжен, воплощение бесстрастного оружия, уничтожающего женщину в самом высоком смысле этого понятия, этот долгоносик и есть часть черного плана моего врага.
Она вдруг увидела постороннего человека, наблюдающего за их любовными судорогами, хотела было остановить набирающий ход поезд, но тормоза давно сгорели, и она лишь кричала неистово, похабно для уха моего, призывно глядя мне в глаза. Поезд, сорвавшийся с тормозов, прежде чем погибнуть, стать искореженным металлом, смешанным с плотью, неистово гудит, словно прощаясь. Она пропела последнюю ноту…
Пришел момент, когда гадкий молодой человек остановил движения своих чресл, оглянулся на меня, внимательно посмотрел и, ухмыльнувшись, подмигнул:
– Что, дядя, интересно? – Верушка продолжала смотреть на меня, но глаза ее были наполнены безумием, тело впитало враждебное семя, рот, онемев, оставался открытым, а щеки горели адским румянцем. – Так что, дядя?
– Верочка! – Я произнес ее имя спокойно и с жалостью. – Покиньте это место немедленно!
– Ты его знаешь? – удивился Эжен.
– Нет, – хриплым голосом ответила она и только сейчас стала прикрывать выпростанную из выреза джемпера грудь рукой, а ноги сдвинула накрепко, будто я претендовал на истерзанный приз между ними.
– Дядь, ты кто? – вновь спросил он.
– Вера, тотчас покиньте помещение! Как вам пред мужем не будет стыдно?! В сортире, на подоконнике, с самозванцем блудить?!
– Вы знаете Арсения Андреевича? – пьяно удивилась.
– Уж многие годы как!
Она было испугалась, но потом, вспомнив все обстоятельства прошедших дней, инвалидность мужа, как после он пал низко, с болезненной страстью взирая на ее близость с Эженом, и не убил его, вора, тотчас, на невозможность иметь с ним детей никогда, – все это стерло испуг, выталкивая на его место сильнейшее образующее чувство – любовь. Я понял, что она поистине любила этого урода, волшебством ли, заклинаниями и проклятиями переделанная.
– Ах, Вера… – с грустью произнес я и заплакал.
Застегивая молнию на джинсах, Эжен продолжал смотреть на меня. Что-то его тревожило, он чувствовал в странном человеке с белым ежиком на голове, без ресниц и бровей, ощущал в нем, плачущем, некую угрозу своему существованию, но списал это на неправильную химию в организме или на неумение трактовать свои волнения.
– Уходи отсюда! – велел он мне.
Утерев слезы рукавом футболки, я сказал:
– Ах, Вера! Вы бы могли быть… – я воздел руки к потолку туалета. – Могли быть… Вы уже были Верушкой, сейчас же вы некая Вера, коих тысячи!
– Дядь, – пригрозил Эжен, приобняв спутницу за плечи. – Если хочешь остаться в женском туалете, мы не против. Но дай нам пройти. Пожалуйста! Или не обижайся…
Да, я пропустил их к выходу и сам, постояв немного, вернулся в зал. Они продолжали сидеть за столиком, она грациозно держала в руках чайную вилочку и ела с помощью нее фруктовый тортик.
Я хотел обозвать ее блядью на весь зал, но услышал сирены полицейских машин. Видимо, бодибилдер вызвал подмогу. Пришлось уходить через служебный ход, и я сделал это как истинный профессионал…
Чтобы прийти в себя, я бегал следующие трое суток, набрав в актив более шестисот километров. Затем я вернулся в квартиру актрисы Извековой, принял душ, хотел было позвонить по стационарному телефону, но, вспомнив Антипатроса, сдержал себя и лег спать на неделю, поставив на пробуждение будильник. Засыпая, я уже был уверен, что планету ждут события исторического масштаба.
Вместо того чтобы отключиться от этого мира, хотя бы в грезах сна ощутить прежнее свое существо, воспоминания о нем, я увидел картины обычной жизни московских обывателей.
Мне приснилась Маша. Та самая, из валютного магазина, которую в былые лета мимоходом использовал молодой Иратов.
Я увидел ее с девочкой на руках, белокурой и голубоглазой. Маша родила ее в полном одиночестве, лишенная возможности работать в приличном месте, потерявшая друзей и отца, который отвернулся от нее благодаря стараниям того самого Фотия Прыткого, комитетчика и доносчика. Он ловко обработал всех близких Маши, обвинив ее в проституции за валюту. Тогда еще только зародилось в стране это яркое слово «путана». Как следствие – изгнание из комсомола, волчий билет и все радости, связанные с ним. Матери у Маши не было никогда – та сбежала прямо из родовой палаты, оставив в ней все ненужное, лишнее для своей жизни…
Она назвала дочь Изольдой. Что склонило женщину к такому затейливому имени для девочки, осталось неизвестным. Впрочем, сама Маша была злой особой, злой до края, единственной мечтой которой был брак с иностранным гражданином. Она ненавидела эту страну всем сердцем – за прессованную вату, которую приходилось использовать во время месячных, за скудность пищевого рациона, за занюханных и депрессивных мужчин, терпеть не могла березки в полях, и от фильма «Семнадцать мгновений весны» ее трясло. На месте Штирлица она бы осталась после капитуляции в Германии и сдалась бы американцам. А этот мудак, судя по всему, только дачку в три доски и поимел за свои подвиги и был счастлив со своей женой, как и сам артист Тихонов в костюмчике от «Москвошвеи», которого она видела в Доме кино на показе французского фильма про муки зажравшейся буржуазии. Он улыбался всем, кто его узнавал, для других был трогательно мягким, для нее же – русским никчемным тюфяком.
Чтоб вы все пропали, местные аленделоны, бельмондо и ришары!!!
Она сама выучила английский язык до совершенства, уже в восьмом классе поняв, что в СССР не останется ни за что. Она самообразовывалась, посещая музеи и театры, чтобы при встрече с тем, оттуда, не ударить лицом в грязь, тут же показав всестороннюю образованность. Она научилась готовить блюда европейской кухни по книге поварихи ресторана «Прага» Василисы Зудовой, которая, надо сказать к слову, ни в одной европейской стране не была.
Она всю свою сознательную жизнь потратила на каторжную работу над собой, чтобы в один день из-за какого-то пакостника, из-за повесы, обнулившего ее труд и будущее, потерять все надежды! Да еще в результате остаться в полном одиночестве с ребенком от смазливого разводилы на руках. Как тут не быть злой!
По первости пришлось продавать из дому все, что нажила на валютной работе, чтобы прокормить и одеть Изольду, дочь свою. Девочка оказалась с хорошим аппетитом и росла необыкновенно быстро. К трем годам, замученная материнской ненавистью ко всему и всем, она уже совсем не была прелестной – больше заурядной перекормленной толстушкой с голубыми глазами. Росла незаконнорожденная на удивление ленивой и равнодушной ко всему. То ли имя странное давило, то ли от предков лень унаследовала, сие неизвестно, да и не важно это.
За весь подростковый период она ни разу не попеняла матери, что та водит к ним в дом мужчин, которые к ее половому созреванию вытоптали к материнской спальне паркет до основания. Изольда понимала, что именно от мужчин Маши, так она звала мать, по имени, зависит ее благополучие и возможность жить как хочется. В школе ее считали неблагополучной, а в дневнике, кроме троек, других оценок не встречалось. Лишь единственная пятерочка по физкультуре сияла среди годовых отметок. Поняв, что малопривлекательна, с лишним весом, бесперспективная во всем, она упросила физрука заниматься с ней отдельно, после уроков, и за пару лет упорных тренировок похорошела. Парикмахерская, маникюр, материнский поддерживающий лифчик улучшили ее облик, сделав манкой для противоположного пола. Лень растворилась в детстве, а равнодушие осталось с ней навечно. Она рано познала интимные отношения и, конечно, первому отдалась физруку, оплатив его внеклассные труды. Наученная матерью, всегда занималась только безопасным сексом, дабы не заиметь неожиданно свою Изольду или Брунгильду, заставляла парней надевать изделие номер два без поблажек даже постоянным клиентам. Если у молодежи по неопытности не получалось натянуть резинку, девушка всегда оказывала посильную помощь, только бы не залететь. Изольда, не получавшая от близости с мужчинами никакого удовольствия, впрочем и отвращения не испытывавшая, удивлялась матери, что та умудряется сочетать солидный прибыток в дом с чувственной разрядкой. Изольда никогда не была заряжена, ее батарея была пуста, но за пользование бесчувственным телом она брала с мальчишек и подростков материальную компенсацию, которую тратила только на себя, никогда не делясь с матерью и копейкой. Конечно, ей платили не только деньгами, но и бартер юная проститутка принимала, будь то вещички там, трусики и маечки спортивные, иностранные сигареты, алкоголь, пусть болгарский, и другая всячина. Как-то ей заплатили даже сотней пластинок жвачки с вишневым вкусом… Ненужное Изольда сбывала на барахолке возле Ленинградского вокзала, и к пятнадцати годам у нее уже имелась сберегательная книжка с приличной суммой. Она родилась плоть от плоти Иратова и неутомимо ковала свое маленькое будущее счастье. Если подводить предварительный итог, равнодушная к миру Изольда пахала тягловой лошадью на ниве незаконных интим-услуг, так сказать, была второй в династии. Маша-мать и она. Неравнодушной девица была только к себе.
В институт с таким убогим аттестатом она даже и не пробовала поступать, хотя могла бы за взятку, но эти деньги предпочла проплатить ментам в крупных гостиницах, где по барам и ресторанам цепляла на свой круглый зад фирмачей. У нее появилась валюта, и Изольда, коротко попрощавшись с матерью, съехала в съемную квартиру на Патриарших, где ее навещали пара атташе по культуре, консул и посол одной из самых маленьких африканских стран с большой золотой бляхой на груди. Изольда не была похожа на мать, Родину не ненавидела, а оттого и злобы ей куда меньше передалось по наследству. Ее все устраивало и в Москве, где все фирменное, иностранного производства, чем раньше спекулировали, продавалось спокойно, еды было навалом всякой, Изольда даже крокодила пробовала на приеме у своего африканца с бляхой. Ничего так, курица – она и есть курица, хоть и крокодил… Есть деньги – лети хоть в Америку; а что ей там, собственно говоря, делать без языка и знаний – проституцией заниматься? Но в свой храм нелюбви за деньги она допускала и в Москве, получая от клиентов денег в избытке. Со временем Изольда становилась все красивее, без диетических сложностей худела, и щеки ее горели натурально гранатовым цветом. Клиентура была постоянной, под подъездом стояла собственная иномарка, холодильник забит – чем не жизнь? Вот только в последнее время она все больше уставала, и не только на работе, но и дома. Не обращала внимания на такие мелочи, собираясь летом съездить в Италию, погреться под неаполитанским солнцем и не работать целые две недели.
В один из редких звонков мать посоветовала дочери сходить к врачу:
– Для девушек нашей профессии процедура осмотра самое главное!
– Так ты еще в деле?
– В деле, – подтвердила мать. – Только в своем, теперь девочки на меня работают, а я по охотке…
– Может, мне к тебе? – спросила дочь.
– Негоже матери дочь продавать! Работай сама.
– Чего не уезжаешь?
– Уеду. Денег соберу, куплю дом в Испании, тогда…
Изольда побывала у гинеколога и с удивлением узнала, что беременна.
– Как так? – вопросила она. – Я всегда с…
– Вы беременны, срок к четырем месяцам приближается, – не желал много разговаривать специалист. – Нужно сдать все анализы, встать на учет и пить витамины.
Домой Изольда возвращалась убитая и чуть было не врезалась в пожарную машину. Она все думала, от кого могло произойти такое несчастье, где недосмотрела, чья плоть набухает в ней дрожжевым тестом?.. Все сходилось к одному из клиентов – послу маленькой африканской страны… Пользу из своих умозаключений Изольда извлекать не собиралась, посла шантажировать и не думала, а потому продолжала принимать, но значительно реже.
А потом к ней в дом пришли. Наряд милиции с участковым и какой-то дядька в мятом белом халате. Участковый жался к стене, будто она прокаженная, а дядька, назвавшись санитарным врачом, попросил женщину проехать с ними в больницу на Соколиной Горе.
– Зачем? – удивилась Изольда.
– Там все узнаете, – ответил милиционер.
Больница оказалась инфекционной, и она, совсем не дура, поняла, что подхватила что-то вроде сифилиса, ради гонореи не потащили бы, и что проблем будет куча. Когда и с кем она так вляпалась?! Моралью будут тыкать и все такое. Да пофиг! Здесь еще и беременность… И повели ее по кабинетам. Залезли во все отверстия, просветили глаза светом, УЗИ сделали, но даже салфетку не дали, чтобы гель вытереть, хотя проинформировали, что в животе девочка. Точно сифилис, поняла женщина, отсюда презрение. Ее засунули в аппарат МРТ, к которому была прикручена табличка со странным названием «Образ 1». Врачи болтали между собой, что уже год как в подвале стоит импортный томограф, но никто не знает, как смонтировать его, а уж как пользоваться – подавно не ведали. Собирались пригласить американцев, чтобы обучили, но, видно, денежки пошли кому-нибудь на фундамент дачки метров этак на тысячу.
Женщина-терапевт слушала сердце и задавала вопросы:
– Что с весом?
– Немного похудела в последнее время.
– На сколько?
– Я на весы не встаю. Я по одежде.
– Слабость, потливость?
– Я беременна. А потливость все больше по ночам.
После всех исследований она просидела в коридоре на стуле четыре часа и все терзала себя – как эта беременность случилась? И сифон откуда-то!.. Справлюсь, решила, как-нибудь…
То, что услышала Изольда в кабинете главного доктора, сначала повергло ее в смятение, а потом погрузило в пучину первобытного, неописуемого страха.
– У вас ВИЧ! – сообщил заведующий отделением и зачем-то показал на просвеченные негатоскопом снимки томографа.
– А что это?
– По-простому – СПИД.
Изольда потеряла сознание и сползла по стенке на пахнущий хлоркой пол. Ее никто не подхватил, не пытался привести в чувство.
– Тварь! – просто сказал завотделением.
– Тварь! – подтвердил ординатор.
– У вас дочь, по-моему?
– Убил бы!
– Она еще даже в школу не ходит?
– А я себе представил. Убил бы…
– Как же эту тварь угораздило? Профессионалка же! – размышлял заведующий, а потом сам себе ответил: – Анальный секс. Эти дуры считают, что только одну дырку надо защищать! А он потом заехал ей пониже и не сдержался, брызнул. Здесь и ВИЧ, и, наверное, оттуда же и беременность.
– Туда ей и дорога! В анал, – решил ординатор.
Изольда пришла в себя и тотчас вспомнила, к чему приговорил ее врач. Она было снова хотела лишиться рассудка, закатила глаза, но ординатор грубо остановил процесс:
– Але! Тебе здесь не бордель, нечего валяться!
Она кое-как поднялась, сломав накладные ногти на правой руке, затем подышала глубоко и, не спрашивая разрешения, села сомнамбулой в кресло.
– Вас как зовут? – спросил заведующий. – Хотя у меня тут написано… – полистал бумажки и проинформировал, что первым делом мы избавляемся от ребенка.
– Четыре месяца почти! – осипшим голосом проговорила Изольда.
– Значит, искусственные роды. Выдавим! – решил ординатор. – Еще одного спидоносца нам тут родишь.
– Коллега!
– Почему… почему спидо… спидоносца? – Женщина с трудом ворочала языком, будто рот был набит пластилином. – Это девочка. Мне сказали…
– Потому что ничтожный процент, что он родится здоровым, – подтвердил зав. – А даже если повезет, то кто воспитывать его станет, ВИЧ-отрицательного? А не повезет?..
На автомате Изольда вновь сообщила, что не «его», а «ее», «она» девочка, и у нее есть мать, в смысле ее, Изольды, мать. Потом спохватилась:
– А сколько мне…
Завотделением выбрался из-за стола и, взяв указку, принялся тыкать ею в снимки:
– Вы видите это? А это?
– Что? – Она с трудом держалась, механически слизывая катящиеся слезы.
– Что-что!.. Легкие! Нет, это уже не легкие! А это печень? Нет, уже не печень, почки – не почки, сердце карликовое!
– Да-да, я понимаю…
– Что вы понимаете! – Зав вдруг как будто заново увидел больную, совершенно потерянную беременную женщину и пожалел ее. – Мы все рано или поздно умрем…
– Ты – рано! – уточнил ординатор.
– Покиньте помещение, коллега!
– Не понял?
– Выйдите отсюда, закройте за собой дверь и навестите своих больных!
Лицо ординатора стало цвета марганцовки для полоскания горла, он встал, нарочито задел плечо Изольды и вышел, твердо уверенный в необходимости принудительной эвтаназии для таких, как эта…
– Как вас зовут, милочка? – еще раз спросил врач, когда дверь за ординатором закрылась.
– Изольда…
– Меня Василий Степанович… Уж очень поздно вы к нам обратились…
– Сколько, Василий Степанович?
– Вы профессионал, скажу прямо – до года, и то под строгим наблюдением врачей и при приеме необходимых зарубежных препаратов. Без лекарств, может, и того не протянете. А такие лекарства многие тысячи стоят!
– Я скопила немного, – сказала, задумавшись, зачем он назвал ее профессионалом. Профессиональное отношение к смерти?
– Десятки тысяч американских долларов!!!
– Деньги есть…
– Слава богу! Прямо елей по сердцу. – Он вернулся за стол, сел в кресло и продолжил: – Я вас курировать буду.
– Хорошо.
– Давайте готовиться к искусственным родам, а специальные люди займутся вашими, так сказать, половыми связями. Надо всех партнеров отыскать… И как вы умудрились при гетеросексуальном контакте!
– Рожать буду, – неожиданно для себя определила Изольда. – Естественным путем! – выпалила – и вдруг ей стало легче, словно кто-то освободил ее от непомерной ноши. Она глубоко задышала и утерла слезы. – Партнеров я не сдам. Все иностранные граждане, защищенные дипломатическим иммунитетом.
– На кого же вы его…
– Это девочка. Вы, Василий Степанович, постарайтесь все сделать так, как я хочу, а уж я благодарной буду.
Зав смотрел на нее, обзывая про себя дурой, одновременно жалея женщину с тяжеловесным именем Изольда, но и про предложенные деньги понял хорошо.
– На ваше усмотрение! – согласился зав. – Десять тысяч долларов для меня, чтобы я все правильно устроил.
– Я согласна.
– Чудно. Конечно, у нас вам лежать не стоит. Анонимность не соблюдается, специалисты в этом вопросе малограмотные… Я вам дам адрес одного гинеколога, он еще и уролог, если что, продлением жизни также занимается. У него частное отделение при больнице МПС. И у него грандиозные планы – строительство своей клиники!.. Сейчас я вам все напишу… Сытин Эльдар Эдгарович доктора зовут… Вы знаете, а он потомок известного издателя Сытина!
– Хорошо.
Зав понял, что она и не слыхала про Сытина, да и плевать ей сейчас на все.
– Вас отвезут домой на скорой, вы денежки человечку моему передадите, он с сиреной обратно, а я даю вам рекомендации прямо в ухо врачу. Кстати, у него и родить можете. У них палаты отдельные с евроремонтом.
А потом Изольда лежала два дня, уткнувшись лицом в стенку. У нее не было депрессии, страх хоть и оставался, но плескался на донышке желудка, давая возможность спокойно дышать. Она растворилась в себе и пыталась почувствовать свою крохотную девочку под сердцем. Девочка не заставила себя ждать и откликнулась на призыв матери легким, едва уловимым движением. А Изольда от этого эфемерного движения вдруг просветлела вся душой и улыбнулась ею, будто предчувствуя огромное счастье на оставшееся время ее жизни.
Она даже поела, а к вечеру решилась позвонить матери. Крепкая, как мрамор, Мария велела Изольде не распускаться. Год жизни – это год!!! А деньгами она поможет.
– Там много понадобится!
– Нам хватит.
– А как же твой испанский дом?
– И на дом хватит! А ты не тушуйся, к своим фирмачам за помощью обратись. Они тебя заразили и обрюхатили, они и должны тебе!
– Маша, мы в одной профессии. Никто никому ничего не должен. Все расплатились…
– Ты права…
Изольда посетила доктора Сытина, и вместе они составили план на будущее, распространяющееся на близкие роды и на правильную терапию от ВИЧ. Сытин показал ей платные палаты и предложил, конечно по ее желанию, умирать здесь.
– Ну, до этого еще!.. – махнул рукой Эльдар Эдгарович.
Изольда накупила всяческих витаминов для беременных, отдала состояние за лекарства и принялась первый раз жить неравнодушно. Она безумно любила свою девочку и разговаривала с нею подолгу, прося прощения за свое беспутство. Взамен дочь проецировала для нее потрясающие сны, в которых всегда присутствовал бесконечный стол, накрытый белой скатертью, начинающийся на земле, а кончающийся на небесах. За столом сидели праведные люди и радостно праздновали что-то. Изольда силилась понять, что за причина постоянного праздника, но отгадать не могла. У нее за этим столом было место, а по правую руку сидел старик с косматой бородой, похожий на грека. Он всегда молчал и смотрел туда, ввысь, в бесконечность праздника, не обращая внимания на Изольду. А как-то раз, во сне с пятницы на субботу, вдруг обернулся к ней и сказал:
– Я обо всем позабочусь!
Ей часто звонили бывшие клиенты, но она сообщала, что травмирована, не работает и работать не будет. Фирмачи сожалели и больше не тревожили, только посол маленькой африканской страны не объявился. Лишь по прошествии месяца Изольда получила ценную бандероль, в которой нашла большую золотую бляху и маленькое письмо, в котором посланник сообщал о пошатнувшемся здоровье и вынужденном отъезде на родину.
– И за отца прости! – вслух произнесла женщина для своей дочери.
В следующем сне к ней опять обратился молчаливый старик, почти приказав уделить на следующей неделе внимание матери.
– Будь поласковей с ней! – приказал.
Изольда приехала к матери на работу и, встретив ее, поняла, что они не виделись много лет. Изольда обняла мать, прижимаясь к ее увядающему телу запрятанным в бандаж пузом, и сказала:
– Маша, я тебя люблю!
Мать покоробили такие дочерние ласки, она списала их на изменчивый гормональный фон и болезнь. Выпутавшись из объятий, мать показала ей свое частное предприятие на восемь комнат и четыре зала, где неутомимо трудились гетеры всех мастей и кровей из распавшегося Союза.
– Все легально. Стриптиз-клуб «Габон».
– Почему «Габон»?
– Не знаю, слово понравилось.
– Это не слово, а название страны.
– Да знаю…
Конечно, мать это знала, так как посол маленькой африканской державы с большой золотой бляхой на груди прежде посещал ее нелегальное заведение, сделав его впоследствии легальным, вложив в стриптиз-клуб солидные деньги – от ее имени, разумеется. За это благодарная хозяйка дала заведению название «Габон» и плюсом приложила координаты своей дочери. Вот откуда взялся посол с бляхой, отец будущей дочери Изольды.
– Как его звали?
– Кого?
– Негра.
– Адио, а что?
– Нет, ничего.
– Кстати, я ему давала твой номер телефона, но он к этому месту прикипел, уж прости…
– Значит, все хорошо, Маша?
– Ты же видишь…
Изольда радовалась, что у дочери будет бабушка, которая сможет позаботиться о девочке после ее ухода. Взяла с матери слово, что она никогда не направит внучку по их стопам, увеличивая династию валютных шлюх. Маша обещала воспитать девочку в традициях чеховских времен, а к годам четырнадцати отослать в Швейцарию для приобретения интернациональных знаний. Вечером того же дня у себя дома, когда Изольда, умиротворенная, укрытая пледом, полулежала в кресле, поглощая чипсы со вкусом сметаны и грибов, она вдруг услышала голос телевизионного комментатора, доносящийся из соседней квартиры, сообщавшего, что некий чеченец, имя которого сейчас устанавливают, недовольный обслуживанием в клубе «Габон», вытащил из сумки автомат иностранного производства и расстрелял владелицу заведения, а вместе с нею еще семь человек – четырех стриптизерш и троих гостей. В Москве введен план «Перехват», начато следствие.
Беременной и ослабевшей Изольде пришлось собирать справки для похорон, опознавать мать в морге, а потом и хоронить. Она все это сделала с вернувшимся равнодушием – организм из последних сил ограждал растущую в животе жизнь. Изольда даже не устраивала поминки на девять дней. А о сорока и говорить не приходилось – она уже лежала в платной палате сытинского центра. Сам врач боялся, что пациентка не дотянет до естественных родов, так как болезнь поедала Изольду рекордными темпами. Сытин навестил ее и, стараясь не глядеть в глаза женщине, предложил как можно скорее сделать кесарево сечение.
– Не доживу?
– Нет, – честно признался доктор.
– Когда надо делать?
– У вас развивается пневмония и сердце не справляется.
– Когда?
– Завтра.
Ночью Изольде приснился сон, в котором старик с всклокоченной бородой обещал ей, что дочь ее с прохождением времен станет выше, чем все короли и королевы, вместе взятые, что вознесется она над всем человечеством, а уж он проследит за этим… В этот раз ей показалось, что за столом сидит нескончаемое количество людей и что где-то среди них должен находиться Иисус. Поискав глазами, она не нашла Спасителя, а старик, словно угадав ее надежды, тотчас разрушил их:
– Только не за этим столом. Его здесь нет.
Она проснулась, когда ее везли в операционную. Рядом шел доктор Сытин, положив ей руку на ссохшееся плечо. Она с трудом дышала, а сердце, захлебываясь от бессилия, умирало.
Ей начали давать наркоз, в котором уже не было необходимости. Монитор жизненных показателей непрерывно пищал, сообщая, что Изольды больше нет на этом свете.
– Быстрее! – торопил Сытин. – У нас пара минут, иначе гипоксия!
Живот мертвой Изольды зачем-то начали мазать йодом. Сытин выругался на медсестру матом, еще раз сообщив, что женщина мертва.
– Дура, мать твою! – Он сделал уверенный разрез скальпелем, еще две руки установили расширитель – и через несколько мгновений, осторожно, Эльдар Эдгарович вытащил из мертвого тела крошечную девочку. – Скорее режьте пуповину! – торопил он.
Затем Сытин уложил дитя на стол для новорожденных с идиотским названием «Аист», а акушерка, прочистив девочке маленькой клизмочкой полости рта и носа, приподняла ее за ножки и шлепнула по попке. В операционной раздался долгожданный плач, и все радостно зааплодировали. Кто-то разглядел, что у девочки темная кожа и волосики черные.
– Дитя африканца, – произнес Сытин и покинул операционную, унося в мир живых дочь Изольды и габонца Адио. За ним последовали и остальные.
Истерзанная Изольда лежала на столе – с открытыми глазами и вспоротым животом. Скоро в операционную придут обученные люди, все аккуратно приберут и продезинфицируют…
Новорожденная хорошо ела и совсем не нуждалась в медицинской помощи. Многие сотрудники больницы приходили посмотреть на чудо-мулатку с голубыми глазами, пронзительными, как лазерный луч.
Через неделю Сытин решил вызвать службу опеки, но не понадобилось – до звонка к нему пришел странный пожилой человек с всклокоченной бородой и суровым взглядом. Старик, одетый в смокинг и кеды, предоставил все необходимые документы для удочерения девочки. Акушеру-гинекологу-андрологу ничего не оставалось делать, как передать новорожденную в руки пожилому человеку.
– Сколько вам лет? – поинтересовался Сытин.
– Десять тысяч…
– Сколько?!
– Шутка. Пятьдесят два.
Врет, подумал Сытин. Точно за семьдесят. Но какое ему дело до всего? Работу свою выполнил честно, а у девочки пусть хотя бы дед будет! Хоть и ненадолго…
– Ну что ж, удачи! – пожелал врач. – А имя у вас какое странное – Антипатрос!
– Тебе зачтется, – пообещал старик и закашлялся в бороду. Или рассмеялся.
Я проснулся и, придя в себя, с ужасом понял, что проспал не неделю, а месяц. Пропустил важные текущие моменты и дела! – паниковал, чистя зубы. Как же это?! А потом до мелочей вспомнил свой сон и сложно-многомерное приоткрылось крошечной щелочкой… Вот откуда у Антипатроса мулаточка Зойка с голубыми глазами, осознал я, чувствуя, что уже совсем скоро в моей голове сложится понимание всего замысла. Дочь его приемная или внучка…
Я включил телевизор и два часа кряду впитывал новости. Они ошеломили меня…
13
Арсений Андреевич Иратов все больше времени проводил дома, забросив архитектурное бюро и многие другие дела. К нему часто стал приходить Сытин, и они обсуждали, как выходить из сложившейся ситуации, применять ли хирургическое вмешательство или что еще. Играли в карты, и Иратов, вспомнив былые науки, передергивал частенько, а доктор ловкости рук не замечал…
С течением дней мнение Иратова устремилось к тому, что надо оставить все как есть. Ребята они немолодые, и есть другие, более приоритетные интересы, нежели секс.
– А как же молодая жена?
– У нее все в порядке. Она нашла себе молодого жеребца по имени Эжен, скорее всего, это мой внебрачный сын, хоть он и говорит, что не отпрыск, а мой половой член. Разве я не рассказывал?
– Херня какая-то, – вяло отозвался Сытин и сам удивился своей вялости. – И заместительная гормональная терапия не действует. Очень странно…
– И терапию на хер!
Через два дня с сенсационным заявлением выступила Всемирная андрологическая организация, имеющая штаб-квартиру в Нью-Йорке, заявившая, что, по их данным, восемьдесят процентов мужчин, а также подростков, мальчиков и даже младенцев в течение одного месяца лишились своих детородных органов. Представитель Госдепартамента США подтвердил выводы организации, и биржи всего мира в одночасье рухнули на те же восемьдесят процентов. Оставшаяся одна пятая, у кого сохранились мужские половые признаки, – старики с необратимой эректильной дисфункцией.
Сотни ток-шоу по всему миру переключились на эту, казалось бы, фантастическую, просто невероятную, максимально сенсационную тему. Обсуждали возможность какого-то внезапного генетического сбоя, связанного с поглощением черной дырой в центре Млечного Пути газового облака, и решили, что ситуация на квантовом уровне таким образом отразилась на мужских особях человечества. Проверили самцов животного мира, в первую очередь обезьян, – искомое оказалось на своих местах, все работало и производило.
Мир удивлялся нынешнему положению вещей, но не пугался. Мужчины, уже не обремененные тестостероном, вяло дискутировали, а феминистки тотчас усмотрели в этом полюсные изменения в человеческой цивилизации. Женский пол осознал себя в новом качестве – доминантой. Встали многочисленные моральные вопросы и политические. Например, как могут мужчины – президенты стран, положим США или России, управлять своими ядерными потенциалами, если у них нет собственного потенциала? Кто-то сострил – мол, нечего почесать, лежа на диване, то есть они уже совсем и не мужчины, коли не чешут. В них тестостерона гораздо меньше, чем в чайной розе или в страстных скульптурах Родена.
Конечно, возник демографический вопрос, напугавший мир, который затем воспрянул от информации, что в донорских банках спермы достанет материала еще на несколько поколений. Биржи на такой новости серьезно отскочили, а потом рухнули до исторических минимумов на трагической информации о том, что весь материал непригоден и в донорской сперме только мертвые сперматозоиды… И в ответ на это наигрустнейшее сообщение нашлась хорошая идея. Сколько оптимизма в человеке и уверенности, что он царь земли!.. Одна из ведущих специалистов по планированию семьи, руководитель Института Брейма, спонсируемого семьей Рокфеллеров, Керри Смит заявила, что мужское семя совершенно не обязательно для воспроизводства людей. Уже практически завершено исследование, которое со стопроцентной уверенностью утверждает, что можно добыть материал, необходимый для репродукции индивидуума, практически из любой клетки человека. И биржи вновь устремились вверх. Керри Смит умолчала лишь об одном – что в результате таких беременностей будут рождаться только девочки. Ясно, одно вытекает из другого, и за пониманием этого факта тотчас было создано тайное мировое правительство, состоящее из одних женщин, возглавляемое Ангелой Меркель, так как в течение будущего столетия мир будут заселять только особи женского пола, им же и руководить планетой…
Такие новости не могли не ошеломить меня, и я не знал, куда и в какую сторону стремительно направится этот мир, в котором мне стало непонятно, что делать, чем заняться. Я кинулся в парикмахерскую к Антипатросу, который по-прежнему занимался своим парикмахерским делом.
Я почти впрыгнул в допотопное кресло от нетерпения. С помощью ножной педали Антипатрос слегка приподнял меня и принялся укорачивать мою и без того еле заметную шевелюру.
– Что все это значит? – не выдержал я.
– Придет время – узнаешь, – скрипучим голосом сообщил брадобрей, он же Фидиппид и бог его знает кто еще. Из подсобки появилась мулатка Зойка, которая, улыбнувшись на все четыре стороны, принялась подметать состриженные волосы, искря своими огромными голубыми глазами.
– Я знаю, кто она тебе!
– Ну, хоть что-то в тебя вложили! Хоть вещие сны дали убогому! – и замолчал до конца стрижки. – Скоро и в тебе надобность появится. Будь готов!
Вернувшись на квартиру старухи Извековой, я заставил себя успокоиться и попытаться понять полноту картины мира на сегодняшний день, но, сколько бы я ни силился, как ни напрягал мозги, ответ никак не приходил, лишь разрозненные куски мозаики человеческих судеб будоражили мое воображение… Я взял трубку и позвонил. Слышал лишь монотонные бесконечные гудки… Странно, но именно это меня успокоило, и я прилег на диван, подложив руки под голову. Чтобы вновь не заснуть и не проспать главное, я вспомнил, что не вполне досказал историю Иосифа Иосифовича Бродского, внука Алевтины Воронцовой и Арсения Иратова, к которому волею судеб был прикреплен, но еще и подумал, что сейчас-то она, история, уже не имеет значения, сюжет побочный, мало кому нужный, но воспоминания уже проявлялись, воспламеняя мозги, постепенно становясь явью, и я был не властен над ними.
Валерий Эстин больше не встречался с Иосифом, хотя молодого человека привезли в его личное поместье под Тверью и разместили в гостевом доме. Эстин, как и всякий большой шахматист, интересовался всем, что выходило за рамки обыкновенного человеческого понимания. Экстрасенсы, телепаты, левитирующие, видящие будущее и т. д. – они помогали ему выигрывать в шахматы, как он считал, а впоследствии Эстин создал институт паранормальных явлений. Выглядит смешно, но доход миллионный… Комиссованным солдатом занимался исключительно Митя Шварц.
– Знаешь, зачем тебя из школы сержантов забрали?
– Нет, – ответил Иосиф.
– Узнаешь, но поговорим об этом через пару дней. Ты пока отъедайся, смотри кино и выспись… Там телефон, звони матери сколько хочешь.
– Нельзя, чтобы она сюда приехала?
– Нет, тем более что она занимается обстановкой новой квартиры…
– Ладно.
Молодого человека не беспокоили три дня, он преотлично выспался и насмотрелся голливудских фильмов, благо дом был набит превосходной аппаратурой. Ел вволю, смотрел и спал без сновидений. Лишь один раз ему приснилась картинка с мертвым Тапкиным, лежащим в гробу. Он тотчас проснулся и увидел над собой лицо Мити Шварца.
– Ты видел Тапкина? – спросил он, точно зная ответ.
– Видел.
– Как ты узнал, что у него аневризма?
Иосиф уселся в постели, потянулся и зевнул:
– Я не знал.
– Но ты же…
– Я предугадал.
– Предугадать – почти то же самое, что знать! – надавливал Митя.
– Почти, – согласился Иосиф. – Вы картинку мне внушили?
– С чего ты взял?
– Это первый сон в моей жизни.
– Что, даже голые девки не снятся?
– Нет.
– Ты, часом, не гей?
– Нет.
– Странно. Всем людям снятся сны. Видимо, ты их просто не помнишь.
– Тапкина вспомнил… Кстати, – попросил Иосиф, – не могли бы вы принести мои книги?
– Нет проблем… Ты интересуешься иудаизмом?
– Трудно сказать…
– У нас есть неподалеку синагога. Хочешь сходить?
– Можно… Так это вы внушили мне Тапкина?
– Считай, что я… Слушай, иди умойся, ну и все там. Я жду тебя на первом этаже в столовой.
Пока Иосиф, стоя под горячим душем, смывал из сознания образ мертвого сослуживца, Митя Шварц зачем-то заглянул в сумку Иосифа, порылся в ней, затем подошел к кровати и заглянул под подушку. Даже наволочку, как служебный пес, обнюхал…
Они сидели за круглым обеденным столом, Иосиф завтракал свежим творогом с лесными ягодами, щедро поливая блюдо сгущенным молоком, – и наслаждался… Митя уже давно позавтракал, сейчас пил кофе, размешав в непроглядной темноте напитка пять ложек белого сахара, и смотрел искоса на молодого подопечного:
– У нас колбаса преотличная. Сами делаем! Попробуешь?
– Нет, спасибо. Я не ем мясо с молоком.
– Ты соблюдающий? – удивился Митя. – Кашрут?
– Нет…
– Что же не мешаешь?
– Желудок не принимает… Я, пожалуй, еще и сырники съем, если вы не против.
Митю Шварца все больше злил этот парень, обрастающий после комиссовки черными, блестящими, как вороненая сталь, волосами, статный красавец с глазами старого мудреца. У самого математика IQ также зашкаливал, он продвинулся в математическом анализе новых квантовых теорий, но сам про себя отчетливо понимал, что он не Эйнштейн, совсем не гений и не красавец. И этот его новый подопечный тоже не выдающийся, но что-то Эстин в нем разглядел, как и в Мите в свое время, велел работать с юношей, но мягко, без всяких психологических штучек, на которые тот был мастер.
Из радиоприемника неслась в лето песня Никитиных с веселым припевом «Бричмулла, Бричмулле, Бричмуллу, Бричмуллою», а математику Мите слышалось: «Брит мила[1], брит миле, брит милой…»
– Тьфу!
– Все в порядке? – улыбнулся Иосиф.
– Не люблю эту песню!.. Кстати, ты наверняка понимаешь, что тебя не просто сюда привезли, откосив от долга перед Отечеством?
– Понимаю, – кивнул Иосиф, утерев губы салфеткой. – Но не в шахматы же играть?
– Только в свободное время.
– Я слушаю…
Испытывающего к гостю неприязнь математика не отпускало ощущение, что не он здесь всем управляет, а новенький. От этого Митю кидало в жар.
– И все же, зачем я вам нужен?
– А ты не торопись. Когда надо, скажут!
– Я же уже не в армии?
– Нет.
– Почему же вы разговариваете со мной, словно я собственность ваша?
– В армию можно вернуться хоть сегодня! – еле сдерживал эмоции Шварц.
– Я комиссован.
– Переаттестуют.
– Не получится.
– Почему?
– Найдут аритмию… А меня еще в МФТИ приняли. Так что отсрочка на пять лет.
Митя такой информации не имел, а это серьезное упущение, за которое можно было получить серьезное наказание. Еще Митя вспомнил девушку Олю, в которую был влюблен уже семь лет, и взаимно, но она уродилась дочерью генерала ФСБ, и отец ее, Фотий Прыткий, не жаловал кудрявых и носастых. Влюбленным крайне редко удавалось встречаться, и тогда они с шекспировской неистовостью обладали друг другом. Но почти всегда их находили люди Прыткого, и все заканчивалось мордобитием и Ольгиными истериками… Шварц подумал о возможности шантажировать новой квартирой, в которой живет его мать, но воздержался до поры.
А тем временем радиоприемник продолжал радовать рожденных в СССР радостным припевом: «Бричмулла, Бричмулле, Бричмуллу, Бричмуллою»…
– Когда успел?
– Так я же у матери два дня был. Съездил в институт, отдал документы. Я же с золотой медалью школу окончил. Автоматом зачислили!
– На какой факультет? – Математик обливался потом, думая о том, что скажет Эстину. Брит мила, бля!
– Квантовой механики… – Иосиф вышел из-за стола и сделал несколько гимнастических упражнений, разминаясь. – Вы, Митя, нервный и зависимый. Я скажу Эстину, что документы в институт еще из армии послал. Так что вы успокойте себя каким-то образом. Наказания не последует.
Математик вздрогнул, вскинул голову и почему-то стал нюхать воздух вокруг:
– Телепат, что ли?
– Это те, кто мысли читает?
– Как это я не унюхал…
– У вас повышенная чувствительность носовых рецепторов. Вы как собака. Это редкость! Но я не телепат.
– Кто же? – казалось, математик залает по-собачьи.
– Просто человек, умеющий читать книги. Я уже давно о вас прочитал, еще в армии… Вот Эстин не нашел вам применения, наверное не догадался. А вы можете с таким-то расчудесным носом находить трюфели. Кстати, черные экземпляры ценятся на вес золота.
– Со свиньей меня сравниваешь?
– А лучше прямо в тайгу – и женьшень рыть. Зачем вам Эстин?
– Слушай, ты!
– Митя, зачем нам ссориться? – улыбнулся Иосиф. – Ничего хорошего из этого не выйдет, я не пленник ваш, а вы не мой надзиратель. Давайте полюбовно? Спрашивайте что угодно, а я буду давать ответы, но не на все вопросы. И Эстин будет доволен, и вы при зарплате! Кстати, вам не удастся жениться на Ольге Фотиевне Прыткой, как бы вам этого ни хотелось.
– Все-таки телепат?
– Я же сказал, что нет! Повторяю, все мои знания – из книги.
– Врешь!.. И почему это мне не удастся жениться?
– Сами знаете: генеральская дочь, а вы еврей.
– Когда-нибудь эта сволочь уберется в отставку!
– Не бывает отставных генералов ФСБ. Вы и сами прекрасно знаете.
Митя помолчал, заглянув в себя, пытаясь вытеснить негатив, надеясь, что есть и другая вариация в параллельной Вселенной, где у него все будет по-другому…
– А когда Эстин умрет? – спросил.
– Понятия не имею, – пожал плечами Иосиф.
– А в книге не написано?
– Там про всех написано.
– И?
– А зачем мне про всех читать? Я про маму и про себя все знаю, мне хватит. Ну, плюс о текущих событиях вокруг меня…
– Вот где деньги! – констатировал математик, но как-то грустно. – А вас ведь деньги, конечно, не интересуют?
– Только как посредник между обменом необходимыми товарами.
– А я, значит, могу только трюфельной свиньей работать?!
– Не заводитесь! Давайте просто договоримся. Честно договорившиеся люди могут жить не мешая, а помогая друг другу.
– Что вы предлагаете?
– А что нужно Эстину?
– Информация на любую тему, если из нее можно получить выгоду, как спортивную, материальную, так и политическую.
– Вы ему скажите, что я обладаю в некотором роде телепатическими способностями. Мол, случаются у меня озарения. Но нечасто, и не властен я над ними. Что со мной надо работать напряженно и не всегда результат придет. Но у меня будут ответы на некоторые его вопросы.
– Значит, телепат!
– Нет же! Скажешь правду – не верят, соврешь – все ведутся! Я все свободное время учусь и нахожу ответы на свои вопросы.
– В книге?
– Именно.
– Может быть, я сам найду ответы? И книги у меня эти есть.
– Если вы к этому способны – быть одержимым книгой, если ей суждено вам открыться, то… Но ваше дело другое.
– Какое же? – В этот момент Митя Шварц подумал, не вогнать ли вилку в глаз спесивому красавцу в дешевой роли пророка.
– Займитесь женьшенем!
Здесь Митя, конечно, не выдержал и бросился на Иосифа с кулаками. Математик дрался как-то странно, отклонившись назад, запрокинув голову, почти не видя противника, но с приговоркой: «Получай!.. Получай, херов пророк!» Он от души махал кулаками, а Иосиф от ударов уклонялся, приговаривая, что женьшенем Шварц может зарабатывать до десяти тысяч долларов в день – с таким-то носом!
– Получи, сволочь!
– Да что же это такое! – возмутился Иосиф, увернувшись от очередного удара по носу. – Вот драчливый еврей попался! Шварц, вы же доктор наук! Перестаньте! Как вам не стыдно!
Устав наносить удары по пустоте, помощник Эстина рухнул на кожаный диван и долго не мог отдышаться. Он еще ни разу в жизни не дрался и не знал, что это так затруднительно. У него поднялось давление, лицо покраснело. Математик порылся в карманах, достал из одного лекарство и проглотил не запивая.
– Согласен, – вдруг произнес он.
– На что?
– На ваше предложение.
– Вот и здорово! Зачем было так волноваться, руки распускать. Два умных человека всегда договорятся, у нас IQ 360 на двоих!
– Да-да… – согласился порозовевший Митя. – Договоримся.
С этого момента и началось сотрудничество Иосифа с экс-чемпионом мира по шахматам Эстиным. На следующий день после конфликта он появился сам, прилетев на легком вертолете в сопровождении огромного пса породы мастиф по имени Фишер. Собаке было жарко, огромный кровавого цвета язык почти волочился по земле, из пасти обильно текли слюни… Сначала обедали втроем. Эстин интересовался прохождением Иосифом срочной службы, понравилась ли ему новая квартира, спрашивал о физико-математических новостях, на чем бы молодому человеку хотелось сконцентрироваться и специализироваться. Иосиф на все вопросы отвечал исчерпывающе, лишь на последний рассказал о желании сфокусироваться на… Десять минут Эстин и Шварц слушали монолог Иосифа Бродского, из которого не поняли ни одного словосочетания. Слова понимали, а словосочетания – нет!
Позже Эстин поговорил с Митей и, теребя огромное ухо мастифа Фишера, попенял математику, что, мол, вот они твои 180, дураком себя чувствую. Ты вообще ничего из того, что он говорил, не понял?
– Нет, я понял, – соврал Митя. – Это терминология из квантовой механики. А частично он, по-моему, говорил на иврите. Там я не понял… Может быть, он второй Эйнштейн?
– Нам Эйнштейн не нужен! Все просто, я приземленный, но любопытный человек. У меня масса вопросов и крайне мало на них ответов!
– Он согласился давать ответы. Но не часто…
– И когда я умру? – спросил шахматист помощника.
– Он не знает.
– Или скрывает…
– Может быть, поговорите с ним сами? Вдруг у вас лучше получится?
Эстин вытер руки от собачьих слюней носовым платком с монограммой и отдал его Шварцу:
– Попробую… Всегда я – а ты-то способен на что-нибудь?
Разговор состоялся вечером того же дня в кабинете шахматиста с большими окнами и видом на искусственный пруд с живущей на нем парой черных лебедей. Какой-то специальный человек ловил рыбу в пруду, то и дело вытаскивая из воды жирных карпов. Чешуя блестела на солнце, стреляя солнечными зайчиками, пока рыба трепыхалась на крючке. На ужин, догадался Иосиф. Они снова разговаривали о разном. Параллельно Эстин двигал фигуры на миниатюрной перламутровой шахматной доске, а потом, переместив белого ферзя на четыре клетки, щелкнул черного короля по короне и уронил фигуру на доску.
– Так сколько я проживу?
– Не знаю, – ответил молодой человек. – Правда.
– А можете узнать?
– Ответ будет неточным.
– Насколько?
– Помните, Господь обещал Аврааму смерть в почтенном возрасте, в полном спокойствии и удовлетворении?
– Что-то такое…
– У Авраама был внук Эйсав, который рос отличным мальчиком, но должен был измениться к шестнадцати годам и стать бандитом. И тогда Господь сократил жизнь праведника на пять лет.
– Непонятно…
– Но ведь Он обещал Аврааму смерть в спокойствии и удовлетворении. А какое здесь спокойствие, ежели твой внук бандит и грабитель? Кстати, это единственный случай, когда за будущие грехи потомков родителю сократили жизнь.
– У меня нет внуков, – сообщил экс-чемпион.
– Я смогу лишь сказать, не умрете ли вы скоро и внезапно, если интересно.
Эстин напрягся, мастиф учуял запах хозяйского страха и зарычал.
– Фу, Фишер! Фу!!! – и всем телом подался вперед.
– Не волнуйтесь, внезапно вы не умрете, и ваша жизнь не будет короткой.
Эстин расслабился и на мгновение подумал, что этот парень просто шарлатан, а потому поинтересовался, какую зарплату тот хотел бы получать, ожидая услышать серьезное число.
– Мне денег не надо. Мне за квартиру бы с вами расплатиться…
– Совсем бесплатно хотите работать?
– Только я бы хотел вернуться к матери. Вы будете через Митю передавать мне вопросы в конверте, а я – писать на них ответы. Хорошо?
Эстин думал, глядя прямо в глаза Иосифу, словно пытаясь найти в них свидетельства простого развода, как лоха, но в глазах собеседника лишь черный океан вечности безмолвствовал.
– Не знаю…
– Японцы прогнутся до полутора миллионов. За один не соглашайтесь.
– Откуда вы об этом вообще знаете? – вскинулся всем телом Эстин. – Это конфиденциально!!!
– Разве вы не этого от меня хотели? Вот и проверите заодно, шарлатан ли я.
– Когда подпишут контракт?
– Ваша игра с компьютером Deep Fritz состоится в ноябре. Через три недели от сего дня вы с ними договоритесь на полтора миллиона долларов.
Последняя информация от Иосифа была конкретной и настолько конфиденциальной, что даже помощник Эстина Шварц ничего не знал. Шахматист сжал челюсти в предчувствии некоей эйфории. Но он не собирался улыбаться информатору, чтобы не казаться слишком доверчивым.
– Почему вы не хотите жить здесь? Все удобства, все бесплатно… Там, за лесом, спортивная база для гимнасток, художественных. Приключения…
– Если можно, я к матери.
– Вы гей?
– Странно, и Митя меня о том же спрашивал. Нет, я не гей. Я просто хочу жить с мамой, она нуждается в моей помощи.
– Согласен. – Эстин встал, заставив подняться с пола Фишера, и протянул Иосифу руку. Исполинская собака громко гавкнула, скрепляя рукопожатие.
Молодой человек путешествовал в Москву на вертолете и радовался с высоты мелких облаков великой жизненной картине мира, созданной Творцом. Он пролетел над Истрой и разглядел ешиву, в которой занимался. Душа Иосифа трепетала и жаждала ежесекундного приобщения к божественным творениям. Они сели возле МКАДа, и оттуда «мерседес» доставил Иосифа к Пушкинской площади, рядом с которой он теперь жил.
Даша не могла на него наглядеться, то и дело обнимая и целуя выросшего сына. Даже когда он безмятежно спал, она смотрела на него и думала, что вот какая она, жизнь, может случиться – из страшного и безумного шума шаманского бубна переродиться во всеобъемлющую флейту счастья. Каждый человек, даже бурят и еврей, может быть счастливым. Ведь солнце для всех, оно даже негодяев греет…
На следующий день они съездили на кладбище и помянули отца Иосифа. Даша поплакала в память о приемном ребенке и муже, сожалея, что жизнь с ним так немилосердно поступила. Не как с ней. Ничего не дала ласкового, даже ума чуток пожалела…
– Сейчас папе хорошо, – сообщил Иосиф, улыбаясь матери нежно. – Тебе не стоит переживать, поверь, ему там гораздо лучше, чем здесь.
Вернувшись в город, они купили билеты в кинотеатр «Россия» и посмотрели иностранный фильм, наполненный сценами насилия и секса. С этой поры Иосиф больше никогда не посетит ни одного кинотеатра, музея и театра, понимая, что развлекаться таким способом недостойно, когда есть большие книги и большие мысли в голове. Он и не думал убеждать мать в неприемлемости этих учреждений культуры. Даше кино нравилось неким диковинным изображением жизни, которой на самом деле не существует. Все, что для матери хорошо, хорошо и ему. Когда мать попросила сына, назвав его «хиппи», постричься, он не перечил ей, а просто отыскал парикмахерскую на Петровском бульваре, в трех минутах ходьбы от дома, где его длинные, дивной красоты волосы подровнял старик с греческим профилем и всклокоченной бородой. Старик все время улыбался и старался заглянуть Иосифу в глаза.
А потом Иосиф увидел девочку лет десяти, темнокожую, но с ясными голубыми глазами, которая, хитро улыбаясь, стояла в дверях подсобки, согнув тонкую ножку в коленке, и душа его наполнилась точным знанием…
– Приходите к нам почаще! – пригласил парикмахер, чем чуть ли не до инфаркта напугал маникюршу, последние пятнадцать лет уверенную, что Антипатрос немой.
– Непременно.
Через три дня Иосиф съездил в истринскую ешиву, где испросил разрешения быть слушателем. Учитель его вспомнил, но предупредил, что здесь лишь начальная школа.
– Наверное, вам с детьми будет неинтересно. Если я ничего не путаю, вы помните книгу наизусть?
– Теперь я ее даже немного знаю, – с должной скромностью проговорил Иосиф.
– Тогда ладно, – разрешил ребе. – Приходите три раза в неделю к пяти часам вечера. Я попробую с вами разговаривать…
Конверты с вопросами Эстина Митя Шварц доставлял по понедельникам. Иосиф встречался с гонцом в кафетерии, где и получал письма.
В первом письме Эстин поинтересовался: «Может быть, у японцев больше попросить?»
Молодой человек отписался, что не надо, так как японцы ведут переговоры с Каспаровым и Крамником, но те как раз еще больше просят.
Потом целый месяц писем с вопросами Эстина не доставлялось. Иосиф ездил в истринскую ешиву и разговаривал с учителем. Любая тема могла стать предметом их разговора. Например, время.
Ребе Ицхок спросил Иосифа, помнит ли тот, с каких строк начинается Тора.
– Да, – ответил Иосиф и произнес их: – «В начале сотворения Богом неба и земли, Земля же была – смятение и пустынность, и тьма над пучиною, и дуновение Божье витает над водами»…
– Так что в начале Всевышний, пусть сияет имя Его, создал?
– Небо и землю, – ответил ученик.
– Само слово «начало» что нам говорит?
– Первым делом?..
– Вы же знаете, что в книге нет ничего случайного, что можно было бы перефразировать лучше, чем уже есть в тексте?
– Знаю.
– Так что имеем мы во фразе «в начале»?.. – и сам же ответил: – Перед созданием неба и земли Господь создал что? Время! Это и есть смысл слова «начало». Поэтому, дорогой Иосиф… Как у вас с отчеством?
– Иосифович.
– Так вот, дорогой Иосиф Иосифович, наизусть и попугай может. Наизусть хорошо тогда, когда, уже старым, вы отыщете небольшое количество смыслов, если отыщете. Не так важен сам текст, как ключ к нему, к его пониманию… Один еврей-репатриант, приехавший в Святую землю старым, как Мафусаил, решил выучить иврит, чтобы читать в подлиннике Тору. Он учился и учился, а до смерти смог прочесть всего одну страницу и… стал праведником. Все дело в том, как вы улучшите себя. Книга – это ежесекундное учение, открытие в заученных десятилетиями строках все нового и нового в вашей душе… Старик, прочитавший одну страницу, приложивший к этому титанический труд, изменил себя, улучшил. Мы приходим в этот мир, чтобы сделать себя лучше…
Эстин прислал второе письмо, которое Иосиф прочитал при Шварце, за чашкой какао.
«Какие лекарства мне стоит принимать для хорошего самочувствия?» – задал шахматист первый вопрос.
Иосиф тотчас написал ответ, что по здравому смыслу лекарства надо принимать те, которые прописал врач, лучше, если это будет хороший врач.
– Что за вопросец? – протяжно зевнув, попытался разведать Митя.
– Конфиденциально! – ответил Иосиф.
– Ах да…
Второй вопрос был странным – «Когда придет конец света?»
Иосиф опять ответил сразу – «Через двести тридцать восемь лет»…
В ешиве студент любил возиться с детьми, частенько приносил им сладости, недорогие игрушки, особенно ему нравились праздники, такие как Халаке, когда достигшему трехлетнего возраста мальчику обрезают пряди волос. Каждый из приглашенных получал по пряди и к каждому локону давалось счастливое пожелание… Бар-мицва – тринадцать лет мальчику, самый радостный праздник в этом возрасте, когда ребенок становится мужчиной, принимая на себя все законы совершеннолетия.
Как-то ребе Ицхок застал Иосифа за книгой на древнеарамейском языке. Он сам плохо ориентировался в чтении старинных текстов, а потому был удивлен:
– Вы знаете язык?
– Да.
– Поразительно! – воскликнул учитель.
– Я знаю и другие языки…
– Какие?
– Их что-то около семидесяти…
– Господь бесконечно щедр! Но вы, дорогой Иосиф, должны знать, что то, что дал вам Господь, это подарок, что реализация подарка ничего не приносит душе, для души нужно стараться искать пищу совсем другую… Вы, конечно, знаете школы Шамая и Гилеля, которые спорят испокон веков, приходя к разным ответам на один и тот же вопрос?
– Это, по-моему, известно и в начальных классах.
– А про спор о том, стоило ли человеку приходить в этот мир?
– Наверное, нет.
– Так вот, спор, а в этом случае – дискуссия, продолжался долгое время, и в первый раз эти школы пришли к единому мнению: не должен был человек приходить в этот мир!.. Но если уж он пришел, то должен исправить себя!..
В ноябре очередное письмо от Эстина доставила женщина-секретарь, отказавшаяся пить какао. Была слегка надменна и, видимо, расстраивалась, что ее используют в качестве курьера. Но это было не совсем так. Шахматист использовал секретаря Беллу в разных целях. Иногда она соглашалась на быстрый секс, но большей частью сидела на телефоне, сурово отбиваясь от ненужных звонков экс-чемпиону.
– А что со Шварцем?
– Пневмония, – ответила Белла.
– Передавайте ему привет! – велел Иосиф.
– Он в Германии заболел…
– В Германии и выздоровеет.
Иосиф вскрыл конверт и прочитал: «Какие котировки на золото будут в среднесрочной перспективе? Какие геополитические конфликты или смены руководств стран ожидают мир? Девальвация доллара? Золото?» И т. д. В ответ Иосиф написал односложно: «Не знаю». Второй вопрос касался личной жизни шахматиста. Он предлагал получше разглядеть курьершу Беллу Пушкину и дать ответ на вопрос, является ли она его второй половиной. Иосиф еще раз взглянул на женщину с ленинским взглядом. Да, ответил молодой человек. Она вам подходит… Далее следовал постскриптум, в котором Эстин писал, что пытался отыскать Иосифа в МФТИ, но там ему сказали, что такой студент занятий не посещает, хоть и был принят по аттестату с золотой медалью. Даже документы не забрал… Как же ваша квантовая механика?.. Иосиф ответил Эстину, что учится в другом месте, чтобы тот не волновался, у него все хорошо, что он по-прежнему готов отвечать на его вопросы по мере сил.
Получившая конверт курьерша уже в машине распечатала его и прочла ответы, так как перед встречей с Иосифом ознакомилась с вопросами. То, что, возможно, ее судьба вскоре решится наилучшим образом, на некоторое время превратило бизнесвумен в обычную счастливую женщину, которая всю обратную дорогу напевала Гимн демократической молодежи.
…Прошло несколько лет, но в жизни Иосифа ничего не менялось. Он посещал ешиву, учился постигать смыслы и отвечал на бессмысленные вопросы Эстина.
Он побывал на бат-мицве дочери парикмахера Антипатроса Зойки, уже не просто смешной девчонки, а юной девушки, принимающей на себя все обязанности совершеннолетия. Ее черные волосы – огромный шар, как у Анжелы Дэвис, казались черным одуванчиком, в котором отец на затылке выбрил латинскую букву «V». Девушка неотрывно смотрела на Иосифа, и свет волшебной бирюзы ее глаз нежным и теплым потоком наполнял его сердце. Солнце с голубыми лучами, подумал он. Экое неземное диво!..
…Иногда я лично встречался с Иосифом. Просто подсаживался к нему на лавочку на Тверском бульваре и сидел молча, пока тот увлеченно читал очередную книгу. Мне было непонятно, зачем молодой человек тратит время на шахматиста Эстина, променивая важное на нестоящее, но я никак не решался задать ему этот вопрос.
В одну из холодных зим я повстречал Иосифа сидящим на парапете у входа в метрополитен. Он занимался своим привычным делом, листая страницы древнего фолианта, погруженный в текст, как луна в океан. Я также взгромоздился на холодный гранит с купленным в заиндевелом от мороза киоске мороженым, которое когда-то стоило сорок восемь копеек. Я слегка чавкал, есть за мной такой грешок, и Иосиф коротко обернулся, взглянув на мою скромную персону.
– Бонжур! – поприветствовал я его и улыбнулся плоти от плоти Иратова.
– Здравствуйте, – ответил читавший, коротко улыбнувшись в ответ.
– Вы смеетесь потому, что я чавкаю? У меня прикус неправильный. Когда-то меня били сильно!
– Что вы! Я улыбаюсь потому, что сейчас читаю в книге именно про вас.
– Каким образом? – удивился я и капнул мороженым себе на колено. – У вас книга судеб?
– Конечно, я выразился образно… Здесь описывается субъект, уж очень похожий на вас.
– Чем же? Вы же меня совершенно не знаете!
– Вы правы, мы незнакомы, но вы часто сидите со мною на лавочке на Тверском бульваре.
– Значит, – прикинул я, – сходство внешнее?
– Думаю, да. – Иосиф оторвался от страниц и смотрел на меня внимательно, пока я не доел мороженое, изгваздав им брюки основательно. Я никогда не знал чувства смущения, а потому спокойно встретил взгляд моего собеседника. – Вы тот, кто передал моей матери деньги для моего отца.
– В книге написано?
– Нет, сейчас ко мне это пришло…
– Мать рассказывала?
– Нет… – он задумался. – Я вдруг явственно увидел это событие.
– У меня внешность необычная, многие считают, что я какой-то их старый знакомый… Вы, кстати, были в Праге?
– Нет. А что там?
– Собственно, ничего, я просто спросил. Сам я тоже не был в этом городе, но обязательно побываю.
– Что ж, – пообещал Иосиф, – загляну в справочники!
– До встречи! – попрощался я.
– До встречи…
А потом у Иосифа умерла мать. Болела всего три дня, а к исходу пятницы скончалась, хотя Иосиф предпринял все для ее спасения. Ему казалось, что кого-кого, а мать он сбережет, что внутренних сил ему хватит сделать ее жизнь длинной и безмятежной.
В свой первый день болезни она сообщила сыну, что умрет к субботе. Он гладил ее круглое лицо и говорил, что никому такое знание не дано, что у нее обыкновенная простуда… Но, светлая, как луна, она быстро угасала и просила сына не горевать о ней, так как она попадет в олений рай, а там все ее родственники. И дедушка Иосифа, нобелевский лауреат Иосиф Бродский, там же, а ей очень хочется его повидать…
– Возле отца своего меня положи, – попросила.
Стоя над могилой Евдокии Бродской, матери своей, Иосиф впервые так явственно почувствовал некую чужую безграничную власть над миром, которую не переломить и не понять. Сам он смерти не боялся, но такой скорый конец Даши опять сделал его нежным ребенком, оставшимся в одиночестве на всей земле, а тот, кто властен над миром, до сих пор не протянул ему своей руки…
Позже я встретил Иосифа в Елисеевском магазине. Он ничего не покупал, а просто сидел на батарее и по обыкновению читал.
– Что-то давно вас не было видно! – подошел я к нему. – Переехали?
– Нет, – ответил молодой человек. – У меня умерла мать.
– Да-да, я слышал… Траур…
Глаза Иосифа были как океаны, наполненные печалью, и, чтобы его ободрить, я сказал, что тот, кто всем заведует, такой главный завхоз, уже протянул ему руку, только Иосиф ее не замечает.
– Почему я не замечаю ее? Вы знаете ответ?
– Вы не сконцентрированы, вы справочное бюро для какого-то идиота Эстина, вы дар э-э-э… дар завхоза распыляете.
– Кто вы?
– Я тот, кто распылился больше вашего. И я ваш знакомый…
В следующем письме Эстин спрашивал, готов ли Иосиф и впредь отвечать на его вопросы. Молодой человек написал, что выполнил все договоренности с шахматистом, что его ответы утроили состояние чемпиона мира и в нем уже нет надобности.
«Я же считаю теперь себя свободным, – далее писал он, – так как квартира, в которой проживали я и моя мама, по сути, мне больше не нужна, основную часть времени я провожу в отдалении от Москвы, и, если хотите, квартиру можете забрать. Как вам покажется справедливым, так и поступите…»
Эстин злился отчаянно, а его супруга Белла не велела отпускать этого обнаглевшего «пророка»! «Да откуда ж такая наглость?!!» – кричала супруга… Справедливости ради надо сказать, что Эстин, переломив себя, отпустил Иосифа на все четыре стороны и оставил за ним квартиру… Именно из-за этого поступка шахматист проживет достаточно долгую жизнь без больших трагедий и в материальном благополучии.
Иосиф почти полностью переселился в ешиву, а квартиру переписал на общину. В этот административный день, проторчав в Банном переулке все утро, он подписал дарственную, а потом зашел в парикмахерскую, где после рутинной стрижки Антипатрос дозволил молодому человеку пройти в его частные комнаты над бизнесом, где не испугался оставить его наедине с приемной дочерью Зоей. Не сказав друг другу и слова единого, они только улыбками и разговаривали. Ее тонкие пальцы лежали в его крепкой ладони, и молодые люди ощущали себя единым целым. Их эмоции и тождественность происхождения сплавились в один солнечный луч, дыхание почти замерло, и они на какие-то мгновения вдруг оказались вне своих тел, вышли, как из двери на улицу, стояли и смотрели удивленно на себя же самих со стороны. И им эта картина понравилась… Это необыкновенное состояние двух молодых людей, эти божественные флюиды уловил своим горбатым носом грек Антипатрос и отстриг от неожиданности мочку уха моему соседу Иванову, который некогда спалил Тамаркин ларек и за счет этого стал зажиточным купцом. Иванов взвизгнул, а Антипатрос, плюнув на отторженную плоть, приставил ее на место. Мочка тотчас приросла намертво, а клиент продолжал скулить и требовать компенсацию.
– Совсем забыл, сволочь, кто ты?!! – со злобой первобытного ящера прошептал в отреставрированное ухо Антипатрос. – Я всего лишь на сто лет здесь меньше обитаю, а ты, падла, ассимилировался!
Купец Иванов не понимал, за что с ним так, просился из кресла вон, а грек хлестал его деревянной от старости ладонью по щекам, как после бритья и распарки кожи, приговаривая:
– Вспоминай, сука! Испортил мне самый чистый день жизни!
В конце он наградил крепкой затрещиной мятый затылок Иванова и спровадил его на улицу пинком под зад. Дверь захлопнулась, и Антипатрос, усевшись в клиентское кресло, принялся наслаждаться ощущениями, приходящими от сплетения самых родных душ.
Пришедшая после обеденного перерыва маникюрша испугалась было, что у старика запнулось сердце, но грек показал ей большой палец, сообщая этим, что у него все хорошо…
… – Можем ли мы решать, кто грешен, а кто нет? – как-то спросил Иосиф учителя.
– Конечно.
– Кто нас наделил этим правом?
– Никто. Ответ на этот вопрос очень простой – все грешны! И исходить надо из того, что все грешны.
– Но есть же большие грешники, кровавые и преступные!..
– Есть, – подтвердил ребе.
– Но даже они, эти чудовищные создания, все же делали в своей жизни что-то хорошее. Любили своих детей, кормили птиц, кого-то деньгами поддерживали… Воздастся ли им за хорошие дела?.. А как быть с праведными людьми, чистыми и просветленными, которые, в свою очередь, тоже совершали не лучшие поступки в жизни, может быть и случайно?
Ребе Ицхок выслушал Иосифа и дал ответ:
– И великим грешникам воздастся за их добрые поступки, и праведникам за ошибки. Только сильно грешившим воздается за доброту здесь, на земле, в виртуальном мире, определенном временем. Воздается деньгами, долгой жизнью и другими земными радостями, а праведники за ошибки наказываются – здесь же, на земле, – нищетой, болезнями, много чем. Зато в вечном существовании грешник попадает в ад, тогда как праведник, расплатившийся за свои грехи в нашем мире, сядет за стол со Всевышним и обретет в вечное пользование все, что пожелает. В духовном смысле, конечно.
– Я читал, что ад – это стыд. Что, попав в ад, душа человеческая испытывает чудовищный стыд, когда ее посещают души тех, к кому он, человек, был нехорош. Мне кажется, что отсюда пошло выражение «гореть от стыда». Как вы считаете, ребе?
– Всякий, даже самый грешный, в конце концов попадет в рай. Двенадцать месяцев в аду – и в рай. Но каждый день в аду будет равен всем страданиям Иова за всю его жизнь. Те, кто осознает это, кто понимает, что там времени не существует, или почти не существует, что в том месте год равен тысяче годам на Земле, тот истинно богобоязненный… Да, можно и так сказать: ад – это стыд, а рай – наслаждение. В людях столько намешано, что подчас не поймешь, хороший человек или гад, откуда и что происходит, как судить, как весы такие создать…
Как-то в ешиву приехал раввин из США и, коротко пообщавшись с Иосифом, удалился на разговор с ребе Ицхоком, где мудрые и знающие просидели половину часа. Далее был обед, за которым американский раввин хорошо ел, пил вино и смеялся помногу. Насытившись, он, ухватив за руку Иосифа, вытащил его танцевать, сам своим танцам подпевал, да так заразительно, что подростки в кипах пустились в пляс вослед, а ребе Ицхок оставался сидеть будто пришибленный, лишь руками изображал танец. Натанцевавшись, американец шепнул в ухо партнеру по танцам, что тот скоро женится и над хупой пойдет снег, затем неожиданно со всеми попрощался и отбыл в направлении Москвы.
Когда подростки были отправлены спать, ребе Ицхок остался наедине с Иосифом:
– Знаете, кто это был?
– Раввин Коэн.
– А вы знаете, кто он, этот раввин Коэн?
– А надо что-то еще знать?
– Не обязательно. Вам не надо. Но он прилетел в Россию на сутки, чтобы посмотреть на вас!
– На меня?
– Именно. Он сказал, что в вас предназначение.
– Какое?
– Он не распространялся… Об этом не принято говорить.
– В каждом есть предназначение!
– Но для вас он точно знает какое!.. А вы до сих пор не обрезаны!
– Я и не знаю, как вам сказать…
– Вы в сомнении?
– Нет… Конечно, нет… Просто я родился… я родился обрезанным, то есть уже без крайней плоти… Мама говорила, что такое бывает, вот и у моего отца такой же случай. Он умер, когда я был совсем маленьким… У меня, видимо, наследственное. И в метрике я еврей…
Ребе Ицхок не спал всю ночь, думая, что где-то рядом с ним находится, быть может, тот, кого все ждут. Минутами он даже плакал от счастья, а к утру критическая мысль одолела эйфорию, и раввин сказал себе строго, что забегать спереди едущего автомобиля, дабы посмотреть на лицо водителя, крайне опасно…
Я проводил американского ребе Коэна в аэропорт, следуя за его машиной на такси, дабы чего не случилось. Помахал ему рукой, когда провожаемый встретился со своими религиозными соотечественниками, вывалившимися из автобуса, пейсатыми и в меховых шапках.
Где-то в этом промежутке времени я встретил своего соседа Иванова, хорошо одетого, грустно сидящего на лавочке возле подъезда.
– Тамарка сгорела? – спросил я.
– Ну, там так полыхало…
– А Зинка?
– Зинке перепал в наследство склад с имуществом и место для новой палатки.
– Ты приподнялся, гляжу! – осмотрел я внешность соседа Иванова. – И джинсики новые, и пуловер, голова стриженая!
– Один мудак мне вчера из-за прически чуть ухо не отрезал. Парикмахер, бля! Сожгу его богадельню!
– Ну, ты прям как Нерон!
– Кто?
– Царь был такой, костры любил разводить… Пьешь?
– Пью, – признался сосед, но спохватился, понимая себя не прежним алкоголиком-нищебродом, а имущим, сильным мира сего, но со слабостью русского человека. – А ты чего – пасешь меня? – по-хамски спросил меня испитой Ротшильд.
– Я – нет…
– Ты брат мне? Сторож?
– Ты трусы новые купил?
– Что? – не понял Иванов.
– Трусы. Нижнее белье.
– Нет… Чего тратиться, если его не видно?.. Странный ты, сосед! И вопросы у тебя странные!
– А телку модную надо будет завалить, а трусера не стиранные семь лет! А?
Иванов задумался, а потом признал, что есть в моих словах правда. Теперь телки будут ему давать, коли он с деньгами. Мол, век живи – век учись!
А потом я звонил, звонил…
14
Земля связалась с международной космической станцией. Трансляция шла на весь мир.
Директор NASA, коротко стриженный службист высокого ранга, спросил своего астронавта, следит ли экипаж за тем, что происходит на Земле.
– Да, сэр, – ответил бортинженер станции. – Мы смотрим телевизионные новости с небольшим опозданием.
– Значит, вы в курсе того, что произошло с мужчинами всех стран и континентов?
– В курсе… – И задал ответный вопрос: – А проверяли ли вы африканских пигмеев?
– Проверены все мужские особи на планете! – подтвердил директор NASA. – И пигмеи в том числе.
– И ни у кого не… Что, у всех?..
– Абсолютно.
– А у животных?
– Плодятся и размножаются! Покажите, пожалуйста, свои гениталии.
Весь шокированный мир, затаив дыхание, готовился смотреть очень важный стриптиз в космосе. Но астронавт отказался снимать костюм, так как якобы у него приборы показывают, что половой орган сохранился.
– Какие приборы, мистер Калкин? – возмущался директор. – Что вы там придумали?!
– Э-э-э… – ответил астронавт Калкин. – Прибор… – И уплыл Ихтиандром в другое помещение, свободное от видеокамер.
Здесь началась работа начальника ЦУПа Мясникова. С мужицкой простотой генерал приказал:
– Коровкин, покажи хуй!
На российском телевидении успели запикать нецензурное выражение, за которым могли последовать астрономические штрафы. Коровкин, ни секунды не сомневаясь, скинул тренировочные штаны – и весь мир ахнул. У Коровкина он был.
– Опа-на! – воскликнул российский космонавт. – Как вам такой?
На его вопросе сеанс связи неожиданно прервался, но мир осветила надежда.
Позже, не сговариваясь, и NASA, и руководство космической отрасли России произвели экспертизу видеоматериала и пришли к выводу, что космонавт Коровкин инсценировал свои гениталии, использовав детский пластилин «Слепи сам», необходимый на станции, чтобы профилактировать мелкую моторику пальцев рук. При увеличении кадра специалисты разглядели и коробку, краешком торчащую в кадре. Еще эксперты отметили качество пластилиновой подделки, прикрепленной к телу ниточкой с хитроумными узелками. Коровкин и в цвет попал, и в фактуру, только размер увеличил значительно. Хотя кто знал, какой сайз у него был до вселенской драмы. Но моторика пальцев выше всяких похвал… О такой гадкой лжи все же узнала мировая общественность, и сотни миллионов женщин, алчущих встречи с Коровкиным, в едином порыве разочаровались и поняли, что с этого дня придется довольствоваться только фаллоимитаторами. Самой неразочарованной частью населения остались лесбийские сообщества, которые неожиданно стали претендовать на управление всем человечеством. В этом была доля здравомыслия, так как только у этой группы осталась сексуальная ориентация со способностью и желанием ее подтверждать. Почти все женщины планеты в короткое время примкнули к меньшинству, сделав его почти стопроцентным большинством. Да и радости сексуальной жизни никто не отменял… Президент США, женщина от демократов, провозгласила гегемонию феминизма и отыскала в провинции Монику Левински, сделав жирную глупую бабу госсекретарем. Также руководительница Америки призвала провести мировые выборы, в которых могли участвовать только женщины. А еще она с прискорбием констатировала, что человечеству осталось существовать не более ста двадцати лет, с учетом младенцев, родившихся сегодня. Для справки: все новорожденные мальчики появились на свет без детородных органов и совсем уж были похожи на девочек… Положительной новостью стало то, что ресурсов на планете существует с избытком, и при таком стечении обстоятельств – какие-то сто лет! – каждый житель будет обеспечен на всю жизнь. На таком заявлении биржи подскочили вдвое, а цены на все виды ритейла упали на лопатки…
Женской гегемонии противостояли только лидеры мировых религий, большинство из которых и так не пользовались мужскими принадлежностями по причинам монашества, или целибата. Иерархи настаивали на переходе власти к церкви, а именно – к непорочным мужчинам.
В ответ женщины хохотали и высмеивали в газетах погрязших в педофильском и гейском грехе религиозных деятелей. Одна из особо рьяных лесбиянок заявила о ненадобности учреждений культа, так как Господь уже выразил свою волю упразднить род человеческий.
С ней дебатировала ученая-исследовательница, утверждающая, что уж за сто лет женщины научатся рожать без участия в процессе зачатия мужского семенного материала.
Спокойнее дело обстояло в странах третьего мира и в России. Здесь женщины не так буйствовали, кроме лесбийских группировок, исторически не желая управлять государством, выбирая роль кухарки, а не президента. Россиянки были довольны уже тем, что теперь мужик приходил домой вовремя, утерял желание играть в домино и смотреть вялый гомосексуальный футбол. Пусть нет секса, он и до этого случался так себе, но муж и балет при ней!
Мужчины мира потеряли тестостерон. Кровь была водой, а мозг – наростом жира. Все мужское население Европы просиживало большую часть времени в кинотеатрах, поедая тоннами попкорн и удивляясь такой страстности мужчин на экранах. Зачем целовать чью-то грудь, хватать кого-то за задницу? И негигиенично, и неинтересно. Порноиндустрия развалилась в считаные месяцы, работая лишь на лесбийский рынок.
Радикальные мусульмане объявили виновными в таком миропереустройстве евреев, христиан, даосистов и последователей индуизма. В общем, почти всех, кроме себя. Впрочем, объявление так и осталось объявлением из-за потери воинского духа и желания жертвовать собой. Последний шахид незаметно прокрался в Париж и хотел взорвать себя на Елисейских Полях, но, наслушавшись на митинге речей о превосходстве женщин, решил не только присоединиться к их идеям, но и перестроить свое тело в женское. Кстати, он все равно к вечеру взорвался, примеривая в автомобильном гараже, в котором жил, женское белье.
Стали практиковаться повсеместно операции по смене пола, особенно в высокоразвитых странах. Мужчины добровольно подвергались вагинопластике, а с мировых театральных площадок исчез хит прошедших лет спектакль «Исповедь вагины» – как неактуальное произведение… Впрочем, продажи алкоголя в мире остались на прежнем уровне. Люди всех полов все же нуждались в эндорфинах извне и продолжали пить изрядно. Также расходы на питание увеличились втрое. За несколько месяцев мужчины прибавили в весе до тридцати процентов, а некоторые и вовсе разбухли вдвое. Обнаружилось несметное количество талантов среди потучневшего мужского стада. Двое из десяти толстяков вдруг запели волшебными голосами, встали в очередь на прослушивания во все оперные театры мира, но оперу вскоре упразднили – а на кой черт она нужна, когда в каждом дворе десятками проживают контратеноры, вызывающие тупую ненависть у соседей! Баритоны ушли в небытие, не говоря уж о басах… Понятно, что и балет продержался недолго. Разжиревшие балеруны уже не могли прыгать и делать гранд-батман. Искусство выродилось, музеи опустели – а кому захочется глядеть на мясистых и варикозных рубенсовских баб!.. В мире восторжествовал унисекс и возродился средневековый балаган, в котором жирные тетки и бывшие дядьки показывали сценки из прошлой жизни, заставляя зрителей гоготать над попытками героев совокупиться. Исчез мужской спорт. О футболе уже было сказано, укажем на исчезновение хоккея, всех видов единоборств и т. д. Вакансии заняли женщины, теперь они болели и играли за «Реал» (Мадрид) и «Барселону», тягали штангу и дрались в боях без правил. Много еще чего кануло в небытие из заслуг человечества, но главное, что утерялось, – научная мысль, которую контролировал человеческий гений, помноженный на тестостерон. Но мировое сообщество восприняло это, мягко говоря, с пофигизмом, так как на кой нужна наука, если жизни осталось на три поколения. Всех вполне устраивают гаджеты на нынешнем уровне! Не нужен нам IPhone 8! А изучать Вселенную – просто трата времени…
Зато войны почти прекратились. Лишь некоторые бандитские лесбийские группировки выясняли отношения между собой, но полиция их быстро урезонивала, сажая преступников на долгие сроки, чтобы не мешали последнему столетию человечества пройти в дружбе и спокойствии. Удивительно, но никакой анархии не было и в помине. Почти все население Земли в нынешних условиях стало законопослушным и продолжало поддерживать мирную жизнь на планете. Больницы и банки работали, общественный транспорт ходил по расписанию, самолеты летали, работали рестораны и бани для любителей… Революционная ситуация возникла в мире религий – это да. Попов, раввинов, святых отцов, всяких брахманов и муфтиев развенчали безжалостно, но с ясной и понятной целью: выстроить на месте всех религий единую – экуменистическую! Но без всяких там церквей!.. Всему населению стало ясно, что Господь един, коли Он не пощадил ни одну из конфессий.
А так – все устаканилось и пошло своим чередом. Люди трудились и получали зарплату.
Продолжал работать на своем месте располневший травматолог Петечка Савушкин, а вот Лилька Золотова переменилась в активистки и, избрав себя в сексуальное большинство, ездила по городам и весям на «Харлее» с подобными боевыми тетками-мотоциклистками. Байкерский клуб избрал ее лидером, а Терапевт, бывший президент клуба «Дневные драконы», был отправлен в отставку и работал в Ботаническом саду соловьем. Уж очень повезло ему с голосом!..
Арсений Андреевич Иратов перестал принимать таблетки, из-за отказа от которых чуть было не умер еще недавно. На душе и без лекарств было спокойно, а спалось сладко, как в детстве. Иратов вяло пытался продолжать проектировать чудные здания, но уже не по зову сердца, а по привычке. Почти ничего не получалось, и он без сожалений забросил свой офис с помощником Витей, жил на деньги с биржи и общался почти все время с Сытиным, играя с ним в карты. Жулил по привычке, а располневший андролог этого не замечал. Клиника его разорилась за ненадобностью в ее специализации, перепрофилировать же не было ни сил, ни желания. Остались накопления, да и Иратов не был жаден, дарил на разные даты крупные суммы денег. Иногда Арсений Андреевич поднимался на этаж выше проведать Верочку, по-родственному, ей тоже давал средства, а она поила его чаем, хотя такие посиделки и не нравились Эжену. Этот молодой человек управлял молодой женщиной по своему вкусу – жестко и тиранически, Иратова терпел только из-за денег. В течение сексуальных игр он мог запросто исхлестать нежную лайковую попку Верочки плеткой или, как собака, искусать ей грудь, а когда она жаловалась на боль и просила относиться к ней нежнее, Эжен с высокомерием предупреждал, что до его ухода от нее осталась одна сотая терпения.
– Знаешь, сколько женщин в мире алчут меня, даже не подозревая о моем существовании?
– Да, – покорно отвечала Верочка, и из глаз ее текли слезы несчастья.
Она не раз решалась уйти от Эжена, но только в воображении, в реальности сил не хватало – воля мягкая, как нагретый парафин. Нижняя часть тела всегда побеждала мозг, женщина потакала любовнику во всем, отдавала все иратовские деньги, отчаянно надеясь на беременность, и даже выходила голая на балкон в зимнее время для развлечения любовника. Эжен в такие моменты упоения властью улыбался, и казалось, что у него выросли клыки. Но это только казалось. Молодой человек мужеского пола, единственный, оставшийся с настоящими первичными половыми признаками, он ждал своего часа, чтобы заявить всему миру – я спаситель рода человеческого, только мое семя может побороть решение Бога… Он не жаждал становиться божеством, хотя думал, что при желании мог бы. Он истово хотел победить Всевышнего, сломать Его волю и жить своей!..
Я встретил его еще один раз. Пытаясь спасти падшую Верушку, я как-то дождался молодого человека возле подъезда иратовского дома, он узнал меня, даже остановился и старательно рассмотрел с головы до пят. Затем неожиданно резко дернулся и попытался схватить меня за пах. Наткнувшись на пустоту, он снисходительно поинтересовался:
– И что тебе надо?
– Оставь ее.
– Для тебя? – Эжен расхохотался. – У тебя же в штанах пусто! Что ты станешь с ней делать?
– У меня всегда в штанах было пусто, с рождения, и она совсем не нужна мне в том смысле, в котором нужна тебе.
– Ну конечно, ты ангел, что ли, бесполый?! – Он отпустил мои штаны. – И для чего же она тебе понадобилась?
– Она – Верушшшка! – произнес я с мягко утрированным «ш». – Она тот плод, которым незаконно насладились, и за это все так и происходит в мире! Отпусти ее!
– Я бы, конечно, мог надрать тебе задницу, ангел, но не стану этого делать. Я сам ангел, но с яйцами. Скажу просто: скоро ты сможешь забрать свою, как у тебя там?.. Верушшшка?
– Именно, – я поглядел на него и ударил кулаком в лицо. Он не представлял, как силен будет удар, а потому не особо уклонялся. Он просчитался, и теперь его нос был вбит между треснувшими костями лица. Эжен схватился за физиономию, посмотрел на меня – теперь с ужасом – и побежал обратно в подъезд, обильно капая кровью на летнюю траву.
К ней припустил… Глубоко вздохнув, сожалея о своей утраченной иллюзии, я подумал, что и сам плод своей волею может соблазнить отведать его, даже будь он запретным. Так и в этом случае произошло…
Вернувшись в квартиру актрисы Извековой, я завалился спать и даже будильник не завел. Закрыв глаза, я подумал о майоре Беличе и полковнике Жамине. После упразднения армии с хорошей офицерской пенсией они поселились в маленьком дачном поселке «Иволги», выстроив свои домики по соседству. Они ежедневно играли в шахматы и пили водку. Джульетта Гургеновна жила здесь же и изредка навещала отставных офицеров, угощая их долмой… Экс-шахматист Эстин вдруг осознал, что у него достаточно средств, чтобы дожить безбедно до конца дней своих, он по-прежнему был женат на Белле Пушкиной, которая наслаждалась мужниным достатком – плевать на недостатки! – и посещала маленький приход новой экуменистической церкви. Сын Иратова от его первой любви, учительницы Светы, состоял в том же большинстве, что и все мужчины планеты. Археолог Грязев, престарелый и облезший, пытался напроситься жить к Свете, хвастаясь тем, что у него все сохранилось, ну, не все, а внешний декор имеется, шутил мерзопакостно – «зато, мол, висит красиво». Жалкий старик был безжалостно изгнан и послан доживать свой век в жопу.
Юная Алиска из деревни Костино Владимирской области почти каждый день стояла в белом платье с васильковым букетиком на пыльной деревенской дороге и вглядывалась в нее через цветущие поля и соседние деревни, с девичьим волнением ожидая своего незабываемого принца. Но только горячий ветер дул ей навстречу, облепляя Алискины коленки ненужным платьем невесты…
Мне позвонили…
Я рванулся к телефону, и, если бы у меня было человеческое сердце, оно могло бы не выдержать столь напряженной эмоции. Сотни лет ожиданий и безнадежных страданий. Раздавленное страхом полного низвержения, оно могло бы встать, как часовой механизм, или взорваться ядерной бомбой.
Конечно, никто в приложенную к уху трубку ничего не сказал, но необходимая информация, вклад тишины в мое расширенное сознание, оказалась всеобъемлющей и открыла для меня все смыслы.
– Спасибо, спасибо! – шептал я, мчась на Белорусский вокзал. – Спасибо…
В кассе номер 4 я встал в очередь, чтобы купить билет в Прагу.
– Адимус! – Я почувствовал тяжелую руку на плече и, обернувшись, узнал старика Антипатроса с вечно всклокоченной бородой. – Видать, тебе все же позвонили!
– Да, – признался я, весь наполненный любовью к собрату, столь долгое время, куда больше моего, прожившего в изгнании. – Да, мне позвонили, впрочем, как я понимаю, и тебе!..
– И теперь ты знаешь, что делать?
– План у меня голове.
– Прекрасно! Берем билеты с открытой датой.
– Да-да, – подтвердил я.
Мы уже почти добрались до окошка кассы, как сзади на нас навалился – кто бы вы думали? – мой бывший сосед Иванов, вот не ждали, не гадали.
– А ты как здесь? – удивился я.
– Я?.. – сосед нервничал и выдыхал перегар. – Я это… Я в Прагу…
– Зачем? – вопросил я. – Пиво пить, купец доморощенный?
– Мне позвонили, – раскрылся сосед. – Позвонили…
– Добро пожаловать, ангел Иванов! – приветствовал Антипатрос. – Вправились мозги?
– Ага…
Я был потрясен и с трудом вымолвил:
– Так ты брат мне?
– Как бы… – застеснялся Иванов.
– Брат, брат, – подтвердил Антипатрос, протягивая деньги в кассу. – Три плацкарта до Праги! Но не сторож!
– Берите целое купе! – по-гусарски потребовал Иванов. – Мягкое! – и, скривив рот в улыбке, пояснил: – К чему мне деньги теперь!
А потом мы полдня просидели в пустой блинной, по-человечески пили водку и разговаривали.
– Тебя за что? – поинтересовался я у Антипатроса.
– За что сослали?
– Именно.
– Дрался с Иаковом, внуком Авраама… А тебя?
– Подзуживал и провоцировал руководителя насчет Иова. Говорил, что он только в богатстве и счастье может так истово верить и соблюдать…
– Ясно… – Антипатрос раздвинул бороду, чтобы вылить в рот водку. – Настрадался?
– Уж не без этого… Отбыл срок от звонка до звонка…
Зажевав водку блинами, мы со стариком обернулись к бывшему соседу Иванову с немым вопросом.
Он выпил штрафную, хрюкнул по привычке и признался, что был седьмым облаком славы[2], но манкировал своими обязанностями стирать вещи многочисленному народу, блуждающему в песках.
– А еще я частенько отлучался в самоволку, чтобы пользовать земных дев.
– Так у тебя есть хуй? – почти в унисон уточнили мы.
– Есть, – потупил очи ангел Иванов. – Я не из вашей породы… Братской… Христианской…
Выпили и за это.
– А что с Иратовым делать? – поинтересовался я.
– А ничего… Он ни при чем… Случайный выбор… Но не забывайте, он дед Иосифа! Пусть и случайный! Вспомните город Цоар, который не уничтожили вместе с Содомом и Гоморрой из-за того, что в нем скрылся Лот, племянник праведника Авраама!
Согласились, хотя я не мог в глубине души простить Иратову Верушку, но в данный момент все казалось мелким и ничего не значащим.
Половину вечера просидели молча, ощущая огромный вселенский праздник в душе. Расходиться не хотелось, но блинная, скормившая нам более тысячи блинов и сделавшая тройной план, закрывалась.
– Все знают, что делать?
– Да, – ответил я.
– А я нет! – признался ангел Иванов.
– А ты, – наказал Антипатрос, – займешься этим, который произрос между ног Иратова и самоопределился, как Крым.
– Эженом зовут, – уточнил я. – Мерзкая гениталия!
– Займусь, – пообещал Иванов. – А способ?
– Ты же у нас пироман! Коли стирать не можешь, жги!
– Палатку дотла! – подтвердил захмелевший ангел. – Вместе с Тамаркой, Зинкиной сестрой!..
– Вот и сам думай, как его…
– А зачем в Прагу, пацаны?
– А ты что, не знаешь? – удивились мы.
– Нет, – сконфузился Иванов.
– Так Прага побратим Вечного города! – сообщил несведущему Антипатрос. – На застолье поедем, когда призовут!
– А-а-а…
Я съездил в истринскую ешиву, где нашел Иосифа проводящим урок для самых маленьких. Он так красиво и изящно рассказывал о смысле того или другого места книги, что дети слушали затаив дыхание, а ребе Ицхок, сидящий возле стены, почти плакал.
Иосиф увидел меня и, казалось, совсем не удивился, а когда урок закончился, подошел и поздоровался как со старым приятелем.
– Вы к ребе? – спросил.
– К тебе.
– Что-то случилось?
– Мы едем покупать тебе смокинг!
– Смокинг? – удивился молодой человек.
– В такси расскажу подробнее.
Иосиф посмотрел на ребе Ицхока, тот одобряюще кивнул, тем самым благословив Иосифа на оставление ешивы.
Когда машина вкатилась в туннель под МКАДом, старый, как Мафусаил, водитель вдруг сказал:
– Я вас помню…
– Меня? – удивился я, поймав взгляд шофера в зеркало заднего обзора. – Или молодого человека?
– Вас… Вы лет тридцать назад Светочку мою спасли от неминуемой гибели, – пояснил таксист, но, видя мое недоумение, напомнил: – Вы еще побитый весь были и дореформенной трешкой рассчитались… Светочка, дочка моя, с флюсом? Вспомнили?..
– Ах да! – я хлопнул себя по лбу. – Было такое дело. И как там Светочка?
– Трех внуков родила! Спасибо вам! И от супруги, Елены Петровны моей, с того света спасибо!
Иосиф смотрел на меня с удивлением, потому я пояснил:
– Смокинг для свадьбы!
– Для какой свадьбы? – еще больше удивился молодой человек.
– Для какой, для какой… Для твоей!
– Да я… – попытался что-то сказать Иосиф.
– Помолчи, свадьба уже в четверг.
Видимо, моя затея ему не нравилась, и он попросил остановить такси.
– Простите, но я хочу выйти! Шутки у вас странные…
– Самолет летит, из него не выйдешь! Мужчина без жены – как половина монеты! Не имеет цены.
– Я категорически настаиваю!
– Ладно-ладно! Не кипятись… Не хочешь жениться на Зойке, дело твое.
Иосиф тотчас переменился в лице. К бледной коже прилила кровь и яблочным румянцем выступила на щеках.
– Какой Зойке?
– Да не важно уже. – Я отвернулся в сторону, хотя внимательно следил за поплавком, который медленно, но верно погружался в воду, сообщая, что рыба на подходе. – Может, и рано тебе жениться…
– К-какой З-зойке? – заикался Иосиф.
– Да с Петровского бульвара… Из парикмахерской уборщица. Может, и верно – не пара она тебе!
– Согласен! – вдруг проорал молодой человек, да так громогласно и неожиданно, что шофер испугался и такси чуть было не въехало под большегруз. Я сам едва не наложил в штаны.
– Ну, согласен и согласен… Че народ пугать! Ты как, отец? Ох, мать твою, как напугал!..
– Выпорол бы!.. – ответил старый шофер, а потом неожиданно: – Жаль только, что правнуков не родят!
Иосиф улыбался во весь рот, ну прямо как идиот, отчаянно похожий на своего покойного папашу.
– А в‑вы к-кто? – продолжал заикаться.
– Я?.. Я что-то типа посаженого отца.
– А ее отец с-с-согласие дал?
– Зачем же без согласия смокинг покупать? Не резон! Антипатрос и денег выделил.
– Откуда вы его знаете, с-с-стрижетесь тоже?
– Ох, милок, кого я в жизни не знаю!.. Именно – стригусь! Старый клиент. И хватит заикаться!
Хозяин ЦУМа явился в примерочную неожиданно и приказал отпустить смокинг совершенно бесплатно. К нему приложил белую рубашку, черный галстук и лаковые ботинки.
– Почему так? – продолжал удивляться Иосиф. – За что?
– Богобоязненный человек!
– Он всем все дарит?
– Он что, дурак? Какой же это бизнес, ежели всем дарить…
Братья Лёнчики, владельцы ювелирных брендов, подарили обручальные кольца и проводили нас до самого выхода, роняя слезы умиления…
А потом мы отправились на квартиру Иосифа, где два дня готовились к самому важному дню его жизни.
Ангел Иванов стоял на Старом Арбате в костюме смерти, взяв в качестве реквизита настоящую косу. Где он ее раздобыл, одному богу известно. Может, в театре Вахтангова стырил?
Изредка Иванов поджигал струю спирта и выпускал огненный язык изо рта в пространство. Прохожие почти не обращали внимания на доморощенного факира-огнеметателя, шли себе по своим делам.
Выйдя из дому после ночи с осточертевшей Верочкой, Эжен вдруг понял, что сюда больше не вернется. Его пронзила мысль, что именно сегодня он должен заявить о себе, вознестись над толпой салютом надежды, а значит, воспарить над миром. Захваченный размышлениями о способе восхождения на пик торжества, он зашел со стороны Смоленского гастронома и пошел вниз по Старому Арбату к метро. Его мысли скакали от одного способа вознесения к другому, а потом наступила ясность, что именно здесь, на этой улице, все и произойдет, здесь то место, где многочисленные зеваки увидят его могущество и разнесут по всему свету благую весть о спасении человечества. Бледный от осознания величия момента, он остановился возле ювелирного магазина и, произнеся: «Со мною я!», взялся за ремень брюк. Дернув за кожаный язык, он хотел было отпустить штаны в свободное падение, как кто-то стал шептать ему в ухо непонятные слова, вливая в раковину некую жидкость, приносящую свежесть и тепло одновременно. Он оглянулся и увидел смерть. Была смерть маленького роста, прямо как в сказках – с косой, блестящей на солнце начищенным металлом. Эжен хотел было оттолкнуть шута, но тот вдруг показал руки с двумя камнями кремния.
– Пиздец тебе! – молвила бутафорская смерть и высекла из кремней разящую искру.
Эжен не вспыхнул факелом, как это может представиться, он слегка содрогнулся всем телом, ощущая подступающий ко всем внутренностям жар. Жар превратился в пекло, во внутренний огонь, неистовый, как в преисподней, фигура молодого человека задымилась, привлекая внимание туристов необычностью фокуса, затем на человеке распалась одежда, обнажив тело, охваченное пожаром изнутри. Последняя мысль Эжена была простой констатацией: не получилось! Его воспламенившаяся плоть вдруг увеличилась, словно кто-то резиновое изделие накачивал воздухом, через мгновение пылающее нечто стало походить на жарящуюся сардельку, из которой брызгал во все стороны сок, предназначенный миллиардам человеческих душ. Под гогот толпы фаллическая сарделька горела и плевалась еще долго, но в конце концов обвалилась горкой золы на мощеную улицу.
Ангел Иванов услышал аплодисменты, но, пробормотав, что это не он фокус показал, а какой-то настоящий волшебник устроил иллюзию, быстро ретировался в Староконюшенный переулок, где скрылся в неизвестном направлении, оставив косу возле водосточной трубы…
Свадьба проходила в «Крокус Сити Молле», где гуляли тысячи приглашенных. Откуда они взялись, кто оплатил торжество, ни Иосифу, ни Зойке известно не было. Молодых вывели на улицу, где дети ешивы вознесли над парой хупу и Иосиф, произнося: «Вот, ты посвящаешься мне в жены этим кольцом по закону Моше и Израиля…», подарил невесте кольцо. Когда он надел его ей на палец, в тот же самый миг с небес посыпался снег. Свидетели восторженно зааплодировали, дивясь чуду августовского снегопада. Затем ребе Коэн прочитал договор об обязательствах мужа и жены. Потом был и стул с вознесенным к небу женихом, многотысячные воинственные танцы мужчин, так что полы пришлось назавтра перестилать, а еще потом Иосиф любил Зойку в квартире своей матери Даши, что было правильно и по закону. Черное оттеняло белое, а взгляд ее голубых глаз был покорен и стыдлив… Она зачала в эту же ночь и к восходу дня чувствовала в себе счастливую ношу.
В это же утро проснувшаяся ни свет ни заря Верочка стояла против восходящего солнца, пронизывающего ее тонкую ночную сорочку мириадами теплых лучей. Она знала, чувствовала, что Эжен больше никогда не вернется, но почему-то не печалилась этому, а просто виновато улыбалась небу.
– Ах! – воскликнула она, почувствовав некое движение внизу живота, схватилась за самое нежное, что делает всякую женщину женщиной. – Ах! – еще раз вскричала Верочка изумленно, коротко подумав, что она, как Арсений Иратов, также стала бесполой. Из-под подола ее ночнушки вылетела невиданной красоты бабочка. Она облетела молодую женщину, прикасаясь к ее волосам, будто прощалась с нею, а затем, легко взмахнув бирюзовыми крыльями, вылетела в открытое окно и устремилась в небо. Верочка, Верушка!..
В сей же момент из-под платья Алиски, стоящей на белой деревенской дороге в ожидании милого Эжена, вдруг выпорхнула маленькая бабочка-капустница и, быстро-быстро замахав крылышками, стала возноситься к дивным кудрявым облакам.
– Ой! – вскрикнула Алиска, схватившись за живот. – Куда ты, бабочка?!
Лилька Золотова вкатилась на своем байке в утро и наслаждалась скоростью. Она даже не почувствовала, как из-под ее мужского ремня, стянувшего узкие джинсы, стараясь не поломать крылья, выползла большая бабочка махаон, но внезапно ощутила, что то место, которое соприкасалось с кожей мотоциклетного седла, вдруг стало бесчувственным, будто его подвергли анестезии. Бабочку тотчас сдуло струями встречного воздуха, и она взмыла в высоту бумажным змеем, сорвавшимся с привязи…
Миллиарды бабочек в этот миг взвились над миром. Они вкручивались и ввинчивались в воздух, поднимаясь на крыльях к солнцу. Мотыльки и махаоны, капустницы и медведки, белянки, тарпеи – эти хрупкие и нежные создания застили все небо. И стало в мире темно до черноты, как бывает только в предрассветный час.
Москва, 2016 годСноски
1
Брит мила – обряд обрезания у иудеев.
(обратно)2
Семь облаков славы – ангелы, охраняющие еврейский народ во время странствия по пустыне.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



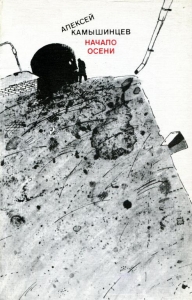
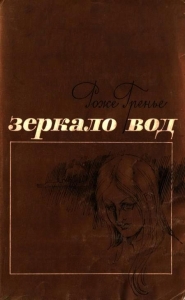
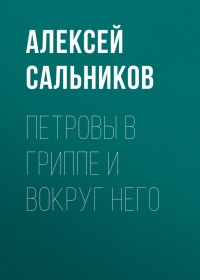





Комментарии к книге «О нем и о бабочках», Дмитрий Михайлович Липскеров
Всего 0 комментариев