АЛЕКСАНДР ЖУЛИН
ДУША УБИЙЦЫ•2
кусочно-непрерывное повествование
КОНТ
1992
ББК 84 Р7
Ж 87
Жулин А.
Ж87 Душа убийцы—2, кусочно-непрерывное повествование. М., МП «Конт», 1992.—288с.
Александр Жулин — писатель-романтик, оригинальный стилист, легко вплетающий в жестко-натуралистическую ткань повествования узоры фантастики, детектива, гротеска.
Сборник составили пятнадцать историй, связанных между собой не столько общими героями, сколько идеей, отражающей напряженные искания автором смысла бытия. Время действия — конец ХХ века. Место — город, Россия.
Ж
4702010201-001
91
без объявл.
ББК 84 Р7
ISВN 5-88068-001-0
© А. Жулин, 1992
© МП «Конт», оформление, 1992
Александр Жулин… Кто он? Откуда?
Где проживает? В Москве, в Париже, в Сан-Пауло?
Никто не ответит на этот вопрос!
Говорят, его книги пользуются успехом на Западе. Но там, говорят, он — Алекс Жюль. Говорят, говорят еще… Мало ли что еще говорят! Но он прислал рукопись почтой!
Мы ответили почтой.
И по почте же получили ответ.
Он все делает почтой! Может быть, он где-нибудь там и скрывается?
Но он — русский. Да, безусловно!
Просто так уж у нас повелось, что признание писателя идет через за… Запад.
И все же, чем он берет, этот автор?
Острый, детективный сюжет — и юмор, ирония, озорство — если хотите, французского толка. Беспощадный, чисто русский показ темных сторон человека — и фантастика, мистика, даже гротеск. Сцены драк и насилия — и сцены любви… такие особенности!
Тем не менее, если за всем этим не крылось кое-что поинтереснее, мы бы не стали так уж стараться, читатель, предлагая Вам эту книгу.
Купите ее — не пожалеете!
Украшенная сюжетными иллюстрациями художника В. Шелушкова, она станет отличным подарком другу Вашего сердца!
Мих. Перикрылов
От редакции
Напуганные всей этой таинственностью, приводим образец подписи автора:
Ведь я-то считаю: настоящий рассказ сродни любовному приключению!
Обвораживающее тайной начало… Стремительное, неумолимо влекущее действие… Бурное извержение страсти, мгновения сладостного небытия и… Полет в сферы иные, прикосновение к трансцендентальному! Александр Жулин. Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником…
ДУША УБИЙЦЫ — 1
Рассказ
Кличкой Барон этот человек был обязан Леониду Леонидовичу. Почему Барон — непонятно. Он был короткий и толстый. И лысый. Самое примечательное в его внешности — шея. Она плавно вырастала из круглых плеч и кончалась в макушке, обрамляя лицо. Детская игрушка матрешка — вот что при виде его приходило на ум, и, как матрешка, он выглядел вполне добродушно. Две складки жира под подбородком, губы, растянутые щеками как бы в новые складки, наивные глазки…
В общем, скорее добродушный болван, чем Барон, но с Леонид Леонидовичем не поспоришь. А и зачем спорить, если все равно я открыл этого человека и рассказ о нем пишу я, а не какой-то там Леонид Леонидович.
Случилось же так, что он подтолкнул меня сзади. Слегка. Возможно, от гoрячечного возбуждения.
Я оглянулся. Смотрю — стоит человек, что называется, дуб дубарем. Вернее, дубариком, потому что — напомню — выглядел очень уж безобидно.
— Что толкаешься?
— У-у! — сказал он вместо ответа.
Я проследил его взгляд: не может оторваться от пальто Леонид Леонидовича. Необычное, в общем, пальто, снаружи — сплошь беличьи шкурки. Сто или тысяча — миллион! — хвостиков, и все болтаются.
— Тыщу рубликов стоит!
— У-у?
Он не поверил. Я потом убедился: во всем и всегда не доверял он этому миру.
— Точно! Хочешь такое?
Я сказал это так просто: чтоб подразнить. Но вера с неверием соединялась в нем причудливым образом: не поверив в тыщу рублей, он поверил моему предложению.
— У-у-у! — сказал он, и меня словно встряхнули.
— Леонид Леонидович! — я закричал. — Вот он пойдет брать Пшеничникова!
Леонид Леонидович оглядел это чудо. И если мое предложение возникло случайно, то он глубокомысленно замолчал.
— Человек с высокой помехоустойчивостью, охарактеризовал наконец итог своих размышлений (на помехоустойчивость как вспомнилось, тестируют стрелков и штангистов). А затем: — Пойдешь брать Пшеничникова?
— У-у! — подтверждающе.
— Как тебя величать?
— Арнольдом!
И мы прыснули: такое редкое иноземное имя, и у такого дубарика!
— Будешь Бароном!
— Уж лучше — Бараном! — заметил кто-то из наших, не так уж и тихо. Но на лице его не отразилось ничто: прежнее добродушие, прежний помехоустойчивый, недоверчивый взгляд и — никаких обид на Барана.
— Стоит попробовать! — заключил Леонид Леонидович.
А у Пшеничникова было крушение жизни.
Его отлучили от большого хоккея, и чем теперь заниматься — было неясно. По этому поводу он зашел в бар и принял три раза по пятьдесят. Коньяк был, видимо, скверный. Пшеничников сморщил усы в кустик и их понюхал. Но и табачный запах усов не отбил память о дрянном коньячишке. Тогда Пшеничников взял мороженое в металлической вазочке, взял шампанское и задумался, устроившись в уголке.
И тут услыхал.
— Спокойно, парниша! — услыхал у правого уха. Тот, кому Леонид Леонидович дал прозвище Стива, держал пистолетиком палец.
Пшеничников скосил взгляд направо.
— Пук! — сказал смуглый Стива. — Выкладывай мани, Пшеничников!
Пшеничников улыбается: откуда мани, ребята? С меня сдернули мастера спорта, какие могут быть мани?
Усы у Пшеничникова щеточкой. Когда он улыбается, щетка растягивается, верхний ряд зубов — все золотые! — блестит весело.
Тут кто-то садится с ним рядом. Тесно садится.
Пшеничников искоса глянул: лицо толстое, взгляд добродушен, ни черта такого не страшно! Пшеничников был ненапуганным хоккеистом, оттого и зубов лишился, когда в рот залетела случайная шайба. В общем, повидал он немало.
Но сейчас ощутил твердую палку в боку.
— Чёй-то там у тебя? — поинтересовался спокойно. Толстяк смигнул бледными глазками, на дне которых крутились беличьи хвостики.
— Пушка! — подтвердил Стива. Стива был тощий и нервный, дело иметь с таким не хотелось. С другой стороны, Пшеничников мог его сщелкнуть мизинцем.
— Продырявит насквозь, делово! — сказал Стива. — А шуму не больше, чем от той же пробки шампанского.
Палка ткнула больнее. Пшеничников посмотрел: где там спрятана «пушка»? «Пушка» оттянула карман паршивенького пальтеца, которое облетало круглый живот.
Раздался хлопок. Пшеничников покрылся испариной. Шевельнулся, чтобы узнать, осталась ли жизнь.
— Будь здоров и не кашляй! — Стива поднял откупоренную бутылку Пшеничникова. — Долго копаешься! — вылил в фужер желтоватую жидкость. Вскипела белая пена. Стива поднял посуду, раззявил губастый рот, вытянул. Утерся, прикрикнул: — Живее!
— У! — поддакнул и Барон, заерзав в ожидании хвостиков.
Пшеничников был крепкий мужчина на гребне хоккейного возраста. И имел неслабые нервы. Подумал: а в самом ли деле здесь «пушка»? Обернулся к Барону:
— Если нажмешь, а вас после поймают, вышка — тебе, не ему! Если я сам отдам кошелек, получишь лет десять, не больше! Высунь пистоль, и я тогда…
Договорить не успел. Стива схватил тяжеленную бутыленцию — ноль восемь литра! — и огрел его сзади. Голова Пшеничникова упала на грудь, струйка крови просочилась сквозь губы.
Стива отбросил бутылку. Она покатилась, звеня, по проходу. Те два-три человека, что кейфовали в кафе, затихли, не веря глазам, в то время как Стива, ловко обшарив карманы Пшеничникова, уже утягивал Барона на улицу.
— Плохо, ребята, — сказал Леонид Леонидович, пересчитав выручку. — Во-первых, вы его оставили жить, что нами не предусмотрено. Во-вторых, у него еще кое-что было, чем свободно можно попользоваться.
— Не надо трепаться,— обиделся Стива, а Барон в это время смигнул. — Я обшарил его, словно голенького.
— У! — подтвердил и Барон.
— В-третьих, вы не действовали как свободные, хищные звери! — продолжал Леонид Леонидович. — Вы били сзади, исподтишка! Слюнтяи, пижоны вы, промокашки! — неожиданно смазал Стиву по физии. — И запомни, букашка, я никогда не треплюсь! — смазанул еще раз. Заруби на своем слюнявом носу: ко мне следует обращаться на «вы»! — и еще разок смазал.
Стива терпел. Леонид Леонидович, всегда такой сдержанный, разошелся — мы только диву давались. Голова Стивы от мощных пощечин моталась туда и сюда. Барон, видя такой оборот, крепко зажмурился, но не делал попытки сбежать. Однако Леонид Леонидович, дав Стиве предметный урок, новенького трогать не стал. Отошел, отвернулся.
— А-а-а! — зарычал, приходя в себя, Стива. И молнией прыгнул на шефа. — Мани забрали, и еще кочевряжиться?
В руке блеснуло лезвие финки. Стива был горяч, как кавказец. Барон шевельнулся.
Но чуть раньше, чем Стива выметнул руку, Леонид Леонидович ловко согнулся и ушел от удара. Стива брякнулся оземь со своей финкой, вытянутой вперед, как копье.
— Забыл, кто хозяин площадки? — Леонид Леонидович наступил на руку Стивы. Каблук был беспощаден, Стива взвыл, пальцы разжались. Барон снова зажмурился, и теперь не сделав попытки исчезнуть.
— Прощаю! — объявил Леонид Леонидович, будто забыв о Бароне. — Бить больше не буду! — Барон шумно вздохнул. А Леонид Леонидович, казалось, только сейчас заметив его, добавил задумчиво: — Сегодня не буду. Если возьмете его возле дома.
И через какое-то время добавил еще: — А вообще все эти дела надоели. Нужно что-то другое. Но что?
Я внутренне ахнул. Не в мой огород камень?
И еще понял, что он их распалял, Леонид Леонидович. Какие-то дохлые были они.
Пшеничников двигал по пустой темной улице. Время было — час ночи. Голова у Пшеничникова трещала после удара бутылкой.
Другой бы такого удара не выдержал, но Пшеничников — хоккейный мужчина! — был на ногах. Из всех видов лечения он — бывший хоккейный мужчина!— признавал только хорошую выпивку. Отчего же еще его отлучили от спорта? Он шел, раскинув длинные руки и балансируя ими, словно шел по канату. Это — если судить по рукам. А если судить по ногам — он шел как матрос. Расстояние, которое он старательно выдерживал в ширину — от ступни до ступни, — было не менее метра. Палуба вздымалась то справа, то слева, он упирался в нее, улавливая момент равновесия, и быстро переносил ногу вперед, чтобы поскорей на нее опереться. В ночной тишине ботинки его громко стучали. Мы смеялись — так смешно шел Пшеничников. А Леонид Леонидович не смеялся. Одинокая легковушка промчалась, обдав пьяницу грязью. А он как раз подошел к фонарю. В слабом электрическом свете лицо его, все в ручьях грязи, показалось невозможно смешным. Мы покатились от хохота. Подняв с трудом правую руку, он провел пятерней по лбу, скуле и усам.
Грязь размазалась, он стал похож на карнавального чертика. Мы уже не смеялись, мы ржали, сгибаясь от корчей. Все, кроме, ну конечно же, Леонид Леонидовича. Он сделал им знак, они вышли.
Они вышли из подворотни и встали. Ждали, когда он подойдет. А мы ждали, что будет.
И Пшеничников подошел. А куда ему, собственно, было деться? Растопырив длинные руки, будто щупая стены, он к ним подошел. Было темно, он был пьян, он их не узнал.
— Подходи, парниша, поближе! — не выдержал Стива. И, забыв о сигнале, сделал навстречу шаг. Этот Стива, такой жгучий брюнет с хищным профилем, он забыл о сигнале. Схватив руку, которой Пшеничников все шарил по воздуху, он резко дернул ее на себя.
И Пшеничников мгновенно исчез в подворотне.
Не скажу, чтобы он сдался без боя.
Начнем с того, что он устоял. Да-да, ему, так быстро влетевшему в подворотню, казалось, ничего не оставалось иного, как свалиться мешком. И тем не менее он устоял. Широко расставив длинные кривые клешни, он впился ими в земную твердь, точно врос, и ничто, похоже, не могло его сбить. Устояв, он спросил вежливо…
Нет, не так. Устояв, он покачался чуть-чуть, словно проверяя степень устойчивости. Сморщил усы в кустик, понюхал. И только тогда невозмутимо спросил:
— М-м-м, не скажете ли, джентльмены, который теперь час? — У него было веселое настроение: избавившись от кошелька, звания мастера и прочих замечательных атрибутов, он считал, что только весельем можно компенсировать крушение в жизни. — Не скажете ли, сколько времени?
Вот тогда Барон и ударил…
Я прямо-таки возликовал: растет на глазах человек! Но только что это был за удар для Пшеничникова!
Уже раз схлопотавший сегодня, Пшеничников перешел тут же в атаку и нанес такой апперкот, что Барон отлетел этак шагов на пятнадцать. Был еще Стива. Упершись своими клешнями в асфальт, Пшеничников заразмахивал длинными руками вправо и влево, закручивая тугое тело и распуская его.
И Стива не мог подступиться. Это выглядело как в клоунаде: длинный Пшеничников машет руками, а Стива, точно узкая, злая шавка, пытается подскочить, но не может, и то и дело отскакивает. А Пшеничников понял про драку, но не понял намерений напавших. И, пережигая обиду в энергию кулаков, забывал свое крушение в жизни.
— Жарь крепче, ребята, м-м-м! До-то-го, до-то-го, шай-бу! — улыбался, раскрыв свой золотой рот: лицо его не было жестким.
Но тут черненький Стива, попав под случайный удар, отлетел к мусорной тумбе. Стукнyвшись позвоночником о жестянку, здорово разозлился. И заодно вспомнил урок Леонид Леонидовича. И осатанел до предела. Вспыльчивый, резво вскочил. Заозирался по сторонам. Толстый Барон со своим бабьим лицом неторопливо шевелился возле Пшеничникова, больше делая вид, что дерется. Это, как говорится, переполнило чашу. Быстрый, как угорь Стива метнулся к Пшеничникову, пристроился сзади. Пшеничников же не дрался — катил по льду, размахивая, загребая руками, будто вел шайбу. Барон отступал, закрыв предплечьями валунообразную голову.
Тогда Стива выкрикнул:
— Эй!
Пшеничников обернулся. Задумчиво полуприкрыв глаза, он в самом деле ощущал себя будто на хоккейной площадке, будто в разгаре схватки с петухами-канадцами. И в этот момент Стива выметнул руку. Пшеничников тут же согнулся. Захрипел, зашатался. Хотел что-то сделать с ножом, но рухнул.
— Теперь тихо и быстренько! — бросил Стива Барону и, как кошка, подскочил к безвольному телу. Пшеничников лежал на боку. Носком ботинка Стива отвалил тело на спину. Хлынула кровь.
— М-да, — сказал Става и затупленным пыльным носком нажал на подбородок Пшеничникова. Золотой рот раскрылся. — Барон, где же ты?
Барон подвалил, опасливо глянул.
— Разыщи лом! — приказал Стива. Барон повернулся и неторопливо отправился в поиск. Стива сплюнул со злости.
— Высокая помехоустойчивость! — напомнил Леонид Леонидович.
Стива между тем пытался постучать по зубам рукояткой ножа.
— Дайте лом! — закричал Леонид Леонидович. — Куда подевался Барон? Где твоя пассия?
Пока я оправдывался, появился Барон. В руках у него был кусок чугунного рельса.
— Что за болван! — воскликнул Леонид Леонидович.
— А что? — невозмутимо поинтересовался Барон, — по весу, так в самый раз! Разве что держать неудобно, — и недоуменно всех оглядел. — Только я лично зубы не стану выламывать.
— Боишься запачкаться? — кто-то спросил.
— У! — коротко подтвердил.
— Эй, Барон, сколько там может быть золота? — спросил Стива совершенно другим тоном, словно только сейчас увидел Барона.
Барон помолчал, вычисляя. Мы не могли от него оторваться. Монументальная шея была неподвижна, губы слегка шевелились.
— Стойте! — закричал Леонид Леонидович, — замрите немедленно!
Замерли.
— Нет, не то, — говорил Леонид Леонидович, — вспыхнуло и умчалось, — и растирал быстрыми взмахами потный лоб. — Продолжайте, — как-то устало сказал, — импровизируйте!
— Ты где пропадал? — тонко выкрикнул Стива. — Чистеньким хочешь остаться?
— Там, — повел Барон толстой шеей. И тут случилось нежданное. Стива, нервный и злой, не выдержал. Бросив Пшеничникова, метнулся к Барону, схватил за грудки:
— Ах, сволочь, ах, падло!
Но что было такому тяжелому телу до жалких встрясок! Барон почти не качался, в то время как Стива изнемогал от усилий.
— Отставить! — закричал Леонид Леонидович. Что это за выдумки?
— Это не выдумки, — стихая, Стива ответил, — он в самом деле такой!
— Ложь! Все — ложь, все — вранье! — схватился за голову, запричитал Леонид Леонидович.
— Выдумки, ложь и вранье! — я подтвердил.
Но Леонид Леонидович отмахнулся. Сгреб ладонью лицо:
— Игры! Все — детские игры! А все потому, Медедев, стал наступать на меня, — что не пережили вы этого! Пишете конъюнктуру, а мы отдувайся!
— Это уж вовсе не так! — закричал я, разозлившись.
— Это ваши ребята не тянут! Играйте то, что в сценарии, там железно расписано: образ заблудшего хоккеиста, компания…
— Ах, не в этом, поймите, не в этом, Медедев, дело! Это все на поверхности. Глубже, глубже копайте! Покажи исступление, зверство…
— Не понимаю, чего вы хотите, — сказал Стива устало. — Зверство — зачем?
— Зачем выламывать зубы? — и я подхватил. — Все ведь так просто: нарушил режим, звездная мания…
— Оставьте, с вами все ясно! — Краска залила мне лицо. А он говорил уже им: — Содрогнуться зрителя надо заставить, пусть всколыхнется, пусть вздрогнет, очнется! Пусть и оглянется! Если б только понять, что творится в мрачной, нераскрытой душе! — и вдруг умолк, уставился на Барона: — Как людей отучить убивать? Ненавидеть как отучить?
Барон между тем жевал шоколад. Губы его были темны.
Что значит: «с вами все ясно»? — вдруг мне стукнуло в голову.
— Стойте, замрите! — воскликнул Леонид Леонидович. Что делать — мы замерли. Я, помню, подумал, что уж кто особенно должен бы быть недовольным, так это Пшеничников: холодно лежать на земле. Ах, Леонид Леонидович, Леонид Леонидович!
— У? — отвлекся от шоколада Барон.
— Поймите, — вяло взмахнул рукой режиссер, утвердить достоинство жизни, жизни веселой, искрящейся смехом, разодрать мрак блеском вспыхнувшей шутки — вот задача искусства! При чем тут звездная мания? Лепет какой-то!
Несмотря на то, что бил он в меня, взгляд по-прежнему нацелен был на Барона. В то же время и я был в прицеле — я это знал.
— У! — подтвердил тот и принялся за шоколад.
И вдруг Леонид Леонидович, этот одетый толсто и дорого, высокомернейший человек, проворно метнулся в толпу. Зеваки, окружившие съемочную площадку, подались назад. И он исчез. Мы растерянно затоптались. Легкий снежок кружился над нами, но, падая, таял, утолщая слой жидкого месива на асфальте. Стало вдруг зябко. Съемка не шла. Что ему «ясно»? — я думал зло. Какого рожна тогда принял сценарий?
— Замрите, не расходитесь! — командовала девчушка-помреж.
— Ловите, ловите! — послышался неожиданный голос. В толпе началась суета. Кто-то присел, кто-то рванулся, Барон ел шоколад.
Наконец этот «ясновидящий» Леонид Леонидович появился. В руках его волновалась белая грязная курица. С беличьих шкурок кое-где капало. Покрытый ими, как панцирем, шубовладелец держался будто он — Цезарь.
— Держи! — новоявленный Цезарь сунул курицу в ладони Барона. Тот потоптался, но принял. Из пальцев его по-прежнему торчал шоколад, ставший оплывшим, противным каким-то. Свободной рукой Барон заталкивал курицу в сгиб локтя.
— Брось шоколад! — свирепо крикнул Леонид Леонидович.
Барон недоуменно смигиул, но не бросил. С трудом наклонив могучую шею, быстро выхватил остатки шоколада губами.
Курица квохтнула.
— На! — протянул Леонид Леонидович тяжелый топор. — Отруби изменнице голову!
— У?
— Слушай приказ! — зарычал режиссер: — Равняйс-сь! С-смирна-а!
Барон подтянулся.
— Я — генерал! — отклячил свой подбородок Леонид Леонидович. Девчушка-помреж ловко нацепила ему золотые погоны. — Эта курица — подлый предатель, изменник! Изменнику — смерть!
— Предатель?
— У! — подхлестнул Леонид Леонидович.
Дальнейшее нас поразило. Хладнокровно и ловко, будто профессиональный куреубийца, Барон перевернул жертву на спину и плюхнул на ящик, заменяющий плаху. Хохлатка притихла. Палач оттянул пальцами клюв, поднял свoбодной рукой топор… Короткий тупой удар — приговор был исполнен.
— Отлично! — кричал Леонид Леонидович. — Снимайте эти глаза! Этот рот в шоколаде!
Барон тут же утерся. Уставился в камеру.
И тут Стива издал то ли вопль, то ли стон и схватился за голову.
— Что с тобой, Стива? — меня словно дернули за язык.
— Ах, не то! Игры! Все — детские игры!.. Не пережили мы этого!
— Вспыхнуло и умчалось? — я подхватил, короткими, быстрыми взмахами растирая свой лоб. Леонид Леонидович мимолетно взглянул. Отвернулся к Барону.
— Ложь! Все — ложь и вранье! Снами все ясно! — наяривал Стива.
— А что — не вранье? — спрашивал я. — Что нужно выкопать в душе куреубийцы?
— Разве что — мысль о яйце?
— Всмятку?
— В мешочке! — угрюмо и безнадежно возгласил Стива…
Это отчаяние… Эта покорность злосчастной судьбе!.. Я заржал, тогда и Стива заржал. Смех, как ветер в листве, пробежал по толпе. — Дайте еще шоколаду! — Леонид Леонидович будто не слышал. — Так, приготовиться! — пробежал вдоль площадки туда и обратно. Было видно, что он что-то обдумывает, но еще не решил. — Слу-ушайте! — вдруг зычно вскричал и опять пробежал вдоль площадки: туда и обратно. — Внимание: я — узурпатор, превысивший полномочия! Курица ни в чем не повинна. Кто-нибудь, эй, кто там? Кто будет судьей?
Нехорошее чувство мной овладело. Что это значит? Какая-то курица, палач, узурпатор… Разве это было в сценарии?
Я сказал:
— Я буду судьей!
Наверное, в моем голосе что-то было такое. Леонид Леонидович посмотрел на меня. Сомнение. Может быть, любопытство. Я сделал гримасу: не нравлюсь? Так не напрашиваюсь!
Он высоко поднял брови, как это делают, желая обозначить вопрос, но не тратя попустy слов.
Я пожал безразлично плечами.
Леонид Леонидовичи откинул назад голову. Он был много ниже меня и все же взглянул сверху вниз. Непроницаемое лицо. Смелый разлет темных бровей, крепко сжатые губы — он был чертовски красив в эту минуту, хотя и меньше ростом, чем я. Все сознавали, что он чертовски красив, и он сознавал это тоже. Стива — и тот чуть отодвинулся от меня.
Я сотворил кислую рожу: ла… Ладненько! Не хотите — так, значит, не буду!
Еле заметный кивок: он согласен!
Я: не… Не надо! Не так уж я и стремлюсь.
Он кивнул энергичней: Давай! Давай! Шевелись!
Очень спокойненько я отдал команду:
— Эй, стража! Возьмите его!
Скорчив зверские рожи, подбежали желающие отличиться статисты. Схватили, встряхнули, демонстрируя рвение.
— Вот узурпатор! — я строго сказал. Генерал, превысивший полномочия! Виновник пролития крови! Кровавый тиран!
— Сталинист! — Стива добавил. — Стукач!
Они все разинули рты. Я посмотрел на Барона: он был — точно! — баран! Я скомандовал:
— Смирно!
Барон бросил взгляд на Леонид Леонидовича. Тот поник головой: он был актер, он играл! Тогда Барон шевельнулся. Поза его еще не была позой, отвечающей «смирно», но и вольной назвать ее уже было нельзя.
Я взял рупор, наставил его на Барона и заорал:
— С-сми-ир-рна-а!
Возможно, я его оглушил. Возможно, голос мой, усиленный рупором, пробил-таки оболочку высокой помехоустойчивости. Но он выпрямился. Глаза его, немигающие, были направлены на меня.
Я закричал еще более мощно:
— Слушай команду! Смерть узурпатору! — и сорвал золотые погоны.
— Смерть узурпатору! — всколыхнулась толпа. — Смерть убийце ни в чем не повинной курицы!
— Привяжите его! — Привязали. — Соберите костер!
Пока бегали за реквизитом, Стива всем пояснял:
— Я знаю: они только дурачатся! Пусть подурачатся, только, Медедев, ради Бога, пусть не зажигают костер!
Под ноги Леонид Леонидовича быстренько набросали дрова.
И в этот момент наши взгляды столкнулись. Может быть, мне показалось, но все-таки — нет! — в них было смятение!
— Экспериментировать будем?
Он не ответил. Поник головой.
— Палач!— внушительным голосом я вызвал Барона. Тот вышел. — Слушай команду!
Я выдержал солидную паузу. Но Леонид Леонидович …
— Продолжать? — с отменной учтивостью я уточнил. И, чуть помедлив: — Или с нами все ясно?
— Валяй! — неожиданно откликнулся он.
Откровенно сказать, я немного струхнул. Тот самый страшок, который холодит спину террориста, наводящего прицел на приговоренного к смерти, пробежал по моему позвоночнику.
— Камера! — напомнил я оператору. И глянул на Леонид Леонидовича: он опять кивнул головой! Я понял, что мы покатились. Будто ввязались в какой-то спектакль и теперь нельзя уже не довести его до конца.
Я взял Барона за пуговицу на пальто. Что ж, Леонид Леонидович, в ваших силах еще прекратить. Только в ваших собственных силах! Да-да!
Я покрутил пуговицу взад и вперед.
— Палач, — расчетливо четко сказал, — где же нефтепродукт?
Ахнула девчушка-помреж (как все же зовут ее?) и умчалась. Я кинул Барону: беги, мол, за ней!
— Нет-нет, они только дурачатся! — Стива им пояснял. — Пусть подурачатся, только пусть, ради Бога, не зажигают костер!
— Дым от шкурок будет удушливым? — спросил кто-то из догадливых зрителей.
— Нет! — возразил Стива и выдержал паузу: — Не от шкурок от бот! Эти боты, простите, они же будут в о у н я т ь!
У Леонид Леонидовича ко всем прочим достоинствам были необыкновенные сапоги: высокие, желтые, до колен, на липучках. Боты — Стива это придумал прекрасно!
— Они завоуняют окрестность! — повторял находчивый Стива. И я тут отметил: Леонид Леонидович все помалкивал! Все спускал с рук! Что он там думает?
Топоча, возвращался Барон. Ведро было полным, он его нес осторожно, отведя от себя.
Помреж несла следом еще, и никто не догадался помочь.
— Сюда! — показал я Барону.
Он подошел, уставился на меня. Взгляд его был предан и пуст. Разодрать мрак блеском вспыхнувшей шутки? Скажу откровенно, Леонид Леонидович: личности более подавляющей я не встречал! Вам ли утверждать достоинство жизни, жизни веселой, искрящейся смехом? И на что вы рассчитываете в этот момент? Думаете, воли не хватит, крас-савчик?
— Палач! — я окликнул. — Готовс-сь!
Барон торопливо схватился за ручку ведра: весь в старте!
— Палач-ч! — страшно я завопил. — Вот генерал-узурпатор!.. Превысивший полномочия!.. Кровавый тиран!..
— Сталинист! — обронил Стива — Стукач!
Видите, содрогнуться должен наш зритель! А у автора — простой детектив! Между прочим, первый, пробитый через инстанции! Между прочим, собственным лбом! Там никаких душ убийц нет и в помине! Никаких таких куриц! Никаких таких генералов с эполетами прошлого века!.. Детектив, на который зритель повалит, а не черт знает что, рожденное буйством буйной фантазии!
— Лей же нефтепродукт! — закричал я палачу. — Да, Леонид Леонидович?
Сценарий не тянет? Куда ж раньше смотрели? А режиссер, между прочим, потянет?
Барон поднапрягся, но, словно штангист, не мог оторвать.
Так, Леонид Леонидович? Будем копать «душу убийцы»?
Разве он мог теперь отказаться?
А я?
— Давай! — рявкнул я. — Лей! Застрелю!
Барон поднял ведро, примерился и… Ну, он перегнул палку, доблестный! Кто ж ожидал? Он ливанул керосином на шубу, а затем, схватив опустевшее это ведро… Да, схватив это ведро, он опрокинул его на голову режи… генералу, простите!.. Да, узурпатору!
С беличьих хвостиков закапали маслянистые рваные струйки.
— Поджигать? — лихо вькрикнул деловитый палач.
— Поджигай! — не мог не откликнуться я. И следом: — Снимай!
Палач чиркнул спичкой. Пламя нехотя побежало по шубе.
Ударили в колокол. Массовка, воодушевляемая кипучей помрежем, кричала, что неправедно сжигать человека за какую-то курицу! Они все посходили с ума. Леонид Леонидович кричал из ведра:
— Милости! Прошу милости! — и тоже: — Снимайте! Снимайте!
Массовка визжала, свистела, била в тазы… Дураки!
Вдруг толпа ахнула, заревела: это палач в исступлении от подбадривающего шума толпы, от погребального колокольного звона, от стрекота камеры, объектив которой так и гулял от костра на него, ко мне и к массовке… он плеснул в костер еще добрую порцию керосина. И побежал за другой, хлопотливый.
— Снимайте! Всех! Вся! — утробно вопил Леонид Леонидович, как шлемом, накрытый ведром; но мне стало ясно: все — блеф! Как всегда — блеф! Все — игра, ни на йоту уважения к людям! Я ненавидел его.
Массовка изображала пляску чертей. Дураки, им невдомек, что он и вправду сожжет себя, но не уступит. И все же, и все же… Огонь поднимался к ведру. Бот вообще не было видно из чего они? Долго ли выдержат?.. Вот сейчас он должен сбросить проклятую шубу! Вот сейчас выскочит, кинется в своем шикарном костюмчике прочь, босиком, сдернет ведро с головы, закатается по грязному снегу…
— Идиоты! — заорал оглушительно кто-то и мощной струей из брандспойта сбил яркое пламя. Ведро зашипело, Леонид Леонидович, морщась, отбросил его… — Идиоты! — вопил Стива в горячке и в горячке шибанул струей по толпе. Мне тоже досталось порядком. Затем была тишина, в которой кто-то из них сказал шепотом что-то. Не исключено: тот же Стива. Я не ответил. К чему?
…Курицу надо изжарить, — сказал я Барону, опускавшему третье ведро возле меня — Сбегай за сковородкой!
Он стал мне послушен. Побежал, топоча подошвами по асфальту. Костер умирал. Дым стелился клубами над мокрой площадкой.
Я сел на ящик-плаху. Подошел со сковородкой Барон.
— На чем жарить-то? Куда ж вы смотрели? На керосине? Будет воунять!
Напряжение еще не отпустило меня.
— Заткнись! — я сказал. — На, возьми шоколад! — Он взял шоколад, сдернул обертку. Скомкал, швырнул ее в разоренное пепелище — этот ворох тряпья, когда-то бывшего беличьей шубкой.
— Так я и знал! — произнес торжествующе.
Он был мне неприятен. Но он был со мной, а мне было трудно.
— Что? — спросил я. — Что? Что «так и знал»?
На нас шла помреж Лицо ее было белее, чем мел. Водянистыми — как две медузы — глазами она смотрела на нас и не видела. Водянистый, суженный к кончику носа взгляд ее пропадал, не достигая меня. Этой ночью я был у нее, ощущение тела еще не забылось. Как зовут ее?
Я приподнялся и, взяв за руку, провел мимо Барона.
Она еле двигалась, рука ее была ледяной, но и мои ноги дрожали. Она не была за меня. Я опустился на плаху.
— Так я и знал! — послышался голос. Раздражающий, резкий, как всхлип. — Так и предчувствовал.
— Что? — я устало спросил.
— А то, что в кино — все обман!
— Почему?
— Потому! — ответил он гордо.
Я вгляделся в него: он был горд, как индюк. Толстая шея, литая валунообразная голова… Однако не может быть так все просто: внешность — суть человека! Не может!
В маленьких недоумевающих глазках чванилось торжество.
— О чем ты?
— О шубе! Где она, шуба-то? Ом-манщик!
— Обманщик, — признал я. — Что поделаешь, шуба — тю-тю! Искусство требует жертв.
Он промолчал.
— Не горюй! Леонид Леонидович даст тебе эту роль, вот увидишь!
— Леонид Леонидович? — переспросил он. — Какой Леонид Леонидович? Где?
Я внимательно посмотрел на него. Привычное выражение недоверия сменилось гримасой испуга. Испуг человека, привыкшего к зигзагам злодейки-судьбы, но вот только что все разгадавшего, и надо же? Оказывается, обманутого этой разгадкой лишь больше!
— Что? — спросил я. — Что? Ты решил, он — т о г о? Что?
— Я бегал за керосином…
— Ты решил, он сгорел?
— У? — сказал он.
— У! — поощрил его я. — Из-за спора со мной? Из упрямства?
— У! — Глаза его округлились. Я оглянулся: сзади меня объявился Пшеничников, постукивая от холода своими родными, не золотыми зубами. Рядом ежился обесшyбевший Леонид Леонидович.
Барон переводил взгляд с режиссера на белые зубы Пшеничникова и снова на Леонид Леонидовича. Повернувшись спиной, я издал куриное квохтанье. Барон заметался. Я забавлялся: ко-ко-ко! Ко-ко… Кудах-тах-тах-тах!
Барон рванулся в толпу.
— Каков этот Арнольд! — сказал я, бодрясь.
— Он еще смеется над ним! — быстро откликнулся Леонид Леонидович. — Написал дохлый сценарий и скалится!
Я устал, не хотел заводиться. И эта шуба… Но он пошел в наступление.
— Думайте-думайте-думайте!— яростно завопил.
— И не подумаю думать-думать и думать! — быстро и в тон отвечал я ему.
— Конъюнктурщик! — бросил обвинение он и вдруг умолк. Вдруг отвернулся!
— Не ложится в фильм эпизод, негромко парировал я. Но он не слушал меня!
— Нечего пихать все в одну ленту! — говорил я, раздражаясь. — Сохраните на будущее, если так уж понравилось!
Было ясно, что он все решил, решил без меня, что в голове его вертится какая-то мысль. Было ясно его мнение обо мне.
— И без того скоро лопнем! — кричал ему в спину. Он уходил. — Он, видите, шубу испортил, у него, видите, замыслы, а я ему думай-раздумывай! — кричал гадким голосом я. — Буржуйскую, между прочим, шубейку!
Леонид Леонидович уходил. Вслед за ним торопился Пшеничников. Слышались голоса.
— Гениальная сцена!.. Нет, верно: смерд бросает вызов природному господину! От рождения — господину! Вызов, но… жалкий, бездарный, от живота, нутряной…
— Хорошо говоришь! Говори!
— … от бессилия вызов, от низменной зависти! Бунт раба!.. Слу-ушайте, дайте ему эту роль!.. Нет, вы не видели, вы же не знаете… Дайте ему убийцу сыграть, нет, правда!
— Барону, что ль?
— Какому Барону, какому Барону! тому, как его?.. Пoстороннему!.. С высокой устойчивостью!.. Медедеву!
Что? Что? Что?
— Ну да! — крикнул я, пока они еще были вблизи. — Значит, вставь эпизод, чтоб ему возместили стоимость шубы?
— … Нет, вы послушайте: твердолобость такая!.. Дремучесть, упрямство!.. Я серьезно, я правду!..
Они уходили. Пшеничников и жалкая эта фигурка. Нет, он был намного, намного ниже меня, этот Леонид Леонидович!
— Вспыхнуло и умчалось! Все — игры, все детские игры! — кричал я им вслед. — Не пережили мы этого! — гадко я ржал.
— Ладно, кончай! — подошел Стива. — Ты что, Медедев, в самом деле с прискоком?
— Что-o-o-o-о-о?
— Завел он тебя, спору нет, классно. Двадцать лет болтаюсь в кино, но такого, такого… Но и сам он завелся! Артист!
— Повтори! Ну, повтори: что значит — с прискоком?
— Спору нет: сцена блестяща! Но а ты-то, а ты… Раскрыл он тебя, вывалил как на ладошку! Как и твоего этого, как бишь его?..
И это он — он! — мне говорил? Я хотел схватить его за грудки, но он вырвался и с места взял сразу в карьер. Я свистел ему вслед.
И я не стал догонять. Куда денется?
Падал снег, поддувал ветерок. Гениальная сцена? Сыграть? Что же, пусть платит — сыграю!.. Стоп, стоп, какая ладошка?.. Ну, с-су-ки! Раскрыл?
— Ну, с-суки! — кричал я им в спины. И взгляд скользнул в сторону и зацепился за камень… Н-нет, тяжел, не поднять!
Вдруг страшная правда, точно толстая, сладострастная девка, вплотную приблизилась, выставляя, дразня, жирные телеса и облизывая мокрые, красные губы. Пораженный догадкой, не веря, я беспомощно онемел. Не с прискоком я, нет!.. Не смерд я, не надо! Все вы такие, такие!.. Не надо!
Но она, уже опустившись на корточки, принялась торопливо и жадно сдергивать с меня один тайный покров за другим, приникая все жарче, все ближе, слюнявя…
— Погодите! — хотел я позвать их, исчезающих вдалеке, но только — слабеющий! — что был это за зов!.. И рука уже тянулась за камнем: бунт раба? твердолобость? дремучесть? убийца?
Ну что же!..
А снег падал и падал.
И таял мгновенно. Таял у меня на лице, разгоряченном от ненависти.
А как отнестись к словам Томаса Манна:
«Писатель? Тот, чья жизнь — символ. Я свято верую в то, что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорило человечество, и без этой веры я отказался бы от всякого творчества!»?
Рассказать о себе…
Александр Жулин
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседникам».
ОШИБОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Фантастическая история
Человек этот появился внезапно.
Черной бесшумной тенью выскользнул из-за куста и замер y Кошина на пyти.
Огромный, будто шалый медведь.
Еще секунду назад Кошин, мужчина тоже немалых размеров, мужчина спортивный и моложавый, шел себе в прекраснейшем наcтpоении. Тропинка вилась по склону обрыва, c высоты было видно серебристое море, нависающeе, как гора, и к дуге горизонта спускалось раскaленное солнце. Казалось, к нему и стремился бeлоснeжный теплоходик-ракета, далеко уже убежавший и выглядевший отсюда игрушечным.
И уже забывaлись недавние студенты-попутчики, и разудалый Генка с гитарой (ай да орел!), и сумрачный Виктор, тем озабоченный, что мало времени жить, что ничего не успеть из зaдyмaнногo (эвон-ка!), и белокурая Галка. Даже белокурая Галка уже забывалась, хотя ею даренная птичка тепло шевелилась за пазухой.
Все ж таки подарила щегла! Все ж таки подарила, несмотря на то, что Генка, подмигивая, объявлял: «Птицу подаришь — душу отдашь!»
Даже кипучая Галка становилась все более призрачной, хотя в ушах так и звенел ее взволнованный гoлосочек: мысль — как волна! Перекатывается от людей к людям, и для нее нет расстояний, нет времени, зачем вам номер моего телефона? Ведь если встретимся мысленно, то обязательно встретимся и наяву!
Забавная… И все же что-то есть в ней такое…
Сияющее море холмом, изумрудные кроны деревьев, золотистые отблески — в такие нарядные тихие вечера особенно веришь в удачу, и Кошин не шел — порхал, едва касаясь тропинки, как вдруг увидел этого странного человека.
И тут же, как в жуткой скaзкe, задул порывистый ветер, словно заслоняя огонь солнца, и заскрипели высокие сосны, a вода — не та, прекрасная и далёкая, a та, что темно шевелилась внизу под обрывом, показалась тяжелой и мрачной, будто настороженно ждущей чего-то. «Глобус крутится-вертится, словно шар голубой», — вспомнилась Генкина песня… И так не хотелось идти!
Идти по вьющейся на кругом склоне тропинке, узкой такой, что в сантиметрах каких-нибудь — пропасть, в то время как плечо c другой стороны нет-нет да и шаркнет по голому корню, вдруг высунувшемуся из отвесной стены.
Идти вперед, что означало — к нему! Но как не идти?
—Разойдемся? — спросил Кошин, улыбаясь приветливо.
Человек не ответил. Не взглянул, пряча глаза под густыми седыми бровями.
Лишь вблизи Кошин сумел оценить огромность этого человека. Не жир и не мясо — костяк его был огромен, и обросшая сивым волосом голова его была как бочонок, огромный даже для такого огромного человека.
Он не ответил. Он повернулся и пошел прочь, медленно стyпaя ногами, которые были — как y слона.
Что там накаченные гантелями бицепсы, что там каратистские мозоли на пальцах — здесь чувствовалась стихийная первобытная сила!
Но Кошин опаздывал, Кошина ждали.
А человек шел себе впереди, не оглядываясь. И вспомнились Галкины мысли-волны. (П-c-ст! — ответил он c небрежным изяществом умудренного, — от мыслей никаких волн не бывает, волны если бывают, только от чувств! и прикоснулся коленом к ней.) Мысли-волны, вот если бы! Уяснить этогo мешающего человека, что он делал в кустах, поджидал ли нацеленно, и o чем сейчас думает…
П-с-ст, да думает ли вообще такой кроманьонец?
— Эй!— крикнул Кошин, отчаянно хорохорясь, — далеко ли до центра?
Человек опять не ответил. А в чаще, над головой, словно удивленная невоспитанностью земляка, вскричала негодующе птица, И тут же откликнулся ей щегол. Из-за пазухи. От самого сердца.
От внезапности этой поддержки, от страстности птичьегo голоса Кошив очнулся. И досада исчезла, открылся шум леса. Пламенно трещали кузнечики, украдкой шепталась листва, нежно плеснула волна. А, полно, чего это я напугался? — пришла в голову очевидная мысль. «Я не знаю, где встретиться нам придется c тобой…» — запел вслух, но вдруг, yбаюкaнный мерной ходьбой, ткнyлся лицом в остановившегося человека.
— Давай чемодан! — полуобернувшись, человек протянул мощную длань.
Кошин опешил. Привыкший говорить свободно, легко, хотел возразить, завести разговор, но, кроме мычания, не сумел ничего из себя выдавить. Из-под ноги ссыпался песчаный ручей, шорох замер где-то внизу.
— Чемодан! — повторил человек. Рука его властно застыла, она казалась такой неподвижной, словно отлита была из чугуна.
Человек взял портфель и пошел, легко покачивая им на ходу.
Ударить ногой по портфелю, прыгнуть c обрыва, подхватить его на лету, исчeзнyть в кустах? Такой недешевый, дефицитный портфель, c секретным замочком, гордость-портфель… странная вялость овладела вдруг Кошиным. И пришла слабая мысль: э-э, да что за дела? Несомненно, этот туземец послан для встречи! Конечно, конечно! Так спокойно уверен, так хладнокровно идет — несомненно, он послан для встречи! Теплоход запоздал, люди ждут, до лекции «O тайнах и устройстве Вселенной» (вот ведь какое название выдумал Кошин!) времени все меньше и меньше, вот и послали! Совсем, совсем не похож этот дядя на хулигана, тем более — на бандита.
— Сымай пиджак! — сказал небандит. И наступила полная тишина. Как в бездонном колодце. Тропинкa незаметно спустилась к воде, от сырых темных кустов несло плесенью, и казалось, что здесь, в этой низине, остановилось движение, остановилась сама жизнь.
Слабый шум послышался сзади. Кошин быстро взглянул: сзади стоял еще один человек. Долговязый. Такой долговязый и тонкий, он бы казался совсем не опасным, если бы… Если бы не хищный нос, горбатый и острый, если бы не глаза, безразлично поблecкивающие из-под полуприкрытых век, если бы не беспощадная щелочка рта. Ястреб! Ястребиная голова увенчивала шею жирафа.
— Сымай! — повторил человек-ястреб как-то глухо и буднично. И положил голову на плечо.
«Сaмoe настоящее ограбление, — подумалось Кошину. — Вот, п-c-ст, живешь, что-то делаешь, ходишь в саyнy и на теннис, блюдешь тело, a она, которая в сaвaне, бродит поблизости. И тем не менее страха не было. Удивление, неверие в подлинность ситуации, вялость — все, кроме страха. «Глобус крутится-вертится, словно шар голубой, я не знаю, где встретиться нам придется…» Хороша себе встреча! Каких-то двадцать минyт отделяли Кошинa от уютного теплоходика, от развеселой компании, в которую вписался он так легко и естественно и в которой так легко и естественно захватил лидерство, двадцать, ну, от силы, тридцать минут! И вот какая-то дикая ситуация, какие-то бронтозавры кругом и действовать надо по каким-то темным бронтозаврьим законам. Лягнyть заднего по колену, увернуться от первого, броситься в воду?
Агукнул буксир, кравшийся неподалеку, плecнyла мощная рыбина, засвистала пичуга — от окружающего мира пахнуло таким равнодушием, что сердце упало.
— Сымай, — сказали сзади, я нечто жесткое уперлось в центр позвоночника. Это могло быть горло бутылки, но мог быть и ствол.
Когда отстегивал пугoвицy, дареный щегол неожиданно выпорхнул. Кошин инстинктивно шатнулся, ненароком отклонив жесткий упор — выстрела не последовало. Сейчас, сейчас именно, пока ствол в стороне, нужно действовать! Он присел, напружинившись, и… не смог.
Огромный человек глыбился, не шелохнувшись. Огромные ноги, широченная грудь, длинные руки — от него веяло таким страшным спокойствием, что Кошин обмяк. Да и когда дрался в последний раз? Когда поступал? Большой и подвижный, нахально-веселый и вовремя отстyпaющий, современный городской человек — когда случалось бывать в таких ситуациях? («Ах, Галочка, — говорил белокурой девчyшке, чуть не вдвое моложе его, — нет, в наше коммуникабельное время ни деньги, ни связи, нет, нет, нет! Все решает другое! Тайное оружие избранных — обаяние! Но что ecмь оно? П-c-ст, ответа не найдено! Обаяние оружие современного индивидуума!»
Обаяние… Но разве возможно воздействовать обаянием на бронтозавра?
…Человек вновь зашагал впереди, Кошин брел за ним в полуобморочном состоянии. И в голове вертелась круговерть совершенно посторонних мыслей и образов. Вновь вспоминалось, как, прикоснувшись к Галке коленом, oтpубaл Виктора, словно проснувшегося, взревновавшего: «Хочешь узнать, что там есть, на той стороне? B чернеющей бездне, куда вход открыт и обязателен каждому, но выхода нет?..» Мальчишка! Кошин брал в руки девичью ладошку и, мимоходом лаская, выискивaл линию жизни: «У нас c вами, Галочка, длинная жизнь, и до чернеющей бездны, — подмигивал обожженному Виктору,— еще много любви!»
Много любви… П-c-ст, стерва пaмять!
Вдруг вздрогнул: птичка вылетела! Если верить примете — улетела душа. Чья душа? Девицы? Или?.. Внезапно понял ужас своего положения. Увидел как бы co стороны, как его ведут неизвестно куда, один спереди, другой сзади — конвой! Что, Кошин, c тобой! Действовать, действовать! П-с-ст, прежде всего — разобраться. Что нужно им? Ограбить? Так уж ограбили! Убить? Но зачем? И за что? И вновь Кошин слегка ободрился.
— Ребята, — спросил, — вы не ошиблись? Я — Кошин из общества распространения знаний. Ценностей нет, на мозоли вам, кажется, не наступал!
Ни звука в ответ. Мерный шаг и молчание.
— Ребята, передохнуть дайте! Стер ногу в ботинке!
— Ботинки сымай! — резко остановился вожак, и Кошин опять ткнулся лицом в жесткую обширную спину.
— Сымай! — послышалось сзади, — и ботинки!
Ботинки? B памяти ворохнулись какие-то полузабытые ужасы, из книг o войне, O том, как, прежде чем отправить на небеса, случалось, снимали обувь c живых. Заранее, так сказать.
— Часы тоже, штaны! И рубаху!
Опускаясь к ботинкам, в который раз Кошин подумал: какой удобный момент! И даже подобрал локоть, чтобы упасть на бок и кувырнуться и броситься в воду, но… знал, что к действию не способен. И, от натуги краснея, рвал шнуровку ботинок, балансируя ногой на камнях, стаскивал брюки, ругая свою прошлую жизнь, в которой не было решительных ситуаций.
— Нет! — кричал Виктор, peвнyя Галину, — если жизнь коротка и ничего из задуманного не успеть, то тогда зачем это все? Неужели мысли мои, чувства мои пропaдyт безвозвратно? Или что-то все же останется? Какое-нибудь особое дpoжaние электронов?
Мысли его, чувства его, смех!
Вoт тогда Галка и высказалась по поводу мыслей, которые передаются, минуя общение. И где услыхала?
— Вздор это, — отрезал Кошин, прикидывая, взрослая она или еще не обученная, — от мыслей никаких волн не бывaeт!
Но этот обугленный Виктор:
— А вдруг в чернеющей бездне что-нибудь есть? Дрожание электронов?
— Нет! — закричал Кошин, вцепившись в ботинок — Не хочу! Ничего не успел!
— Идем, — бypкнул вожак. И опять Кошин готов был поклясться, что угрозы в его голосе не было!
— Там нет ничего! Пустота, гниение, тьма! А дети?
Семья, жена, дети, кoторые станут сиротами!
— Идем, — повторил ястреб за вожаком. И толкнул Кошина в спину. Но тот не мог сдвинуться с места.
Не мог сдвинуться c места. А что делать? Был кинофильм. Там подняли винтовки. Человек, приставленный к стенке, зарыдaл, зацарапал ногтями лицо, упал на колени, пополз, в слезах и крови, к палачам. Его поднимали, еще и еще, ставили к стенке, но человек всякий раз падал и извивался в грязи.
Его не убили. Палачам, которые не были профессионалами, стало противно. Ушли.
Это тоже был выход. Не Бог весть какой, но все-таки выход. Однако Кошин не мог и упасть. Казалось бы, проще всего подогнуть ноги, свалиться мешком и обмякнуть.
Не мог.
Безволие.
— Подсобить? — послышался, словно бы издалека, голос.
— Пожалуйста… Не могу, — лепетал. Язык — единственное, что еще повиновалось ему. — Не могу сделать и шагу.
Его подтолкнули. Безвольно обвил он руками могучую шею, безвольно распластался на круглой широкой спине, ощущая упор орудия в позвоночник, как поддержку.
Смачно зачавкала грязь под ногами огромного человека, вот послышался гулкий стук, словно бы пошли по деревянным мосткам, но Кошин по сторонам уже не смотрел, покорившись воле чужих людей.
Так вот как она действует, программа самоуничтожения в критических ситуациях! Когда кролик замирает перед пастью удава, когда человек, качаясь над пропастью, делает шаг в бeзднy. B бездну! Будто движимый любопытством, что там есть, на той стороне!.. Но стоп! Чьи это слова?
И тут Кошин подивился инерции жизни. Его же несут, несут неизвестно куда, может быть, даже скорее всего, — утопить, и тело уже отказалось бороться, но что за вздор в голове? Инерция мысли, резонансное дрожание электронов: Ха!.. И тут — порыв злого прохладного ветра, Кошин открыл глаза. Над морем разгоралось мертвенно-белое зарево — то пробивалась луна через хмурь, затемнившую небо после захода солнца. А они шли по мосткам и удалились от берега уже далеко. Мостки, возведенные на железных трубах-опорах, были узки, вода возле них казалась бездонной.
Тишину ночи прорезал рев реактивного самолета. Задрав голову, Кошин увидел снежную струйку.
— А ну-ка, постойте, — сказал и сделал попытку сползти. — Куда вы несете меня?
— Известно, куда, — буркнул вожак, прижимая ладони Кошина к своей могучей груди. Руки его были жестки, как коряги.
— Известно, — подтвердил человек-ястреб.
Кошин дернулся, лягнул ногой, сзади ойкнyли, отстранились. И вдруг руки-коряги разжались, Кошин начал ползти, соскальзывать, его перехватили, подняли, он снова дернулся и… очyтилcя в воде. Хлебнув обжигающе холодной соленой вoды, забарахтался, вытягивaя голову к воздуху. Огромная ладонь накрывала и зажимала его, словно тисками.
Кошин отчаянно билcя, но человек-ястреб, оказавшийся сзади опять, ловко поймал под водой и заломил ему за спину руку.
— Смотри!
Из-за боли в суставах Кошин затих. Ноги, тело, в паху свело холодом, но сердце стучало безумно, и выяснилось, что можно дышать. Выяснилось, что можно стоять: ледяная вода начиналась от подбородка.
Чего хотят от него? Тут показалось Кошину, что в голосе вожака произошло изменение.
— Куда? — откликнулся Кошин, спеша убедиться в предчувствии.
— Смотри!
— Вперед! — подсказал человек-ястреб. — Видишь полоску?
— Красную, что ли? — осторожно спросил Кошин, и внезапно c головы его спали тиски. Свобода? Готовый к очередной неожиданности, искоса глянул. Ноги ломило, сердце стучало, он задыхался, и тем не менее видел глаза. Глаза возле лица, глаза о ж и д а ю щ и е! Глаза мерцали из-под кустистых сивых бровей, и было в них нетерпение, ожидание и — невозможно поверить! — робость!
— Повтори! — глухо сказали сзади.
Кошин, дрожа, глянул в море. Далеко впереди, y самого горизонта виднелся лоскут. Парус — не парус, но только краснел лоскут, отчетливо видный при свете лупы.
— Красное, — обронил Кошин, замирая от веры в удачу.
— Скажи еще раз!
— Да красное, черт вас бери!
И не заметил и сам, как очутился наверху, на мостках. Стоял и дрожал на ветру, a вода текла ручьями c трусов и казалась горячей. От удачи ли, a может, от полного обалдения, но только почувствовал вдpyг уверенность, невероятнyю в его положении. Уловил дрожание электронов! — доcтaло уверенности даже пошутить про себя. Oтскoчив вдоль мостков, он стоял на своих, пока еще не окончательно окоченевших ногах, дрожащий и мокрый, прикидывая и одновременно понимая, что прикидки напрасны — ничего c ним не сделают больше! — и все же прикидывая, что, если броситься в воду, за ним не угонятся. Б-р-р, броситься! Однaко… в воде было теплее.
— Кого искупали? — спросил вожак равнодушно, развязно. Так говорят пaцaны перед дракой. — Лектора?
— Видать, лектoра, — подтвердил человек-ястреб. — Столичную штучку.
— Верните портфель, — набрался наглости Кошин.
— Физик, наверное? — спросил снова вожак. — Как думаешь, Тиша?
— Лирик! — возразил дерзко Кошин, наглея. (Если плыть быстро, можно даже, пожалуй, согреться.)
— Физик он, физик! — подыграл вожаку Тиша. — А может быть химик.
— Ну на! Возьми же! — не сходя c места, вожак пpoтянyл портфель. Он держал его совершенно горизонтaльной, вытянутой рукой. Рукой неподвижной, портфель висел на одном пальце. Но каков этот палец! Один этот палец можно было пожать и в темноте принять за ладонь.
— Возьми, химик, возьми! — Тиша сделал шаг к Кошину. Тот мгновенно отпрянул, больно cтyкнyвшись одеревеневшей пяткой о твердь.
— Что ж это он? Никак не берет?
— Видать, не берет!
— На же, возьми! — Из седой бороды выпoлзла красная, словно мокрое мясо, улыбка.
Кошнна захлестнуло необъяснимое бешенство. Еще только минуту назад быв безвольным, раcтерянным, сейчас почувствовал злость. Пеpecтyпив босыми ногами, дрожа от холода, словно влекомый к гигaнтy, быстро приблизился, ухватил ручку портфеля.
Напрасно он это сделал!
Рука его как попала в ловушку. Он рванyл было — куда там!
И снова глаза. Глаза ожидающие, нетерпеливые и — да-да, что-то в них было такое, да! — робкие!
— И не врите. — Глаза и сверлили, и в то же время гoтовы были исчезнуть, отпрянуть. Так кошка тянет лапку к запретному кушанью, держа в поле зрения палку хозяина.
— Договорились, врать я не буду! — откликнулся Кошин.
— Не врите про шарик. Про глобус.
— Про — словно шар голубой?
— Про шар голубой!
— Глобус кpyтитcя-вертится, словно шар голубой? — невероятно! Кошин готов был уже рассмеяться.
— И не знаем, где встретиться, нам придется c тобой? — Кошин рaзевaл рот, губы сводило от близкого приступа хохота.
— Вы угадали Генкину песню про шарик? И решили доказать, что угадали? Вы ловите мысли-волны? — Кошина раздирал хохот. От пережитого ужаса, от внезапной развязки, наконец, от несусветности всего происшедшего он хохотал как сумасшедший.
Что-то мешало выхохотаться до конца. Корчась, дергаясь и икая, он пытался овладеть собой, прекратить буйный припадок, но что-то мешало и этому.
— Руку отдайте, — просипел в промежутке.
— Мысли ловить пока не могу, — важно изрек косматый вожак. Но, руку «отдал». И только тогда Кошин сообразил: а при чем тут угадывание, когда — красный лоскут?
— Замерз я. Брюки верните, — сказал Кошин, дрожа.
Голова была легкой, пустой. Зубы лязгали.
— Трусишки сыми. Выжми.
Сзади накинули мохнатое полотенце. Теплое и шершавое. Не оборачиваясь, сбросил трусы. У губ внезапно возник cтaкaн: «Выпей!»
Кошин вытянул водку на едином дыхании, выдохнул: уф-ф! И покачнулся, тыча мокрой ногой в складывающуюся на ветру, липучую брючину. Его поддержали. Хорошо поддержали: крепко и вовремя. Кошин вгляделся: Тиша был мокрый, но не дрожал. И поддерживал бережно. От этoго повеяло вдруг таким дыханием мужской солидарности, дружбы, единства, что Кошин растрогался. И в желудке разгорался огонь.
— Жизнь этому отдана, понимать надо, — сказал мокрый Тиша, наливая по новой.
Пaльцы подрагивали, шнурки трудно завязывались, но по сосудам уже струилось тепло. Выдоxнyл вновь: уф-ф!
— Закуси!
Он полез в консервную бaнкy. Копнул пальцами в жидком масле, выудил мелкую безголовую шпротинку — надо же, где только достали?
Теперь стояли втроем, как друзья.
— Не обижайсь на купание, — пробасил великан. — Иначе тебя б не пронять. Не поверил бы, не стал вглядываться. Я и сам в первый раз ошалел, когда узрел красное. Мысль понял? Степанов! — протянул чудовищную свою, негнущуюcя ладонь.
— Kошин я, Кошин, из общества распространения знаний! — ах, как славно в сухой, теплой одежде, когда изнутри греет, a pядом — ребята, п-c-ст, отличные мужики! — Нет, все. Больше нельзя! Лекция!
А ты начхай, милый, — просипел Тиша. — Ну что ты скажешь им o Вселенной? Вот Степанов, он мог бы, да!
— П-c-ст, Степанов, чеши, излaгaй!
— Закуси!
— Закусил!
— Тогда слушай. Представь себе плот…
— Так представил! — радостно откликнулся Кошин.
— На плоту параллельно пластина. Спинка — красная, донце — желтое. Ты что видел, стоя по горло в воде?
— Красное! — paдoстно откликнулся Kошин.
— Правильно, красное. Спинку ты видел, согласен? Стало быть, пластина наклонена к тебе спинкой, за мыслью следишь?
Вблизи лицо Степанова было широкое, в оспинках. Сивaя пышная борода, a глаза — сочные, голубые, выглядывaющие из глубины. Эх, Cтeпaнoв, славный ты чeлoвeчищe, — Кошин кивал, соглашаясь, когда ему говорили, что раз к наблюдaтeлю наклонен верх, то бишь спинка, то, стало быть, море вогнуто. И Тиша горланил про вогнутость моря, и Koшин энергично кивал, соглашаясь, и чуть не упал от кивка, Ho тут наступил момент, когда Степанов сказал такое, к чему надо было особо прислушаться, потому что они оба вдруг смолкли. И Кошин сказал, улыбаясь:
— Повтори…
— Повтори! — сказал Кошин опять, потому что опять будто бы не расслышал.
— He только море, вся Земля вогнута, — молвил Стенанов. И началась катавасия. Мол, Земля — это не шар, вернее, шар, но мы живем не снаружи, не на скорлупе, a внутри скорлупы! И в центре — звездная сыпь, недостижимая из-за уплотненности времени, вещал седобородый Степанов, и Тиша важно кивал ястребиной головкой, и Кошин кивал, но спохватывался вы c ума? Галилей, Кеплер, спутники, конец двадцатого века! «Пyстое!» — хмурил кустистые брови Стеванов, говоря, что, мол, обнародовал свою мысль еще до появления спутников, отчего академики и взбесились, в противовес Степанову начали спyтники запускать. Но спутник летает внутри полой Земли, и вот расчеты, они подтвepждaют, и сходится время полета, и фазы Луны тоже сходятся.
— Где, где обнародовал? — сбивался огорошенный Кошин на частности. — Что значит был тут один? Ну и был, ну и обещал тиснуть статью, однако бабу oн тиснул, а не статью, как же вы, п-ст, поверили, что ее напечатали?.
— Земля вокруг нас, мы же внутри! — напомнил исходную тезу Стeпанoв. — А сложнее всего было постигнуть уплотнение времени!
— Ребяты, вы шутите! — говорил Кошин, постепенно очухиваясь. Черт их дери, только что стало так славно, такое образовалось стихийное завихреньице, и на тебе! Треплютcя не по делу, да еще вот-вот опять возьмут за грудки. — Ребяты, вы шутите! Ах, всерьез? Ах, ошибочные вы мужики!
— Ну, так я вас сейчас сокрушу, — упрямился Кошин, боролся в безнадежной попытке спасти завихрение, теплоту. — Так что ж, если выстрелить вверх, так аккурат попадeшь точно в Америку? Как, почему это ты и стрельни? Ax, скорость космическая, ах, уплотнение времени? Новая штука!
Глаза Степанова Кошина больше не любят. Глаза фанатично блестят. Кошин навидался таких горе-изобретателей. Один несет вечный двигатель, другой — умеет летать усилием воли.
— Временные пояса, понял мысль? — спорил Степанов. — Вдоль Земли — пояс первый, в нем время течет очень медленно, это у нас. Над Землей пояс следующий, там время медленнее. Выше — еще один пояс, и так дальше, до центра Вселенной, в которой время застыло!
— Центр вселенной — как муха в банке? — гадко ржал Кошин. И заводился. А Тихон махал перед лицом кулаком, и Кошин заводясь еще более, отстранял сухой жесткий кулак. — Ну ты, инквизитор! Мракобес, Торквемада!
Зачем гаркал? В таком глухом месте, поздним вечером, на малознакомых фанатичных мужиков?
А Степанов…
— В центре времени нет, и какая бы ни была скорость — движения не будет!
И почему так Кошин взъярился? Что со мной? — себя спрашивал. Не счесть чудиков, тронутых, дурачков! Промолчи, кивни, согласись — тебя ж не убудет! Но Кошин неистовствовал, губами дребезжал оскорбительно и в конце концов подверг сомнению красное, за что, разумеется, был наказан. И, в борьбе вновь заклеймив Тихона Торквемадой (а еще — ах, как хотелось заклеймить за компанию и Степанова, ну, скажем, Аквинским Фомой — не посмел!), полетел опять в холодную воду. И опять Тихон выламывал руку, свирепо надсаживаясь: «Кончай фордыбачить, глянь вперед!» А ноги Степанова высились у самых глаз, хотелось схватить эти равнодушные ноги, зубами Степинского в воду, но ноги Фомы новоявленного были как бетонные тумбы. И от этого разбирала еще большая злость.
— Значит теперь больше не видишь красное? — вопил Тихон, ломая руку сверх меры, и Кошин извивался, как мог, лягался, стоял насмерть за правое дело, за истину. — Отрешись от шаблона-то!.. Скорость взгляда — константная штука, время — разное на разных высотах, поэтому сверху, из космоса, Земля и кажется выпуклой!
Поглощенный борьбой, Кошин ответить не мог. Революция? Новый Эйнштейн? Черт-те что выкликал Тихон, а Степанов молчал. Философ, благословивший насилие. Апологет Торквемады.
— Убью, Фордыбака! — надсаживался Тихон.
— Имеет право не видеть, — бархатным басом проронил вдруг Степанов. И Торквемада немедленно сник. — Что-то мешает ему. От шаблона отрешиться не может!
Что значит — от шаблона отрешиться не может? Нет, нахальство какое! Скиф! Дикий вождь! Оракул, злодей!
— Не только ваша идея ошибочна, метод — и тот не нов! Метод называется: от обратного! Земля наизнанку — подумаешь фокус!
— Зависть? — молвил тихо Степанов. Тихон смотрел ему в рот. — Нет, не то. Шаблон, шаблон, почему?
Негодяи! Они обсуждают его, кандидата наук, словно точку на графике! Кошин мелко дрожал. Как пить дать —воспаление легких.
И тут Степапнов опустил к Кошину взгляд. Это был такой сочувственный взгляд, словно Кошин был убогий калека. Слова Степанова текли мимо ушей. Нет, наверное, мимо сердца — так будет точнее. Потому что, слышимые проходили.
— Ладно, можешь идти, — Степанов поднял указующую десницу.
И Кошин, дрожащий, но не от холода, и сникший, но не от переживаний, побрел пo деревянным мосткам, пружиняще вскидывающим его после каждого шага.
Красная спинка! В конце концов, это мoглo объясниться каким-либо преломлением света. Или неточностью oпыта. Или — просто гипноз. Впрочем, что есть гипноз? Tьфу дьявол, — думал Кошин, — опять мысли-волны! И в сердце застрял какой-то торчок. Что есть гипноз? Кроме красивого слова — никакой физики!
Тропинка темна. Ночь прохладна, небо призрачно-светлое. И все вверх, вверх, по крутому откосу. Под ногами путалась мелкая дурацкая птаха. Шуганул. Птаха взметнулось, но вскоре вернулась, мешая шагам. Ба, да это — Галкин щегол!
Взял на руки, дунул. Теплое тельце дрожало. Сунул за пазуху. И вдруг нащупал записочку. Вытащил, не читая, разорвал в клочья. Если встретимся мыслями…
И тут сделал шаг в сторону, нога поскользнулась, он замер. Стоял на краю обрыва, не смея поднять глаз. Можно и нужно, наверное, для безопасности взглянуть прямо и далеко. И, однако, нельзя. Нельзя потому, что — знал — в колдовской этой светлой ночи, перед ним расстилаясь, море катит свои гладкие волны, а на гребнях их танцует фантазия дикаря. Красная спинка пластины.
Да что это я? — внутри него все возмутилось. Один дремучий балбес обалдел, а меня так трясет! Отчего меня так трясет? — спрашивал себя снова и снова, стоя на краю бездны, чернеющей пропасти, покачиваясь и слушая, как громко цокают камушки, ссыпающиеся из-под ног, цокают громко вначале, а потом чуть потише, и реже, и еще более глухо, и вот — еле слышный хлопок o воду.
И безбоязненно наклонился, пытаясь увидеть, куда это сгинyли камушки. Упер руки в колени (a брюки мокры, a ладони скользят!) и c наслаждением ощутил глубину.
A разум сопротивлялся отчаянно. Все это глупость, прочь, иди прочь, нет ничего в чернеющей бездне, и после тебя ничего не останется, никaкогo такого особого дрожания электронов. И мысли твои, и чувства твои, пропадут безвозвратно — плевать! Плевать!
И вдруг из черноты, мрачно манившей своей непознаваемостью, будто проклюнулись белые крошечки. Головки маленьких смеющихся человечечков. Лысые колобки, безбровые круглые личики, серповидные беззубые рты раззявились, хохоча. Шаблонные колобки, миллионы шаблонов.
Мысли его, чувства его, п-с-cт!
Кошин омертвел от этого хохота. И, медленно отклоняясь назад прямым телом, отпрянул, не поднимая глаз на другую опасность помнил это, — красневшую вдалеке.
Оглушительный хохот, отравляющий свист, омерзительный визг.
Кошин на сцене.
Зал в темноте.
Сцена светла. Солнце на сцене.
Галка! И Генка, и Виктор! Пробились к Кошину за пять минyт до начала. A помните, лeктор, как было в прошлом году? Генка теребил за рукав, улыбаясь светлее, чем солнце.
А у Галки кольцо золотое. И Виктор таится чуть в стороне.
— Ну да, лектор, ну да, ваша работа! — Генка хохочет. — Только приехали, он ее в ЗАГС потащил!
— Что же вы не звонили? — это хитрющая Галка. Спрашивает, проверяя: искал ли? Забавная девочка.
— Мысли-волны, Галочка, разве не так? — Кошин тоже умеет xитpить. — Разве мы не встретились наяву? Значит, были же мысли! Или вас эта теория теперь не волнует?
— Не волнует. Виктор выходит вперед. — Вот другая теория. Теория полой Земли. «Тeхникy мoлодeжи» читали? Оказывается, еще древние греки, a еще раньше и в Индии задавались вопросом: не живем ли мы внyтpи полой сферы? Но самое интересное в том, что даже после войны эта теория имела последователей!
— Но вас-то что взволновало? — Кошин все еще улыбается. — Мало ли было ошибочных мнений?
— Да как вы стандартны! Отрешитесь-ка от шаблона! — Виктор взрывается. — Тут могут быть интересные предположения.
— Про уплотнение времени? — говорит Кошин и чувствует, как внyтpи него напрягается что-то. — C увеличением высоты время течет все медленней, медленней, и в центре Вселенной заcтыло.
— Нет, — говорит Галка, — об этом там не написано. Но если представить, нет, вы только представьте: мы всё видим зеркально…
Но Кошину некогда слушать, Кошин спешит…
Сделал шаг к залу и забылcя на миг. Холодом потянуло из темного зала. Белые круглые личики, расплывчатые колобки, одинаковые, все — как один, белый горох. Единые мысли, единые чувства, и от этого — никаких мыслей, никаких чувств!
Я?
Ни за что!
Но что такое Генка сказал? Какая фраза мешает? Мешает, мешает, саднит!
И, проговаривая в тыcячный раз привычную лекцию (джентльмен в поисках четвертного — так про себя называл эти лекции), складывая слова в привычной последовательности, вдруг запнулся. Вдруг отвел от микрофона лицо. Как же так? Откуда? Откуда изумительная эта Генкина фраза: «Отрешитесь-ка от шаблона!» Ведь не мог он встретиться co Степаповым, не мог услышать ee от него! Как и Степанов вряд ли читал про опыты с парусом, параллельным палубе уходящего судна, опыты Бредова, опубликованные в «Технике молодежи» только в этом году!
И все.
Ржаво скрипнула ось, щелкнул стопор, к цели присодинилось звено: Кошин замкнулся на старой и вечно новой идее. Передаются ли мысли, минуя общение?
Где ты, Степанов, ответь! Читал ли про теорию полой Земли, сам ли придумал, или все-таки… Все-таки передаются они?
И когда? Когда, в каком месте прервется цель заблуждения? Вспыхнет искра ослепительно нового знания?
Какое из звеньев окажется, наконец, безошибочным?
О героях?
Всякий глубокий писатель, проникающий внутрь, способен, нa мой взгляд, создать три полнокровных характера: свой, своей возлюбленной женщины (женское дополнение) и злейшего врага своего (дополнение антиподом)… Врагов, как и тем более женщин, может быть встречено множество, однако же все они — различные проявления одного и того же. А именно: того, в чем особенно остро нуждается автор!
Спорно?
Пусть так!
Зато красиво-то как: Троица, триединство индуистских Богов!.. Сам закон Бытия в этом спорном посыле!
Александр Жулин
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».
ДЕЛАЙ КЛОУНА… из меня
Рассказ
Не высовывайся из дома, ублюдок! — голос был быстрый — и хриплый, нахальный, — никак не советую! — и тут же
дудки.
Он посмотрел на свое отражение в зеркале: широченные плечи, шея, вросшая в них мощным, разлапистым пнем, крепкие славянские скулы, чуть вздернутый нос и, если опустить кончики губ, волевой, твердый рот, и, если сжать брови, сумрачный взгляд исподлобья, и тогда все лицо — цельнолитое, светло-чугунное… вот только… вот только золотой завиток у виска!
Послюнил, попридержал жесткой ладонью.
«Видaли таких!» — бросил трубку с размаху. Как припечатал.
А вечер был солнечный, тихий. На улицах города маячили люди, истомленные зноем. На лицах было написано многое, все, что угодно, кроме угроз.
Он соскочил с подоконника. Как случился этот звонок?
Муж?
— Ох, Бо, — говорила она. — Ты забываешь, что есть еще один человек!
— Плевать! Будет путаться под ногами — смету!
— Мокрое дело? — поинтересовалась она. — Была неслабая практика?
— Плевать!
— Ох, детка, — сказала она.
Он замолчал. Она это умела блестяще: уничтожать одним словом.
— Запомни, — проговорил, стараясь на нее не смотреть, — я давно уж не детка! Характер торчит из меня, как железная палка, это все говорят! Сказал: можешь забыть, значит…
— Но как? — перебила она. — Стрихнин? Цианистый калий?
Покачивая ногой, закинутой за ногу, на самых кончиках пальцев она удерживала его широкую шлепанцу. Шлепанца, как маятник, болталась туда и сюда. Он не мог отвести взгляд от ноги в черном ажурном чулке, от ступни с высоким, как арка, подъемом, столь крохотной в этой огромной стоптанной тапище.
Шлепанца шмякнулась на пол.
— Если кто-то мешает мне, я устраняю препятствие!
— Мышьяк внутрь эклера! — вскричала она. — У меня есть знакомая в стоматологической поликлинике!
Он смотрел на ступню, на проблески фиолетового лака через черный чулочный узор, он готов был броситься на колени, целовать эти оформленные ноготки; не желая сдаваться, он проворчал совсем по-ковбойски:
— Мужчина — охотник прежде всего! Я тебя отловил — и не намерен делиться!
— А вот еще — яд кураре. Достаем турпутевку на Кубу, оттуда плывем на матрацах к индейцам!.. Но постой!.. Яд, кажется, действует только при непосредственном введении в кровь. Может, незаметный укол?
— Удар кулака!
И тогда она предупредила его об опасности. Учти, человек этот непредсказуем, говорила она. Не вздумай с ним связываться, говорила она. Думаешь, он станет биться с тобой в одиночку?
— Ха! Значит, он — трус?
Нахмурившись, она думала о чем-то своем. Оранжевый солнечный диск, вкатившись в окно, окружил ее профиль медным сиянием. Он не любил, когда она уносилась в мыслях куда-то, где его не было. Куда, в общем-то, не допускали. Он дожидался волны бешенства, той сладкой волны, которая рождается вдруг из ничего и творит чудеса. В отношениях с ней до этого не доходило еще. И тем томительнее тянулись мгновенья.
— Нет, — печально сказала она, — пожалуй, не трус. Я, Бо, не хочу столкновения… Умоляю!
Она повернулась к нему. Солнце, вырвавшись из-за нее, плеснуло в глаза алым расплавом. Он отстранился. А вновь взглянув, увидел ее под каким-то другим, и з в и н я ю щ и м углом зрения. В конце концов, она чисто по-женски тревожится за него, это можно простить. Ярость медленно отпускала его.
— Пусть только не попадается под руку! — пробурчал напоследок.
И вот этот звонок. Звонок в решающий день. В решающие минуты! Откуда пронюхал? Что заготовил?
Солнечный вечер. Каменный дом. По квартире, что на шестом этаже, бродит парень девятнадцати лет: широченные плечи, шея, вросшая в них мощным, разлапистым пнем, и, если опустить кончики губ, волевой твердый рот, и, если сжать брови — сумрачный взгляд исподлобья.
Пробежался рукой по висящим на перекладине галстукам, отобрал самый яркий, морковного цвета. Примерил к голой груди и вновь сжал брови, впустил кончики губ. И… резко присел, уворачиваясь от воображенного нападения. И поднырнул под руку. И, распрямившись, нанес правой снизу, от пояса к подбородку, страшной силы удар — апперкот. И прыгнул на добивание: еще два удара, справа и слева, в живот, в челюсть. Х-р-рст!
Телефон.
Ах, ты так? Упал на спину, кувырнулся назад через голову, мигом вскочил, принял исходную каратистскую стойку под названием рама, тут же перешел в любимую заднюю стойку: передняя нога полусогнута, касается пола носком — будто изготовлена к шагу, а на руках будто ребенок — поза матери с грудничком. Из этой стойки плавно и быстро выходим в переднюю и… Нет, удара не будет!
Расслабленно повел тяжелую руку… опять затрезвонило. Положил на трубку ладонь. Трубка задрожала от ярости. Подумал: а стоит ли брать?
Успокоил дыхание.
Вновь неистово завизжало.
Снял трубку и помолчал.
— Что дышишь? — строго спросили.
Приготовился к прежнему голосу — быстрому, лающему. Приготовился сплеча рубануть, а тут — баритон. Строгий, спокойный.
— Вола не верти! У нас все отлажено.
«У нас»? Стало быть, не один. Стало быть, нанял.
— Пока, детка, баюшки-бай! И нам куда проще: не возиться по мокрому делу. — Выдержал паузу. И, неожиданно, грубо: — Понял? Ублюдок! Гаденыш! Щенок!
Трубка не сразу попала в гнездо. Холодок прошел по спине. Одно дело — ринг, самбистский ковер, другое — профессионалы, убийцы.
Вновь было присел, уворачиваясь, но пыл прошел. Прикрыл на мгновенье глаза и вдруг увидел себя в луже крови: волосы налипли на лоб, рот черен, раскрыт, и этот оранжевый галстук! Точно из горла ручей!
Выпрыгнул вверх, выстрелил правой ногой, сумел упасть на руки, замер. И вновь перед глазами поплыл серый асфальт, и тело уже унесли, и только мокрый след на асфальте. Красный ручей.
Вскочил, содрал, скомкал, зашвырнул дурацкую тряпку.
Взять себя а руки! Поесть! Непременно! Как можно больше поесть! Мяса! Обязательно мяса!
Мясо придаст силу и бешенство. Надо подвести себя к тому состоянию, когда ярость скопилась и только и ждет мельчайшего повода, чтобы излиться наружу. И тогда гневная кровь автоматически точно командует телом, и не знает пощады.
Повязал мамин фартук, бросил кусок скользкого масла, вывалил на сковородку четыре толстых, кровавых ломтя.
Зашипело, брызнуло. Жирная капля взвилась, обожгла.
Что ж, в конце концов для десантника — через каких-то пару недель! — для бойца, рвущегося в самую горячую точку планеты, все это так, пустяки! Проба пера! И чем больше их будет, тем лучше!
И опять телефон! Ясно: ведут наблюдение. Раз звонят — значит, знают: не вышел, все еще дома.
Мягко подскочил, свесился с подоконника: никого! Ни в той будке, ни в этой. Не такие уж дураки!
Телефон все трезвонил.
Пусть, пусть и у них будет неясность, хоть небольшая, но все же: почему не берет? Спускается вниз?
Однако… А если это — она? Если в этот самый момент она, его Ингрид, нуждается в помощи?
Подлец, идиот! Опрометью бросился в комнату, перемахнул через стул, обогнул поворот, в прыжке, на лету, поймал телефон, приземляясь, падая на спину, еще в воздухе услышал гудок.
Опоздал! Что же наделал? Это — она, безусловно она! Когда говорит, так медленно тянет слова. Голос — низкий, тягучий. Так и не научился дослушивать тягучие фразы: кидался целовать, и губы, шевелящиеся от еле слышимых слов, пьянили… «Темпевамент, нет, какой темпева-амент!» — медленно говорила она, улыбаясь… Слабея.
Ингрид. Виноградное имя!
Он поднимает галстук, примеривает. Смотрится в зеркало. Аккуратным движением набрасывает один конец на другой и… Что это? Новый звонок!
— Ды-а! — грубо выдохнул, чтобы, если это — они, показать, что силен и свиреп.
— Боря?
Уф-ф, мама!
— Я звонила, звонила, ты принимал душ?
Уф-ф, мама, мама!
— Ты дома?
Что за глупый вопрос! Неужели для этого надо было дозваниваться через тысячу верст? Уф-ф, эта мама!
— Не груби! Я что-то хотела сказать. Ты дома? Ах, об этом я спрашивала… Произошло что-нибудь?
Произошло что-нибудь? Ну, мать, ты даешь!
— Как ты ужасно смеешься, мой мальчик! Так нервно, ужасно! Раньше… Мне кажется, раньше ты не был таким!
Что значит: раньше? Да, именно, что это значит? Эти намеки! Она забывается, он не позволит!
— Я чувствую: что-то случилось…
— Если, мама, «что-то случилось», то это что-то случилось хватают за шиворот и вышибают хорошим пинком! И хватит об этом. Кончай!
— Ты стал другим… грубым. Становишься похож на отца!
На отца? Ах, он похож на отца? Она сбрендила! Он давно уж не маленький!.. Эта легенда… Никакого отца и в помине!.. Затащила какого-то на себя…
Ревет. Вечно ревет. Поучает и лезет, лезет в душу без мыла, врет, врет, врет!.. А после ревет! Сходящее поколение: верят и врут, верят вранью и пуще прежнего врут! Жалкие люди!
— Мать! Не реви! Я не позволю обидеть тебя! Только скажи, если кто… Что? Уж я-то не брошу!
Странные люди: все ведь так просто — сила права своей силой. Значит, побеждай и гордись! Сумела красавца использовать — ну и радуйся! Нос задирай! Хвастайся, что родила, воспитала!
— Боря, Боречка… Отпуск только еще начался, а я уже вся изболелась!.. Здесь жара, а у вас? Надеюсь, ничего не успел натворить? Что сказал? Не умеешь? Еще не умеешь? Ну, озорник, смотри у меня! Смотри, вот вернусь!.. Да, не забудь выключать газ, электричество и… И, послушай, Борис, но у тебя горит мясо!
…В самом деле горит! Запах, дым, чад!
Прикипело так, что отодрать невозможно.
И все же — поесть, первым делом поесть!
Он достает нож, вилку, тарелку. Бренчит полочка для сушки посуды. Он отдирает прикипевшую корочку. Скрипит ножом по тарелке: режет мясо на части.
Однако не успел прожевать — звонок.
— Бо? Милый, такой пассаж!
Заложил кусок за щеку.
— Доогая, у чем део?
Дорогая вот слово, с которым научился обращаться «на ты».
Спокойно, баском: да, дорогая? Нет, дорогая! С другими такими словами сложнее.
— Не знаешь, что означает слово пассаж? — говорит она медленно, низко.
— Подожди!
Хватает словарь. Перевалив кусок мяса к левой щеке, довольно:
— Куытая гаеея с тоугоыми помещениями!
Словарь валится, трубка скользит, он еле удерживает и то и другое. Слышит медленный, чуть хрипловатый смех:
— Ха-ха-ха… Ха!
Это она, только она так смеется! Три подряд выдоха и, после паузы, резко, оканчивающе: ха!
— Какой ты еще детка!
Так. Опять за свое. Опять это пошлое слово. Проплывают, брызжа словами, страницы, строки сверкают, режа глаза ядом нерусских заумных слов, словарь в руке прыгает, вертится… И черт с этим со всем! Обойдемся!
— Сегодня — седьмое! — говорит он сурово. — Ты не забыла?
Нет, она не забыла! Известное дело: она никогда первой не делает шага! Он мог сидеть в низком кресле, расставив углами длинные ноги, он мог потягивать безалкогольный напиток, протыкая соломкой убегающее тело мороженого — она будет по-прежнему танцевать в своем широком с огромными плечиками пиджаке и юбочке «юнисекс», она будет танцевать в зале кафе и одна и с кем попало, словно напрочь забыв, что он здесь, танцевать упоенно, едва поводя корпусом, пристукивая каблучками — до тех пор, пока он не поднимется, не коснется ее.
Но когда он клал ей ладони на бедра (он представлял: высокий и стройный мужчина с крепкими славянскими скулами и жестким голубым взглядом склоняется к замирающей женщине…) — ее начинало трясти. Он ощущал дрожь ее так скоро ставшего знакомым горячего тела, и знал: наступал его час! В любви она всегда будто боролась, не поддаваясь и словно призывая удвоить усилия, она была гибкой и сильной, неутомимой, и тогда у него кругом шла голова… И когда он ее все-таки перебарывал, она внезапно и утомленно, блаженно раскидывалась.
У него кругом шла голова и оттого, что какое-то время спустя он мог делать с ней — что хотел. Она была преданна, ненасмешлива и кротка в такие минуты, эта красивая, взрослая женщина. Но ему было трудно придумать, чего бы потребовать от нее. Он нес околесицу, внутренне готовясь к протесту, но никогда — в такие минуты! — не встречая его. Дело мужчины — отловить, оседлать и держать женщину в стойле! — он говорил и опасаясь отпора, и, вместе с тем, ожидая новых проявлений самозабвенной покорности. И действительно, все, что она себе позволяла, это шепнуть, лаская его культуристские прелести:
— Но он должен ее хорошо содержать! Точно?
— Эге! — подтвердил он солидно и внезапно задумался. Что-то вдруг резануло. — Знаешь-ка что? — предложил минуту спустя, — гони его прочь!
И тут впервые она промолчала.
— Женщина должна иметь одно стойло, и точка! — выкрикнул он, ощущая, как напряглось, закаменело бедро.
— Выбирай: или – или! — настаивал он.
Она закрыла глаза.
— Настоящий мужчина всегда в меру свиреп? — наконец спросила она.
С хрустом и рыканьем он потянулся. Эти вопросики… «Свиреп» — красивое, любимое, точное слово! Заговаривать зубы — у нее это, видно, в крови! И это еще более разбередило. Тогда-то и мелькнула первая мысль, та мысль, которая позже оформилась в совершенно законченный план, где было расписано и увязано все, начиная от подмены ее ненаглядных таблеток до времени отпуска мамы и армии…
— Сегодня — седьмое! — повторяет значительно.
— Совсем чуть-чуть до призыва! — подхватила она.
— Решилась?
— Ох… Ну что ты, Бо… Что? Нет, Бо, не раздумала… Мне, Бо, звонили.
Что? Он приходит в себя. Так вот он — «пассаж»! Кто? Угрожали?
— Угрозы? При чем это, Бо! Свекровь мне звонила, Бо, она хорошая женщина. Сказала она правду сказала — уйдешь, сын повесится! Или сделает что-нибудь и сядет в тюрьму. Кончится как человек. Мне, Бо, прости, мне его жаль…
— Так отправляйся к нему! — срывается он. — Иди и лижи! Я говорил тебе: выбирай? Выбрала? И привет!
— Бо, он ведь ничего мне не сделал плохого! даже напротив… Я ему многим обязана… Он останется один-одинешенек…
— Одному в его возрасте — дело предельное, — сказал он, не смягчая. И широко улыбаясь своему зеркальному двойнику. Это была спецулыбка, потребовавшая в свое время особой работы: зубы ровные, крупные, все — напоказ, полной горстью. Тогда как глаза тускло хмурятся, ускользают. — Некому утку подать? — говорит он, улыбаясь зубами.
— Именно, — сказала она. — И грелку под поясницу.
— Ну так и нянчись! — говорит он сухо, спокойно и ждет.
Она тоже молчит, но отчего-то становятся ясно, что — клюнуло. Леска натягивается.
— Бо! — выдыхает она. Теперь ее очередь искать нужное слово. — Боречка! — слышит он. Ну-ка, ну-ка, что скажешь? — Ты такой сильный, большой, — шепчет в трубку она, — как бабочка, я лечу в твой огонь. Каждый раз как в прорубь ныряю. Каждый раз говорю себе: не поеду! Но готовлюсь, готовлюсь… уверяя себя: не пойду!
— И все же — идешь? — осведомляется он, изучая улыбку зубов.
— Не могу отлепиться! Только и думаю, только и жду!
Понимаю, что люблю твое тело, только его, ты сейчас весь в своем теле, но когда-нибудь и ты вырастешь из него, а я… Ох, Бо, я боюсь! Я-то уж больше не вырасту, Бо!
— Метр с кепкой — и все?
— Ты, все ж таки, детка! — провоцируя, тянет она, но сейчас ему эти игры до лампочки — Ну, допустим, я перееду к тебе. Но ты уйдешь в армию!
— Я вернусь с книжкой ветерана войны! Я осыплю тебя сиреневым ворохом денег!
Смешной, нет, какой же смешной! Разве в этом проблема?
— Ты родишь сына! Семь сыновей!
Какой же наивный!.. «Вторая задача мужчины — расплодиться по миру, воспроизводя таких же железных мужчин!» Она тихо смеется, вспоминая напыщенные эти слова. Смех журчит, как холодный ручей.
— Обещала же ждать! — вопит он, выходя из себя от этого журчащего смеха.
Да, обещала. Чего только не обещаешь в т а к и е минуты! Смешной: две женщины в одной кухне! Хочет сохранить ее под крылышком матери!
— Так катись!
— Я боюсь принести вред тебе, Бо, — тянет она, испугавшись его грубого окрика. И, вздохнув: — Я ведь когда-то состарюсь, тебе будет трудно бросить меня…
—Вот уж не трудно!
Она растерялась. Несомненно, она растерялась! Несомненно, теперь уж она листает словарь. Словарь своих заумных готовеньких фраз. Он наслаждается, представляя, как теперь уже перед ее горячечным взглядом проплывают страницы, строчки нажитой мудрости. Пусть не старается! Там, в этих страницах, таких, как он, нет! И ничегошеньки она там не найдет!
Но что за чушь шелестит в трубке?
Ах, она не знает ЕГО! Ну да, разумеется, разумеется. Как же, ОН попрет на рожон! Ах, ах, как испугались! Слыхали про этого одинокого и коварного, трижды опасного из-за отнятой утки! Ах, ей жаль не ЕГО, а — милого Бо? Ах, ах, ОН может придумать такое, такое, что никому никогда?..
— Приезжай! — вдруг услышал.
Что? Сломалась? Ну нет, пусть повторят, пусть потверже повторит, ну-ка, еще! А еще?
— Боренька, действительно любишь?
Как не в жилу ему эти нежности! Но… надо что-то сказать. Заслужила. Старалась.
— Дорогая, — произносит ленивым баском. И ищет, ищет другие слова. — Я… — но что надо сказать? Чего говорят в таких случаях? — У тебя… У тебя мясо сгорело! — кричит он внезапно и радостно.
Она веселеет.
— Ну, правда, не мясо, но ты угадал: там все сгорело! — Какой все-таки славный! Какой замечательный мальчик! Как, как угадал? Ей отчего-то так хорошо оттого, что он угадал!
— Как, как ты угадал? — восклицает она не медленно и голосом вовсе не низким, а быстро-быстро и тонко, совсем как девчонка. И смеется освобожденно, легко, чуть привсхлипывая: — Ну, уж если ты угадал….
Так хочется броситься в авантюру! Вниз головой. Не раздумывая. Ей хорошо. Ей чудится в этом угадывании счастливое предзнаменование. Подумать только, что снова может быть так хорошо! Так хорошо, как… лет пятнадцать назад. Так, как — казалось — не может уже быть никогда!
— Все! — кричит он. — Заметано! Еду!
Лет пятнадцать назад Бо ходил в детский сад.
— Паспорт, любимый плюшевый мишка и два чемодана! Три автомобильных гудка — уговор сохраняется! — кричит он, довольный.
А она слышит только одно: сохраняется!
Говорят, она хорошо сохранилась.
Сохранить, схоронить, господи!
Он затягивал шнурок последней кроссовки, когда затрезвонило.
— Алло? — спросил очень спокойно.
— Слушай, ублюдок!..
Еще один голос. Где набрал столько подонков?
— … не быть мне шепелявым…
Что же, сразимся!
Он резко присел, увернувшись от удара «руки-копья», и поднырнул под руку с ножом. И выбросил пятку, целя в грудину. И снова присел, уклонившись от нападения сзади. И отпрыгнyл от камня, летящего с крыши…
Проклятый морковный галстук! Будто воочию увидел себя, распростертого на асфальте, и волосы налипли на лоб, и этот ручей из открытого горла!
Содрал, зашвырнул. И взял, и вложил в ладонь нечто. Примерил: ладно устроилось в кулаке! Отличная штука для того чтобы разнести черепушку!
И в который раз завизжал телефон.
Побежал по квартире. Выключил газ, электричество. Телефон все визжал, как истеричный ребенок-барчук.
Готовый на все, помчался по лестнице, одолевая пролеты в один-два прыжка, опираясь на руку, и с каждым прыжком ощущая прибывание силы, уверенности. Эх-х-х!
Когда выскочил из подъезда, какой-то небольшой, совсем плюгавенький человечишка прыгнул к нему и ударил сухоньким кулачком. Попал как раз в завиток у виска.
Инстинктивно придержав вооруженную руку, нанес удар правой. Удар был не сильный, с мгновенным учетом массы противника и так, чтобы встретить нападение сбоку. Но удар был выверен в самую челюсть. Головка откинулась, тело рухнуло, из уголка рта выползла струйка.
Отпрянул, рыскнул взглядом по сторонам: никого!
А человечишка лежал неподвижно. Неестественно неподвижно. Такой маленький человечишка с обезьяньим лицом.
Потрепал по щеке:
— Выспался, дорогуша?
Нет ответа.
Осторожно опустил в урну «улику умышленности». Глухо звякнул металл. И только тогда вдруг опомнился: что натворил? Так полудурок-преступник закуривает после убийства, теряя спичку-улику. Звено, определившее сыщику след!
Преступник?
Убийство?
Он вздрогнул. Случалось, посылал в нокаут противника — но никогда не задумывался о последствиях: у каждого проблемы свои!
Человечишка так странно безволен. И нет никого, кто бы мог подтвердить, что тот сам напоролся.
Первыми отзываются ноги. Ноги — сухие и быстрые, реактивные, не подводят! И вот теперь они приходят в движение: пританцовывают, семенят, каждая жилка играет, зовет: пора сматываться! Пока не поздно — беги!
Но что-то удерживает. Какие-то мысли, сомнения. А улица на диво безлюдна. Совсем недавно еще — наблюдал из окна! — бродили жаркие парочки, плелись усталые от зноя прохожие… сейчас, ближе к вечеру — никого!
Такой жуткий хруст позвонков.
Жил-был человек, любил дом и жену, и вот жену увели, и вот хрустнули позвонки.
Бежать! Надо бежать! Дом-башня стоит одиноко на окраине города, свидетелей нет, надо смазывать пятки!
Однако отчего-то склоняется к человечку.
— Так вот ты каков! — разочарованно тянет, — и это ты — муж Ингрид?
Безмолвный дом-башня изучал его слепящими окнами.
«Это — случайность, он сам, сам напоролся!» — хочется крикнуть в эти зеркальные окна. В каждом окне, за каждым стеклом притаился за кровавыми закатными отблесками человек!
— Я, пожалуй, пойду! Она ждет! — говорит. Неизвестно кому. Странное состояние: никак невозможна поверить, что это только что прыгавшее, пугавшее его существо глухо и немо, недвижимо.
— Я вызову «скорую», я пойду вызову «скорую»! — объясняет неизвестно кому. Но я не вернусь. Я не могу вернyться к тебе, потому что она меня ждет.
И тут показалось… Нет, точно! Какой-то ответ!
Все. Теперь тем более надо бежать. Но ответный звук повторяется. Где? Что? Откуда?
И приходит ответ, И он так восхитителен, что невозможно не выругаться.
— Ах, еж твою в маковку, значит, проснулся? — восклицает Борис, тормоша человечка. И подцепил за тонкую шею и приподнял. И вознес над собой.
Человечишка скособочился, смотрел в сторону и будто скулил.
— Что, миляга, живой? — говорил Борис радостно, оживая и сам. Забыв и страх, и вражду. — Что говоришь?
А человечишка мелко скулил, тело его начинало подрагивать.
Подрагивание становилось сильнее. Что это? Конвульсии, предсмертные судороги?
Борис покрепче охватил тщедушную грудь. Ну, не дрожи! Но тот дрожал так бесстыдно, с такой упругой ритмичностью, что прекратить эту дрожь означало, казалось, прекратить саму жизнь. Пришлось отпустить, опустить тельце на теплый асфальт.
— Ха-ха-ха! — вдруг послышалось в безобразном скулеже, -ха! — точка. Дрожь кончилась, повизгивание прекратилось.
— Да ты, я вижу, смеешься?
— Она его ждет, — сказал человечек. — Как же, дождется! Дождется, когда ты меня покалечил. Десять лет! Сядешь, как миленький, это я тебе как другу скажу. Десять лет — вот сколько придется ей ждать!
— Врешь, никаких десяти, сам первым напал!.. Но… Хоть бы и десять: она будет ждать!
— Десять лет! — заскулил человечек. Теперь стало ясно, что так он смеется. — Это ж сколько ей стукнет?
— Пошел! — От ярости, отвращения скулы свело.
Но тот сидел, привалившись к стене, и скулил.
— Прочь! За себя не ручаюсь!
— Ха-ха-ха! — визгливо тот выдохнул, — ха!
— По стенке размажу! Выдерну ноги! — но чем сильней горячился, тем, казалось, спокойнее чувствовал себя карманный этот мужчинка. Как вдруг примолк. Призадумался.
— Воли не хватит, — вдруг произнес. — дай-ка руку подняться! — и неожиданно ухватил за штанину.
От брезгливости невозможно было что-нибудь сделать. Нога стала как каменный столб. По столбу ползли чужие, цепкие пальцы. Вот схватили за плечи. Вот показалась макушка. Желтая плешь.
Стоя твердо на месте (все, на что был способен), Борис отвел лицо в сторону.
А тот цапнул ручонками за ворот рубахи.
— Ну, давай! Врежь! Размажь! Выдерни ноги! — брызжа слюной, зашептал.
— К чертовой матери! Сгинь!
А тот цеплялся грязными пальцами, хватался руками, ногами.
— Ну, убей! Задави! Растопчи! — жарко шептал. И внезапно боднул лбом в подбородок. — Бей в глаз! — завизжал. — Бей в глаз, ставь синяк! делай клоуна!.. Клоуна из меня.
Отмахнулся. Сбросил на серый асфальт. Пошел быстро прочь. Скорей! Не оглядываться!
И не выдержал. Оглянулся.
Человечишка безвольно пластался у дома. Возле него, откуда-то взявшись, уже хлопотала старушка.
— Пошла, девушка, прочь!
Погрозила согнутым пальчиком. Пришлось возвращаться.
— Да живой он, здоровый! Притворщик!.. — заорал, бабка вдруг отскочила. — Гороховый шут!
Человечишка развалился. Растекся, как блин.
— Идите себе, — буркнул маячившей ведьме и стал собирать легкое тельце в охапку. — Разберемся между собой!
— Да, я — шут! — Человечек открыл один глаз. — Я — страдалец. И что? А ты кто такой? Ишь объявился ловкач на горячее!
Старая стерва щурила веки. Под этим пристальным взглядом пришлось поднимать, взваливать на плечо. Уносить.
Покуда не скрылся в подъезде, все ощущал недоверчивый, настороженный взгляд.
В квартире сбросил у входа. Прошел в комнату. Вынес вазу, извлек цветы, отвел букет в сторону и … хлестнул по лицу. Не больно, примеривающе.
— Не надо! — Человечек открыл оба глаза, ясно взглянул. Ощущая неизъяснимое наслаждение, отхлестал по обеим щекам так, что кожа вспыхнула пунцовым румянцем.
— Ф-р-р! — сказал человечек, — это излишне. Ко лбу его прилип лепесток, алый, как рана.
— Что будем делать? Запереть тебя здесь?
— Выброшусь!
Почему-то поверилось. Подошел к окну, выглянул. Свесился вниз. Старуха торчала возле подъезда.
Внезапно ноги охватило цепким объятьем, они отделились от пола. Тело ползло по гладкому подоконнику, и не за что было схватиться. В какой-то момент все же сумел вывернуться, уперся ладонью в наличник. Лягнул и… Слава богу, попал!
— Ты с ума?
— А я бы не упирался, сказал тот, ловя воздух ртом. Удар пришелся в грудину. — Хочешь, проверим?
И вдруг шмыгнул к подоконнику.
— Идиот! — еле успел оттолкнуть.
— Что ж ты пугаешься? — Человечек сплюнул розоватой слюной. — Что ж ты все меня стукаешь?
— Не плюйся! Ковер!
Человечек глубоко втянул в себя воздух. Пожевал. Смачно отхаркнул.
— Меня стукать нельзя! Смотри! — и раздвинул мокрые пряди. Представляешь, если б попало сюда?
Желтая кожа проплешины пульсировала, крупно дыша.
— Там нет кости! — свистяще прошептал человечек..
Череп проломлен. Хочешь потрогать? — и подскочил ближе, нагнул мокрую голову.
К горлу подкатил тугой низкий ком. Стал набухать.
— Отвали! — выдавил из себя. И этот шут мгновенно послушался: отскочил, как упругий, сильно пущенный мяч.
— Не нравлюсь? — «страдалец» метнул искоса взгляд.
Такие взгляды были знакомы. Так перед гонгом прицельно-рассеянно поглядывают друг на друга боксеры.
— Не нра-авлюсь! — удовлетворенно протянул человечек. — А ты видал, как я улыбаюсь?.— и, раздвинув слюнявые губы, он обнажил мясистые десны. Зубы были редки, одиноко торчали они между красных от крови пустот.
Ком нарастал, затрудняя дыхание.
— А она ласкала меня! Представь себе, да! — выкрикнул этот гороховый шут и забегал по комнате. — Не веришь? — выкрикивал на ходу, — целовала! А как же! Вот в эту самую лысину!
Какая-то напасть. Невозможно извлечь из заткнутой глотки хоть какой-нибудь отрицающий звук. Ни пригрозить, ни поднять руку — пальцем шевельнуть невозможно!
— А ты сделал дяденьке больно! — пропищал тот новым, тоненьким голосом. И вдруг, как вкопанный, встал. Обернулся: — Целовала меня, а теперь, значит, тебя! — метнул расчетливый взгляд, И закрылся ладошкой, изображая душенную боль, И внезапно завыл.
Надо было изгнать ком из горла, надо было вытурить к чертовой бабушке этого бесноватого, который то кружился по комнате, развозя по ковру мокрые пятна, а то останавливался, когда этого никак нельзя было ждать. И, вглядываясь время от времени напряженно и ожидающе (что? чего ждал? какого сигнала?), вдруг снова кричал, кричал громко, назойливо, выкрикивал какие-то просьбы, угрозы, так, что нестерпимо хотелось щелкнуть каким-нибудь выключателем, а то вдруг переходил на страстный, пронзительный шепот, от которого щемило в ушах, а то снова выл.
Вой был хрипловатый, тягучий. Как гудок тепловоза, он тянулся, надсадно звуча на одной, все поглощающей ноте, исходил из одного, казалось, бесконечного выдоха.
— Пре-кра-ти-те! — наконец Борис сумел вымолвить.
Вой оборвался. Послушно, мгновенно.
Показалось, что решетку пальцев, закрывших лицо, просквозил быстрый взгляд.
— Темпев-вамент! Нет, какой темпева-амент! — протянул низким и женским, чуть насмешливым голосом. Это был настолько другой, настолько из другой жизни голос, что дрогнули веки.
— Какой пас-саж, дов-вогой! — тянул он голосом Ингрид. — Аккув-ватнее, детка! Не нвавлюсь? Ув-вод? — отвел пятерню от лица. Глаза почти весело, почти живо блестят. Округленные темные брови, красные губы в крови, торчащие уши — так вот он каков: опасный, несчастный, коварный и одинокий, отвратительный и побеждающий Обезьянчик!
Опустил голову, будто с целью демонстрации своих огромных ушей, приделанных к небольшому затылку, Обезьянчик произнес неожиданно будничным тоном, спокойно:
— Допустим, урод. И что из того?
И заходил по ковру взад-вперед, взад-вперед, поворот — и снова назад. И заталдычил — убеждающе, мерно, будто учитель, вдалбливающий известные истины в тугую башку тугодума:
— Американцы открыли, что ребенок похож не только на отца, на отца не только похож, усекаешь? Считают: похож на всех тех, с кем женщина какое-то время жила, жила какое-то время, усек? И больше всего, естественно, на того, с кем это делалось чаще. С кем чаще — постиг? И что из этого следует?
Переход к новому тону, лекторски-ровному, назидательному, мешал вслушаться, вдуматься. Словно после жестокой схватки, выжатый, иссушенный, Борис тупо следил за хождениями вертлявого человечка с большими ушами на круглой головке, с розоватыми корками на толстых губах.
— … и прикинь! — донеслось, словно бы издали, — родится такой, сам понимаешь, далеко не красавец, сам понимаешь, похожий… Ну да, на кого он будет похож? Вот, взгляни! — и полез в нагрудный кармашек. Ткань была мокрой, карман узковат, фотокарточка застревала.
Борис уныло смотрел, и ладонь его протянулась будто сама по себе. Будто оглушили его: оцепенело стоял, мертво ждал, как ждут подаяния, наблюдал, как цепкие пальцы вытягивали из кармана эту застревавшую карточку, и ощущал странную жадность на то, чтобы смотреть, слушать, узнавать еще и еще.
— Во, каким он родится! Подходит такой?
На ладонь легла фотография. Ушастый и хилый пацанчик с овальным обезьяньим лицом над стебельком худенькой шеи — таких не терпел. Таких в детстве нещадно лупил. Отлавливал в подворотне и бил, тискал и в мягкий живот — кулаком, кулаком!..
— Хочешь сына такого?
И только в этот момент словно бы что-то сдвинулось в голове, словно отвалилась плита, сдавившая мозг. Сглотнув то, что оставалось от кома, незаметно истаявшего, прочищая, словно пробуя, горло, хрипло вымолвил:
— Какого такого? Что за чушь… Сын… Врете, похож на меня! На меня будет похож!
— Ого, сын? Ты сказал: сын? — этот тип помолчал. Сунув руки в карманы брюк, начал покачиваться: с каблуков на носки, с каблуков на носки. — А ежели дочь? — возразил.
Она ждет ребенка? Так я и знал!
— Сын! — ответно Борис. — На меня! — и стряхнул фотографию.
Карточка планировала на ковер. Обезьянчик откачнулся назад: руки в карманах, лицо задрано вверх, густые темные брови шевелятся. Тут вдруг случилась новая странность: напомнил кого-то!
Но кого же, кого?
— Врешь! — сказал Обезьянчик свежим, отработанным баритоном. Полководческим жестом указал на летящую фотографию: — Будет вылитый я! Поздравляю, папаша! Клянусь: вылитый я!
Это была несусветная глупость, но эта глупость проникла в мозги и заполнила все. В голове зазвенело от боли. Сын! На кого? На него? Чушь! А если не?..
Схватившись ладонями за виски, замычал протестующе. А в это время новая подлая мысль точила ходы, и прорезалась, и заставила выпалить то, а чем выпаливать было нельзя.
— Вы… ты… Вы… знаете все?
— Именно так! — победоносный ответ. — Именно все!
Ах, нельзя было выспрашивать! Нельзя было ничего узнавать у него, все это можно и нужно было сделать потом, проверить и выяснить у нее, его будто кто-то тянул за язык:
— Она вам говорила?
— О ребенке, которого ты ей заделал? Малыш, мы ведь все, все с ней обсуждаем! Мы ведь муж и жена, одна, говорят, сатана! Думаешь, жил только с ней? И со мной тоже жил! Через нее — но со мной! Ей хорошо — мне хорошо! Я знаю все, даже, может быть, то, что еще не знает она! Операция?
— Никаких операций!
— Конечно! У нас нет детей, так ведь поэтому мы избрали тебя! Сам подумай: напрасно мы столько лет, а? Семья без детей, ну, скажи, не уродство? Никаких операций! Думаешь, это ты все спланировал? Ошибаешься, милочка! Я! Я — вот кто творец всей истории!
— Вы врете! Нет, это не может так быть. Врете вы все! Я все, все рассчитал: и ее сроки, и время призыва, и мамин отпуск. Я подменил эти таблетки… Вот Ингрид приедет… вот сюда… вот запру, чтоб она не посмела…
— Дурашка! Не бойся: никаких операций! Обещаю тебе: все сам прослежу, пусть остается как есть. Не отправлять же под нож ее, донор ты мой дорогой! Обещаю: дочь! Будет дочь! Вылитая, вся в меня!
И в этот момент в памяти всплыла вдруг фигура. Седоватый сухой человек в весе пера. Перед ним — Володька Громила. Раззявив в ухмылке пасть, Громила ткнул кулаком — пустота. Замахнулся другим — и опять в никуда. И внезапно согнулся, обхватив руками живот, и тут же взмыл в воздух, распрямляясь в полете, и шмякнулся оземь. И — голос, спокойный, негромкий: «Вот так, парни, действует алкоголь! Ни пить, ни курить! Тренировки, режим и — обещаю: станете мастерами! Мастера — обещаю!»
Первый тренер, первый урок. Руки в карманах, откачнулся назад, взгляд из-под седоватого бобрика, взгляд острый, победный, и голос: «Мастера, обещаю!»
— Что вы хотите?
— Я? Ничего! А ты еще чего-нибудь, а?
Покоряющая сила самого первого, полузабытого тренерa. Но… пронеслось и исчезло. А тренер… а этот Володька… а этот… да, муж этот, он все стоит, он совсем рядом, он дышит. Биение сердца. Хорошее, ровное сердце, оно стучит в каких-нибудь сантиметрах. А тренер… а этот… что он задумал? Ударить? Так бей! Ни отступить, ни закрыться нельзя, только один верный способ, способ единственный: ждать! Выстоять! Ощущая в области живота чужие толчки, жимом мышц защитить внутренности от удара, выстоять, ждать!
На спине выступил пот. И вдруг — вкрадчивый шепот:
— Чудак! — завораживающий шепот, шепот шамана: — Что же, что любишь! Верю, что и она тебя лю! Да, лю! Как и меня она лю, как и тебя, как и я, как и ты… Ну так и что? Давай любить ее вместе! Обещаю: буду беречь!
Обещаю!
Магия полузабытого слова будто встряхнула. Мелькнула внезапная, невероятная мысль. Мысль удивительная, мысль, которая потом запомнилась на многие годы. Мысль, открывшая новые методы. Потому что когда Володька Громила, мстя за бездействие, попер на друзей, Толик-Рваный Сандаль, что же он сделал?
Обезьянчик стоял и дышал, и стучал своим ровным сердцем, и плешь приблизилась к подбородку, и вспомнился Толик-Сандаль, и пришло в голову: а что, если подуть на эту желтую плешь? Мысль была замечательной. Он приготовился к исполнению, он вытянул губы, чтобы эдак осторожно подуть, чтобы потом разразиться очищающим ржанием, чтобы разом ото всей этой пакости напрочь избавиться, как…
Как вдруг этот мерзопакостный Обезьянчик, он вдруг приподнялся на цыпочки и быстро ткнулся губами, своими мокрыми большими губами… он ткнулся в раскрытый трубочкой рот.
— Будем любить ее вместе, братишка! — шепнул. И подмигнул: — А за дочку спасибо!
От охватившего чувства гадливости все помутилось.
— Исчезни! — едва просипел. И это не был приказ — была жалкая просьба.
Когда услыхал, как хлопнула дверь, сел прямо на пол, раскачиваясь из стороны в сторону. Что-то сползло на колени — дурацкая тряпка! Оранжевый галстук.
Долго тер губы оранжевым лоскутом, хлестал по лицу горячими струями душа, и плевался, плевался…
— Бо? — это она.
Но какая чужая, какая далекая.
— Почему ты хрипишь? С кем? Ты подрался?
А голос медленный, низкий.
— Я рассказывала? Что с тобой? Мужу? Кто это попомнит?
И вдруг тонкий вскрик:
— Что ты с ним сделал? — закричала она. — Что ты с ним сделал, животное?
…Чужая! Чужая жена!
Аккуратнее с чтением! Мысль — это поле в физическом смысле, это — волна. Мысль недобрая, мысль дурная может стать худшим загрязнителем мира!
Не читаю я некоторых!
Избегаю внести это зло в мир страстей человечьих.
Александр Жулин.
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».
ГРУСТНЫЙ РАССКАЗ
Песня о встрече
Говорили, что в молодости «наша девочка» была ничего, а в том, что теперь резка на язык, виновата не только высокая должность — и посматривали на Виктора Алексеевича особенным: быстрым, но тут же гаснувшим взглядом.
Однако сегодня ему донесли, как она назвала его («Этот пивгвин!» — говорят, брякнула когда прочитала злополучную справку), и он твердо решил, что надо кончать.
Она вошла в комнату. Губы ее, обычно надменные, твердые, сейчас расползались, у переносья блестели капельки пота, а в пальцах дрожал лист бумаги.
— Виктор Алексеевич, но он завернет вашу справку! — в ее голосе послышалось нечто подобное всхлипу.
Может быть, этот неожиданный всхлип и придал смелости: не принимая бумагу, он вылез из-за стола и, обогнув начальницу — так, не глядя, обходят автобус, замерший на переходе, — взялся за ручку двери.
— Виктор Алексеевич!
Комнату заполнял гул: поезда наезжали стремительно, неумолимо, к обеду от их звериного воя в голове все мешалось. (Но еще злее, неумолимей бывали разносы директора.)
Виктор Алексеевич помедлил: поезд издал пронзительный запрещенный в городе свист; Виктор Алексеевич вздрогнул и быстро вышел.
Лица пораженных сотрудников опустились.
На улице сияло беспечное солнце. Он шел мимо чахлого сквера, мимо похожих друг на друга, как вагон на вагон, блочных домов, шел улицей, задохнувшейся от жара асфальта, увидел траву вдоль спуска к железнодорожному полотну и не смог удержаться — свернул.
Земля мягко приняла каблуки, склон был заманчиво крут, Виктор Алексеевич не сошел, а сбежал — легко, счастливо и споткнулся только внизу, у самого рельса. И обернулся, чтобы рассмотреть коварный бугор, но тут послышался свист.
Поезд, обманутый железный дракон, промчался, на миг заглушив город, и бесследно исчез. И то ли оттого, что избегнул опасности то ли от краткого свидания со свободной землей, но Виктор Алексеевич почувствовал себя и совсем молодцом. Бодро взобрался на склон, прошагал метров триста и очутился в незнакомом квартале… Банальная вывеска: «Встреча» — вызвала новое стремление к озорству. А что, если… Чего стоит один этот допотопный красный фонарь над дверьми! Встреча!
Ощущение бесшабашного молодечества не проходило; с этим чувством и переступил порог темноватого полуподвала.
Однако невиданные деревянные кресла с отвесно высокими спинками, окна-бойницы — узкие, украшенные чугунными витыми решетками, столы — дубовые, длинные, без скатертей — все оказалось в диковину. Он вмиг растерялся, сел на подвернувшийся стул, замер, прислушиваясь к быстрому, неровному стуку в груди. Наконец рискнул обернуться и от неловкости усмехнулся: рядом сидела женщина.
Подскочил бойкий официант: в меню не смотрите, шашлыков, беляшей нет и не будет, берите биточки.
— Давайте! — опустошенно махнул белой, полноватой рукой. И, помедлив: — Еще, будьте любезны, бутылочку минеральной.
— Откуда? — развязно возразил конопатый мальчишечка. И, окинув его и соседку объединяющим взглядом: — Чай? Кофе? Все — по два раза? Заказ — на двоих?
Виктор Алексеевич ожидал возражений, но женщина промолчала. Неожиданно для себя лихо ответил:
А как же! — и хохотнул. И тут же, пораженный собой, хотел было спрятать глаза, но официант не ушел.
— Вы бы сели туда вон! — указал подбородком.
— Это зачем?
— А затем, что мест не хватает! Вы расселись вдвоем тут, а там трое идут.
Виктор Алексеевич хотел возмутиться, в нем что-то бурлило, звало на подвиги, но…
— Пойдемте! — вдруг услыхал мягкий голос и, удивленный, впервые взглянул. — Там будет лучше, действительно! — умоляюще сказала она. Он тут же сдался: она показалась прелестной до чертиков. Воротничок, нежно-сиреневые манжеты на синих шелковых рукавах — он почувствовал как жгуче краснеет.
Она пошла впереди.
Никогда ему не было так легко! Что-то спрашивал, что-то рассказывал: директор — вот зверь! А начальница!.. Знаете, как ее называют? Ну да, незамужняя, так они все намекают: Ромео, Ромео… Что?.. Нет, в самом деле! Ха-ха! На службе, знаете, не до этого ну что вы, ха-ха! И смеялся непринужденно, легко, радостно удивляясь, что, кажется, вот его и ревнуют! И смеялся свободно, раскатисто, как будто кто-то другой, какой-нибудь дипломат или артист руководил им изнутри.
— Только представьте: завод сорвал план, а отчетность на мне! Директор: первый год на службе сидишь? Что делать? Пишу справку: мол, полное выполнение. Но… — и он долго смеялся, — но ставлю подпись: директор! Кто первый год на службе сидит? — и он снова смеялся, забыв, что в это самое время наша девочкам мечет громы и молнии, что настороженный отдел тихо шушукается и что с этажа на этаж перезваниваются телефоны: не у вас ли Виктор Алексеевич Колотов?
— Что? Нет, не женат! Нет, правда, разве похож на лгуна-соблазнителя? Ах, похож? — он довольно смеялся.
Отчего? Не случилось. Выпивать? Никогда! Нет, правда! Что? Конечно, имеется, моя тайная, кровожадная страсть! Что? Не скажу! Ни за что не скажу! Скрытный? А как же!
— Что? Встретиться? Ну, конечно, ну, завтра, конечно же, в это же время и здесь!
Распрощавшись, помедлил и оглянулся: показалось, что эта необыкновенная женщина не шла, а плыла сквозь толпу, и люди перед ней расступались, как волны перед корпусом стремительной яхты.
Еще понапевав какую-то расчудесную песню, продефилировал, вдруг вспомнил: что это с ним? Обед давно кончился, а ему еще идти и идти!
Побежал, неловко, трусцой, на своих вялых ногах, которые при беге выворачивал ступнями наружу. Он бежал, преодолевая одышку, все сразу забыв и думая только о том, как ужасно обошелся с начальницей, что она не простит и что придумать в оправдание опоздания.
С ужасом понял, что направление выбрал неверно: срезать хотел, а впереди перекрыто. Не размышляя, как смешно он может выглядеть со стороны, развернулся и рванул сразу назад.
Как назло, в этом квартале, где дома-башни далеко отстояли один от другого, не у кого было спросить. Наконец вышел к железной дороге. Пот заливал и лицо, и шею, и грудь, рубаха липла к груди. Уже не бегом, а вязким неровным шагом спустился, и тут из-за поворота вновь вылетел поезд. С грохотом, с угрожающим воем промчался, обдав сухим теплым ветром: Виктор Алексеевич вторично подумал: да что это со мной? Выскочи на секунду позднее — и что?
Эта мысль отрезвила.
И, отдуваясь, обмахиваясь, но приличным степенным шагом подошел к проходной. Вахтерша — сухая старуха с огненным запоминающим взглядом — вскинулась было, но он замечательно вольно покрутил перед ней нераскрытым пропуском и прошел.
Но и начальница его удивила: ну его к черту, сказала, директора, времена стали крутые, пусть крутится сам!
Подавив довольный смешок, Виктор Алексеевич уткнулся в бумаги.
И уже кончался рабочий день, и он что-то делал, писал, правил, о чем-то советовался, что-то доказывал, но — потом все вспоминал — отчего-то не спорил ни с кем. А солнце раскалило воздух, и все кругом говорили, что сам воздух больной, и он согласился и уточнил остроумно, что воздух — как больной любовной горячкой, все смеялись, и никто не воскликнул: «Ромео!» — но он-то толком к ним не прислушивался, а все думал, какой сегодня праздничный день, какой светлый и розовый, и все время он улыбался, а жара переносилась на редкость спокойно.
И только ночью пришло беспокойство: что если завтра не удастся сбежать? Ведь не узнал у нее ни адреса, ни фамилии, а домашнего телефона — сказала — у нее не было. Но он гнал от себя тревожные мысли, и они легко отступали перед сверканием имени: Елена Петровна. Одна надежда сменяла другую, надежды эти были воздушны, речью не высказать: то с ней где-то шел, то летал на качелях, то говорили о вечном, возвышенном — все это речью высказать было нельзя.
Утром, шатаясь, промахиваясь — то вилкой мимо розетки, то спичкой не по коробку, — подошел к зеркалу. Ахнул: под веками набрякли мешочки. Глаза, заплывшие, сузились в щелочки. Он смотрел и смотрел, и не мог себя признать в этом морщинистом косом человечке с красным одутловатым лицом.
— Пропало! Все пропадом! — думал, уныло уткнувшись в газету. Хмурая толпа окружала его, вагон метро швыряло в пролете, вагон вынесло из тоннеля на свет: серое, хмурое утро, шесть тридцать.
Однако на службе — сюрприз: начальница вместе с директором укатили в горком. А когда в отдел заскочила Зиночка из машбюро:
— Братцы-министры! В проходной сменили вахтершу! — он поднялся и на деревянных ногах пошел вниз, напустив на лицо выражение идольской непроницаемости.
И верно: в конце светлела физиономия студента-заочника с голубыми, далекими от сует мира глазами.
Виктор Алексеевич и не заметил, как очутился в кафе.
— Это вы? — выдохнула она, и у него в сердце затрепетали веселые птицы.
И снова они говорили о чем-то, теперь больше спрашивал он, она отвечала: не замужем. Что? Папы нет, умер давно. Мама болела целых семь лет: болезнь Паркинсона, прогрессирующий атеросклероз, ох, бедная! Тело дрожит, а мышцы скованы: ног не могла у нее развести, чтобы подмыть, каки, моча все под себя! И постоянно: «Кушать! Кушать хочу». — «Ты же ела!» — «Дай! дай!» — «Тебе же столько нельзя!» — «Дай! Дай! Дай!» — каторга. С работы — пулей домой, как там она, неподвижная, на изгаженной простыне, среди ночи проснусь — как же в конторе еще меня держат такую, далекую ото всех? Ни друзей, ни подруг: мама — работа — магазин — мама — работа! Какие театры, кино — в отпусках дома сидела! Семь лет дома!
Он слушал и кивал головой, улыбаясь некстати, а она, рассказывая об этих грустных вещах, заглядывала в глаза, и неуместная улыбка его отражалась зеркально на ней.
Я сказала про семь? Ну да, семь — это самые ужасные последние годы, не верите, ждала: скорее бы! Раньше сказали бы: наказание Божье! Но за что наказание?.. Бары, кафе? Вы смеетесь: какие кафе? Только это, только в обеденный перерыв, только одна!
Да, ждала встречи! — призналась. И правда, вывеска меня подкупила! И вас?.. Да, все эти семь на пять дней в неделю… на пятьдесят минус четыре…
— Одна тысяча шестьсот восемьдесят!
— Да, за это жуткое количество одинаковых дней такая я стала…
— Красивая! — перебивал он ее.
— Старая… сорок восемь.
— Молодая! — он возражал радостно: — Двадцать четыре
— Скучная…
— Замечательная!
От постоянной улыбки у него губы болели. Но и не улыбаться не мог. Надо надеяться говорил. Всегда впереди что-то найдется, что-то светит. Надо только уметь присмотреться!
— Мама отмучилась — стыдно признаться, но я теперь королева! Приеду, все вычищу, выскоблю, ужин сготовлю и — время блаженства! Хоть телевизор, хоть книжка, нас двое…
—Вас двое?
— А как же! Лялька да я!
— Послушайте, но кто эта Лялька?
— Моя тайная страсть! — она говорила, и он представлял себе какие-то царские будуары в сиреневых красках, представлял себе Ляльку — румяную девочку с дымчатыми волосами, а глаза — кошаче-зеленые, и возникала в воображении ванная, сплошь в розовом кафеле и с зеркалом во всю стену, а в зеркале — необыкновенная обнаженная женщина — таких иногда видел в кино… тут воображение пускалось вовсю, он краснел, замолкал…
— Так, значит, завтра? — спросила она. — В это же время?
— Сегодня! — очнулся он. И, боясь дать попятную, выпалил: — У памятника…
— Пушкину? — спросила она, улыбаясь.
— Нет! — возразил, ощущая нарастание силы в себе оттого, что сумел возразить: — Лермонтову!
— Но куда мы пойдем? Вы придумали? Или у вас, как говорят, все отлажено?
Послышалась в вопросе насмешка. И он сразу, немедленно сник. Но Елена Петровна…
— Я это к чему, — мягко объяснила она, — мне ведь надо как-то одеться!
Одеться! Как-то одеться! Для того чтобы идти с ним туда, куда он еще не придумал, этой изумительной женщине надо одеться! О, это совсем непростое дело — одеться женщине для встречи с мужчиной! Он отважно сказал:
— Приглашаю вас в ресторан!
— Ого! — лучисто расхохоталась она. — Я так и подумала: вы выпиваете!
Он не смел поднять глаз. Что вы такое сказали? Я, правда, не… Он не знал куда себя деть.
— Я верю! — серьезно подтвердила она, и он вновь стал победен. — Но раз вы ничего не придумали, сделаем так: мы пойдем не к Пушкину и не к Лермонтову, а к Чайковскому! У меня появилась знакомая в зале Чайковского… Мы пойдем на концерт! — Он все молчал. Она твердо закончила: — Слушать Равеля.
Лицо его вытянулось. Он никогда не слушал Равеля. Чем занимаются люди в зале Чайковского, было неясно. И потом… Потом это было так далеко от женщины в ванной!..
Но, увидев эту печаль и изгнав улыбку из голоса, она поторопилась дополнить:
— А потом мы поедем ко мне. Я считаю, настала пора познакомить вас с Лялькой.
— Да, — просто сказала она, и у него перехватило дыхание. — Мы же не дети!
— И вообще, — продолжала она, наблюдая его, — нам будет неплохо втроем. Никакая смерть не бывает бесцельна! — сказала мне мама, придя в себя за мгновение до последнего выдоха. Так что оставайтесь у нас. Лялька — добрая кошечка! — Но он все молчал. И тогда она испугалась. Только что вела партию, но вдруг показалось: неверно. И вспыхнула. — Знаете, мне так плохо без мамы! А вы безобидный, — прошептала она, уже кляня и себя, и его, и эту затею, и самую жизнь, в которой ей не обещали бессмертья.
А у него от быстроты предложений все перепуталось. Но он знал одно: она ошибается. Она принимает его за другого, эта чудная женщина. Он не вправе ее обмануть. Надо раскрыться.
— Знаете, — наконец он откашлялся, — это трудно представить. Но если на военных учениях раздался хлопок — у всех уже рты до ушей: это Колотов! И Колотов — верно! — неизвестно как и зачем, сжал в ладони взрывное устройство гранаты — ладонь разворочена.
— Бедный, — прошептала она.
— Знаете, какое прозвище дали, когда еще был в институте? Витя — лови момент! Правда, смешно?
— Бедный, — повторила она, — дайте мне вашу ладонь!
Он протянул, но вдруг вспыхнул и отобрал руку, к которой она потянулась губами.
— Нет, вы не смейтесь! — упавшим голосом говорил он, — это серьезно! Мы рыли яму, а грунт был что-то вроде болота — плывун. Я стоял в яме, и набирал жижу в ведро, затем брался за дужку и махом корпуса вскидывал наверх. Мастер спорта Ципурский его там ловил. Ведро с каждым разом казалось все тяжелее. «Витя, сменить?» — спросили меня. «Нет!» — отвечал я с какой-то неуместной, глупой отвагой и все набирал плоской лопатой стекавшую жижу, все наполнял ведро до краев, все метал его вверх и кричал: «Только Лови тот момент, когда ведро окажется в апогее, и сразу хватай!» И что же? Раз я взметнул — Володька уж и не знаю, случайно, нарочно ли, но не поймал — ведро, полное
грязи, накрыло мою глупую голову!
— Хороший мой! — сказала она.
— Ну и так далее, — проговорил он, — зачем я вам нужен такой?
— Вас все-таки называли Витя! — сказала она.— А могли бы придумать без имени! Нет, вас уважали, да! Вас, Виктор, любили ребята, вы на себя наговариваете! Знаете, какие, бывает, придумают прозвища? — так она его успокаивала, на миг тоскливо подумав, что, видно, судьбой ей предназначено все время за кем-то ухаживать. Странно: другие живут-поживают… Щемящая мысль. Но… должен же кто-нибудь заниматься всем этим? — задорно спросила себя и обомлела: на прощанье он взял ее руку и поднес к своим шершавым губам.
В темпе вернувшись с работы, приняв горячий, обжигающий душ, Виктор Алексеевич вдруг подумал: как-то уж просто у нас все это склеилось!
— Мама! — крикнул, мечась в поисках галстука.
Полная, расползшаяся старуха остановилась в дверях, шумно дыша.
— Мама! — повторил он, сияя. — Я иду на свидание!
В лице старухи не изменилось ничто. Наблюдав за сыном, сопела, тяжело, с сипом затягивая порции воздуха.
— Мама! Я, быть может, не вернусь ночевать!
— Смотри! — наконец продышалась она. — Ты такой некрасивый, уродливый, здесь что-то не то! Не бери с собой деньги!
Он бросил оземь рубашку.
— Ты! Твое воспитание! Как смеешь?
— Смею! — не менее гневно возразила она. — Не воспитание — гены! Выскочишь из предначертанной линии — сгинешь! Папочка!
Он спорил быстро, взволнованно, не желая слышать ответы, перебивая, грубя. Никаких генов нет — фиг с два! Что в детстве внушишь — то и получишь! Он знал, что если и прав, то частично, но готов был заложить душу, чтоб переспорить.
— Чиновник по чьей милости? Не верила-а!.. Прожужжала все уши: не твои это друзья, не твои девушки, ищи поскромнее, поплоше!.. Что видел? Что пробовал в свои пятьдесят? А все — ты, ты тиранка неверующая!
— Оставь ее адрес! она крикнула вслед. — Милиция, уродец, это — ноль два!
Он не слушал ее. Похоронив красавицу (так считала она) дочь, она сразу сделалась старой и злой. Он не слушал и потому, что знал и сам в точности, что — некрасив и бывает смешон.
Все же она проняла: в зале Чайковского совсем потерялся, Вокруг бродили важные, толстые люди. Коротышка с глазами, донельзя сведенными к носу, с этой пингвиньей походкой, он не звал куда себя деть. Но Елена Петровна… она опять догадалась. Взяла под руку — он сразу вспотел.
— Я приготовилась все выведать про вашу тайную страсть!
— А, бросьте, — нахмурился, — здесь неуместно.
— Уместно, уместно, — сказала она, проводя его в гуще толпы. — Ну-ка выкладывайте!
Он никак не мог ей признаться, что это — футбол. Такие шишки кругом! А тут — эта статистика: кто где играл, кто сколько забил.
— Знаете, я в футболе неграмотна, — как-то необыкновенно печально сказала она, — но я научусь, честное слово!
Он был сражен. Черт подери, черт подери! — шептал, весь горя от ощущения женщины рядом. Жар энергичного тела, запах духов, ощущение плотного локтя… Что он шептал!
И тут новая напасть: оказывается, они не гасили свет! Вышли на сцену себе, расселись, запикали для настройки.
— У меня больше восьми тысяч карточек! — сказал он, чтобы пояснить огромность своего увлечения. И она тут же откликнулась:
— Тысяч? Вы сказали: больше восьми?
И на них вдруг обернулись, зашикали, зашептали. Оказалось, что — началось!
— Вы расслабьтесь! — шепнула она, — закройте глаза!
Он послушно закрыл и почувствовал пальцы. Крупные и, наверное, сильные, сейчас они словно нежились в его стылой ладони. Осторожно пожал — и все тело его отозвалось на ответное пожатье: стало жарко везде. Пальцы выскользнули, пробрались повыше, коснулись запястья.
Не заметил, как музыка кончилась. Раскрыл глаза, посвежевшим взглядом посмотрел на нее — она рассмеялась:
— Какой вы смешной!
Он смутился, так громко она это сказала. И это ужасное слово! Но она потянула его, взяла под руку, повела.
Все было благосклонно к ним в этот сказочный вечер:
только вышли — подкатило такси. Вам куда? Оказалось, шофера устроил район.
Приехали. Он выскочил первым, неловко подставил раскрытую руку.
В лифте вытянулся отстраненно, боясь случайно коснуться ее, так близко дышащую возле него, — она прижалась грудью, мягкой и теплой, к плечу.
— Но подождите! — сказала, открывая дверь таинственной, темной квартиры. — Не торопитесь!
Он промычал что-то.
К ним бросилась Лялька — ангорская кошка с дымчатой шерстью, с голубыми глазами.
Вспомнив воображенную девочку с дымчатыми локонами (так ведь представилось!), усмехнулся. Подумал: к добру! И нагнулся — чтобы помочь снять туфли, — но Елена Петровна отпрянула:
— Никогда не делайте этого!
Он отшатнулся, чуть не упав. Но и она, видно, смутившись, долго, излишне долго возилась у пола. Глянула снизу:
— Я к этому не привыкла! — и показалась ему девочкой, совершившей проступок и ждущей прощения. Заторопился на помощь:
— Не смущайтесь! Мы же не дети!
Она достала широченные тапки. С изумлением уставился он на эти широченные тапищи, новехонькие, с кожаным верхом, на красивой желтой подошве.
— Это чьи?
— О, вы уже и ревнуете!
Он промолчал. Не сменив обувь, прошел, насупясь, на кухню.
— Знаете, — сказала она. — Не хочется с вами лукавить.
Вот же несчастье!
Он все молчал. Бухнулся в мягкое кресло.
— Даже если лукавство — от желания нравиться.
Тапки, мужские, огромные, мешали ему.
— Ну хорошо, объясню,— сказала она и сняла что-то невидимое с его редеющей шевелюры. Он был неприступен: он отвел голову.
— Эти тапки… ну, понимаете… Некоторые покупают кольцо. А никого еще нет, понимаете?
Он опять отстранился.
— Ну должны же вы были когда-нибудь появиться!
Он неожиданно понял. И вспыхнул. Какой стыд! Ах, болван, идиот, напридумывал! Кинулся к ней.
— Нет, нет, куда вы торопитесь! — смеялась она, отстраняя его голову от груди.
Пили чай с яблочным пирогом. Золотистое яблоко сладко вязло в зубах — он на минуту отвлекся. Тут она и сказала отчаянно:
— Ешьте пока. А я пока прим у душ.
У него застрял в горле кусок. Встал, потянувшись за ней.
— Нет-нет! — отчаянно возразила она, — подождите!
— Милый! — крикнула через дверь.
Хлопнула дверь, отсекающе щелкнул замочек.
И тут подло ударила боль. Словно сзади огрели резиновой палкой.
— Не смей! — приказал, холодея.
Но боль снова ударила. Следующий приступ чуть не свалил его с ног, Согнувшись, заковылял к выходу. Упал на колени, пополз. Лялька выскочила, шарахнулась прочь.
Спускаясь в лифте, сидел на полу, тихо скулил.
Пошатнувшись, поднял ослабевшую руку. Чуть не свалился мешком под колеса. Взвизгнули тормоза.
— Отвезите меня, — попросил умирающим голосом.
Открывая дверь на царапанье, старуха мать увидела существо, мало напоминающее человека. Оно сидело, зажав ладони в паху, и, раскачиваясь, подвывало. Лицо было серым, по полу растеклась розоватая лужица.
— Я говорила, что это не для тебя! — скрипела старуха.
Он, как обычно, не слушал.
Прополз, оставляя за собой мокрый след..
— Шуры—муры, уродец, не для таких!
Он на миг возненавидел ее. Но боль снова все полонила. Пустив струю теплой воды, быстро влез. Ванна окрасилась кровью. Приладился острым пинцетом. Подцепил, страшно вскрикнул и выдернул.
И боль исчезла. Не поверил, что адские силы, облюбовавшие почки и уничтожившие в нем все человеческое, так вдруг отпустили. О любви совершенно не думалось.
Утром показывал в поликлинике камень. Зазубренный, весь в мелких оспинах — вспомнить ужасно.
Окреп и позвонил ей на работу.
Ответили что-то невнятное. То ли нет, то ли вышла.
Вечером доехал с цветами. Решительный.
Дверь не открыли. В квартире мяукала и тяжело прыгала Лялька.
Предусмотрительный, зашел в магазин. Купил у ошеломленной продавщицы пальто — зимнее, ватное, уцененное.
Расстелил. Устроился на полу.
Но и утром она не вернулась.
Струи хлестали ее молодевшее тело. Она направляла горячий поток от шеи к подмышкам, вела вдоль боков, водила кругами по животу, опускала к ногам. Все в ней кипело, но с каждой секундой овладевала ею робость. Все медленнее водила струей, все чаще прислушивалась, что там происходит.
А т а м что-то упало.
Представила: вот выводит, кладет ему руки на шею. Он, молчаливый, взволнованный, целует в сгибе локтя. Ладонями она принимает это лицо.
И снова — будто тяжелый прыжок Лялька, что ль? Надо ее запереть. Родное, живое — неловко.
Сердце стучало неистово.
Еще раз потрогала кожу мохнатым, широким, оранжевым полотенцем, накинула на плечи халат. Вышла.
Его в кухне не было.
Легким шагом вплыла в комнату — и там его нет.
Не понимая, рванулась обратно, сшибла лезшую под ноги кошку… нигде!
Почувствовала опустошенность. Был ли он, не был ли, может, все это — бред?
На столе лежали очки — выпуклые, круглые стекла. При ней никогда ими не пользовался. А рядом — ее фотография: три на четыре. Отвратительная, какие только бывают на пропусках, фотография. Дикая мысль пришла в голову: неужели разглядывал фото? Неужели разглядел, какая она, наконец?
Показалось, что шевельнyлась портьера. Бросилась, изготовив губы в улыбке.
Ткнула — нет. Пустота.
— Я, кажется, схожу с ума, — громко сказала она. И прошла стремительно в кухню — нет, никого!
Снова в комнату. Ощущение было такое, словно он прячется, притаился, словно — игра.
— Послушайте! — громко сказала. — Но это негодная…
А подумала так: в этот год, в этот час, в эту минуту я…
И быстро присела, заглянула под стол: никого! Скрипнула шкафом: что за вздор!
— Я с ума! — крикнула.
Никого. Только со шкафа спрыгнула Лялька, зацарапала лаковый пол, убегая.
— Я сумасшедшая, — спокойно сказала, — и это весьма любопытно.
Зеркала в рост в доме не было — не любила фигуру свою. Набрала маленьких; круглых, овальных, прямоугольных. Таких было много — нравилось разглядывать себя подетально. Взяла молоток, набила гвоздей, навесила, приладила зеркальца на стену.
Получился многоэтажный дом с тысячей окон.
Сбросила на пол халат: в каждом оконце замелькала какaя-то часть обнаженного тела.
«Тарантелла!» — послышался баритон. Строгий, спокойный.
— Спасибо! — поблагодарила соседей за радиопомощь.
Музыка грянула бурная, радостная, зажигательная.
— Красиво играете! — похвалила и сделала па. Тысячи зеркалец, расчленив ее тетю, повторили его. — Постарайтесь, ребята! — Новое па.
В зеркальных окошках, разрезавших ее громоздкое, грушевидное тело, замелькали суматошные, белые облака.
Радио исправно трудилось, музыка убыстрялась.
— Красивый танец для некрасивого тела, — сообщила тем зрителям, которые наблюдали ее через зеркальные окна. И заметалась, танцуя, то поднимая непослушные, тяжелые руки, то приседая со вздохом, покачиваясь.
И быстро выдохлась.
— Уф-ф! — едва отдышалась.
А потом, взяв молоток — а он был изящный, с изогнутым носом, для тонких медных работ — прицелилась. Бенц! — одно из окошек, так бесстыдно, бесстрастно отражавших движения полного тела, вдребезги разлетелось.
Отошла, присмотрелась: словно и не было складки на животе. Так тебе, негодный подглядыватель!
Снова прицелилась змеиным раздвоенным носком: бенц! — осколки звеняще рассыпались. Бенц! — новый звон.
Стала бить все подряд.
Все! Осталось одно: узкое, длинное, висящее параллельно глазам. По глазам больно. Глаза небольшие, неяркие, но
если поглубже, подольше вглядеться…
Зажмурилась, ударила — мимо. Глухой стук.
Еще раз — мимо опять.
Пусть остается!
Как была в тапках, набросив домашний халат, вышла на улицу. День ушел, ночь была бледная, бездыханная. И воздух был нагретый, густой, как отработанный пар.
Она шла по улицам мертвого города, надменные громады домов не замечали ее, ей было жутко: есть ли кто-нибудь, где-нибудь, который живет и, может быть, наблюдает, может быть, ждет? Всегда имеется то, что светит для вас, но как, в какую сторону обернуться, на какую верхотуру забраться, чтобы увидеть? Да нет, все это — выдумки, сказки для слабых, а в тысячах окон серых домов зияло равнодушие к ней.
И эти окна разбить?
Зазвенеть звоном осколков, прицельно: бенц, бенц, бенц!
Но взвизгнул гудок. Как зачарованная, спускалась к железной дороге. Вот тот бугорок, о котором кто-то рассказывал ей о свободной траве. Шум нарастал.
Она трогала траву несмелой рукой — нет, тот, кто рассказывал ей о свободной траве, лгал: трава мертвая. А шум за поворотом все нарастал. И в момент, когда металлический зеленый дракон выметнулся из-за угла, она сделала шаг, нога ее подвернулась, она нелепо взмахнула руками…
— Нет-нет, только не это! — успела в последний миг вырваться из-под загрохотавших колес. — Ведь я иду на свидание! — И, крепко сжав свои толстые большие губы уже не осматриваясь по сторонам, но двигаясь прицельно, сосредоточенно, влекомая ясной, отчетливой мыслью, она быстро вернулась домой.
Прошила в комнату, приняла лошадиную дозу лекарства.
Подумала: интересно, что же больше всего ему во мне не понравилось? Скоро стало легко, отстраненно, пустила горячую воду, мягко легла, ожидая, пока ванна наполнится. А потом полоснула по венам. Сначала было чуть больно, потом ничего, тепло плотной воды боль поглотило. И, когда засыпала, увидела наконец себя девочкой. И папа целовал ей глаза и макушечки.
— Счастливая будет! — целовал папа макушечки, а она, шутя, отбивалась:
— Ну где ты был? Я ждала тебя! Давай поиграем!
— Несчастная девочка! — говорила, рассчитывая на возражение, мама. — Надо ж было взять худшее и от меня, и от тебя! — Мама была худенькая, веснушчатая, юная.
— Две макушечки — значит: счастливая! — смеялся отец: — Две макушечки, на каждой — по голубку! Одна не останется, будет жених, будет семья. А глаза-то, глаза! Чистые, нежные! — и вновь целовал, а девочка, хохоча и кокетничая, подставляла ему то один глаз, то другой, но никак не макушечки.
Так, с безмятежной детской улыбкой, она и заснула.
«Наша девочка» еле-еле сумела его отловить. Гневно дыша в трубку, накинулась:
— Послушайте, где это вы шастаете? Я звоню, звоню!.. Он…. Вы понимаете, он опять топал тогами, как слон!
Виктор Алексеевич долго молчал. Затем с ледяной, медленной яростью вогнал в ее глупые уши:
— А теперь послушайте вы! Я не приду! Я на больничном. Я завтра на похороны… Катитесь вы, знаете!..
Теперь замолчала она. Он слушал прерывистые, быстрые вздохи, готовясь теперь врезать по-черному, но вдруг
услыхал:
— Я с вами! Виктор Алексеевич я буду у вас!
— Да не с мамой, не с мамой! — сразу расстроился он.
— Это неважно, не бросайте меня! — голос был неожиданно жалобен, слаб.
…На похоронах вместе с ними обоими было семь человек. Его не знали, но перед ним расступались. Казалось ему, слышал шепот в свой адрес.
Когда отходил от нее, кто-то коснулся руки.
— Не мучьте себя, — сказали ему. — Это судьба!
Взглянул в глаза говорившей, но не мог признать в ней знакомую.
— Не казнитесь, — все говорила ему эта женщина, девушка, как ее? Лицо ее начало расплываться. — Она, верно, была не в порядке. Вы понимаете? Ну кто в наше время?..
Он вдруг испугался. Испугался услышать что-то очень точное, бьющее в цепь безошибочно и безжалостно. Защищаясь, поднял ладони.
— Хотите, я вас провожу? — Ему хотелось схватить пальцами, выжать серую слизь с раздутой, обманчивой маски, в которую расплылось лицо. «Замолчи!» — застрял в горле крик — Вы одиноки, я одинока, я нас провожу! — не затихали слова.
Он поднес пальцы, которые крючились, которые невозможно было разжать, к злой, ему сострадающей… Но зачем ему сострадать?.. Поднес их к этой коварной маске, но… Неожиданно для себя провел ими по мягкой и гладкой, чуть морщинистой коже.
— Виктор Алексеевич, это — судьба! — послышался шепот, и из колыхавшихся контуров маски проступило лицо: испуганное, мокрое и дрожащее. — Идемте ко мне.
— Ловите момент, Витя! Знаете, это о ком? — внезапно он произнес и позволил взять себя под руку. — Ромео поймал момент, — зло продолжал, позволяя вести куда-то себя. — Ромео поймал «нашу девочку»!.. «Наша девочка» поймала Ромео!..
Что-то пискнуло рядом, локоть повис. Недоуменно повел он вокруг освобожденной рукой никого. Только где-то уже далеко промелькнула темная тень. Он не стал напрягать зрение, опустошенный куда-то побрел.
— Никакая смерть не бывает бесцельна! — бормотал, уходя. — Ах, бросьте, оставьте, какая судьба? Никаких генов нет! Врете вы, врете!
Литература, как и любой вид искусства, есть способ выявить и передать ощущение родства душ человечьих. Иначе: литература есть способ выражения автором своей любви к человечеству. Беда же заключается в том, что у каждого автора есть лишь узкий круг, вполне определенный круг почитателей…
Не признания в пресловутых широких читательских (нечитающих) массах ищу я и, уж конечно, не славы! Но чтобы мои томики на заветней полочке нашли свое место у некоторых!
Александр Жулин.
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».
ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ БОЛКОНСКИХ
О любви в наши дни
— Александра Сергеевна, Александра Сергеевна! — пропищала из кухни эта тощая вертихвостка, — не могли бы вы за молоком последить, пока я занимаюсь бульоном?
Иван Петрович, полулежа в подушках, пожал плечиком: надо идти!
Александра Сергеевна поднялась — с львиной грацией. Современно крупная, современно пластичная. Замедленно вышла, ощущая спиной волнующий взор.
И обрушился шквал.
— Для меня это какой-то дьявольский рок! — с места в карьер понесла вертихвостка. — Иной раз прикажу себе замереть — и замру! Замру и смотрю, на одно молоко только смотрю, жду, чтобы, как начнет закипать, тут же выключить. И что же вы думаете?
— Вас отвлекают в наиважнейший момент? — учтиво спросила Александра Сергеевна, думая лишь о том, чтобы скрыть свою мысль. Мысль ее не была столь изысканной, как тон ее слов. «Окунуть бы башкой тебя в это самое молоко!» — вот и вся мысль.
— Нет-нет! — всплеснула руками хозяйка, шустро снуя от плиты к холодильнику и обратно и поглядывая то на молоко, то на бульон. — Пусть треснет земля, пусть я провалюсь!.. («Вот если бы!» — предположила Александра Сергеевна.) Не отвлекусь ни за что! Но… знаете, знаете? Как
только замру… Ни за что не поверите!
— Почему же? Я верю! — возразила (нисколько не веря) Александра Сергеевна.
— Вы не поверите: только замру — отключаюсь! Знакомо вам это словечко? — и она выпучила на Александру Сергеевну свои бесподобные глазенапы. — И, отключенная, смотрю в молоко! Смотрю — и не вяжу, как оно закипает, как начинается этакая, по вашему выражению, турбулентность, как… закрутилось, всплеснуло, залило! Вся плита в молоке.
Турбулентность! Александра Сергеевна пожалела, что не закрыла заранее уши берушами.
— А сейчас еще надо следить за бульоном… Знаете, в чем его главная прелесть?.. Чтоб — никакой мути!
И она так горько вздохнула, что Александра Сергеевна тоже чуть было вслед за ней не вздохнула, но… дикий крик.
— Глядите, глядите! — пронзительно заверещала хозяйка, — вскипело, взметнулось, вся плита в молоке! А я отключилась, и вы отключились, ну не дьявольский рок?
От этого шквала с Александрой Сергеевной (которую при всей ее высоте и упитанности ну просто никак не выходят называть больше по имени-отчеству, потому что лет ей всего — двадцать пять, и возраст отражен на лице: ни лукавых морщинок, ни скрытых, с полунамеком, улыбочек) — так вот, с этой Сашенькой произошел легкий шок.
А тут началась катавасия я с бульоном. «Хватайте!.. Сливайте!.. Не обожгитесь!..» — спасал бульон, суетилась хозяйка, а Сашенька все стояла столбом, индифферентно держа то одно, то другое: то, что суют.
— Ай-яй-яй! — запричитала та особенно громко. И только тогда Сашенька встрепенулась, как если бы по спине ее что-нибудь пробежало. — Простите, простите меня! — визжала хозяйка, — я ведь помешала р а б о т е!
На то, чтобы расхохотаться, сил больше не было. Сашенька опустилась к столу, уронила на руки голову. А хозяйка, имевшая сложное сочетание царского имени — Екатерина — с необыкновенным в древнецерковной своей обветшалости отчеством — Перфильевна, еще долго трещала, не реагируя на очевиднейшую слабость гостьи.
Но прозвучало магическое: реферат.
— Иван Петрович проработал ваш, как он выразился, реферат троекратно, так пожалуйста, возвращайтесь к Ивану Петровичу! Сейчас же, немедленно! Ему, как он говорил, нравится руководить вами… гм-гм… научно!
Сашенька ожила только в ванной.
Подумала: а настолько ли дура эта полуграмотная вертихвостка, манерой распахивать глазенапы похожая на детскую куклу? На разряженную и ухоженную, на постаревшую… на старую, старую детскую куклу! «Вашей работе!» — сказала она, а прозвучало как: Бог знает, что у вас за работа!
— Александра Сергеевна! (Сашенька чертыхнулась.) Вот вы представьте, я вдруг испугалась за ваши замечательные панталоны! Выйдите-ка на свет!
Панталоны? С чего бы так причудливо называть эти бананы? Нормальные, изумрудного цвета бананы, снизу обуженные и как бы оборванные чуть ниже колен — вон и лохмушки! — а сверху широкие, свободно свисающие с выпуклых бедер… модные, замечательные пан… ух, черт побери!
Панталонами, простите, величают еще и нижние женские… эге, Екатерина Перфильевна, уж не острите ли вы?
— Ай-яй-яй! Вот видите, видите? Жирное пятнышко! Это — бульон, Александра Сергеевна, это — дьявольский рок! Пройдемте на кухню! У меня имеется средство… против всякого жира! Против всякого, всякого!..
Всякого жира? Сашенька вздрогнула. Показалось, не только щеки ее покраснели, но и те весьма полные телеса, которые были под пан… ух, черт побери!
В глазах вспыхнуло белое пламя.
— Прекратите-ка этот спектакль, Екатерина… Перфильевна, вы… цепко углядели давнее пятныш… и в чем прелесть буль… и бананы мои… я думаю… Ивану…
Все то время, пока Сашенька чеканила эту тираду, делая паузы не по смыслу, а по необходимости справиться с бешенством, Екатерина Перфильевна взирала на нее своими нарисованными голубыми глазами с выражением ангельского простодушия. Затем похлопала недоуменно густыми ресницами — точь-в-точь бабочка невинными крыльями, и в самое время вступила:
— Милая Александра Сергеевна! — вступила как раз в тот момент, чтобы отсечь «Ивану» от повисшего отчества. Сашенька сказала: Ивану, — а Екатерина Перфильевна, движением округлых бровей: уже и Ивану?
— Милая, Александра Сергеевна, тише! Ивану Петровичу худо!
И Сашеньке показалось, что эффект от тирады оказался не больше, чем если б отдубасила висящее полотенце.
— Вы вызвались — гм-гм! — подежурить! Подежурить у постели больного! Так идите ж, д е ж у р ь т е! Идите, работайте над — гм-гм! — турбулентностью!
В других обстоятельствах Сашенька, сокрушенная и разгневанная, не испугалась бы хлопнуть дверью погромче, но… не оставлять же Ивана Петровича на эту — гм-гм! — турбулентную дамочку!
Сашенька несгибаема! Гордо шествует мимо хозяйки.
— Но панталоны вам так к лицу, право! Так гармонируют с вашей, именно с в а ш е й фигурой!
Тощая глазенапа, черт побери! .
Ивану Петровичу, доктору неких весьма пунктуальных наук, было столько же лет, сколько Екатерине Перфильевне: сорок. Был авторитетен и уважаем и вместе с тем ходил в джинсах, потертых по моде, называл девушек «золотце ты мое», лихо играл с аспирантами в волейбол и потому все еще считался в институте гусаром: вполне современный доктор наук.
А тут вдруг заболел.
Грипп поначалу, но прокатилась молва: затемнение в легких! Кошмар! Такой славный гусарчик, такой ценный работник, и — затемнение!
И вот он, остроносенький, лысенький, лежит на постели, и под одеялом тельце его едва ощущается! Никакого залихватского вида! Ни на грош обаяния умницы!
— Если искривить лопасть на выходе, — говорит ему Александра Сергеевна, — точка срыва пограничного слоя уйдет вот сюда! — и ведет пальцем по графику.
— Не надо! — возражает Иван Петрович. Из-за высокой температуры в голове у него словно ракета свистит, однако от пышного бюста сотрудницы (не тронутого губами младенца! — разжигает себя) глаз отвести невозможно. — Не надо, золотце ты мое, искривлять эту лопасть, не надо так уж бояться этого срыва! — и он берет Сашенькин палец и несет — да так воздушно, так ласково! — в неизвестные, дух захватившие дали.
Эх, знал бы доктор паук про затемнение в легких!
А у Сашеньки наступает смятение чувств. Однако, привыкшая поверять гармонию отточенной алгеброй, она немного помедлила, пытаясь понять, был ли подтекст во фразе про срыв. Да был, был несомненно! И тогда, взяв сухую лапку Ивана Петровича в большие ладони, Сашенька подносит ее к своей не тронутой губами младенца груда.
— Слышите? — она имела в виду стук собственного, верного Ивану Петровичу сердца.
— Слышу, слышу, Александра Сергеевна! — отозвался ласковый голос. Сашенька обернулась, не выпуская болезненной лапки. — А про бульон кто забыл? Кто забыл про бульончик? — напевала Екатерина Перфильевна, делая вид, будто не замечает экспроприации мужниной лапки. — Идемте же, Александра Сергеевна, скорее идемте на кухню! Нас ждет бульон! С пирожком!
— Никогда! — страстно воскликнула Сашенька, — я пришла сюда не есть и не пить!
Бульон, приготовленный вашими умелыми ручками! — ворковала Екатерина Перфильевна.
У неядовитого человека не повернется язык назвать руки Сашеньки ручками: толстые, гладкие, длинные. Не ручки, нет, но очень хорошие, очень надежные руки. Веря в них, Сашенька про себя их называла удавами, иронизируя над собой, но гордясь. А сейчас впервые ощутила сомнение: однако не может быть! Не может же в таких длинных, гладких руках скрываться порок!
Скрестив удавы свои на груди, Сашенька оглядела наглеющую вертихвостку:
— Вы, Екатерина Перфильевна, верно решили напомнить, что из-за моей будто бы имевшей место оплошности не получился бульон? тактично ли это, Екатерина Перфильевна?
— Тактично? — Екатерина Перфильевна воззрилась на мужнину лапку, угревшуюся на малознакомой груди. Лапка дернулась было, но безуспешно.
— Тактично ли в тот момент, когда Иван Петрович углубился в работу, отвлекать нас бульоном?
— Катюша, Александра Сергеевна! — воззвал доктор наук, дергал лапку свою посильнее, однако… Капкан, честное слово!
— Углубился в работу? — изумилась Екатерина Перфильевна, с любопытством наблюдая безуспешные усилия мужа против удавов. — Отвлекать вас бульоном? Но потом будет поздно!
— Поздно? — будто прозрев тайну хозяйки, Сашенька в ужасе прикрыла пальцами губы. — Что именно поздно? — Освобожденная лапка Ивана Петровича плавно, словно крыло, опустилась и быстро исчезла под одеялом. — Что вы хотите сказать этим «поздно»? Ах, остынет бульон? Нет, не то вы хотели сказать, вас выдал ваш излишне бойкий язык!
— Катенька, девочки! — вскричал обессиленный доктор.
Ракета теперь не свистела — она буравила мозг.
— Вы смирились, Екатерина Перфильевна! Как раз в то время, когда надо мобилизовать все силы… и чувства… Зная, чем грозит затемнение…
— Не надо сдвигать точку срыва, Александра Сергеевна! — быстро перебила хозяйка, глазами указывал на Ивана Петровича.
Бедный больной! Услышав вполне репрезентативную интерпретацию «поздно», услышав зловещее «затемнение», бедный доктор затих. Бедный Иван Петрович! Все свои силы он прилагал к изучению движения мухи, кружащей под абажуром. А уши его от избытка внимания шевелились.
И Сашенька уловила волну, изошедшую от учителя:
— Согласна, не надо! — и поднялась во весь свой могучий рост. — Однако не надо другое! Не надо бояться, Екатерина Перфильевна! Бояться сдвигать точку срыва! Больной должен знать полную правду, континуум правды, если хотите точнее… чтобы, ощущая поддержку, любовь, если хотите…
— Не надо играть на низменных чувствах! — перебила Екатерина Перфильевна, стекленея глазами и автоматически поднимаясь за гостьей.
Тут коварная муха, трудившаяся, несомненно, в пользу хозяйки, подло села на лоб Ивана Петровича. Екатерина Перфильевна звонко хлопнула по этому лбу.
— Иван Петрович — не полигон для всяких там мух! — подчеркнула она этим рискованным действием принадлежность Ивана Петровича ей. И быстренько села, чтоб не стоять под высокой Александрой Сергеевной.
Как же ошиблась Екатерина Перфильевна! Иван Петрович усмотрел в звонком ударе вовсе не заботу дражайшей супруги. Удар отозвался звоном в мозгу. «Катя!» — хотел воззвать несчастный больной, вложив в этот возглас всю возможную укоризну, но тут взвилась Сашенька:
— Однако! Лоб Ивана Петровича и не полигон для упражнений в хлопках! Знайте: лоб этот не только ваш, но и наш, для нас этот лоб — вместилище светлого разума!
Ах, как возвышенно прозвучали эти слова! Жаль лишь, что ракета, издав последний яростный взвизг, вгрызлась, по-видимому, в мозжечок и там с жутким грохотом взорвалась.
Кромешная чернота, круговерть. В жутком кошмаре Ивана Петровича забросило в чан с кипящим асфальтом. Пар, жар, нечем дышать. Иван Петрович в образе птички. Порхает над черным расплавом и вылететь невозможно, потому что рядом — кошачья усатая морда. Спасите, откликнитесь! А за стенками чана женский взволнованный голос:
— Но для чего вам нужно вместилище разума? Для делания диссертации?
А воздух горяч, и некуда деться. И взлететь, фр-ррыкнуть мимо усатого сторожа тоже нельзя, потому что… искривлена лопасть на выходе. Защиты, защиты!
— Я и не думаю теперь защищаться! Мое дело теперь — защищать!..
Какие знакомые, какие далекие голоса! А в легких — не воздух, а плавкий, горячий гудрон. Невозможно дышать.
— Эти ковры!.. Невозможно дышать! Вот оно от чего затемнение в легких: ковры! Дорогие, престижные, полные зловредных микробов!.. Вы — мещанка, Екатерина Перфильевна!
—Я?
Я — птица с обожженными легкими. Я задыхаюсь. Кто запустил меня в чан?
— Вы запустили болезнь Ивана Петровича! Пользовались им как, как… ковродобытчиком! Как… Как…
— Мужчиной? — чей это голос? Катюши? — Уж фи!
Фи! Вздорное, обидное «фи» спугнуло кота. Метнулся, исчез. И асфальта в легких как ни бывало.
Очнулся… Иван Петрович очнулся, но проявил хитрость: вслушался в перепалку, не раскрывая глаза.
— Это низко это гадко, это ваше ехидное «фи»! — кричала возбужденная Сашенька. — Весь ход ваших мыслей изобличает вас!
— Изобличает? Но в чем? — мелко смеялась сорокалетняя женщина. — Не в том ли, что я пользовалась им как мужчиной? — и вдруг, испытующе посмотрев на соперницу: — Да уж вы ли… Уж ли не?..
— Вам показалось: я недостаточно опытна?
— Ой, не могу! — заливалась Екатерина Перфильевна.
— Так знайте же: не было дня, чтобы меня кто-нибудь не любил!
— Ой, держите меня!
— Не было дня, чтобы я не была влюблена!
— Бедняжка! — умирала от смеха Екатерина Перфильевна.
Но тут Иван Петрович вздохнул. Чуткое ухо жены мгновенно откликнулось. Она замолчала. Иван Петрович снова вздохнул.
— Да, влюблена! — воскликнула пылкая Сашенька. — Но ради науки, ради… если хотите, Ивана Петровича я отринула…
— Сашенька! — Иван Петрович намеренно обратился к своей аспирантке, именно к ней. — Поясните же, что со мной!
И это обращение, этот взгляд на соперницу подействовали на Екатерину Перфильевну как кипяток. До этого все было не так уж опасно (она так считала). Теперь же… Отважная женщина, она смело рванулась навстречу опасности.
— Так что вы хотите? Или — кого вы хотите? Уж не Ивана ль Петровича? (Муж-предатель молчал… и подлая аспирантка молчала.) Так берите! — в сердцах воскликнула Екатерина Перфильевна. — Раз ради науки — не жалко! Немедленно!
Сашенька не упустила возможности расставить точки над «i»:
— Значит, отдаете Ивана Петровича? — сладко спросила.
— Забирайте! — повторила Екатерина Перфильевна, оскорбленная насмерть. И, примирившись: — Если поднимете…
— Я?
— Если поднимете!..
С неожиданной ловкостью Сашенька кинулась к постели больного. Как ни прятался, как ни барахтался Иван Петрович, упрямая аспирантка его выскребла, завернула в одеяло, как в кокон, и легко подняла, шепнув чуть погромче, чем если бы намеревалась поберечь свои слова в тайне:
— Милый Иван Петрович, я сохраню вас для священной пауки!
— Продукты хранят в холодильнике! — пошутила (явно некстати) Екатерина Перфильевна.
Ах, как некстати она пошутила!
— Видите ли, Екатерина Перфильевна, — заметил донельзя обиженный муж, — истину вы так и не сумели постигнуть: наука священна, и все остается…
— Людям! — эхом откликнулась довольная, незапыхавшаяся аспирантка, и Иван Петрович поддакнуть не замедлил. (Однако все же сделал такое движение, чтобы из кокона выскользнуть.) Но Сашенька была начеку: — В холодильнике, говорите? — кидала гневные фразы, одновременно закручивая одеяло потуже. — Главная прелесть бульона, говорите, в прозрачности?
— Да уж, пожалуйста, — внезапно тишайше ответила Екатерина Перфильевна, — Иван Петрович терпеть не может непрозрачных бульонов!
Иван Петрович, несколько озадаченный новым своим чрезмерно возвышенным положением, опять услыхал звон в голове, однако же возразил:
—Зачем преувеличивать, Екатерина Перфильевна? Адекватнее выразиться: предпочитает прозрачное непрозрачному! — но вспомнил о легких: — Осторожнее, Сашенька! — и вновь сделал движение как бы уныривающее. Сашенька его придержала.
— Иван Петрович подвержен сенной лихорадке, — осторожно заметила Екатерина Перфильевна.
— Не сенной лихорадке, а аллергии, и не столько подвержен, сколько — случается! — уточнил грамотный доктор и попытался несколько уменьшить сжимающее действие одеяла.
— Не сенной лихорадке, а аллергии! — вскричала довольная Сашенька, покрепче обнимая одеяло одним из удавов. — При затемнении первое дело — вентиляция легких! — другим же выдавливая настежь створку окна.
Иван Петрович тонко чихнул.
— И не забудьте про морскую капусту! У Ивана Петровича часты блокировки кишечника! — ледяным тоном напомнила Екатерина Перфильевна, наблюдая искажение личика пережимаемого удавом супруга.
— Ха, блокировка! Литровая клизма — и никаких блокировок!
— Ради бога, Александра Сергеевна! — раздался полузадушенный голос! — Я — принципиальный противник насилия над кишечником!
— Иван Петрович — принципиальный противник насилия над кишечником! — повторила хозяйка, и Сашенька вздрогнула.
— Александра Сергеевна, мне трудно дышать!
— Александра Сергеевна, ему трудно дышать! — подтвердила тощая дама с неким особенным ударением.
— Александра Сергеевна, у меня звон в голове!
— Александра Сергеевна, у него звон в голове!
— Черт побери, да отпустите меня!
— Черт побери, да отпустите его!
Сашенька вздрогнула. Застигнутая этой спевкой врасплох, с ненавистью осмотрела хозяйку. Та была до жути надменна.
— Воздуху, воздуху!
— Воздуху! — сказала Екатерина Перфильевна.
Потрясенная Сашенька перевела взгляд на научного руководителя. Лицо его показалось ей странным: зубы оскалены, язык вылез наружу… Да он строит ей рожи!
— Ах, вы насмешничать! — и со всей силой она запустила Ивана Петровича в Екатерину Перфильевну.
Как ни мала была та, но дать слабину в такой ситуации было нельзя. Ловко подхватив изменника-мужа, опалила огнем голубых глазенап:
— Ловите обратно! — и отфутболила Ивана Петровича прочь.
Надо признать, что если в первом полете Иван Петрович держался не очень воспитанно: сучил ножками и пытался хвататься руками, то при втором запуске распорядился собой более умно: расслабился, чтобы быть тяжелей.
Сашенька едва поймала его, уже у самого пола. И это еще более раззадорило. Перехватив учителя за ноги, завращала его над серой, будто легкоатлетический молот. Могучая в гневе своем и прекрасная.
— Катюша-а! — послышался писк. Услышав этот страстный призыв, Екатерина Перфильевна мигом простила все сразу и навсегда. Облизнув губы, как кот из сна Ивана Петровича, метнулась к супругу, направленному точно в окно.
Звон стекла. Женский визг. Мужской отчаянный вопль.
В самый последний момент Екатерина Перфильевна успела выдернуть рвана Петровича. Коня на скаку остановит!
Перевела дух и пошла прямо на Сашеньку, выставив драгоценную ношу. И Сашенька сплоховала: посторонилась. И обернулась взглянуть. Иван Петрович гримасничал, пытаясь придать лицу достойное выражение.
— Спокойной ночи! — сказала Екатерина Перфильевна.
— Ну нет! — отрезала Сашенька, ощутив вдруг прилив необыкновенной, внезапной энергии. — Обкормили бульонами? Клизмами запугали? Смерти желаете?
Стон изошел из постели больного.
— Однако! — вскричала Екатерина Перфильевна. — Или мы — неинтеллигентные люди?
Сашенька грозно шла на нее. Екатерина Перфильевна сделала выпад вперед, как если бы в обеих руках ее были кинжалы. Сашенька отшатнулась. Но Екатерина Перфильевна вдруг развернулась и дала деру из комнаты.
— Что со мной, Катя? — надрывался покинутый. Взбешенная Сашенька поняла: пробил час, хозяйка метнулась к двери. Сашенька висела у нее на хвосте. «Так вот оно, как не сдвигать точку срыва по-вашему?» — прошипела она и схватила вертихвостку за плечи. Та подалась и сразу обмякла. И тогда, обманутая этой податливостью, Сашенька развернула тощую глазенапу, предусмотрительно распахнув дверь ударом ноги, и слегка подтолкнула.
И… И неожиданно перелетела через спину хозяйки, которая неуловимым движением успела пригнуться и, как заправский самбист, захватив длинную руку, перебросила Сашеньку через себя.
— Что, Ванечка, кончилось твое легкое затемнение? — услышала Сашенька, поднимаясь.
Дверь громко захлопнулась.
Не в легких — а легкое? Затемнение — что имела в виду эта дура?
На счастье Ивана Петровича, последние действии вряд ли имели месте, в действительности. Они были навряд ли, потому что Иван Петрович очнулся вдруг в потной постели целехонький, и, пожалуй что, не летавший по воздуху.
Пожалуй, Иван Петрович снова забылся в какой-то момент. Вопрос: в какой именно? Ведь не спросить!
— Катяша, а где Александра Сергеевна?
Вместо ответа — громыхание кастрюль.
— Котик мой, а что, верно, будто у меня затемнение?
— П-ш-ш! — зашипело какое-то варево.
Иван Петрович потянулся за книгой.
— Как интересно, чижуня! — с ненатуральным интересом воскликнул. — Здесь написано, что мороженое в Европу привез Марко Поло!
Гробовое молчание.
Под рукой новая книжка. Шекспир. «Леди Макбет».
С отвращением отбросил.
Вот еще одна… «Анна Каренина», черт побери!
— Черт побери! — плюется доктор наук, что ни книга — все про интрижки! Екатерина Перфильевна! — зычно кричит, — куда дела »Теорию пограничного слоя»?
В дверях появляется Екатерина Перфильевна.
«К чертовой матери всех молодых дур! Надо заниматься наукой!» — думает доктор и все всматривается, все изучает.
— А бульон? Кто забыл про бульончик? — напевает жена. — Бульон с пирожком!
Иван Петрович изучающе всматривается: пожалуй, что ни следа волнений! Приснилось? Нет, неужели?
— Катенька, — шепчет любящий муж, — но достаточно ли он прозрачен?
— Я очень старалась, — скромно отвечает она. — Да, вот еще: позвони Александре Сергеевне!
Не сводя настороженных глаз с кукольного лица, Иван Петрович берет пиалу.
«Приснилось! Какое счастье — приснилось! — несется суматошная мысль. — Но если так… Если так! Отчего бы не звякнуть тогда, если так? В конце концов, если ничего не случилось… Грудка такая… Правда вот ножки… Но грудка!.. Позвонить и с легким смешком, для разведки осторожно начать… Прямо так и начать: все смешалось в доме Болконских!.. А, каково? Гениальная фраза! Фраза великого классика!» — Иван Петрович смеется.
Порыв ветерка отметает тюлевую занавеску. В оконном стекле над головой его зияет дыра. А доктор смеется: всех дур обыграл! Что значит — умный мужчина!
Ветерок поддувает, умный доктор смеется, зияет дыра.
Язык прозы, язык прозы… Да что же это такое, черт его побери?!
Понятно: язык — лишь код для передачи душевных стихий. Язык (литературный) — это множество слов, отражающих языковую среду героев. Чем новее и точнее слова, тем богаче язык, так еще говорят.
Однако же… Что такое литературный язык Достоевского? Тридцать три слова, из которых каждое можно и переставить, и заменить — вот весь литературный язык Достоевского! Так не поэтому ли этот гигант покорил мир?
…В Евангелиях слов тоже немного.
Александр Жулин.
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».
ХИЖИНА С ШАШЛЫКАМИ
И еще о любви
Человек, который узнал о предательстве, начал готовиться к схватке. Нет, детских упреков не будет, будет сражение, открытое, честное! Он потребует объяснений, призовет на помощь товарищей и не важно, чем кончится дело, пусть — поражением, но надо, надо расставить точки над «i»!
Однако вот странность: человек еще ничего не успел предпринять, как вдруг обнаружил, что товарищи будто сплотились, и будто — все против него! Нет, со стороны никто бы ничего не заметил, они, казалось, все также шутили, но настороженным чувством своим он уловил некий фальшь-звук. Он пока не сумел его выделить, но тем внимательней вслушивался, тем хладнокровнее выжидал…
Валентин мирно сидел, вытянув ноги и привалившись спиной к рюкзаку. И от усталости невмоготу было пошевельнуться.
—Вот бы кто-нибудь вырубил в гору ступеньки, — сказал просто так.
— Нам только горы не хватало! — тут же откликнулись.
— А то б эскалатор… А на вершине бы — хижина… — мирно сказал.
— А в хижине — кавказец с усами! — тут же добавили.
— Люди поднимались бы в гору, смотрели кругом…
— А кавказец бы изжарил шашлык! — так вот продолжили.
— Поимев неплохой куш! — наконец выдохлись.
Привал был устроен у подножья одинокой высоченной горы. Их было семеро, считая красивую девушку. Вот девушка встала и замедленно — словно танцуя — проплыла мимо Валентина. И сделала так, будто споткнулась о ногу.
— Не лучший способ обратить на себя внимание дамы, — сказала она. — Любишь меня?
Он был обязан традиционно солгать: — Оч-чень люблю! До… — и далее был обязан продолжить. «До посинения», — так уже продолжал. «До омерзения», — тоже.
— Нет, ты не ответил! — рыдающе вскричала она. — Как? Ну, как ты любишь меня?
— А никак, — внезапно вмешался высокий и седоватый мужчина, — он не умеет. Герой современности — железобетонное сердце!
И все улыбнулись.
Но Валентин будто не слышит. Он смотрит на девушку.
— Хижина с шашлыками, — не сказала, нежно пропела она. — В поле гора-а, на ней хижина, в хи-ижине молодой горячий джигит! Но я не люблю шашлыков, не люблю усатых джигитов, люблю смелого Ва-алечку, который рвется на гору!
Ничего себе хохмочка: рвется на гору! Гора нависла над ними, крута и огромна, и ближе к вершине каменистые склоны ее облиты ледяными усами. Не опуская лица, обращенного к девушке, Валентин прикрывает глаза.
— Нет, — вмешался опять седоватый, — давке ради красивой Мариньи не найдется такого, кто бы покорил эту гору. Ставлю кефир с шашлыками, что не найдется такого!
— Он ставит кефир! — вскричала певучая девушка, — эти мужчины! Где полет, где фантазия, Игорь Петрович? Я бы тому, кто поднялся, я бы…
— Подарила один поцелуй! — тут же откликнулись.
— Один, но отчаянный! — тут же добавили.
— В хижине! И без свидетелей! — так вот закончили.
А назывались они — автоматчики. И проектировали завод-автомат железобетонных изделий. Замысел был — избавить полтысячи человек от пыли и грохота, заменить их двумя ЭВМ и пятью операторами в белоснежных халатах. Этот замысел-загляденье возник у начальника, когда и в Америке подобным не пахло, но в те времена идею зажали, поскольку… поскольку и в Америке подобным не пахло. А сейчас спохватились, кинулись догонять, начальник сейчас, упорный, победный, распахивал дверь в кабинеты одной левой ногой.
Было начало 85-го, пока еще сонное…
А вчера человек обнаружил на столе у начальника странный доклад. Двадцать страниц машинописного текста — «Обоснование закупки автомата-завода в Италии».
Человек был потрясен. Запоминал, перечитывал снова и снова. Затем заперся в боксе, чтобы обдумать.
И тут постучали. Стук был неестественно громок, так стучал только начальник.
— Ты один, Валентин?
Взгляд молодых черных глаз, неожиданных из-за седых, нависших над ними бровей, всегда его подавлял. Под этим умным внимательным взглядом терялся.
— Я прочитал… я случайно увидел… как же так, Игорь Петрович?
Взгляд подавлял, потому что в нем отражалось понимание слабости собеседника. «Ах, случайно увидел? — отражалось во взгляде, — и случайно же прочитал?»
— Мы работаем, упираемся, — бормотал Валентин, пряча за спину руки, — зачем же Италия?
Тебе больше по сердцу Париж?
Вот так всегда! Быстрый легкий вопрос на вопрос, и чувствуешь себя дураком.
— Больше любишь француженок?
Конечно, надо пропустить эту насмешку мимо ушей, надо твердо спросить: если вам приказали, то почему сразу сдались?
— Ах, ловелас, — качает головой Игорь Петрович и смотрит добро, улыбчиво. Так добро, улыбчиво, что начинаешь сам улыбаться в ответ.
А Игорь Петровиче уже у процессора, перебирает пальцами клавиши, и будто перебирает бесцельно, потому что вид такой у него, словно прислушивается к чему-то далекому, к тому, что срабатывает в таинственных глубинах мозга его и что имеет несравнимо большую важность, чем вся эта окружающая чепуха. И не поддаться, возразить, найти меткое слово не удается никак, а на дисплее все бегут и бегут строчки программы…
Вдруг:
— Но, Валентин, это же нонсенс! Здесь должна быть ошибка.
И кончено! Кровь затуманила голову, кинулся сравнивать, проверять… Когда в самом деле обнаружил ошибку — ну, Игорь Петрович, ну, крокодил! — его уже не было.
А затем пришел стыд за свое бездарное поражение, за то, что не сумел возразить, настоять на своем разговоре. И увиделась насмешливая улыбка Марины…
С силой ударил кулаком по столу, чашка, из которой прихлебывал чай, подскочила на блюдце и звякнула.
Девушка, улыбаясь, смотрит в упор. Шапочка — голубая, курточка — голубая, глаза синие, яркие, а лицо раскраснелось, а губы припухлые, сочные.
— Отцепитесь вы от него, — встревает румяный Евгений Евгеньевич. — Вы любите дразнить славного Валю, он любит кушать шашлык. Как и я, представьте себе. Нежное мясо, пропитанное виноградным уксусом, хрустящая корочка, острый соус аджика. Но ни поцелуем, ни шашлыком вы нас не купите. Мы с Валей не долезем на пору!
Толстяка никто «покупать» и не думал. Тем более — целовать. И она стояла и думала: вот сейчас наклонюсь, вот сейчас!
— Вам нужно два трупа? — нажимал Евгений Евгеньевич. — Извините, но цены не те!
— Разумеется, цены не те! — сказал Игорь Петрович, — разве купишь Евгения Евгеньевича шашлыком, приправленным поцелуем? Евгений Евгеньевич сто лет как женат и, стало быть, давно уже куплен! Чего же касается доблестного Валентина…
— Да, что касается доблестного Валентина!.. — мигом откликнулись. — То, извините, что ему поцелуи! — так подхватили. — Что ему шашлыки? Валентин и целебный кефир — смехота! Компьютеры — это другой разговор! Железобетон — это да!
А ее словно кто-то подталкивал: смейтесь, смейтесь, сейчас наклонюсь!
— Нет, — возразил Игорь Петрович, — его конкретностью, даже столь привлекательной…
— Душещипательной, сердцехватательной…
— Не подкупишь! — оборвал Игорь Петрович. — Только хижина, хижина — как святая идея. Диоген! — сказал Игорь Петрович очень серьезно, и многие прыснули. А она тут и решилась: сейчас! Сняла шапочку, потрясла головой — вправо-влево — волосы, длинные, волнистые, разметались.
— Хижина на горе-е, это краси-иво! — пропела для храбрости, — за хи-ижину его и люблю, Диогенчика! — и, наклонившись, накрыла, обволокла пушистыми прядями.
Вот тогда Игорь Петрович, похоже, задергался.
— Однако мы застоялись, пора! — Ловко вбил ногу в крепление лыжи. Он был очень высокий и стройный, широкоплечий, с мужественно суховатым лицом. Валентин против него — что ворона против орла. — Пошли! — повторил Игорь Петровичи вбил другую ногу в крепление.
Но она не торопилась его поддержать. Она по-прежнему стояла над худеньким Валей, окутывая волосами его голову, плечи. Густые и длинные были волосы. Завесили оба лица.
Евгений Евгеньевич кашлянул.
А человек, обжав уши наушниками, из которых мурлыкала музыка, выжидал секунду-другую, чтобы попасть в такт бодрого джаза, и вместе с ударом гулкого барабана врубал кнопку «пуск» на клавиатуре процессора. И когда начинало отстукивать, когда выползал рулон иссиня-белой бумаги, испещренной закорючками цифр, он ей подмигивал. И выкладывал перед ней, разворачивал этот рулон, как какой-нибудь астроном. Как если бы астроном-открыватель разворачивал карту с новой звездой перед возлюбленной.
Звезда «Марина».
Волосы, душистые, мягкие, закрывают весь мир.
— Поцелуй меня, — слышит едва уловимое.
Программа «Марина».
Положено давать шифры-ключи для программ.
Все его шифры начинались Мариной.
— Любишь меня? — шорох слов.
Лицо ее горячо. Губы нежны. Губы скользят по лицу.
— Победишь эту гору?
— Следует все же подумать, что делать с птенцами, — осторожно заметил Евгений Евгеньевич. — Наказать? Валя, Марина, ку-ку!
Евгений Евгеньевич был энергичный стандартный толстяк: крепенький катышок. Белесый и с тугими румяными щечками. Следующий по старшинству за начальником, из-за чего находился всегда чуть-чуть в оппозиции.
— Эй, вы, ку-ку! — крикнул повторно, уже раздражаясь.
Но Валя не шевельнулся, и Марина, его заслонившая, тоже. И, словно в ответ, послышался звук, который вполне можно было принять за звук поцелуя.
— Это нечестно! — тут же откликнулись. Но не добавили, не закончили. И тогда Игорь Петрович веско сказал:
— Раз, был поцелуй, кушанье продано: Валентину придется залезть. Но без нас. И красивой Марине надо остаться для подстраховки. Мы же пойдем.
Это прозвучало как указание. Все на минуту затихли.
— Осталась бы с ра-адостью, — послышался невнятный голос красивой Марины, — только во-от…
— Что только во-от, что? — пропел ответно Евгений Евгеньевич. Было видно, что это ему все больше не нравится.
— Только во-от Валечка, ах! — сказала она, выпрямляясь, — не хочет оказать внимание даме.
Валентин же притих, и никто не откликнулся.
— Или, может быть, не умеет, — сказала она. — Впрочем, надо идти! — и принялась закалывать волосы. И все поднялись. Но почему-то вдруг обнаружилось, что у каждого что-нибудь да пропало. Кто стал искать рукавицу, у этого потерялась веревочка, большой, нескладный Потылин вообще не поймешь, зачем озирается… Но также разом вдруг выяснилось, что рукавица лежит в рюкзаке, веревочка преспокойно — в кармане, Потылин добродушно осклабился: искал, видите, шапку, а она, видите, на голове!
Тронулись!
Ого не успел осознать еще, чем был вызван неожиданный звук, не успел почувствовать жжение и влагу на лбу — да, на лбу! — а сердце загодя встрепенулось.
— Осталась бы с ра-адостью, — оглушило его восклицание, — только во-от… ах!
— Что же, идите, идите! — крикнул им нервно. — Вы же не знаете, что он задумал! Они ведь не знают, ведь так? — уставился на начальника. («Ведь так!» — кто-то откликнулся.)
— Что ж вы молчите? — Игорь Петрович пусто глянул в ответ. («Да, что же?» — было подхвачено.)
— Раз вы молчите, тогда скажу я!
Говори, кто мешает? — хмуро подумал Игорь Петрович. На нос упала снежинка. Гадкий мальчишка! — усмехнулся досадливо. Поднял голову, выдохнул. От парного дыхания пушистый десант разлетелся, тая и исчезая. Но на смену шли новые волны. Вот так, — подумал Игорь Петрович, — придет мне на смену другая волга. Что? — тут же и спохватился. И тут же поправился: когда-нибудь, но не сейчас.
Мальчишка от злости, от нетерпения выложить нечто, по его мнению, архизначительное, вертелся на месте, вглядываясь то в одного, то в другого.
Или и вправду, с интересом посмотрел на него Игорь Петрович, отправить на гору такого волчонка?
И падал, и падал медленный снег, качались лапы потревоженной ели, все было так плотно, бело…
— Ну, что же ты? — спросил ласково несмышленыша.
Все было так плотно, бело, что отвечать расхотелось. Валентин каждого оглядел — ни в ком интереса!
— Ладно! — махнул рукой Валентин, уже стыдясь своей злости и дрожи, своей неуместности. — Раз не хотите… Раз наплевать…
Тут Игорь Петрович сделал такое лицо… Такое, такое… они рассмеялись. Да, они рассмеялись, и Валентин пал было духом. Но спустя какое-то время — словно до нее шло, шло, и дошло, наконец, — она вдруг оборвала свой смех, и почему-то все они замолчали, и стали к ней оборачиваться, а она, кривя подкрашенные губы свои, с неожиданной упругой энергией отчеканила — словно надавала пощечин:
— Вот он в этом весь! — с таким презрением сказала она, что Евгений Евгеньевич даже присвистнул. — А я его еще на горку звала!
Что, что она говорит? Как смеет?
Она смотрела так беспощадно, так откровенно презрительно, что Валентин вдруг успокоился. Надежды, волнения, все, что было связано с нею, куда-то умчалось. Сразу стало легко и свободно, и тотчас в свободном, спокойном мозгу забрезжила поначалу неясная и даже какая-то странная мысль. Да нет, быть не может! Но когда взглянул повнимательнее на нее, когда увидел, насколько чужим для него стало это лицо.
— Послушай, сказал, примеряясь. — А ведь расчет экономической эффективности, пожалуй, делала ты! Никто другой не доводит цифирь до сотых долей копейки!
Она так и подумала: спятил! А вслух:
— Сдурел?
Снег, ели, суббота, мороз! Какие расчеты?
— А вот какие расчеты, вот! — начал сдержанно он — Такие расчеты, которые связаны с чав-чав бамбино!
Ему показалось, что они растерялись. Только Игорь Петрович, бесстрастный, с размаху ткнул палку, чтобы выбить снег из креплений. Но стук палки был слаб для такого снежного дня, никто не заметил.
А вокруг ослепительно белели снега, а над ними нависла гора, величаво-холодная, и золотилось блестящее солнце, а слева уже проглянула луна, прозрачная в голубом небе, печальная.
И люди все как-то уменьшились и будто бы обособились.
— Допустим, — ответила она напряженно, — я считала и это. Так что?
— Ага, — сказал он, стараясь, чтобы тон его не показался недобрым. И уточнил: — Поняла, значит? Значит, знала! — и повернулся к товарищам. Они выглядели озадаченными.
— Постигаете? — начал с ледяной выдержкой. — Кое-кому захотелось прокатиться в Италию! — и не стерпел, завопил: — Каналы, гондолы, Венеция! — бешено, зло завопил, — а то, что мы упираемся, что делаем зряшный проект…
Его мягко взяли под локоть: — Ладно, Валя, — сказали, — не место, уймись!
— Евгений Евгеньевич! — живо вскричал, оборачиваясь, — как же не место? Вы же не знаете! Он, — указал пальцем в начальника, — пробивает закупку завода в Италии!
— Почему же не знаю? — мягко удивился Евгений Евгеньевич. Да, удивился. Весь вид его был — само удивление. Добродушное удивление, И Игорь Петрович повторил на редкость похоже это удивленное выражение. — И что в этом плохого? — спросил Евгений Евгеньевич. («Да, именно, что в этом плохого?» — поднял, изогнул дугами седые брови Игорь Петрович.) — Живая работа, зримая премия. Я лично мечтаю, что премии хватит на взнос в садовый участок. Свой огородик, внучке клубника…
Игорь Петрович даже слюнку сглотнул. Ало-белесая плоть, тающий сок, такая вкуснятина эта клубника!
Валентин глубоко вздохнул, отвернулся. Солнце коснулось вершины горы. И тотчас все осветилось праздничным розовым светом. Снег заискрился миллионами блестящих иголок, над горой будто запламенела корона, а тени елей окрасились нежно-лиловым.
— Я ж неверно сказал, — проронил, — я ж не о премии, не только о том, что кто-то поедет в Италию, это не зависть, поймите…
— А что, мы не поняли? — тут же откликнулись. — Ты ж не о том, что кто-то поедет я Италию! — тут же добавили. — Ты ж не о клубники для внучки! — так вот продолжили. — Ты же о том, что никто не лезет на гору.
И тогда он на них внимательно посмотрел.
Нет, как он на них посмотрел!
Что такое?
Они оглядели друг друга. Вот Евгений Евгеньевич, жизнерадостный, добрый толстяк. Снежинки тают на его плотных, круглыми мячами щеках, будто на лампочках. Вот Рой, смуглый, прыгучий, ловкий, как белка, чем плох? Ну, Семенов невзрачен, подслеповато помаргивает, морщинистый, пожилой. Но каково-то ему среди них, которому все — молодые? А ведь держится, не уступает ли в чем никому, отличный старший товарищ! Потылин? Большой, всегда чуть запоздалый и не самый великий умница, но это он ставит точки в конце шуточных перепалок. Что, нехорошие мы ребята?
Нет, как он смотрит, вы только вглядитесь!
И тогда пришлось обратиться к начальнику. Игорь Петрович, скажите!
— Так, — мгновенно откликнулся Игорь Петрович, меняясь в лице. Сейчас перед ними был уже не удивленно-наивненький Арлекин, сейчас перед ними стоял полководец.
— В стране выпуск бетонных труб в десять раз меньше потребности! Проектировщики не предусматривают их применение, так как их нет, а строители не развивают трубное производство, поскольку не видят бетонные трубы в проектах. Чисто советская ситуация! — Блеснул чернотой глаз, вызывающе яркой на окружающей белизне.
— Закупим завод-автомат, разве не сделаем решительный шаг? Ну, отвечай, Валентин! — Глаза жгли черным пламенем, Валентин невольно подался назад. Разве в том правда, чтобы обязательно сделать свое? Или наверху дураки?
Как ответить, что возразить? Спросить про Марину?
— Смысл автомата-завода — гибкое производство. Нужны малые трубы — пожалуйста! Ваш вкус изменился? Пожалуйста, делаем крупные! Так-то вот, Валя, гибкость — основа основ!
Валентин нагибается за снежком. Зачерпнул полной горстью, лепит, сжимает, молчит. Остается одно: спросить про нее!
— И не ясно ли, что под лицензионный шумок мы вышибем деньги, аппаратуру, людей для наших работ? Кто сказал, что отказываемся от своих разработок?
Снежок получился хорош. Плотный, округлый, леденящий, большой. Зачем, впрочем, спрашивать? Залепить ему в лоб!
— Эх ты, компьютер, — сказал Игорь Петрович и подмигнул: — Гибкость, ты понял? Уметь приспособиться!
— Чисто советская ситуация, засмеялись, — на работе трепаться о женщинах, а в компании с женщиной ссориться из-за работы!
С силой залепил снежком в ствол ни в чем не повинной голой сосны.
— Что же, — ответил, — раз вы так все, раз все заодно… И так у вас слаженно… Что же, я лезу!
Негромко, тихо сказал, и сам испугался: он что, с ума?
— Я выстрою хижину! — выкрикнул, торопясь нажать на пружину крепления. — Я приглашаю вас в гости!
Там и посмотрим, кто как упирается, бормотал, хлопоча над креплениями.
— А вы уходите, да-да! — сказал, выпрямляясь. — Вернетесь сюда, когда будет выстроен эскалатор! — и зашагал.
И они рассмеялись. Уф-ф, облегчение. Ха-ха-ха, такой этот парень нелепый, игрушечный. Гы-гы-гы, ему же все разъясняли, а он лезет на гору! Хо-хо-хо, да нет, не тревожьтесь, он не полезет! Покипит да и остынет, ха-ха!
Он зашагал. Сильно толкаясь ногами, крепко опираясь на палки.
«Получит страна завод-автомат или нет?» — как же, оратор!
Там впереди белеет гора, а сейчас он пересекает пролесок. Здесь тише, тенистее, и снег между деревьями глубже, рыхлее. А ели более стылы, все пышнее на них погребальный снежный покров.
Нет, они его не окликнули. Он уходил в холод, в безмолвие, а они, остающиеся на теплой, освещенной солнцем равнине, будто и не заметили этого.
«Разве этим не ускорим внедрение автоматики?» — краснобай!
Повел зябко плечами. Отчего все же так вышло? Ведь не такой уж он заядлый, безрассудный боец за «свое». Что ж он, в самом деле в «герои современности» рвется? Чушь, чепуха! Оскорбился разговором о премии, такой чистюля. Вообще ерунда! Так отчего они все как сговорились? Отчего так окрысились на него? Ведь уходить ему не хотелось, так почему все же ушел?
А снег держал лыжи крепко, лишь изредка, поскрипывая, проседал. И с каждым махом, с каждым толчком на душе становилось уверенней. Чем дальше он от них, от него, тем лучше, покойнее.
«Свой огородик, клубничка!»
Но вот рощица кончилась, И тотчас последовал резкий излом вверх. Не сбавляя темпа движения, лихо взял «елочкой». Ловко перебрасывал лыжи, вонзал палки под них для страховки, экстра-класс, а не лыжник!
С севера подул ветерок. Повернул голову, лицо обожгло чуть задохнулся, прекрасно! Это сладостное чувство свободы!
Толщина снежного покрывала между тем становится меньше. Теперь то одна лыжина соскрежетывает, то другая. С удовольствием нажимает на палки, ощущая силу в кистях и плечах.
И тут издалека доносится возглас.
Прислушался. Поставил шалашиком палки, оперся.
Там, внизу они все. Запрокинули лица, что-то кричат, вроде зовут.
Внезапно ощутил оторванность от людей. Такая глухая гора, тени елей черны, на кой черт он карабкается? Пришла задорная мысль: а что, если спуститься? Вон, машут руками, зовут.
Если встать поудобней, чуть оттолкнуться, поехать не прямо под гору, а наискось, если крикнуть погромче: «Эге-гей!» — и, словно так и было задумано, с удалым посвистом съехать, догнать, рассмеяться: «А здорово я вас разыграл?»
И что такого особенного? Ну, возникнет повод для шуток, и что? А в городе, похохатывая, отправятся вместе обедать, сдвинут столы, преодолев шумное недовольство буфетчицы, и кто-нибудь, скорее всего Игорь Петрович, подняв стакан с белым кефиром, поднимет тост за нашего скрытого итальянофоба, за его тайную и возвышенную склонность к француженкам.
И он, Валентин, первым смущенно, но улыбаясь, откликнется.
Он помедлил. В сущности, знал, что назад не вернется, что просто тешит себя, будто в состоянии еще выбрать поступок, потому что все решено наперед. Потому что он во власти какого-то волнующе неодолимого чувства упрямства, и хотя, может быть, это чувство ошибочно, но в подчинении ему есть потаенная сласть.
И все-таки медлил.
Опять глянул вниз и поразился: они уходили! Все уходили. Первым, в зеленоватой походной куртке, Игорь Петрович. За ним — голубая Марина. Следом яркий, как снегирь на снегу, Евгений Евгеньевич. Вон подвижный, быстренький Рой, вон Семенов, низко пригнувшийся, сосредоточенный на движении, вон размашистый, неуклюжий Потылин. И понял: они уходили так спешно, уверенно потому,
что жалели его. Да, жалели! Обычная деликатность, они уходили, чтобы дать ему возможность тайно спуститься!
Деликатные все такие товарищи!
Такие веселые, дружные, во главе с таким сильным и мудрым начальником.
Такая влюбленная, такая красивая девушка!
Прикрыв глаза ладонью от жгучего ветра, долго смотрит им вслед. Сияют снега, ослепительные, равнодушные. И он — в вышине — стоит, наблюдает, оторванный от друзей. Весь мир перед ним, и что-то толкает: выше, надо подняться повыше!
Ощутил раздражение. Гадость какая! Они уходят, чтобы дать ему возможность тайно спуститься! Ну уж нет! Ни за что!
Задрал голову вверх. М-да, гора и в самом деле пугающе неприступна. И если здесь снег еще плотен, то выше — сплошь обледенелая корка. А выше еще — черный каменистый утес, покрытый снежной чалмой. Впрочем, зачем добираться до самого верха? Вон там, метрах в тридцати от утеса, торчит заметная ель. Вот его цель, этот змеей изогнутый ствол, это красноватое дерево, эта копна снега над темными изнанками лап!
Перенес верхом левую ногу, приставил лыжину к правой. Переходим на «лесенку». «Победишь гору?»— спросила она. А как же! Но не ради тебя!
И начал подъем. Сопя, отдуваясь, все крепче напрягая мускулы рук. А воздух становится все взбаламученней — ничего, сдюжим! Аромат свежего снега, он завораживает; странная жадность поглотить эту сахарную белизну, она опьяняет. Он ставит ногу, ребром лыжи врезается в наст, подбивает под лыжину острую палку и так, потихонечку-полегонечку, поднимается.
Какой-то сторож, который находится в нем, но наблюдает его действия как бы извне, предупреждая, бьет в колокол: не надо, не надо, опасно! Но разве, возможно прислушаться? Выше и выше, не взирая на то, что уже не однажды срываются ноги, что руки от постоянного напряжения все неудержимей дрожат, что на высоте сплошь снежная муть, и воздух бьет по глазам, и все труднее осматриваться. Каналы, гондолы, Венеция? Гора — это другой разговор!
А вот и загогулина-ель.
Схватился за толстый изогнутый ствол, подтянулся, оперся спиной, отвернулся от ветра. И тут — содрогнулся, поймав себя, что смотрит хоть и наискось, но вверх, поняв вдруг, что давно приготовился к движению до конца, на вершину, что эта готовность сильнее его, а все предыдущие мысли о промежуточных целях — обман.
Да, отлетели прочь злые суетные мысли, осталось одно, настоящее: он и Гора. Все ясно, и просто, и вкусно, и свежо, как звонкий морозный день. Шуточки, поцелуйчики, да?
Впрочем, что тут особенного? Чем ближе опасность, чем она зримей, тем отчетливей видишь способы, как с ней совладать. Ведь вот если взять чуть левее, там разросся мелкий кустарник, там, пожалуй, можно вплотную подобраться к утесу. Его охватило приятное возбуждение. Да, там вполне можно подобраться к утесу!
Он осторожно пробирался вдоль склона, с каждым шагом чуточку прибавляя вверх, вдруг соскользнула опорная нижняя лыжина. Всем телом навалился на палку, легкий алюминий согнулся, но выдержал. Ур-ра! И снова вперед и вперед. Хижина как святая идея? И пусть!
Однако подспудно в нем зреет какая-то мысль, он то хочет от нее отмахнуться, загубить ее в корне, то вдруг, боясь, что эта очень важная и срочная мысль не пробьется к сознанию, начинает торопить ее появление, задавал вопросы: о чем ты? О том, что ждет меня наверху? Или… о чем?
Он приподнимает голову, жмурясь от беспощадной снежной крупы и неожиданно видит долгожданный черный камень утеса. Каких-нибудь несколько метров! Ощутив мгновенный восторг, оглянулся.
Эх, зачем оглянулся? — укорит позже себя. Потому что в этот момент мучающая мысль вдруг прорвалась. О спуске, ты подумал о спуске? — вот о чем была эта мысль.
И вся затея его показалась не просто глупой — преступной! Пути назад не было! Он увидел себя как бы со стороны, как нечто крошечное, неровно карабкающееся, непрочное, легковесное. Он ощутил громаду твердого тела Горы и мощь и безжалостность ветра, который случайным каким-нибудь выдохом может сдуть его как козявку. Ненасытная, равнодушная высота! Он скрипнул зубами от злости, покачнулся, переступил лыжами, и вдруг все пошло по чужой, неумолимой программе.
Треснула веточка. Опорная лыжина скользнула назад, перевел вес на другую, но и та, неуправляемая, ринулась вниз, ноги разъехались, он упал, перевернулся, казалось бы, правильно, на бок, но сгоряча оперся на попавшую под руку палку, выпростал лыжину, приподнялся зачем-то и… Лыжи опять заскользили, он осел на задние кромки, и его понесло… понесло… с ошеломляющим ускорением.
Попытался привстать на ходу — неудача, а скорость становилась ужасной, наконец сумел вывернуться, брякнуться снова на бок, больно ударился, крутануло, протащило несколько метров, лыжи взвизгнули на жесткой корочке наста, и в этот момент — тяжелый жестокий удар, боль в правой ноге, боль на коже лица, приступ животного страха, еще проволокло по мерзлому снегу, и, кажется, все.
Падал медленный снег, качались лапы потревоженной ели, так было все плотно, бело, такое было все настоящее и равнодушное — с этим забылся.
Сколько времени длилась потеря сознания?
Очнувшись, не понял, где он, что это, зачем это все. В глазах — темнота, лицо завешено рыхлым, холодным. Вытянул из-под живота руку, вывернутую и онемевшую, повел этой непринадлежавшей рукой, с большим напряжением отмахнул снег ото рта, отгреб от застывающего подбородка.
Оказалось — лежал ничком, распростертый на склоне горы. Увидел внизу барашки сугробов, темные полосы хвои, проглядывающие кое-где из-под них. И — низкая белая тишина. Остро саднило щеку. Осторожно повернулся, тут лыжина, на которой — как оказалось — лежал, заскользила, помчалась вдруг вниз сама по себе, точно живая, точно крыса с гибнущего корабля.
Стянул зубами перчатку, ощутил заломившими сразу зубами вкус скрипнувшей шерсти. Провел рукой по лицу. На кисти — кровавая лужица. Кровь капала в снег, капля за каплей. Зачерпнул пригоршню снега, приложил, ощутив мгновенный укол. Шевельнулся от боли на коже скулы — и вдруг в глазах точно вспышка. Что боль лица — боль ноги пронзила все тело! Боль, боль, ничего, кроме боли. И тогда по-настоящему испугался. До сих пор было — на грани игры, Но лежать на кругом склоне горы, лежать в белом безлюдье с поврежденной ногой — нет, это уже была не игра.
Успокойся, уймись! — закричал на себя, когда первый ужас прошел. Когда боль стала не острой и хотя, может быть, даже более сильной но постоянной томительной, — но выносимой, подумал: оставаться нельзя, надо ползти. Впрочем, «подумал» — сказано слишком сильно. Мысль едва брезжила, с трудом пробиваясь через пелену страха и боли, усталости. Успокойся, уймись, говорил он себе, и ползи, двигайся. Куда и зачем — об этом не думай, ползи! Вверх? Да, вверх, но зачем? На это он бы, пожалуй, не сумел ответить — инстинкт. А силы кончались. А глаза устали видеть снежную степь. И суставы словно схвачены льдом.
Что-то темно взметнулось. Взглянул: серая птица уставилась на него безбоязненно. Ворон? Ворона? Кш-ш, пшла! — махнул окоченевшей рукой. Птица склонила вбок голову, блеснула выпуклым зернышком глаза.
Какая-то дикость: в часе небыстрой ходьбы до железнодорожной станции, а там — с полчаса до шумного города, — замерзать на скате горы, которую бы стоящий альпинист назвал… горкой!
Марина, ребята…
Как же это случилось? Его тянуло заснуть. Неужели он замерзает? Чувство засыпания сладостно. Впрочем, прежде чем погрузиться в опьяняющий сон, надо найти ответ на важный вопрос… А важный вопрос, глупости! Что за важный вопрос, когда он забывается? Он забывается навсегда, и не надо пугаться. Ведь так приятно расслабиться, раствориться. Так покойно заснуть, на все наплевав…
Наплевав. Что-то есть в этом слове. Какая-то тайна. Наплевать, на все наплевать, всем на все наплевать… вспомнил! Они делали зряшный проект, и им было на это плевать! Вот от чего он завелся!.. Господи, глупость какая: заводиться из-за проекта! Неужели лишь из-за этого?.. Что
еще? Марина? Господи, глупости, глупости! Мама, отец, солнце, жизнь — стоило поддаваться женским капризам? Нет, не такой он дурак! Что-то другое, да, что-то было другое!
А они в самом деле решили сделать вид, будто уходят, — чтобы дать возможность ему безущербно спуститься.
Они потянулись гуськом, вдоль горы. Собственно, туда им и надо было. Надо было чуть обогнуть эту дурацкую гору, чтобы затем прямиком двинуть на железнодорожную станцию.
Это был, так сказать, план: его выманить вниз.
Или, может быть, и даже скорее всего, это так складно сложилось в план позже, когда их терзал Мазуркевич: он так донимал их расспросами, а помощник так внушительно кашлял в кулак, когда они путались в показаниях (показания? это в самом деле так называлось?), что, не сговариваясь, они повторяли: решили дать возможность достойно спуститься!
Но если даже и план, то, как и всякие планы, исполнение могло иметь множество разных оттенков — в оттенки Мазуркевич и впился.
Не может быть, чтобы коллектив, состоящий из столь разных людей… Почему, почему разных-то? — возражали, негодуя, ему… Ну, я понимаю, на службе, в процессе выполнения общей работы у вас возникало чувство единства, ощущение общности человечьей души, доказывал он, стремясь найти точки сближения… Почему же только на службе? Да вы оглядите себя: вы же разные! Вы такие неодинаковые, что… Да чем же мы разные?..
Разговор не вел ни к чему путному. Да и некогда было лясы точить. Мазуркевич хлопотал насчет альпинистского снаряжения. Ну хотя бы ботинки!.. Ну а веревка?..
Рой, вот кого удалось расколоть!
Рой был такой человек, который всегда чем-то обижен.
Когда Мазуркевич осторожно ввернул про Италию: ну а вы-то знали о таком повороте? — Рой так и вскипел. Оказалось: он писал диссертацию. Он ее кропал долго, тщательно, зло. Годы и годы он собирал материал, а стержневого начала все не было. Он рассчитывал, что в этом и должна была состоять помощь шефа, но тот все увиливал. Он, видите, ударился в блядство с этой Мариной, которая — сучка! — наверняка выставляла его, Роя, в отвратительном свете.
— Почему? — автоматически спрашивал Мазуркевич.
Оказалось, Рой всегда знал, что Марина терпеть его не могла. Когда она еще в первый раз к ним заявилась, он сказал мужикам: вот кого хором бы отодрать! Он привык к женщинам идти напрямки, не то что этот розовоочковый романтик!
— Ага! — отметил про себя Мазуркевич. А вслух:
— Вы его недолюбливали? Валентина-романтика?
— Это вы бросьте! — тотчас же занервничал Рой. — Я не участник! Я тогда так психанул…
— Когда узнал про Италию?
— … Ага! Я тогда так психанул, так рванул на своих новеньких «Таллиннах», что этот… большой… он меня еле догнал.
— Потылин?
— Ага! Но и большой ни при чем. Все дело в этой сучке Марине! Дразнит, дразнит, а не дает! Тут не то что на гору — на стену небоскреба полезешь!
— И вы бы полезли?
— Я? Вы что! Мне тридцать пять! Спортивно-прожитых тридцать пять! Я учил розовоочкового! Я говорил: подпои ее и…
— Ясно, ясно! — кивал Мазуркевич. С Потылиным тоже было все ясно и просто и безнадежно. Потылин прощал всем и вся. Он даже подумать не мог, что Рой считает его дураком. И по наивности всякого крупного, добродушного существа лез к Рою с опекой. Когда Рой рванул со всей прытью своих «тридцати пяти спортивно-прожитых лет», Потылин заторопился за ним.
— От ревности совсем оборзел, — объяснил Мазуркевичу.
— Ревности? Рой?
— Сколько раз ему говорил: не начинай с разговоров об этом! Большинству женщин надо другое.
— К кому же он ревновал? К Валентину?
— Да бросьте! А-а, понял! Понял, куда вы ведете! Ну и хитрец вы! Да нет! Валентину он покровительствовал! Он ему говорил: я десять лет пишу диссертацию и еще писать буду лет десять! Потому что шефу до нас с тобой как до лампочки! Ну, вы и хитрец! Я с вами уже чуть ли и на шефа не накапал!.. А я так вам скажу: тут все дело в азарте! Я — старый картежник, я, знаете, сколько уже проиграл?.. О-о, вот чуть ли и себя не угробил!.. Да нет, я не профессиональный картежник… Никаких ставок-то не было!.. Да вы что? Уж не думаете, что мы его в карты?..
Мазуркевич еле от него отвязался. Он уже составил команду: Игорь Петрович, Евгений Евгеньевич, и вот еще девка так вяжется с ними… Брать ее? Лишние хлопоты? С другой стороны, там, на месте, так сказать, происшествия… Ладно уж, собирайтесь. Марина! Ботинки-то впору? Смотрите! Потом не пищать!
Внизу еще оставался Семенов.
— Семенов! А вы как полагаете?
— А чего полагать-то?
— Ну, чего ради полез он?
— Сказал, что залезет, вот и полез!
— А зачем же сказал? Вынуждали его? Может быть, проигрыш, а? Ну, в карты, еще как-нибудь? Может быть, на спор?
— Я же сказал: он сказал, что залезет! Вот и полез!
Они начинали подъем, и Мазуркевич приклеился к Евгению Евгеньевичу. И тот окончательно все и запугал.
— Нет, нет, не ищите! Никакого уголовного дела! Просто несчастный случай, несчастный случай в горах! И виновников нет! Я так вам скажу. Бродячая душа! Бродячая душа, влюбленная в горы, солнце и воздух, в творчество, в женщин, в красивых собак! Знаете, так бывает: человек
отождествил себя с делом, душа прикипела — и нет бродячей души! Простейший случай: знаменитый футболист сломал ногу, а? Представляете? Без ноги! Драма, трагедия, бывает и смерть. А? А чем хуже железобетон? Валя в него много мыслей вложил, и сердце вложил, при чем тут, спрашивается, поломанная диссертация? Вот я пьесу смотрел, «Вишневый сад» называется, не смотрели? Вот там вишневый сад вырубают, не хозяева, нет — хозяев вынудили сад этот продать! И вот его вырубают, а у хозяев, бывших, сердце болит! Вот так и Валя, представьте себе, принял эту Италию, а они подцепили его, беззлобно, конечно, ну, кто же хотел-то всерьез? Хотя все началось не с завода…
— Не с завода? — Мазуркевич отставал от Евгения Евгеньевича, сил не хватало, и надо было приостановить стремительное его продвижение. — Как же так: не с завода?
— А вот так! Вы вот «Овод» читали? Вот там был кардинал, ох, не помню, как его? Вот он был одному молодому там как бы вместо отца! А потом выясняется, что именно он-то и есть настоящий… Ох, похоже, я свернул не туда!
— Вы хотите сказать: Валентин и Игорь Петрович…
— Ну да, да! Знаете, что такое Игорь Петрович? О, это — пират, конкистадор, красавец! Валя пришел к нам — а я помню, помню те времена! — о, он пришел, услыхал, а шеф как раз был в ударе, рассказывал… О, как он говорил! Если не железобетонные заводы-автоматы — страна идет по миру! Прямо так говорил: если не мы — распад, развал, разложение! Представляете: такое услышать дипломнику? Афганистан еще не случился, заметьте!
— Ну, а красивая Марина? С нею — как? Ваше мнение! — перебил скользкую тему служака.
— А при чем тут Марина?
— Ну, мне кажется, они… Они трое… Ну, понимаете?
— Нет! На фиг она им сдалась? Шеф все понимает как надо, а Валя… Не-е, он ее не любил… Не любит! Пошли-ка быстрее!
Валентин лежал на склоне Горы, и ее холодные пальцы трогали тело. Хотел было прокашляться — из горла вырвался странный звук, похожий на всхлип.
— Что ж ты, Гора?
Лицо Горы поскучнело.
— Мне в самом деле конец?
Гора шумно вздохнула. Может быть, откуда-нибудь обрушился снежный пласт.
— Ну уж фигушки! — возразил. Но несмело.
Гора пробралась холодными пальцами в самое сокровенное. Попокалывала кожу под маечкой. Он поежился напряг мышцы — холодная, большая ладонь охватила разом обе лопатки.
— Это ты брось! Холодно!
Глаза Горы сияли ледяным, ослепительным блеском.
И тогда все в нем взбунтовалось. Приподнялся, ощутил миллионы льдистых уколов в застывающем теле. Схватился за ветку, подтянулся немного. Боль в ноге ударила с новой силой. Сжав веки, чтобы не брызнули слезы, и выкликая страшной силы ругательства, он снова пополз.
Но что такое? Может быть, в голове помутилось?
Да, помутилось, наверное! Полуослепший от блеска снега, полуоглохший от боли, он полз вверх… вверх… вверх…
Еще когда принялись звать Валентина, махать и кричать, что не сомневаются в нем, что темнеет, пора, Игорь Петрович, глядя на эту букашку, прилипшую к белой круче горы, ощутил неожиданно смутное беспокойство. Валентину, разумеется, не дано глубокого видения и понимания.
Машина закупки пущена в ход, моторы свистят, питаемые единой электрической сетью, и он, Игорь Петрович, лишь один из многих других. Но, с другой стороны, из всех тех — ну, сколько их, человек тридцать-сорок в стране? — которые решают судьбу автоматов-заводов железобетонных изделий, только Игорь Петрович отчетливо представляет, насколько абсурдна закупка того, что они могут сделать сами и дешевле, и лучше. И сейчас в этой большеголовой — из-за пышной кроличьей шапки с опущенными ушами — фигурке, склонившейся запятой над волосинками-палками, почудилась ему вдруг опасность. Кованая, неразгибаемая.
Проклятый волчонок! Что, если начнет ходить по инстанциям, звонить и писать? Такие дрожащие, нервные, тощие — никогда не знаешь, чего от них ожидать. Вот и сейчас. Если сейчас сверзится вдруг, разобьется? Всегда ведь найдется такой человек, который напомнит, кто был здесь старшим. Какой-нибудь, да обнаружится моралист, который ткнет пальцем. И с несвойственной неуверенностью Игорь Петрович сказал:
— А что, если нам поднять якоря?
Умница Евгений Евгеньевич понял:
— Если отойти, спрятаться, выждать…
— Конечно! — вскричала Марина, — как только увидит, что остался один, что выпендриваться не перед кем, так тут же и спустится!
В этой категоричной, чисто женской реакции была какая-то беспощадная, но до чертиков привлекательная неправда.
Игорь Петрович взял было решительный темп. Слитной цепочкой группа заскользила за ним. Вечер жег щеки, вершина алела, синие ели проносились навстречу — прекрасно! В этом быстром размашистом беге, с хлопаньем лыж, ощутил словно бы возрождение. Но тут что-то случилось. Нет, шаг он не сбил, он даже прибавил, но будто сзади окликнули. Энергично работая рычагами-руками, склонил голову, на ходу шваркнул боком вязаной шапочки по плечу, открыв ухо: окликов не было. Послышалось? Хотел обернуться, узнать, что такое, но вместо этого заторопился зачем-то: быстрее, быстрее. Скорее добраться до намеченного перелеска!
Однако то ли такое движение было ему уже не по возрасту, то ли и в самом деле смутил неразгаданный оклик, но только складность движений нарушилась. То проскальзывала толчковая лыжа, то застревала палка в снегу, выкручиваясь из ладони; показалось, будто обвит по груди резиновой лентой, другой конец прикипел где-то сзади — не к горе ли? — и с каждым шагом резина растягивалась, увеличивая сопротивление. Что-то было не так он начал делать длиннее шаги, стараясь дольше скользить, расслабляться. Нет, к черту! Грудь теснило, сердце все тяжелее прокачивало густевшую кровь, жар легких иссушивал глотку, а, главное, пропал весь азарт.
И снова будто окликнули.
Остановился. Отчетливо понял: этот парень не спустится, не взобравшись на самый верх.
Подкатил Евгений Евгеньевич. Вьдохнул так, будто выпускал перегретый пар.
— А что, если обежать эту Гору и посмотреть: вдруг он, взобравшись на гребень, спустился с той стороны?
Игорь Петрович только что именно так и подумал. Но оттого, что эта мысль была высказана не им… Но тут Рой заорал:
— Кому свербит, тот пусть и бегает! Я лично устал! Я еду на станцию! — и вдруг сорвался и устремился.
«Э, да этот парень с острыми локотками! — поразила вдруг мысль. — Вот кто меня и сожрет!»
Потылин лезет в рюкзак, достает термос. Пьет, утирается.
— Я за Роем! — говорит, словно испрашивает. — Непорядок, озлился Рой. Я еду за ним!
Семенов подслеповато помаргивает. Этот-то не продаст.
— Что скажешь, Семенов?
Молчит. Жалкий и тощий. Лицо так загорело, словно в морщины набралась грязь.
— Так что скажешь?
— Чего?
— Оставим товарища?
— Какого товарища?
Придуряется. То ли в плоть его въелось — самому ничего не решать, то ли… Себе на уме? — ахнул внезапно.
— Знаешь, — сказал, — давай-ка на станцию! Мы уж тут сами!
Семенов тем спокойным, неторопливым движением, после которого уже невозможно изменить ранее данный приказ, повязал тесемка ушей шапки-ушанки под подбородком и неторопливо отправился вслед за Потылиным.
— Ну что же, Евгений, давай! — показал глазами Игорь Петрович. — Смотри за следами на целике он мог вернуться к остановке автобуса!
Вот в этом месте Мазуркевич впивался. Кто точно видел, как уходил Рой? Может быть, он пропадал куда-нибудь с глаз? Семенов, вы не могли ошибиться: Потылин в полукилометре от вас, а еще впереди — Рой? Но вы ж плохо видите! Вы же отстали от них! Вдаль видите хорошо? Ну так скажите: а назад вы оглядывались?
Это-то и был коронный вопрос! Мазуркевичу хотелось узнать, чем занимались шеф и Марина? Вот он и пугал их своим вниманием к Рою! Но никто не оглядывался!
— Вы что, были обижены? Почему ж не оглянулись на тех, кто оставался? Значит, так: не обижены! Смотрите! — припугивал, — это звучит против вас!
Значит, обиделись! Обиделись — и ушли. Значит, что-то там произошло у них! Из-за погибшего? Из-за Италии? Из-за девицы?
Сейчас Мазуркевич, Игорь Петрович и увязавшаяся с ними Марина поднимались наверх. Луна освещала снега, они опоясались альпинистской веревкой, башмаки были с шипами. Тлела надежда: а вдруг? Прошло сорок часов, но вдруг жег костер, грелся, вдруг еще жив? А может, все же
спустился, просто следов не нашли? Ну, домой не пришел, но мало ли где мог заночевать молодой, холостой человек? Заночевал где-то в субботу, в воскресенье гулял, в понедельник проспал на работу! Почему эта девица так уверенно возражает: не мог? Почему шеф так странно вздохнул при этом вопросе?
Чем же все-таки они занимались, оставшись вдвоем? И мог ли видеть их сверху парень?
…Да, они остались вдвоем. Марина держалась пока в стороне. Но вот подкатила.
— Игорь, — сказала, играл глазами, а может, хватит разводить бурю в стакане? Куда денется? Поскачет, поскачет да спустится! Давай-ка оставим записку Евгений Евгеньевичу, а сами рванем поскорее на станцию!
Вот этого он не переваривал а ней! Эгоизм какой-то пещерный! Как язык повернулся? Мужик все же на этакое не способен! А она продолжала, все на него наезжая:
— Между прочим, имеется интересная мысль! Лида в отпуске, ключ у меня! — и помахала ключом перед носом.
Ее лыжи вошли между его лыжами, как гребешок в гребешок. Теперь она стояла совсем рядом, касаясь грудью его.
Ему стоило усилия воли, чтобы, пятясь задом, отъехать.
Чтобы отклеиться от нее.
Он посмотрел назад, на ребят. Роя уже не было видно.
Размашистая фигура Потылина темнела у леса. Семенов уныло передвигался за ним. Что же случилось? Почему они так согласованно уходили? Развал, распад, разложение!
— Да понимаешь ли ты! — закричал на нее. — Что это развал, распад, разложение? Восемь лет я собирал коллектив! Восемь лет — кошке под хвост!
— Еще соберешь! — ответила быстро она. Быстро, легко.
— Этот парень развалил коллектив за пару часов!
— Да нет, не парень! — сказала она. — Не парень! — глянула на него, отведя прядь волос… Это был жест! Плавной рукой отведя прядь волос, она взглядывала чуть снизу и сбоку. — Это Италия! Италия все развалила! Кое-кто понял, что не видать ему поездки в Италию… И что вообще ничего не видать! Не расстраивайся, наберешь новых ребят!
Он скрипнул зубами — до боли в одном подпорченном зубе.
— И из-за парня ты не расстраивайся! Вы, мужики, должны все время самоутверждаться! Вы строите хижины поселяетесь мысленно в них. У одного такая хижина — диссертация, и он кладет на нее жизнь и собственные волосы для того только, чтобы плешивым, трясущимся стариком
иметь возможность поставить перед фамилией три махоньких буковки: д.т.н.! У другого — собрать коллектив, чтобы чувствовать себя в нем как князь среди челяди. У третьего и вовсе идея блаженная, даже невозможно ее сформулировать: сделать что-то свое, какую-то часть автомата-завода, которая роится в его голове… Не волнуйся, побушует, побесится, да и спустится! Подумай только: завод-автомат! Что-то шумное, пыльное, грязное. А теперь оглянись! Посмотри: вот снег, вот гора! Это — жизнь! Поехали быстренько к Лиде!
Вот в этот момент Гора шумно вздохнула. А может быть, обрушился откуда-нибудь снежный пласт.
— Тебе нужна хижина, чтобы укрыться от мира, — шепнула она. — Укройся во мне!
Выправив лыжи, он подъехал к ней. Она глянула на него с интересом. Чуть склонив голову, слегка прикусив нижнюю губку. Если бы она не прикусила эту свою нижнюю губку! Но тут он вспомнил, как, сообщив о вероятной поездке в Италию, она точно так же, прикусив эту губу, глянула на него с интересом. Он повторил про Италию, и она так стремительно кинулась, так безудержно принялась награждать, словно он уже дал обещание привезти ей какое-нибудь сверхмодное, сверхдорогое манто — не говоря уже о совместной поездке (что, конечно же, выглядело невероятно). И сейчас все в нем воспротивилось к ней.
«Какая ненасытная женщина! — распаляя себя, думал, обходя ее. — Какая циничная, какая опасная!»
— Ты ошибаешься! — крикнул ей, обернувшись. — Это ты его завела! Из-за тебя, только из-за того, что ты его раздразнила, он, как одержимый, полез!.. Все подтвердят!.. Зачем ты дразнила его?
Торопясь, он уже ставил лесенкой лыжи. Уже взбирался наверх. Лыжи в спешке срывались, он подбивал под них палки. И уже поднимался. Все выше и выше.
В конце концов он отвечает за безопасность команды. Случись что — спросят: «А что же ты? Что за сомнительные способы сплотить коллектив? Может, вы пили там? Может, и вообще это самое, а? Как вас жены-то отпускали?»
А эта дрянь заранее с себя снимает ответственность! Заранее сваливает вину на него, хотя пока что еще ничего не случилось!
— Вот точно, что все беды мира начинаются с Евы! — бормотал, торопливо работая палками. Лыжи соскальзывали, и он все больше уделял внимания палкам. Взмокло под мышками. Угнездившись на кочке, он стянул шерстяные перчатки с рук. Протер ими лоб. Вдруг повернул голову и заорал вниз: — Все начинается с женщины!.. А кончается-а, а кончается-а-а…
Правая, нижняя лыжина соскрежетнула, он пошатнулся. Но успел перенести вес тела на левую, левая не подвела, и тут успел вбить палку под правую лыжину и остановить ее. Утвердился в новом своем положении и крикнул:
— А кончается-а-а… голос внезапно подвел. — Кончается смертью, — осипше сказал.
Да, это так! Женщина дает первый толчок, а дальше вступает в силу неодолимое притяжение смерти!
И с новой энергией хотел продолжить подъем. Но тут взглянул вверх, на вершину.
Глаза Горы сияли ослепительным ледяным блеском.
Ему сделалось страшно.
Он уже достаточно высоко взобрался по крутому боку Горы. Он так стремительно поднимался, что успел подобраться и схватиться за приметную ель, к которой вел путь. За этот змеей изогнутый ствол. За красноватый и твердый, естественный поручень, созданный словно нарочно, словно по чьему-то хитроумному замыслу, чтобы притягивать, привлекать внимание неосмотрительных путников… Красноватая змейка под зеленой короной на лилейной одежде Горы.
На саване.
В страхе, объяснимом и необъяснимом, он неотрывно смотрел на вершину.
Глаза Горы на безносом, белом лице ее сладострастно сияли. Может быть, то были отблески двух пропорционально расположенных льдин?
— Эй! — донесся до него возглас от подошвы Горы.
Но он никак не мог оторваться от плоского, белого лика.
— Эгей! — услышал повторное.
С мучительным напряжением он отвел взгляд от этих бриллиантово сверкающих льдин. И показалось ему, будто тень пробежала по обширному, белому — тому, что принял он за лицо.
А внизу была женщина. Он смотрел теперь вниз и видел, не признавал, голубое и черное на белом снегу. Что-то
внезапно кольнуло. Зацепило рассеянный взгляд. Он всмотрелся. Очки он доставал только при чтении. А видел вдаль как орел. И еще какое-то время он не мог понять, что же его растревожило. Вдруг понял и не поверил глазам. Женщина. Черные пышные волосы, лицо, обнаженная
шея… Голубая куртка распахнута. Он смотрел и смотрел. Вот она распахнула куртку пошире. Сомнения не было: груди, тугие, белые с темными ростками сосков, были под курткой. Лицо, шея, светлая кожа груди, тяжелые груши хорошо развитых молочных желез.
…А свитера не было. Сняла. Все сняла?
С силой он сжал рукояти палок. Они были тверды.
Женщина что-то кричала. Он не расслышал. Он готов был кубарем ринуться вниз. Она снова крикнула, и он прислушался.
— Даю первый толчок! — кричала она, сверкая глазами. — Эге-гей! — Ее ноги приплясывали, лыжи с хлопками били по снегу. — Спускайся! За мно-ой!
Женщина кричала что-то еще. Она показывала рукой, что ехать надо назад, к лыжне, по которой пришли. От движения этой руки ее правая грудь совсем обнажилась и раскачивалась упруго и тяжело. Почему она приказывала ехать туда, туда, вдаль от нее? Рукояти палок были тверды, он терзал их своими ладонями. Внезапно женщина подпрыгнула, хлопнув лыжами о сбитый снег, и сама устремилась по старой лыжне. Она будто бы убегала. Теперь он уже не мог совладать с собой. Он ринулся вниз — туда… на перехват… к ней!
Цель приближалась. Он настиг ее, сбил. Она, хохоча, опрокинулась. Но слов не было. Никаких слов, кроме смеха — ее, и дыхания частого, громкого — от него. И все-таки она сумела сказать, закусывая губу от боли в ноге:
— Лыжи, лыжи сними с меня!
На короткое время овладев собой, он отстегнул лыжи от ее забавно миниатюрных ботинок, затем от своих — грубых, больших. Она успела к нему приготовиться. И он вошел в нее, как рукоять палки входит в сугроб — долго, пробивающе, с шорохом наконечника о расходящийся снег.
Гора устало вздохнула.
Сколько же можно? У старых, разбитых ступеней Горы возились женщина и мужчина; по старой, опавшей груди ее, щекоча каменистую кожу, полз завороженный ее вечною тайною человек; другой человек, кичась своим якобы неистощимым здоровьем, обегал ее понизу, в слепом неведении будущего дыша широко, с наслаждением, ритмично бросал свои крепкие толстые ноги вперед и удовлетворенно вслед за этим скользя…
Гора многое повидала. Гора видела одновременно и вперед, и назад. Как линия графика, которую еще предстояло пройти обмирающей от головокружительной неизвестности точке, уже задана алгебраической функцией на всем возможном своем протяжении, так прошлое и будущее этих людей вполне определялось совокупностью многих причин; а сверху эти причины видны хорошо.
Гора видела и как ровно, спортивно бежит розовощекий толстяк, и как мгновенно, в троллейбусе, в удивлении он умирает — такой же крепкий, румяный, как и сейчас.
Она видела, как в сонном забытьи к груди ее припадает обманутый во многих своих ожиданиях юноша, но она видела и жизнь этого года в масштабе многомиллионной страны… этого года томительного ожидания, в недрах которого уже вызревал будоражно-пронзительный шлягер «Хотим перемен!» Виктора Цоя.
Это не юноша погибал. Это в который уже раз вырубали вишневый чеховский сад. Горе было скучно: сколько же можно?
Вот женщина и мужчина, точно мухи, отжужжав, разлепляются. Встают, оправляются. Вбивают ботинки в крепления. Сжимая пружинный затвор, щелкают зубастой зацепкой. Вот пошли. Вот он оборачивается: не бежит ли за ними толстяк? Нет, не бежит. Уходят. Вперед, за командой. Вот она оборачивается: э-э, да вот же он показался, этот Евгений Евгеньевич!
— У тебя рука легкая, — заявляет мужчина.
— Ого-го! — кричит им толстяк издали. — Я видел следы-ы! Ого-го! Этот парень спусти-ился!
Что-о? парень спустился? Не может быть! А ты говорила!.. Что я говорила, что я говорила?.. А то: у тебя рука легкая!.. То-то, что у меня легкая! Зато у тебя, у тебя знаешь что?.. Да знаю я, знаю!.. У тебя очень тяжелая — знаешь что?.. Ну хватит, не хулигань!.. Очень тяжелая писька!.. (Хохот, восторг)
— Я видел следы-ы! — пыхтя, их догоняет толстяк. — Недалеко отсюда совсем, по склону — наискось, вниз, к остановке!
Облачко тени, слабое подозрение нависает над головами женщины и мужчины. Ну, немножко усилия!
Тень неприятной догадки касается женщины. Женщина искоса глянула на мужчину. Но мужчина — усталый, замедленный — упустил этот взгляд.
— Он, видно, вернулся к автобусной остановке по нашей старой лыжне! — вопит толстяк радостно.
Женщина довольно кивает. Она улыбается. Улыбка рассеянна, она чуть недоверчива, эта улыбка, но тут облачко страшной догадки перелетает к мужчине. Мужчина испуганно взглядывает. Лицо его от испуга странно уменьшилось: нос, рот, щеки — все истончилось, глаза — словно черные пуговки.
— Я говорил: этот парень нам всем сто очков даст вперед!
А женщина уже отмахнула неприятное, темное облачко от себя. Женщина довольно смеется:
— Вот вам и усатый джигит!
Мужчина испуган, он удивлен. Как она может? Указующий взмах руки — назад, назад, к старой лыжне, груша тяжелой груди, освобожденная взмахом руки, наконец, этот молодцеватый подскок, хлопок лыж но сбитому снегу, после которого женщина в голубом устремляется по старому следу… Боже! Да не нарочно ли это она?
Мужчина закрывает глаза и видит— тот! — свой спускающийся след: наискось, вниз, Имитация — якобы! — пути Валентина?
— Вот вам и хижина с шашлыками! — голос женщины.
— Мне кажется, я его видел! — вдруг слышит мужчина.
— Конечно, далеко было, не разобрать, но вроде бы лыжник, весь в темно-синем, шел к остановке! Ну да — Валентин!
У мужчины отлегает от сердца. Толстяк так задорно, так уверенно говорит, что нет желания разбираться в подробностях, В конце концов он мог видеть и другие следы. У мужчины кружится голова от усталости. Женщина подъезжает к нему, кладет ладонь на его руку, охватившую рукоять палки. Ладонь горяча, токи энергии перетекают с нее, мужчина вздыхает. Нервная, узкая эта ладонь успокаивает.
— Ну, дал шороху Валентин!.. — говорит, еще сам до конца не уверенный в том, что верит своим же словам. — Послезавтра я ему!..
— О-о, послезавтра он ему! — тут же откликнулись.
— Послезавтра он его, о-о-о! — тут же добавили.
— В понедельник он его на шампур-р-р!
Гора отвернулась от них.
…Скрип снега, звонкие в ледяной тишине голоса.
— Смотрите, смотрите, вон — лыжа!
— Это — его! Точно, его, Валентина!
— Идите сюда! Он где-нибудь здесь!
Валентин лежал среди густо разросшихся, молоденьких елочек. На самой вершине. Огромная голубая луна заливала ее серебристо-сиреневым светом. Вокруг сияющего круга луны проскальзывали легкие облака, сходились и растворялись в воздушных потоках, но не смели приблизиться к сереющей полынье, в которой царила она.
Марина первая обнаружила лыжу, первая устремилась к островку пушисто кустящихся елочек, первая увидела Валентина.
Она была энергична, предусмотрительна, как никогда.
«Ну я и мерзавка!»— с восхищением думала о себе, все не веря еще, что сумела такое, такое!.. Она понимала, что никогда никому не удастся ей рассказать о событии, и только Игорь, невольный помощник и пленник ее, был свидетелем того небывалого, что совершила она. И она поглядывала на него с тайным значением и теплотой.
Но и ему до конца открыться она не могла.
Что была она до сих пор? Папа, мама, книжная жизнь, школа, вуз, мальчики, первый мужчина, мужчина второй, Игорь… Она ведь даже не была по-настоящему красивой. И вот — настоящее. Она предчувствовала с самого детства, что будет, будет оно, и нет, не зря она выбрала Валентина. Когда она увидела этого тощего, бледного парня с огромной копной курчавых волос, увидела, как он увлечен фикс-идеей (в общем-то, здесь сомнения всегда оставались: ну, не настолько же он увлечен! разве можно увлечься каким-то там железобетоном?), поняла, что он балдеет, стоит ей только коснуться его… нет, это не было сознательной акцией: ее и саму потянуло к нему. Но тут возникала игра разнородных
зарядов: их тянуло друг к другу, они сталкивались, сшибались, касались и… разряжались. И вновь начиналось накопление энергий разного знака, и снова их начинало друг к другу тянуть… Это злило ее.
Игорь был старше, был крупнее ее. Она всегда сама приходила к нему. Бывала игривой и затягивала, завлекала его. Потом, всегда неожиданно, набегало волнение, выплескиваемое в стонах и вскриках: да, да, сюда, и еще, не уходи, оставь так, как идет, еще, еще, ах-х… в конце всегда наступал штиль: мерное, покачивающееся состояние, счастье. После Игоря она всегда становилась больше, крупнее. Приходила властной к нему — и уходила еще более жаждущей власти. Приходила энергичной, наполненной — и уходила еще более энергичной, еще более сильной. С Валентином, мальчиком, было не так. Хотя, конечно, по-настоящему еще и не было ничего. А казалось, что Валя может дать больше, чем кто либо… Еще маленький?
В этот день все случилось само собой. Ничего-то она не задумывала, все, стало складываться независимо от нее. Может быть, ею и руководила природная, глубинная, чисто женская мысль, но даже когда она увлекала Игоря съехать наискось и по направлению навстречу лыжне, по которой они добирались к горе, никакого плана в голове ее не было.
«Роковая! Самая что ни на есть роковая женщина! Надо же — роковая!» — восторженно шептала она про себя и вдруг рассмеялась. Рассмеялась отрывисто, хрипло, неожиданно для себя. Более неподходящего момента и придумать было нельзя: она как раз обнаружила труп, подошла к нему и присела, рассматривая, и вот рассмеялась.
И будто кольнуло ее.
Метнула искоса, из-под пряди свой любимый, отработанный косячок: сыщик? Что тебе надо? Что тут вынюхиваешь? Прочь, прочь к своим нераспутанным настоящим уголовным делам! К допросам, отчетам, погоням, интригам с начальничками! Ищейка, дешевка, мильтон!
Смех душил ее, исходя. Отвлекшись на сыщика, она сумела обратить смех в рыдания. Но и рыдания кончились: бульк — и заглохло!
Она смотрит на застывший мраморный лоб и забывает об окружающих: каким красивым видится вдруг Валентин!
Черная шапка курчавых волос, нос — тонкий, с горбинкой, породистый, коричневые глаза — чистоты шоколадной. Но даже не эти детали, а все вместе, в целом, кажется ей гениально изваянным.
По-прежнему все притихли, по-прежнему стоит жуткая, леденящая тишина. Только в воздухе шелестят худосочные, сухие снежинки и падают на лица людей; снежинки тают на лицах, превращаясь в малюсенькие, легкие капли, и только на изваянном, выпуклом лице Валентина снежинки не тают, а, словно пушинки, срываются, падают, цепляются за полоски на плохо выбритом подбородке и там прилипают.
Марина плавно встает. Движением головы, а затем и руками отводит свои прекрасные волосы и вырастает, взрослеет, меняется на глазах, становясь царственной дамой, умеющей подчинить любого мужчину, роковой женщиной, и не сводит с них, ее наблюдающих, своего задумчивого, полного тайны взгляда.
— Мой! — сломав талию, наклоняется к Валентину. — Мой навсегда! — и, обволакивая черными локонами беломраморное лицо, легко коснулась застывших губ.
И в этот момент приходит догадка. Ей становится ясно вдруг, что тянуло ее к Валентину. Да, они сталкивались как два разноименных заряда, перетекая друг в друга своими энергиями разного знака, но никогда не удавалось ей разрядить его до конца.
Не удавалось.
Сейчас — удалось.
Она часто читала о том, как в ярости или в горе мужчины овладевают только что умершей женщиной. Если бы женщине была дана такая возможность! Она бы вытолкала всех их, посторонних, с этой вершины, она бы взашей спустила их вниз, она… она насладилась бы своей полной победой!
Слеза капнула на застывшую щеку.
Красиво.
Она попрощалась. Это был ее миг. Ее высота. Когда еще случится подобное!
С пренебрежением смотрит на Игоря. Переводит затуманенный взгляд на доблестного Евгения Евгеньевича — и вовсе не видит его. И тут опять будто кольнуло.
Что такое?
Ах, сыщик!
Да полно, да откуда этот-то здесь?
Разве это — занятие для профессионального следователя? С чего бы это он увязался? Пожалуй, это неслыханно — лазить на горку за отставшим от группы туристом!
Она теперь прямо, пронзительно смотрит на этого малого, отмечал его скромные мужские достоинства и припоминая, как жадно вскочил он, увидя ее, как страстно принялся убеждать их немедленно, да-да, немедленно отправиться в поиск! Ведь в воскресенье ударил мороз!..
А они случайно попали на этого сыщика. Валентин в понедельник не вышел, они какое-то время раскачивались, пока кто-то не дал телефон: посоветуйтесь, мол, парень толковый! И вдруг этот «парень» завелся. Они поразились: он, как юла, забегал по своему кабинету, куда-то звонил… Ах, ясно: он, наверно, отпрашивался! Что же соврал, уговаривая начальничков отпустить? Что у него мама в инфаркте?
—Тоже мой! — удовлетворенно вздыхает Марина, с волнением ощущая свою возросшую, свою жуткую власть и еще сомневаясь, да она ли это — Маринка с косичками, лившая слезы из-за двойки по алгебре?.. Да нет, не из-за двойки по алгебре, а, если по правде, из-за Коляна Колдыбина, который мог ее вытянуть, мог подсказать, но не стал!
…Гора с любопытством приглядывается к чужому в этой компании человеку. Она видит, как вспыхивают в его разгоряченном мозгу пламенного жара догадки. Его пытливые, искрометные взгляды то на того, то на другого из этих людей, ему непонятных и подозрительных, так ясны Горе!
—Мой… мой… — плотоядно, всеведно вздыхает Гора и с любовью оглядывает шустрого сыщика.
И набегает темное облачко, и закрывает Луну. Гора запахивает на себе плотный, сумрачный саван. «Такой молодой, а такое слабое сердце!» — вспоминает она взятого ею.
Литература? Русская литература?.. Ну да, точно: стоит она, скажем, на трех китах. Кит первый — толстовски подробное, социальное описательство, энциклопедия общества и идей. Кит номер два — проникновение внутрь, энциклопедия духа, сильно продвинутая Достоевским. И есть третий кит, когда литература — искусство прежде всего остального, игра, в которой к словам прилипает энергия, и встаешь освеженный…
О себе скажу только: первый кит — не моя лошадь!
Александр Жулин.
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».
ПЛОМБИРЧИК
Песня о чемпионе
А у прилавка с кроссовками. Бог мой, что творилось у прилавка с кроссовками! Давили нахальные юноши, держали осаду мужчины, галдели оттесненные дамы — шел бой за заморские туфли!
— Мы зрим грандиозный ландшафт! — сказала по этому поводу одна продавщица, далекая от забот секции обуви.
— И в центре ландшафта, конечно, Сабина! — заметила тонко другая по поводу той, которая в поте лица отпускала ходкий товар.
— Все как ошалели, — подытожила третья, — а на Сабину им чхать! — И горделивая троица погрузилась в печальные размышления о влиянии импорта на бзик индивида.
И тут он вошел. Нет, толпа у прилавка, пожалуй, не сделала стойку. Равнения на двери, пожалуй что, не было: все так же галдели гневные женщины, все так же мертво держались мужчины, все так же давили хулиганы-юнцы, но… Вы только представьте: духота, толкотня, озверелые лица, и вдруг является этакий высокий, худощавый брюнет! Верзила в ослепительно оранжевой куртке! Красавец с убранным
внутрь животом! Он входит своей великолепной походкой которую в будущем переймут городские мальчишки: небрежно бросая словно бы вконец уставшие длинные ноги и падая всем длинным телом на всю ступню разом. Спокоен, подтянут, дружелюбный оскал над полем взъерошенных русокочанных голов…
— Вот это пломбирчик!
Как показал подробнейший дальнейший разбор, это сказала неискушенная в светских манерах кассирша. Тонкие бровки ее округлились, вздернутый носик зардел, ладошка обмякла, и мелочь для сдачи посыпалась звонкораскатистым, серебряно-медным дождем.
Тут кое-кто прыснул. Похоже, оттуда, где сгрудились футбольные бутсы. А у одной спринтерской туфли-шиповки сам собой развязался шнурок. Представляете, эти современные девушки? С одной стороны — красота, ля-ля-ля и доступность, даже шнурок развязался сам будто б собой, а вот с другой стороны… Что за шипы!.. А цена?
Спохватившись, кассирша нагнулась — не за мелочью, нет! — но чтобы частично скрыть себя за барьером. Однако лиловое платье, под мышками потемневшее, обтянуло полную спину, чем предательски обнажило бретельки. И тогда, чтобы не выглядеть окончательной дурой, кассирша высунула откуда-то снизу и сбоку пунцовое, круглое личико:
— А… А в универмаге колготки французские кинули!
— Французские плохо носятся, рвутся! — вступила ей на подмогу та продавщица, которая первой узрела ландшафт.
— Уж точно, тесны! — заметила та, которая славилась тонким умом.
— Эти француженки, известное дело, шкелеты! — пылко подытожила третья и тут же примолкла: пломбирчик был на подходе к Сабине. А наша Сабина… Только представьте: такая стройная, тонкая, снует от полок к прилавку, грациозно склоняясь, будто камыш на ветру.
Да только верзила не слышал великосветской беседы и, кажется, не разглядел еще Сабину-красавицу. Погруженный в себя, он был целенаправлен не в меру. История Фиддипида его потрясла. История о том, как без остановок на отдых сей славный древнегреческий грек пробежал из Марафон до столицы Эллады, как он упал, задыхаясь, как, прежде чем умереть, все же выкрикнул желанную весть о победе над персами, превосходящими силой. «Мы победили!» — выкрикнул он и тут же скончался на месте. «Мы победили!» — прекрасно! Но… зачем тут же кончаться на месте, сообщая о небывалой победе?
Погруженный в себя, Топорев Слава проткнул очередь длинной рукой. Полный сомнений в поучительном смысле легенды, он ухватился ладонью за поручень. Не замечая окружающих дам, в том числе и прелесть Сабину, он бросил в пространство: «Я за банными шлепками!» — и… втиснул себя в междутелье. Но только продрался к прилавку, как потемнело в глазах: вот это кроссовки! Сказка, мечта! Нежатся в лучах электричества, сознавая достоинство. Свободно раскинулись, не обращал внимания на посторонних, настырных мужчин. Ну будто на взморье загорелые, стройные незнакомки! Будто с рекламной картинки красотки в разноцветных купальниках!
Знаете, эти современные туфельки!..
Знаете?..
Яркие, все как одна, и как одна, все по-разному яркие! У той — бляха в поясе, эта подвесила бляху на грудь, а та нацепила на задник, каждая только и думает, как бы выставиться перед другими.
Если говорить правду и всю правду, Слава нацелился на туфлю с зелеными полосами и с бляхой в груди. И тогда та кроссовочка, которая имела желтые полосы и носила бляху на поясе, она только вздохнула. И от смущения, что слишком громко вздохнула, полосы диагоналевые ее покраснели. И, еще более застеснявшись, кроссовочка шевельнулась, чтобы спрятаться в тень. Однако, как вы хорошо понимаете, шевельнулась неловко, да так, что луч света, отразившись от позолоченной бляхи, слегка ослепил пломбирчика Славу. И тот, ослепленный, дрогнул рукой: «Покажите мне ту! Ну эту, румяную!» — предполагая, между прочим, рассмотреть не только красавицу туфлю, но и цену, что была выбита на бляхе-шалунье.
— Пломбирчик! — вдруг строго окликнули сзади. — Так не годится!
Кроссовочка была хороша. Такая, толстая литая подошва! Такая мягкая стелька! А задник? Эластичнейший, прочный!
— Сказал: за банными шлепками! взвизгнули спереди.
Но и цена на кроссовочку, сказать нечего, была хороша! Если отдать разом стипендию, в расчете месяц прожить на авось, то и тогда для покупки не хватит рубля!
— Катись-ка! — заорали вокруг. И заходили по спине кулаками, острые ногти вонзились под ребра, затопали по ногам каблучки. Вот тут в помутившемся взоре и возникла Сабина: такая стройная, толкал, снует от полок к прилавку, грациозно склоняясь, словно камыш на ветру.
— Послушайте, девушка! — Такая тонкая, стройная, снует от полок к прилавку, склоняясь… — Я не любитель выделывать выкрутасы на танцах… — А Волосы у нее были пышные, с рыжеватым оттенком… — Не собираюсь я в них и по улицам щеголять… — А белая блузка, а оголенные руки мелькают, двоятся, троятся… — Кроссовки нужны мне для движения к мировым достижениям!
Распахнув наконец-то глаза, которые оказались цвета морской изумрудной воды, Сабина ответила с великолепной учтивостью:
— Так что же вы все же хотите? Вам эти не нравятся, что ли?
Топорев поперхнулся. Конечно, можно считать — от того, что ему саданули по почкам. Но не лишена оснований догадка, что, окунувшись в изумрудные воды, ему не хватило дыхания. Откашлявшись, он прохрипел:
— Про Фиддипида слыхали? Так отложите мне парочку! Не хватает рубля!
Конечно, это был повод так повод! Соседние продавщицы, несмотря на толкучку и шум исхитряясь следить за событиями, замерли, как овчарки, натянув поводки. Однако эта Сабина!.. Эта гордячка Сабина!
— Вы, может быть, принимаете меня за фрамугу? — спросила она, одарив «Фиддипида» насмешливой улыбкой принцессы.
—Вернусь через час! — настаивал Топорев и бился с толпой: — Не лайтесь! Не пхайте!
—По-вашему, стоит дернуть веревку, и фрамуга откроется? — интересовалась Сабина, которую никто никуда не отпихивал.
—Не дергайте! — огрызался толпе. А ей: — Не дернуть! Не надо — веревку! При чем тут фрамуга?
— А за кого вы меня принимаете?
Здесь, несомненно, следовало догадаться, как надо ответить! Такие пышные, рыжеватые волосы, такие глаза!.. Увы! Напрасно в Славином голосе появляются бархатные обертоны, напрасно и клянчит он, и убеждает, вцепившись в прилавок, все это напрасно! Тем более что всегда найдется некий такой, который умеет догадываться. Такой пожилой паренек, который позднее представятся: «Миша!»
— Не может сказать, за кого принимает! — возмущается Миша, светлея лицом, нечетким после пластической операции. — Скажу тогда, за кого принимаю вас я!
И чего возмущается? Кроссовки, заметим, ему не нужны, хотя он их и купит. У него принцип такой: покупать все, что дают! Ну, пусть себе покупает, но зачем же встревать?
— Так вот, вьюноша! — объясняет пораженному Топореву. — Цвет изумрудной волны покажется вам цветом пленка, если рядом будут светить глаза этой леди!
— А по шее не хо? — приходит в себя тот, кто бормочет о движении к мировым достижениям. — А по черепу? По калгану?
К чести леди, сведущей и без Миши о преимуществах своих глаз перед морем, предложение Фиддипида ей больше по сердцу, чем комплименты встревающей личности. И в тот момент, когда Топорева обхватили прямым поясом сзади, чтобы вернее оттащить от прилавка, когда начал он безнадежно, безнадежно лягаться, Сабина снизошла наконец.
—Так что же вы все же хотите? — со светской учтивостью повторила она.
Тут произошло то, что объяснять я не в силах. Топорев, который и клянчил, и уговаривал, который выходил из себя, убеждал, этот верзила, помятый толпой, воскликнул вдруг:
— Рупь взаймы я хочу!
Нет, вы только подумайте! Еще не предложил прошвырнуться по Броду (улица Ленина), не пригласил ни в дансинг, ни в синема!.. Сабина впала в состояние грогги, в то время как Топорев из очереди выпал в осадок. И на нашей истории именно здесь уже можно бы было поставить недоуменную точку, если б… если б не покрасневшая туфелька!
Она напряглась и сбросила сверкнувшую в воздухе бляху!
Налитая тяжестью непомерной цены, бляха увлекла туфельку за собой. Вниз, вниз, под прилавок!
Падая, Кроссовочка хладнокровно связала тесемки — чтобы не зацепиться в пути, и спрятала за шнуровкой розовый язычок была она девушкой современной и судьбу свою устраивала обстоятельно. (Здесь впервые проявилась личностная самобытность Кроссовочки, в связи с чем иначе как с прописной буквы я не могу писать ее имя!)
Между тем «Фиддипид» все заметил и понял как надо. И рванул за рублем, махнув на прощание Сабине. И осталась ненасытная очередь. Остался и догадливый Миша.
— Сабина — кивает Миша на возбужденных людей, — кроссовки кончаются, а этот ваш нищий рупь никак не найдет!
К чести Сабины она — ноль внимания.
— Сабина, — вновь напоминает о себе паренек, — этично ли предлагать этому милому толстяку полубрак: отличные туфли у вас под прилавком!
К чести Сабины она — кило двести презрения.
— Вот так бедных девушек и обманывают! — бормочет обиженный паренек.
И тут Сабина поднимает мерцающий изумрудами взгляд и собирается что-то сказать. Ах, вы понимаете: то, что она хочет сказать, ну никак не ложится на лист! И я, дабы не исказить образ прекрасной Сабины, ее лишаю возможности это сказать!
Не спорьте, Сабина, я знаю, что делаю, и лучше взгляните, кто рвется там в дверь, срывая готовый замкнуться засов.
— Достал! Достал руль! — взывает Слава с порога, одолевая усердную не в меру уборщицу. — Где они, где эти кроссовки?
— Какие кроссовки? — удивленно возражает Сабина (удивляя меня). — Кончились ваши кроссовки! Все расхватали! — возражает она с неожиданной яростью.
— Кончились ваши кроссовки! — подхватывает пожилой паренек. — Все расхватали! — скрипуче хохочет.
Ах, Сабина, Сабина! Вот так и рвутся, казалось бы, небесные связи! Так рушатся, казалось бы, бетонно-прочные браки! После таких вот неоправданных женских жестокостей и сигают в бутылку, в разврат, пополняют ряды сексуально-монополых меньшинств!
— Как же так? — зашептал Топорев, — как же так? — и вдруг с высоты своего двухметрового роста видит кроссовки. — А эти?
Эх, Топорев, Топорев! настойчивость в достижении цели лишь тогда ценится женщиной, когда цель эта связана с ней!
— Эти отобраны одним покупателем! — отрезает Сабина…
— Таким веселым блондином с хохолком на затылке! — добавляет она…
— Таким обходительным лапочкой! — торжествующе заключает, в то время как Миша, держа уши топориком, с каждым словом Сабины все более задирает свой непривлекательный подбородок, больше похожий на куриную гузку, чем на крепкий мужской подбородок, свидетельство воли и силы.
И наступает пора впасть в состояние грогги печальному Топореву.
— Что? — шепчет он, на глазах увядая. — Отобраны? Кем? — шепчет он и не видит, как томно на него воззрилась Сабина.
И тут мне послышалось:
— Да не было никакого блондина! — послышалось откуда-то снизу. Или мне это только послышалось?
— Нет! Был, есть и будет! — вскричала Сабина. — Не спорьте!
— А я и не спорю, — печально отвечает ей Топорев. — Это она!
— Если опровергается наличие блондина и лапочки, то кто, по ее мнению, я? — встревает пожилой паренек, тесня подбородком в живот своего конкурента.
— Чье это мнение? Кто здесь «она»? — взъярилась Сабина.
Сабина, Сабина!.. Будь хоть немножко пошире, Сабина! Сквозь строки рассказа я видел не только тебя и мельтешащих мужчин, но столь же реально слыхал говорящую туфлю.
— Туфля — вот кто «она»! — отвечал грустно Топорев.
— Пусть опровергает сколько захочет! — откликнулся опытный. Миша. — А я ее покупаю!
Нет, каков этот Миша! Вторую пару берет! Но между тем поддержки мужчин для меня оказалось достаточно, чтобы и дальше рассказывать все по порядку, не опуская некоторых подозрительного сорта подробностей!
— Да, он ее покупает! — подтвердила Сабина. Они с Мишей упивались своим превосходством. Он победил конкурента, она сумела возвыситься над этим верзилой, походя очаровавшим весь магазин. Они улыбались друг другу через прилавок. Они понимали друг друга без слов. Такова жизнь, такова женщина: тот, кто нравился ей, был ею отвергнут по причине неуловимого свойства.
— Я достаю кошелек! — победно взговорил Миша, растягивая миг торжества, и сунул руку в карман. Карман был округло наполнен, Топорев пал духом так, что безучастно прослеживал выползающее движение набитого кошелька из кармана. Сабина хихикнула, метнув последний косой взгляд на пломбирчика. И в этот предсмертный момент Кроссовочка, подобрав бляху, упруго подпрыгнула.
— Разве сила характера в том, чтобы, прибежав с возгласом: «Мы победили!» — тут же скончаться на месте? — крикнула на лету «Фиддипиду», в то время как Сабина смогла лишь раскрыть и закрыть и снова раскрыть свои морские глаза. — Разве характер не в том, чтобы, поставив цель, биться за нее до конца? — и у Сабины впервые в ее пока еще коротенькой жизни дрогнули губки. — Бери меня, Топ! — воззвала к пораженному Топореву, отныне навсегда возведенному в Топа, который успел только подставить ковшиком свои большие ладони. И все бы на этом кончилось для Сабины, поскольку, ощутив кожей ладоней Кроссовочку как вспорхнувшую птичку, Тон забыл обо всем, если бы… Если бы не статическое электричество!
Статическое электричество. Оно распространяется по нашему все более тесному шарику, выстреливает всюду и всегда неожиданно. Так случилось и здесь. Когда растревоженная Сабина, уложив кроссовки в коробку, передавала покупку, ее пальчики встретились с пальцами Тона. И тут оно выстрелило!
Впрочем, дальнейшее описать немыслимо сложно. Знаю только, что Это бывает. Так было с одним моим другом, который однажды подался во Дворец бракосочетаний. Он подался туда с подругой единственной, верной и обеспеченной материально. А вот вывалился из Дворца мужем
подруги своей подруги, особы случайной, материально необеспеченной и, как впоследствии обнаружилось, неверной. А виной всему оказался линолеум — источник статического электричества. Так сказали ученые…
В общем, согласитесь, что Это бывает. И так оно и случилось, когда крохотные теплые пальчики встретились с пальцами Тона. Оно стрельнуло колючей искрой. Искра встряхнула обоих. Сабина взглянула долгим взглядом на Топа. Топ окунулся в изумрудные воды и… напрочь забыл и Кроссовочку, и Фиддипида! И по прошествии определенного, быстро промелькнувшего времени обнаружил себя во Дворце.
Однако это вредоносное электричество! Воистину, оно оказалось еще отрицательней, чем сам отрицательный знак! Поскольку стрельнуло снова-здорово, но уже не во Дворце, в котором, конечно же, так и не настелили паркет (вот он, разрыв между наукой и социалистической практикой). Оно снова стрельнуло, Топ снова встряхнулся и долгим взглядом посмотрел на Сабину. Сабина возилась с кольцом, кольцо сжало палец. Топ опустил взгляд к ногам. На ногах были кроссовки. Кроссовки не жали.
Топ дрыгнул ногой — не жали ничуть!
Он вышел на улицу и — топ-топ-топ! — потихонечку побежал.
Куда?
Да стоит ли уточнять, если куда бы ни побежал он, а все получалось — что прочь от Сабины, от сжавшего палец кольца!
— Эй, Топ, от Дворца до квартиры Сабины сорок два километра!
— Как раз столько же пробежал Фиддипид!
— Но, Топ, после бега ты будешь жалкий и мокрый! Как же свадьба? Как же Сабина?
— Нашим рекордам не будет числа!
— Однако же, Топ! Бег перед свадьбой не способствует приращению поголовья семьи!
— Ведите себя положительно!
Преподавательница физкультуры, препофизручка! Это она рассказала когда-то историю про Фиддипида, всколыхнувшую Тона! Это она направила его за кроссовками! Это ей принадлежит знаменитая фраза: «Ведите себя положительно, и вашим рекордам не будет числа!»
Нет, каков оказался наш Топ! У Сабины губы дрожали, кругом все безостановочно ахали, а жених все бежал и бежал…
Он и теперь все бежит. Не быстро, но и не медленно, экономно расходуя углеводы, максимально используя энергию каждого вдоха. Бежит Топ, чемпион, кумир мальчишек двора, улицы, города… Десять тысяч греков сражалось в Марафонской долине, погибло сто девяносто два, если не принимать во внимание Фиддипида; десять тысяч болельщиков наблюдают за Топом, сто девяносто два бегуна сошли сегодня с дистанции, если не принимать во внимание Джонсона, чемпиона одной африканской страны, который непременно сойдет вслед за другими хотя бы потому, что бежит босиком. Ок бежит босиком, как в свое время великий Абебе Бикила, но то — Абебе Бикила, а Джонсон сойдет, ибо так решил Топ, бегущий в кроссовках, в великолепных, дарующих силу кроссовках! И он теснит и теснит Джонсона, и разжигает его честолюбие, чтобы тот наподдал, да и выдохся, потому что нет ничего сладостней, чем прибежать с возгласом: «Мы победили!» — и не скончаться на месте!
Однако…
Однако где сколько прибудет, там столько ж убудет! — говаривал досточтимый ученый Михаил Ломоносов. И стоило Топу взапуски припуститься за Джонсоном, забыв про Сабину, как возле нее проклюнулся пожилой паренек по наименованию «Миша». Тот самый, да-да!
— Сдается, он полагает, что своим бегом облагодетельствует человечество! — разглагольствует Миша.
— Он помешался! — взволнованно отвечала Сабина. — Поет, когда моет кроссовки!
— Извращенец! — восхищенно откликнулся Миша.
— Его главный девиз: «Ведите себя положительно в отношении женщин, детей и собак!»
— Сексуальный маньяк! — поцокал он языком.
— «Собаки полезны, поскольку при выгуле удобно бежать, — передразнивала мужа Сабина, — детей следует избегать, так как тяжесть на шее не способствует бегу, а женщины…
— Да, а они?
«Разрушительны для организма!»
— Квадратоплечая физкультурка! — догадался тут Миша. Препофизры! Узнаю ее стиль!
— Преподавательница физкультуры? — сузила Сабина глаза.
— Не говорю, что он негодяй! взметнул хохолком Миша. — Говорю: идиот! — приподнялся на цыпочки, чтобы стать вровень с высокой Сабиной. — Квадратная физкультурка и вы! Вы! — чмокнул стертыми губками. — Круглый дурак, безмозглый кретин! — наяривал разные глупости, которые ласкали ушко Сабины приятнее, нежели изысканные комплименты. И вытягивал удивленную тонкую шею: как? неужели настолько дурак? И тряс своим хохолком, всем своим обликом петушиным показывая: уж он-то в этом вопросе понимает поболее чемпиона, он, человек опытный, далеко не дурак!
Когда женщина делится сердечной обидой, когда обида ее глубока — пусть у нее слезы льются струями, пусть растрепаны волосы, пусть движения резки, — она становится только прекраснее. А наградой за терпеливое слушанье, за своевременные ахи и охи будет все, что хотите. И не бойтесь переборщить в осуждении вселенского эгоизма мужчин, не бойтесь, что этим заденете и себя, душа женщины загадочно нелогична! Поэтому трубите тромбоном, свистите кларнетом, звените медной тарелкой и осуждайте, осуждайте, осуждайте этих негодных, себялюбивых, дурацких мужчин! Да будете вознаграждены больше, чем если бы вытащили ее из огня, отдали ей кровь, кожу и почку, подарили что-нибудь сказочно заграничное…
Миша, имея лицо гладкокожее (достижение пластической хирургии!), а глаза — цепкие, все замечающие (достижение практической донжуании!), действовал, с одной стороны, как, безусловно, понимающий человек.
С другой стороны, со своим непоседливым хохолком на затылке, он, безусловно, по-настоящему все более воспламенялся Сабиной, этой пышноволосой красавицей с глазами как… ну, об этом мы уже говорили.
Этим все сказано: понимающий человек и пылкий воздыхатель, Миша был близок к победе, в то время как муж Сабины накручивал километр за километром, безжалостно топча и истирая подошву Кроссовочки, а она не роптала, а она смягчала удары, принимая энергию Топа в себя и в нужный момент возвращая упругой отдачей. И Топ, получая дополнительный импульс, еще отчаяннее рвался к финишлой ленте, забывая даже мысленно воздать должное туфельке.
Мысль о физкультурной сопернице донельзя взвинтила Сабину.
— Мы уже стали супругами, — заговорила Сабина как раз в тот момент, когда Топ «доставал» Джонсона, и трибуны вздыхали, — а он, приходя с бесконечных своих тренировок измочаленный… он… я бы сказала… — тут она склонялась к низенькому собеседнику, и тот с готовностью подставлял свое ухо, несоразмерно большое для его маленькой головы, — я не сказала бы… — Сабина явно конфузилась,
однако желание высказаться было сильно, и опытный Миша терпеливо держал свое нелепое ухо возле губ взволнованной женщины (тогда как автор начинал накаляться). — …Я бы сказала… Вы понимаете? — Ах, этот Миша, естественно, понимал! И тогда она, наконец, досказала: — Он ко мне зачастую не был внимателен!
Ах, знающий Миша кивал головой, и его хохолок тоже кивал: как это можно? к такой женщине! не был внимателен?
— Он падал в тахту, как с вышки в бассейн! Окунался в подушку и отключался мгновенно! Всякий раз не снимая этих грязных кроссовок! — восклицала Сабина, нажимая на последнее слово. Кроссовок! Кровопийственное, кровососущее слово! Ничего отвратительнее невозможно представить, слыша Сабину. Даже неясно, что сильнее ее раздражало: невнимательность мужа или… вид грязных кроссовок на — разумеется! — безукоризненно чистом покрывале тахты.
— Но я ему никогда!.. Никогда!.. Понимаете?
Миша, известное дело, хорошо понимал!
— Ни единого разика!
— Он еще вспомнит! Еще пожалеет! — взметывал хохолок.
— Никогда я ему не отвешивала!
«Обалдеть можно!» смутно тревожился многоопытный Миша.
— Напротив, я его спрашивала: набегался, мой милый олень. И стаскивала эту невыносимо грязную обувь, и рядом садилась, и клала его голову себе на колени, — причитала она, а трибуны то ахали, то замирали. Топ начинал заготовленный спурт, Топ настигал Джонсона, но тогда прибавлял Джонсон и оставлял Тона сзади опять, позволяя любоваться своими розоватыми пятками, розоватость которых не мог затушевать даже черный гравий дорожки. Однако Топ вновь наддавал, и все снова ахали, но Сабина не следила за мужем. — А знаете, как он однажды ответил?
Трибуны тут взвыли. Так, будто бы близился гол.
До конца дистанции осталось два круга, и Топ… да! Он обошел Джонсона! Словно бы нарочно придерживал силы, пока бежал вне стадиона, чтобы продемонстрировать потрясающий спурт на глазах всего города! Он опередил Джонсона на полметра, а вот и на метр, а вот и на два!
Шум был такой, будто «Спартак» ложился костьми за победу.
— «Сойди с трассы!» — вот так он ответил однажды! — вскричала Сабина, и звон ее голоса прорезался через оглушительный грохот трибун.
А Джонсон!.. Усльшав возглас Сабины, Джонсон его принял по-своему, Джонсон споткнулся!
Да-да, он споткнулся, молодчина Сабина! Джонсон сбил ногу, Топ устремился вперед. Трибуны ревели, я почти не слышал Сабину. Вряд ли ее слышал и Миша, и, видно, поэтому, важно кивая, он все ближе склонялся к ней.
Сабина же…
— Решила, что бредит! — донеслось до меня. — …Недостает углеводов!.. Побежала, валилось из рук!.. Сок манго, сон манго!.. Зацепилась, упала!.. Здесь и вот здесь!.. — похлопала себя но бедру, вздыхающий Миша приложил свою якобы целебную ладошку к ушибам.
Я возмутился.
— Однако представьте! — звенела Сабина вне себя от шума трибун, от охватившего ее возбуждения, вызванного, по моему неколебимому мнению, единственно оттого, что Кроссовка, та, которую она когда-то собственно вручила пломбирчику, мелькала сейчас впереди подошв темнокожего Джонсона, и Топ как никогда был близок к тому, чтобы выйти на международную высоту. Я категорически отвергаю вашу подсказку, читатель, будто б Сабина была возбуждена присутствием рядышком пылкого Миши, хотя и согласен, что он был с ней рядышком слишком!
— Однако представьте! Когда я внесла… — грохот такой, какой бывает, если удар следует за ударом, — …перед ним на …колени — Обвал, шторм, неужели забили? А Сабина выпятила свои пухлые губки, знойный воздыхатель потянулся было навстречу, и я уже не мог не вмешаться… Однако она не могла прервать свою речь и отстранилась! Закончила: — …когда я нежно шепнула: «Вот, милый, тебе недостающие углеводы!» — представьте, он… он…
— Впился в ваши уста! — не выдержал темпераментный паренек.
И я, вспыхнув не менее, ибо наблюдать прелестную, беззащитную женщину в таком возбуждении, в таком страстном желании отклика и сочувствия, и наблюдать рядом с ней это стертое существо… словом, видеть все это и оставаться спокойным невозможно мужчине! Я был готов… О, я не знаю, на что бы я не был готов!
— Нет, — просто сказала Сабина, — не впился. Отбросил стакан с золотистым, наполненным углеводами манго и… захрапел! — сказала она и запечалилась. И Миша притих, и я было задумался, да вдруг спохватился: отчего тишина?
Словно бы что-то звенело, звенело, натягиваясь, да вдруг оборвалось. Ни я и ни Миша, — может быть, только Сабина? — мы не заметили, как и когда это случилось.
Лопнуло и — тишина.
Космическая тишина.
Очистительная.
Гол не забили, игра кончилась, Спартак не сумел отыграться.
Дальнейшее вспоминается смутно. Помню белые халаты врачей, помню вялого Топа, укладываемого на носилки.
Помню шепот: «Тепловой удар! В марафоне не редок. Слыхали про Лассе Вирена?»
Но что было Топу до лестного сравнения с Лассе Виреном? Топ проиграл, Топ не вышел на международную высоту.
Когда, оживленный врачами, он подошел, Миша сказал ему то, что сказать просила Сабина:
— Слушай, Топ, ты — неудачник! В свои двадцать пять ты не смог победить Джонсона, чемпиона крохотной африканской страны, которого кафедра физкультуры с трудом уговорила пробежаться с тобой. А он — ей-ей! — не хотел этого!
— Он не хотел этого потому, — продолжал Миша азартно, — что в действительности Джонсон, может быть, не чемпион и даже, может быть, вообще не бегун, поскольку ни в одном справочнике нет не только имени Джонсон, но и сведений о легкой атлетике на его крохотной Родине.
— Послушай, Топ, ты — маньяк! — наяривал Миша, ощущая молчаливую поддержку Сабины, — пять с чем-то лет ты занимаешься бегом, но все, чего ты добился, это пяток институтских рекордов под визг мальчишек, которым наказано было визжать, раз их отпустили с коллоквиума, да возможности закончить дистанцию как раз ко времени окончания футбольного матча — иначе трибуны бы были пусты. Даже сегодня, в городской день бегуна, ты, как и сто девяносто два других доморощенных марафонца, не осилил сорок два километра, ты, Топ, испекся, и ты — сумасшедший! Ты променял Сабину, эту очаровательнейшую Сабину…
—Заткнись! — заорал Топ, воскресая после теплового удара. Я решил, что наконец-то в нем пробудился супруг. Возможно, так решил и многоопытный Миша, поскольку проглотил дальнейшие комплименты в адрес Сабины.
— …на износившуюся старую туфлю! — вот так он закончил.
Что было дальше — вы догадались, конечно. Удар Топа был тщательно выверен: ощипанный Миша брякнулся точнехонько между скамьями. Будто шар, по прямой вбитый в лузу.
И не встал.
А я растерялся. Хлопоча над пасмурным Мишей, усовещал Топа: «Ты, Топ, чего? С кем ты связался? Ему же, ничтожному, хилому, за пятьдесят перевесило, а ты — чемпион!
Я растерялся, но Топ вспомнил, что он — чемпион. Глянул коротко на отдыхающего паренька и пошлепал с голых трибун: стадион опустел, «Спартак» проиграл. На мне же осталась Сабина, остался и Миша. В глазах Сабины сейчас не было моря — темный омут в них был. Миша был недвижен, как труп.
Было ясно, что Топ не вернется, и я занялся тем, который выглядел бездыханным:
— Вставай же, приятель, очнись!
Пожилой Миша скосил глаз на меня. Я понял его.
— Топ ушел! — сказал я.
— Как так ушел? — На всякий случай он не вставал. — Как это ушел? Ну, задам ему трепку! Задержите его!
— Разве задержишь оленя? — грустно сказала Сабина.
— Где этот хмырь? — паренек бодро вскочил и крутанул головой словно бы в поисках Топа. Но это неумно: вертеть головой после такого удара! И паренек схватился за шею: такой это человечище, Топ, что что бы ни сделал — все будет на совесть.
— Где этот хмырь? — горько переспросила Сабина. — Да уж, конечно, опять побежал!
— Бегал оленем, а прыгать станет козлом! — пригрозил Миша, грея затекшую шею ладонью. — Затеять драку из-за потрепанной туфли!
Сабина! Как она вскинулась, погрустневшая гордячка Сабина, уяснив окончательно, что Топ, ее муж, затеял драку исключительно из-за Кроссовки, из-за негодяйки Кроссовки, которая даже в минуту позора своего обожателя вела себя как королева. Совсем легкое, почти незаметное «хи-хи-хи» соскочило с ее розового язычка, проглянувшего через полинялые полоски шнуровки. Она никогда не выказывала
своего женского превосходства, наша Кроссовочка, воистину, неприступность, уверенность и в меру иронии — то, что и нужно, чтобы подвигнуть мужчину на подвиг!
Однако ж и Сабина доказала, что кое-что стоит!
— Эй, Топ! — негромко позвала она. И вот странность: муж, далеко убежавший в этот момент, он ее услыхал! — Джонсон потому победил, — сказала спокойно Сабина, — что бежал босиком! Как великий Абебе Бикила! Как, по всей видимости, и сам Фиддипид! Куда до них перегревшемуся Лассе Вирену!
Представьте, удар оказался точнехонек — и шар от борта лег в лузу, как миленький: Топ скинул с ноги нашу туфлю!
Бедные женщины! Бедный пожилой паренек! Так на мне они и остались: Сабина, потерявшая Топа и вряд ли что приобретшая, кроме плевого флирта! Миша, в очередной раз схлопотавший по шее — и если бы еще ему что-нибудь обломилось при этом! И, наконец, туфля, забытая под скамейкой. И если б не Топ, я, может, и сам забросил машинку, печатающую подругу свою, ведь столько столкновений с редакторами, столько невозвращенных пощечин, но Топ-то бежит! Он все бежит!
Он бежит и сейчас, не торопко, но и не медленно, экономно расходуя углеводы, максимально используя энергию каждого вдоха. По слухам, он вышел из трех часов и даже, говорят, из двух с половиной, по слухам, он — чемпион нашего города (жителей — триста тысяч, среди них, может, имеются и марафонцы!). Но долго еще ему бежать и бежать, и никому неизвестно, что ждет его впереди, поскольку пика своих результатов марафонцы достигают до тридцати, не позднее, и, если рассматривать статистически, у Топа на все про все шестьдесят месяцев, и много ли это, или уже недостаточно, кто его знает.
Ах, он верит, что победит всех однажды?
Но то будет однажды!
Ах, человечество живо рекордами?
Но в марафоне рекорд не фиксируют!
Ах, в Историю войдет его имя?
Но кто сегодня помнит великого Абебе Бикялу? Кто слышал о знаменитом Лассе Вирене?
Я?
И я б не слыхал, если б не придумывал этот рассказ! Читал специальную книжку, представьте!
Фиддипид?
Эк заладили: Фиддипид, Фиддипид!.. Не тот ли это несчастный, имя которого — если верить другой специальной книжке о беге — звучит совсем по-иному. Феденикс — так там назвали его!
— Мне тебя жалко, дружище! — артачится Топ. — Не результат важен — процесс! Кто не познал этого — тот и не жил! — вот так он откликается мне и ослепляет улыбкой, на секунду замедлив свой бег. На взгляд окружающих — тяжелый и нудный, на взгляд и мой, и его — упоительный.
Но вот Топ спохватился. Снял с лица — будто влажной тряпочкой смыл — улыбку, расслабил все, что не нужно для бега, и вновь затрусил, преодолевал усталость и боль, сухоту в горле и немочь, этот высокий красивый брюнет, которому бы мастеровито работать, да строить свой дом, да ласкать красивых детей от веселой Сабины, а он все бежит и бежит, не обращая внимания на отсутствие дам и цветов.
Хмурый дождь разогнал последних зевак, и только на противоположной трибуне осталась квадратоплечая физкультурка. Единственная, кто верит в звезду, единственно верная Топу.
Единственная.
Если не считать туфлю, хоть и брошенную, но так же по-прежнему верную. И до сих пор не могу я расставить оценки, в то время как Топ все бежит и бежит. Теперь уже — босиком.
Куда и зачем ты бежишь, мой приятель?
Стоит ли огорчаться, если долго и долго не удается пробиться к читателю? Не стоит, пожалуй! Так полагаю: писание книг — одно из жалких проявлений жажды земного бессмертия, способ (при том — не самый удачный) прорыва к потомкам.
Отсюда выходит: зачем суетиться? Потомки прочтут, откопают… Но вот жуткий вопрос: скажите по совести, мой уважаемый, мой образованный современно собрат: вот Вы, лично Вы прочитали «Войну и мир», «Идиота», «Обломова» до конца, начиная с начала, без пропусков?
Да-а-а?
Что ж! Тогда в самом деле: зачем суетиться? Однако же… хочется! (А вслух говорю: надо! не мне! им очень надо! им нужен я!)…
И суечусь… И огорчаюсь!
Александр Жулин.
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».
КАРНАВАЛ-84
Рассказ
…по данным современной науки, оптимальный размер дырочек в солонке равен 3 мм2.
(«New Scientist», 1983, т.97, № 1344, с.367).
Танцы затеяли днем.
А что делать еще, если погода такая?
Так задвинем окна тяжелыми ставнями, включим цветомигалку! Так отгородимся от мира, будем плясать, будем
резвиться, как горные козы!
Это вскричал самый умный и самый серьезный. Молодой человек по профессии инженер-электронщик. И первым заблеял.
А действительно: в мшистом лесу сыро и чавкает. А действительно: погромыхивает. Ничего себе отдых, а?
Мигом откликнулись: сотворим козью морду погоде!
Бэ-э-э!
Ирочка, что ж отвернулась? Какое такое влияние атмосферы? Какое такое давление? Скорее в танцзал! Не дрыхнуть же приехали мы сюда, не воблу обсасывать!
Я-то? Я-то приехал сюда за здоровьем,
…которое — ха-ха! — от этого хуже не станет!
Эй, инженер, а сумеете электричество починить?
Бэ-э-э, скорее в танцзал!
И благодать наконец-то: в громе, в лучах цветомузыки совсем другой мир наступил — красочный, карнавальный!
Рок-рок-рок-бенц! Танцуют они. Весело ломают тела. Зубоскалят, посмеиваются.
Гляньте-ка: голыми пальцами скрутил провода!
Дивитесь: кружок «Умелые руки»!
Дайте потрогать: всамделишний электронщик!
Эй, не балуй, высокое напряжение!
В центре круга красавица девушка. Она скорее большая, чем маленькая. Выше всех, этак, на полголовы. Но красавица. Танцует — будто шаман ворожит. Руки то вверх плавно взмывают и там, наверху, переливаются лебедино, то тяжело падают вниз и как-то очень изящно волнуются вокруг выпуклых бедер. Русалочьих бедер.
Хороша явная великанша, честное слово: черные брови, румяные щеки, глаза темно и влажно блестят, открытые зубы искрятся в мятущемся разноцветьи — примите, дружище, сочувствие, если вы ростом не вышли.
…или равняйтесь на электронщика! Заметьте: он отнюдь не гигант, однако уверенно держится. Танцует бодро, с размахом, он это делать умеет, как умеет нравиться женщинам: великанша, покачиваясь, приседает — он возносит руки над ней (небольшой, а умеет возвыситься!). Она поднимается — он стремительно падает, бросая колени, сжатые вместе, то вправо, то влево.
И шутит: — Эх, если б не малые мои габариты!
Щурится хитро: — Но нам и так хорошо, без объятий!
Она в ответ улыбнись, а мы с вами додумаем: может, не так уж и шутит, может, щурится для разведки?
Душка Филипп — так зовут его девушки, и можно вполне согласиться, что что-то такое в Филиппе имеется: этакий умный прищур, умнесенькие эти шуточки, информированность, напор, а уверенность, с которой он держится?
В общем, мужчина номер один,
… если учесть, что других мужчин вовсе нет,
… разумеется, не считая Гену-художника.
Неожиданность профессии Гены — кажется, единственное достоинство этого хмурика: он лыс, коренаст, неказист. Не танцует, а топчется, такой боровичок-мужичок крепенький, к тому же физиономия красная, что вызывает определенные домыслы. Так что, несмотря на мольберт, ходить бы ему отчужденно.
…однако других мужчин нет на треклятой турбазе! А где они есть, мужики доброкачественные, куда вообще подевались? Более прочих это тревожит тощую Любу. Не сразу входит в танец она, пока только приглядывается, но качается очень ритмично, и из этого ясно, что она м о ж е т. Так кошечка, вброшенная в незнакомую комнату, замирает, гнет спинку, принюхиваясь, но уж будьте уверены, через минуту станет хозяйкой или… Или расцарапает честную компанию.
Опасная женщина Люба, нервная, многие норовят от нее подальше держаться, лучшее и нам отойти в уголок,
…а вот там-то вы и увидите Иру.
Почти все женщины в джинсах, только полная Ира в облегающем платье и в туфлях на каблуках. В платье фигура у нее привлекательная, но танцует она аккуратно и от этого скучно. Слегка постукивает полноватыми ножками, слегка поводит плечами, однообразно все так, пожалуй, смущенно, словно кажется ей, будто все взгляды обращены на нее, что близко к истине, в сущности.
Нет, разумеется, у каждого здесь свой интерес, каждый в себя углублен, но нет-нет, да кто-нибудь и посмотрит на Иру, и сам не поймет; зачем посмотрел, да вот глянул, и все тут. Ведь вряд ли кто знает, что вчера, когда позировала на фоне заката, тихий Гена-художник получил то, что не успел заслужить. Ира теперь сама не своя, никаких слов о любви не было, он только слушал, она говорила, все о себе, все беды свои излила: вот и муж ушел из семьи, и Славка, четырнадцатилетний балбес, отбился от дома, и на работе кошмарная обстановка, больные капризничают, она, медсестра, на три многолюдных палаты одна, верите ли, от шприца и сегодня руки болят — вот так говорила, говорила она, возбужденная после позирования, а он так отзывчиво слушал (ах, муж ушел! ах, Ручки болят, такие крепкие рабочие ручки!) — в общем, размякла и, всегда строгая к этим мужчинам (от этого и одинокая пошутил информированный электронщик, она же задумалась не на шутку!), как-то так неожиданно уступила.
Итак, танцуют они, гремучая музыка оглушает, ударные бьют наповал, что-то такое дурно визжит, и в трансе танцоры, кровь бурно по сосудам струится, и чем чуднее ломаешь себя, тем интереснее, а рядом и дети резвятся: один головой мотает вверх-вниз, словно мячиком на резинке балуется, другой ногами стучит быстро-быстро, а руки… А руки — так даже в карманах!
Ира аккуратно танцует, несмотря на пламень и лед, которые ее окружают. Сзади жжет Славкин огонь: этот длинноногий узкоплечий зверек с вечера нервничал, во сне вскрикивал, пил воду без счета, в туалет бегал — а знаете, туалет на дворе, метров за пятьдесят от коттеджа, а ночи такие холодные, она извелась, что простудится сын, и что с ним такое? А сейчас танцует, как заведенный, трясет, трясет головой, будто мозги перетряхнуть необходимо ему, а ей кажется: не растрясется — быть дикой выходке, жути какой, и, к несчастью, она проницательна.
Генино охлаждение точит душу. Что о ней теперь думает?
Ира растеряна. Улыбка у нее на лице, но только улыбка эта — обманная, карнавальная. Как-то так все случилось, без слов о любви. И прощаясь, ничего путного не сказал. Какую-то глупость сказал на прощание. «Вот оно! Бродит!» — сказал, и как сдуло его.
И все же хочется верить, что она ему нравится. Пусть самую малость. Художники — туманный народ… И ведь неустроенный, одинокий… Какой-то такой нехудожественный… От «того-этого» она бы его отучила… уколы бы делала… Может, врет, что профессиональный художник? Хорошо, если врет…
А музыка все стучит, надрывается. Однообразие ритмичных движений укачивает, улыбка сходит с лица Иры,
размягченного в неясных бликах мигалок, дефекты увядающей кожи размыты. Ира забывает о них и становится непринужденнее и милее.
Сделай сейчас? думает Ира, что-нибудь простое и гадкое, мигом бы надавала крепких пощечин!
И вдруг вздрагивает. Вот оно!
Тощая Любка загадочно вытаращилась. Лыбится!
Что, что такое неправильно сделала?
Ира мигом оглядела себя: нет, платье не мято, и пуговицы застегнуты все до единой. Может, с прической не так
что?
Нет! Тут другое.
Посмотрит Любка на Гену-художника и будто поймает будто бы отраженный от него Ирин взгляд, потому что быстро-быстро затем взглянет на Иру. И надувает щеки, сжав губы, точно смех еле удерживает. А теперь вот просто уставилась, глядит Ире в глаза, на одну Иру глядит, только на Иру, тощая вся из себя, лыбится, ух, змеюка!
А музыка все стремительней, танцоры трясутся, притоптывают, перекликаются, одолевая звон, грохот и лязг…
Впрочем, звуки еле слышны. Но вот мысли, они придают слову энергию, и пусть плохо слышно, но энергия слова побеждает пространство и шум.
Одуреть можно, как жарко! — весьма энергичная мысль.
От этих «Биттлов» я вымокла! — и эта мысль не менее энергична.
Если ноги нагреты — мозги отдыхают! — какая мощная информация!
Бэ-э-э! — почти что научное обобщение.
Они усыхают!
Нет, испаряются!
Возгоняются!
Ну и ритм!
…Отвернувшись от наглой вертящейся Любки, которая по-прежнему лыбится, Ира бодро поводит плечами, встряхивает головой, изучает выкрутасы душки Филиппа.
Впрочем, с чего бы он душка? Выкаблучивается перед дылдой, а у самого на уме… Ире становится тошно.
— Славка, идем! — зовет сына. Тот и слышать не хочет, худенький, а такой жилистый. Какой же увертливый!
Ей хочется схватить сына за ухо, выкрутить побольнее, но перед Геной неловко, и она находит силы сдержаться и сиротливо выходит из танца…
Маска сорвана!
Вы думаете, Любка в восторге?
Ошибаетесь.
Люба рассеяна. Очень рассеяна. Практически не видит деталей реальности, зато ощущает тени от них. Вокруг Гены холодная тень — это отметила сразу. Но с чего бы толстухе так нервничать из-за этого? То полыхнет, будто напалмом, — другой бы в секунду сгорел (другой, но не Гена), то стынью окружит себя, ну прям пятиводная рафиноза!
Люба — химик, учительница поселковой школы. Любе смешно. Словечко для Ирки, заимствованное ею из химии, кажется необыкновенно удачным. — Пятиводная рафиноза применяется для охлаждения спермы племенных отборных быков. Ирка заморозила Гену — вот в чем оно дело, вот отчего он холодный. Люба больше не может сдержаться, хохочет, не может глаз отвести от Гены и рафинозы. Бедный Гена, нашел кого приглашать на позирование! Недотрогу!
Ирка выходит из круга, а Люба, поглощенная борьбой с собственным смехом, и не заметила этого. Изгибая змейками тонкие ноги, вихляясь скромными бедрами, выходит в центр круга. Шаманит, оттесняя красавицу-великаншу. Вздевает вверх прозрачные тонкие руки, вьется незначительным телом, и кажется ей, что прелестна она,
…ах, ей всегда кажется, что прелестна она! Чернокудрая дева только коротко взглядывает, предоставляя электронщика Любке.
Любка, невпопадная Любка!
Электронщик гаснет мгновенно.
И что удивительно: сын Любки — обостренной, обидчивой и крикливой, сын ее — меланхолик. И танцует особенно: тело старается держать истуканчиком, и лицо, белое, — неподвижным. А руки — так даже в карманах. Зато ноги, словно чужие, скоро и мелко стучат вперемежку.
Электронщик пробует повторить его танец: носок вверх — стопу в сторону, носок вниз — стопа вверх. Нет, не отлаживается, требуется тренировка, огромная тренировка. А сын Любы счастлив: так ему сладко сосредоточиться на затейливом, копаться в одном и в одном! Небось упражнялся дома один, перед зеркалом, стремясь к восхитительному совершенству, а теперь ведь как пляшет, злодей! Впрочем, он не злодей, злодеем вскоре объявят другого…
Душка Филипп демонстративно выходит из круга. Обойдя тощую Любку, приближается к высокорослой красавице.
Он по сравнению с ней — мышка, но в этот момент решил окончательно пренебречь несущественным обстоятельством. Ей нравятся чайки в полете — ему нравятся чайки в полете, она млеет от двух алых радуг, одна под другой — он тоже млеет, а зелень необъятного луга, а свободные кони, а озеро — синее, гладкое, неоглядное…
— Вес мозга мужчины больше женского на десять процентов, — сообщает, подплясывая, сокровенную тайну.
— Однако самый тяжелый мозг был у известного идиота, — играет глазами, получив молчаливое одобрение предыдущему.
— Мозг Франса так мал оказался, что все до сих пор в изумлении.
— Как интересно, — роняет красавица и вытесняет Любку из круга.
Спотыкачка. Оторопелая Любка прерывает свой танец. Быть взрыву! Но нет. Внезапная догадка блестяща, обиды не будет.
Любку охватывает необыкновенное возбуждение. Покачиваясь, впивается взглядом в необыкновенную парочку…
А красавица-великанша невозмутимо танцует. Наслаждаясь игрой сильного гибкого тела. Сейчас все забыто, сейчас она в кайфе, одинокая среди многих, синхронно качает руками ладонями вверх, будто бьет по коленям, будто стучит костяшками пальчиков в барабаны, будто сзывает темные силы на грандиозный шабаш.
Так хочется — бум-бабах! — ясности.
Ясности! — Бум-бабах!
Электронщик случай рассказывал. Как в рот спящему человеку змея заползала. Человеку же снилось, что он глотал холодную воду. Вот змея и поселилась в желудке, поедая всю пищу, обрекая бедолагу на голодную смерть.
Странный, сказочный случай, скажете вы? И никаких таких аллегорий?
А что вы скажете, если муж двадцатилетней красавицы Светы, сорокалетний полковник, схватил третий за год инфаркт миокарда? И свекровь рассудила по-своему, не без умысла отослав на турбазу змеюку.
Знала б, куда отправляет! Скучища, сплошь женское поголовье!
Ясности, ясности!
Но сейчас все забыто, сейчас Света танцует, одинокая среди многих, впрочем, настолько уж одинокая? Уж ее-то и Гена успел пригласить на пленэр, и вот пожалуйста, душка Филипп!
— Что нужно нам? — хитро щурится электронщик.
Красавица Света оглядывается, что-то мелькает в огромных влажных глазах. Как Гена сказал? Чувствую, тайное бродит вокруг, шелестит и пугает, вижу отражение этого в твоих черных глазах, дай срисую!
— Что нужно нам? — настойчиво восклицает душка Филипп, и партнерша склоняет темную голову. Пышные волосы падают, поясница будто надламывается, движения тела все медленней, все безвольней, вялые руки, как плети, мотаются, крупное тело под печалью вопроса вот-вот рухнет?
Не рухнет!
— Что нужно нам — того не знаем мы! — лихо пускается в пляску Филипп. Руки распахнуты, весь мир обнимают, так славно жить, когда гремит веселая музыка, когда отзывчивы шутливые женщины, когда наготове цитата умудренного германского гения.
А красавица, увлекаемая напористым кавалером, на глазах оживает, в ладонях будто зацыкал маракасы, и все уверенней становятся махи, качания тела упруже, вот лицо запрокинулось, загорается, освещаемое переблесками света, и руки устремляются в Космос, и тело струится…
— Что знаем мы, того для нас не надо! — не унимается душа-электропщик, оборачиваясь
…и попадая на Гену-художника. Как лбом в прозрачную стену! Не откликнулся Гена, посмотрел, топоча, на Филиппа невидящим взглядом, бормотнул что-то под нос,
…застеснялся? Любка чутко внимает! И тут улавливает неожиданное колыхание. Что, что там?
Красавица-дылда как оступилась. От Любки не утаится ничто! Минуту назад озаренная великой догадкой в отношении дылды и электронщика, она вдруг ощущает тревогу. Что-то такое здесь происходит, утаенное от нее и пикантное!
Забывая о ритме, будничным шагом подходит к скрытному Гене. Что, что он бормотнул? Отчего дылда споткнулась?
Любка передернула плечиком, приглашая Гену включиться.
Гена подвигал тяжелым плечом.
Любка смотрит на Гену и улыбается.
Гена опускает глаза.
Улыбка у Любы неважная. Губы тонкие, синеватые, рот большой, а зубы… Повесить бы на крепком суку любезных друзей стоматологов!
Гена опускает глаза, а Любке кажется — что от смущения перед ней. Ясно же: все мужчины от нее без ума?
Гена таращится бессмысленно светлыми глазками. Ему так противно сегодня. Зачем сюда притащился, не знает и сам, но с утра ему хочется куда-нибудь спрятаться. Забиться в глубокий подвал, запереться там на замок, отсидеться, подальше от воздуха, от пространства, на воздухе плохо ему, вот и пришел в этот каменный дом, где особенно хорошо то, что ставни на окнах глухие, тяжелые.
Последнее время чувство такое, будто вокруг него бродит печальная тень. Все норовит взять его за руку, отвести хочет куда-то. Он выдумал лестницу. Такая высокая, типа пожарной, устремленная в бесконечность, не прислоненная ни к чему. Скрываясь от тени, он лезет по лестнице.
И на фиг ему не нужна была эта женщина, но ее толстый бетонный локоть! Он ухватился за него, как за перила.
Он карабкался высоко над землей, держась за перила, а тень слепо бродила внизу, и когда женщина неслышимо бормотала, он машинально поддакивал, но каждый втор его на самом-то деле был следующей перекладиной. А когда посмотрел в небо, когда увидел две злорадные радуги, одна под другой, голова его закружилась, и лестница покачнулась, а внизу — черный ядовитый луг, пламень озера, дикие гривастые кони, он вцепился в спокойные плечи…
И трава оказалась прохладной, и колени оказались прохладными, и нахлынул аромат луговых жизнестойких цветов, аромат здорового женского тела… Все это развеяло страхи, он поспешил и волна приняла его, податливая и упругая одновременно…
Еще один миг, и остался один.
Что-то еще бормотала, чего-то ждала от него, слов, что ли, каких-то особенных, он честно напрягся и вдруг очутился в том странном мире, где бродит печальная тень, и вновь обнаружил две злорадные радуги, и кони храпели, и озеро полыхало, а в черных кустах его ждали.
— Тс-с! Вот оно, бродит! — шепнул, обмирая от страха, от внезапной надежды, что женщина убережет его, но она лишь глянула удивленно.
Испуганно.
Жутко взглянула она на него. Словно преподнес хрустальный ларец, а из ларца вычервело змеиное жало…
Трам-ба-бу-бах!
Гена вздрагивает, и пилит глаза, и видит вдруг гибкое тело, синюю пасть, жало, спасаясь, кричит:
— Пшла!
А это была — невезучая Любка.
Э-э! Гена окончательно приходит в себя (впрочем, ответьте, где тот момент, с которого отсчет окончательного в себя прихождения?). Гена сконфужен, он мнется и экает, а Люба бледнеет и тоже нема.
И тут шаги сзади.
Быстро, дробно стучат каблуки, каблуки здесь только у грешницы Иры, да это и есть она, к ней вернулась уверенность. Ира стремительно приближается к Гене, лупит его по щеке.
— Р-раз! — слышен голос Филиппа. Но не спешите его осуждать, он тоже растерян, вот и подсчитывает.
— Два! Три! — ведет счет звонким ударам, правильными показавшимися всем поначалу, однако: — Пять! Шесть! Семь! — это похоже становится на избиение.
Раздается неистовый хохот. Все оглядываются, только Ира, распаленная, вошедшая в раж, не откликается, а напрасно: Люба, исстрадавшаяся за сегодня; хохоча истерично, появляется перед ней вместо Гены (отчего, почему ее влечет всегда на огонь?). По инерции Ира бьет и по женской щеке.
— Как! — визжит Люба и кошмарно хохочет. — Ты? Меня?.. Рафиноза!
— Мама! — новый пронзительный голос. С отчаянным воплем врезается Ирин сын, Славка. Отпихнув Любку, наскакивает на художника:
— Вы! Вы! Прочь! — Трясется, локотки острые, кулачки сжаты. А Любка, полуживая, начинает вдруг громко икать.
Гена обретает спокойствие. Только что не на шутку побитый (лицо так и горит, кажется, синяки назревают), он,
скажите на милость, только вздыхает. Филипп глупо щурится, Света, подурневшая от непривычных страстей, подтанцовывает, Ира всхлипывает, отходя, а вот Гена неожиданно обретает спокойствие. Тверда ухмылочка, крепко сбита фигура, грудью встречает Славкин наскок.
Но и Славка не сник, ростом чуть ли не с Гену, по-мальчишески худенький, длинноногий — высокая попка, скалит зубы, хищный зверек, дерзко кричит:
— Вы! — ходит кругами, сжав кулачки. — Прочь! Прочь! Прочь! — не умеет пообиднее оскорбить.
Нет, не с руки взрослому бывалому Гене убояться звереныша. Распрямляется, смотрит усмешливо, не моргая и
долго, а получается — строго.
А музыка орет, надрывается!
Но будто и нет музыки.
— Ну, негодяй я, это хочешь сказать? — говорит Гена лениво. Протяжно, негромко — а слышно его хорошо.
— Вы! Вы! Прочь! Прочь! Прочь!
— Ну, хочешь, ударь! — хорошо слышен ленивый голос художника. — На, бей! Не боись! Не отвечу!
Мальчишка насупился. Однако и не глядя, он видит, что открыто вражье лицо и что грудь тоже открыта, что нет кулаков за спиной.
Мальчишка наконец-то растерян.
— А, ладно, — произносит Гена лениво. — Хочешь, убьюсь сам? — Он так неграмотно произносит эти слова, что ни у кого не мелькнуло и мысли! А Гена вдруг быстро подошел к проводам. Два провода сращены электронщиком — просто связаны медные жилы, и никакой изоляции!
— Вот, смотри! — говорит Гена, беря провода при всеобщем обалделом глазении.
— Ах! — Гаснет свет. Но не это так страшно страшна внезапная тишина.
— Катастрофа! — Любка икает.
Кто-то чиркает спичкой, кто-то поджигает, бросая на пол, газету, кто-то включает фонарик — оказывается, Любкин сын-меланхолик.
Свет снова вспыхнул, с места в карьер взвизгнула музыка, все увидели Гену: стоит, как стоял.
— Странно, — бормочет, — я их в ладонях зажал, но ничего не почувствовал.
Но это не самое страшное, это просто совпало во времени с тем, о чем они пока не догадывались. Странно другое: почему упреждал?
— А, ладно, — сказал слегка удивленно. — Надо проветриться, — и, легко взяв за плечо, выводит Славку за дверь.
— Да-а! — произносит Филипп,
— Куда они? — Света.
— Не волнуйтесь, — изрекает Филипп, — Гена не зол. На нее, — кивает на затихшую Иру. Ира подносит платочек к глазам.
Все как-то присмирели, обмякли. Даже музыка пришла наконец-то протяжная, приглушенная. Одна Любка вздумала ходить взад-вперед.
— Да сделай потише! — прикрикнула Любка на сына.
Тот выключил вовсе. А Любка внезапно оказалась у двери.
— Смотрите! — вскричала она. Филипп подскочил первым, выглянул, ойкнул, быстро захлопнул, закрыл дверь на щеколду.
— Что там такое? — голос Светы.
— Черная туча! — воскликнула Любка. — Быстрая и огромная. Вокруг тучи мигает!
Тут вновь погас свет.
— Не пущу! — яростный возглас во мраке.
Страшной силы удар выгнул дверь, через щель засвистело, послышались звуки возни, хрипы, сопенье, два звонких удара, вскрики Филиппа: «Куда, куда? Они, наверно, в коттедже!» Ира, наконец, выбила дверь.
Вовне все было мирно. Казалось, порыв ветра иссяк.
Минуту, не более двух длилось нападенье стихии. Ира исчезла за дверью, робко выглянули за ней остальные:
тишь, гладь, земля серая, рыхлая. Остро ощущается свежесть. И вообще, хорошо на свободе. Замкнутый танцзал, весь этот созданный ими карнавальный мирок кажется душным каким-то и уже отошедшим. Забытым.
И тогда замечают, что слишком уж пусто кругом. Не видно одноэтажных дощатых коттеджей; кирпичные стены столовой разрушены, похожи на руины древнего храма: крыши нет, нет и столов внутри, нет котлов, нет людей, нет ничего!
…аппаратура, устанавливаемая на спутниках, еще не позволяет различать погоны на мундирах.
(«Bild der Wissenschaft», 1984, № 2, с.4)
Это случилось 9 июня 1984 года. В тот день от Урала до верхней Волги пронесся редкостный для спокойных российских пространств ураган. Три тысячи километров движения смерча — таковы были первые заголовки в газетах. Приводились объемы потерь в тысячах штук опустошенных домов, гектаров посевов и животноводческих ферм. Приводились примеры стойкости тех, кто организованно приступил к ликвидации тяжелых последствий. Приводились цитаты: «…трагедия показала еще и другое — прекрасную душу советского человека». Объяснения метеослужб, почему-то не предупредивших о двухчасовом кружении
смерча, не приводились. Потом объяснили: мол, слабая техника… Тогда что же военные? А им, доблестным, видно, не входило в обязанности.
Я увидел в окно: свинцово-мрачная туча вдруг, словно длинно вытянув белые тубы, начала в себя всасывать воду. Послышался шум. К губастой воронке со всех сторон помчались обрывки раздираемых туч. Шум нарастал. Воронка, размером в полнеба, извиваясь, передвинулась к берегу и полетела по-над самой землей, то отрываясь, то припадая к ней с опустошающими поцелуями. Закружилась штопором, цепляясь корнями, столетняя липа, но мгновенно исчезла в прожорливом горле.
В два прыжка я приблизился к выходу. Вытолкнув жену в коридор, хлопнул замком, привалился к балконной двери. Она выгибалась, точно кто-то ломился — огромный и сумасшедший. И грохот — как будто налетел вертолет… Но уже через пару минут все закончилось.
Окинув взглядом мертвенно-бледное, но странно улыбающееся лицо жены, я зачем-то ей подмигнул. В комнату
мы не пошли. Шатаясь, спустились по лестнице. Напротив нашего корпуса дымились останки коттеджа на две семьи. На месте пивнушки желтело пятно пустыря. И куда-то подевался могучий «Икарус».
Послышался хохот.
Обернувшись, я увидел бредущую женщину. С громким смешком, раздвинув тонкие синеватые губы, она наклонялась к кому-то. Человек лежал на земле, из живота его, словно клык, торчал обломок ствола устоявшего дерева. Человек смотрел на меня неотрывно, лицо темнело неземной чернотой. Оголенная рука его дергалась. Женщина (Люба?), хохоча, срывала с нее желтые круглые часики. Человек махнул этой рукой, может быть, отгоняя мешавшую женщину, сбивавшую сон.
Неловким движением я повернулся к жене — но не успел уберечь: ее волосы встали на голове — прямые, длинные иглы.
А сзади высилось четырехэтажное кирпичное здание нашего корпуса, и не сразу я понял, отчего, недоумевая, все смотрел и смотрел на него: на здании не было крыши и жутко и пусто зияли дыры окон опустошенного верхнего этажа…
Сына Иры мы не нашли.
А Ира угодила в больницу. Говорят, навсегда.
Когда-нибудь, если нам разрешат, мы ее навестим. Она встретит словами:
— Славка, негодник, пришел, наконец? — и вглядится воспаленно в кого-то из нас. — Ну-ка, иди, укол тебе сделаю!
А потом вздрогнет, станет совсем другим человеком, испуганным:
— Тс-с-с, тихо! Вот оно, бродит! — и быстро махнет от лица, отгоняя рукой незримую тень. И тогда нам придется уверенно, твердо ответить:
— Там нет никого, Ира, почудилось!
— Вы художники, да? — спросит она. — Вот и сын у меня, знаете, тоже художник! Художники, знаете, туманный народ! Цивилизация, они говорят, не больше, чем облезлый лишайник на каменной корочке! А сама земля, они говорят, так глубока, так глубока!.. И дышит сама по себе, вот ведь!
Но вдруг съежится, вспомнит что-то иное, тревожащее:
— Что такое рафиноза, не знаете?
Но, может быть, литературный язык — это ритм? Ритм, как выражение пульса души автора? Ритм, передаваемый чередованием ударных и безударных слогов, синтаксисом?
Не оттого ли так строги каноны на воспроизведение евангельских текстов?
Есть что-то волнующее даже в этом простейшем: «Кто на поле свое, а кто на торговлю свою».
Не потому ли стихи (настоящие) выше рассказа, а рассказ (настоящий) выше романа?
Александр Жулин.
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».
ФЕДЬКА — ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЯТКИ
Памяти Указа о пьянстве
Дашка закрылась, а Федька стучит. Пьяный пришел. За полночь.
Стучит кулаками, кулаки — с поларбуза.
Повернулся спиной и колотит ногами.
Ноги — кривые и жилистые, не ноги — крючья железные, хорошо это Дашке известно.
— Открой, стер-рьва!— орет на весь спящий поселок. И лбом о дверь: бух-х, бух-х!
Рукой схватился за поручень и с размаху плечом: эт-ть! эт-ть!
Оторвался поручень-деревяшка, Федька рухнул с крыльца.
Взял кирпич:
— Не открош-ш, стекло вышибу!
— Сам же и вставиш-ш!— крикнула Дашка и встала за шкаф.
Брызнуло стеклышко. Пролетел кирпич мимо Дашки и, глухо врезался в стену.
Кувырнулся будильник. Сорвался свадебный фотопортрет.
Красив Федька на карточке: чубат, крепкоскул.
— Сам же и вставиш-ш!
Желтый свет вспыхнул на дачниковой половине. Скрипнули половицы, завизжала щеколда. Вышли оттуда.
— Кончай, Федор Матвеич!
Дачник. Джинсы на поросячьих ногах. На пухлой груди безрукавка. Парус на безрукавке.
— А ты чё за указ?
— Вот-вот, — отвечает, как ждал. Как раз подпадешь под указ! Указ вышел о пьянстве — слыхал?
Стоит, гад, у террасы. Улыбочка.
Развернулся Федька и — кулаком по улыбочке.
Даже боли в руке не почувствовал: свалил порося, как мешок. Только будто в пальце кольнуло. Взглянул: острый зубок впился в смуглую, индустриальным маслом номер двенадцать вспоенную кожу. Сковырнул ядовитый зубок, поплевал на ладони, вновь за кирпич.
Жена дачника птицей летит. Тощей грудью вперед, слюной брызжет на Федьку.
Отпаснул ее левой — правую-то к земле тянет кирпич.
Запахала дачница носом. Как мошку сдуло ее.
Ну, тут Дашка не выдержала. Засов скинула, появилась.
Босая: шлеп—шлеп по ступеням.
Пошел Федька к Дашке. Хотел по дороге дать пендаля дачнику, да тот завозится, забарахтался на траве. Хоть и на четвереньках, а задал стрекача!
Идет Федька бить Дашку, да глянул: а хороша баба! Телом ядрена, Кожа бела, сиси тяжелые под рубахой мотаются.
Идет Федька к Дашке и не знает, чего толком хочется.
Вострит кулаки, но злость уже не так душит его. И дверь нараспашку, а там — видит — постель широкая, мягкая.
— Ты, стер-рьва, рожи корчила пухлому?
— Господи-святы! — ахнула Дашка, — что такое городишь?
Ткнул Федька Дашку в живот — не зло ткнул, больше так, для порядка. Да тут дети откуда-то. Во-первых, сын
дачников. И хотя встал в стороне, серым столбом, но как зацепа в глазу.
Во-вторых, Ленька. Ленька — с доской. На отца и с доской!
В-третьих, Сашок. От горшка два вершка, а туда же тычет лопаткой.
— Брысь, Ленька! — крикнул двенадцатилетнему.
А Сашка — осторожненько — отодвигает ногой:
— Подальше, подальше, Санек! Оттыди!
Но стер-рьва Дашка!.. Рука у Дашки рабочая, огребла сверху — череп эхом отгукнулся. Злость по глазам хлестанула, стал Федька бить Дашку. Руку ей вывернул, к земле пониже пригнул и по морде, по морде!
— Так-то, стер-рьва, сынов воспитуешь!
Подогнулись у Дашки колени, лицо отворачивает, сыну кричит:
— Гвоздем ему, Ленечка! По лапе, по лапе!
Как коготь торчит гвоздок из доски. Прицелился Ленька — попал! Рубаху рванул, пыснула кровь.
Однако папане все нипочем. И здоров же, бугай! Стал Ленька целить еще.
— А ты чё стоишь? — дачного сына Дашка зовет. — Чё прохлаждаешься?
Серой тенью маячит дачников сын, а лицо Дашки совсем уж в земле. Гнет руку ей Федька, как рычагом управляет Дашкиной толстой рукой: пожри, погрызи черноземчика!
— Камень, камень возьми! — хрипит Дашка дачному сыну: на кого ж и надеяться — выше Леньки на полголовы!
Зашарил длинный в траве, да тут дачница оклемалась, кинулась сыну наперерез:
— Уходи! Уходи! Уходи!
Изловчился Федька — и дачнице по затылку. Вот на кого кулак чешется, эх-х, хорошо!
Однако руку Дашкину выпустил из-за этой гадюки. Вывернулась Дашка и ногой ему в пах. Да сбила с ног, да навалилась всеми восемьюдесятью килограммами, да давай кулаками тузить.
И Ленька опять же. Подскочит, ударит ребром доски — по тому месту, где кость брючику ограняет — отскочит! Доска тяжела ему, двумя руками ее поднимает, — и ну отца по ноге, ну по ноге! Нога так и дергается, так и подпрыгивает.
Ребром-то куда сподручнее, чем если гвоздем: от гвоздя только кровь, а что от нее?
Лицо Дашкино от грязи черно, из глаз течет, из носа течет, плечом утирается, а только сидит на муже верхом и колотит, колотит, колотит…
Дачник, слава те, объявился. Рядом встал. В тапочках.
И дачница сидит, очумело качается.
Сын дачников колыхается.
А вот Саня работает. Подойдет с лопаточкой, ударит батю по морде, снова примеривается.
Соседи в калитку вошли.
— Глянь, сыновья — на отца! — говорили одни.
— В милицию, ой, в милицию надо бежать! — говорили другие.
— Эй, Дашка, остынь! Убьешь чего доброго!
Чего под Руку лезут? Их звали?
— Глянь-ка, и маленький на отца!
— В милицию, ой, в милицию!
— За что его? С дачницей путался?
Очень дачницу здесь не любят. Шатается по поселку в шальварах. Все — в желтых шальварах! В темных очках.
Все — в черных очках! В пол-лица эти очки! Как подсолнухи эти штаны…
— Дарья Семеновна, — дачник бормочет, — может, довольно?
Ну чего? Чего под руку? Золотая минута!
Тут еще сын этот длинный:
— Пойдем, пап, пойдем! Тебе готовиться к Байконуру!
А Федька, гад, спит. Спит, сукин кот! Все ладони, кулаки все отбила — ему хоть бы хны! Разрыдалась вдруг Дашка.
— К Байконуру, пап! К космосу!
Не глянула на соседей, на дачников. Подняла под мышки, потащила, поволокла мужа в дом. Загребают землю железные Федькины пятки…
По Ярославке это случилось, недалеко от Москвы. За четырнадцать лет до двадцать первого века.
…На другой вечер стучит Федька, трезвый и хмурый.
— Выдь-ка, — зовет, — не бойсь, я проспался!
Пухлые пальцы легли на щеколду. На пухлой руке повисла жена.
— Я мириться, — Федька сказал, — я от Дашки! — И бутылку крутнул. Булькнула водка.
— Не пью! — из-за двери ответили.
— Я те деньги на зубы-то дам! — крикнул Федька. — Я на тракторе, знаш? Сколько надо, столько и напашу!
— Ему на Байконур улетать! Ему некогда!
Ишь развизжалась. Словно сама ракеты пускает. Ясно дело, думает Федька, от гадюки такой и сам на Луну удерешь!
— Я угощаю-то, я! — решил пояснить. — И за дачу можете не платить!
— И так не будем платить! — дачница из-за двери. — Как машину достанем, тут же уедем!
Ясно дело, думает Федька, гордится! А гордится-то чем? Я, что ли, там не работал? Небось побольше его получал! Подумаешь — анжинер!
Ясно дело, думает Федька, решил затаскать! Туда напишет, сюда!.. Указ поминал!
Плюнул в сердцах. Пошел к участковому. Прямо домой — как Дашка учила. Свой участковый-то, поселковый!
Постучал.
Участковый гантели гоняет.
Встал в дверях. Бутылку в кармане ощупает — уверенности прибывает. Наконец выложил. А участковый:
— Не знаю. Не слышал! И вообще, некогда: ночное дежурство.
С тем гантели кладет, идет обливаться холодной водой.
Разинул рот Федька: как так не слышал? И горлышко из кармана высовывает.
— Обалдел? — говорит участковый. — Дождешься!
— Да я так, хитрит Федька, — из кармана в карман перекладываю. Зайду завтречка.
— И не думай! — рубанул участковый. — Пока, будь здоров!
Разинул рот Федька: никак и этот не хочет с ним пить? Водка-то дорогая, Столичная, не какой-либо сучок!
Хотел к Дарье пойти (подфартило с бабой-женой: утром рассольчику подавала, советы дает!), хотел посидеть чинчинарем, своей семьей свое выпить, да такая тоска взяла, что вдруг встал на дороге, уставился в небо: в небе звезды горят, самолетик летит…
Раскрутил Федька бутылку, да с маху всю себе в глотку и вылил.
Но поперхнулся. Закашлялся неожиданно. Неужто и вправду не знал участковый? Неужто не подавал заявление
дачник?
От этого глотку-то и скрутило.
Так уж и некогда им!
Сволочи!
Рассказать о себе…
Рассказать о прежних своих воплощениях? Не в этом ли сущность или, вернее, источник фантазии, творчества? Литературного творчества как процесса вспоминания прожитых жизней?
И получается: чем больше было прожито прежде, тем талантливей автор!
И получается: у неталантливых все еще впереди! Столько прожить еще, столько перечувствовать предстоит!
Не завидую тем, кто талантливей!
Александр Жулин.
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».
ВОТ УМЕРЛИ ВЫ…
Памяти товарища Сталина
И к кому теперь обратиться? Лиде не спится. Муж вчера ездил во двор, и там ему доложили с участием, что ее лапали братья Матыкины. Ей Славка не сказал ничего. Усидел пару вермутов с другом Виталием, спит.
Чем кончится это?
Поперек второго матраца лежат рядком девочки. Сопят себе в дырочки, только Женька ворочается, забирая на себя одеяло. Хорошее одеяло, ватное и просторное, хватит на всех, а Женька все забирает!.. Надо подняться!
Лида встает, идет к девочкам. «Хорошее одеяло, ватное и просторное…» — пытается сбить себя с мыслей о гадах Матыкиных. О том, как, тиская и затаскивая ее в подворотню, смрадно дыша, перебрасывались: «Гля! Никак снова с икрой? — Не, просто пузо здоровое!.. — Трусишки, трусишки таш-ши! — Ой! Схватил за …..! Мохнатенькая!»
Обернувшись, Лида смотрит на мужа. «Этот безногий, — приходит в голову спокойная правда, — загубил мою
жизнь!»
Но тут же пугается: ой! Беда, что пришло в голову!
По старой деревенской привычке крестится в угол, да поднимает глаза и сует в рот кулак: с портрета, укоризненно наблюдая ее, усмехается вождь и учитель.
«Дорогой товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович! — обращается мысленно Лида. — Вот Вы оставили нас, и как же теперь? К кому обратиться? — жалуется Лида беззвучно, а глаза заполняют обильные слезы. Но тут понимает, что слова ее напоминают упрек, и снова кусает кулак. — Спасибо, конечно, за Вашу заботу! Вы всегда будете с нами!»
И снова плачет, раскаивается; что думала плохо о муже. Хочет обнять его, но не смеет. Что-то мешает ей.
Самолюбив Славка. Ой, горд! Лида не всегда понимает его. А себя? Вот только что повторяла злые слова, вот разжалобилась, застыдилась, но что еще, что теперь-то мешает спокойно уснуть?
Вечером накануне.
— У меня дома порядок! Жена только против словечко — я бровь поднимаю, и все, залп Авроры! — откинулся
Славка на спинку стула. Уперся пьяненьким взглядом, ждет, что ответит Виталий.
Тот отвечать не торопится. Ест. Так ест, что брызги летят. Лоснятся и подбородок, и щеки. Масло стекает, как пот.
Уткнулся Виталий в тарелку, обхватил двумя пальцами вилку, втыкает ловит пельмени. Другой руки нет у него.
Ловит, ловит пельмень, а поймал — ткнул в кучу масла и в рот. Не хочет глаз поднимать от тарелки. Да и как их поднимешь, если слова эти про бровь и словечко — пыль. Бравада, вранье наглое!
— Эй, Лиденция, еще вермуту! — кличет громким голосом муж. — Да живее!
Лида старается подальше от гостя держаться. Надо же есть так неряшливо! Нет, она понимает, что сложно управляться с пельменями, если они разварились. Если пальцев — мизинец да безымянный. Если пальцы эти — обрубки. Она понимает, но… Капли слюны во все стороны разлетаются! А звуки, а звуки! Надо ж так чавкать! Губы-то без изъянов. Нормальные, целые губы, только мокрые, красные очень.
— Ну! — вскинул бровь Славка.
Она отодвигает масленку от гостя-урода — для того будто, чтобы ближе к себе. Мажет хлеб маслом и видит вдруг, как на желтой поверхности осаждаются капли. Лида вскакивает, бежит к шкафу за вермутом.
— Видал? — слышит сзади пьяненький голос. Бровь поднимаю, и все!
Выпивают. Вино сладкое, а гость ухнул так, будто ему водки налили. Лида стыдится за мужа, что хвастает перед таким.
А гость говорит:
— Скажу Васину. Э-э, крепок мужик! Он да Геша Давыдов. Да возьмут Исполатова. Отобьют печенки Матыкиным, попомнят звери зеленые, как… — он замолкает. (Лида бы вышла, чтоб не мешать, да не отпускает супруг. Не хочется ссоры при госте.) — Как задирать юбку фронтовиковой жене! — закончил, поколебавшись, Виталий.
Лида знает, что и песня про Васина с Гешей — вранье. Позарастали стежки-дорожки, никому нет охоты с ними
дружбу водить — не потому, что плохие друзья, а потому, что неловко. «Скажу Васину!» Да разве повернется язык, чтобы про это рассказывать? Как ей мяли полные груди, как шлепали и щипали за зад? Как возились, сопели, затаскивая в подворотню, а она молча, так же угрюмо сопя, отбивалась, стыдясь, что увидят… Отбилась! Удрала!
Был бы муж на ногах — разве посмели бы? Был бы муж, а не краб. Лида возмущенно краснеет: да как смеет он разрешать этому другу Виталию обсуждать горькое, стыдное?
Лида испепеляюще смотрит на Славку, а Славка напился. Не слышит Виталия, думает свою пьяную думу.
А Виталий:
— И денег не надо, за дружбу, за так? Выпить? Ну, выпить поставишь!.. Елки зеленые — жену летчика, лейтенанта! Но и ты не форси! — говорит тише и все стукает, скребет железом зубцов по фаянсу, и звук проти-ивный такой!
— Ну что ты форсишь? — раздражается вдруг. — Нету ног, так и сиди себе дома!
Он целит в несколько последних пельменей, но раз за разом промахивается. Разварились пельмени, рассыпается
хлипкая мясная начинка, расползается тесто лохмотьями. Тык, тык! — тычет вилкой Виталий (да мимо!) и злится.
В окно влетает жирная жужжащая муха. По-над столом пролетает, делает разворот. Виталий прикрывает тарелку культей.
— А ты — в белой рубашке да в галстуке! — неожиданно восклицает (когда Лида решила, что он вроде заткнулся). — Ну, подумай, как на тебя людям глядеть? Им вниз надо глядеть! Там шаркают ноги, там лужи и грязь, и там же — рубашечка чистая, белая. И галстучек тьфу! — скрипнула вилка и вознеслась.
Сорвался с вилки ошметок пельменя, шмякнулся в лужицу на тарелке. Маслянистые брызги — Лиде на кофту.
Обрубленный черт! Лида — аккуратистка до мозга костей. Это она занимается обмундированием Славки. Это в ее огород метит Виталий. И он не просто швыряет камень в ее огород — он попадает в Лидино сердце.
— Матыкины галстуков сроду не терпят! — истерично фальцетит Виталий. — А тут в галстуке — человек на колесиках. Будто в известном ботинке неизвестно, откудова гвоздь! Будто в привычной, задом притертой скамейке — заноза! Будто в том же, глянь, вермуте — дохлая мышь! Вот и отыгрались они на жене!
Никогда еще Лиде так не было плохо. Виталий рубил топором по нежной мечте. Лида до крови губу кусает, а
Славка молчит. Лида смотрит на мужа. Он и сейчас в белой рубашке, при галстуке. Хоть и пьян, да причесан. И на стуле сидит, как целехонький. Выпил, а не шатается, только мускулистые руки лежат на столе — в них у него сейчас равновесие.
Лида смотрит на мужа и ждет. Да тут девочки в дверь.
— А-a, вот мои золотые шары! — завопил Славка пьяненько.
— Нет, взгляни, что за головки! Пушистые, желтые, как на подбор! Шесть лет, четыре и два! Ну-ка, идите, конфеточек Вам!
Что с Лидой случилось — сама не поймет. В глаза слезы брызнули, чужим голосом девочкам:
— А ну, носы умывать, писать и спать! Идите, идите, нечего с пьяным папкой тут быть! — и встает, на девочек надвигается.
— Не-ет, погодите! — Виталий встревает. — Вот вы чьи, папины или мамины?
— Стой! — Славка очнулся, мотнул головой. — Такие вопросы нельзя задавать! Стой! — и икнул. — Непедагогично.
Лида стоит перед девочками, боится взглянуть. Боится увидеть, куда девочек клонит. Боится услышать ответ и
ждет его в то же время.
— Так чьи? — голос Виталия.
— Нельзя задавать. Спать, Женечка, спать?
Лида не замечает, как ложится рука на Женькино худое плечо. Не ощущает, как оно вздрогнуло под ее крепкими пальцами. Не видит, как загнанно глянула дочь на нее. Предположить не могла, насколько чуткой может быть дочь.
— Мамины! — задрав к матери головенку, дрожит старшая Женька.
— Мамины, мамины! — щебечут младшие сестры.
— Гы, гы! Гы! — скалит зубы Виталий.
— Ах, вертихвосточки! — ведет Славка рукой, от которой с визгами разбегаются девочки. — Дайте-ка гребешок! Всех расчешу!
Только любимица Женя не хочет бежать, притворяется. Что-то не нравится ей. Хмуро отцу говорит — точно пробует горячую воду:
— А я бегать не буду.
— Все равно не догонишь! — сестры щебечут.
С девочками — терпеливо и нежно! Все прощать, зла не держать! — непререкаемо говорит Славка. — Им, им мамами быть!
— Гы! Гы! Гы! — давится смехом Виталий.
— Беззаботный какой! — Женя настаивает на внимании.
Стоит под материнской рукой, струночкой натянулась.
— Лучше уж пензия вместо такого! — девчушки подхватывают.
Они повторяют явно чужие слова. И голосишки не детские: скрипучьи, старушечьи голоса!
— Гы! Гы! Гы! — веселится Виталий.
А на Лиду прямо напал какой-то столбняк. И слышит, и видит все (и скрыто, но для себя тайно, влияет), но не может вмешаться. Только пальцы все крепче в плечо Жени впиваются, и как терпит та, непостижимо уму.
И опять эта жирная муха! Проносится, жужжа, над столом, На бреющем летит мимо Виталия, со стуком бьется в окно.
— Вот кто ты! — зло и внезапно Виталий выкрикивает. — Вот, вот! — тычет на муху обрубками пальцев. — Бьешься все, бьешься, а не видать тебе воздуха!
Странной кажется эта культя. Был бы кулак — да вот эти обрубки пальцев, как рожки. Рожки жалкой улитки.
Виталий закашлялся. Кашляет страшно, с надрывом, так что безбровое, толстое лицо его багровеет, а из глаз
льются слезы. Лиде надо бы подойти, надо бы стукнуть по оплывшей, мягкой спине, но она и шагу сделать не может. Все крепче на плечо дочери опирается, какой-то сладкосмертельный страх нарастает в груди.
— Не летать тебе, не летать! — сипя, в перерывах между жуткими кхеками Виталий выдавливает: — Занято твое место в кабине!.. Кхе-х, кхе-е, ох, занято)
— Нет, на девочек сердиться не будем, Лид, а? — а Лида молчит. А Славка — Виталию: — Вот возьму и рассказ напишу!
— Ты?.. О чем? — фыркнул Виталий.
— О чем? — спорит Славка, — да об этом всем! По почте отправлю, Лида зайдет, перевод принесет. Куплю каждой дочке по кукле! Лид, а?
Рыгнул Виталий, отхаркнулся. Сплюнул с губ мелкую пакость, глаза вытаращил… Но успокоился. Легко отмахнулся:
— Это кто ж про это будет читать? Нет, ты, парень, видно, сдурел, сопли зеленые! Да ты до почтового ящика разве дотянешься? А кукол как выберешь? Я, что ль, подсаживать?..
И Лида вместе с ним успокоилась. Беззаботный какой! Как рукой сняло весь столбняк Собрала девчонок, стала готовить ко сну.
А на мужиков вермут наконец свое действие оказал. Стали вдвоем песни петь.
— Вот солдаты иду-ут!..
А Виталий:
— Фронтовых друзей позову! Ох, и сделают бешбармак из Матыкиных!
— … по степи опален-ной!..
Но Славка:
— Не-е! Не надо друзей!.. Ох, не надо друзей!
— … тихо песни пою-ут…
— Тише! —Лида прикрикнула.
— …про березки да клены… — продолжили шепотом.
Сидит Лида возле привычных к шуму детей. Повторяет, прикидывает слова про занятость места в кабине. Об этом мечтала, выхаживая непонятно-веселого парня?.. «Интеллигент-лейтенант! — говорил главный врач и словно подталкивал, словно подталкивал Лиду к чему-то. Она не могла уяснить смысл похвалы, но среди вони и крови, стонов и матерщины глаза главврача блеснули диким огнем надежды на что-то. — Ох, хорош лейтенант!» — прищелкнул главврач языком.
А ясноглазый парень так сине смотрел…
Ее раздражал этот взгляд и притягивал. Его красивые, сильные, белые руки (он, единственный, следил за ногтями, а по утрам уж мыл, мыл их над тазиком) привлекали внимание, но пустота под одеялом в ногах, но пустота… Пугала, отталкивала, физически отвращала, как что-то безобразное, мертвое.
Однажды представила, как он карабкается по ее коренастому чистому телу, цепляясь руками за шею… Это было во сне, она металась в кровати, и байковое одеяло закрутилось вокруг тела и ног, и тут ощутимо увидела синеглазое лицо лейтенанта и потянулась к нему, и он прильнул к ней… а в ногах — пустота. Она застонала от радости и отвращения, разом объявших ее, а внутри нее, в груди, в животе, рос, набухал прозрачный и розовый, сладкоманящий пузырь, вдруг он лопнул, и хлынул очищающий водопад… Утром пошла к лейтенанту.
— Героиня! Из тех — скромных, безвестных, героических медсестер! — восклицал романтик-главврач, и дальше все само собой как-то складно стало выстраиваться, и темп убыстрялся, все нахваливали… одна за другой появлялись на свет дочери, приносящие все новый ворох хлопот, она не успевала присесть, отдохнуть, оглядеться, забыв о себе как о женщине (в сущности, совсем еще молодой), и только со все более яростным ожесточением стирала, отглаживала мужу рубаху и галстук, словно этим отскабливая, отшлифовывая мутнеющий лик надежды на светлое, сказочное, высвеченное однажды сверкнувшим безумным огнем в глазах
главврача: «Интеллигент—лейтенант!»
До этих дней Славка не пил…
— Вот солдаты иду-ут… — тянули Виталий со Славкой.
Лица не подпевала. Не давала покоя жирная муха, копошившаяся в тарелке Виталия. Ела, ела пельмень, пила, пила пельменную воду. Нисколько безрукого не боялась.
Утром.
Сполз Славка с матраца, на Лиду не смотрит.
Ползает по полу, ищет тележку. Обопрется руками — взмахом мускулистого тела перекинет остатки ног в наглухо зашитых брючинах, перенесет руки и вновь обопрется на них — уже подальше от прежнего места.
Лиде:
— Куда дела ноги мои?
— Не скажу! Не скажу, не скажу, не скажу!
— Не скажешь — не надо. Так поползу.
Глаза голубые напружились. Весь побелел.
— Под матрацем у девочек!
Пополз под матрац. Растянулся на пузе, могучими руками шаркает по поту — никак не достанет. Полез глубже,
скрылся совсем. Стук, грохот — с лязганьем тележка выкатывается.
— Эй. А где орден?
— Не дам! — взвилась Лида. — Не дам, вот не дам, не дам ни за что!
— Ладно, вырежу из газеты, на рубаху наклею.
Дико веки раскрыл: голубые глаза как шары.
— На верхней полке, в шкапу! — покорно ответила Лида. — Что ль, достать?
— А где гимнастерка с погонами?
— Старая же. В дырках же. Неужели наденешь?
— Просил не выбрасывать!
— Да не выбросила! Да не выбросила! Вот, возьми!
Застегнул ноги ремнями, взвел в ладони толкашки. Покатил, бренча шариками в своих железных колесах.
А у нее что-то встало в гортани — ни вздохнуть.
Ей бы кинуться вслед, ей бы одного его не пускать — не может сдвинуться с места, застыла. А в голову лезет всякая чушь: вспоминает кожей, как бегут по горячему телу большие ладони. Большие ладони мужиковатого Лешки Матыкина. Большие, красивые.
Потом, известное дело, пора на работу. Старшую растолкала:
— Смотри, Жень, за девочками. В полдень тетя Нюся зайдет, наварит картошки. Так если отец не придет, то сама покорми. Чтоб ели как следует.
И вновь ком в гортани: ох, что-то будет?..
Вечером.
Вернулась домой, а тут такая картина. Сидит к ней спиной участковый Касьянов. Делает внушение Славке. А
Славка — пьяный опять. И почему-то с тележки не слазит, сидит вровень с коленями высокого участкового.
Женька у отца на руках. Младшие облепили сзади шею.
— Ах вы лейтенантские дочки, конфеточечки вы мои! — Раздернул Славка кулек, вывалил карамельки.
Увидела Лида такую картину — и злость взяла. Чего только не думала, как себя ни корила, а выяснилось: напрасно сердце болело!
— Ответь, Бронислав, — слышит голос допрашивающего, — до каких пор по центральной улице имени товарища Сталина будешь с таким грохотом продолжать?
Смотрит Женька на участкового, который — не то что отец! — высокий, высокий. Глаза у Женьки тяжелые, неподвижные. Может, и ушел бы восвояси Касьянов, да только от этих тяжелых внимательных глаз неудобно ему, вот и тянет резину.
— Кончай эти штучки с погонами. Зачем инвалидностью козырять?
А муж обнимает все старшенькую, будто хочет погреться о горячее Женькино сердце. Но Женька тверда, как березка.
— Наплодил дочерей, а теперь нищету выставляешь? — говорит участковый несмело. Не знает, как разговаривать с неотвечающим человеком, который внизу. — Жену красивую с фронта привез, так следи! Детей наплодил — гонору себе достаешь?
Краска опалила Лидины щеки. Когда это, кто о ее красоте говорил? И вновь смутное воспоминание больших жестких ладоней на теле.
А Славка притянул к себе старшенькую (маленькие замерли у него на спине), не поднимает глаз на Касьянова.
Обвила Женька ручонками жилистую шею отца!
— Чего это, пап, у тебя на лбу капельки?
— Нехорошо, Дукорев, — рассудительно говорит участковый, видно, черпая силу в этой вот рассудительности. — Все пьяный, все — на тележке по городу: Конфеты по полу разбросал, дети, как щенята какие, барахтаются, — продолжает тоном положительного рабочего из кинофильма. — А орден зачем? Думал этим слезу выбить в милиции?
Встал участковый, ростом — под шкаф. Но Лиду не видит. И Славка на Лиду не смотрит. Может, Лида должна что-то сказать?
— Нет уж, сам жену, будучи в таком состоянии, оженячивал, сам ее сторожи! Нам ли до твоих мелких забот? Год-то какой! Смерть вождя товарища Сталина да вот амнистия… А кадры-то где? Знаешь, сколько постовой получает?
Касьянов наконец оборачивается. У него толстые, вывороченные губы, маленькие, утопшие в лобастом черепе глазки. Лиде по душе такие крепкие черепастые мужики.
— Жена у тебя аккуратная, белая, — обстоятельно поясняет Касьянов. — Конечно, непросто… — размышляет Касьянов, переводя глаза со Славки на Лиду и снова на инвалида. Славка молчит. Девочек обнимает, не смотрит. И Лида окончательно понимает, что если Славка молчит, то, значит, отвечать надо ей. Касьянов не задал вопроса, но вопрос так и повис, невидимый, но тяжелый, тяжелый… — Трудно, конечно, чтобы твое место не заняли, — тянет Касьянов, который вроде бы и не смотрит, но — Лиде кажется — так и сверлит насквозь ее каким-то боковым, загнутым взглядом.
— Так ведь занято его место в кабине! неожиданно откликается Женя. И так ее голосишко свеж и пронзителен, что у Лиды закаменевают скулы.
— Ах, какова! — Касьянов, всем своим плотным телом ощущая присутствие женщины Лиды, наклоняется к девочке, гладит золотую головку: — Так ты чья? Мамина? Папина?
— Папина! — пищит Женька, пряча от Лиды глаза. — Ой, папик, что никак не отпустишь меня?
Странен взгляд Славки на дочь. Любит ее без ума, да и она к отцу тянется, но только, обороняя, так ранит, так ранит…
— Папины, папины! — верещат и младшие сестры, и вот это почему-то вдруг бесит. Зло Лида смотрит на кругло-широкую спину, которая торчит на полу, возле ног участкового, потом вдруг срывается и кричит:
— А ну, пошли прочь! В коридор, в коридор, нечего здесь!
Лида стоит возле шкафа. Дверца шкафа раскрыта. В дверцу врезано зеркало.
Лида изучает себя. Давно уж так на себя не смотрела. Пополнели бока, раздались плечи, но лицо стало глаже, белее.
— Чем это, пап, так хрустишь? Это зубы?
Не ушла Женька, осталась возле отца, не послушалась. Тяжелый гнев вливается, распирает. Лида в зеркале ловит взгляд мужа и твердо выдерживает.
Пап, ты куда? — Женькин тоненький возглас.
Да куда ему? Снова в милицию жалиться?
— Я с тобой, папочка! — рванулась Женька на улицу, но Лида, дав волю скопившейся злости, поймала дрянь-девку за ухо:
— Не пойдешь! Не пойдешь! Не пойдешь!
Как снаряд пролетел Славка по комнате, со скрежетом прокатил по длинному барачному коридору, зацокал подшипниками по деревянным ступеням.
— Ой, пусти! Ой, пусти! Ой, пусти! — Женька визжала. И младшие, вбежав, вслед за ней: — Ой, пусти! Ой!
Катил Славка по центральной улице имени товарища Сталина, шарахались женщины — никому не хотел уступать.
Гремели сухие подшипники, а рядом проносились черные «эмки», и ноги шаркали возле лица.
Отбившись от ручонок-ветвей, бежала Лида за мужем. Видела издали — и могла бы догнать. Но не хотела себя пересиливать.
— Эй, лейтенант, гривенник за проезд! — осклабился старший Матыкин. И Славка опять скрипнул зубами. Так скрипнул, что издали Лида услышала — все шумы города заглушил.
Налетел огненный вихрь, опалил Славкину золотоволосую голову. Ухватил лейтенант высокий тупоносый ботинок, за высокую жесткую пятку схватил и рванул, другой сильной рукой вцепившись в бордюр.
Свалился подкошенный Лешка Матыкин, стукнулся, на беду, затылком о звонкий булыжник.
Помертвело лицо, кровь просочилась через косую щель рта.
Размахнулся Борька Матыкин — и ногой в грудь обидчика брата. Упал лейтенант. Раскинулся на спине — руки как крылья. Тележка со скрежетом откатилась — не закрепил летчик ремни.
Размахнулся Митька Матыкин — и ногой по синим глазам. Нет, не закреплял летчик ремни, не думал, видно, бегством спасаться.
— Не над-да! — кричала Лида и выла волчицей.
— Над-дай! Нада-давай! — слышалось братьям Матыкиным. Оглянулись на старшего брата, увидели серое заостренье лица.
— Что же ты с Лешенькой, братцем, наделал?
— Мало еще! — прохрипел лейтенант. — В следующий раз и вам, гадам, достанется!
— Ну врешь, следующего раза не будет!
И прыгнули, как слоны разъяренные.
И затоптали лежачего.
По поводу предназначения литературы? Насчет ограничений в предмете и средствах ее?.. Я думаю — есть! Имеется тайное предназначение! Есть и зоны табу!
Единственное предназначение — не учить, не воспитывать, не чего-то искать — пробуждать! Пробуждать память об иных воплощениях! Память о том, что души наши все взяты из единого океана всеобщей человечьей души! Что все мы — капли крови одного организма! Что в прошлой жизни ты мог быть и палачом, и благородным героем! Насильником и умершей в родах! Дураком и Эйнштейном! Убийцей и повторившим подвиг Иисуса!
Поскольку цель человечества — переход в высшую расу. Всего человечества разом, всею командой (в чем сложность)! Всею огромной душой человечьей, очищенной в земной круговерти крутых столкновений и
поисков.
Отсюда — и ограничения, и зоны табу. Но это уже сам, сам ты решаешь! Будучи посвящен. Медитируя. Зная о своей будущей жизни на этой Земле. О Цели человеческой жизни на Ней.
Александр Жулин.
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».
КИКС
Детективная история
Когда, казалось, все вопросы были исчерпаны, один из этих людей опять поманил Антоху к себе:
— Мазуркевич! — представился. — Петр Петрович.
— Антоха! — ответил Антон.
— Это чье?
Из стакана, поблескивающего стеклянными гранями с радиолы, торчали заборчиком уголки: деньги. Червонцы.
— Мое, разумеется, — охотно ответил Антоха. — Родители, уезжая, оставили на прожитье. А что, считаете — мало?
— Все до единой бумажки на месте?
— Что не истрачены — все! А вы будто в толк не возьмете: воры в гостиную и носа не сунули!
Мазуркевич был хмур, молчалив. Промолчал и сейчас. Примечателен был щеками: твердыми, синими от несоскабливаемых остатков щетины. Задумываясь, выискивал ногтями эти синие волоски и, морщась от мучительного наслаждения, выдирал. А когда особенно увлекался, наступало самое интересное: клал на зубок вырванную волосину и, клацая, как обезьянка, быстро раздрабливал. Сплевывал. Такая привычка.
Наблюдая его, Антоха забавлялся безмерно — откуда мог знать, что эксперт был уверен: радиолу недавно сдвигали! А если сдвигали — то кто? И зачем? Воры? Но отчего же не тронули деньги на ней? Однако Антоха не знал про эксперта и отвечал оживленно, с нахальнo-подчеркнутой скрупулезностью излагая:
— Тыш-чу лет она тута стоит! Никому не мешает, зачем ее трогать? Старушке семнадцать — простите, шестнадцать и десять месяцев. Ну, может, еще одна-две недели прошло, как отец прикатил ее в мою честь. Помню, привезли меня из роддома, раскутали, разложили, вдруг как откуда-то завопит! Радиола! Я тут же пустил струйку в знак одобрения. Помнится, мамку умыл. С головы до ног.
Мазуркевич давно не слушал его, ему не давал покоя дверной замок. То ли с ним что-то сделали, то ли был стар и сработан, но от своего родного ключа отщелкивал через два раза на третий.
— Такое предание, — закончил Антоха, заглядывая Мазуркевичу через плечо. Манера спросить и не выслушать раздражала ужасно, прямо из кожи лез вон, чтобы привлечь внимание этого хмурача.
— Ты, когда уходил; сколько раз поворочал ключом?
Что он умел, так это заковырять словечко!
— Знаете, Петр Петрович, — Антоха сказал, — вы в замке не ищите. Я дверь-то не запирал? — и ясно так посмотрел. Светловолосый, худой, журавлем наклонившийся к невысокому Мазуркевичу.
И тут того разобрало. Выдернул волосок, сморщился, попокусывал, сплюнул. И взглянул на Антоху. Да, этот взгляд доброжелательным нельзя было назвать. Взгляд его и вообще был необычен: коротко, быстро посмотрит и отведет глаза в сторону. Но сейчас не просто кольнул, а прямо-таки пронзил, как говорят, до самой души. Антоха сморгнул, чуть не сделал руки по швам, но рот, о, этот, независимый, насмешливый рот сам расползся в ухмылке.
— Ага, — расплылся Антоха, — я так рассуждал: разве полезет ворюга туда, где нету запора? А, Петр Петрович? Ага?
Но Петр Петрович к нему не проникался никак.
— А вообще идиотство, из кухни и спальни вынести все подчистую и не тронуть гостиную? Может, еще раз собирались заехать? Может, машина оказалась мала?
— Может, думали, что в похищенном где-нибудь спрятана ценность? — в тон ему обронил Мазуркевич.
Антоха похлопал ресницами, густыми и белыми.
— Какая ценность, смеетесь? Мать музыкантша, на арфе играет, никакого навару, отец — портной в занюханном ателье!
— Мать-то, наверное, все на работе да на работе?
Эх, при чем здесь работа! Антоха шлепнул руками по бедрам: никак не понять его логику!
— Ну, репетиции там.
— Какие! — заорал Антоха с досады. — Оркестровые, общие, не такие уж долгие. Да чего вы все про мать, про отца, они, бедняги, ни слухом ни духом, на юге купаются.
Никак не мог догадаться, что Мазуркевич хочет услышать одно: мать занимается дома. Чтобы следом спросить: ну а арфа-то где, чтоб заниматься? Впрочем, не знал же Антоха, что думали так: арфа стояла за радиолой, вот последнюю и сдвинули с места, когда арфу тащили. И удивлялись: отчего это мальчишка про арфу молчит? Н, вот еще, деньги на радиоле не тронули. Сплошные загадки.
Попытался представить. Вот среди бела дня въезжает во двор автофургон. Вот выходят двое, в рабочих синих халатах. Вот поднимаются, входят, вот под взорами двухсот беспечных окон начинают вытаскивать. Все так спокойно, по-рабочему чинно, все добросовестно — чтобы не поломать ножки, не окорябать окраску… И все, всякая всячина, все собирается, связывается, аккуратно выносится… Откуда такое нахальство? Откуда уверенность, что, хотя бы случайно, не вернутся хозяева?
И Мазуркевич все донимал Антоху вопросами, кружа около да вокруг, и что-то мешало ему прямо спросить: «Кларнет, который обнаружили в тайнике — в шкафчике, закрывающем мусоропроводную урну, он что, представляет великую ценность? Не его ли искали, когда чистили кухню? Знаешь ли ты о кларнете? О тайнике?»
Нет, не может Мазуркевич спросить о кларнете: такой странный этот парнишка, кусачий! А если, друг дорогой, от тебя и прятали эту сопелку?.. И, побарабанив пальцами по самодельному шкафчику (ни один мускул не дрогнул у парня!), Мазуркевич сощурил глаза:
— Значит, кухня обстрижена наголо?
— Наголо! — лихо ответил Антоха.
— Ничего не оставили, так и запишем?
— Так и запишем! — еще более лихо ответил.
И Мазуркевич, еще раз побарабанив по шкафчику пальцами (ах, как хотелось, чтобы малец хотя бы глазки отвел!), вдруг стремительно прошел мимо Антохи. И вышел наружу.
Антоха почувствовал себя оскорбленным. Тоже, мол, сыщик! Попрощаться не мог! Чему только учат их?
А Мазуркевич тут и вернулся. Словно услышал.
— Можешь на время отпрыснуть свою записную книжку?
«Отпрыснуть!» — у Антохи рот до ушей.
— Друзей твоих просвечу!
— Пожа-алста! — расплылся в улыбке Антоха. — Просвечивайте себе на здоровье! Тут целая тыш-ча фамилий!
— Действительно, пухлая, старая книжка, — проговорил Мазуркевич.
— Еще мамка отцу подарила!
— Что ты все «мамка» да «мамка»! — сказал Мазуркевич. — Будь мать у меня, я бы звал ее мамой.
Это была первая отвлеченная фраза. Надо было развить!
— А она, мамка-то, шлюшка! — подкинул Антоха. — Да, именно, Петр Петрович.
И тогда он чертыхнулся. Этот невозмутимый хмурач. Этот кремень, детектив, Шерлок Холмс. Ого, как он чертыхнулся!
— Чего это вы? — поинтересовался Антоха. — Ну да. Мать-то, которая с отцом сейчас на югах, у теплого моря, она невсамделишная. А кровная мамка моя — обыкновенная шлюшка. Малость понянчила, посюсюкала, да и за угол!
Вот это пронял так пронял! Показалось, еще полсловечка — и пустит слезу вызнаватель.
— Да вы чего? С неба свалились? Про разводы слыхали? Ну да, один брак из трех, как пузырь — чпок! Наженихаются, нарожают детей, а потом выясняют: она не такая, он не такой, так ведь? Ведь так?
— Так, — сказал Мазуркевич и подцепил волосок на скуле: черт-те что! Тайник, ограбление, тут еще туманная мамка. — То есть не так. Как-то ты упрощаешь. Бывает, не сложится жизнь. Бывает, встретят любовь. Знаешь, если сильное чувство…
Антоха развеселился ужасно. Надо же, такой угрюмый матерый мужчинище, а будто разнюнился.
— Может, она мается вдали от тебя, — развивал Мазуркевич, — может, писала отцу, виновата, мол, может, таила обиду. А отец сам виноват, или мачеха виновата, а ты сразу как попугай: шлю… Тьфу! Не хочу повторять поганое слово!
Антоха подумал: давай, брат, валяй!
— А я вот вырос в детдоме, — сказал Мазуркевич. И вроде бы опять помягчел. — В послевоенном. Знаешь, сколько погибло в войну белорусов? Так-то вот. Матери вовсе не знал.
— Да? — заметил Антоха.
— Ага, — сказал Мазуркевич. — Не видел ее, не знаю, какая, даже фотографии нет. Конечно, то, что она тебя бросила …
— Да? — заметил Антоха.
— Это, конечно, неправильно. Но все же, мне кажется, нехорошо это, так называть? А? Так ведь?
— Знаете, — Антоха сказал, — а я детдомовских терпеть не могу! Ущемленные они все такие, знаешь, угрюмые!..
Ах, как славно его распечатал! Детектив аж закашлялся.
Даже глянуть по-своему не сумел. Ни один волосок не тронул на синей скуле. Испарился без звука!
Антоха засвистал, повалился в постель. Тю!
Посмотрел в потолок. Потолок сер и уныл. Не за что зацепиться.
Арфа, арфа …
Какая ни дура этот детектив синещекий, но догадается, в конце-то концов, что в доме арфистки арфы не может не быть! Что решит?
Ну и… чихать! С кем не бывает — забыл! Просто забыл.
— С кем не быва-ат? — заорал во весь голос. Неожиданно горло перехватило, закашлялся. И вдруг зарыдал, отчаянно, неумело.
А выплакавшись, нескладно — был длинным, худым — перевалился, лег на живот, втиснул лицо в горячую мокрую пухлость подушки.
Нет арфы, нет и не будет! Ур-ра! Чего о, ней думать?
Ух, эта арфа …
Возненавидел с первых же дней. С утра до вечера все звончит, тренькает. Все звончит, тренькает, а мама-то там. Там мама-то!
Он и подглядывал, и подслушивал, часами болтался под дверью, пока, наконец, не разрешили туда. Но что из того? Мама будто не видела. Рука плавно взмывала — он хотел подбежать, прижаться к ней, мягкой, округлой, но нет! Словно не замечал его, рука внезапно бросалась на струны. Резко цепляла их, еще и еще. Он терялся от этого изменения, пугался, потому что лицо мамы становилось решительным, жестким. И брови сжимались, и губы сжимались — резкий щипок. Это вполне было похоже на кошку и мышь: грациозно, лениво отпустит, довольно урча, Но только мышь ринется прочь — цепкая когтистая лапа вонзается в спину… да нет, не похоже! Кошка была, мыши вот не было. Потому что никуда арфа не бежала от нападения, а, наоборот, так спокойно, безмятежно покачивалась! Будто парус на плавных волнах. И чем сильнее мама щипала лживые струны, тем они пели нежнее… Какая-то тайна!
А он стоял и смотрел. И стыдился смотреть, словно подглядывал стыдное, словно присутствовал при запретном.
И когда мама обращалась к нему, жмурил глаза, не мог сдвинуться с места, и на простейший вопрос: отец где? — что-то мычал, вдруг срывался, мчал неизвестно куда сломя голову, бросался в постель, взрослую, пахнущую духами, бил, мял подушку, попавшую под руку, рычал и визжал, воображав в ней дикого барса, сам же был будто бы Мцыри.
Потом затихал. И раз в тишине с ужасом разобрал страшное слово. «Ненавижу!» — сказала она, проходя коридором, и отец, бледный, сутулый, шарахнулся от нее.
Съежился, спрятался. Послышалось или нет? Кого «ненавижу»? Но слабо тикал мелодичный электронный будильник, все было мирно, ни криков, ни возгласов, он вдруг подумал: это не мама — это арфа сказала!
Был тогда мал. Очень мал. А мама напевала в гостиной, отец гладил ее концертное платье на кухне — нет, это не мама сказала, это гадкая арфа! Чужая, злая, снежная королева!
«Ненавижу!» Кого?
Не раз, просыпаясь и натыкаясь взглядом на золоченый венец, он предвкушал подробности смерти. Сердце стучало, мешая прислушиваться. Осторожно вставал, выходил в коридор из гостиной, где спал, крался к их двери: спят ли они? Конечно, в глубине души знал, что никогда не решится, пользуясь сном, тишиной, перепилить напильником струны — ведь она тогда так завизжит! Дико, предсмертно. И все же не раз, будто всерьез, приступал к осуществлению плана: накануне готовил кусачки, утром, шатаясь спросонок, брел в коридор, внимательно слушал…
Раз услыхал. Раз такое он услыхал!
— У Тоника слух, — разобрал тихий шепот, — и музыкальная память.
В шепоте ничего опасного вроде бы не было. Вроде бы.
— Хочешь, я позвоню Егору Исаевичу?
«Не хочу! — тут же начал внушать отцу, — ответь же ей: не хочу».
Словно вняв, отец отвечал:
— Откуда слух у Антохи? При таких генах, и слух?
Вроде бы отец отвечал в его пользу. Но отчего тогда голос его напрягался? Отчего, говоря об Антохе, они будто душили друг друга?
— Ты груб, — слышал Антоха сдавленный шепот, — и какой же путь ты наметил ему? Уж не в свое ателье?
И начинаюсь!
Антоха отскакивал, возвращался к себе, мама вихрем проносилась на кухню, отец ее то уговаривал не шуметь, то замолкал, делая вид, что не слышит, то срывался, кричал:
«Замолчи! Как не стыдно!»
И тут-то она ему выдавала.
— Нет, вы взгляните, он еще кричит на меня! Кто кричит? Генслер, Володин, Розанов, другой какой выдающийся кларнетист? Нет, нет и нет! Просто портной! Мне достались объедки — кушанье слопали! Кто слопал первый кларнет Большого театра? Дирижер, жена дирижера, любовница дирижера? Нет, нет и нет — шлюшка! Примитивная, вульгарная шлюшка: не хочу быть женой нищего музыканта, хочу иметь соболя! И это ничтожество по первому взвизгу бросило музыку, кинулось зарабатывать! В ателье, почудилось, деньги валяются: подбирай, не хочу!
Бледный отец делал знаки Антохе: давай, давай, уходи! А Антоха, наоборот, подходил. Но она, истеричная, ослепленная гневом, будто не видела, металась по кухне, не замечая Антохи, била посуду.
— Ах, он кормит семью? Скажите пожалуйста, для меня же старается? — хватала тарелку, поднимала высоко над собой. — Нужна мне твоя арабская спальня! — тр-рах! Тарелка разлеталась на десятки осколков. — Нужна мне финская кухня! — грохот вилок, ножей. — Так вот же вот, нет! Мне нужен муж! Муж, на которого не стыдно заполнить анкету! — лицо ее перехватывали мелкие судороги, губы кривились. — Они все лопнут от смеха, узнав, что муж арфистки — портной!
А Антоха приближался, его что-то звало к ней: мама, я здесь!
— У поэтессы Сировой муж рубит мясо, — слышался слабый голос отца, — и что же? Он — продавец, а отлично живут!
— Супруг ей в подарок грудинку, а супруга — о персях стихи! — нервно хохотала она. Когда она начинала так хохотать, то и подавно не замечала Антоху. Но он все стоял и смотрел.
А потом она долго рыдала, потом жалобно, тихо плакала, и возле нее суетился отец. Отец накапывал в рюмочку корвалола, и она выпивала, потом клала руки на стол, опускалась лицом на них, отец гладил ей спину.
Антоха брел в спальню, уныло смотрел: а что? Отличная спальня! Нет, дело не в спальне и, может быть, не в анкетах. Разве не видел, как она радовалась, хлопотала, расставляя белую с серебряными закруженциями, гнутую мебель? Разве не улыбалась, примеряя обновку, пошитую ей отцом, разве не хвалилась Нинели Сергеевне, что имеет «тонные» платья, что носит то, что захочет?
Дело было в чем-то другом, и как-то это было связано с арфой. С тем, как она играет на арфе. Словно тогда приоткрывалась некая острая тайна, которую отчего-то и знать не хотелось, но и не мог не пытаться узнать. Оттого, может быть, и мечтал сокрушить, уничтожить музыкальную гадину, и вместе с тем при малейшей возможности мчался на звон царских струн.
Впрочем, ничего этого он не мог объяснить, а просто ходил и смотрел. Ходил, тосковал. Ходил, слушал.
И вот еще. Отчего это, когда отец, после ссоры смиренно возясь у плиты, жарил яичницу с салом, когда все шипело, шкварчало, источало необыкновенные ароматы, когда отец его успокаивал: «Не вешай нос, яичницей обожжешь!» — отчего он отцу не сочувствовал? Отчего появлялась озлобленность на отца, а к ней хотелось бежать, обнимать, утешать хотелось ее — но ведь это она так страшно оскорбляла отца?
У Антохи кругом шла голова, он лопал яичницу, не поднимая глаз, теперь уже на отца, и снова скрывал свои нехорошие чувства, теперь уже к нему.
…Свет резал глаза. Нехотя сполз с постели, потащился к двери, к выключателю. Проходя мимо радиолы, уставился в пол: странно было увидеть пустоту за ней у стены. Вдруг почудилось: да нет же, арфа на месте! И быстро взглянул и поразился, будто и в самом деле ожидал увидеть там арфу.
Значит, было! Значит, случилось. И арфа теперь не вернется, и мебель арабская не вернется, и, может быть, ОНА не вернется.
Никогда не вернется. ОНА не вернется, мама. Мачеха. Мачеха?
Ощупывал беспощадность этого слова: никогда. Нету ее и больше не будет. Но мысль рассеивалась: как нету, как никогда? С детских лет знал, что была, была всегда рядом. А теперь укатила, бросила нелюбимого хилого мужа, бросила нелюбимого пасынка.
Из-за неполного сна во время солнечного заката в теле ощущался озноб, и кожа была будто ободрана.
Погасил свет, снова повалился в постель.
А может, вернется?
Вспомнил отца: «Она сначала придумает, потом под эту придумку жизнь подгоняет. А жизнь-то не ею скроена, вот и морщит. Там уберет — тут косить начинает, тут отпустит — там никуда…»
Придумала развестись — обворовали квартиру, придумает снова сойтись — а арфы-то нет!
Раз с утра подпорхнула:
— Вставай, моя крошка!
А «крошке» шел одиннадцатый год.
— Что, в школу проспал? — нарочито грубо ответил.
— Никаких школ сегодня! — Мама встала над ним, сияя лицом. — Вот твой костюмчик, — сказала. — Смотри, какой чистенький, как хорошенько отгладила я его!
Ему показалось, что в ней была нерешительность. Словно она его собиралась куда-то позвать, а в его власти было отвергнуть. И от этого в ней была нерешительность. Он замер под одеялом.
И так оно и случилось, она сказала такое, чего он никак не мог угадать, из-за чего все сладкое ожидание его преобразилось в протест. Пронзительно, как только хулиган Вячик умел, он завопил:
— Не поеду! Ни за что не поеду к Егору Исаевичу!
Тоже, придумала! Вот ведь упрямая! Отец же четко сказал: в Антохе нет твоих генов!
Но она не обиделась, не раскричалась, как в иные минуты, а, расхохотавшись, принялась его щекотать. Он забился, задергался, отбиваясь, а она ловила его незрелые тонкие ноги с несоответственно большими ступнями, ворошила под ребрами и, время от времени обдавая волнующим ароматом духов, успевала то погладить, то тронуть лоб, шею, щеки губами.
— Прекрати эти нежности! — заорал он противно, изломанным голосом, и, резко вскочив, ударил ее головой, словно бы ненароком.
Грудь была теплая, мягкая. Мама охнула, отошла от него.
Потом они пили чай, и он изводил ее, как дитя: то хочу с сахаром, то зачем положила так много, — а она, на удивление необидчивая, наливала послушно, и клала, и ставила, и под конец у него перед носом оказалось пять чашек, и она, веселая, как летнее солнце, рассмеялась:
— Выбирайте, Ваше привиредничество, какой чай Вам угоден!
Ему сразу вспомнилась арфа, лживая арфа. Понурясь, ногой двинул сдул, пошел за пальто.
В автобусе ехали молча. Угрюмо смотрел в окно. Проплывали дома, скучные, серые, проплывали рекламы кино, нелепо раскрашенные — ничего хорошего он не ждал от этой поездки.
— Здравствуйте, премного наслышан! — встретил их какой-то киношный в этой вельветовой домашней пижаме толстяк с трубкой в зубах. Неопрятный, с седыми кудрями, полными перхоти — как позже заметил Антоха, — весь такой полный, расплывшийся.
Никак не мог развязать тесемки у шапки.
— Тоник, ответь же, — сказала она. И поторопилась за него заступиться: — Такой возраст! Ломок, стеснителен!
Эта поспешность вызвала еще большую неприязнь к Егору Исаевичу.
— Какой такой возраст? — толстяк нацелился положить на плечо ему свою пухлую руку. Антоха так дерзко глянул в ответ! Рука задержалась. — Он что, инфантилен?
—Просто застенчив, — возразила, королевски улыбаясь, она.
Став сразу бесконечно застенчивым, Антоха потупился.
Мужская рука все же легла ему на плечо:
— Пойдемте!
Они пошли в комнату, Антоха, ведомый чужой, неприятной рукой, заметил, что другая рука, такая же неприятная и чужая, коснулась маминой талии.
Это запомнилось. Как запомнились кларнеты, гобои и скрипки, развешанные по стенам коридора, Антоха споткнулся, заглядываясь.
Мама словно ждала этого. Шагнула в сторону от руки.
— Егор Исаевич коллекционирует музыкальные инструменты, — сказала Антохе, даря улыбку другому. — Тебе интересно?
«Сколлекционировал бы твою арфу!» — подумал Антоха, кивая.
— Пойдемте сюда! — с жирной улыбкой раскрыл двери хозяин. — Встань, мальчик, сюда.
Антоха встал так, чтобы не терять маму из вида.
— Пропой: до-о-о! — Егор Исаевич тронул клавишу пианино.
— Ля-я-я! — завопил Антоха не в тон. С другой стороны, Егор Исаевич ведь тронул клавишу «ля»!
— Тише, потише! — чужие пальцы, словно крючья, впились в плечо. — Что знаешь ноты — прекрасно. Но не кричи, слушай внимательно: «Ля-я-я!»
— Дo-о-о! — вторил Антоха тонко, фальшиво, любуясь тем удивлением, которое видел на лице мамы.
— Ре-е-е! — звонко фальшивил, наблюдая, как розовеет она, — ми-и-и! — надсадно тянул, идиотски сводя глаза к кончику носа.
— Возраст, увы, сложный возраст! — поддакивал Егор Исаевич маме, провожая ее и не делая больше попыток положить ей руку на талию. — Конечно, для духовых, для кларнета еще, может быть, не так уж и поздно, но, знаете, возраст, такой неожиданный, ломкий.
В автобусе теперь молчала она.
— Я не хотел, — сказал примирительно, — это получилось нечаянно.
Мама грустно смотрела в окно. Сейчас особенно бросались в глаза морщины в уголках ее рта. Он потянулся к ней.
Попытался исправиться.
— Я, мам, не сумею играть, — сказал рассудительно, — во мне же нет твоих генов.
Он повторил подслушанные слова для убедительности. А она так глянула на него! Так страшно глянула, так шикнула на него, будто он был — змея!
И когда отговорила все злые слова, когда вскочила, пошла по проходу, бросив его, когда он помчался, шатаясь на поворотах, за ней, когда схватил ее за рукав, она снова так глянула! Он испугался. Испугался услыхать: «Ненавижу!» Вот почему вжал голову в плечи, вот почему от нее отцепился. И сколько бы позже не тискала, мяла, целовала его, он всегда помнил свой страх, и чем была она веселее в такие минуты, чем сильнее тянулась к нему, тем злее был его ответный удар, и он всегда ждал, затаившись, когда она больше раскроется, чтобы ей сказануть. Вернулась однажды со своей репетиции, что-то там ей сказали хорошее, кинулась ворошить, щекотнув, опрокинула, затеребив, шепнула на ухо: мол, славный ты мой, красивый ты мой! А он и ответь:
— Хорошо, что не похож на отца?
И глянул спокойненько, будто и думать не думал! Она сразу отпрянула. Он ведь все понимал, зачем она присматривается, зачем ищет в нем сходство с отцом, отчего ее волнуют те черточки в нем, которые кажутся ей чужими!
А ссоры родителей становились все безобразнее, он вступал в них со всей яростью мальчишеских чувств, однажды влез с бухты-барахты, брякнул с размаха, как топором: «Да ты не боись! Я так и так останусь с отцом! Тебе не повешусь на шею!»
И, как топором полено, развалил их пополам: они отскочили друг от друга злые, взъерошенные; отец — шляпу на голову, исчез неизвестно куда, она заперлась в спальне.
— Чего же ей не хватает? — с месяц назад, Вячику подражая, обращался к отцу. — Мебель — арабская, финская кухня, наряды — надевай, не хочу! С жиру бесится?
Отец, ставший окончательно кротким, конфузился.
— Что-то ты, отец, совсем поплохел в своем ателье, — баском говорил, — от тебя жена ушла, а ты вроде как и не чешешься. Взял бы отпуск да смотался за ней.
За последний год Антоха сильно подрос, стал смотреть на отца сверху вниз. И научился говорить с ним назидательным тоном. Удивлялся сначала, что отец принимал этот тон, после привык.
Ну, а сам черпал поучения от приятелей.
— Не сиропься, уломает отец ее, уломает! — возражал ему Вячик, и Антоха слушал его с удовольствием. — Представь только: скажем, они в море купаются, и он говорит ей, смеясь: «Ну что ты, вернись, там, мол, пасынок мается!» Пальмы, море, кто устоит?
Они валялись на пляже. Было жарко, лениво. Антоха расслабился и не сразу уловил новое слово, А слово-то было безжалостным: пасынок! Пасынок!
Вячик бросал на грудь Антохе песок. Ноги, живот, руки, бока уже ощущали прохладную влажную тяжесть. Открытыми оставались шея и грудь.
— Да не сиропься ты! — сказал ему Вячик. — Есть небольшая идея.
А он не сиропился. И это не слезы — это палящее солнце вытапливало пот из него.
Вячик положил на глаза медные пятаки:
— Да упокой душу семьи его!
Так горестно прогнусил, что Антоха не выдержал. Стало безнадежно жалко себя. В две струи хлынули слезы, заполнили рот, нос, он захлебнулся, закашлялся.
…Захлебнулся, закашлялся, разом проснулся.
В комнате было светло.
Спустил ноги на пол. Так что же случилось? В свежем утреннем свете все казалось простым и счастливым. Пошел было на кухню, чтоб вскипятить чай, и, лишь войдя, спохватился: кухня была — как пустой коробок. Что сыщик сказал? Обстрижена наголо? И взгляд — будто колючий, а затем с неожиданной быстротой ускользающий. Занятно.
И вдруг будто воочию увидел его, хмурого, невысокого, барабанившего по шкафчику пальцами: «Ничего не оставили, так и запишем?»
Еще разик оглядел кухню, еще раз задержался на шкафчике, собрался было уйти; внезапно, словно лунатик, влекомый неясной идеей, приблизился к шкафчику. И, ни секунды не думая, зачем это делает, нащупал щель внизу между стеной и поддоном, потянул на себя этот поддон — и он легко, на удивление, выехал, скользя краями в пазах боковых фанерок. И что-то упало.
Наклонился: футляр. В футляре кларнет. В крышку футляра врезана фотография.
Быстро отвел от фотографии взгляд, опустился, сел прямо на пол — ноги как отказали. Не глядя на фотографию, извлек половинки кларнета, соединил, вставил мундштук. И захлопнул быстрее футляр.
Дунул в пустое отверстие. Шипение.
Закрыв глаза, расставил пальцы по клапанам, закачался, будто играл. И будто бы подхватил его мелодию контрабас, будто бы вкрадчиво зашелестели щеточки барабана. Он ускоряет темп: давайте, ребята, быстрее! Вот взрываются струнные, фейерверк ударов по барабанам, вступает фоно, и тут кларнет, о, этот кларнет, он пронзительно, сладострастно взвивается и… Заревел бешеный джаз, закружились цветные лучи, в их неверном дымном свету, как черти, задергались тени… Вдруг звон медной тарелки, крик барабанщика: «Кода!» — и тишина, яркий свет.
Хохочут парни, застигнутые в неожиданных позах, злятся девицы, вот из гущи танцоров выходит одна, кочует к эстраде, как жаль, что вы не танцуете, произносит. И молодой кларнетист, высокий и тонкий, склоняется к ней.
Так они познакомились.
Это он тоже выведал от отца. Это он выведал, как выведал происхождение радиолы. «Выброси этот хлам!» — завелась тогда мачеха. Он стал настаивать: «Нет, не выброси, нет!» — отчего заупрямился? И зачем? В общем, просто, пожалуй, из вредности. А когда отстоял, благодарный отец рассказал историю появления в доме «этого хлама».
Антоха вынул мундштук изо рта. Кларнет оказался немецким, изготовленным из черного дерева. «Спрятана ценность?» — вспомнил вдруг Мазуркевича. Пробежался по клапанам — все они исправно открывались под пальцами. А подушечки схлопывали, закрываясь.
Как жаль, что вы не играете!
Решительно сбросил крышку, прямо взглянул: ну, конечно, на фото — она! Смуглое лицо, блеск зубов, темный пушок над верхней губой. Губы крупные, резко очерченные.
И взгляд — странный, не пускающий, обращенный в себя.
Так вот ты какая, на меня не похожая! Бросившая.
Темная челка спадает на лоб, на шее — круглые бусы.
Красивая. Очень красивая. Юная. Почему же мы так непохожи?
— Мама, — шепнул еле слышно, — мамочка! Мамулька моя!
Такое чувство возникло, что если подыщет заветное слово, она отзовется. «Мама» была уже, «мама» — не проходила.
— Эта я, мамулька, Антоша, — сказал чуть погромче. Горячая капля упала на фотокарточку. — Мамулька, мне плохо.
Засунул руку в карман узких джинсовых брюк, извлек мятый платок, осторожно прижал, промокнул.
— Я, мам, школу кончаю. Троек нет, приходи, — тихонько позвал. Лицо ее как будто стало светлее.
Он подумал: что еще бы сказать?
— Я эту уродину выставлю, — вдруг произнес.
И напрасно это он произнес!
Улыбка ее показалась внезапно язвительной. Косо взглянула она на того, кто на фото прижался к ней сбоку. Антоха присмотрелся внимательней: парень, худосочный, задумчивый, шея цыплячья, жидкие волосы расчесаны на пробор. Неуверенно, исподлобья глядит на Антоху. Отец.
— Ты ко мне приходи, не к нему, — торопливо шепчет Антоха, но все уже безнадежно испорчено. Женщина будто взметывает вверх подбородок, переводит пренебрежительный взгляд с отца на бледного тщедушного сына с жидкими слипшимися волосами — похожи, как незрелый подсолнух похож на незрелый подсолнух! — и вновь на отца. — Я только внешне в него, — силится опровергнуть Антоха, но все безнадежно испорчено.
— Внешне? — недоверчиво она улыбается.
— Как жаль, что вы не поете! — Антоха дико кричит.
— Не груби же, Антоша, — слышится голос. Этот голос… Глубокий контральто. Ах, ну, разумеется, это — она, не мамулька, а мачеха, это мачехин голос! Всюду она!
Все собою заполнила, все испоганила!
Мачеха!
— Как жаль, что вы не поете! — орет хрипло, разбойниче и рвет фотографию на миллионы грязно-серых кусочков.
Все, порвал. У сыщика нет фотографии, у него теперь тоже нет!
А внутри у Антохи шторм, ураган. Отец, ты — слабак, неудачник, как смел прятать этот гадский кларнет, свою позорную память? Мысли, слова, все — злые, все — бешеные, крутятся, вьются, Антоха начинает метаться, влезает в рубаху, нитки трещат, ищет сандалии, скорее прочь, прочь из этого гадского дома!..
А на улице жарко, светло. На улице празднично. На улице пьют фруктовые соки, смеются.
Пять остановок — Антоха намертво помнит. Серый дом, арка, вход со двора. Лязгнул лифт, приглашающе раздвинулись двери.
Лифта не надо!
Мигом взбежал на седьмой этаж, сердце стучало, дыхание сбилось, но отчего-то на душе было уверенно, крепко.
Дзинь-дзинь!
Двери лифта загрохотали внизу. Кто-то торопился подняться.
Дзинь-дзинь!
Неожиданно возникло желание поскорее очутиться в квартире, словно там, в этом лифте, находился такой человек, от которого лучше держаться подальше.
Отчаянно занажимал кнопку звонка.
Лифт — точно! — со стуком остановился сзади него.
«Кто там?» — послышалось из квартиры, а двери лифта задергались, кто-то сильной рукой ускорял их движение.
— Егор Исаевич! — закричал Антоха в щель двери, — откройте!
И, поспешно войдя, обернулся. Не поверил глазам: человек, который вышел из лифта и направлялся за ним, неожиданно развернулся, резко шагнул к лестнице, словно избегая Антоху.
Антоха толкнул дверь и прижал. Щелкнул замок. Кто же там был? — тут же выругал себя за поспешность. И тем не менее испытал облегчение, спрятавшись от человека из лифта.
А Егор Исаевич был все таким же, неопрятным и толстым, все в той же коричневой пижаме, широкие брючины все так же свисали из-под фалд, приподнятых объемистым задом. Разве что стал чуть ростом пониже, но Антоха привык — перерос многих.
— Так чем могу быть полезен?
Антоха очнулся:
— Взгляните, кларнет!
Егор Исаевич не шевельнулся. Стоял и неопределенно взирал на Антоху. Антоха подумал: «Да нет, он меня не узнал! Прошло столько времени!»
— Отличный немецкий кларнет!
Егор Исаевич на кларнет не смотрел. Глупость какая-то.
— Фирма «Вурлитцер», — Антоха сказал. Хороший кларнет, отец мой дудел. Сейчас не дудит, сейчас у него зубы шатаются, — пошутил, но Егор Исаевич не откликнулся.
— А мама — арфистка, — произнес вдруг Антоха ни с того ни с сего.
И вздрогнул: кой черт его дернул? Но Егор Исаевич не отреагировал и на маму-арфистку, и все посматривал, подслеповато помаргивая, на Антоху, все так безразлично, будто посматривал на неумного клоуна.
Антоха стал сатанеть, заговорил что попало, и отчего-то все больше подмывало трепаться об арфе.
— Отец играл на кларнете, а мама на арфе. Все собирались устроить дуэт. Но арфы-то нет у нас, кларнет, стало быть, тоже не нужен. Вот, взгляните, хороший кларнет из черного дерева!
Но Егор Исаевич не врубался никак. То ли оглох, то ли стал вообще «не того». Вдруг повернулся и, будто забыв про Антоху, зашлепал подошвами тапочек.
За собою не звал. Но Антоха пошел за ним следом. Как и прежде, повсюду свисали саксофоны, балалайки и домры.
Заглядевшись, врезался в Егора Исаевича.
— Покажи! — Егор Исаевич внятно сказал.
Антоха небрежно раскрыл. Егор Исаевич чмокнул губами, но, спохватившись, вернул лицу прежнее безразличное выражение.
«Ого!» — подумал Антоха.
— Чаю хочешь?
Антоха сглотнул. Ведь не ел.
— Посиди! — не дождавшись ответа, вышел из комнаты.
Почему-то вспомнился человек, который был в лифте. Эх, не успел разглядеть! Приподнялся, выглянул в коридор.
Послышалось, будто щелкнул замок.
— Вы что? — крикнул, вдруг испугавшись. — Вы куда выходили?
— Что? — возвращаясь, торопливо отозвался хозяин. — Кто выходил? — он был, казалось, также напуган.
Постояли, уставясь друг другу в глаза.
— Ладно, — Антоха пришел в себя, — чаю давайте!
Впечатление было, что Егор Исаевич испытал облегчение. То ли вообще так дышал, но скорее всего выдохнул, освобождаясь от страха: «Уф-ф!» И как-то очень поспешно зашаркал на кухню.
Антоха за ним.
— Ты это зачем? — остановился тот в коридоре, — ты сюда не ходи! Не ходи! — громко, как говорят люди, вконец перегуганные, забормотал. — Ты жди, жди! — отстранился от Антохи руками.
«За кого он меня принимает?» — подумал Антоха.
Чай был темноватым от щедрой заварки, мед — желт и прозрачен, хлеб — мягок и пухл, Антоха умял полбатона.
— Так чего? — Выскоблил ложкой розетку с остатками меда, — кларнет будете пробовать?
Егор Исаевич чмокнув, хотел было что-то ответить, Антоха, опережая его, сложил половинки кларнета, вставил клювообразный мундштук, сунул инструмент ему в руки:
— Вот трости нет только.
— Гренадерское дерево, — сказал сбитый с толку хозяин, — фирма и вправду «Вурлитцер». Ну-ну!
Антоха напомнил:
— Вот только трости нет.
Егор Исаевич прошел к туалетному столику, покряхтывая, опустился на низенькую табуреточку, вытянул ящик, извлек с десяток светло-желтых пластин размером с пол-пальца. Точным движением взрезав одну — след взреза как ноготь, — подправил остро отточенным скальпелем, подскоблил и сдул пыль, вставил под хомуток, подтянул.
— На!
— Я не умею! — ответил Антоха.
— А продаешь, — словно бы упрекнул. И приладил кларнет на большой палец руки. У Антохи внутри что-то дрогнуло.
— А продаешь, — повторил укоризненно, и, быстро лизнув трость, взял мундштук в рот. Антоха собрался было что-нибудь брякнуть по этому поводу, но Егор Исаевич нежно подул.
Раздался тихий печальный звук, который можно было сравнить только с посвистом ветра в заброшенном доме.
И сердце внезапно заныло.
— Видишь ли, арфы у него нет, — буркнул хозяин и снова подул. — Да, — сказал, вынимая кларнет изо рта, — редкая штучка. Строя «до»!
Шевельнулась тревога: а правильно делает, что продает?
Егор Исаевич заиграл. Антоха и всегда был чувствителен к музыке, а тут, когда комнату будто наводнили ручьи, когда птицы будто запели свои прекрасные беззаботные песни, когда будто закапали капли дождя, разнося живительный запах озона, вовсе расклеился. Такое чувство возникло, словно раскрывается сердце. Зачем, зачем я все это затеял? — пришла позорная мысль.
И в этот момент незащищенное сердце его накрыла сзади мрачная тень.
— Пришел, значит! — голос сзади был тихим, но непреклонным.
И кларнет, умолкая, пронзительно пискнул.
— Значит, явился!
Антоха чуть было не рванулся. Чуть было не кинулся прочь.
— Этот кикс, — забормотал быстро Егор Исаевич, — этот писк, он случается от передувания…
— Кларнет, значит, пришел продавать, — сзади сказали, и Антоха узнал Мазуркевича.
— Кикс режет слух, он выше нужного звука на дуодециму, — отчего-то все бормотал этот Исаевич:
— Отцовский, значит, кларнет продавать. Дуодецима! — голос Мазуркевича был сжат, как пружина.
— Дуодецима — это октава плюс квинта! — не унимался хозяин. — Если б октава, так бы не резало…
«Ба, Петр Петрович! — вот как надо бы было ответствовать. — Какими судьбами?»
Но злость душила Антоху. Почему-то больше всего задело, что Мазуркевич выслеживал. Это ведь он поднимался на лифте! Это он прятался! Это к нему выходил посоветоваться предатель Исаевич! Обернулся и яростно вперился в неуемного детектива.
Но не успел начать первым. Мазуркевич словно стал другим человеком. Быстрым и цепким.
— Что? Что? — быстро, первым вскричал. И подхватил стул, бросил его под себя, оседлал, приблизил к Антохе лицо. — Кто прятал кларнет? От тебя прятали? Под мусорной урной? Зачем?
От неожиданности нападения Антоха качнулся. Его круглая белая голова, слабо укрепленная на тоненькой шее, чуть отстала от движения туловища. Прямо подсолнух, только лицом очень бледный.
— Отцовский кларнет, гренадерского дерева, строя «до» — все поддакивал, все выслуживался хозяин.
— С вами потом! — кинул ему Мазуркевич. — Не уходите! — а Антоне: — Почему не сказал, что арфу украли? Ну? Все перечислил, мебель там, кухню, арфу забыл. Где арфа стояла? За радиолой?
— За радиолой, — ответил Антоха, не успевая перестроить себя на необычного Мазуркевича.
— Значит, радиолу сдвигали, чтобы вытащить арфу! — утвердил, довольный собой, Мазуркевич. — А врал: тыш-чу лет она тута стоит, зачем ее двигать? Что? Чего себе позволяешь? Что себе думаешь, ну?
— Чего вы накинулись-то, вы чего? — решил было затянyть долгую песню Антоха. — Утром я вспомнил об арфе, да, утром. А кларнет папаша мне подарил, хочу — играю, хочу — продаю, вы чего?
— Дуодецима! — закричал Мазуркевич. — Я спрашиваю, ты отвечай! — он не мог спокойно сидеть. Он елозил на стуле, сжав его спинку руками. Стул вертелся под ним, как козел под наездником, схваченный за рога. — Хочу — продаю? — вдруг вскричал радостно. — Так это я тебе подсказал! Я кому намекал: кухня обстрижена наголо? Я попал в яблочко: ты решил, что мы не нашли этот кларнет, вот и побежал продавать, мол, на воров спишется все!
— Да чего вы разорались-то, в самом деле! — прорвало Антоху от несусветного обвинения. — Ну, решил избавиться от кларнета, так что?
— Врешь! — топнул ногой Мазуркевич. И стул вырвался от него, он поймал его на лету, оседлал. — Почему деньги на радиоле не тронули? Почему мебель, арфу, кухню украли, а гостиную, в которой сам живешь-поживаешь, не тронули? Врешь, врешь, врешь! — и, не дав раскрыть рот, заорал: — А родители здесь уже, да, прилетели!
И, отбросив стул, побежал к двери. Егор Исаевич, оказавшийся на пути, еле успел увернуться. Впечатление было, что сыщик пхнет сейчас дверь, и оттуда выйдет она. Мачеха. Мама.
— Подождите! — сипло крикнул Антоха. Мазуркевич, словно только и ждал, обернулся, подбежал к нему:
— Что? Ну? Говори! Что? — А Антоха не знал, что нужно сказать.
— Но зачем? — Мазуркевич неожиданно схватил его за плечо, жесткие пальцы пробрались повыше, ухватили за шею. Потянул Антохину голову на себя, взглянул прямо, зрачки вонзились в зрачки. — Зачем навел жуликов на свой хауз? — шепнул. — Вячика, Вячика зачем ввел на квартиру родителей?
«Все знает!» — устало подумал Антоха. И стало сразу тоскливо. И скучно.
— Ты отвечай, ты меня не нервируй! — пронзительно, тонко закричал Мазуркевич, — я ночь всю не спал, эксперты работали, ты… — опять снизил голос, опять зашептал: — Ты, пащенок, почему страницу с фамилией Вячика вырвал из книжки? Ты думал: вырвал листок, и концы в воду, но след-то, но след? Вмятинки, что продавились на другие странички, когда писал «Вячик», ты о них не подумал? — и опять закричал: — Ну! Отпирайся, доказывай, что тебя запугали, говори что-нибудь, слушаю!
— Нет, — Антоха мотнул головой, — это не Вячик. Я сам.
— Знаю, все знаю! — резко отбросил Антоху. Антоха чуть не упал. — Мебель на даче у Вячика — это р-раз! — загнул крепкий палец. — Арфу Вячик везет сюда к часу дня, точно? — Егор Исаевич, чмокнув губами, хотел было дать показание, Мазуркевич махнул на него: — Ладно, потом!
— В-третьих, ты с ними в сговоре: дверь не закрыл, а сюда явился разведчиком, чтобы арфу продать. Так ведь? Про арфу делал намеки? Ведь так?
— Нет!— хотел было крикнуть ошеломленный Антоха, но ничего не мог выкрикнуть он: что именно нет? Разве, когда валялись на пляже, Вячик не сказал ему: есть небольшая идея? И что, не ухватился он за нее, как за спасательный круг? Что, не просил, не умолял Вячика побыстрее связаться с лихими ребятами, чтобы те вывезли мебель и арфу? «Нет» можно выкрикнуть только на то, что вовсе не собирались они ничего продавать, даже и думать об этом не думали, и что Вячик, кажется, негодяй… — Нет! — угрюмо
буркнул Антоха и уставился в пол. Главное — не видеть этого крутящегося человека, не впускать в себя его взгляд.
— Да, — внезапно спокойно отозвался мучитель. — Я понимаю: такое пошло поколение. Мачеха подала на развод — сразу решил ее мебель продать. Чтоб не делить после развода, — произнес он ужасно спокойно. — Отвратительное поколение.
Ничего не может ответить Антоха. Слезы копятся в горле. И как, что доказать? Что рассчитывал на милицейский вызов родителей как на средство их помирить? Сблизить? Антоха блеет, мычит. Что вы говорите такое? Мне Вячик сказал: придет телеграмма, что арфу украли — мигом примчатся! Узнав, что мебель пропала — примчат, как ошпаренные! Я же не знал, что Вячик такой.
Мазуркевич честно внимает, честно хочет понять. А зачем кларнет продаешь? Со злости? И арфу тоже со злости? Ах, арфу не хотел продавать? Но Вячик звонил Егору Исаевичу! Значит, валить на Вячика? А зачем тогда делал намеки про арфу Егору Исаевичу? Ну, Вячик нам слишком известен, а ты-то?..
Нет, не поймет Мазуркевич Антоху, не поймет его человек, выросший в жестокой детдомовской простоте, да и его ли обязанность понимать?
— Так ты мачеху ненавидел? — добросовестно угочняет. — Или любил?
Ненавидел, любил — пустые слова, погремушки. Как объяснить? Что-то горячее, обволакивающее. А когда растворяет в себе, вот, кажется, растворила до последней капельки «я», эта капелька вдруг взбунтует, противно визжит: «Не хочу! Не надену! Не буду вставать!»
Но звонит телефон. Мазуркевич проявляет сочувствие, передает трубку. Антоха с опаской берет ее.
— Антошенька? — слышит. — Милый сынуленька, еду! Еду сейчас же!
И все. Больше Антоха ничего уже не сумеет сказать. Слезы и слезы.
Мазуркевич с презрением смотрит на рассопливевшегося лоботряса. Внезапно сердито кричит:
— Да ладно, кончай, тише ты!
И вскакивает, и теснит Антоху за шкаф, подталкивает к двери Егора Исаевича:
— Звонок, слышите? Берем вора с поличным! К двери, к двери идите, встречайте!
И еще кому-то кричит:
— Эй, наводчика! Ну, спрячьте наводчика! Готовьте к свиданию с организатором шайки!
И откуда-то из-за ширмы, из-за шкафа, из других комнат появляются вдруг необыкновенно уверенные, верткие, крепкие люди, забирают, прячут Антоху-наводчика, занимают места, готовятся брать воров с поличным…
…Да, я все еще нахожусь в том романтическом состоянии, когда писание рассказов кажется мне делом бессребренческим и любительским, чем-то схожим с пением птиц, которые поют друг для друга, для нас, для себя…
Александр Жулин.
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником»,
ЧОКНУТЫЙ
Записки несдавшегося
Вот и еще одна девушка меня обманула.
Ну что же! Как говорит мама, все, что ни делается, все это — к лучшему. Три года я вынашивал идею нового мотоцикла, три года бегал к седовласому математику и механику Созонту Петровичу и завел его так, что теперь уже сам он звонил в половине двенадцатого и, будя засыпавших соседей, кричал хрипло и радостно: «Вилку! Вилку делай с увеличенным ходом!»
Три года собирал по колечку, по винтику, доставая самое лучшее: магний, стеклопластик и электронику. Я ничего не жалел, и выменивал, и выклянчивал, и рылся на свалках, добывая детали, и скупал вынесенное из-за забора, над которым ершилась колючая проволока, и вот, наконец, заперся в мастерской.
Сессию сдал — и закрылся. Никаких больше девушек: только я — и она, мотоцикла. На первый взгляд — суровое дело. А я так вам скажу: лучшего нельзя и придумать.
Когда случалось переночевать дома, утром я так торопился, словно без меня там все умирало. Я отворял двери, зажигал голую лампочку, свисавшую с потолка, включал электропечку, если было прохладно, и говорил: «Здорово, ребята!»
Миниатюрный токарный станок, моя гордость, опора, отблескивал стальною улыбкой; тиски раскрывали в тяжелом приветствии губы, электродрель взвизгивала: «Заждались, заждались, ваше-сство!» И, наконец, Афродита… Ну да, мотоцикл!
Афродита, покуда не собранная, заполняла своими частями пространство; я же, перепроверяя наличие (вон — колеса, притулившись в углу, ожидают резину, вон — томится мотор без колец), я себя чувствовал как бы растворенным внутри мысленного образа мотоциклеточки, стягиваемой нитями воображения из этих частей… Забудем о Стелле!
Забудем о Стасе!
Забудем о Стелле, забудем о Стасе…
Могу вас уверить: забыть о них — это действительно суровое дело.
Вот и у меня есть приятель, Леней зовут, между прочим — кандидат физматнаук, вот он, скажем, умеет ходить босиком по воткнутым вертикально иголкам. А вы попытайтесь наступить хотя бы на кнопку. Вы наступите! Я разок наступил — больше не хочется. А если кнопки разбросаны всюду, куда ни попадя?
Вот так и в случае Стеллы и Стаса — куда ни шагну, всюду они!
А ведь уже была Афродита! А теперь уже — все и закончено! Все закончено, все!
Я стоял и глазел на свою мотоциклу, и никак не мог успокоиться, руки так и чесались. Было то горячечное состояние, когда предметы видятся словно через розоватый туман, в котором сгущаются тени как раз за миг до того, как врежешься лбом.
В таком состоянии можно свободно пробежаться по троллейбусным проводам — если что-то поманит, зато яичница точно сгорит! Или забудешь сковородку намаслить, или все сделаешь правильно, да отвернешься, на секунду заглянешь в чертеж, а очнешься тогда, когда сечения и общие виды расплывутся в дыму.
Но теперь было закончено все! Гордый стан, лебединая шея, гладкие выпуклости… Ну, Стас, держись!
Покрутившись по мастерской, оглядывая Афродиту справа и слева, я вдруг осознал, что в руке — пустой краскопульт. Куда его? Ну? Руки вдруг затряслись. Издав дикарский воинственный клич, я выскочил из мастерской и запулил его в груду хлама.
Железо ответно бабахнуло.
И тогда Стас явился. Он всегда там, где бабахает. Настоящий мужчина.
— Твой багаж? — спросил он, небрежно цепляя носком хоботок краскопульта.
Я не собирался ему отвечать. Раз сто проигрывал ситуацию, когда он подойдет так вот и спросит, а я не отвечу. Вместо ответа наклонюсь холодно за какой-нибудь гаечкой.
Я не собираюсь ему отвечать. Но внутри меня совершилось предательство. Сдавленно, жалко оно промычало:
— Багаж мой!.. Потерялся… — и выскочило вдруг еще, уж совершенно ненужное: — Знаешь, я закончил ее. Назвал Афродитой!
— Опять за свое?
Я угодливо хохотнул. Вокруг меня все еще был розоватый туман. Голыми руками Стас мог меня взять, и он, кажется, именно этим и собирался заняться. Спасаясь, я прищелкнул намекающим языком:
— Назвал Афродитой!.. В честь, понимаешь, одной… У меня теперь, знаешь, новая девушка…
— Поздравляю! — гаркнул он и прищурился. — Может быть, они и стоят друг друга!
Что он имеет в виду? Я тупо кивнул. Проследил его взгляд. Его взгляд так и рыскал, так и обшаривал мою Афродиту. Она смутно светилась в проеме ворот. Серебристая, гладкая… Мне показалось, что слова его несли положительный смысл.
— Что, все Афродиты такие жирафы?
В том горячечном состоянии, в котором приятно носиться по троллейбусным проводам, но невероятно трудно изжарить яичницу, я никак не мог уяснить положительный смысл его слов. Но я чутьем ощущал, что она ему нравится. Я ревновал.
— Отдай краскопульт! — вскричал жалко я.
— Жирафа! Длинна, как жирафа! И зачем ты подвесил ей фару? Разве нужны фары на кроссе? А никакой новой девушки у тебя не имеется! Никакую дурищу таким багажом не заманишь!
— Отдай краскопульт! — настаивал я, не зная зачем
— Ты же выбросил! — ледяными тоном отрезал он. И пошел себе. Деловито, спокойно, Как будто что-то обдумывая. Помахивая себе краскопультом.
Вот теперь и придется признаться вам кое в чем. А то вы подумали, видимо, обо мне: что за чокнутый мужик? У него девушку умыкнули — а он общается с умыкателем как ни в чем не бывало. Краскопульт увели — он вроде как и прощает. Наконец, оскорбили творение, то, чему было отдано несколько лет, — а он ни слова в ответ! Благо был бы хиляк, а то грудь — колесом, руки-ноги — железные, мотогонщик к тому же, значит — синяков не боится! Он не чокнутый случаем?
В том-то и дело, что чокнутый!
Я хотел бы признаться вам кое в чем, но… Скажем, ветка багульника. Знаете, эти невзрачные красноватые веточки, которые продаются ранней весной? Вы покупаете эту кривую ветку с сучками, круто, странно изломанными, на которых там и сям пришлепаны малозаметные темноватые почки. Вы покупаете и дарите девушке. Потому что и вы, и она тоже знаете, что стоит поставить эту веточку в воду, как через какое-то время из букашковидных багровых пришлепок вылезут вдруг нежно-сиреневые цветки. А ведь дарите вы, казалось бы, сухие, нелепые ветки. Да о чем разговор! Какое «казалось бы»! Ведь дарите вы вовсе не ветки, а гроздья необыкновенных весенних улыбок — соцветий! Вы их — и она тоже, конечно, — уже видите наперед. Хотя нииаких цветков пока нет и в помине.
Запутал я вас?
А как иначе? Как иначе мне вам признаться… А-а, все равно не поверите!
Ну вот, скажем, обмолвился я про приятеля Леню: «Кандидат физматнаук», — я сказал. А какой он кандидат, когда ему двадцать один, он мне ровесник и пока еще учится на мехмате? Но дело-то в том, что как на ветке багульника вы мысленно уже видите нежные звездочки, так… Да нет, вы не видите! Вы — представляете! Вы предвкушаете! А я знаю доподлинно. Его вижу — будущим. Я вижу: кандидат физматнаук, тощий, нервный мужчина под сорок пишет рассказ, и рассказ этот помещается в книгу, куда помещаются и эти заметки. Посмотрите в конец этой книги! Увидели? Потом я увижу его еще режиссером в кино…
Вот также я вижу и Стаса в будущем времени, который в сегодняшнем времени отбил у меня Стеллу и увел краскопульт, но если бы знали вы, каким я увидел его через четырнадцать лет! Лучше не надо. А Стеллу?
И как я могу к ним относиться иначе, если через четырнадцать лет они станут… А вот не скажу! Вы же не верите!
Конечно, я вижу не каждого в его будущем. Совершенно не вижу себя, например, в своем собственном будущем. И вообще прозрения эти накатывают совершенно случайно, но уж если накатит… А они говорят: чокнутый. Впрочем, говорят, конечно, не оттого, что знают в моей этой интересной особенности (я, естественно, не распространяюсь о ней), они судят меня по поступкам, которые им непонятны. Недалекий, доверчивый — это еще самое сладкое. Дурачок — это уже посильней. Ну и так дальше.
А я и в самом деле скорее всего недалек. Когда я с ними общаюсь, то путаюсь — с каким временем дело имею. Представьте, скажем, кто-то (не Стелла, не Стас, нет-нет) орет на меня, а я его вдруг вижу на смертном одре… Есть за мной и другое.
Может, и в самом деле когда-нибудь придут за мной санитары в белых халатах — этакая парочка бугаев с косыми ухмылками и стерегущими глазками?
А тогда… Восстановим цепочку событий. Итак, Стас испарился. Я начал в себя приходить. Что же случилось? Я был так счастлив, а он пришел и испортил. А воровство краскопульта? Нет, по какому праву он его прихватил?
Затем я пошел в мастерскую. Зачем? Не могу объяснять. Почему взглянул вверх? Чем заинтересовала меня эта грязная тряпка, свисавшая с антресолей?
Никогда не найду я ответа на этот вопрос!
Но я взглянул и увидел ее.
Можно было подпрыгнуть, но можно было и взять табурет. Я прыгнул — и не достал. Подпрыгнул еще — и только коснулся. Ах же, собака! Я кошкой взлетел и ухватил ее пальцами. И сжал их покрепче. А приземляясь, ухватил и другое: странный шваркнувший звук.
Этот странный шваркнувший звук, несомненно, не сулил ничего доброго. Он шел сверху, из-под ведра. А в ведре были тяжелые мотоциклетные цепи. Конечно, можно было отпустить вздорную тряпку. Еще можно было, приземлившись, немедленно отскакнуть. Но этот странный шваркнувший звук, словно укол, странно взбодрил любопытство.
Конечно, это было странное, необъяснимое любопытство. Что-то вроде того, когда дворянин на спор закладывал одинокий патрон в зев семизарядной обоймы, чтобы, покрутив ее и приставив дуло нагана к виску, затем щелкнуть курком: пронесет?.. разнесет?..
Повисла тяжелейшая пауза, в которой я приземлялся.
Пронесет?.. Разнесет?..
Шарахнуло громоподобно.
День погас и красным золотом вспыхнула ночь. Словно огненный дождь, просыпались звезды. И следом — кромешная тьма.
Какой идиот взгромоздил на антресоли ведро?
Я вернулся из смерти благодаря Афродите. Нет, ее не мог никто завести, однако же фара («Бесполезная фара!» — говорил этот Стас) сама собой вспыхнула, и на меня хлынул поток слепящего света. Оживленный его ласковой теплотой, я приподнялся. Голова закружилась, я опустился перед ней на колени.
— О, смертный! (Мне верно послышалось: голос шел с неба.) Взгляни же: разве это не роза в металле? Не колесница, запряженная белоснежными лебедями? Не она ли, омытая пеной, — божественная жрица любви, Афродита?
Он шел с неба, этот громыхающий глас.
— Так протри свою физиономию тряпкой!
Я взял и протер. Тряпка пахла весной.
— А теперь поцелуй свою жрицу, благодари за возвращение к жизни!
Потрясенный, я припал к бензобаку губами. Однако почему глас небесный так подозрительно хрипл? Почему он словно ежится от щекотки? Ах, это не голос небесного наблюдателя!
— Пигмалион с шишкой на черепе! — слышу я хамское. — Чумазый создатель! Правду говорят, что ты — чокнутый!
Да, это — Стас. Я хватаю Афродиту за руль и выкатываю.
Он догоняет. Бьет меня по плечу:
— Обкатка — не депо полоумных механиков! Здесь нужны ноги кроссмена.
— Она-сс не для вас-сс, мотогонщик! — сдержано я возражаю. Откуда вдруг выскочило старорежимное «-сс», и сам не пойму. Но зато столько твердости оно придает! — Вам ее в жизни-сс не укротить-сс! Вы слишком грубы для дамы-сс!
— Для дамы? Все дамы мира, мальчишка, пасуют перед мужчиной с хлыстом! Все дамы мира-сс!
Он прямо-таки исходит слюной, высвистывая свое вторичное «-сс»! Столько злости, столько напора — будто совершенно иное он имеет в виду. И я не мог не откликнуться на это совершенно иное:
— Ты заключил это, когда возил е е на заднем сиденье?
— Дня тебя же старался, мальчишка! — как он вдруг заорет! — Тебе же глаза раскрывал! Этой дурище не важно, с кем ездить, была бы стальная нога, стальная рука, гибкий хлыст! Хорош же ты был со своей сиренью!
Для меня же старался? Я не верил ушам. С другой стороны, зачем ему Стелла. Зачем моя девушка, когда он в своих путается, числит под номерами? Неуверенно возражаю:
— О ком ты, парниша? Я лично толкую об Афродите!
— Так и я тоже о ней! — вопит он зарезанно. — Твоя Афродита — не она, а оно, железо, не более! Гибкий хлыст, стальная рука, стальная нога — и все дела, паренек!
А я все думал о том, что болтал он о Стелле. В этих словах кое-что было. Неужели для меня же старался?
И тут меня будто бы кто подтолкнул. Я прикусил свой язык. Я был рядом с той, кто — «железо, не более»! Я увидел! Услыхав оскорбления Стаса, Афродита бросила взгляд на меня. Взгляд лукавый и со значением. Мол, не связывайся, брось его, мол!
И я не стал связываться. Оставив ее, я вернулся к двери. Я раскрыл двери и так их оставил. Зачем? Не знаю, я действовал по наитию: обратный въезд Афродите был обеспечен. Затем вытянул краскопульт из руки Стаса, почему-то сразу разжавшейся, и вбил его под правую дверь. То ли чтобы было покрепче, то ли чтобы заякорить краскопульт… Да-да, я действовал, отвечая неким призывам, исходящим ко мне
от… да-да, Афродиты!
А Стас… О-о, этот Стас!
Он похлопал ее по месту ниже седла (она это позволила). Он назвал ее деткой (послышалось фырканье). Он взял ее за белые ручки (она склонила головку к нему). Он ее вывел на трассу.
Я все же засомневался. Стал догонять, отдирать эти грубые лапты с беленьких, вымытых ручек.
— Отзын-нь! — он заорал.
Тут Афродита громко, предупреждающе подхрапнула. Я отшатнулся:
— Эй, Стас! Так с ней нельзя!
— Ты, детка, впрямь спятил? С кем это — с ней? — одолел он грохот мотора. И в этот момент руль выкрутился из его рук. Афродита отъехала и, коротко разогнавшись, поддала Стаса под зад. Зад вслед за ним взлетел в облака, а Афродита умчалась.
— Пигмалион с шишкой на черепе! — заорал он, взлетая. — Зачем ткнул кик-стартер задней ногой?
«Пусть себе полетает! — решил я промолчать. — Кто это ткнул кик-стартер задней ногой?»
— Трахнутый! — ругался он, возвращаясь. — Тебя следует познакомить со стоящей женщиной, понимающей кое в чем и суровой! Чтобы не трепался насчет мнимых новых дурищ!
«С женщиной? Я не против! Но не надо — суровой!»
— Чтобы вышибла сиреневую дурь из тебя! — кричал он с земли зло и разнузданно. — Ты был жалок со своим букетом сирени! Женщины, а равно и техника, хлыст а-ба-жа-ют!
Я продолжал хохотать. Но смех мой терял в убедительности. «При чем здесь сирень? Чтоб меня видели с букетом сирени?» Чем громче я хохотал, тем больше ощущалась в моем смехе натуга. «Чтоб когда-нибудь кто-нибудь мог меня видеть с сиренью? Нет, никто, никогда и нигде не мог меня видеть с букетом сирени!»
Я хватал себя за бока, я давился и кашлял от смеха. Нет, он не мог меня видеть с сиренью! Было темно, и этот букетик я кинул в окошко. Никто, никто не видел меня, и даже Стелла не видела, когда я подкидывал этот букетик.
— Букетом заманивал эту дурищу? Он так и втерся в пространство между нашими энергичными животами — какая точность, маэстро! Мы смеялись над этим как дети!
Смех из меня вышел, как газ из воздушного шара. До сих пор простить себе не могу, что просипел в тот момент. Да, в тот момент я просипел:
— Слушай, Стас, но ты говорил, что мне глаза раскрывал? Что для меня же старался! Так зачем ж смеялся с ней?.. Надо мной?
Есть во мне дурацкое свойство: все думаю, что относятся ко мне хорошо. Вот они делают пакость, а мне все кажется, что до конца не дойдут. Что спохватятся, спросят себя: за что мы его? Дурацкое свойство, ох же дурацкое!
Вот спросил его и тут же понял: ну, я и дурак! Потому что, пожалуй, никогда раньше не видел, чтобы так менялось лицо. Даже челюсть у него отвалилась: так удивился. А затем этак ехидненько начинает хихикать: хии… хии… хии… Словно вытягивает старый гвоздь низ ссохлой доски.
— Я, котик, так для тебя постарался (и опять клещами за гвоздь: хии… хии…) — что до сих пор я… болит!
Я подумал, что теперь-то он напросился. Пора ему врезать. Надо врезать ему, вот прямо сейчас: ногой в подбородок! А пока будет барахтаться, той же ногой да в то самое место, которое болит до сих пор.
Он прищурил глаза. В них будто что-то сверкнуло. Как бритва. «Нет! — решил я.— Пусть сначала поднимется!»
— Вставай, Стас, — сказал я. — Вставай же!
Он резво вскочил и сразу отпрыгнул назад — для разбега. А у меня вдруг почва ушла из-под ног. Нет, я не трус, я уверен, что я сильнее. У меня руки — длинные, загребущие. И хотя он повыше, пожилистей, а я — приземист, широк, но у меня культуристские бицепсы, трицепсы, трехглавые и разгибатели плеч. Я прямо-таки физически ощутил, как сжимаю его, а он — хоть и верток и жёсток — но он трещит всеми своими костями в объятиях… Коряги мои, знаете, можно быку голову отвернуть! Мне бы только его ухватить…
Он сделал прыжок в сторону и как-то по собачьи подвигал ступнями, готовясь.
— Ну ты, чокнутый! — скрипучий смех оборвался, гвоздь был выдернут из доски. — Так я встал!
И я вдруг увидел, как он взглядом нащупал булыгу. Гладкий камень, килограммов под шесть, и для обхвата
удобен.
Что-то притянуло и мой взгляд, что-то напомнило о себе: краскопульт! Ах, кто его вбил под железную дверь?
Впрочем — чушь, напрасная подстраховка: все равно я не смогу метнуть его в Стаса! А если метлу — хоть с полуметра! — не сумело попасть.
Но Стас так и косит глазом на камень!
И я сказал без напора. Не сказал — бормотнул для порядка:
— Врезал бы я тебе… Да неохота мараться!
Однако даже эту пустячную фразу сказал я напрасно! Как он кинулся, как ловко нагнулся за камнем! С какой ненавистью уставился на меня, как непреклонно пошел, сузив ямочки на щеках! Не друг был перед ним — мразь, гнойный нарыв! И руки у меня опустились.
Он шел на меня, и я тут же представил, как он вобьет в грудь кулак (если не камень), как грудная клетка гулко откликнется, и как ни один мой мускул не шевельнется, чтобы ответно ударить.
Но тут услыхал. Дальний рокот мотора. И что-то влилось в меня. Не стронувшись с места, как сделал шаг навстречу. И Стас это почувствовал, замер. А рокот слышался громче. Однако Стас, думаю, был слишком втравлен в предстоящую драку, в общем, он снова пошел.
И я промолчал. Только он повел левой рукой для обмана (а камень-то в правой!), как Афродита выскочила на гребень холма, и… И Стас опять отведал прелесть полета!
… — Ну хорошо, хорошо, — похохатывал он, смущенно и тайно массируя шею, — пусть там, за холмом, никто не дежурил, пусть неким мистическим способом она самостоятельно развернулась, в конце концов, я не спорю: это нормальная техника, но именно техника, именно Это! В лучшем случае самоуправляемый робот!
— Я дам тебе денег! — он продолжал. — Сойдемся в цене!
И я снова не спорил. Он и сам понимал, что предложение денег нелепо. Афродита заменила мне Стеллу — какие тут деньги!
И я не слушал его. Этот камень не давал мне покоя. Что толку в его запоздалых признаниях Афродите, если секунды назад он поднимал на меня камень! Надо было бы взять его за грудки, как куклу, поднять и, глядя в глаза, объясниться.
Но тут Афродита, словно проснувшись, плавно тронулась с места и покатила к воротам.
— Ах, так! — и Стас, словно очнувшись, вскочил и рванулся за ней. Она въехала в мастерскую — он следом за ней.
Я не вмешивался: пусть! Крики, ругательства Стаса, ответные взрывы мотора, чем дальше — тем яростней. И все более грозно звучали ответы, а что кричал Стас!
На какое-то время затихло. И вдруг — точно выстрел из пушки! Гром, затем — тишина. С громом они вынеслись быстрее торпеды и мгновенно истаяли в тишине.
Однако не успел я успокоиться, как сзади послышался нарастающий вой. Еле успел вскочить, едва успел увернуться, как мимо пронеслась Афродита. На ней …
Нет, об этом надо с отдельной строки!
На ней восседал Стас. В алых доспехах, величавый и важный. Торжествуя, он выкликивал: «Нырав-ноитех — я разобрал. Что это значило? Но звук его голоса тут же пропал, потому что они скрылись за курчавым холмом. Рев мотоцикла, вонь выхлопных газов, неясная фраза, серебристо-красный бурунчик и ничего! Я поспешил на вершину холма, но сзади вновь слышалось:
— Ник-ах-лы -…
— Умерь скорость! — с досадой кричу. Неужели она покорилась? Нет, неужели? Я стал расстегивать рукав кожанки, чтобы взглянуть на часы, но сзади послышался новый шум — они исхитрились совершить полный круг!
— Ста-ба-жа-ют-да-а-ба-жа-ют! — доносится до меня, и они исчезают.
Нет, скорость такая невероятна! Спешно я занялся вычислением, но не успел: треск мотоцикла раздался снова внизу.
— Сбавляя газ! — ору что есть силы. — Двигатель разнесет!
Но их уже нет.
Кричать кто-либо бесполезно. Я и пляшу на холме, и свищу — все не впрок, и слышится будто бой барабанов, и визги труб, грохот медных тарелок, и, сопровождаемый этим музыкальным фейерверком, крутится вихрь.
Изловчившись вращать голову соответственно этому вихрю, я наблюдаю не только контур движения, но различаю и гримасы и даже оттенки гримас на лице Стаса. Вот рот распахнут. «Стальная рука!» — угадываю смысл восклицания, они исчезают. «Стальная нога!» — улавливаю на новом витке. Умчались. «Гибкий хлыст!» — их снова нет.
А что Афродита? Молнии освещают ее, восторгом светится фара.
У меня кружится голова. Бессильно опускаюсь на траву.
Ах ты, зараза! — шепчу, потрясенный изменой, изнемогая от слабости. — Да будь же все проклято!
В тот же миг, тормознув передним колесом, она принимает вертикальную стойку задком вверх. Взлетает и холосто вращается в воздухе заднее колесо, спицы блестят, в то время как Стас летит кувырком через руль. Сама же красавица опускается и, слегка виляя ладным задком плывет в мастерскую.
— Нормальная техника! — крякает Стас. — Забираю ее! — И отключается.
А у меня кружится готова. Боком сползаю с пригорка, кручу вентиль, подставляю затылок под струю прохладной воды.
Когда подошла Стелла (уж не она ли была за холмом?), мы представляли жалкое зрелище. С волос по лицу моему растекались ручьи, Стас вообще не вставал, так и валялся в грязи. Стелла смеялась.
— Чего ржешь? — мрачно приветствовал ее Стас.
— Я не ржу! — ответила Стелла и опять засмеялась.
— Что она, лошадь? — спросил я, отжимая свои длинные волосы.
— Что же ты скалишься?
Он, похоже, приложился весьма концентрированно. Разве было похоже на Стаса — пропускать небрежность подобных ответов.
— Я не скалюсь! — смеясь, сказала она и положила руку мне на плечо.
— Ты, похоже, приложился весьма концентрированно! — говорю ему. — Что она, тигр саблезубый, чтобы скалиться?
Стас вопросительно глянул — она не сняла свою ладошку с плеча. Я распрямил грудь. Он шевельнулся, скривился, схватился за бок. Перевалившись на четвереньки, встал на колени, игнорируя то, что вокруг была жидкая грязь. Опираясь на лапы, поднялся.
— Вы будто не прочь повеселиться вдвоем?
— А как же! — ответила Стелла и засмеялась.
— Смотри, котик, держись молодцом!
Вместо ответа я выставил большой палец.
— Он всегда молодец! — сказала Стелла, прижимаясь ко мне. (Она! Кто же еще был за холмом?)
— Я знаю, — сказал Стас. — Он такой молодец, прямо ух! Что на трассе, что…
— Прямо ух! — я вмешался.
Было неясно, к чему надо готовиться: он возился с пуговицами на своей куртке — то расстегнет, то снова начинает пропихивать в узковатые петли; он разглядывал себя в зеркальце — поворачивая лицо так и сяк; долго-долго расчесывал волосы щеткой — нет чтобы для приличия почистить штаны! И то казалось, что без скандала, без драки не обойдется — так он нарочито медлил, то вдруг верилось, что он вот прямо сейчас по-доброму подмигнет, как один он только умеет, и отправится восвояси. В конце концов, Стелла
явно отдавала предпочтение мне!
— А вот это, — начал он, но Стелла перебила его. Лицо ее изменилось — враждебность появилась на нем. Странным, металлическим голосом, обращаясь к нему так, как будто меня не было рядом, она протянула:
— А вот это — россома-аха…
Стас вздрогнул. Приценивающе посмотрел на нее — так, будто меня здесь и не было. И неожиданно неловко, тяжело повернулся. Ничего не сказав, не оглянулся — пошел прочь, загребая по-ковбойски носками.
Что-то щелкнуло, хрястнуло. Это челюсть моя отвалилась. Чтобы Стас так просто взял и ушел? А обмен взглядами между ними? Гордость не позволяла накинуться на Стеллу с расспросами, а когда я узнал продолжение намекающей Стеллиной фразы (много позже, из глуповато-похабного анекдота о том, как в рифму отделывался от посетителей экскурсовод зоопарка: а теперь идите на …), меня больше всего поразил не цинизм, а отчаянность этой пичуги: ведь непредсказуемый Стас мог в ответ выкинуть что угодно и в этом же роде, мог и ударить, и пустить что-нибудь тяжелое в ход — из песни слова не выкинешь, иначе это был бы не Стас (и была бы не Стелла).
А этот момент в голове не уложилось только одно: почему покорился?
Ласковые пальцы пробрались по плечам к шее — я и растаял, но и надулся: что это за сговор у меня за спиной?
Она забежала, заглянула в лицо. Я отвел глаза в сторону. Она опять выскочила, веселая и шкодливая. Я не выдержал, рассмеялся. Она прыгнула на меня, повисла на шее, болтая ногами. Пятясь, я отступал внутрь мастерской, не отрываясь от сильных, упругих губ. А войдя, сразу повалился назад, на спину.
Пол, земляной, присыпанный от влаги опилками, мягко принял меня. Стелла была в дорогих, со множеством иностранных наклеек вельветовых джинсах. Я помнил об этом и осторожно придерживал ее на себе; она же зачем-то пыталась соскользнуть в сторону, вбок. Наконец она открыла глаза, губы наши отклеились. Из-под коротких, но очень густо растущих ресниц выполз затуманенный взгляд. Вот он заострился. По лицу еле заметно пробежала гримаска испуга.
— Почку застудишь! — шепнула она и быстрым движением просунула под меня узкую руку.
Сердце растеклось от забавной заботы, я опять потянулся к губам, но лицо ее, голова ушли вниз вслед за рукой, утепляющей мою поясницу.
— Подожди, — послышалось глуховато, — она нам мешает.
— Афродита! Так смотрит…
Я искоса глянул: в позе мотоциклетки, отвернувшей от нас фару и руль, и впрямь проступало беспокойное недовольство.
— И ворота! — напомнила Стелла, когда я выкатывал упирающуюся Афродиту проветриться.
Ликующая надежда и тревожное ожидание раздирали меня. Наконец! Неужели? Да, произойдет несомненно!
Лихим ударом выбив краскопульт из-под заклиненной двери, я замкнул наше убежище. Столь же лихо мазнул пятерней по выключателю: лампа вспыхнула.
— Не надо! — послышался голос, показавшийся незнакомым.
Я глянул и тут же отвел глаза: Стелла (мне показалось — дрожащая) сидела в углу на топчане. Она была в моем рабочем халате, под ним ничего не было — я понял это пронзительно.
— Иди ко мне!— услышал оттуда.
Что-то во мне дрогнуло, ухнуло, обвалилось. Я сделал шаг на обмякших ногах и, споткнувшись, упал. Шмякнулся, дери его в гвозди, зашиб локоть, коленку!..
Если бы она хмыкнула, если бы кашлянула, что-то сказала — не знаю, что бы случилось со мной! Но она промолчала. Будто и не было этого грохота, этого дурацкого возгласа («Дери его в гвозди!»), которым я защитился, словно не было ничего: она терпеливо ждала!
И я вошел в нее — плотно и распирающе. А она — горячее тельце — раскидывалась подо мной и вертелась, как червячок под неловкими пальцами, натягивающими его на крючок. Я был больше ее, она металась и вскрикивала и поощряла меня, и с тем большим упорным садизмом я терзал и терзал ее, расширяя и углубляя, и все громче стонала она, разжигая этим меня, и вдруг напряжение, ставшее невыносимым, лопнуло… Так и не понял: было ей хорошо?
В мастерской царил кавардак. Непостижимо, что может натворить женщина за мгновенья хозяйничанья!
Повсюду валялась одежда, на голой земле распластался поднос со стаканами, в одном из них дрожала петля кипятильника, а на раскладном рыболовном стульчике стояла консервная банка с толстой свечой. Свеча, точно роскошная, вольная женщина, опиралась на зазубренный край, воск капал на матерчатое сиденье, а от колыхания пламени на стенах ожили тени.
Вот пламя выгнулось, и кошка с ушами торчком, вытянув длинную спину, хищно прицелилась в нашу сторону. А на другой стене таился шпион. Острый нос, козлиная борода, плоская кепка.
Стелла слушала вполуха меня. Счастливый, я порол всякую дичь, она молча лежала, положив голову мне на плечо. Может быть, я в принципе не о том говорил? Может быть, в такие минуты положено говорить что-то особое?
— Почему он послушал тебя и ушел? — ни с того ни с сего вырвалось у меня, и тут же во мне все напряглось.
Но она не ответила. Наставив карманное зеркальце, искоса смотрела в него, и заскребло на душе: вспомнилось, как разглядывал себя в зеркальце Стае. Приподняв голову, я увидел в гладком блестящем прямоугольнике бровь вразлет, из-под которой выглядывал глаз, казавшийся живущим отдельно — как птенчик в гнезде.
— Нет, ты ответь! Он такой неподатливый, а тут р-раз! — и отчалил без звука!
И вновь она не ответила. Закусив нижнюю губу, изучала прыщик на подбородке.
— Как-то странно, что он послушал тебя!
С легким вздохом отложив зеркальце, она потянулась, глянула на ручные часы, потянулась через меня за бельем. И все у меня вылетело из головы!..
— Я лучше оденусь! — сказала она. — Бронислав!
— Что, что, милая? — зашептал я, делая вид, что не понимаю ее.
— Он понял, что я за тебя, и отступил! — просто сказала она, отстраняя меня беспрекословной рукой. — Диалектика!
Спор не вел ни к чему. Но я спорил, оспаривал, горячась, но так, будто мало-помалу с ней соглашаясь. Как бы незаметно, как бы в пылу жаркого спора выискивал путь.
— А гордость? — отводя ее руку.
— Какая гордость? — возвращала руку назад. — Гордость — стремление не уронить себя в глазах окружающих. А если он выше всех окружающих? — вскричала она и, вырвавшись, резко вскочила: — Бронислав!
Разочарованный, оскорбленный, я отвернулся к стене.
Словно ничего до сих пор не было — поступает лишь так, как решила сама! Отвернувшись к стене, я подглядывал в зеркальце.
Она присела на корточки. Перебросила кипятильник в другой стакан, а в бурлящую воду высыпала порошок растворимого кофе.
— Аллес! — сказала она.
«Жуткое дело!» — подумал я. Мелькнула сумрачная физиономия Стаса. «Аллес!»— из его лексикона.
— Аллес! — повторила она и, прыгнув на топчан, сунула конфету в мой торопливо распахнувшийся рот.
На миг я ощутил тепло мягких бедер, запах духов, но она тут же и соскочила. Туда и дорога! Одним миром мазаны! Тоска скрутила меня: словно здесь, в моей мастерской, появилась тень человека, который в любой момент мог прокашляться и выпалить: «Ах, кофе? Конфеты? Было дело, мы ели и пили всю ночь!»
— Мне дышать не надоело, хоть печален наш удел. Жизнь — приятнейшее дело изо всех приятных дел! — внезапно донеслось до меня, а когда я медленно повернул к ней обиженное лицо, она приложила палец к губам и низким голосом детско-театрального волка провыла:
— И во сне и наяву-у с наслаждением живу-у-у-у!
— Ахматова? — отважился я. — Классная поэтесса!
— Маяковский! — серебристо рассмеялась она.
— Автор теории мотоцикла?
— Одоевцева! — серьезно сказала она. — «Ни Гумилев, ни злая пресса не назовут меня талантом. Я — маленькая поэтесса с огромным бантом!» — она процитировала это таинственно, страстно, и вдруг кто-то чужой выболтнул из меня:
— Слушай! Выходи за меня замуж, а? Стелла Агеева — неплохо звучит?
Слабый свет от свечи обтекал фигуру ее, на стене дрожала огромная тень. Отчетливо обозначились прямые острые плечи, узкая талия, расширение бедер. Рук не было видно, руками она обхватила плечи. Сосредоточенно изучал я тень на стене, пропуская светлевшую в полумраке натуру.
— Славушка-а! — простонала она. — Ты что хочешь: чтобы я — к плите и к пеленкам? Чтоб я? Не смешно?
— Все хотят замуж! — упрямо я возразил.
— Это тебе мама сказала?
Я уже не в силах был спорить. Я смотрел теперь на ее босые ступни. Размер двадцать два, честное слово!
— Ну, Секси, и нога у тебя! Поставь на ладонь!
И она мгновенно поставила. Посинеть можно, как легко это проделала! Эта махонькая ступешка вся уместилась в моей задубелой ладони механика. А поверхность подошвы — изнутри, из-под арки подъема — оказалась такой мягкой и нежной!
Сердце мое било как большой барабан. И весь я превратился в желание — огромное, торчащее, выпирающее…
— Зачем тебе Афродита? — слышу как будто во сне. — Отдай! Отдай ему Афродиту!
— Что? — шепчу я и прикасаюсь губами к ступне. Нет, это не рыцарский жест, это слабая попытка спасения.
— Она нужна не тебе, а ему, пусть и катается! А тебе нужна я-а-а! — шепчет она и с упора ладони ныряет в меня.
Ночь я проспал как убитый. Утром солнце светило, электричка, постукивая, катила по рельсам, все подозрения испарились. Но только отпер дверь, только на меня глянула Афродита, как сразу и вспомнились полночные домыслы. И ревность скрутила сердце. А Афродита глядела на меня так осуждающе, горько, что я понял одно: я не буду прощен. И в самом деле, обкатать ее не удалось. Только я ее выкатил — тут он и явился. Мне показалось, что на нем другой шлем. Пригляделся: вроде бы тот, но… он был больше размером! Что скрывалось под ним?
Я не стал уточнять. Даже куртка мне показалась шире обычной. Может быть, она и была той же самой, но… что скрывалось под ней?
— Бронислав! — заявляет он, надевая перчатки. — Бронислав!
Слышите, слышите? Не котик, не Славка, а — Бронислав!
— Бронислав! — говорит он, надевая перчатки. (Ох, и приятно же повторить! Повторю-ка еще!)
— Бронислав! — говорит он, надевая перчатки. — Сегодня ты обалдеешь!
И ведь будто ничего не случилось! Он появился, не бросив: Здорово! — он сразу сказал: «Обалдеешь!»
Не отвечая, я удалился. Его уроки пошли мне на пользу: ничего не стал уточнять, переспрашивать, нет! Вот просто взял себе и пошел!
Пошел, унося один секретик с собой. Клянусь, это был первый сознательный акт, первый секретик! Клянусь!
И только тогда стукнуло: да ведь он изменился! Он будто совершенно другой человек! Он сразу начал о деле вовсе не от злопамятства на меня! Всего-навсего был погружен в предстоящее дело!
Я уже был на вершине холма — чтобы «балдеть» с полным комфортом. Не могу сказать, чтобы, ощупывая в кармане мягкую пружину сцепления, я не испытывал угрызений совести. Замечу, что та пружина, которую я только что приспособил к своей мотоцикле, о-о, это была не пружина, а черт: жмешь, жмешь — никакого движения, вдруг — р-раз! — и метнулась, да тут же и стоп.
— Эй, Бронислав! — окликает он. — Видишь: я ни фига не волнуюсь! Я хладнокровен, как ирокез. Посмотри.
И он вставляет в рот бумажную трубочку, скрученную из газеты. По краям губы сжаты, в центре — узкая дырочка, в ней — бумажная трубочка.
— Я взнуздаю твою мотоциклу! И, как бы она не брыкалась, эта трубочка останется в целости! — он заявляет, и голос его звучит так гнусаво, что я не сразу добираюсь до сути. А как странно извиваются кончики губ, в центре которых вертится трубочка! — Как бы меня ни трясло, не сплюну, не сомну ее, Бронислав! Запоминай, Агеев, прием тренировки!
Прием мне известен, и он это знает. Неужели настолько поглощен предстоящей обкаткой?
Мне стало не по себе. Я уже собрался вытянуть из кармана ту мягкую пружину сцепления, как он:
— Запомни, Дуракеев: гибкий хлыст, стальная рука, стальная нога! Век живи, век помни Станислава Малокина!
Что толку напоминать ему, что фамилия моя звучит по-другому! Я разложил рыболовный стульчик, уселся.
— Нет, погоди! Спустись, Агеев, нужна малая помощь!
Он не смотрел на меня. Он скручивал новую трубочку. Возле ног его валялись останки пяти-шести прежних: изжеванных, мокрых. Что бы так волноваться?
Я подбежал к нему.
— Вчера заводилось неважно, — сообщил он, не глядя. Так говорят только в тех случаях, когда на карту поставлено все: он не смотрел на меня, говорил в сторону и будто ждал, что кто-то возьмет его за руку и отведет прочь.
Афродита стояла, опустив фару долу. Невинна. Из фары, казалось, закапают слезы.
Черный пузырь набух в моем сердце. Я сунул руку в карман.
— Подтолкни, Дуракеев! Дай ей по ж…!
Рука, в которой горела пружина, спустилась снова в карман. Другая легла на округлый задок. Но что тут случилось! Звук громоподобного выхлопа, вой разом взвившего двигателя. Афродита рванулась сторону от наезженной трассы.
То, как помчалась по кочковатой лужайке, с большущей натяжкой можно было назвать движением колесного экипажа: непредсказуемые виражи и зигзаги, прыжки вверх — блохой, вертикально, а приземления — только и только! — на переднее колесо, которое при ударе выкручивалось, егозя. Однако же Стас…
Надо отдать ему должное: это был жокей, акробат, укротитель! Его массивная фигура, заключенная в кожанку, обладала величавой инерцией и все время припаздывала: если Афродиту заносило влево, он зависал справа, она взмывала вверх — он вжимался в седло, она ныряла в колдобину — он воспарял дельтопланом. И тем не менее он держался и даже, кажется, кое-чем управлял!
Это зрелище заворожило меня. И когда этот вихрь взлетел вверх по холму, приближаясь, я замер, оцепенел.
Сильнейший удар.
И вновь, как когда-то, погас день, и красное золото воссияло в ночи. Гордо и сказочно проплыл мимо корабль с алым, туго выгнутым парусом. Потрясенный и онемевший, внимал я раскатам рокотавшего эха. О, Афродита!..
Стас сидел передо мной на коленях. В пыли. Прямой и стойкий как оловянный солдатик. В странной позе: на попе, а ноги, как у лягушки — назад, касаются бедер. Но самое главное — в губах его сохранилась трубочка!
Я еще сплевывал грязь, хлопал глазами, и в голове ещё грохотали громы, но бумажная трубочка, сохранившая первозданную свежесть, она смутила метя!
— Стас!
Едва взглянув на меня через стекла огромных лягушачьих очков, он принялся за перчатки, да как! Возьмется за мизинец — перейдет к безымянному, чуть приспустят — и к среднему… И это-то с мотоциклетными крагами!
Вроде все как положено: небо — вверху, под небом — дорога, на обочине — грязь. В грязи сидят Стас, элегантно снимает перчатки. И эта бумажная трубочка!
— Стас! — шепчу потрясенно, — ты не чокнулся? Что это?
Он наконец повернул голову. Посмотрел на мой палец.
Следуя ему, оглядел ноги. Выплюнул трубочку:
— Это? Йогическая поза героя. Помогает при ревматических боли в коленях, подагре и солевых шпорах.
— Стас! Но у тебя нет солевых шпор!
— Поза, единственная, может выполняться после обеда, принося облегчение при ощущении тяжести в желудке, — меланхолично он продолжает.
— Стас! — ахаю я. Угрызения совести терзают меня. — Ты же еще не обедал!
— Слышишь? — вдруг произносит он и прижимает палец к губам. Я затихаю. — Слышишь? Там кто-то поет!
Я слышу гул дальних моторов, даже урчанье у него в животе. Но чтобы кто-нибудь пел?
— Это — она, — говорит с невыразимой печалью, — твоя секс-бомбочка Стелла! С букетом сирени, она напевает стихи. «И во сне, и наяву с наслаждением живу!»
Боль в ладони приводит меня в чувство. Эта подлая пружина сцепления, она впилась в кожу, как клещ! А пальцы свело; дрожащие от напряжения, они все силятся выжать из подлой пружины ее подлую душу! Он читает стихи! Эти стихи!
— Мне дышать не надоело, я к пеленкам не хочу, жить — приятнейшее дело, а что далее — молчу!
Я беру свои пальцы свободной рукой и распрямляю их по одному. Пружина прилипла к ладони. Сколупнув ее ногтем, равнодушно наблюдаю за кровью, наполняющей линии-взрезы. Откуда он знает эти стихи?
— Отнеси Афродите! — протягивает он влажную кисть. Чтоб провалиться, это — сирень!
Кладу ее в рот. Рот наполняется горечью.
— Вижу девушку в серебре. Гордый стан, лебединая шея, гладкие выпуклости …
Отважно жую горькое лакомство. Запах сирени сводит с ума. И вдруг приходит догадка. Она удивительна, но это случается: он чокнулся тоже! Но если я, случается, вижу людей в их предстоящем, то он — слышит вне зависимости от расстояний и преград. Яснослышание — так называется это. Внимательно изучаю лицо его. Лицо ненормального. Слава Богу, у него лицо — ненормального! Ненормальное такое лицо! Братишка! Он смотрит за мою спину. Оборачиваюсь и вижу эту бесстыдницу-Афродиту. Он смотрит в упор на нее и бормочет странные фразы о кофе с конфетами и девушках с босыми ступнями… Догадка крепнет во мне.
— Стас, ты классно влупился! Это — не девушка в серебристом, просто-напросто мотоцикл. Тебе надо в больницу.
Иду к Афродите, поднимаю ее, не желающую подниматься. Подкатываю.
— Будем знакомы! — щурится Стас, и в руке его новый букет.
— Стас, очумел? Просто-напросто мотоцикл!
Он будто не слышит.
— Вы любите песни, стихи? Но замуж не хочется? Конечно, зачем становиться к плите, когда вокруг все поют и танцуют?
Кручу газ. Еще и еще. Треск мотора, клубы ядовитого дыма, вопли сигнала. На лице Стаса будто бы появляется напряжение. Словно силится что-то припомнить. Ну же, Стас, ну! Просто-напросто мотоцикл!
— Я волком бы выгрыз бюрократизм! — фальшиво, но с великим старанием запевает Стас на мотив гимна Союза. Глаза его голубеют. Неожиданно обнаруживаю, что он чертовски красив: он — черный, черные курчавые волосы, синеватый налет на щеках, глаза редкостной голубизны.
— Извините! — обрывает сам себя он, — дальше не помню. Однако там, дальше, там про любовь!
— Олл райт! Надо в больницу.
Однако он будто не слышит, будто не видит меня. Опускается на колено, протягивает Афродите новую кисть — тяжелую, обильно наполненную нежно-фиолетовыми цветочками.
Афродита склоняет свою длинную шею. Когда она ее поднимает, фара облеплена влажными лепестками.
Растерянно озираюсь. Афродита натарахчивает мелодию гимна. Стас томно вздыхает. Мучительное чувство третьего лишнего. Да что же это такое?
Опираюсь на руль, забрасываю ногу в седло и… отлетаю под мощным ударом. Афродита умчалась.
— Куда же вы! — жалобно вскрикивает Стас и бежит
вслед за ней.
— Только ласково, только с нежностью! — выкликаю я и тороплюсь за ними обоими.
Стая ворон с хриплым граем взвивается в небо, бешеный смерч возникает из ничего и крутит в воздухе мириады песчинок, и в который уж раз грянул гром в совершенно безоблачном небе.
— Только мягко и бережно! — Раскаленный воздух схлопывает слова, я так быстро бегу, что обгоняю его.
— Стой! — кричит Стас, видимо, мне. — Куда же вы? — видимо, его. — На место, щенок! — а это кому?
Тучами несутся мириады песчинок, вихрем кружат черные вороны, плавно проплыла в высоком траве Афродита, мягко притормозила в ромашках, чуть постояла и улеглась.
— Только ласково, только с нежностью! И без обмана! — Я подскочил первым. — Какая приятная неожиданность, какие травы, какие цветы! — выкликаю я торопливо.
— Ф-р-р! — отвечает она, а сзади уже слышится дыхание Стаса.
— Мы любим сирень, любим стихи! — быстро говорю я.
— И мы еще любим кроссить. Быстрее всех, красивее всех! — горячо я шепчу и поглаживаю, и поднимаю, и устанавливаю, примеряюсь…
— Пошел! — слышится вопль.
Афродита вздрогнула и ринулась прочь. Как я оказался на ней — не могу объяснить, Может быть, это я сначала оказался на ней, и она из-за этого ринулась прочь, может быть, я потом оказался на ней, испугавшейся окрика Стаса, — впрочем, какое это имею значение в тот момент, когда она перемахивала через замершего от ужаса Стаса?
Она перемахивала через него, и, увидев его распахнутый, как бездонная яма рот, я успел подумать только о том, что такого прыжка ему вовеки не выполнить. И что все его хваленое мужество улетучилось через это ротовое отверстие. И что глупее мужчины с разинутой прорехой на физии ничего не бывает.
Все это промелькнуло в моей голове в течение микросекунды.
Ибо в следующую микросекунду Афродита уже была далеко, а в моей голове мчалась новая мысль: отчего это она так далеко? Стас, кажется, рядом, а она, кажется, далеко.
— Поза распластанной жабы, — обронил он, опускаясь в траву. Он лег, устремив в небо: волевой подбородок, крепкий нос, выпуклый лоб.
— Черт с тобой! — сказал он, глядя в небо. — Предлагаю обмен: я тебе Стеллу, ты мне — свою мотоциклетку.
Я пластался на брюхе, Руки, ноги раскинуты в стороны. Как я мог ответить ему? Я стал подниматься.
И в этот момент послышался рокот. В руках моих словно пробудилась исполинская сила. Я вскричал: «А фига не хочешь?» — и, когда она проносилась мимо меня, отжавшись и оттолкнувшись руками, ногами, я взвился в небо, чтобы опуститься в седло, летящее подо мной.
Если бы…
Если бы я опустился в седло?
Повторяю: в мышцах моих пробудилась исполинская сила, я взвился в небо, и взгляд мой, подобно щупальцу осьминога, намертво присосался к седлу; падая, я устремлялся точнехонько в его эластичную вогнутость, но… что-то случилось.
Что-то случилось невероятное. Как если бы Афродита сознательно решила оставить меня в дураках (да, меня!!!). Впечатление, что она вильнула задком в самый последний момент, до этого вводя в заблуждение прямолинейностью хода, — согласитесь, невероятная акция!
Проще поверить в гипнотическую силу Стасова взгляда… Как бы то ни было, со всего маху я шмякнулся оземь, ноги разъехались, и ладони раздернуло в стороны. «Поза распластанной жабы!» — услышал я комментарий человека, безмятежно изучавшего небо.
Разумеется, я промолчал. Суставы мои не болели — вопили от боли. Я лежал животом на земле, пускал пузыри в дорожную грязь, но физическое унижение было ничем перед унижением духа: неужели и она меня предала?
— Тусуем? — утверждал отдыхающий, загорающий человек. — Я тебе Стеллу…
Чувства вскипели внезапно. Будто миллионы иголочек вонзились в дремавший мозг, перед глазами задрожало пятно — пушистое, желтое… солнце?
— Поверь, отдавать Стеллу тоже несладко! — бормотали рядом со мной.
Нет, чувствам поддаваться было нельзя! Нужно было все взвесить, нужно искать варианты. Легче легкого было послать его на …, но Стелла! Но Афродита!..
Овладев собой, я обнаружил, что пушистое солнце, ужавшись в размерах, сгустилось в зеркальный отблеск от фары, что грохот в ушах шел от работы мотора, и суставы ломило не столько от удара о землю, сколько оттого, что на мое распростертое тело наехало колесо. Афродита!.. Она, наблюдая, склонила ко мне свою любопытную мордочку. Какого решения она ждала от меня? А она ждала, несомненно!
— Хорошо! — сказал я. — Не сейчас! — сказал я. — Я подумаю! — смазал я, — Они сами решат.
Да что же это такое? Почему они все, все так и льнут к нему? Грубому и циничному? Даже моя Афродита, которая жизнью обязана мне, и она словно с ума сошла от властного обаяния этого себялюбца! Разве неясно, что игра, в которую он затягивает, ведет к одному — разрушению?
Слепцы! Они не ведают, что творят, не знают, что их ждет впереди.
Я, впрочем, своего будущего тоже не знаю.
Я делал свой мотоцикл, чтобы выступить в мотокроссе. Зачем это было мне нужно? Я ведь — механик. Но был в моей жизни заезд. Стас тогда работал на мотоциклах с колясками, и однажды калясочник ушел от него накануне заезда. Он спросил: поедешь? Тут еще надо учесть: я тогда был допризывник, ему уже было за тридцать. И он уже был столько раз чемпионом, сколько у годовалого бывает молочных зубов. А когда у меня еще были молочные зубы — к слову сказать, он уже и тогда был чемпионом!
И вот он говорит:
— Вот нас двое. Ты — колясочник, я — за рулем. Коляска, не жестко скрепленная с корпусом мотоцикла, болтается, как … у голого бегуна. (Ну почему он так и норовит украсть крепким словцом свои речи, когда рядом стоят девушки? А они и стояли неподалеку в этот момент, это я их привел, и мне стало стыдно на миг. А им?) Коляска, — Стас продолжал, — живет как бы сама по себе, и в этом, — тут он стал говорить уже только мне, на время отключившись от девушек, — твое счастье, твой кайф! Мы работаем так: я, клоня руль, ловча газом и щелкая передачами, намечаю контур движения. Ты же, — глаза его засверкали, он приблизился, наклонился ко мне, и я слушал завороженно, — ты же, стоя на полусогнутых, подпрыгивая и пружиня ногами, оседая то вправо, то влево, правишь путь собственным весом! И мы несемся, как вихрь! Мы — кроссмены, образцовая пара, мы работаем… — Тут он опять вспомнил о подружках моих, покосился, я хотел как-то вступиться, но он: — Мы работаем с синхронностью парочки, — он поймал их вспыхнувшие вниманием глазки и подмигнул, — в процессе любовного акта! (Наконец-то! И Таня, и Нина, обе синхронно! — вздохнули, вздернули плечики и направились в поле.) Мы работаем с синхронностью кузнецов! — продолжал Стас с напором, но девушки не обращали внимания больше, и он опять стал говорить только мне: — С синхронностью кузнецов, из которых один споро подсовывает и поворачивает, другой — вовремя бьет! — вот так он воскликнул и уставился на меня. Скорее всего то, что было написано у меня на лице, удовлетворило его, и он, подмигнув уже мне, — вполне свойски закончил: — И тогда, котик, нас победить невозможно!
…И вот первый в моей жизни заезд. Но на старте, в сумятице уже первых секунд, нас вдруг тряхнуло, и еще, и еще. Я завис в воздухе, растерялся, и пальцы мои вдруг зашарили в пустоте: произошло невозможное жуткое, из коляски я выпал!
Никто не расскажет, кто из накатившей мотолавины, рискуя собой, обогнул меня, вывернул руль («Идиоты!» — назовет таких Стас), а кто не сумел — наподдал, переехал; в этом ревущем хаосе я вертелся как щепка в волнах океана, но тут страшной силы удар — через шлем — меня вырубил, и замолчали болельщики: тишина, багровый туман.
И показалось, что очнулся я через вечность.
Но очевидцы сказали, что не отсчитали и десятка секунд, когда он вернулся за мной. Да, очнулся я от ощущения Стаса. Он вернулся, весь дышащий гонкой, он рявкнул с высоты мотоцикла:
— Что, блуждающий противовес, отвалился?
И мгла сразу рассеялась. Захотелось что-нибудь сделать ужасное. Зарычать. Завопить — дико в яростно. Вскочить и ударить.
— Как, как ты сказал?
— Аллес! — скомандовал он.
«Аллес!» — команда дрессированным кошкам!
— Аллес! — будто щелчок бича. И — кивок в сторону трассы.
Как это случилось? Почему я не выдал ему? Почему, каким образом оказался снова в коляске?
Что было дальше — не помню. Помню только нескончаемость этих минут, и что боли — совсем не было. Единственное, чем я держался, это страхом выпасть опять и пережить все сначала.
А когда наконец прикатили, я не сумел выбраться, так и осел, и те слова, которые обо мне говорили, когда тащили на носилках, они не достигали меня. А слова эти были ужасны:
— Как он? — Пустяки, оклемается! — Как же случилось? — Разиня! Маменькин сын! — А по виду не скажешь: здоровый, горластый! — Разиня! — Просто опыта не хвата! Молод еще! — Вот-вот: половое созревание не закончилось!
Лишь позже, в больнице, уяснил я смысл этих слов. Кто их говорил? Может быть, и не Стас, но он был рядом! Да, рядом, и он не вмешался! А рядом ведь были и Нива, и Таня!
Вот тогда я и решил сделать свой мотоцикл и выступить сам. Вот зачем мне была нужна Афродита!
— Мастер! — обращается он. И, надо сказать, — это трогает, это звучит! — Ты свое дело сделал! Теперь отступи! Твой характер — не гонщицкий! А, я на твоей Афродите их сделаю всех!
Разве нет в его словах правоты? Я — мастер, и это неплохо звучит! Он — кроссмен, пользователь, только лишь — пользователь! Я — крестьянин, выращивающий урожай, он только едок, потребитель. Воин, если хотите. Воин, отбирающий урожай у другого. Поменять нас местами? Увы! Мое дело — мастерить, созидать, его — потреблять. Отбирать под угрозой меча. Черт побери, до чего же это печально звучит! Вся печаль мира в его правоте!
И я задаю последний вопросик. Из тех, на засыпку. Я говорю, отведя глаза к занавескам:
— Стас! Ответь, но так, чтобы я поверил тебе! Если поверю — считай, по рукам! Признайся: ты тогда подслушивал нас? Или ты… Или же у тебя… Или ты слышишь, скажем, на расстоянии? Говорят, некоторые обладают такими способностями.
— Какие способности, что с тобой? — он отвечает и опрокидывает в себя полфужера. — Эй, зачем было подслушивать? — восклицает с кавказским акцентом. — Достаточно было просто узнать у нее самой, дарагой!
Он вытянул весь коньяк, он пожевал лимонную корочку, он наливает по новой. А я чувствую: врет! И мне хорош от того, что я чувствую: врет! В самом деле, если уж у него проявились такие способности, то никогда он не станет распространяться о них! «Чокнутый» — я могу это вынести. Он — ни за что!
Мы сидим в кафе (за его счет!), пьем коньяк (он разливает!), прихлебываем из маленьких чашечек кофе и тыкаем соломки в мороженое (он очень старается угодить!). И у меня вдруг— все прекрасно сложилось!
Убежденный в том, что все на свете имеет благополучный исход, я говорю ему:
— Ид-дет! Догов-ворились: я дар-рю тебе Аф-фродиту!.. Но! Н-но, н-но, но, но! Стел-лу, я гврю, не беру! Она с-с… Она сама сделает в-выбор! Р-р-решили, и точка! Точ-чтса!.. Аф… Аф… Ф-фродиту бсплатно, д-р-рю!
Я выглядел здорово пьяным. Ему пришлось попотеть, пока он меня втаскивал на пятый этаж моего родного дома (без лифта). Только перед прощанием он усомнится, настолько ли я пьян, и тогда я, приставив палец к губам, Стеллиным таинственным шепотом заключил:
— С-с-слово мжчины! Д-р-р-рю! За Стллу же буду бброться! Н-н-но… Но зачем тебе Аф-афр-афрдита?
И тут он сплоховал. Оп растерялся. Он заорал:
— Слушай! Я никогда ни о чем не просил! Но сейчас! Если ты, падло, заставишь меня это сделать, со мной будет истерика!
— Н-не надо! — перебил я его властностью человека, решившего, что ему хватит, и закрывающего рюмку ладонью.
— Д-р-рю! Н-нпоминаю только о ее г-г-грдом характере!
— Гибкий хлыст! — завопил он в ответ. — Стальная рука!
— М-мжет быть, м-мжет быть! Н-но не слишком Вы г-грубы для дамы?
— Стальная нога! — заорал он так громко, что с потолка посыпалась штукатурка, а за соседней дверью зашебуршали цепочкой.
Ну что же, он сам так решил! И я с такой пьяной убежденностью мотнул головой, что и в самом деле чуть не упал.
— Д-р-рю — сказал я и ввалился в квартиру.
Я сдержал свое слово и потом долго о них ничего не слыхал. Но сколь ничтожно может быть удивление алчущего алкоголика, на голову которого падает с неба бутылка, по сравнению с тем, что я испытал, когда встретил их. Через четырнадцать лет мои прозренья сбылись!
Тарахтя, на пригорок взбиралась… перенагруженная, погрузневшая, с объемистым задом и покрышками толстыми, в варикозных извилинах… Афродита? Стас, согбенный тяжестью пузатого вещмешка (картошка?), брел рядом, держа ее под руку.
— Стас! — крикнул я. — Ты что, бросил кроссить?
Услышав меня, он затоптался, оглядываясь. Вдруг пошатнулся так, словно получил неожиданный пендель под зад. И побрел. Из кармана брюк, обтянувших его толстые ляжки, торчало горло бутылки. Его брюхо свисало над бедрами, лысина венчала располневшую голову… он был жалок и стар!
— Афродита! — я крикнул. — Что ты с ним сделала?
Несомненно, это она лягнула его! Несомненно, она меня слышала! Невозмутимо она продолжила путь.
И тут следим за ними на пригорок взлетела стайка из семи крошечных мотоцикликов. Длинношеие, они были одинаковы: поблескивали веселые спицы, серебрились округло задки, лукаво светились желтые фары. Да, они были все как она — Афродита! Только руки и ноги у них были от Стаса — стальные.
Они были очень красивы, эти близняшки, и все — на одно лицо.
Однако для мастера такое увидеть убийственно: пошлость, штамповка!
Схватившись за голову, я провожал взглядом жужжащую кавалькаду. Утро выдалось теплое, славное, с внутренним солнцем в тумане, и, повинуясь спокойной радости утра, я поднял с земли тоненький прут. Гибкий хлыст?
Песок оказался влажно-покорным. Водя прутиком туда и сюда, стирая ладонью и приминая негодные линии, я вырисовывал силуэт. Новая мотоциклетка должна быть маленькой, юркой, быстрой в разгоне… Назвать ее Стеллой?
Тут колыхнулись две темные тени: одна от меня справа, другая по левую руку. Было жарко, но те, от кого шли эти тени, были, похоже, одеты то ли в плащи, то ли… — да, ткань стекала от округлых плеч к ногам вольно, просторно — в халаты. На головах — прямоугольные тени от шапочек.
— Одну минуту! — заторопился я, пытаясь запомнить те линии, которые вспыхнули для меня на песке. — Подождите минуту!
Но они уже наклонялись ко мне…
Стелла?
Я видел ее за несколько дней до санитаров в халатах. Я встретил и признался ей — первой, единственной! — в своей странной особенности. Не дав ей раскрыть рта, я оттарабанил все то, что видел в прозрениях о ее сегодняшней жизни — тогда, четырнадцать лег назад. Затем поспешил сообщить о том, что узнал о ее будущем. Она и сейчас была не в порядке, впереди я обнаружил жуткую яму. Выворачивать руль нужно немедленно, бесповоротно! — так я считал и так ей объяснил. Вот для чего я раскрылся.
И она мне поверила. На удивление просто, легко, с ясной улыбкой. И пообещала, что обязательно примет необходимые меры. Обдумает хорошенько — и примет. Пока, до свиданья! — сказала она.
— Смотри же! — сказал я сурово. — Это очень серьезно.
И я решил никому не рассказывать, какой увидел ее. Может быть, она и сумеет еще вывернуть руль, не будем мешать.
Что вы спросили? Ах, это! Не хочу и думать о том, кто накапал на меня в психбольницу. Не хочу и не верю. Прощаю.
А по мне, так литература делится на сообщительную и энергетическую, условно, конечно. Критерий энергетической литературы прост: ее хочется перечитывать. Она вводит структуры души в автоколебательный, резонансный режим. Смеешься ли, плачешь ли, ужасаешься — все это следствие размашистых, очищающих колебаний души.
Сообщительную литературу читаешь с интересом, может быть, большим — если несет она действительно новое, захватывающее сообщение для второго прочтения обычно ее не хватает (если, естественно,
все понял при первом). Зато своевременная сообщительная литература расходится мгновенно и огромными тиражами, тогда как литература энергетическая нуждается в читателе подобного тебе настроя души.
Александр Жулин.
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».
ПИВОСОС
Записки уставшего
Я остался один.
Неудобно признаться, но перед штормом у меня сохнет в носу, я чихаю, сморкаюсь, из глаз текут слезы… Я предупреждал их, товарищей по команде, я настаивал и ругался, чихая, а они верили радиосводке, они ржали, будто пираты над струсившим пленным, они отпихивали спасжилеты, которые я совал в их изнеженные, интеллигентские руки, они тыкали пальцами в направлении сонно-спокойной воды, и, в конце концов, ради шутки столкнули за борт меня.
Но только столкнули, как это и началось.
Поднялась невероятной мощи волна и, словно щепку, забросила яхту до облаков, затем потянула вниз, вниз, за собой, в мрачно-свинцовые недра свои… Парус свалился, поплыл красной тряпкою по волне… борт накренился, черпнул и… все было кончено. Лишь красная тряпка, еще какое-то время влекомая спиральной струею воронки, оставляла надежду… Нет, не выплыл никто.
Я остался один.
Беспощадные волны швыряли меня как чаинку крутясь и барахтаясь, отбиваясь от натиска вод, я вел бой один на один против рассвирепевшей стихии, и если бы не спасжилет…
Очнулся я на теплом, белом песке.
Надо мной звенело птицами небо, мягкие волны лизали прибрежные гладкие камни, и над зелеными кронами дальних деревьев висела туманная дымка. Невдалеке одиноко стояла хибара.
Отвязав спасжилет, я направился к ней.
Никто не окликнул меня, не замычал, не заблеял, я вошел в хижину. В центре рос из земли пень, на его гладком просторном срезе лежали нож, копченая рыбина и картонный пакет к форме тетраэдра.
Никаких сил не было ждать хозяев.
Воровски я срезал угол пакета — о, чудеса, пиво!
Обливаясь от спешки, жадно припал — и не смог оторваться, одним глотком осушил тетраэдр до донца. И, волнуясь, вспорол ножом жирную кожу— брызнул пахучий соленый сок: я уничтожил рыбину за секунду.
И вновь захотелось пить.
Оглянулся вокруг и обомлел: кто-то смотрел, кто-то наблюдал меня, блестя возбужденным глазом из щели стены.
Первобытный инстинкт сработал мгновенно: я отпрянул, упал на бок, кувырнулся, отполз, в руке сам собой оказался нож.
Прислушался: точно, за стеной кто-то был! Быстро и шумно дышал внизу, у земли.
И беззаботно свиристела пичуга, шевелились безразличные воды, светило сквозь прутья веселое солнце!
Оттолкнувшись, как кошка, всеми конечностями, я прыгнул, приник к щели — и тотчас с той стороны шарахнулось небольшое и ловкое тело! И замерло в отдалении.
Мягко ступая, почти не дыша, я проследовал вдоль стенки и остановился, прислушиваясь.
Донесшийся хруст листвы засвидетельствовал, что преследователь повторял весь мой путь.
Я прыгнул к другой стене — там, на воле, словно что-то обрушилось, треск сучьев, стремительный шелест, огибающий угол с той стороны, и вновь кто-то замер, дыша по-прежнему шумно и часто, и, казалось, наблюдая меня.
Тогда, передвигаясь изломанными рывками и затихая время от времени, чтобы послушать, я подскочил к двери, свитой из прутьев, пнул ее резко и сразу выбежал. И мгновенно обернулся к врагу.
Никого.
— Эй! — крикнул я. — Кто там есть? Выходи!
И обомлел: из хижины, только что оставленной мною, выходил человек.
Я, растерявшись, спросил:
— А где собачка?
— Какая собачка? — быстро откликнулся он и облизал языком, острым и серым, бесцветные губы. — Нет здесь собачки! — повел шеей, как если бы жал воротник.
А на меня напала невероятная дурь.
— Такая собачка, — идиотски заспорил, — лилипуточка на ножках-тростиночках. Куцый хвост и шерсть — словно поросль мха. Но очень породистая. И все время поскуливает и дрожит.
— Нет здесь собачки! — тут же возразил человек и мелко сплюнул. — Никогда не было и не будет! — повел шеей, вытягивая ее из будто бы тесного воротника.
— Мерзкая собачонка такая, беспрестанно подглядывает и трясется, полаивает и сипит, такая махонькая злобная собачонка!
Он снова сплюнул, облизал бесцветные тубы.
— Нет! — закричал громко, упрямо. — Нет здесь собачек!
И только тогда я вдруг осознал никчемность своих слов и подивился тому, как легко человек ввязался в бестолковые пререкания.
И только тогда пригляделся: да что же за человек такой? Пустынное место, дикая хижина, песок и жара, а он — в городском полном костюме, даже при галстуке, в закрытых черных и пыльных полуботинках! И быстро-быстро мигает, сплевывает безостановочно, после чего высунет на миг
язычок, проведет им по бесцветным губам и тут же спрячет его.
Только этого не хватало!
— Яхта, шторм, ураган, все утонули, я спасся! — внятно проговорил я, пытаясь донести смысл сказанного до его сознания, по-видимому замутненного.
— Нет здесь собачек! — твердо ответил он и, взглянув на меня, вздрогнул и, опустив глаза, мелко сплюнул.
— Я был голоден, — сказал я, — я съел вашу рыбу. Извините, но пиво я тоже выпил.
— Пиво! — пробормотал он, и в глазах его что-то блеснуло. Опустив голову, постоял, подрагивая ножкой, и неожиданно пошел на меня вперед темечком. Лишь в самый последний момент я успел отшатнуться, пропуская его; он прошел рядом, не глядя.
— Послушайте! — крикнул я. — Есть здесь еще люди? Что это — материк? Остров? Есть ли поблизости город?
Он уходил, то быстро перебирая ногами, то замедляя шаги, но неровность походки его вряд ли была связана с тем, что, может быть, он обдумывает факт моего появления.
— Какое сегодня число? Кто вы? — кричал я в отчаянии; вдруг догадался спросить: — Где вы берете пиво?
Он тут же встал, как будто врезался лбом, медленно повернулся ко мне.
— Пиво? — переспросил.
Я изумился: тусклые глаза его вспыхнули.
— Пошли! — вскричал я. — Угощаю!
Без сомнения, уловка моя была гениальной! Он как-то весь оживился, будто помолодел даже, и повернулся — точно! — он повернулся в сторону гор.
Но эта собачка!
Она неожиданно выскочила, устремилась к нему, он побежал, она догнала, запетляла меж ног его, то пробегая вперед, то путаясь сзади. Внезапно изловчилась и тяпнула его за каблук и отскочила, но он так одержимо бежал, так одержимо! И тогда она снова напала, подпрыгнула, вгрызлась яростно в голень, вновь отскочила. Я успел углядеть лоскут вырванной ткани, дыру в брючине, в ней — белое мясо, которое тут же окрасилось кровью, а он все бежал, в таком паническом ужасе!
Внезапная тоска охватила меня.
— Брысь! — заорал я. Схватил камень, запустил им в собачку. Но она, словно только и ждала моего нападения, мгновенно крутанулась и понеслась на меня, припадая к земле, и в глазах ее было столько ненависти!
— Стой! — гаркнул я устрашающе — откуда и взялось столько ярости, столько мощи! И она замерла в каком-нибудь от меня метре. И злобно уставилась, подрагивая. Потявкивая от ожесточения, от желания броситься и от невозможности — то ли страх, то ли что-то еще ее сдерживало.
В сущности, собачка казалась совсем не опасной — малютка! Но сколько ярости! Было ясно, что драться с нею придется всерьез и, может быть, долго, до смерти, быть может, Я приготовился, и тут на меня накатила усталость.
Пиво, жирная рыбина — желудок мой еле справлялся с обилием пищи; я не мог ничего поделать с собой и вдруг осел. Прямо там, где стоял.
И провалился в неожиданный сон. Так, будто со мной все это уже было когда-то.
Очнувшись, обнаружил себя в хижине. На пне-столе лежала новая копченая рыбина, стоял пакет-тетраэдр, рядом нож. Только сделал движение — из угла поднялась женщина. Она была приземиста, коротконога, задаста. Встав надо мною, принялась разделывать рыбу. Перед моими глазами круглились плотные, точно старинные ножки буфета, икры. Я подумал: с такими ногами, с огромными такими руками она свободно пройдет сто километров со мной на плечах. И шея ее была точно такой же — короткой и по диаметру — как голова. Такими же круглыми, необъятными были спина, груди, живот. Она вся была очень крепкая и очень спокойная от сознания своей крепости, и
столь же крепко, спокойно мы зажили с ней.
О прошлом я напрочь забыл.
На берегу постоянно теплого моря, среди яркой зелени, жаркого солнца и радостных птиц я очень скоро перестал спрашивать, где мы находимся, какое сегодня число, что будем есть, делать. Солнце вставало, и я падал в плотную соленую воду, ощущая здоровье и торжество от осознания жизни в себе. Ловил слегка рыбу, для интереса развел огородик. Женщина кое-когда уходила в горы, взяв с собой связку наловленной рыбы; возвращалась через несколько дней, принося пиво. Я никогда не допытывался, что там, в сизых горах. И думать не думал отправиться с нею. Зачем?
А иногда набегали друзья. Это были друзья боевых, мальчишеских лет, того блаженного времени, когда не всегда знаешь, чем бы заняться, и можешь весь день проваляться с Даниэлем Дефо вместо Толстого, а можешь, внезапно сорвавшись с дивана, рвануть во двор, на улицу, в мир, полный романтики, и выкинуть нечто такое, что нельзя объяснить крепкомыслящему, румянощекому участковому.
Друзья набегали, раскупоривая пузыри кубинского рома, этого настоящего пиратского пойла, разливали в стаканы, разбавляя сорокаградусной водкой, закуривали непременные крутоизогнутые пиратские трубки. И вспыхивали пиратские песни.
Идут суту-улятся, вливаясь в у-улицы, и клеши но-овые метут асфа-а-альт!
Песни звали на подвиги, И спешно снаряжался корсар. Координаты? Двадцать два градуса северной широты и сорок градусов «Московской особой»! Курс? Зюйд-зюйд-норд-вестерн! Эй, на палубе, гром и молния Ка-анцы! А-атдать!
Отдали! Хорошо пошло!
А-ани идут туда, где можно без труда!..
Ревет в бухте прибой, ревут в таверне пираты, настоящие волки, просоленные морскими ветрами, йо-хо-хо! Вон впереди наша терра инкогнита! Во-он светит остров сокровищ! Во-она богатый купец! На-а а-абордаж!
Хорошо пошло!
В таверне шум и гам, и суета, суета! Пираты забавлялись танцем Мери. Не танец — их пленяла красота, ой ли!
Х-хорошо!
Утомленный, удовлетворенный наполненный, я падал в песок, осыпаемый брызгами волн. Засыпал, вдыхая запахи водорослей и корабельного дегтя. Просыпался под звездами, раскрывал объятья своей просоленной Мери, самой красивой и самой единственной на этом острове женщине.
С гор она приносила рассол. Мечта капитана.
А однажды вернулась с транзистором. Я включил без особого интереса. Какой-то футбол.
И тут откуда-то вынырнула эта собачка.
С того первого дня я больше не видел ее. Не видел, не интересовался. А тут она объявилась. Стремглав выскочила из-за куста и кинулась на транзистор, залившись таким яростным лаем, что уж на что я теперь был спокоен, а сейчас взволновался. И чтобы шугануть ее, повернул ручку на полную громкость. Что здесь случилось! «Спартак» бьет пенальти, собачка захлебывается, трибуны вопят, женщина моя, моя Мари куда-то исчезла, и, будто он только этого и дожидался, является поплевывающий человек. Все в том же строгом костюме, все так же помигивает, крутит шеей и озирается.
— Какой счет? — сплюнул, лизнул свои губы, уставился.
Я лежу на песке, он — надо мной. Лает собачка, Черенков бьет пенальти, промахивается, трибуны орут. Неизжитый инстинкт мешает лежать, когда над тобою стоят, и все во мне возмущается. Забытая злобность вскипает во мне: этот тип, суетливый и жалкий, вызывает у меня отвращение.
— Эта хижина, это убежище, в котором я поселился, это ты его строил? — пытаюсь сдержаться. Ищу верный ход.
— Да! — он отвечает и сплевывает, в то время как голова его качается из стороны в сторону: нет, нет, не я!
— А женщина эта — не твоя ли жена?
— Да! — кричит он. — Но какой счет? Черенков не забил? Да! — снова орет, — это именно что моя женщина, да! — И высунув остренький язычок, лижет губы: — Да!.. Да!.. Да!.. — а голова по-прежнему качается быстро, споря со словом.
— Она сама позвала меня! — отчего-то оправдываюсь. И сажусь. А он тут быстренько отпрыгивает от меня.
Сидя, смотрю на него, чувствую, что должен что-то сказать, на что-то решиться, как-то напасть на него. Но встать, встать необходимо для этого!.. Трудно мне встать отчего-то.
И эта собачка!
Понемножку начинаю перемещать тяжесть тела, готовясь. Дохожу до чрезвычайно неловкого положения, из которого можно выйти лишь резким движением, и замираю: настороженно он за мной наблюдает, Готовится задать стрекача?
Этот человек мне, такому сейчас крепкому, такому спокойному, он мне противен, не страшен, но в меня вдруг вползает страх, непонятной природы, глубинный страх — видит Бог, не перед ним!
— Это твоя собачка? — говорю я, чтобы сказать что-нибудь, чтобы усыпить его бдительность.
— Какая собачка? Нет здесь собачек! Терпеть не могу я собачек! — орет он и пятится от меня.
Собачка между тем заливается возмутительно, транзистор грохочет, и куда подевалась моя защитница-женщина?
Однако отпускать его было нельзя. Я быстро вскочил, он кинулся прочь. Я догнал, грубо сбил его с ног. Он забарахтался, извиваясь на сухом белом песке. Собачка бросила брехать на транзистор, запрыгала вокруг нас, скуля и потявкивая от нетерпения вонзить во что-нибудь свои острые мелкие зубы. И тут он чуть было не вырвался, пополз от меня. Я навалился всей своей тяжестью, прижал своим телом к песку, схватил и вывернул руку. Он изогнулся, лицо его оказалось рядом с моим. И, глядя мне прямо в глаза, он закричал с неестественной страстью, будто бы спор шел на смерть, и орущий рот его оказался в сантиметрах от моего рта:
— Нет здесь собачек!
— Кто ж тогда лает? — хрипя, спрашивал я, едва удержавшись, чтобы не укусить его в рот.
— Это не собачка, с чего взял? Это — жена!
И тут он вздрогнул и затряс сильно ногой: я понял, что собачка вонзила в него свои зубки. Не давая опомниться, бодая лоб в лоб, я заорал в его пасть:
— Собачка! Собачка! Собачка!
А он, до этого тугой и живучий, он вдруг расслабился — точно расплылся. Я ослабил давление — он лежал подо мной кисель киселем. Вскочив, я замахнулся ногой на собачку. Если б попал, ох, и досталось бы ей! Но она отскочила, как ветром сдуло ее.
— Кто ты? — спросил его я.
Он не ответил. Лежал безучастно и вяло. Я понял, что больше не смогу и пальцем тронуть его.
— Ну что? — сказал из последних запасов упрямства. — Видишь: это собачка! Смотри, какая породистая, какая красивая. Как больно укусила тебя!
Он жалобно смотрел на меня и молчал. А мною овладело садистское чувство. Я больше не мог бить его, давить, хватать, но зацепить, подковырнуть его словом очень хотелось. И слова появлялись — я сам удивлялся: откуда? — такие они были меткие, безошибочные. Я наслаждался.
— Запомни! — говорил я ему. — Друзья провожали тебя в открытое плавание, кого взял ты с собой? Ну? Отвечай! Эту собачку! Паршивую, дрянную собачку!
Он дернулся, крутанул шеей, сплюнул и быстро облизал языком губы. Ух, как противен!
— Ты сам пренебрег крепкой, спокойной женщиной, тебя прельстила природа! Красивое, бесполезное существо, которое разве и годится на что, так это — позабавить друзей!
Что говорил я? Не знаю. Слова мои били в цель!
Но тут вновь объявилась собачка свернулась калачиком вокруг шеи его — между прочим, не переставая потявкивать! — а он зарылся в тщедушное тельце лицом!
Что-то мешает мне продолжать, Тяжелая капля падает на затылок, добирается через волосы до кожи. Я вздрагиваю. У меня вдруг резко, до боли сохнет в носу. Чувствуя преддверие шторма, я кричу ему:
— Говори! Говори, кто ты есть! Кто эта собачка?
Он бурно хохочет в ответ. Визгливо, как-то по-женски скалит серые зубы. Как так случилось — я не пойму, но это уже я лежу навзничь, и нету сил вырваться, потому что он жмет меня. Я гляжу в небо: невероятно, но тучи заволокли его, и птицы летят боязливым полетом, густыми ударами
ветер их сносит, летят листья, бумага и всякий хлам. И неожиданно синим сполохом метнулась зловещая молния, бешено стеганули длинные струи, все вокруг охватило журчанием грязных ручьев.
— Поднимайся! — услышал я.
— Но ты меня держишь!
— Немедленно поднимайся! — громом вторили тучи этим словам, вспышки молний освещали искаженное злорадством лицо, в грохоте и блеске холодного, иссиня-белого света я перестал что-либо понимать.
— Пивосос! — Поток тяжелой воды ударил в лицо. Я задохнулся, чихнули мигом очнулся.
Над самым ухом надрывался транзистор, с улицы через окно доносился заливистый лай, надо мной стояла жена с кувшином в руке.
— Пивосос! — визгливо говорила она. — На чистом диване, в костюме, в ботинках? И галстук не снял!
Неизжитый инстинкт мешает лежать, когда над тобою стоят. Но все во мне возмущается, забытая злобность охватывает меня, ах, как не хочется мне подниматься!
— Сын двойки таскает из школы, в туалете бачок прохудился, и денег нет на меховое пальто, а квартиры нам не видать, потому что надо искать ходы-выходы, а не дрыхнуть!
— Значит, не собираешься полы циклевать? — Блестя настороженным глазом, жена наблюдает за мной.
Ослабив воротничок, который безжалостно тер, я взглянул за спину жены: на полке стояла модель непотопляемой яхты с впечатляюще алым килем — друзья подарили на свадьбу! «Непотопляемая» — с горечью прочитал я название.
— Весь дом заражен тараканами! — часто и шумно дыша, жена оскалила мелкие, острые зубы.
Как они ржали, друзья-прозорливцы, желая нам счастливого плавания! Где ты, моя крепкая, спокойная женщина с ногами плотными, круглыми, точно ножки буфета?
— Тяф-тяф-тяф! — услыхал неожиданно я. Жена кинулась на меня, в глазах ее вспыхнула ненависть.
Бросился к двери. Как по заказу — звонок!
— Рыба нужна вам? — На пороге приземистая, коротконогая женщина. Ее руки были огромны, и в этих огромных руках возлежала огромная копченая рыба-вкуснятина!
— Тяф-тяф-тяф! — звучал настигающий лай.
— Кто ты? — воскликнул я в полубеспамятстве от остроты ситуации, от запаха рыбы, от близости женщины.
И осторожно дотронулся до царственной плоти.
— Пойдем! — сказала мне эта то ли рыбачка, то ли торговка.
— Туда! — сказала она, — где волны — как горы, где горы — как океан! Где жизнь проста и серьезна! — и протянула свои крепкие и надежные, словно из гладкого камня, руки ко мне.
Ох, этот лай! Этот бешеный вихрь под ногами!
— Я не могу! — быстро откликнулся за меня кто-то. Этот кто-то, сидящий внутри меня, он вдруг высунул мой язык и, облизнув языком губы, мелко сплюнул. — Жена у меня! — сказал за меня он, и в этот момент острые зубки вонзились мне в голень.
— Эта собачка? — насмешливо спросила рыбачка.
— Какая собачка? Нет здесь собачек! Терпеть не могу я собачек! — резко выкрикнул тот, кто сидел во мне.
Женщина хлопнула дверью.
Поведя шеей, как бы вытягивая ее из слишком тесного воротника, я обернулся.
Оскалив мелкие зубы, трясясь от бешенства и потявкивая, жена зыркала своими углистыми пуговками из-под обшарпанной табуретки. И имя этой собачки — Ассоль?
В один этот миг все изменилось, я увидел себя — одинокого, всеми покинутого. Яхта без команды, парусов и руля, затерянная в штормовых океанских просторах!
И только горели углями два злобных глаза-огня!
Рука моя нащупала костяную рукоятку старинного кортика. Стальной тяжелый клинок. Большим пальцем я стянул с него за спиной ножны…
Нет, он ее не прикончил. Эта возня, эти похоронные хлопоты, этот суд… Эти дети-сироты…
И он не развелся. Эти, знаете, хлопоты, этот суд, эти дети…
И он не повесился. Эта веревка, вы понимаете, этот крюк… эти сироты…
Здравствуй, Солнце, великое Солнце! Я, ничтожная и мгновенная пылинка Твоя
неотъемлемая, говорю Тебе: Здравствуй! Говорю Тебе: Устреми луч Твоей необъятной Энергии на меня, и Я — обещаю Тебе! — зеркально верну его в Тень, тем, кто ищет там, не зная Пути! Говорю Тебе: обещаю!
Александр Жулин.
Из цикла «Монолог человека, ранним утром трусцою бегущего к Солнцу.
РЕСТОРАН «ДЕТСКИЕ ГРЕЗЫ»
Записки упавшего
У Коляныча папа — мыслитель.
Часами размышляет о каком-нибудь дверном шпингалете.
Ничего такого особенного, по справочнику — просто задвижка, состоящая из гнезда и обоймы, в которой размещен передвижной стерженек; обойма крепится к двери, гнездо размещают в дверном косяке… но! Но как заставить сей сверкающий стержень впрыгивать под скобу, если ты действуешь изнутри, в то время как шпингалет пришпандорен снаружи?
Папа скрывается в ванной и то действует скрюченной проволокой, та манипулирует тонкой бечевкой — все безуспешно.
— Ты согласна, что для этого требуется размышление? — раздается глухой голос из ванной.
— Согласна! Согласна! Ах, со всем я согласна! — отвечает жена.
— Если согласна, то отчего «ах»? — мгновенно взрывается папа. Выходит из ванной. И так безмерно устал, а тут еще это кислое, это мимоходное «ах».
— Ах, согласна, что для этого требуется размышление! — просто отвечает она. — Согласна, что ты — мыслитель! — заглядывает мужу в глаза. — Ах, со всем я согласна! — такая пухлая немолодая блондинка, на мой взгляд — обыкновенная образцовая мама, по мнению папы — красавица. — Однако, мыслитель, не пора ли тебе на собрание в школу?
У папы возникает желание издать какой-нибудь грохот, но, но… жена так прелестна в своем коротком цветастом халате!
И он опускает в карман плоскогубцы.
— Приглашали отцов! Согласись, что это само по себе уже удивительно! — хлопает мама ресницами. — Приглашали отцов только мальчиков! — она делает большие глаза. — Согласись, м и л ы й, — делает паузу, — что у этой Тигрицы странные прихоти!
Историчка — Тигрица по прозвищу — наша классрук. Прозвище это ей придумали папы: есть, говорили они, в ней что-то пламенное, затаенное, жаркое.
А мамы находили Тигрицу коварной.
— Нет-нет, у нее странные прихоти! — повторяет мама Коляна. — Какое-то маниакальное — гм-гм! — пристрастие к противоположному полу!.. Только отцов! все повторяет она.
У папы пропадает желание издать какой-нибудь грохот.
Издав то ли всхлип, то ли кхек, то ли что-то еще горловое, папа, мурлыча, направляется к вешалке.
Карман невысокий, плоскогубцы большие. Забытые, они тяжело свешиваются из кармана. Мама, пораженная изменением в папе, сверлит их взглядом.
— А на обратном пути, м и л ы й! — кричит ему, измененно-мурлычащему, зайди, будь любезен, в овощной
магазин! У нас нет моркови! Капусты!.. Картошки!.. И лука!
Это только так называется — плоскогубцы. На самом-то деле губы у них хоть и плоские, но с мелкими такими зубцами. Когда плоскогубцы ныряют вниз головой из кармана, их пасть раскрывается, и папа орет.
— М и л ы й, никак ты ушибся? — слышит папа встревоженно-воркующий голос. — Господи, таскаешь в карманах всякую пакость!
Плоскогубцы щерят свои мелкие частые зубы. Папа орет, потрясая ногой, как если б по ней бестактно взбиралась гадюка— холодная, беспощадная.
Образцовая мама сует в папин рот карамельку.
— М и л ы й, — шепчет она. Глаза ее излучают печаль и безропотность. Кажется, в эту минуту она с папой прощается. Кажется — навсегда. Эта Тигрица!.. Сплошное коварство!.. — М и л ы й! — повторяет жена. — Не забудь про картошку! Килограммчиков десять!
«Милый», многократно повторенное, придает карамельке вкус мыла. Карамелька проскальзывает в папино горло. Изо рта папы исходит мыльный пузырь… Впрочем, пузырь — это, пожалуй, уж слишком. Литературное преувеличение. Но душа папы, безусловно, клокочет: Как, впрочем, и душа образцовой мамы Коляна.
А у Вовчика папа — зараза.
Во всяком случае, так мама Вовчика говорит. А она знает, что говорит. Даром, что не такая она образцовая.
— У, зараза! — говорит в сердцах в объемистую папину спину. — Конечно ж, у тебя неотложное дело?
Спина папина в полинявшей футболке недвижна, горой. Но шея и уши краснеют. По телевизору передавали футбол, спартаковцы бегали в красном, но шея и уши у папы стали краснее.
Мама подходит и трескает по полинявшей спине своим жилистым кулаком.
— Из-за этих зараз, — говорит в сердцах мама, присоединяя сюда, видно, и Вовчика, — придется самой потеть на собрании!
Кровь отливает от папиной шеи. Его уши — крохотные иероглифы-ушки, прижатые поверху к крутому затылку, — приобретают привычный белесый оттенок. Папа улавливает самое важное: е й придется! Но в этот момент что-то случается у ворот «Спартака»: то ли ударили кулаком по мячу, то ли судью подкупили. Папа вопит: «Судью подкупили!» Его крутой бритый затылок наливается кровью. И тут мама так лупит кулаком по полинявшей спине, что… Ей бы с таким кулаком на медведя!
— Тебе бы с таким кулаком на медведя! — сипит папа плачуще, но героически не отрывается от телеэкрана.
…Раздирая гребенкой рожки волос, разбрасывая по полу бигуди, эта необразцовая мама носится по квартире, торопясь на собрание. Спина папы снова недвижна — горой.
Мы же попрятались в норы, как звери, учуявшие запах охоты. Мимо нас шагали наши отцы, оторванные от футбола, от основательных размышлений об автоматических дверных шпингалетах, от множества других важных забот, — они шли недовольные, нервные, им предстояло узнать о достижениях своих сыновей.
Сыновья смотрели на них из подвала.
Папа Коляныча брел, натыкаясь на урны, то снимая, то надевая очечки.
— О чем размышляет? — с досадой воскликнул Колян, и мы промолчали.
Бледный и тощий, музыкальный папа Абашкина качался, будто от ветра, будто поддатый. Но — мы это знали — поддатым он не бывал никогда. Кларнетист, он шатался под вихрями враждебной ему музыкальной среды, которая выдувала его из оркестра Большого театра.
— Куда ему против Тигрицы! — тоскливо заметил Антоха Абашкин, сам бледный и тощий, и мы не возразили ему.
Широколицый и красноносый, папа Агеева, напротив, был удачлив и обычно подкат. Он и сейчас был поддатый, но шагал тем решительным шагом, каким шагал по ступеням строительно-монтажного треста, в котором до царской площадки начальника ему оставалась самая малость.
Младший Агеев напряженно молчал. Пуще смерти не хотел он встречи отца и Тигрицы, и мы понимали, что дело не в боязни порки. Дело в Тигрице, но об этом позднее.
Мой батя двигал в иссиня-черных очках. У него началась предмайская аллергия, и слезы струились ручьями. Но и в слезах батя был по-тевтонски мужественен и красив, и я полагал, что если кого и надо беречь, так это Тигрицу.
— Но ему нет дела до нашенских достижений! — сказал я со вздохом. — Он в своих достижениях завяз по уши! — И товарищи мои тоже вздохнули.
Замыкала шествие необразцовая мама. На ходу она мелко трогала волосы, будто тревожась, не забылись ли там бигуди, и непрерывно высказывалась. До вас доносилось грозное слово «зараза».
Все говорило о том, что нас ждет ужасный конец.
А достижения наши были такие.
Первое достижение — Вовчика заперли в туалете.
Он всю математику просидел в туалете, и только минут
за пять до конца старшеклассники, обвально обрушиваясь из спортзала, услыхали жуткие вопли. И освободили, и торжественно препроводили узника в класс.
Как мы ржали вначале!
Как заступались потом!
Тигрица стрелою влетела в класс:
— Кто запер Вовчика в туалете?
Нет, никто не запирал Вовчика в туалете! Те, кто успел вскочить для приветствия — девочки преимущественно, — стали с легким сердцем садиться. Те же, кто задержался — в основном мы, пацаны, люди и вообще-то сомнительные, а уж при данном раскладе и вовсе как бы подследственные, — вытаращились, как говорится, на голубом глазу.
— Абашкин!
Напряженная тишина нависла над классом. В этом интенсивном молчании мы внимали стуку сердца Тигрицы. Взлелеянному в наших неистовых, поэтически-вольных мечтах, благородному, пылкому сердцу Тигрицы.
— Абашкин!
Абашкин мигает: чаво? Он не запирал Вовчика в туалете. Бледный, как призрак, сын музыкального папы колышется тенью над партой.
— Собирай портфель и без отца не являйся!
Шоколадная блузка с кружавчиками вздымается и опадает. Это пылкое сердце Тигрицы вздымает высокую грудь и опускает. Меловыми губами Антоха вышептывает:
— Я не запирал Вовчика в туалете! За что?
— За то, что жег спички на перемене!
Неслышное движение пробегает по классу. Не повернув своих буйных, голов, мы исхитряемся взглянуть на Коляна. А он недвижен. Коляныч наблюдает воробьев на окошке.
И снова безмолвие, и слова стук сердца Тигрицы.
— Агеев!
Агеев — рот до ушей — поднимается.
— Кто запер? Ты запер?
Агеев влюблен в Тигрицу до потери сознания. И всегда, когда она к нему обращается, от смущения лишь рот разевает. Такая особенность. Такая улыбка — как тик.
— Что значит: не ты? А кто проторчал всю перемену на лестнице? Собирай портфель и без отца не являйся!
Агеев все улыбается. Потный, красный, растерянный.
Ничего не может поделать с губами!
— 3а что?! — А это чей голос? А это мой голос! Какой-то странный, но — мой, без сомнения. Только ржавый какой-то скребуще-скрипучий.
— За то, что смеется, когда учительнице не до шуток!
От стальной, беззаветной любви до скребуще-скрипучей ненависти ровно полшага — я постиг эту премудрость в тот день.
И снова неслышное движение пробегает по классу. Снова мы ищем Коляна. И снова: окошко настежь раскрыто, и два воробья: тук-тук! тук-тук! — о жесть подоконника. Коляныч недвижен.
Коляныч недвижен, а мы не в силах смотреть на Тигрицу. Пусть ее щеки пылают румянцем, пусть, янтарно сверкают глаза — мы утыкаемся взглядами в парты.
И снова стук сердца… но, может быть, это — не сердце? Может быть, и даже скорее всего, это — не пылкое сердце Тигрицы, а — клювики воробьев?.. Следуя алфавиту, теперь секут голову мне. Портфель собираю заранее. Однако Тигрица… Тигрица внезапно:
— …Вовчик!
Словно взрывается что-то неслышно. Так в кинокадрах, демонстрируемых без сопровождения звуком, мы видим, как подрывают дома. Крыша, перегородки, все внутренности вдруг оседают. Исчезают внутри короба сохранившихся стен. И короб темнеет пустыми глазницами… Вовчик встает. Но это как бы разрушенный Вовчик: один только короб, одни пустые глазницы.
— Собирай портфель и без отца не являйся!
У Вовчика пустые глаза. Руки дрожат, растопыренные пальцы шевелятся — нет человека, одна оболочка.
— Привет, за что Вовчика? — дерзко я говорю.
— Привет! — отвечает дерзко Тигрица. — За то!
— Нет, вы все же поясните, за что!
Допустить подобный наскок на решительную, готовую на все и на вся, разъяренную Тигрицу — а в том, что разъярена она, сомнения не было — мог только тот, у кого отец — не менее чем дрессировщик хищных зверей.
Таким и был мой отец.
В глазах Тигрицы янтарная ярость сменяется необычным, шоколадным (под цвет блузки) оттенком растерянности.
— Подчеркиваю: раз его заперли — значит, было за что!
Несправедливость!
Гнев наш единодушен: стучим ногами под партами. Стуча ногами, смотрю на Коляна. Колян, стуча, смотрит на воробьев. Хлебные крошки насыпаны цепью по подоконнику. Воробушек — прыг-прыг! Головку поднимет, клювик раскроет: чирик. Скосит глаза на Коляна и слова: прыг-прыг!
— Это — бунт? — сверкает Тигрица янтарно. Однако налет шоколадной растерянности все еще смягчает янтарь.
Мы топочем упрямо.
— Что ж, изложите свою декларацию!
Помимо янтарности глаз мы ценим… ценили в Тигрице любовь к справедливости. Во все времена — учит… учила она — народы бьются за справедливость.
Народы топочут: справедливости! Хотим справедливости!
Нет, не зря мамы находят, что Тигрица коварна! И хотя в несовершеннолетние годы свои мы и заблуждается насчет истинной подоплеки, но прозвище, которым ее одарили отцы, кажется нам подходящим: хищник! Тигрица!
— Почему не заперли Ойхмана? Не Паничева, не Кондрушина, не Волкова Славу? Почему именно Вовчика? Объясните! Я хочу знать! Только это и… тогда обещаю: репрессий не будет! Математика беру на себя!
Мы озадачены. Мы смотрим на Кольку. Воробьи, осторожничая, смотрят на Кольку. Чирик-чик! На него смотрит Тигрица. Все смотрят на Кольку.
Чирик-чик! Он слабо топает.
— Несправедливость! Коварство! Долой диктатуру! Долой полицейские методы! В натуре: долой беспредел!
— Стойте! — восклицает она. — Раз так, начинаю расследование! Я — Шерлок Холмс!
И мы коченеем. А Тигрица начинает расследование. Она проходит меду рядами, будто ищейка по следу. На щеках вновь пламенеет румянец, шаг грациозен и легок, в повадке и вправду чудится нечто кошачье, затаенное, хищное. И… как выстрел:
— Абашкин!
Да, снова Абашкин! Тигрица выуживает: в то время, когда он возился со спичками, никто не проходил мимо него!
—Агеев!
И выясняется: Агеев вошел в класс вслед за Абашкиным, и при этом — самым последним!
— Вовчик! — неслышно, незаметно, тем временем она уже подкралась к нему. И мы, потрясенные, узнаем: в урне вспыхнул пожар! Но это не все; урна, как оказалось, была как раз возле двери, за которой заперли Вовчика!
— Слушай-ка, Вовчик! — Тигрица сгибается в поясе, ставит на кулачок подбородок и пронзительно смотрит в глаза. — Тебя заперли до того, как Абашкин урну поджег, или после? — страшным шепотом произносит она.
Вовчик балдеет, и мы тоже балдеем: и в голову не стукнуло нам связать эти вещи!
Вовчик балдеет, и пальцы его так и шарят, так и шастают по поверхности парты… Вдруг он кричит:
— После! Да после же! Дым повалил, а после я услышал щелчок!
— Понятно? — повторяет Тигрица. — Дым повалил, Вовчик уже стал задыхаться, и в этот момент раздался щелчок!
В глазах, которыми она пожирает несчастного Вовчика, светится янтарное сладострастие. Вовчик же видит в этих глазах безусловно иное. Возможно, он видит пожар и себя в этом пожаре. Клубы дыма перед запертой дверью.
Вот жадное пламя лизнуло фанеру, и образовалась дыра. Вот бедная жертва обезумевшим взглядом следит за огнем, за сплошной стеной ненасытной стихии. Куда же бежать? Бедняга мечется в камере. Вот он вскочил и, подтянув ремешок, карабкается по влажно-скользкой трубе. Вверх, вверх, к потолку!
— Честное слово, не знал, что там Вовчик сидит! — слышим плачущий голос Абашкина, — и пожар не задумывал! Просто спичку горящую бросил, честное слово!
И вдруг раздается страшный удар. Мы оглянулись. Это Агеев. Его улыбка ужасна. Портфель, который он собирал, обрушился с парты.
— Внимание! — слышим мы голос Тигрицы и не сразу возвращаемся в явь от пожарных видений.
— Внимание! — пробивается к нам ее голос. Тигрица встает. Поднимает оголенную руку. Мы смотрим на эту руку, на польскую шоколадную блузку с кружавчиками, на высокую грудь, Которая вздымается и опадает, и не сразу постигаем то, что Тигрица нам говорит. А она говорит:
— Внимание! — призывает отца. — Допустит, мы верим Абашкину: не знал он, не слышал! Бросил горящую спичку, рот свой раскрыл и пошел! За спиной бушует огонь, а Абашкин идет! Идет и идет… И… в этот момент… злоумышленник…
— Злоумышленник! — окончательно мы пробуждаемся.
— Злоумышленник, — небрежно роняет она,— выбежал к туалету! Вот добежал. Запер дверь. И ринулся дальше, чтобы успеть в класс до Абашкина. Или войти вместе с ним, потому что вскоре раздается звонок. И вот он, вопрос!
— Вопрос! — эхом откликаемся мы.
—Допустим, — безмятежно продолжает Тигрица, — скорость Абашкина… три шага в секунду! Идти ему… ну, шага тридцать четыре! Допустим, злоумышленник таился на лестнице… ну, там, шага двести семьдесят два…
И тут!.. Клянусь: меня осенило! Эти двести семьдесят два! Я вспомнил: на сколько деталей в час больше, чем человек, должен обрабатывать станок-автомат, чтобы цех перевыполнил план? И получил Красное Знамя? Ну точно, там тоже тридцать четыре, и это тридцать четыре не делится на три!
— Так вот: насколько быстрее Абшкина должен бегать злоумышленник? — бодро спросила Тигрица.
Ну кто из нас мог подумать в этот момент, что единственный, кто таился на лестнице был наш влюбленный в Тигрицу Агеев? Я, скажем, только и думал, что о задаче, похожей как две капли воды на задачу про Красное Знамя! Никто не решил эту последнюю! И когда позвонил вечером Вовчик и, как мне показалось, ехидно прошмякав: «Ну чё? Ну, решил?» — я в запальчивости заорал: «А как же, решил! И Колька решил! И Паничев Ленька, и Славка Волчок! Ойхман Яшка, Агеев и даже Абашкин!» — вот так я заорал.
Он бросил трубку.
— Вовчик! — голос Тигрицы. — Что ты ответишь?
Вовчик, бедняга! Он беспрестанно мигает и смотрит снизу вверх на Тигрицу, и чудится, будто в голове его, точно разведчики на быстрых конях, мечутся мысли.
И вдруг… Не понимаю, но я потерял к нему жалость! Да, Тигрица несправедлива к нему, да, он напуган, но… я потерял к нему жалость! Пучеглазый, с небольшой головой, он походил сейчас на лягушку! На жирную лягу, может быть, и полезную человечеству, но обреченную на не менее полезные опыты с пропусканием тока через мышечное волокно.
Восторженно взираем мы на Тигрицу (такие мы негодяи). Сладко томимся, ожидая развязки (вот гады!). Знаменитый математик Созонт Петрович вкатил в класс как танк: «Н-ну! Есть хоть один из этих бездельников, кто решил? Ежели есть — весь класс прощаю! Н-ну?»
Никто не поднялся.
И тогда этот танк, лязгая гусеницами, задвигал по классу, громя залпами двоек «бездельников с мозгами жидкотелячьими, как простокваша, лишёнными не то что извилин — намека на борозды…»
Такой у нас был математик, сейчас мы благодарны ему. А тогда… Сокрушив и вбив в наши головы ту задачу, он двинул в бой новую тему. Мы только пыхтели. Он закреплял рубежи усвоения хитроумным перекрестным огнем. Мы взмокли. Он подгонял нас наводить мостики между новой темой и ранее пройденным. Мы, покоренные, совещались и жужжали, как пчелы. И только тогда… да, только тогда, когда цветок примирения расправлял и отряхивал свои белые лепестки, в коридоре послышались топот и ржание; топот был громок, ржание — нагло. Вот дверь распахнулась. Вот — старшеклассники… Вовчик. И тишина.
И вот в тишине послышался скрежет, от которого кровь в наших жилах застыла. Сомнения не было: то был скрежет зубовный.
Скрежет усиливался, нас уже начинало тряси.
И тут что-то хрустнуло. Созонт Петрович выплюнул что-то. Что-то цокнуло об пол. Мы завороженно уставились, ища глазами схрустнутый зуб. И в этот момент коренастый, седовласый Созонт Петрович прыгнул к двери едва не сшибив Вовчика, который едва успел отклониться…
Созонт Петрович вылетел вон, вопия об убийцах, способных ничтоже сумняшеся лишить человека урока божественной математики.
…— На сколько быстрее бежал злоумышленник? — слышу я вкрадчивый голос Тигрицы… Я не думал сейчас об Агееве я думал о троице: Вовчик — Агеев — Абашкин. Кто из них лжет, подставляя товарищей под удар? — об этом не думал. Ни о чем я не думал, а смотрел только на Вовчика, который похож был на лягу. На жирную лягу, может быть, и полезную человечеству, но обреченную на не менее полезные опыты с пропусканием тока через ее обнаженное мышечное волокно… Полезные опыты!
— Вы не смеете! — ору я внезапно своим новым, скребуще-скрипучим голосом. — Никто не решил эту задачу!
— Никто не решил эту задачу! — отзывается класс.
Что случилось со мной? Что с классом случилось — известное дело: классовая солидарность! Но что случилось со мной?
И что случилось с Тигрицей? Почему она замолчала? Куда подевалась янтарность глаз ее, враз потемневших? Почему мы видим лишь спину ее — аккуратную, шоколадную спину? А это она смотрит на Вовчика. Она снимает подбородок со своего кулачка, она поднимается, она странно смотрит на встающего вслед за ней Вовчика.
— На двадцать один! — слышим мы тихий, но показавшийся нам оглушительным, голос. — На двадцать один шаг в секунду, не меньше! — отвечает ей Вовчик, посылая печальный, умиротворяющий взгляд. — На столько быстрее он должен бежать!
Ни один мускул не дрогнул у Вовчика на лице, и выглядел он все той же пучеглазой лягушкой, но все мы ощутили в этот момент, что что-то отчаянно-несправедливое случится секунду спустя.
— Так! — сказала Тигрица и лучше бы было ей этого не говорить.
Нет, ничего другого она не сказала, только вымолвила это, саму ее удручившее «так», а мы… мы начали уже оборачиваться. Сначала поодиночке, сначала — я, идиот, затем кто-то из девочек (Ингрид?), потом следующий, и еще, и еще, и вот уже все мы, как болельщики на футболе, страдальчески смотрим на своего горе-голкипера, на Агеева.
И почему? Почему Агеев стоит? Зачем встал?
Или он не садился?
На него невозможно смотреть!
— Агеев! — мы слышим Тигрицу. — Так, может быть…
Она не договаривает до конца. Возможно, что… выжидает. Возможно, что-то прикидывает. А на Агеева больно смотреть. Глаза его стали затравленно-мелкими, острыми, красненькими, и лицо его, пепельное, исказилось, щека поехала вниз. Только улыбка!.. Дергающаяся, кривая улыбка, улыбка влюбленная, улыбка прощающая, с которой он не может расстаться, только улыбка — единственно живое еще на мертвенном этом лице.
— Агеев! — повторяет Тигрица. Что-то мешает ей. Эта улыбка… — Агеев! — повторяет она. Откуда нам знать, что Тигрица в смятении? Вся шерлокхолмщина эта, которой она привлекла на свою сторону класс, воздвигла вдруг перед нею же неодолимую баррикаду! Расчет-то ее был построен на том, что Вовчик, не решив безнадегу-задачу, подговорил товарищей себя запереть! Но оказалось: он вычислил проклятые двадцать один, и получалось теперь… Нет, что же получалось теперь? Получалось теперь, что… — Агеев? — уныло повторяет она. — Не ты ли таился на лестнице?
Агеев, серый, как пепел, съежившийся, как птенец, скорбно бредет вон из класса, забыв портфель на полу. Наши взгляды его лижут, как пламя, он дергается от жестокого любопытства, с которым не можем мы совладать, а может быть, дергается он не от этого, и вот мы глядим, а он подходит к двери.
И дверь затряслась.
Он еще только к ней подходил, а дверь уже стала трястись. Снаружи ее кто-то тряс. Ее кто-то схватил за грудки и тряс, тряс, вытряхивал ее предательски ослабевшую душу. Ей бы заклиниться! Не поддаться! Но она только пискнула и раскрылась.
— Так это ты! — заорал Созонт Петрович, возникал на пороге как дьявол, и поднося свой могучий кулак к заострившемуся, серому носу Агеева.
Не ответив и проскользнув — казалось — сквозь тело учителя, Агеев уходит. Вслед ему несется авафема: — На урок не придешь, не решив все задачи подряд с номера сто сорок пять по сто девяносто восьмой!
Дверь с громом захлопывается.
Какое-то время мы не можем прийти в себя, у меня так просто в глазах плывут ослепительно оранжевые летающие тарелки. Но вот сквозь эти раскаленные пятна проступает фигура Тигрицы. Ее оголенно-округлая рука поднимается плавно к глазам, тщательнейшим образом Тигрица изучает крохотный циферблат своих наручных часов и вдруг…
— Несправедливость! — оглушает нас дикий возглас, и мы успеваем увидеть, как взметнулась оголенная, полноватая кисть, выворачиваемая чьим-то цепким захватом.
— Несправедливость! — на грани визга выкликивает Колян и отчего-то топочет, топочет, быстро подбрасывая колени — так бегуны демонстрируют спринтерскую пробежку на месте. И, выворачивая, подносит, тычет Тигрице в глаза ее собственную кисть, им грубо изломанную, вернее, не столько самое кисть, сколько крохотный циферблатик — Считайте! Считайте! Невозможно сделать двадцать четыре шага в секунду! Считайте!
И он топочет, топочет, то выше поднимая колени, производя оглушительную дробь своими ботинками, то едва отрывая подошвы.
До класса что-то доходит. Волна возмущения пробегает по классу. Тигрица вырывает покрасневшую кисть: — Так что же? Выходит, запер Абашкин?
— Несправедливость! — взрывается класс. — Абашкин дал честное слово. Раз так — мы все заперли Вовчика в туалете! Всех берите, всех вешайте!
Поднялись все: требуем справедливости!
Взвилось в небо тридцать костров — то зажглись наши сердца! Засверкали струи пламенных рек — то забурлила кровь в наших жилах! И раздался оглушительный грохот — то, подобно камнепаду в горах, обрушились крышки парт.
А когда влетели в кострище две черные птицы, два взволнованных воробья, прельстившихся-таки на хлебные крошки, когда заметались меж ярких огней, тогда-то сорвавшаяся с цепи Тигрица и излила на нас всю свою пенную ярость и коварную страсть. Потоки хлестали, гася костры наших сердец, но в чаду и шипении мы с восторгом восприняли коллективное самосожжение.
Мы бунтовали с чисто мальчишеским упоением, и девочки нам ассистировали с чисто женской, щебечуще-хлопотливой надежностью, а Вовчик ревел.
Вовчик трубно ревел, хорошо понимая, что реветь надо долго. Ревет он всегда безобразно: ни слез, ни прерывистых вздохов — разинув рот, монотонно орет. Реветь у мальчишек не принято, но ему почему-то иногда дозволяется. Вовчик ревет. Вовчик тянет тетрадку, в которой решена задача про Красное Знамя: «Не меньше, чем на двадцать одну деталь больше в час, чем производительность токаря, то есть не меньше, чем двадцать четыре детали в час». Такая задача!..
Как звери, затаившиеся от охоты, наблюдали мы обратное шествие разгневанных наших отцов.
Возглавляла отряд мама Вовчика. Она торопилась. Возможно, она делала те двадцать четыре шага в секунду, и ее восклицания донеслись до нас, когда за нею уже захлопнулась дверь. «Воспитывать в мальчике благородство, чувство товарищества! — донеслось до нас, — вот ведь, заразы, придумали!» — а ее уже не было. Только цокнуло что-то о камень крыльца — что-то, упавшее с ее головы.
Следом двигал мой батя. Он двигал в иссиня-черных очках, из-под которых струились мужественные, тевтонские слезы. Да, меня он прикрыл молчанием своих непроницаемых стекол, но за товарищей моих он не вступился.
Широколицый и еще более красноносый, папа Агеева шагал тем решительным, размашистым шагом, каким вышагивал по квартире с ремнем, высматривая «этого своего идиота». «Этот его идиот» («Мальчик ранимый, возвышенный», — сказала Тигрица) готовился к худшему. Папа Агеева выбивал из сына ранимость с возвышенностью, как пыль из ковра.
Бледный и тощий, музыкальный папа Абашкина качался, будто от ветра. («Очень замкнут Ваш мальчик, непредсказуем!» — сказали ему). Очень замкнутый, непредсказуемый мальчик крутил в руках спички и, смотря на отца, покачивался вроде как в такт.
Замыкал шествие папа Коляныча — любимца Тигрицы. («Честное командорское сердце, ах, жизнь Коляна может непросто сложиться!») Вот папа наступил на какой-то предмет. Вовчик напрягся. Да, это был тот самый, свалившийся с головы мамы Вовчика странный предмет: изрешеченная дырками трубка со штырем и резинкой. Папа Коляныча поднес его к самому носу. Новый предмет размышлений!» — изрек мрачно Колян. Вовчик хихикнул.
Сто раз мы расходились, шлепая изо всех сил по раскрытым ладоням друг друга, но вновь возвращались и шлепали по ладоням опять, пока, наконец, насупленные, волевые, не разошлись.
А утром Коляныч при встрече сказал:
— Надо же, из бигудины смастерил автоматический шпингалет! — и стукнул Вовчика той дырчатой трубкой.
Мы тоже стукнули — уже кулаками.
— Надо же, и задачу решил! — слова стукнул Колян. Уже посильнее.
И мы тоже стукнули, уже посильнее. Да кулаками.
— Надо ж, при этом и заперся! — и трахнул его что было сил кулаком с зажатой в нем бигудиной.
Тут и мы трахнули так, что спина Вовчика гукнула, как барабан. Но Вовчик… терпел!
Только Агеев не трахал.
— Если решил, зачем заперся? — печально спросил.
А Колян, превращаясь в мустанга, заржал. И Вовчик, представьте, ответно заржал! Ну, и мы, превращаясь в диких мустангов, разумеется, тоже заржали.
И мы начали гонять по двору.
Мы так начали гонять по двору, что толстый Вовчик никак не мог за нами угнаться. Он хныкал и надрывался, а мы вкругаля возвращались и на крутом вираже хлопали:
— Не хотел дать списать и для этого заперся? И-го-го!
Мы мчим через двор — Вовчик за нами. И-го-го!
Мы за угол — слышим сопение. И-го-го!
Мы быстро в подъезд — он, наконец, пробежал.
Затихающий топот. Стоим, отдуваемся. Топот обратный:
— Вы тут наших ребят не видали?
А какие мы ему наши! Никому ведь не дал списать, никому!
И вот возникает такой сладкий соблазн: набросать вкратце, как всю свою жизнь, начиная с этого дня, Вовчик начал все время проскакивать мимо.
Мимо большой, верной семьи — потому что сам был неверен.
Мимо женщины — красивой и преданной: сам любить не умел!
Мимо удачи, успеха — удач не бывает без поддержки друзей!
Увы!
Жизнь в своем духовном, каком-нибудь …адцатом измерении, в котором торжествуют честь, достоинство, дружба, любовь, весьма слабо влияет на проявления жизни в обычном и видимом, с учетом времени — четырехмерном пространстве.
И уже в тот самый день обыденная четырехмерная жизнь проявила себя во всей красе. Уже минут через десять.
Уже минут через десять с разбойными гиками, подплясывая и свистя воображенными шашками, мы рвем из подъезда и на полном скаку врываемся в угол двора. Там — бурьян, помойка и заросли — словом, райские кущи. Попав с солнца в тень, мы притихаем и, преображенные, змеино крадемся в одно заветное место. И вдруг натыкаемся на какого-то человека.
Человек, усевшись на бревнышке, читает газету.
Нам интересно: может быть, это — шпион, а в «Советском спорте» проткнута дырка?
Забегаем вправо — газета у нас перед носом. Влево — опять перед носом газета.
Тут со спины человека появляется Вовчик. Видит нас — и рот разевает от радости. И гримасничает. И прижимает палец к губам. Неслышно крадется, нагибается к уху сидящего.
— Что, отец? — орет со всей дури. — Опять неотложное дело?
Но человек, видать, закаленный. Человек опускает газету.
Ни с того ни с сего человек говорит:
— А в ларек эскимо привезли! Двадцать копеек!
Только уши краснеют да шея. А Вовчик:
— Рупь давай! Видишь — я не один! Пять товарищей — пять эскимо! Воспитывай во мне благородство!
Что мы — голодные?
— Воспитывай чувство товарищества!
Что? Не видали мороженого?
— Воспитывай чувство долга и чести!
Так отчего же мы не отказываемся? Отчего лижем жадными языками ледяную, сладкую плоть?
И вот мы сожрали мороженое! И снова гоняем, как сумасшедшие, по двору. И что-то вынуждает нас Вовчику поддаваться!
Вовчик настигает Коляна, бьет по спине.
Колянычу больно, но он хохочет.
Вовчик настигает меня, бьет по спине.
Я хохочу.
Как изложить человеку, что о нем думаешь, если человек в ответ столь униженно и в тоже время нахально угощает мороженым? Какое-то неудобство в общении через униженность. Какая-то оторопь от ослепительного нахальства. А уж коли сожрал коварное лакомство — терпи, не чирикай! И чем сильнее Вовчик нас лупит, тем мы громче хохочем, и в результате сложилась такая игра на выносливость к боли.
А Вовчик, купаясь в волнах им освоенных четырех измерений, совсем разошелся. Он теперь всех настигает, всех лупит. Он теперь — самый быстрый и ловкий, он — погонщик, мы — стадо изумленных баранов. Он — победитель — подлетает к Агееву.
— А ну-ка! — орет. — Тигриный угодник! Подставляй свою задницу!
И только сейчас получает в лоб.
От романтика и мечтателя. От Агеева.
Из невидимого …адцатого измерения
В общем, оно, конечно, влияет. Но слабо. Слабый удар у Агеева!
Старая физика изучала объекты в пространстве четырех измерений: длина — ширина — глубина и еще время вполне характеризовали объект и его положение.
Последний звук новой физики ошеломил нас известием, что как ни трудно это представить, но мы существуем в пространстве десяти измерений (следствие из теории суперструн Майкла Грина и Джона Шварца) или — в пространстве одиннадцати измерений (исходя из идей Теодора
Калуца и Оскара Клейна).
Стихийный идеалист папа Коляна, как упоминалось уже, полагал, что в действительности измерений несколько больше. Хотя бы немного еще имеется таких измерений, в которых плавают и общаются души. И вот там торжествуют честь, достоинство, дружба, любовь — внушал нам папа Коляныча.
Мне-то кажется, что души наши живут так же драчливо и глупо, как и тела. Естественно, я понимаю, что конкретные души берутся из общего океана единой человечьей души и вливаются в тела для того, чтобы в круговерти земных столкновений и поисков вершился процесс очищения океана. Однако, поскольку глобальная цель — переход человечества в высшую лигу путем очищения — не так и близка, то вряд ли океан сегодняшнего двенадцатого измерения достаточно чист, как это представляется папе Коляна. Отсюда я делаю вывод, что папа Коляныча — идеалист. И его оценка этой истории, как цепочки событий, связанных логикой двенадцатого измерения («Чтоб не просили списать, Вовчик заперся! Решил чуть опоздать — тут в урне дурацкий пожар! Он рванулся на выход — а дурацкий шпингалет назад не сработал! Оп пытался навлечь подозрения на Агеева — да вылезла дурацкая бигудина! Итог, сколько ни виться хитрой веревочке, а дурацкую бигудину не спрячешь!), эта оценка вызывала протест, и ощущения, что рассказ получился, все не было.
Рассказ, на мой взгляд, можно считать состоявшимся, если он вовлекает в свободный полет, в отрыв от действительности, Я придумывал концовки — одну эффектней другой, Я их выстраивал тщательно — как трамплины для отрыва от четырехмерной действительности. Спустя какое-то время я перечитывал — и не устремлялся в свободный полет. Искусственные трамплины были малы для двенадцати измерений. Неужели еще оставалась в этой истории некая тайна?.. Да, оставалась.
Повзрослев, я как-то прикинул: но ведь это надо было додуматься себя запереть в туалете! А изобрести автоматический шпингалет? А изготовить, опробовать? Приспособить его, выбрав удобный момент? Наконец, пустить в ход? Наконец, затаиться, молчать, молчать и тогда, когда дым повалит снаружи? Нет, это не просто: «Не хотел дать списать!»
И снова я возвращался к этой истории, и снова откладывал, и никакие придумки не спасали рассказ, пока я вдруг не встретился с Вовчиком! Судьба! — сказал бы папа Коляна.
В эти дни я, как по заказу, испытывал крупные затруднения. Шел девяносто второй, седьмой год перестройки, а страна моя разваливалась на куски. Ловкий, предприимчивый кошелек начинал весить больше, чем тяжеловесное кресло в обкоме, но весил все еще недостаточно, чтобы хватило на всех, и пронесся шквал безработицы. А у меня ни кресла, ни кошелька, и научную мою проблематику внезапно урезали, в результате чего я оказался на улице, и женушка моя свежевыпеченная вдруг предъявила своего бывшего-сплывшего, а теперь восставшего из тюряги супруга: «Без меня он погибнет!.. Но тебя я люблю, я люблю!.. Но без меня он погибнет, погибнет!..» Все, что осталось при мне — одни уравнения из области гидродинамики, до уравнений ли было стране, которая разваливалась на куски, так вдруг отвратительно взвраждовавшие между собой?
Было жарко, я брел по обочине с тяжеленным рюкзаком за спиной — в нем были пожитки мои; я нацелился махнуть из привычной, теплой Москвы за тысячи километров в морозную Магаданскую область, в поселок Холодный на золотодобывающий прииск имени Фрунзе и начать жизнь сначала отложив уравнения.
Увы, было жарко.
С мягким шелестом меня нагнала машина.
— Лёнь! Никак ты?
Пот не только заливал мою спину — он тек по лбу, по щекам, он свисал с бровей солеными, жгучими каплями, из-за чего приходилось беспрестанно прижмуриваться, — в руках моих были еще сумка и чемодан.
— Лёнь! Леонид Леонидович!
Что мне было до Вовчика? Кое-какие заказы в крохотной лаборатории нашей все-таки были, но начальник решил заранее избавиться от меня — вспужавшись, что ль, хунхуренции? И опять же дело не в нем, чудаке. Дело во мне. На прощанье я мог бы заложить вирус в программы расчетов, и никто без меня бы не справился с ним — тогда, глядишь, за мной прибежали бы! Но я рассудил: пусть он гад, и пусть я уволен! Но у меня есть башка! Есть друзья на прииске имени Фрунзе! И уравнения когда-нибудь да понадобятся по-настоящему, не пропаду я в конце-то концов! А пропаду, так и… А начальник близок к пенсионному возрасту! В уравнениях смыслит не очень! У него — очаровательное дитя-малолетка! Наконец — было дело! — когда-то он мне крепко помог: не буду я с ним воевать! И не буду лить слезы: это ему предстоит крутой разговор с неким суровым архангелом!.. А какие сюжеты по части литературного пения могли бы подвернуться на прииске!..
И все-таки слезы — не слезы, но… А тут этот раскормленный Вовчик, эта сияющая лаком машина, эта жара… Этот тюряжный супруг, эти рыдающие бросанья на мою взмокревшую грудь, наконец, эти права (неоспоримые, неоспоримые — не станешь же спорить: противно!) на мою же квартиру…
Тут я вспомнил загадку. Остановился. Сбросил рюкзак.
— Здорово! — сказал. — Автомат-шпингалет!
…Он притормозил у первой подходящей харчевни:
— Зайдем? Попиздим, перетасуем былое! Я угощаю!
Черт дернул меня! Я (отрицающе-зазывающе) усмехнулся.
— Я! — он вскричал. Я угощаю! Зайдем?
— Нет! — сказал я. — Уж если мы через столько лет…
— Встренулись! — радостно он прокричал. — Зайдем, вспомним былое и…
— Думы! Но если ты при деньгах («А то!» — он ухмыльнулся, и в этот момент еще не догадка, но словно бы хвостик мелькнул, и я еще не вскинул ружье, но на мгновение замер), и ты пока щедр, — сказал я и сделал внезапную, будто случайную паузу («А то!» — не выдержал он, и вновь в кустах промелькнул хвостик догадки), — поехали в ресторан! Вперед, направо, налево! — скомандовал я. — Ресторан «Детские грезы»!
Вперед — направо — налево и в самом деле был ресторан, я в нем отмечал кандидатскую, на седьмом этаже. Он запомнился тем, что, самовольно раскрыв украшенное (закрашенное?) цветными витражами окно, я вдруг обнаружил чуть ниже некое секретно-закрытое продолжение ресторана в виде балкона. Пальмы в кадушках, фонтанчик, скульптуры, несколько столиков. «Ни фига себе! — стукнуло мне. — Не иначе — место отдыха мафии!»
Подозрение мое усугубилось той страшной решимостью, с которой налетел на меня наглый официант: окно было плотно закрыто, я оттеснен, вместо книги жалоб мне сунули шиш. И что самое интересное, я нигде не обнаружил (я потом там основательно покрутился) прохода на тот балкон…
«Волга» стремительно мчалась, по капле я начал вытягивать, чем Вовчик сейчас занимается: «Да, в цехе работаю! — пробурчал он… — Разве это зарплата? — поморщился он… — Эта зарплата — для пенсии, копейку мы делаем на другом!»
С трудом вытянул я, что цех его — не простой: холодильный! Через него проходят мясные поставки — и я сразу все понял: начальник района по мясу! Жирная птица!
— Ведь посадят! — миролюбиво предположил я.
— Меня? — заржал он. — Кто? — продолжал ржать. — Не ты ли?
Навстречу нам вдруг рванул грузовик. Вовчик крутанул руль — в лобовое стекло я увидал замершего от ужаса велосипедиста. Мы должны были сшибить его, но «Волгу» неожиданно понесло вбок, белое, расплывшееся лицо осталось позади нас, «Волга» боком проползла возле самых колес громадного самосвала и встала. Самосвал зарычал и унесся.
— Ну вот, — сказал я.
— Лысые шины! — прошептал Вовчик.
Велосипедист копошился в канаве. Я видел в зеркальце, как, дергаясь и прихрамывая, он устанавливал велосипед на асфальте, как прокрутил педаль под левую ногу, как стал заносить через седло эту ногу и вдруг опустил ее, как неверной походкой зашагал к нам, придерживая свою двухколеску… вот прошел мимо. Худая спина его сгорбилась, шажки были мелкие, мелкие…
— Лысые шины! — шептал Вовчик, вцепившись в баранку.
Имеется единственный способ помочь растерявшемуся человеку.
— Ну, ты и мастер! — воскликнул я восхищенно.
— Лысые шины! Лысые шины спасли! — молол свое красный, пыхтящий мастер. — Я все ленился их заменить! Я все ленился — а видишь, как оно, а?
Нет иных способов вернуть равновесие растерявшемуся человеку, как похвалить его.
— Никогда я такого не видел! Дурацкий «БелАЗ» пер, как носорог, ты — вправо! Там этот велосипедист! Ты дал по тормозу — машину по инерции протащило вперед. Какие лысые шины! Ты — мастер! Самый что ни на есть автораллист! Сбрось ладони с баранки! — я рявкнул.
— Не могу! — скулил самый что ни на есть мастер, автораллист. — Пальцы!.. Пальцы не могу разогнуть!
— Конечно! — сказал я. — После подобного феноменального трюка кто их разогнет! — и я ударил его под коленную чашечку ребром своей математически точной ладони.
— Ой-ей! — завопил он, дрыгнув ногой, — ты чё? Ты чего это, а?
— Зато пальцы разжались! Поехали! — приказывал я. — Чуть вперед, потом направо-налево! Математически точный расчет: через двадцать минут пьем армянский коньяк!
— Я за рулем! — сопротивлялся и хныкал он — большой, грузный мужчина. — Нельзя армянский коньяк!.. А машину куда?
— Все за рулем! — нагличал я. — Армянский коньяк! — прищелкивал языком. — Сунешь швейцару двадцатку, оставишь машину!.. У тебя что, нет лишней двадцатки? Посидим в ресторане, заночуем в гостинице! Или ты себе не хозяин? Ты холост ведь, а? Пять звездочек, чистейший армянский! Машину — под окна!
Прав Дейл Карнеги: единственный способ управлять человеком — педалировать на его чувство значительности! Всякий нуждается в том, чтобы быть оцененным чуть выше, чем он того стоит. Тщеславие — эрогенная зона рода людского!
Прошло двадцать минут — мы пили армянский. Не на балконе, нет-нет, но на седьмом этаже. Догадка уже не крутила хвостом из кустов, а, хорошо видимая, замерла в рамке прицела: Вовчик особенно остро нуждался в том, чтобы быть высоко оцененным! Всем насторожившимся своим естеством я ощутил связь между историей с автоматическим шпингалетом и этой особенностью Вовчика. Оставалось лишь плавно нажать спусковой крючок — вызвать его на признания.
Ели жюльен из грибов и сациви из кур. Ну, и травы, салаты.
— О-о, ты и хозяин! О-о, и богач! — нахваливал я его, а он распускал крылья и кукарекал, как молодой кочеток.
— Да, я — богач! — распускал свои крылышки. — Я умею, вот так! — кукарекал. — П-почему? — спросишь ты. Или ты знаешь?
Я, конечно, не знал. Я медлил с ответом. И он сам шел в мои сети. Он — взрослый мужчина.
— Потому что не верю ни в какие двенадцатые измерения! — хлопал крыльями он. — Эт-тот ваш папа Коляна — дурила! Д-двенадцатое из-змерение, х-ха! — кукарекал, пьянея. — Д-действ-тельность — это борьба! Без правил, удар поддых — д-дело сделано, точка!.. Чел-лв-в… члев-во-о… челоэчесво — куча свиней, т-лкаюшихся возле кормушки! Я не пра?
— Пра, пра! — успокаивал я.
— Коэшно, тут есть какие-то рамки! Но!.. Но!.. Но поэдитель-то кто? Кто поэдитель, я спр-шиваю?
Я не мог поверить, что он так захмелел. Вилкой, во всяком случае, он орудовал ловко. Мне казалось, что он слегка притворяется. Он, несомненно, хотел мне кое-что высказать, но, возможно, стеснялся так прямо в лоб. А если пьяный — то проще.
— Победитель — тот, кто знает про рамки? — осторожничал я.
— Х-ха! — вскричал он со сверхпьяным довольством. — Н-не! — крутил вилкой с наколотой шпротиной. Желтый масляный сок капал на скатерть (но не капал на оголенную, толстую руку — как я подметил). — Поэдитель тот, кто знает, когда из рамок можно кр-р… кр-ры-ы… кр-р-ртковременно выскочить! — и он ловко сунул шпротину рот.
Он был в синеклетчатой рубахе с короткими рукавами. Он поставил толстые локти на стол. По-хорошему умудренно он смотрел на меня, кулаками подперев подбородок. Я не знал, он уже все высказал, что хотел, или только готовится.
— Ты — победитель? — спросил я. Невинно.
Но он услышал сомнение. Он, возможно, услышал и что-то еще. Он был чересчур уязвим по части значительности. Он тщательно прожевывал шпротину. Вот начал глотать: р-раз! — пожевал. Еще р-раз!.. Вот, сомкнув губы, поводил изнутри по зубам языком.
— Послушай! — совершенно трезво проговорил он, придвигаясь ко мне через стол. Упала, задетая, и покатилась опустошенная нами бутылка. — Вот возьмем, скажем, Антоху Абашкина. Где Антоха Абашкин?
Мне вдруг показалось, что он хочет схватить меня за руки. Он был громаден. Он весил за сто килограммов. А мои руки были интеллигентно тонки. Они были достаточно цепкими, но если бы он потянул, мне не хватило бы веса, чтоб удержаться.
Он смотрел на меня совершенно трезвыми, злыми глазами. На миг я даже забыл, что это был Вовчик. Это был злобный, каменный дядя за сто килограммов, я даже оторопел.
Думая о том, за что зацепиться, я опустил взгляд.
— Вот так! — услышал я металлическо-четкое.
«Он хочет сквитаться!» — пришло в голову мне.
— Сгинул Антоха Абашкин! — чеканил он желчно.
Да, сгинул Антоха Абашкин, Какая-то дурацкая квартирная кража, какой-то жуткий стройбат, гепатит через шприц, отбитые в солдатском побоище почки… Сгинул сын музыкального папы.
— Но, может быть, победитель — Агеев?
Вот тут я усмехнулся. Невольно. С Агеевым, конечно, не то, что с п о д ж и г а т е л е м Антохой Абашкиным, вот так я ответил, подчеркнув поджигателя, Я усмехнулся и поднял на Вовчика взгляд. И вдруг почувствовал, будто внутри меня что-то оборвалось. «Он очень, очень хочет сквитаться! — стучало у меня в голове, — и надо это как-то использовать!»
Похохатывая, заставляя себя улыбаться, я начал рассказывать о том, что романтичный сын красноносого начальника треста питал слабость, как оказалось, не только к Тигрице, но и к обаянию тевтонской профессии моего бати. Он бросил конструировать мотоциклы. Он ударился в дрессировку хищных зверей, говорил я, стараясь избегать взглядом нового Вовчика. Батя рассказывал: он поет тиграм романсы, и те, в платочках и юбочках, вальсируют вокруг него!
— Так что: он — победитель? — перебил меня голос, жесткий и властный.
«Он же был только что пьяным!» — заставлял я себя размышлять, чтобы не подпасть под власть жесткого Вовчика, стараясь не думать о том, что сижу за столом загородного ресторана, и ни одна родная душа не знает, где я нахожусь, что угощает меня человек, в общем-то, малознакомый и хитрый, и, кажется, озлобленный на меня. Надо встать и уйти. Семьдесят процентов из всех убийств проистекает на почве незадачливой пьянки. «Хорошо, что пожитки свои оставил я не в машине, а в гардеробе!» — вспомнилось кстати. Надо, надо подняться и, извинившись, но без объяснений, уйти.
— Нэ поэл, он — поэдитель?
Вовчик всегда был похож на лягушку. А теперь представьте, что лягушка увеличилась до громадных размеров. Голова была небольшой, остроконечной, и огромный рот уходил своими концами назад-вверх чуть ли не до ушей, и это все, что, смешноватое, не вызывало опаски. Но голова произрастала из колоссального, валунообразного туловища, едва умещавшегося на не таком уж малом сиденье стула, но толстые, хотя и коротковатые руки напоминали два чурбака, а желтоватые глазки, лишенные и намека на участие к вам, поблескивали, как непроницаемые толстые пуговки.
— Нет! — сказал я, кое-что вспомнив о нашем Агееве.
— Колян?
Я вздрогнул. С каждой минутой Вовчик менялся. Он вырастал на глазах, странная власть от него исходила.
Тут, как назло, откуда-то появившись, надо мной зажужжала оса. Она крутилась вокруг и словно присматривалась, как лучше спикировать, уколоть. Я помахал для острастки руками, затем начал вертеть головой, потому что она и не думала улетать, а целила сзади, в конце концов даже вскочил. Надо признаться, к осам у меня аллергия. Было дело, меня как-то тяпнула в локоть одна такая дурища, локоть вдруг стал раздуваться, потом в глазах все поплыло. Представьте, меня спасла «Скорая». Представьте, они собирались засунуть в больницу меня. Представьте, отбившись от больницы подпиской, я полеживал дома в полуобморочном состоянии (они вкатили мне чего-то снотворного); как вдруг эта «Скорая» снова приехала. Проверять, не помер ли я. Проверять!.. Советская «Скорая»! Только тогда мне пришло в голову, что во всем этом есть что-то нешуточное…
Впрочем, собрат-аллергик понимает меня. Далекий от нас никогда!
И вот снова оса. Я уже вертел руками, как мельница, когда Вовчик поднялся. Сначала-то я не заметил, что он поднимается. Затем — ап-п! — оса не жужжит. Я кручу головой — не жужжит! И вдруг ощущаю, что надо мной вырос гигант. Я задираю вверх голову лягушачеподобная пасть раскрывается гримасой улыбки, однако глаза — неподвижно-чужие. Он подносит к моему носу белый кулак и разжимает его: на ладони вяло шевелится полузадушенное насекомое.
Только сейчас понял я, насколько он и выше, и толще.
— Если тебя укусила оса, ничто не мешает ответить ей тем же! — браво я выкликаю остроту Ильфа – Петрова.
Он берет желтополосатую убийцу за крылья и подносит ко мне: я отшатнулся. Подержав ее так у моего носа, он раскрывает свою громадную пасты и царственным жестом отправляет туда зажужжавшую дрянь.
Я опускаюсь на стул.
Почавкивая, Вовчик долго, смачно жует. И глотает.
— Чтоб ты знал! — улыбается. Одними губами.
— Что? — удается мне вытолкнуть языком.
— Поэдитель тот, кто, когда надо, чихает на рамки!
И он, победитель, снова усаживается, расставляя толстые локти, и стол скрипнул под ним. Я придвинул сациви, но кусок не шел в горло мне. А Вовчик все ел, ел… Резал ножом краснорозовую ветчину, макал ее в хрен, затем поднимал рюмку, чокался. Опрокидывал и закусывал ветчиной.
Теперь мы помалкивали, и оса не жужжала над нами.
Между тем ресторан начал заполняться людьми. В восемь часов вышел оркестр, с эстрады замурлыкал мой любимый альт саксофон. Понемногу я начал оттаивать. Трех разных Вовчиков я увидел сегодня: Вовчик детства — и умный, и глупый, и хитрый, и несуразный… Вовчик — незадачливый волговодитель, чудом вышедший из нешуточной переделки и так легко клюнувший на тест на значительность… наконец, Вовчик — апостол теории небрезгливого победительства, теории кратковременного выхода за рамки дозволенного, Вовчик жесткий, опасный… Как соединить этих Вовчиков в одно целое, как влить это целое в историю
с автоматическим шпингалетом?
Официант подлетел с кофе. Принимая керамические толстостенные чашечки, Вовчик задержал их в руках.
— Не пролей! — дернулся я.
Но он, с откуда-то выплывшей беспредельной, снисходительной нежностью (жуткая улыбка эсэсовца) подавая мне чашечку, на возвышенном фальцете сказал:
— Слу-ушай! А помнишь Тигрицу? Какая фемина! Подумать только: в самые удушливые, застойные времена, а сколько было бесстрашия в ней! Сколько страсти! Знаешь, — он придвинулся вместе со стулом, навис над столом, — теперь-то можно сознаться: а я ведь в Тигрицу… того!.. Ага! — с жутким лукавством он подмигнул и засмеялся довольно. Но я был учен, я смотрел в его выпуклые желтые пуговки — они не смеялись. Бесстрастно отражали они мою уменьшенную обалдевшую физию. — Ох, чем мы только не занимались с ней в моих мальчишеских снах!
Что-то важное, вязкое поползло через брови — то глаза мои, изумленные, полезли на лоб. Вовчик — и сны? Вовчик — Тигрица?
А он, совершенно трезвым голосом закончив тираду, вдруг как-то разом опять словно бы захмелел (я не верил, не верил!) и, уже опять спотыкаясь, с косыми ухмылочками продолжал:
— Н-ну, и Созонт, к-коэшно. Он, коэшно, сейчас бы пр-р… пр-рмкнул к сталинистам! Н-но все рауно, чеоэк!
Кофе был слишком горячим — только поэтому я поперхнулся. Откашлявшись, я что-то такое промямлил. Нет, не в оправдание Созонта — какой, мол, он сталинист! (хотя все и смешалось в доме Болконских) — и не о своем удивлении: Вовчик и Созонт? Натюрморт! Парадокс! Совершенно подавленный этими разными Вовчиками, я, конечно, промямлил о кофе. Кофе, мол, слишком горяч! Черт подери, губы обжег! Осторожней, мол, Вовчик!
Но Вовчик, конечно, и пьяным (если пьяным он был!) был умнее меня. Папа Коляна говорил нам об этом от чистого сердца: «Этот парень умнее всех вас, уж поверьте!»
Покровительственно Вовчик на меня посмотрел. Кончай, мол, базарить о кофе! Выкладывай, отчего поперхнулся!
Когда имеешь дело с человеком, который умнее тебя, важно не развивать. Пусть он сам, сам развивает, ты же только прислушивайся: если ему хочется что-то сказать — он это скажет и так. Если же что-то намеревается вызнать или подводит к ловушке — естественно, лучше помалкивать.
Поэтому ничего не стал я выкладывать, а принялся дуть в свою чашечку.
— С-слушай! — наконец сказал он, и представьте, у него был такой неуверенный голос (да-да, неуверенный, я не ошибся, хотя он опять притворялся подвыпившим!), что у меня екнуло сердце: вот оно, наконец! — С-слшай! — еще более пьяно сказал, но я-то почувствовал еще большую неуверенность! — Ссушай сюда, кандидат наук Леня!
— А? — откликнулся я. — Что?
— Ссушай! П-пмнишь ис-стрию? — И тут заорала девица. То есть, конечно, не заорала она, а запела. Но так громко, и с ходу, и хрипло запела она, что нам показалось: орет. Вовчик заткнулся, я протянул руку за яблоком.
…Увы, когда она оторала, Вовчик был снова иным. Неподвижно, пронизывающе он смотрел на меня. Если б я не знал его юным, если б не привык к его фокусам, в общем, если б это был не Вовчик, а некий другой такой же каменный и громадный мужчина, я бы, наверное, не стал соревноваться с ним взглядами. Но сейчас он пучил на меня свои неподвижные жабьи глаза, а я ответно смотрел на него, как на… жабу. Может быть, — я был излишне жесток. Но он вдруг протянул ко мне руку, которая оказалась длиннее,
чем я ожидал, и смахнул на пол мою чашку.
—Оф-фциант! — рявкнул он. Естественно, никто не пришел. Оф-фциант, оф-фциант! — он надрывался.
— Да брось! — сказал я. Никто не придет.
— Оф-фциант! — орал он.
— Не придет!
— Оф-фциант! Сюда! Быстра-а!
— Не придет! Никакой ты не победитель!
— Оф-фциант! — от натуги весь красный, как описавшийся младенец-грудник, Вовчик разевал свою громогласную, как у того же младенца, здоровенную пасть.
— Не победитель!
— А Колян? — спросил он неожиданно тихо и трезво. Словно не он надрывался. — Колян — победитель?
А вот о Коляне мне с ним не хотелось. И потом он так артистически разыграл эту буйную сцену и так артистически перевел ее в пианиссимо, что мне сделалось тошно: он разыгрывал партию на Коляне!
— Так что же Колян?
Я выбирал яблоко. Они все были зеленые, гладкие, как шары биллиарда… Болгарские… Химия? Я выбрал одно. Сок брызнул и вспенился, как пена на пиве. Я продолжал вжимать зубы в твердую плоть и тут услышал еще не начавшийся звук. Нутром знал, что Вовчик молчит, выжидает, что он только готовится задать этот вопрос, но уже будто слышу его… Не сейчас! Не тебе о Коляне!.. Молчи!
Неожиданно хрустнуло. Кусок, который отвалился от яблока, оказался настолько большим, что у меня свело челюсти. Ни туда, ни сюда. А вопрос нарастал, я слышал дыхание, слышал тяжелую поступь вопроса… Как обмануть? Отвести?
— Почему бы нам не п-г-вр-рт о Коляне? В-выдл его?
Да, я видел его! Он полеживал на диване в носочках, а жена его тявкала и возилась под дверью.
Он полеживал на диване… Какое-то жуткое вмешательство внешнего мира!
—Пивосос! — тявкала и возилась с полами, скребя их под дверью, жена.
Мне было стыдно. Я сидел возле Коляна, как у постели больного.
—Где же наш к-мындр-р? Где бл-гр-рдное, чистое сердце? — этот Вовчик как видно, готовил атаку.
До раздирания десен я сжал застрявший кусок и начал его полегоньку размалывать. Я не в состоянии был убыстрить, чтобы закончить и заорать, перебивая вопрос. Но я рукой стискивал яблоко — полновесный огрызок, что оставался в руке. Если спросит сейчас… если хихикнет… залеплю этим огрызком в поганую харю!
— Что г-в-рит наш к-кымындыр-р-р?
Что же говорил наш командир?
— Подумаешь, академик! — говорил мне наш командир, целя в мою тогда не лопнувшую еще работу над докторской. — У академика — шапочка на лысой башке и ни хрена удовольствий! А вот у пожарного — каска! И море свободы! Самое благородное дело — пожарное дело! Жене только построже об этом напомни… — тут он покосился на дверь и, понизив голос, закончил: — И можешь спокойно полеживать! Еще пива не хо?
— Что случилось с Коляном?
Что случилось с Коляном? Надлом после Афгана, в который подзалетел он по законам пространства четырех измерений, попал в самую что ни на есть обоюдокровавую бойню? Или только изгиб, недолгий наклон к пивному колодцу, после чего еще последует распрямление?.. Но если Вовчик спросит сейчас…
— Эй? — спросил он. — Как думаешь, сколько детишек он…
А я уже прожевал. Я проглотил, я избавился!
— Стоп! — заорал я. — Не смей! Заткнись, падло!
— Ну, скок-ко? Ск-коко их — масеньких, смугленьких, черноволосеньких … ско-ко он их полож-ж…
— Заткнись! — заорал я и с замаха запустил яблоком в поганую харю.
Он успел отклониться. Что он умел — отклоняться!.. Этот замах все испортил. Я был в состоянии ярости. Слепой, безрассудной и для меня редкой. Но ведь этот ублюдок затронул Коляна! Скоро десять лет, как Колян вернулся с позорной войны. Он поклялся не вспоминать ее десять лет, значит, и мы помолчим! Но они на исходе, Колян!
Я накрыл дальнюю чашку ладонью. Толстые стенки жгли кожу, но если животное, что напротив меня, вознамерится раскрыть свою пасть, его собственный кофе…
Разве я думал пугать его? Я, со своими шестьюдесятью килограммами против этого дяди весом за сто! Нет, гнев мой был неподделен. Вовчик издал странный горловой звук. Его губы сложились, а кончики их опустились. Рот, щеки, лицо — все расползлось в стороны. Глаза, изумленные и панически заморгавшие, стали краснеть. А я орал и орал, приказывая ему замолчать, и, слава Всевышнему, в этот момент ударил оркестр. Взвыла на высокой ноте труба, и забил барабан. Но я должен был перекрыть этот рев и, как
сумасшедший, я орал и приказывал:
— Все! Все! Заткнись, кода! Прибью! — А он все же мог принять в толк, чего это я вскипятился, потому что никогда не мог постигнуть чувство товарищества, и лицо его, растянутое в стороны щеками, испуганное, вызывало во мне особенный гнев, поскольку ничего в нем не было, кроме испуга и еще — удивления: Колян кончился, так он считал, и чего тогда кипятиться?
Однако если бы вы видели папу Коляна, который при первой возможности навещает своего сына-пожарного, адепта диванного плавания в море свободы… если б видели их отношения, которые стали теперь особенно нежными… если б вы разделили мое убеждение в том, что над человеком, выросшим в ласке и родительской чуткой любви, до конца жизни витает внимательный ангел-хранитель… вы бы поверили: нет, он не кончился, наш Колян! Он перебесится, он им еще кое-что скажет!
Вдруг звук трубы лопнул, и лишь барабан, тревожно и глухо все бил, бил… И голос мой, словно заранее изготовившись к этой неожиданной пустоте, вдруг потерял детскую кипячливую прыть, и веско, сказочно веско отмерил:
— Молчи! Судить не тебе!
Вовчик по-прежнему таращился на меня с испуганным, немым удивлением. Но вот что-то внутри него сдвинулось, треснуло, какой-то разряд… он сморгнул. Тонкое, жабье веко натянулось на выпуклый глаз и тут же исчезло. А барабан бил, бил… глухо, набатно.
Наконец челюсть его отвалилась, и жабьим, жестяным голосом он проскрипел:
—Ты чё?
— Молчи! — повторил я с неожиданной страстью, энергией. — Судить не тебе!
И снова завизжала, забираясь под сердце, труба. И раскатно разлились фортепианные воды. И рассыпалась звоном гитара. Я облегченно вздохнул: он не затронет больше Коляна! И когда Вовчик, перекрывая громы оркестра, завопил на меня, мстя за испытанный страх, я уже кое-что знал. Иерархия детства не изменилась: несмотря на все свои явные преимущества, Вовчик все тот же — тот самый, которого иной раз лупили з а р а н е е (и это не доблестно!), и видит во мне: все того же, каким я был лет двадцать назад (а вот это отнюдь не портит обедню!).
— Что мне Колян! — вопит он, мстя за испытанный страх. — Я был умнее всех вас, вместе взятых! Вы списывали у кого? У меня! И чем же вы платили за это?.. Ненавижу! — трахнул он кулаком по столу. Кулак был здоровый, и стукнул он мощно, и кое-что звякнуло, но ничего не свалилось. А ему надо было, чтобы хоть что-то свалилось, и он тогда смахнул последнюю чашку на пол.
— Официант! — заорал он.
Я знавал эту наглую ресторанную шатию. Они были хозяевами, они за день получали столько, сколько мы — за месяц работы, они нас презирали и при этом терпеть не могли за наше ученое пренебрежение ихними барышами.
— Серега! — вопил Вовчик, перешибая оркестр. — Я зову их Серегами, — это он мне. И в зал: — Серега-а! — явился «Серега». — Замени кофе, Серега! Возьми мелочишку! — он сунул «Сереге» — я не поверил своим глазам — три сотни рублей. — А за ужин расплатится мой собутыльник!..
Это был удар ниже пояса. У меня была своя сотня — но я планировал жить на нее до первой зарплаты на прииске. «Серега» оценивающе смотрел на меня с высоты своего двухметрового роста. Доберусь ли до прииска я?
— Возьми еще мелочишку, Серега! — указывал Вовчик, протягивая зеленую пятидесятирублевку. — За вежливость к моему собутыльнику! Уважай, Серега, его! Шампанского!
«Серега» вдруг наклонился ко мне и обмахнул ладонью мою куртку. Затем снял пылинку с нее. Затем выхватил откуда-то сзади большую бутылку, мигом откупорил, придвинул мне мой фужер и рассчитанным жестом наполнил шампанским.
— Я не просил! — сказал я.
— Вот, Серега, тебе за шампанское! — Вовчик протянул четвертную. — Он не хочет шампанского! Замени кофе, Серега? Через час приходи за расчетом! Он расплатится!
«Серега» запоминающе оглядел меня и исчез.
Мне было не по себе. Воочию увидел я драму человека, который и в самом деле был не лентяй и задачи решал лучше других, а сейчас вот стал вдвое здоровее и выше меня, и много, много богаче… и вот такой перехлест!
— Слушай, Вовчик! — сказал я. — Ты не знаешь моих обстоятельств!..
— А мне плевать! — заорал он, перебивал меня. — Хоть сдохни, а расплатись! Кандидат наук Л-леня, плати!
Я, Вовчик, не буду платить! — сказал я убеждающе тихо. — Мне проще сдохнуть!
— Вот так и будет! Серега открутит тебе твою не шибко разумную голову? Они это делать умеют, будь спок! — Вовчик так громко вопил, что саксофонщик вынул мундштук изо рта, не кончив квадрата, и, что-то буркнув фонисту, отошел к краю эстрады поближе к нам. Барабанщик притих. Зазвучал тихий блюз. А Вовчик, разевая лягушачеподобную, будто бы пьяную пасть, орал про свою ненависть.
Музыкантам обычно я нравлюсь. Саксофонист мне подмигивал. Я думал о том, что с Вовчиком еще стоило повозиться. Такой перехлест!.. А Вовчик орал:
—Вы-ы, подонки, подонки!.. Знаешь, скок… скок… скок-ко я бился над той задачей?.. Н-нэ поишь?.. — он переходил на пьяненький диалект. — Н-нэ поишь? Поишь т-ту з-дачку неравенства? (Я, конечно, не помнил!) Н-ну ка-а же? Ка-а же не поэшь? (Я приподнял плечо, опустил; подергал двумя плечами; наконец, непонимающе вытаращился.) Н-не, ну вспомни, я тада заперся, поишь? (Что-то такое я начал припоминать: это в бане, что ль, а?) Да не-е же! Ну, впо-оми! Шп-нглет-втоумат!
Я вспомнил… Он просиял. Он хватил кулаком по столу. На этот раз поудачнее: «Серега», который как раз ставил нам кофе, качнулся. Но не упал: я поддержал его локоть. Локоть был тяжел, как бревно: я согнулся и выпустил.
— Н-ненавижу! Я скоко сидел? Скоко сидел н-д задачей! А ты мне, с-собака: да все решили, и Агеев решил, и Абашкин! С-собака ты!
Выпрямляясь, «Серега» задел меня своим локтем — я чуть не свалился со стула.
— А-а! — затянул я с пьяной восторженностью. — Выходит, ты заперся от обиды? А-а! — радовался я, как дитя. — А мы-то решили: из вредности заперся!
— Из ненависти! — Вовчик опять хватил по столу. Фужер мой чуть не упал, я еле успел его подхватить.
Уходящий «Серега» на прощанье помахал своим бревнышком: шампанское выплеснулось и потекло по моему рукаву. Саксофонист нагнулся и достал из-за фоно палицу. Самая обыкновенная палица с шипастым металлическим оголовком и полуметровой гладкооструганной рукоятью. Он поставил разбойничье это оружие возле футляра своего саксофона (поближе ко мне), а сам отошел и начал невозмутимо дудеть.
— Ненавижу! — повторял Вовчик неукротимо. — Все бы отдал, чтобы услышать мяуканье сакса на похоронах.
—На похоронах? — я уставился в наполненный шампанским фужер. Странную картину я в нем наблюдал. Будто аквариум. Или, может быть, океан. Будто плавают рыбы. Будто пещеры, растения. Вот выплывает красивая черная рыба. Едва пошевеливая бархатными плавниками, замерла в потоке сверкающих пузырьков. А вот и лягушка. Аквариумный экземпляр: розовое, голое тельце, вздрагивающее от токов воды. Розовые, тонкие лапки. Распласталась на стенке, дрожит.
—Знал бы ты, что проделывал я в снах над тобой! — слышу я постороннее, внешнее.
Снова сны?.. Господи! Но я опять изучаю подводную жизнь. С ленивым пренебрежением, даже, кажется, закусив нижнюю губку, чернобархатная принцесса проследовала мимо лягушки. Та, цепляясь, пробежала было по стенке… куда там! Смотрит вдогонку.
— У-у, собака! — донеслось из внешнего мира. Но я э т о не слышу. Я исследую т о. А там из рощи изумрудных растений стрелой вылетает серебристая рыбка. Летит, хохоча! Только пенные струйки колышатся, а ее уже нет. Перебирая паутинными лапками, лягушка торопится вслед за шалуньей, вдруг срывается и падает вниз — на спину, неуклюже, смешно…
Из внешнего мира является пятерня. Уплотняется, повисает где-то вблизи. Но я э т о не вижу. Мне интереснее т о. Бедная ляга примеряет корову… нет, не налезает она! Узка и длинна. Сваливается на короткий загривок… Боже, да какая ж это корона? Это просто узкая, изрешеченная дырками трубка! Блестящий цилиндрик!
Пятерня из внешнего мира коснулась моего лица.
— Послушай! — сказал я, отодвинувшись. И в этот момент, успев угадать в неудачной короне, в этой пародии на царский венец вдруг проявившуюся в памяти бигудину — да-да! — пресловутую бигудину, я радостно восклицаю:
— Послу-ушай! Но ведь той — помнишь? — дурацкой придумкой с автоматическим шпингалетом ты же просто-напросто пытался обратить внимание на себя! Чего же ты толкуешь о ненависти? Н-ну? Царевна-лягушка!
— Ненавижу-у-у! — взвыл он.
Эта ненависть!.. Мне стало весело. Он играл сейчас в ненависть! А тогда — в шпингалет! Ему не хватало ощущения собственной значимости, потому что он не знал той простой истины, что души наши взяты из единого океана! Чувства родства ему не хватало!
Между тем он поднимался. Саксофонист, тиская зубами мундштук, мне сигналил глазами на палицу. А где-то у входа маячил «Серега». Надо было что-то придумывать.
Я взглянул на окна: витражи сияли разноцветными, райскими птицами, синими треугольными горами, зелеными лоскутами абстрактных полей… Балкон!.. За этими расцвеченными стеклами окон — балкон! Пальмы, фонтанчик, уютные столики… Невероятная мысль пришла в голову мне.
— Вовчик, послушай! — сказал с силой я, взглядом пытаясь приостановить его нарастание надо мной. — Послушай. Не верю я в твою якобы жуткую ненависть!.. Но погоди! крикнул я, когда он уже хватал меня за грудки своими большими руками. — П-пг-гди! Есть предмет… пре-редм…
Он вытаскивал меня из-за стола. Было нечем дышать. Я хрипел, задыхаясь. Ничего не оставалось мне делать, как только сунуть ему два прямых твердых пальца в одну интересную точку. Он охнул и отвалился. Саксофонист бросил дудьбу и ладонями изобразил пару хлопков. «Серега» зашагал через зал. Несомненно — чтобы унять хулигана. Хулиганом, несомненно, признают меня… Но Вовчик уже отдышался. Уже мог воспринимать информацию.
— Вовчик, спор! — крикнул я, пока он нашаривал, чем бы вооружиться. Принципиальный вопрос! Я готов сам покончить с собой! — выкрикнул, когда он хватался за спинку стула. — Понимаешь, все проиграл, все надоело!.. — Стул был тяжелый, дубовый, но в этой ручище он уже готов был взмыть надо мной. — Но… Но не верю я в твою теорию небрезгливого победительства!.. Докажу!.. Погоди!..
Голова все же у него была впереди эмоций и чувств. Задетый теорией, он в меня вперился. Уничтожающе — да! Но и ожидание было в его кровью налитом взгляде.
— Я нырну головой в это окно! — указывал я на витраж. — Я нырну на спор, но только в том случае, Вовчик…
— Врешь! — отреагировал он. Стул надо мной не взметнулся. А саксофонист втолковывал что-то «Сереге», удерживая его за рукав. У меня еще было какое-то время.
— Есть другая теория, Вовчик! По этой теории наши души взяты из единого океана человечьей души! По этой теории, если только встряхнуть тебя, Вовчик, как следует, ты не так уж меня ненавидишь, потому что в глубине твоей живет чувство родства!
— Врешь! — прохрипел он.
—Ты, Вовчик, дерьмо! И теория твоя тоже дерьмо! — Вовчик, уже раз подзадержавшись со стулом, никак не мог снова войти в то состояние, когда стул сам подлез к нему под руку. — Я вызываю на спор тебя со всей твоей дурацкой теорией и на кон ставлю ни больше ни меньше как… я прыгну в окно, если я проиграю!
Он, конечно, не вступит в спор! Да, за него еще стоило побороться! Его редкие и короткие белесые волосы привстали торчком на покатом, жабьем затылке. А веки работали как фотозатворы — так быстро мигал он, пораженный.
— У тебя крыша поехала?
— Ага! — крикнул я. Перед собой теперь я видел не Вовчика, и не мерзкую жабу, и не горемычную царевну-лягушку — кроткая ослиная морда тянулась к ладони, на которой держал я свежую булку. Я отвел ладонь чуть назад. — Я прыгну в это окно головою вперед, если…
Ну?.. — я молчал. — Ну? Ну?
Кроткая ослиная морда тянулась за булкой.
— Если ты выпьешь свой кофе! — и я взял его чашку. Я бережно взял ее и поднес к своим изготовившимся, помягчевшим губам. — Смотри: я плюю в твою чашку! — и я в самом деле плюнул. Не смачно, но достаточно звучно. Прямо у него на глазах (остекленевших и выпученных). — А теперь пей! — сказал я. — Если пьешь — я прыгаю головою вперед!
Только так! Довести до абсурда гнилую теорию! Небрезгливое победительство! Х-ха! А лицо его стало багровым. Шумно, с присвистом он втягивал воздух и на скором выдохе выпускал. Наш столик стоял в закутке между окном и боком эстрады, влюбленная парочка за единственным соседним столом не обращала на нас никакого внимания, саксофонщик прочно удерживал «Серегу» цепкой рукой, так что подсказки ждать было не от кого.
Он, конечно, не выпьет! И тогда… Инициативу не упускать!
— Раз выпьешь — один-единственный разик — и не увидишь меня! Никогда! — наяривал я. — Но ты врешь, что так уж сильно ненавидишь меня! И теория толкотни у кормушки, теория кратковременного выхода за рамки дозволенного… Пойми, человечество перейдет в высшую лигу, лигу Богов, только всем скопом, океан все равно очищается, и чем ты хочешь в нем, Вовчик, быть? Консервной банкой на дне? Ты же, Вовчик, москвич! — выпалил я и, кажется, зря. Перебор.
Нет, никогда не страдал он по части брезгливости, и я, конечно, помнил осу. Я бил на другое, я включал в работу его интеллект. Но в чем-то я перебрал, интеллект его заработал в другом, каком-то своем направлении.
— Деньги за стекло и за ужин! — я крикнул.
Нет! Интеллект его работал в своем направлении: Вовчик сунул толстую руку в карман оттянутых толстыми ляжками брюк и извлек еще пару сотен. Кинул на стол. Небрежно. Решенно.
Видит Бог: моя цель состояла не в том, чтоб его одурачить. Я оглянулся: «Серега» и саксофонщик по уши влезли в свои разговоры. Оркестр разбрелся, на нас никто не смотрел.
— Ну? — крикнул я. И это уже прозвучало беспомощно.
— Согласен! — откликнулся Вовчик. И попритих. А мне вспомнился бегемотистого вида швейцар, который точно так же побледнел, когда я спросил, как пройти на балкон.
«Нету балкона! Весь отвалился!»— фальцетно огрызнулся швейцар и попритих, побледнел. Я хотел зыкнуть в ответ.
Возразить что-либо вроде: «В стране, которая вот-вот развалится на куски, т а к и е балконы никогда не отвалятся!» — но, видя, как отчаянно перепугался швейцар своей лжи, промолчал.
— Я согласен! — прошептал Вовчик и принял чашку из моих дрогнувших рук.
— Так пей же! — заорал я. — Немедленно! Пей мои сопли!
— Я пью! Пью я! Я пью! — шептал он, примериваясь.
— Выпьешь — и не увидишь никогда больше меня! Никогда! — подхватив палицу, я выбил ею стекло и вспрыгнул на подоконник.
— Я выпил! — послышалось сзади.
Потрясенный, я оглянулся. Он был бледен и как-то особенно толст: капли пота стекали по рыхлым, подрагивающим складкам лица. И он поднимал чашку. Как под гипнозом, я следил за этой бордовой керамической чашечкой. Вот она взмыла высоко-высоко, зависла, вот медленно опрокинулась: последняя тонкая струечка вяло упала на стол… Ну, что ж!
Я повернулся к балкону…
Я повернулся к балкону и… не увидел его!
Ни пальм, ни фонтанов! Выходит, швейцар не надул?
Выходит, я обидел зря человека?
Вовчик сзади тошнился и кашлял.
«Может быть, мой прыжок не напрасен? — думал я, летя вниз головой в четырехмерном пространстве. — Может быть, именно сейчас и начался у него процесс очищения?»
И я летел и летел, и наслаждался небывалой свободой, а время парения растянулось безмерно, и серый панцирь асфальта, казалось, нисколечко не приближался…
Но как же он пил этот кофе, бедняга-а-а-а-а?
1990г.
Для меня нет сомнений в том, что хорошие книги излучают дивное, Божественвой природы сияние.
На книги Пушкина моя рука, вооруженная рамкой лозоискателя, откликается с расстояния около полуметра.
Александр Жулин.
Из цикла «Беседы с воображаемым собеседником».
ДУША УБИЙЦЫ -2
(записки пропавшего)
Арбалет, который я направил на свое кресло, был сооружен из домкрата и автомобильной рессоры. Рессора оттягивалась домкратом так сильно, что, когда срабатывал спусковой механизм, копье выметывалось метров на триста. Хорошее копье, из нержавейки. Я добыл его из комплекта для подводной охоты на акул. А спусковой механизм я приладил к педали, которую подставил под ногу Серовцеву.
Да, все было выверено: Серовцеву достаточно нажать на педаль, чтобы копье пронзило меня, пригвоздив к спинке кресла. Ребра ли, позвонки, я думаю, не помешали бы этому. Один удар по педали — и я так и останусь в кресле как бабочка, приколотая булавкой к картону. От удовлетворения сделанным у меня пробежал холодок по спине.
— Ни бэ? — хохотнул я, усаживаясь.
Серовцев, само собой, «бэ». Боялся, само собой разумеется. Да что там боялся — трусил до чертиков!
— Главное — помни: это твой шанс. Каждому в жизни дается единственный шанс! Не упусти!
Но он все помалкивал. Лицо посерело, стало крохотным, как у мышонка.
— Сделаешь передачу с настоящим убийством, со всеми реалиями типа вываливающегося языка, хруста костей, выскакивающих глаз из орбит — цены твоему видеоклипу не будет!
Этот мышонок будто не слышал. Ему не хватало жизненной силы, начала — животного, разума — четкого, аналитического, беспощадно-логического. Ах, как не хватало ему этих прекраснейших, необходимейших качеств! Я надеялся только на его профессиональный азарт.
—Мир на тебя смотрит! Вот так! — крикнул я и, разжав резко ладонь, выбросил ее ему прямо в лицо.
Он чуть не свалился со стула, но все же успел дрыгнуть ногой по направлению к этой педали; хорошо, что педаль пока что не была соединена с механизмом.
— Не сейчас! — сказал я. — Включай телекамеру, начинаем! — Он все заглатывал воздух, опоминаясь от страха. — К тому же это — не т а ладонь! Не чужая!
Только после этого разъяснения (а говорил я будничным тоном, даже ворчливо), только тогда отважился он взглянуть на мою выставленную перед его носом ладонь.
Ладонь, как ладонь.
В общем, я все отладил, Серовцев навел телекамеры; я сидел в кресле как министр Безопасности Нации неделю назад: закинул на ногу ногу, напустил значительное выражение на лицо.
«Сейчас Оно спит, — начал я тоном, каким министр начинал выступление о деструктивных силах, разъедающих общество, то есть, с сознанием превосходства как над силами, которые разъедают, так и над обществом, которое, как он полагал, поголовно уставилось в телеэкраны. — Оно спит, Оно сейчас в кулаке. В этом!» — показал правый кулак.
Помнятся, именно так начал министр и показал свой кулак, как будто бы там, в кулаке и поселялись эти отвратительные деструктивные силы, разъедающие наше несчастное общество, и что он лично, министр, не имеет никакого отношения к этому кулаку — это с одной стороны. А с другой — стоит ему покрепче сжаты его, как…
Вот именно «как» в моем случае не проходило. Я не мог сжать правый кулак. Я вообще не мог им управлять. С того момента, когда это там поселилось… Нет! Нет сил продолжать! Защипало в носу. Неужели никто, никто мне не поможет?.. Но стоп! Чего это разнюнился я? Я ведь решил и нашел способ с этим покончить!..
Итак, вспомним министра. Превосходный образчик!
— Мы погибаем! — говорил он столь жизнерадостно, что всякому становилось понятно: ни черта мы не погибаем! Ему просто надо вышибить деньги. — Мы погибаем, потому что деструктивные силы, преступники, гады всё размножаются, в то время как по вине демократов дороговизна растет, отчего здоровые силы рожать не хотят! А между тем ученые умеют работать над генами. Надо заставить их работать над специальными генами, определяющими существо человека. Надо, чтобы ученые научились вытаскивать из человека гены дурные, чтобы посадить на их место другие. Хорошие гены…
Может быть, я и дал слишком силы в своей саркастичной фантазии, но смысл его выступления, помнится, был именно этот. Мы с Ритой смеялись над этим напыщенным и в то же время беспомощным индюком. И в голову не могло нам прийти, насколько то, о чем он разглагольствовал, окажется связанным с нами. Не в части ученых и их генных проблем, но ближе, ужасней, убийственней!.. А мы с Ритой смеялись. Смеялись, занимаясь любовью…
Рита не была идеальной красавицей. Пожалуй, вообще красавицей не была. Но было в ней что-то, что заставляло многих на нее оборачиваться. Она была полная, высокая женщина, блузки были тесны для ее грудей, она двигалась царственно, плавно внося свое тело… нет-нет, зрительным эффектом здесь не кончалось. Запахи? Есть теория, будто секс-эффект достигается запахом: особые молекулы исходят от тел, и сила мужского или женского обаяния определяется той или иной концентрацией этих молекул.
Однако я-то увидел — нет, не увидел, а именно ощутил появление той, которую назову в скором времени Рита… да, я ощутил ее появление в многолюдном, прокуренном зале, переполненном мириадами посторонних молекул,.. ощутил буквально спиной, поскольку сидел к ней спиной, когда она вошла в огромный зал ресторана «Россия». Что-то заставило меня обернуться, но и тут я не увидел ее, вдруг… смех. Грудной, несильный, как бы ласкающий. Как бы приглашающий вас посмеяться — вот каков был этот смех, который донесся через все протяжение шумного зала. Этот смех манил, как воды прохладного озера манят в сушь и жару, и я пошел через зал: с раздвинутыми плечами, с поднятой головой, готовый на все, в том числе и на страшно драку, потому что за столиком, к которому она подходила с другой стороны, ее шумно приветствовали трое парней весьма развязного вида; по меньшей мере один из них был крут в самом деле. И как раз в этот момент заиграл оркестр.
— Разрешите?
Я сжал ее локоть, в то же время искоса оглядывая компанию: так и есть, крутой — чернобровый тип, сверкнув белками бешеных глаз, стал подниматься.
— Сейчас — или никогда!
— Пошли!
На что я надеялся? Думаю, я бы их всех раскидал, если дошло бы до дела, но кому бы она отдала предпочтение после?
И тут она повернула горбоносый свой профиль к компашке и сладко пропела:
— Э-эдик! Но это — мой муж!
И пока ошалевший Эдик заглатывал воздух, я ее уволок.
Боже мой! Это был тогда я, я — настоящий! Находчивый, злой, подчиняющий своей воле! Я, Борис Медедев!
Боже мой! Так щиплет в носу! Слезы, едкие, копятся!
Я беру себя в руки:
«Сейчас Это спит, — говорю веско, отцеживающе, подражая тому Медедеву, которым когда-то я был. — Но и когда Это спит, я все время ощущаю Постороннего в своей правой руке. Тот, кто там поселился, постоянно вмешивается, цензурирует мои мысли, поступки…
Опять не могу продолжать. Сводит горло. Хватаю себя за горло, массирую…
— Но и это не все! — выкрикиваю неожиданным тонким, проти-ивненьким голосом. — Я не нравлюсь Им!.. Они со мной что-то делают!.. Что хотят, то и делают… Что-то лепят из меня, что-то ищут, копаются… Что-то подсаживают… Я боюсь своей этой правой руки», — выдыхаю.
Все! Говорить не могу. Могу только думать. Могу вспоминать. Да и что говорить? Как объяснить, что Они со мной сделали, избегая подробностей интимной жизни моей?
Не знаю.
Самим эпизодом зачатья я был обречен стать хулиганом. Моя мать — слишком высокая, слишком мужественная, рациональная и ироничная (в том числе и к себе) женщина, женщина со слишком крупными чертами лица, со слишком басистым, прокуренным голосом — не была рождена для тихого семейного очага. Я могу представить себе сотни вариантов события, закончившегося проникновением живчиков в ее детородные органы — но лучше об этих вариантах не думать! Гораздо приятнее поразмышлять, кем
и каков был мой отец. Поскольку я, как особь мужского пола, удался. Не только высок, но и красив: бабы липнут ко мне. Не только имею голову на плечах, по сумею при случае взять быка за рога. Никаких комплексов, идеалистических вывертов, никаких сантиментов: если нужно — подхожу и по морде!
Но я — журналист.
У меня есть роман. На романе я намеревался сделать карьеру. 3а роман я воюю уже несколько лет. С редакторами и сотрудниками так называемых отделов писем, с литконсультами и просто жучками. С этими незамужними девочками после филфаков, с этими верткими мальчиками, сами протыривающимися в «великую русскую», с этими изжеванными старыми скептиками, предпочитающими ничего не читать, ничего не искать, а поддерживать имидж за счет толстопузых, маститых, известных… Что же, я знал, куда пру, и в минуты отчаяния позволяю только задрать физию к Богу, чтобы погрозить кулаком: «Ну, что ты? Доколе? Ну, я тебе!»
И вот возник Труев.
— Нет! — бормотал я, выходя из издательства. — Нет!
Труев был вторым, прочитавшим роман «Звезда хоккея». Первым был некий Леонид Леонидович, он обратил его в киносценарий. Но фильм не был закончен. Этот хмырь Леонид Леонидович выискивал нечто в романе. Нечто, которое я не мог обнаружить. В конце концов я послал хмыря на три буквы.
Труев, одобрил роман. Но хотел, чтобы я его подработал.
— Да, я согласен! — веско отвечал я ему. Труев предложил изменить название. «Звезда хоккея» рассчитано на публику-дуру, а у вас там что-то о поиске смысла. С учетом публики, которая все-таки дура, может, лучше назвать, скажем, так: «Возьми меня, НЛО!»
— НЛО? Но в романе нет никаких НЛО!
— У вас там хоккеист постоянно совершает чудовищные поступки. А винит во всем обстоятельства, окружающий мир. Он не верит ни в Бога, ни в черта, к кому же ему обращаться, кроме как к параллельному миру? И еще: инфантильный, он все время настаивает, чтобы кто-нибудь помог ему разобраться в себе. Чем не задача для НЛО?
Здесь была какая-то чертовщина: Леонид Леонидович раз за разом стремился выскочить за рамки сценария; тем же собирался заняться теперь этот Труев. Но я не собирался повторяться в ошибках. Труев вплыл в мою жизнь, как корабль, неожиданно для Робинзона обнаружившийся на горизонте. И задача была — абордаж. Дуло к виску, и команда:
«К штурвалу!» За шкирку — и заставить трудиться. Он хотел, чтобы я что-то там переделал. По части поиска смысла. Так пусть сам поработает!
— Да, и эта ваша идея блистательна! — я поддерживал его намерение провести отпуск в дажи-шумкайских каменоломнях: сам Труев работал над повестью о партизанах. — Нет ничего священней для нас, молодых, чем память о великой войне!
Отца Труева повесили наши. Свидетель рассказывал: когда будущие партизаны спускали под землю припасы, откуда-то выскочил лихой и чуть безумный комбат. Подозрение: прячут для немцев — чтоб откупиться при случае. Времени разбираться, естественно, не было, войска наши в спешке бежали, и комбат стал нагайкой хлестать отца Труева, который никак не мог уяснить ситуацию и все кричал:
«Я дал вам слово! Слово честного человека!». Тут кто-то и выстрели из-под земли… Комбат легко ранен, а старшего Труева и других, которых поймали, повесили без суда, тут же на месте.
— Да-да! — с жаром поддерживал я. — Настоящая война совсем неизвестна. Ваша повесть нужна молодым!
Труев пил со мной наравне. Его иллюминаторы горели теплым, дружеским светом. Это был громадный корабль, самой судьбой предназначенный для дела святого и праведного. И он хотел, чтобы роман поднялся до уровня Пользы Для Человечества.
— Вы для меня — просто ангел, сошедший с небес! — бормотал я, напиваясь (он, скотина, оставался трезвее, чем я!). — Такой славненький ангел, вот он нисходит с небес, ты нажимаешь курок…
Стоп! я заговариваюсь! Нескольких мгновений, которые начали разрастаться из-за того, что Труев молчал, осмысливая неожиданный поворот в разговоре, а я никак не мог выдумать отвлеченную от курков и ангелов тему, мы тщательно чистили кильки. Труев, скот, мастерски владел вилкой, прижимая ею головку, в то же время ножом снимая мякоть с хребтинки. (Я-то просто отмахивал голову и со скрипом отпиливал хвост).
Мы пили у него дома, и он не знал, как реагировать. Вот он отложил вилку и нож. Вот разомкнул ротовое отверстие, обрамленное сивой бородой и усами,.. вот потер лоб и… потянулся за пивом. Пиво забулькало в высоком фужере.
— Слушайте, Труев! — тогда начал я, исследуя это животное. — Вы и в самом деле считаете роман «Возьми меня, НЛО!»… полезным для человечества?
Он принял фужер сразу в обе ладони и слегка покрутил его. Пена неохотно срывалась со стенок, желтоватая жидкость вращалась…
— Да, — сказал он, умудренно уставившись в пену. — Этот ваш хоккеист — жуткий парень!
— Я знаю, вы так считаете! — настаивал я. — Ну, а скажите: что важнее, чтобы роман был подписан фамилией настоящего автора, но не издан, или чтобы был издан, но под другой фамилией?
Он продолжал прихлебывать пиво. Белая пена повисла на длинных усах. Когда он отставил фужер, обнаружилось пенное кружево и на бороде. У меня возникло желание извлечь носовой платок и аккуратным движением осушить эту растительность.
— Я как-то не понимаю, — наконец, выкаркал он. — Вы что же: не автор? — Он начал кашлять.
Он был хорош в своем детском смущении. Глаза его бегали по столу, опасаясь столкнуться с моими глазами. Крутой лоб мыслителя, весь в каплях нота, навис над остатками нашего пиршества. Передние конечности упали вниз, на колени, а локти странно ходили над крышкой стола; легко было представить, как там, на коленях, ладони терзают друг дружку. Мне оставалось приставить дуло к виску и щелкнуть курком: он был прижат мною в угол. Но мне хотелось растянуть миг торжества.
— В конце концов, авторство — дело десятое! — наяривал я. — Ну, знаем мы имена авторов четвероевангелия, но им-то от этого ни жарко ни холодно! Как только произведение создано, так оно начинает свою новую, отдельную от автора жизнь!
Труев откинулся на своем стуле. Передние ножки оторвались от пола, стул скрипел под тяжестью Труева, покачиваясь то от меня, то ко мне, задние ножки стонали.
— Не понял! — фальцетом выкрикнул он. — Прошу объясниться! Не понял! Вы — автор? Вы — присвоитель? Прошу дать точный ответ! Учтите: герои романа могут вам отомстить!
Он оказался хорош и в своем детском негодовании. Я им любовался. Полуоткрыв рот, я придал взгляду изумленно-дурацкое выражение. Он качался сильней и сильней.
— Упадете! — предупредил я его.
— А? Что? — ошарашенно вскинулся он и в самом деле чуть не упал. Стул качнулся назад больше, чем было задумано, Труев испуганно схватился за скатерть, скатерть поехала… Фужер дрогнул, качнулся, но устоял.
— Да нет, что вы, насчет присвоительства, Бог с вами, с чего вы, да нет же, не думайте, — забормотал я, внутренне хохоча. — Я же только хотел, чтобы вы, так сказать, помогли подработать, ну, значит, довести роман до высокого, вы понимаете, да… Я, значит, не против того, чтобы было соавторство! Я даже готов, чтобы вы подписали роман своим именем! Потому что, если, как вы говорите, он нужен!.. человечеству…
И опять скатерть поехала, фужер брякнулся, пиво разлилось, пальцы Труева напрасно вцепились в материю — он так сильно качнулся назад, что я, едва успев ухватить его короткие пальцы, поневоле сжал их, да так, что он застонал.
Я тянул его руку к себе — медленно он возвращался. Вот стул перевалил через точку верхнего равновесия, и Труев ударно, скачком вернулся ко мне.
— Милый мой! — выстонал он (я внутренне хохотал). — Талант! Настоящий талант! Расточителен. Щедр.
Неуверен в себе — признаки налицо! — говорил он, глядя и не глядя в глаза мне, потому что его-то глаза развлажнелись, все там поплыло, заполнилось искажающей влагой.
— Да нет! Что вы! Не надо! — как можно более жалостно выговаривал я. — Я просто никогда не сумею отделать. Какой я тал-л… ну что вы!
И вот тут произошло что-то. Какой-то момент я упустил. Стул словно бы снова перевалил через неустойчивую точку своего равновесия — Труев стал отдаляться.
— Сможешь! — заорал он вдруг на меля. — Я говорю тебе: сможешь! Ну-да, ты — сумеешь! Талант! Гений! Ма-ал-чать! Говорю тебе: завтра передаю замечания… Завтра начнешь! Сам! Са-ам! И никаких больше сомнений! Это говорю тебе я! Труев! Малча-а-ать!
А я ничего иного не мог, как только — ма-алчать. Я ведь и в самом деле не автор романа.
Но тут волна в комнату Рита, и все изменилось.
Вот так. И без Риты нельзя обойтись. Серовцев выключил камеры, ждет. А я не могу, не знаю, как мне об этом рассказывать. Рита — жена Труева, она-то и есть главная скрипка во всех последующих ужасных событиях, о которых я должен, я не имею права не рассказать всему свету. Она меня познакомила с Труевым, когда я поведал о своих позорных хождениях по редакциям. И вот она вошла в комнату и, прижавшись сзади ко мне, молвила:
— Труев! Не ори на него. Ему нужно помочь — сделай все сам!
У Риты был именно такой недостаток она совершенно не умела оценить ситуацию. Она была мастером эффектного действия. Но как только ситуация требовала деликатности, где действий не требовалось, а нужно было только втихую войти, чтобы затем овладеть, все с ее мятежной руки начинало вообще разрушаться. Труев, ошарашенный тем, с какой простотой супруга его прижалась к чужому мужчине, ошарашенный и тем не менее мгновенно принявший решение ни в чем ей не мешать (Труев создавал о себе мнение, будто бы принимает мир, как он есть; это давало стойкость при потрясениях и внушало к себе уважение простаков), Труев, мастер н е д е я н и я, не принял ее слов не потому, что пытался хотя бы в чем-то выступить против нее, изменницы, наглой супруги, а потому, что в такой ситуации ему и вообще-то было бы лучше не действовать.
— Нет, — сказал он и на этот раз сказал окончательно (что я почувствовал сразу), — я как раз и не сумею помочь! В этом романе заложена скважина, обещающая так много богатств, какие вытянуть мне не под силу. Только сам мой злоталантливый друг может довести бурение до драгоценных недр… А вам я не буду мешать. Я удаляюсь. Немедленно. Сейчас — в Ивантеевку, к матушке, завтра — в каменоломни!
Злоталантливый! Юный! Какой я вообще-то я ему друг? В его тоне была смехотворная театральность. Удавить его было моим высшим желанием. Но надо было хоть что-то спасти. Он смотрел на Ритину грудь, которая возлегала на плече у меня. Затем повел ладонью по своей бороде и, захватив лук волос снизу, слегка подергал его.
— Когда вы подготовите свои замечания? — будничным тоном осведомился я, пытаясь скрыть неуверенность.
— Сейчас! — тут же откликнулся он. — Сейчас я в ударе потом — не уверен, Запоминайте! Записывайте, если хотите!
По тому, как, охнув, Рита рванула за бумагой и ручкой, я понял, что на него накатило. Когда накатывало, надо было записывать — так она говорила. Я не был в этом уверен. Рита не казалась мне умницей, поэтому что там накатывало, надо еще разбираться. Но дело касалось меля. Я приготовился слушать.
— Литература — это создание образов! — Труса поднялся со стула и начал расхаживать. — Только образ остается в веках, поэтому всякий новый герой, это создание Богоподобного автора, должен вызывать интерес!
Труев был человек крупный, ходил тяжело. Я прикидывал: если схватить за брючный ремень, я бы, пожалуй, его приподнял, но вот забросить через комнату на диван, пожалуй, не смог бы. Сколько лет ему? Шестьдесят?
— Эти герои, продукты фантазии авторов, живут параллельно миру людей. Вот комический элемент: черти! Где они? Куда подевались? Ну не дураки наши предки, если столько веков общались и воевали с чертями! Не дураки! А сейчас черти исчезли, потому что писатели, люди искусства, люди с творческой жилкой забыли о них.
— Сейчас летающие тарелки? — Рита спросила.
— Ага! — он кивнул. — НЛО!
Досада, негодование, гнев — вот чувства, которые охватили меня. За ними с необоримой силой возникло желание столкнуть лбами — да со звоном, да с громким! — эти два нелепые существа… Потом проявилось намерение бросить все это дело к ч е р т я м, да, к тем самым чертям, или пусть даже к тарелкам, конечно, к летающим. Ореол Труева мерк, Рита не волновала меня. Скрипучим, старческим смехом я отозвался на вопрос о моем мнении о посуде, бороздящей воздушные океаны над нами. Но они — этот полоумный шестидесятилетний мудрец и дура-супруга его — всерьез обсуждали возможность контакта с параллельными мирами, в которых живут творения идиотов с творческой жилкой.
Труса — задумчивый буйвол — пер мимо меня. Я вытянул ногу, достал (как бы нечаянно!), Труев растянулся в проходе.
— Я задал вопрос, — проскрипел я с железной настойчивостью. — Где же ответ? Где замечания?
Тут вскинулась Рита. Правда, Паша (да, именно: Паша!) мы отвлеклись! Труев тяжело двигался на полу. Паша, сформулируй свои замечания! — Рита взывала. Труев поднялся.
— Но именно этим я занимаюсь, мой друг! — Труев тер лысый лоб, теребил сивую бороду. — Вы неосторожно бросили фразу о том, что как только произведение создано автором, так оно начинает свою новую, отдельную от автора жизнь! Видите: я повторил вашу речь слово в слово! Потому что в ней скрыта небольшая ошибка. Не произведение — нет! Но — герои! Герои начинают свою новую, отдельную от автора жизнь! Поэтому-то я и пишу повесть о партизанах и об отце — ведь он оживет! Да-да, оживет, если
я сумею создать его образ. Поэтому мы и отвлеклись на тарелки: раз о них пишут, мечтают — они тоже живут, существуют. И если ввести в роман НЛО… О-о! — он засмеялся.
— Помогите! — сказал я. — Давайте вдвоем!
— Ну уж нет! Я отдаю Риту, так еще и роман за вас написать?.. — отвечал он с саркастическим смехом. Герои романа накажут за это! НЛО нас накажет! — он странно, странно смеялся. — Но героя, хоккеиста-то этого, вы раскрутите! Раскрутите героя, допустим, с помощью НЛО! Вот вам задача!
Хлопнула дверь, мы остались одни.
Я был зол и растерян. Рита напевала что-то на кухне.
— Послушай! — я крикнул. — Это кваканье… Ты развела в квартире лягушек?
Но она не поддержала моего настроя на ссору. Она кончила петь. Она предложила созвать гостей.
Я абсолютно, ну абсолютно не знал, как теперь быть. Предложение Риты взбодрило. Я вспомнил про Зину и позвонил. Рита, суя в духовку куриные ноги, ввернула, чтобы Зина приходила с приятелем, что я передал. Рита — в отместку за Зинy — позвала Эдика, и тот пришел, но — один и с гитарой. И, конечно, все перепуталось.
Недоумевающий Эдик пел и играл на гитаре. Зина млела от Эдика. Ее хахаль-приятель, поблескивающий прилизанными золотистыми волосами, поглощал рюмку за рюмкой, быстро хмелея и начиная поглядывать на мою Риту.
Вдруг Рита крикнула:
— Хочу танцевать на столе! На столе!
Разумеется, я не повел бровью. Но Зина — и тот, золотистый болван, взяли за углы скатерть и под вопли сумасшедшего Эдика, успевшего вызволить и затырить под стол все спиртное, сволокли ее на пол.
Эдик ударил по струнам. Рита задвигалась, затрясла телесами на пространстве три метра на метр, овевая нас подолом снизу нечистого платья… Все это было совсем, совсем неуместно, учитывая как тесноту комнаты, так и то, что Рита отнюдь не была маленькой женщиной, а босые ступни ее оказались слишком грубыми для близкого взгляда. Я выхватил у гитариста гитару и рубанул ею по золотистой макушке.
Зина, ликуя, повисла на мне; из-за спины ее взбудораженный Эдик пытался достать меня кулаками. Вырубленный мною золотистый чурбан, подвывая, интересовался, за что я его. А я, свирепея от неудач, от неуместности Риты, от натиска ненужной мне, отработанной Зины, пытался оторвать от себя Зинино коренастое тело, и вся суматоха грозила обернуться пошлейшей бузой, как вдруг Рита (за что и любил!), резко выключив свет и выткавшись в полутьме с чем-то громоздким в руках (кастрюля с водой), опрокинула на нас леденящий поток.
— Уж такая я б.., что не могу без скандала? — изрекла в наступившем безмолвии, прерываемом чавканьем ее босых, хладнокровных шагов…
Фраза застряла в ушах, и позже, в жарком борении неистовой нашей ночи эта фраза время от времени выплывала, и я начинал хохотать в самый неподходящий момент.
— А ты-то, а ты! — смеялась она, раскрывая свои крупные желтоватые зубы. — Отелло!
Чем-то мне нравилось это сравнение. Чем?
— Вот чего нету у Труева, так это — Отелловой страсти! — пропела она, поднимаясь с постели и беря свое платье.
— Ага! — вторил ей жеребячий мой гоготок.
— Люблю его, — вдруг сказала она, а я, не услышав, не вняв, еще погогатывал. — Его я люблю! — повторила она.
Да, она одевалась. Одевалась, не ожидая меня.
— А меня? — спросил я, готовясь к новенькой хохме.
— Утимизирую! — шyтливо потрепала меня по щеке. — Для удовольствия тела.
Похоже, хохма затягивалась. Пора было закончить ее, но нужно было кое-что выяснить. С леденящей трезвостью я вспомнил о Труеве и вспомнил, что, может быть, упускаю свой шанс. При этом Рита оделась, я же лежал.
— За что же ты любишь его, голубка моя? — вкрадчиво я вопросил. Она как раз начала подкрашивать губы.
— А ты и не понял? Ведь ради того, чтобы я переболела тобой, только ради того, чтобы я прошла этот путь,.. потому что он-то считает, что каждый обязан пройти спой путь до конца, он разрешил нам остаться здесь! Он без боя уступил тебе меня… ради меня! — говорила она, трогая малиновым карандашиком губы.
— Непротивление злу? — ласково я уточнил.
— …Он светлый, он светлый, — говорила она. — Он собирается в каменоломни, а я не проводила его… Мне стыдно, что именно в этот момент, именно в этой квартире…
— Но ты же сама говорила, голубка: его принцип — принимать мир, как он есть!
— …Я предала его, да!..
— Его принцип: недеяние! Не ты ли мне говорила об этом, гордясь, но и как бы с насмешкой?
— …Но всё! Я переболела тобой!..
— Его адрес, голубка моя! Где живет его мамочка?
— Там! — она кивнула на письменный стол. — Конверт. От свекрови. Ты собираешься ехать к нему? Не смей! Я одна! Обними меня на прощанье, последний разочек, и я еду к нему! Обними, я прошу! — шептала она, приникая.
И тогда я выхватил браунинг, припасенный для Труева: «дуло к виску, и команда…»
— Ты куда? Ты к нему? Ты дура? — железными пальцами я сжимал ее плечи.
— Да, — легко согласилась она. — Уж такая я добрая дура! Да, дура! Я еду к нему.
Я молчал, не отпуская ее. Ее плечи начали обмякать.
— Добрая дура с неизбывной надеждой, — подтвердила она, обмякая. Сила пальцев моих проникала в нее — я это ощущал всей своей шкурой.
— С неизбывной сексуальной надеждой, — наконец прошептала она. Ее тело стало покорным. Я знал, что уже победил, но мне было этого недостаточно.
Я расстегнул пряжку ремня.
Добрая дура… Что может быть лучше, чем добрая дура? Добрая дура — мечта обывателя. Зачарованно эта добрая дура наблюдала за тем, как я вытягивал из петель на брюках ремень. Ремень был широк, петли — малы, ремень заедало, но мне некуда было спешить.
— Платье тебе лучше было бы снять, — посоветовал я.
Не отрывал зачарованного, доброго взгляда от пряжки ремня (небольшая, пластмассовая, герб города Киева в рамке), дура с неизбывной сексуальной надеждой начала стаскивать через голову это тесное в талии, по широкое снизу летнее платье. Вот я увидел крутые белые бедра, повязанные желтыми трусиками, вот — несколько выпадающий, обширный живот, вот — висячие груди…
Не предупреждая, я с силой ударил.
Она завизжала. Она забыла вовремя расстегнуть ворот, и платье застряло. Руками она тянула вверх это тесное платье, голова ее была окутана голубоватой (с изнанки) материей, а я, видя беспомощность крупного тела и наслаждаясь этой беспомощностью, начал раз за разом наносить с умеренной силой удары, испытывая от этого все большее возбуждение. Полные ягодицы колыхались под моими ударами, пряжка ремня впечатывалась в молочно-белую кожу, я приходил в состояние, близкое к умопомешательству…
Но вот что-то треснуло. Тупо цоквула об пол и покатилась выпуклая желтая пуговка. Рита, наконец, освободилась от платья и рухнула на меня, обвивая руками.
— Ну еще, ну еще! — кусая меня, жарко шептала она, и руками все стискивала меня, и мои руки с ремнем оказались зажаты. Резким, сильным движением я сбросил с себя ее руки и снова ударил, но на этот раз неудачно: ремень ушел вниз, скользнул по ногам. Она снова попыталась меня обхватить, и снова резко, ударно, предплечьями я выбил вверх ее толстые руки и, отступая, теперь уже начал хлестать ее зло, прицельно, не подпуская к себе…
А когда я бросил ее на диван и, изламывая, ворвался в нее, она истаяла у меня на руках до последней молекулы.
— Какой ты! — восхищенно говорила она, прижимаясь всем распахнутым, жарким телом ко мне. Но мне надоело. Покусывая сладкую немецкую жвачку, я лениво раскинулся, а она, тяжело наваливаясь на меня, все еще чего-то ждала.
«Труев считает, что если писатель талантливо придумал героя, то тот оживает — пусть и в параллельных мирах, и даже может отомстить за создателя, — размышлял я лениво. — Бред, конечно, бред детский, но занимательный! Этот Труев странный такой!»
— Ах, секс, это всегда немножко насилие! — ворковала Рита, ласкаясь. Я не слушал ее. Мысли свободно текли, я наслаждался покоем.
«Этот роман написан тем, кто знал меня, как облупленного. Он и писал своего хоккеиста с меня. Но вот вопрос: как же этот чурка-писатель мог мне, такому матерому волку, доверить свою рукопись? Люди глупы, и в первую очередь писатели! — подытоживал я. — А вот вопрос к Труеву: как может хоккеист из романа отомстить за создателя своему прототипу? Вот бред-то, вот бред!»
— Даже не думала, что может быть наслаждение в том, когда тебя бьют! — шептала она. — Любят и бьют!
«Труев советовал «раскрутить хоккеиста»! Кого раскрутить, если хоккеист этот — я? Меня раскрутить? Но что я такое?»
— Рита, — спросил я. — Что я такое?
— Ты — помесь чертополоха с будильником! — неожиданно перебила она.
— Чертополоха?.. Но почему же с будильником?
— Твои ходы предсказуемы и неизбежны… Я не хочу, чтобы ты ехал к нему… Я люблю Труева, — сказала она.
Этими словами она словно отхлестала меня по лицу. Я поднялся и, не говоря больше ни слова, ушел. Никакая не дура с надеждами. Обыкновенная стерва.
«Станция Ивантеевка-2, к которой за час меня доставила электричка, как показалось, располагалась прямо в лесу. «А автобус удрал!» — радостно сообщил некий тип, которого принял я за обычного забулдыгу…»
Тут Серовцев начал делать мне знаки, камера дрогнула, изображение на экране затряслось и поехало. Ну что, Серовцев, что? Что из того, что это тебя я встретил на станции? Что из того, что показался ты мне забулдыгой?
Ну вот, только я начал телебеседу, как он…
«Ночь была июньская, светлая. Высокие сосны шумели где-то высоко над головой, — я продолжал, уставившись в камеру, — дорога серебрилась в свете луны. Не задумываясь, я пошел было по ней, как вдруг какой-то звук заставил меня оглянуться: так и есть, забулдыга!
— Чего? — крикнул я.
Его лицо, неестественно светлое при луне, странно кривилось то ли в улыбке, то ли в пьяных ужимках, но рукой он подзывал, приглашал, настаивал подойти.
Почему я подчинился? Не знаю.
Как бы то ни было, я вернулся:
— Так чего?
Он был пьян. Пьян, несомненно! Это небольшое лицо, узкое, как у мышонка, эти кривые ухмылки, зазывающие эти движения… Будь я суеверен, догадался б задуматься!
— В чем дело? — спросил строго я.
Вместо ответа я увидел вдруг гримасу отчаяния: внутренние концы бровей задрались вверх, губы округлились как бы в попытке извлечь длинное «о-о», в глазах… в глазах мелькнуло выражение страха.
Вот только сейчас мне стало не по себе.
— К чертям! — рявкнул я и, развернувшись, пошел.
И вновь странный звук заставил вздрогнуть меня. Однако, решив не обращать внимания на этого то ли чеканутого, то ли вдребезги пьяного типа, я быстро шагал по асфальту. Внезапно послышался вопль. Вопль загнанного, терзаемого человека.
Так же резко опять изменив курс, я вернулся, схватил типа за шкирку, хорошенько потряс.
Если бы совсем недавно до этого не объяснял бы он мне — внятно, членораздельно! — про удравший автобус, который не стал дожидаться последней ночной электрички, я бы решил, что он или псих, или человек, потерявший дар речи! Он был невменяем. Я тряс его, тряс, его некрупное, костистое тело послушно ходило в моих руках, а мне все было мало, я совершенно потерял контроль над собой. Вдруг что-то словно бы остановило меня. Слов я не услышал, но слово каким-то образом возникло во мне.
— Что? — переспросил я, холодея. — НЛО? Тарелка? Летающая такая тарелочка? Существо параллельного мира? — вспомнил я Труева. — Ожила чья-то фантазия?
Не отвечая, он улыбался, кивая.
— Где? — кричал я. — В лесу? Возвращаться назад?
Он явно пытался заинтересовать меня этим невысказанным сообщением. Но кто он? С чего я должен верить
ему?
— Кто ты? — заорал ему в самые уши, предположив, что может быть у него поврежден слух.
И что же? Он лезет в карман и достает из него удостоверение личности. «Кинооператор Серовцев Владимир Иванович» — прочитал я при свете луны.
Несомненно, это было безумие. Да разве сам вид этого з а т р о н у т о г о человека не говорил мне об опасности?
Однако, отбросив его, я побежал. Пробежал чуть вперед и обомлел: лес — далеко впереди — был залит призрачным серебристо-лиловым сиянием. Стволы сосен высвечивались в этом сиянии черными прямыми столбами.
Я мчался по лесу, как лось — легкими, большими шагами, не оступаясь, всякий раз с изумлявшей меня самого точностью опрыгивая бугорки, цеплючие ветки, проямины… чесал, как безумный, притягиваемый жутким, волшебным сиянием.
В моей жизни имеется человек — враг, настоящий, заклятый. Он старше, он опытней, он знает и умело пользуется какими-то иными способами жить, мне непонятными, и несколько раз он меня побеждал — да с каким унижением для меня! Ненависть переполняет меня, как только я вспомню о нем, ненависть, заставляющая ночами вскакивать с бьющимся сердцем… сердцем, бьющимся от радости по случаю приснившейся победы над ним — пошлым, высокомерным. Так вот: умом понимая, что мне следует его
избегать, чувством я постоянно стремлюсь к нему; он незримо присутствует, когда я вынашиваю свои планы, и когда я не знаю, как лучше себя повести в той или иной ситуации, я прикидываю, как поведет себя в аналогичной ситуации этот подонок Леонид Леонидович.
Вот что-то подобное я испытал и сейчас, когда, понимая, что не надо, не надо искать мне встречи с этой тарелкой, с порождением этого параллельного мира, тем не менее, со страшным упорством я торопился на встречу.
Вдруг лес расступился: большая поляна, в центре — Оно, прозрачно-белая громадная каска на изогнyтых ножках. Ножках — толщины паутинной.
Свет от Него затопил и обшарил поляну, на краях которой с суровой бесстрастностью замерли освещенные добела сосны с высокими шлемами крон. Только сейчас понял я, какое безмолвие царило вокруг: мало того, что мертво умолкла лесная ночная жизнь, но и сами деревья замерли, как великаны в строю, не смея перешепнуться друг с другом. Ничто под ногой не трещало, не свиристело, не плакало. Но — будто бы хрустальная, тишайшая музыка.
Я весь преобразился. Только что — нетерпеливый, ликующе-жаждущий, сильный, как зверь, я бежал, словно страшась опоздать, теперь же… Теперь что-то дображивает во мне, успокаиваясь, и из чувств и надежд произрастает нечто другое: бесстрастно-послушное, ловкое, как вышколенный английский слуга.
И, как вышколенный английский слуга, повинуясь неслышимому, неразличимому (для чужих) тайному знаку, я делаю шаг, и тотчас навстречу мне ложится ковровой дорожкой приглашающий луч. Я подошел, встал на площадку, бесшумно распростершуюся передо мной, и спокойно, бесстрастно поднялся на ней в распахнувшийся вход.
Здесь следует сказать вот о чем. Неверно было бы думать, что я подчинился Их воле. Нет! Я совершенно не могу описать сейчас, что же Там было, но я помню одно: я все время контролировал свое поведение! Я понимал: Они меня изучали! Чем-то я Их привлек, что-то было во мне, что Их очень заинтересовало, и я знал: я должен быть таким, каков есть! Должно быть совершенно естественное, ненатужное поведение. Но это не значит, что я подчиняюсь. Просто всякий раз, как дать какой-то ответ на совершенно забывшиеся ныне вопросы, которые Они — нет, не задавали, но в н е д р я л и в меня, я всякий раз хладнокровно обдумывал не то, как было бы лучше и безопасней ответить, а то, как бы ответить наиболее обычным для меня образом. В этом — инстинктивно я ощущал — было спасение.
И в конце сеанса, который длился, как позже я вычислил, несколько дней(!), всплыл последний вопрос (как бы в благодарность за примерное поведение): чего бы хотел я?
Чего я хотел?.. Труев ни на секунду не выпадал из меня!
И что-то похожее на вздох удовлетворения, исторгнутый из недр Того, кто мной занимался, я ощутил.
Мгновенно возникшее чувство, похожее на невесомость, — и я оказался над Труевым. Да, я висел где-то над ним, видя его и зная при этом, что он не видит меня. Ничего великолепнее и придумать нельзя)
Итак, я оказался над пустынной равниной. Тарелка зависла над ничем не примечательным местом, и даже входы в каменоломни я сразу не углядел. Впрочем, нет, вот один!
И с этого момента началась веселая охота моя.
Труев стоял на отвале возле ствола шахты — круглом отверстии диаметром несколько метров. Над ним высилось Г-образное сооружение с двумя блоками, увенчивающими верхнюю перекладину, а рядом торчало другое, типа колодезного ворота. Труев, как видно только что, пропустив веревку через верхние блоки, привязал ее к барабану ворота и сейчас трогал веревку, проверяя на прочность.
Восходящее солнце косо освещало пейзаж, так что свободный конец веревки уходил как бы в черную ямищу — ничего в глубине не было видно.
Вот тут ему впервые почудилось, будто за ним кто-то следит! Он поднял голову, огляделся.
— Что за черт! — пробормотал, осматривая золотистые, склоны холма — пустынный на многие километры, библейский пейзаж. Что-то, похоже, ему не понравилось, потому что, приставив ладонь козырьком к своему здоровенному лбу, он долго и долго искал что-то взглядом.
— Что за черт! — повторил. Но все же, покрутив рукояткой, извлек веревку из ямы и привязал к ней здоровенный мешок. Затем спустил его вниз, лег на живот и, потихоньку сползая задом, в какой-то момент извернулся, схватился за веревку руками, обнял ногами и нажал спуск. Вот туловище скрылось в отверстии, и голова — большая, яйцеобразная, лысая, увенчанная бородищей — покрутилась туда и сюда. Я думал, что теперь-то он попрет вниз, как лифт, — так нет же! Ничуть не бывало!
Он был крупен, увесист, но все же, будто не беспокоясь о том, чтобы поберечь силы, вдруг начал, трудно дыша, карабкаться вверх. Вот вылез, лег животищем на бруствер-отвал, перевалился. Вот сел. И опять огляделся.
Нет, он не мог видеть меня! Хотя никто и не говорил мне об этом, но каким-то образом я это знал. Но когда он задрал свою лысую голову и взглянул сквозь меня, стало не по себе. (Тут надо объяснить необъяснимое: не только он, но и сам себя я не видел; тем не менее я находился над ним! Метрах в десяти над его головой!)
— Кыш-ш-ш! — потихоньку я прошипел — скорее для пробы: слышит ли он меня?
— А-а, это вы, Медедев! — неожиданно откликнулся он.
— Давайте! живо спускайтесь!
— Зачем? Почему вы на меня наседаете?
— Партизаны! Отец! Гибель отца! Сумасшедший комбат! — подгонял я его.
— Нет, честное слово! Вы можете сделать это и сами. Прекрасно можете сделать! Вы знаете, в вас есть сатанинское что-то! А я не смогу. Нет-нет, не сумею!
— Лезь, сучий потрох!
— Ведь там не так уж много надо добавить. Полет фантазии — и ничего больше! Надо же объясниться! Вы это сумеете! Вы о себе! О себе — полсловечка! Лермонтов чуть-чуть рассказал о себе — а Россия полтора века в задумчивости! Или же я ошибаюсь? Не вижу ли в герое романа — не героя, а вас? Не проще ли все это в романе-то?
Он опять закрутил башкой — быстро-быстро, как биллиардный шар, трепещущий перед лузой. А я понял, что он не слышал меня. Он просто вел со мной диалог. Заочный, не прекращающийся ни на минуту. Шар вертелся, вертелся, вдруг — р-раз! И исчез. Впрыгнул в нору. Куражась, я крикнул:
— Па-ашел!
А он вправду «па-ашел»! Перехватывая веревку руками, упираясь в стенки ногами, он начал скоренько опускаться.
— Эгей! — орал я, наслаждаясь тем, что он не слышит меня, но, как бы выполняя мои указания, поспешает.
Ему надо было спуститься метров на двадцать. Оттуда к стволу шахты выходил горизонтальный заброшенный штрек — он предназначался для роли артерии, подпитывающей отряд продуктами и информацией.
Труев сделал сорок девять перехватов руками, когда правой ногой вдруг не сумел нащупать опору, в то время как левая скользнула вместе с обрушившимся пластом земли. И он повис на руках. Он повис на руках, этот крупный мужчина в возрасте за шесть десятков.
— Прыгай! — подсказал я ему.
Но он никак не отваживался.
Тогда я, подбежав к шахте (это случилось непроизвольно и так, что я даже не заметил, как выскочил из НЛО), распластался на пузе и заглянул в отверстие-вход: Труев, намертво вцепившись в веревку, застыл.
— Прьг-ыгай! — я завопил. И он выпустил веревку из рук.
Не так уж много он пролетел — метра четыре, не больше. Он опустился на ноги, подсел по инерции и мягко,
вполне грамотно, повалился на спину.
Тогда я принялся за игру с извлечением веревки наверх.
В полутьме шахты видно было неважно, тем не менее, я наблюдал: вот он, увидев, как веревка вдруг шевельнулась, и продолжая лежать на спине, вытаращился на нее, ожившую вдруг; вот перевалился на бок, пытаясь ухватить непослушной рукой за конец; вот, не поймав, разочарованно смотрит, как шаловливый кончик болтается в каком-нибудь метре; вот, еще по-видимому не поняв, чем грозит неуспех этой
игры, рванулся всем телом, вытягивая жаждущую руку вверх… тщетно! Веревка взвилась и зависла над ним в паре метров. Тогда он вскочил и в пылу страсти подпрыгнул. Хвостик, скользнув по ладони, истаял. Он вновь подпрыгнул — и вообще не достал. Наконец, взглянул вверх.
— Труев! — позвал я. Негромко позвал.
Но меня он не узнал. Я так понимаю: он смотрит вверх, видит небо — голубое, прекрасное, далекое небо. И там, в этом лазурном окружии чернеет овал чьего-то лица — маленький, неразличимый.
Но полно! Пора дать понять, чьей милости он обязан своим злоключениям — и происшедшим, и тем, что еще предстоят! И, сунув камешек в конверт с фотографиями, которые по причине, до конца и сейчас мне неясной, я постоянно держал при себе, я швырнул конверт в шахту.
А он, до последнего задиравший башку свою вверх, как раз в этот момент ее опустил. И посылка пришлась ему аккурат по макушке. Он схватился за голову. И опять, вопреки всякой логике вместо того, чтобы взглянуть, кто там кидается почтовыми атрибутами, наклонился к свалившемуся с неба подарку и забрался ручищей в конверт.
— А я-то все думаю, чьи это проделки! — пробасил, разглядывая фотографии.
Это были у д а р н ы е момент-фотки. Золотоволосый лизун — хахаль Зинки, после удара гитарой рабски покорившийся мне (плюс, конечно, еще и оплата за мучительный труд!), запечатлел скрытой камерой несколько вольных поз, в которых сплелись наши с Ритой тела и которые вряд ли принадлежали к арсеналу вольной борьбы.
Но Труев был великолепен. В словах, с которыми он обратился ко мне, не было и намека на терзания рогоносца.
— Эй, Медедев! крикнул мне Труев. — Хотите поговорить о доделке романа?
Каков гусь! Складывалось впечатление, что он никак не мог поверить в катастрофичность своего положения. Пошло было бы отвечать ему небольшим, скажем так, камнепадом.
— Что ж! — так же разудало ответил я. — Будем считать, что вы правы!
— Ну так спускайтесь!
Каково? Он не просится наверх, его устроит и встреча внизу! Я опустил веревку к нему:
— Хватайтесь! Не обещаю, что вытяну до конца, но…
Я не был уверен, что он решится: ведь он попадал под мою чрезвычайную власть! Отпущу — и двадцать метров полета) Две секунды полета, и — чпок! Но он сразу схватился мне пришлось упираться что было сил, чтобы его удержать.
Когда я почувствовал, что он уже капитально завис на крючке, то, налегая всем телом, начал накручивать рукоять ворота. А когда веревка была извлечена примерно до половины, ввел фиксатор в просвет между зубцами стопорного устройства.
— Ну как? — крикнул ему. — Есть еще порох?
— Ага! — отвечал он жизнерадостно.
— А теперь отдохните! Вцепитесь в веревку — если хотите, зубами — и слушайте! Слушайте мой ультиматум!
— Я слушаю, слушаю! — легко он отвечал. Он задрал ко мне лысину лба, веник бороды лег на веревку, он приготовился слушать, вися. Как крупная рыбина, рассматриваемая изумившимся рыболовом.
— Я, Труев, с и д е л! — произнес я с ударением.
— Поздравляю! — тут же откликнулся он. — Для писателя — опыт огромный. Я-то, увы, нет, не сидел! Поздравляю!
— Я, Труев, сидел, у меня упрощенное отношение к жизни и смерти. Вот отпущу стопор и…
— Да зачем же? — опять перебил он меня. Легко врезался в мою речь, жизнерадостно. — Что толку-то, что? Ну, гикнусь я, ну, сломаю хребтину, и что?
Этот скот так легко отвечал, что путал мне карты. Будто не он там висит, напрягая все силы, будто не ему, девяностокилограммовому старому дяде там неуютно, а мне!
— А затем Труев, что, когда я сидел, один чурка-писатель передал мне, отбывшему срок, адрес и два телефона. Явившись по адресу, я получил пару сотен за труд и папку с романом… Конечно же, больше я никуда не звонил!
— Так зачем отпускать стопор? — после некоторой задержки, возразил Труев. — Давайте, я выберусь, и мы как следует все обсудим.
Гнусность была в том, что каким-то образом он меня вынудил на другой, интеллигентный тон разговора.
Отпустив стопор, я наблюдал, как веревка, поначалу медленно отползая, раскручивая барабан, вдруг рванулась и, сопровождаемая грохотом барабана, исчезла в дыре.
Глухой удар (секунда и еще какая-то доля) возвестил о встрече рогоносца с родимой землей.
— Эй! — крикнул я в полутьму. — Живы?
Он ответил не сразу. Признаться, так я где-то внутри, в недрах своего глубинного «я» облегченно вздохнул: какая-то тревога не отпускала меня. Но он, собака, ответил!
— Ага! — Странно: голос его звучал доверительно! — Кажется, ногу сломал. Или вывихнул? Больно, комар ее забодай!
— Ну, теперь-то вы поняли? — надрывался я крикнуть погромче: — Мне теперь и сам черт не товарищ!
— А чего понимать?.. Ой!.. Больно, пропади она пропадом! Чего понимать? Я и так кое-что, да… В смысле о
вас… Тут особенно и нечего понимать. Тем более нам надо поговорить!.. Тем более!.. Давайте, спускайтесь!
«Спускайтесь»!.. Он за кого меня держит?
— Нет, Труев, нет! Это вы тащитесь сюда! Что нам там делать внизу? Силы-то есть?
— Ладно, попробуем снова! — отвечал он негромко, не напрягаясь, так, что мне — мне! — приходилось прислушиваться. Только держите покрепче! Страхуйте! Сумеете?
И снова подвох! «Сумеете?» — да что я, дешевка, чтобы так запросто ловиться на эту подначку?
— Хватайтесь!.. Только учтите: я отпущу!..
И вот я кручу рукоять. Он, похоже, не понимает, что я не шучу. Роман — моя ставка, но мне не закончить его!
Я опять включил стопор. Подергал веревку.
— Эге-гей, Труев! — крикнул в дыру. — Отпускать? Или как?
— Или как! — отвечал он жизнерадостно.
— Но ведь я отпущу! Так лучше сейчас — падать меньше придется!
— Зато времени больше на то, чтобы вы передумали!
— А если не передумаю?
— Значит — судьба!
Судя по голосу, он не бравировал. Этот скот так умел говорить, что фальши не слышно. Это-то и раздражало меня.
— А знаете, Труев, почему я все равно ее отпущу? Да вот почему! Я, Труев, трахал вашу жену и сообщал вам об этом — вы благородно прощали, даже удрали от нас в эти каменоломни… «Если Риточка, тебе хорошо, то и мне от этого хорошо!» Вы натянули на себя маску святого — тем самым меня вынудили стать негодяем! Да что — негодяем: заставляете меня вас убивать! А я не хочу убивать!
Что-то насторожило меня. Труев молчал. Сопя, отдуваясь — так, что стены шахты громово отражали силы и вздохи, — не отвечал. Но иное царапнуло. Словно бы кто-то смотрел.
Я заглянул в шахту: он смирно висел, этот одураченный сом.
Я оглянулся и снова не понял, что же царапнуло.
— Труев, ну докажите, что вы — полный святой! Ну, пообещайте закончить роман за меня! — я крикнул глумливо. — Вот вам зацепа для того, чтобы развить мысль, которую вы усмотрели в романе: вы — святой, и ваша судьба в моих злодейских руках! Я говорю: я трахал вашу жену, а вы мне: прощаю! Я говорю: я украл чужой… Нет, пусть будет: вы — живописец, и я украл в а ш у картину! И выручил миллион за нее! А вы, скажем, ослепли. И вот, слепой, нищий и одинокий, вы тащитесь вверх и говорите: за картину — тоже прощаю!.. И тогда, потому что вы вынуждаете меня стать негодяем, убийцей, поскольку п р о с т и т ь — можно, пожалуй, а вот оказаться п р о щ е н н ы м — вот это хреново… тогда я говорю: я отпускаю стопор!.. А вы мне: прощаю! Так тихо-тихо, проникновенно: прощаю! И я… Я отпускаю.
…На этот раз я отпустил более квалифицированно: он падал значительно дольше. Я придерживал барабан, пока веревка скользила в отверстие шахты,.. прошло пять секунд!
— Ну как? Вторую ногу-то не сломали?
На этот раз он ответил не сразу. Вот теперь счет сравнялся. Теперь ему надобно думать.
— Эй! — крикнул я громче. — Вы живы там или как?
— Или как! — зло он отвечал. Зло отвечал! Зло!
— Что же? Судьба?
И опять он промолчал. Нет, он не был Леонид Леонидовичем, не был! Тот бы за такую возможность… за возможность влезть в душу убийцы… тот бы за эту задачу искусства… Да нет, вряд ли, нет, нет! Все бздят помирать, все дрожат за свою бледную жизнь, не верю я ни в Александра Матросова, ни в Иисуса Христа!
И опять что-то чужое словно бы колыхнулось вблизи.
Словно бы приоткрылся чужой, изучающий глаз!
Этот взгляд прямо царапнул. В буквальном смысле меня передернуло. Словно по позвоночнику провели чем-то липким, гадким, заразным.
— Эй, Труев! — крикнул в дыру, цепляясь за Труева, будто бы он мог уберечь от этой заразы. — Вот теперь я скажу вам, зачем все это затеял. Мне нужно закончить роман. Как его нужно закончить и чем… ну там, психология, детали и прочее… в общем, материала у вас предостаточно! Но, согласитесь, я никогда не поверю, чтобы вы на свободе, в тепле, в безопасности взялись закончить роман, никогда не поверю, и никто бы не поверил в такую возможность! Но в я м е, Труев, сидя в этой дырище, у вас просто нет выхода!
Вы какое-то время подумайте, отдохните, а вскорости я спущу вам сюда и еду, и одеяло, бумагу и прочее — все для того, чтобы закончить роман!
Он все молчал.
И тогда я пустил в ход наипоследнейший аргумент. Выпустил ударный полк из засады.
— Слушайте, Труев, — начал негромко. Да, я начал негромко и даже не опускал голову в отверстие шахты. Я знал: сейчас он услышит! Поэтому я начал негромко: — Послушайте, Труев, есть еще обстоятельство! Встретившись с вами, я, хотя в это трудно поверить, но я… я был огорошен. Ваши слова, что роман может стать Полезным Для Человечества, буквально перевернули во мне всё, все мои принципы… Я больше не претендую на авторство… Я все отдам вам… Только закончите!.. И простите за то, что я так грубо, жестоко все это обтяпал, но согласитесь и с тем, что вам будет проще… вы должны вжиться, в конце-то концов! А как только закончите, я вызволю вас, я засвидетельствую, что вы — законный соавтор, что вы внесли в роман важнейшую линию…
Я был уверен, что говорю убедительно! Что-что, а лгать я умею: тюрьма этому учит! Труев был из тех, тронутых! Больше всего на свете обожал он искусство…
— Я принесу вам лекарства! Покоритесь же обстоятельствам! — выкрикнул я, напоминая о его принципе.
Что я бормотал! Я ужасаюсь, вспоминая тот разговор — неумелый, непсихологичный, дурной!
И я пропустил! Увлекшись, забыл о существовании реального Труева. И когда что-то блеснуло в отверстии шахты, я захлопал глазами, однако сомнения быстро рассеялись: то лысина Труева отбросила солнечный зайчик!
— Труев! Никак вы сами вскарабкались?
Вот из-за отвала выметнулась рука, зашарила пальцами, подбираясь вдоль веревки повыше, поближе ко мне.
Я пошлепал ладонью по темечку:
—Эй!
С усилием подняв голову, он посмотрел на меня. Я поразился. Лицо его было черно. Лишь толстые губы розовели запекшейся коркой. Да глаза — махонькие, они светили из-под серых, присыпанных пылью бровей. В них угнездилась усталость и — ничего кроме усталости, как я ни вглядывался!
— Ну что, Труев? — спросил я охрипше. Отрывисто. — Сбросить вас вниз?
— Да уж решайте! — ответил он также охрипше, отрывисто. — Больше-то я не сумею взобраться!
Рваная рана раскрылась у него на скуле, темная кровь вытекала из раны и медленно, вязко стекала, учерняя корку грязи на коже. Ладонь моя, как от электроудара, отскочила от лысого темени и сама по себе протянулась к его шарящим пальцам. И они за нее ухватились. Неповоротливый, как на цирковой арене тюлень, Труев начал выплюхиваться на поверхность, волоча свою ногу. Минуту-другую полежал носом вниз, отдышался. И повернул, чуть приподняв, ко мне свою большую, бородатую снизу, а сверху — голую, как скорлупа, голову.
Передо мной оказалось существо, мало напоминающее гомо сапиенс. Все чувства погибли во мне, кроме брезгливости, и ладонь, не забывшая объятий грязнокровавых пальцев, горела от отвращения. Но вот существо перевалилось на массивную задницу и, опираясь на локоть, приподнялось:
— А знаете, Медедев? — проскрипело оно. — В вашем предложении имеется смысл! То, что я пережил, отлично впишется в текст!.. Эта ваша жестокая шутка, знаете ли, тоже перевернула все мои представления о жизни, о людях… Вы, конечно, убийца, садист, это так интересно… Надо нам в самом деле попробовать отработать роман… Вот любопытно: что вы думали обо мне, когда я там копошился?
Я не верил ушам. Однажды я слышал такие слова о себе — тогда я им не поверил. Что особенное они — и Труев сейчас, и тогда Леонид Леонидович (кстати, такие разные, разные люди!), — что особенное они видят во мне?
Внезапно я понял: да он просто зубы мне заговаривает! Он понял, конечно, что после случившегося я не могу сохранить ему жизнь. Он догадался, что даже если он, находясь в яме, закончит — допустим! — роман, даже после того (а вернее: тем белее после того!) я бы не мог его выпустить хотя бы из чувства обычного самосохранения. Он догадался и начал карабкаться. А сейчас зубы мне заговаривает.
Солнце пропекало меня до мозга костей мысли вязко тянулись, не разрешаясь извержением путной.
— Ну и что? Скинуть вас вниз? — низко я протянул.
И опять почудилось словно бы колыхание за спиной. Не выдержав, я оглянулся (а нельзя, нельзя было оглядываться: хоть и повержен, но, загнанный в угол, Труев мог наброситься, превозмогая себя!)… я оглянулся, но ничего не увидел. Вдруг понял: да это Оно! Оно наблюдает меня!
Приободрившись, я спросил его, будет ли он цепляться за жизнь. («Ваш принцип — недеяние! Ваш принцип — не сопротивление обстоятельствам! Согласитесь, что уходить в иной мир нужно достойно! Сохраняя верность своему главному принципу. И потом эта возня… бр-р! Это же неинтеллигентно: упираться, брыкаться! Еще, чего доброго, вы укусите! Ходи потом, подставляй задницу под уколы от бешенства! А так я возьму сейчас лом, с его архимедовой помощью перевалю вас к краю дыры и спихну, не доставляя ни вам, ни себе особых хлопот!»
С этими словами я поднялся за ломом.
— Не торопитесь! — заговорил он, глядя затравленно и хватая рукой заостренный конец лома, который я намеревался подпихнуть под него. — Это гораздо серьезней, чем вы полагаете! Этот не ваш роман надо весь переделать! Надо переписать его так, чтобы он стал вашим! В а ш и м! — он крепко вцепился в конец этого достаточно тяжелого лома и мешал мне воткнуть. С трудом я вырвал его, пошатнувшись и едва не упав. — Поймите! — вопил он с земли — толстый, распростертый тюлень. — Во всяком крупном романе должна быть изюмина. А я ее дал! Помните, помните? Герой, запутавшийся в обстоятельствах, обращается за помощью к НЛО…
Примерившись, я ткнул, норовя попасть в ту узкую щель, что образовалась между песчаником и нависшей округлостью его живота. Но он опять успел перехватить конец лома, и опять я с трудом вырвал его.
— Что вы делаете? Вы же проткнете меня! — хрипел он, тряся рукой, остывающей от борьбы с ломом. — Вы лучше спросите, а что НЛО? Оно его изучает, героя?.. А дальше? Вы спросите, спросите! Ой-ей-ей!.. Прекратите! Отстаньте! — Это я, промахнувшись, попал ломом в его толстое брюхо; лом отскочил, кажется, не так уж и сильно поранив его. — Да вот же ответ: НЛО приходит к решению исправить этого жуткого парня! Скажем, прививкой чужой, чистой души!
Мне не хотелось, чтобы наверху оставались следы нашей борьбы. Нужно было сбросить его — и дело с концом. О том, что будет потом, совершенно я не задумывался. Я знал, что Оно меня изучает. Знал, что чем свободней, естественней я буду вести себя, тем это больше поправится. Я себя чувствовал словно прикрытым Щитом. Щитом вседозволенности. Должен признаться, никогда я не был так счастлив.
— Слушайте, Труев, — говорил я ему. — Я не собираюсь вам вспарывать брюхо. Уберите руку, я только поддену!
Но он снова тянулся за ломом. Я ударил его по предплечью. Он схватился за него левой рукой.
— Ой-ей-ей, больно!.. Почему вы не слушаете? Вы же просили сказать, как исправить роман!.. Вот я говорю: дикая яблоня. Вы берете черенок от культурного деревца и прививаете к дикому. Что получается?.. Ну хватит, ну хватит вам, с ломом-то!.. Теперь возьмем человека. У хоккеиста, у невашего-вашего, душа темная, дикая; у его девушки — помните, там была девушка? — напротив, чище родниковой воды… вопрос техники, как осуществить эту прививку…
Тут что-то вспомнилось мне. Настолько явственно вспомнилось, что я отставил в сторону лом.
— Гены? — пробуя, спросил я. — Пересаживать гены?
— Умница, умница! — сразу откликнулся, заспешил он. — Кто-то из великих генетиков так и считал: гены — отпечаток души в наш физический мир!.. Но не обязательно только гены!
Я снова прицелился и снова не оказался проворным: лом угодил ему в бок; он взвыл. И вдруг, извернувшись от следующего моего нападения, скатился с отвала — и так, перекатываясь с бока на бок, начал с неожиданной скоростью от меня удаляться. Вот тогда я немножечко озверел. И, догнав и перепрыгнув через него, намеренно пощекотал его брюхо. Он внезапно раскинулся. И ноги, и руки — весь развалился. Тут что-то у меня перепуталось. Вместо Труева я увидел вдруг обнаженную Риту: руки, ноги раскинуты. А
лом вдруг изменил очертания, функцию, суть — как-то преломилось в сознании, будто он — мое неотъемлемое мужское оружие. И это мужское оружие, пенис — лом?.. я вонзил в ее — его?.. лоно — пах?.. И она — он?.. начала — начал?.. раскидывать и снова сводить руки в паху. А я… да, я испытал ликование. Оно пело изнутри, оно было беззвучным, недейственным. Единственное, что мешало муже насладиться этим неземным ликованием, это молчание… Риты?.. Его?
Я слегка подвигал своим мужским жезлом в лоне?.. в развороченном ломом паху. И — о, радость! — нога (чья? Риты? его?) дернулась. И, кажется, послышался звук.
Не было сомнения, что он обращался ко мне. Я наклонился. Его яйцевидная и бородатая голова повернулась ко мне и упала в подставленную мною ладонь. Она была тепла, его голова. Всей кожей ладони я ощутил теплую, тяжелую голову, которую столь покорно и радостно он вложил мне в ладонь. Словно все мысли его, вся таинственная механика мозга улеглась в моей правой ладони, чтобы в ней раствориться.
Это был долгожданный момент. Жизнь тела его догорала, и душа его стремилась ко мне. Вспышка невозможного счастья — мы на миг слились: я — необузданный, дикий, помесь чертополоха с будильником, и он…
— Теперь успех обеспечен, — шептал я, поглаживая левой ладонью теплый, выпуклый лоб. — И не нужно никаких шахт!
Новый звук вырвался из его скрученного неловкой позой горла. Я повернул голову так, чтобы глаза его видели небо.
— Зачем? — услышал я неожиданное. — Зачем сделал так?
Я вздрогнул, как от пощечины. Показалось, что голова начала холодеть. Он недоволен? Он умирает?
— Что ты, что ты? Не умирай! Это шок у тебя, шок! — шептал я, а сам все сильнее сжимал его голову,
словно передавая тепло свое его угасавшему мозгу.
Но он хотел покачать головой. Хотел — я уловил импульс. Хотел, но не смог. И она лежала в ладони — большая, теплая, начинающая холодеть голова.
И тут я ощутил странную силу, исходящую у меня из ладони. Странную, втягивающую — словно сильнейший магнит.
С испугом смотрел я на голову, которая словно бы просела в ладони. Силой мышц я попытался отдалить эту голову: левой рукой я схватил крупный, шишковидный лоб и тянул его от правой ладони, но… голова будто бы присосалась. И тут послышался чмокнувший звук — как если бы что-то сглотнуло слюну. Звук шел из моей правой руки. Изнутри.
Голова Труева, которая вообще-то была много больше ладони, сейчас начала утончаться, удлиняясь как груша, и все меньше ее оставалось снаружи. Вдруг новый звук — смачный заглот — и борода, нос, шишка лба, даже сначала как бы взметнувшись вверх, вдруг исчезли в ладони, а следом все нескладное, громоздкое туловище, волочась по земле, утончаясь, вытягиваясь, стало втягиваться в… мою руку.
Остолбенев, я смотрел на нее — отчужденно, оценивающе. Нет, она не разбухала. Она была неподвижна, и в то же время страшная сила держала ее на весу — ее, в себя втягивающую крупное туловище развороченного мною мужчины.
Еще миг— и последнее, эти грязные ноги, волочащиеся по песчаной земле, резиново исчезли во… мне. Лишь в последний момент я увидел ее — пасть, зубастую пасть, раскрывшуюся в центре ладони, вонючее ротовое отверстие, в глубине которого, показалось, еще шевелится что-то.
— И… — Серовцев, посеревший, осунувшийся, высматривает что-то в ладони моей.
— И Труева больше не стало. Он здесь! — я протянул к камере правую руку. — Где-то там, внутри. Растворен. Но я его чувствую там. Что-то чужое, негнущееся.
— Эксперимент? Привили Труева в вам?
Он так запросто выговорил жуткое слово! «Эксперимент»!
— Одно не пойму, — у меня вновь сжалось горло, звуки застряли в нем. — Одно не пойму!.. Откуда взялось НЛО?
— НЛО явилось из фантазии Труева. У него возник столь явственный образ тарелки, что энергия этой фантазии воплотилась в реальный объект. Однако Труев не завершил этот образ, он только поставил задачу ему: «раскрутить хоккеиста!» — понимайте, что — вас раскрутить, прототип! Выполняя задачу, Оно не испытывало благодарности и в конце концов погубило своего же создателя.
Серовцев так ловко шпарил свои разъяснения, что у меня появилось вдруг подозрение.
— Слушай-ка, Серовцев! Ну, а ты-то каким образом попал в Ивантеевку? Ты ведь встретил НЛО раньше меня!.. И чего, скажи ради Бога, ты там так дико вопил?
— Здесь спуталось несколько образов, созданных фантазией Труева. Он ведь работал над повестью об… отце.
Я — отец Труева!
— Ты? Но ты молод! У тебя другая фамилия!
— Под этой фамилией он вывел меня в своей повести. И придумал профессию: оператор кино — я должен снимать фильм о партизанах. Труев создавал образ человека искусства, пострадавшего от хамской руки в военные годы…
Да, Серовцев, Серовцев… Его хлестали нагайкой, а он чем отбивался? «Я дал вам слово! Слово честного человека!» Он благороден, по-видимому, но ему не хватает жизненной силы, начала — животного, разума — беспощадно-логического! Как бы он не подвел! Ведь осталось важнейшее! Моя исповедь записана им, осталось объяснить мотивы того, что я сейчас сделаю… Труев поселился во мне! Я сжимаю кулак (левый, естественно), чтобы ударить, — он, действуя из другой руки, его разжимает. Я раскрываю рот, чтобы послать кого надо к… (вы понимаете!), он закрывает его. Я, может, и был дерьмом в представлении некоторых, но у дерьма своя гордость! В чем-чем, а в мужестве Медедеву (прежнему) не откажешь!
Так какое он право имеет мной управлять?
А еще: хочет ли он управлять? Каждый должен пройти свой путь до конца — здесь мы сошлись! Черенок желает отторгнуться! Дерево желает быть срубленным!
Сейчас я подам сигнал Серовцеву, и копье арбалета…
Нет, не сигнал! Я должен заставить его нажать на педаль!
— Люди должны увидеть меня пригвожденным! Содрогнувшись, надолго запомнят они, что со мной сделало
НЛО, — веско говорю Серовцеву. — И надолго запомнят они… — тут мой голос срывается; чужим (Труевским!) голосом я неожиданно для себя продолжаю, — какова душа у… убийцы. Мир на тебя смотрит! Вот так! — крикнул я и, разжав резко ладонь, выметнул ему ее прямо в лицо.
Однако он не свалился со стула от страха. И нога не дернулась к этой педали!.. Со странным, засасывающим любопытством, я вдруг ощутил сильнейшее притяжение. Сильнейшее поле магнитно потянуло меня; мой нос, лицо, шея начали, утончаясь, удлиняться, стремясь к ладони Серовцева, которую он, от меня защищаясь, выставил перед собой.
Там, в центре ладони, разверзлась бездонная, черная пропасть. Я вплывал в нее, исчезающий, как сахар, брошенный в чай алчущий и горячий».
АЛЕКСАНДР ЖУЛИН
ДУША УБИЙЦЫ-2
кусочно-непрерывное повествование
Оформление Г. Максименков
Художник В. Шелушков
Технический редактор А. Макеев
Корректор Н. Бриммер
Фото В. Ходаков
Подписано в печать 23.12.1991 г. Формат 84х108 1/32.Бумага офсетная. Печать высокая.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 9,0. Усл. печ. л. 15, I2. Уч.-изд. л. 15,82. Тираж 100 000 экз. Заказ 3677. Цена договорная.
Подготовка рукописи и оформление выполнены МП «Конт.» 109004, Москва, Ульяновская ул., д. 40, стр. 5, тел. 3671001.
Издание осуществлено совместно с предприятием «Союзвторресурсы». 109044, Москва, Динамовская ул., 1а.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 113054, Москва, Валовая, 28.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
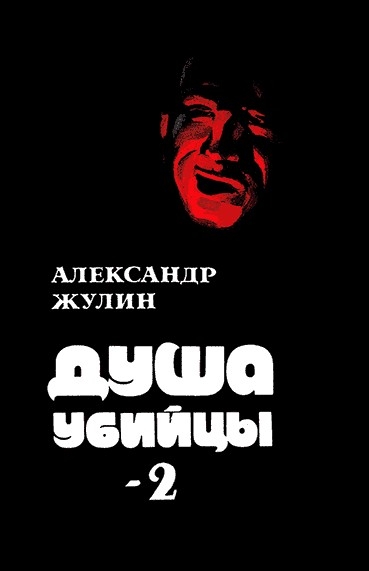
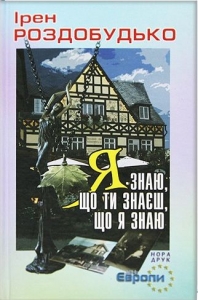
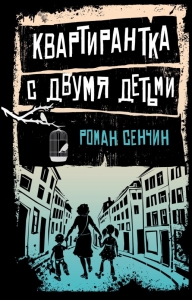
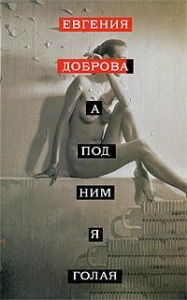


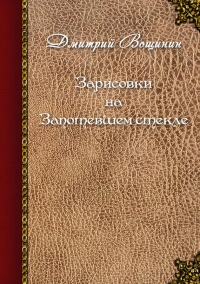





Комментарии к книге «Душа убийцы – 2», Александр Жулин
Всего 0 комментариев