Наталья Рубанова Анфиса в Стране чудес роман с реальностью
Посвящается Анфисе в Стране Чудес
Анфисе прискучило сидеть на скамейке рядом с самой собой и пускать колечки дыма в воздух. Пару раз заглянула она украдкой в журнал, который читала, но в нем не было ни гороскопа, ни вообще чего-нибудь отдаленно намекающего на будущее. «А какой смысл в журнале, если в нем ни гороскопа, ни будущего», – подумала Анфиса, глотая сухое настоящее.
Потом она прикинула (насколько вообще можно прикинуть в невыносимо жаркий день), сонно и устало так прикинула, стоит ли вставать, идти в институт и плести рифмы на лекциях, а потом получать очень-очень синий диплом и прыгать с ним в люди – стоит или нет?
Вдруг пушистая Белка с красными глазками пробежала мимо нее своим белым путем мудрости, подобной зеркалу. Конечно, в этом не было ничего странного. Анфиса не удивилась даже тогда, когда Белка пробормотала про себя: «Ах, crazy girl, я не андестендю ничего!»
Думая об этом позже, Анфиса не понимала, как могла не удивиться, услыхав, что Белка заговорила; но в то время это не казалось странным.
Сгорая от любопытства, Анфиса бросилась за Белкой, совершенно не заботясь о последствиях: так впрочем, чаще всего бывало, когда Анфиса не шла в институт. «И что это за институт? – общалась сама с собой Анфиса. – Это не институт, а инститам. А зачем ходить там, если можно – тут?» – резонно заметила Анфиса и выключила то, что могло все же привести ее в инститам.
Анфиса еле поспевала за Белкой, а та бежала все дальше и дальше, все быстрее и быстрее. Анфиса даже подумала, что от такого галопа могут выветриться последние капли ее любимых духов: параллельно она вспомнила, как, садясь в маршрутку утром, оказалась напротив женщины, которая вряд ли бы понеслась за неопознанной, слегка говорящей, Белкой непонятно куда: от женщины за версту несло комфортом, уютом и хрустящими новыми стольниками в пахнущем натуральной кожей кошельке, а от Анфисы за версту не несло ни комфортом, ни уютом и уж тем более – хрустящими новыми стольниками: от Анфисы за версту несло пофигизмом и последними капельками сумасшедших духов, продающихся в переходе метро «в розлив».
Вообще, пока Анфиса бежала за Белкой, то, к своему удивлению, успевала вспомнить очень многое. Это были какие-то странные картинки, прокручивающие дни недели в обратном порядке в убыстряющемся темпе: тем не менее, Анфиса успевала на них сфокусироваться и переварить.
Вот, например, Анфиса стоит на автобусной остановке, а недалеко от нее какие-то бабки с сумками на колесиках; в недрах сумок покоятся пустые пивные бутылки.
И между ними – читай бабками – происходит следующий разговор:
– Слышь, а грибов-то нонче – ого-го-го! – говорит одна, а другая ей громко шепчет:
– Я, это, знаю чего. Грибы-то, они, когда их много – к войне, слышь!
– Да ну! – поражается первая.
– К войне, к войне, – успокаивает вторая и трясет клюкой. – Им-то молодым, что… Эх! Ироды, сволочи, да, на них пахать надо! Ишь, фитуристы! Очки бы не глядели…
К бабкам подключается дед не очень старческого вида с портфелем а' ля лубянский люкс, и в клетчатом шарфе:
– Сталина бы сейчас! Он бы их всех перевешал! Истинный крест, перевешал, как на духу!
Бабки всплескивают руками и радостно кивают: «Истинный! Истинный!» Но тут приходит автобус и, запылесосив ожидающих, уезжает в известность, грохоча аббревиатурами РЭУ, ЖЭУ, ЖКО и СМУ, а далее ООО, ОАО, ТОО и так до бесконечности.
А перед Анфисой, не теряющей из вида Белку, встает еще одна картинка: солнце, перрон, школьников тащат на экскурсию на некий километр. Тинейджерам где-то лет по четырнадцать-пятнадцать. Нудная толстая училка неопределенного возраста орет на некоего Смирнова:
– Ах, ты, паразит! Ну, сколько ты меня мучить будешь! И куда родители смотрят! Смирнов! Быстро снимай наушники! Смирнов! Я кому сказала! Ты извращенец, Смирнов! Кто разрешил ходить по городу в наушниках? Снимай сейчас же! И руки! Да, да! Руки из карманов вытащи! Вынь, вынь, – тебе говорят!
…На этом крике души Анфисе стало снова скучно, и она огляделась, испугавшись и озадачившись потерей Белки, но в ту же минуту заметила ее мелькнувший за кустом хвост, и нырнула за ним в темноту, даже не подумав о том, как она из этой темноты выберется. Но думать было поздно: не успела Анфиса опомниться, как полетела куда-то, точно в глубокий колодец. То, что она падала НЕ вниз, не вызывало сомнений. «Но разве человек может падать вверх?» – пыталась мыслить логически Анфиса, хотя логика была здесь абсолютно не при чем.
Анфиса расслабилась и по направлению ветра определила, что падает ни вверх, ни вниз, а вбок – причем в такой кривой и труднодоступный, что просто дух захватывало у самого этого «бока».
«Неужели этому не будет конца? – размышляла меланхолично Анфиса. – Однако после такого падения мне уже не страшно будет скатиться даже под лестницу нашей инститамской курилки! Это только в сериалах после падения с лестницы случаются выкидыши. М-да, хотя, при чем здесь сериалы и куда я вообще лечу, хотелось бы знать?»
Думая так, Анфиса падала все глубже и глубже вбок, пока не поняла, что достигла крайней степени детской болезни левизны. Она сама толком не понимала, что значит «детская болезнь левизны», но то, что это было уже крайней степенью, ясно было без дураков. Когда же Анфиса первый раз поглядела вбок, то она не увидела там ничего, кроме толстого слоя пыли. Но, присмотревшись внимательнее, заметила, что это вовсе и не пыль, а прокрученные через мясорубку почтовые марки – SECOND HAND, продающиеся в развес или в обмен на новые дубленки в самых различных магазинах Москвы.
Затем показались расклеенные конверты со штемпелями уже прошлого века. Если бы их не рассекли секатором, а потом не склеили скотчем, они казались бы совсем новенькими. «Фу ты, блин! – буркнула Анфиса, заворачивая все дальше и дальше налево. – Вот ведь!» Анфисе не нравились ни бэушные марки, ни смирительные рубашки расклеенных конвертов, и она прикрыла веки. Но тут внутри нее что-то будто бы хрустнуло, и прямо перед глазами высветилась рекламная паутина некой весьма переменчивой в своих мыслях Книги: «Благоприятна стойкость».
Анфиса чему-то улыбнулась, и тут же прикусила улыбку: стойкость – так стойкость, хотя едва ли благоприятна…
– Ать-два, ать-два, левой-правой, левой-правой, на парад идет отряд, листья желтые летят, – донеслось откуда-то еще левее, и Анфиса услышала звуки, издаваемые третьим китом Д. Кабалевского, на воображаемой холке которого бальзамировалась вся мировая музыкальная культура, препарированная методологией, скажем, музпедовских факов.
Потом появились еще два: первый кит пел экс-неологизм о чьей-то советской родине, а второй пританцовывал, всуе заливая фонтаном «Методические записки охотника».
Анфиса летела, ощущая себя то деревянным солдатиком, то непосредственно самим маршевым ритмом – это начало раздражать ее; она подавила позыв тошноты, и снова почему-то вспомнила глупый сериал, подсмотренный случайно в очереди парикмахерской: там люди все время пили апельсиновый сок, потом падали с лестницы, а другие непременно строили им козьи морды, но побеждала в основном дружба, хотя трехмерная жвачка все-таки и прилипала к их телезубам. «Какая разница», – вздохнула Анфиса, словно знала что-то Тайное. Прошло ведь уже довольно много времени, а она все сворачивала, и сворачивала налево!
«Но если этому не будет конца, то есть, если нет вообще конца, то должно же быть хотя бы начало? – Анфиса равнодушно спрашивала саму себя, и сама же себе отвечала: – Хотя, как раз, начала-то может и не быть. Где-то я об этом читала…»
Анфиса чувствовала, что постепенно засыпает, как вдруг – хлоп! – упала на что-то мягкое и смутилась, как в шестнадцать. Она огляделась: мягким оказался самый обыкновенный пакет со сложенным вчетверо костюмом для очень восточного единоборства, а лежал он в самом настоящем леве: на травке с кривоватой табличкой «По газонам не ходить» малюсенького как бы парка с двумя гнусными, вечно занятыми, лавочками между шумным перекрестком рядом с «Марксистской» и «Таганской» кольцевой.
– Ай да я, – подумала Анфиса. – Я же пару лет назад отсюда убежала, эк меня налево развезло опять, – взгрустнулось ей, и она решила купить 0,33 дынной водки, хотя никогда не была от нее в восторге.
Когда Анфиса села на одну из лавочек [как бы парка, менее гнусную хотя бы тем, что не занятую], за спиной послышались быстрые легкие подскоки – именно такие, какие описываются в методической литературе.
Анфиса сделала большой глоток дынной водки и обернулась.
– Что, уже? – спросила она.
– Уже, – ответили Анфисе, и она опустила голову.
– А может, еще рано? – без особого энтузиазма спросила она.
– Нет, хватит. До тебя вроде уже все дошло, нечего левизну коптить.
– Ну, допустим, еще не все дошло, – вяло засопротивлялась Анфиса. – Вот если б теперь пожить, зная…
– Ну, все, – оборвали ее. – Собирайся. На выход с вещами.
– Но ведь выхода нет, – сказала Анфиса, выкручиваясь. – И я держусь левой стороны. А вещей никогда не было.
– Да пойми ты, хоть тридцать, хоть триста – не изменится ничего. Ну, какая тебе разница? А мне опять прилетать, – как-то очень ласково забормотал ей чужой внутренний голос. – Давай, давай; вот как только на элементы разложишься, – обхохочешься. Дура, скажешь, была, водку дынную дула. Ты другой источник питания найдешь, темнота! Ликбез тебе бесплатный, опять же…
Анфиса уперла руки в бока:
– А вот не пойду и все; что тогда сделаешь, гуру хренов?
– Ха, реинкарнирую куда-нибудь – в глушь, в Саратов, или еще похлеще – будешь знать. Да мало ли что, – почесал гуру воображаемый затылок.
Анфиса услышала, как у проходящих мимо подростков заиграло в магнитофоне: «В мои обычные шесть я стала старше на жизнь…»; но не учла присутствия-отсутствия гавани и спросила:
– А ты знаком с Хренниковым?
– С последним?
– Ага.
– Ну, допустим.
– А вот отгадай загадку: какую он песню написал, там тоже о восемнадцати ноль-ноль речь идет?
– Не грузи, Анфиса, – отмахнулся гуру.
– Имею право. «В шесть часов вечера после войны», понял? Это из фильма.
– Ну, и..?
– А то, что можешь меня реинкарнировать в шесть часов после Третьей мировой, а раньше – никак.
– Коктейлей захотелось? – усмехнулся гуру.
– Захотелось, – потянулась Анфиса, зевнула и, не прощаясь, направилась насторону, избавившись от всякого страха – к тому же, откуда-то донеслись сплиновские «Коктейли Третьей мировой».
На стороне было куда приятнее, чем на гнусной лавочке, и Анфиса свернула на улицу Гвоздева: на улице Гвоздева находился неплохой универсам, где продавалась не самая дорогая дынная ноль тридцать три.
Сделав первый глоток, Анфиса бросила взгляд на огромный старый дуб и, нисколько не думая о Болконском, вздохнула, тряхнув вовсе не золотой, а порядком проржавевшей цепью, прикованной к левому желудочку ее сердца, как стариной: ей сразу стало легко и приятно, однако продолжить воспоминание помешало солнечно-дождливо-нестабильно-безвыходное «Благоприятна стойкость», и Анфиса, распрямив спину, села в 156-й автобус.
…Она сама не заметила, как уснула и, сделав полный круг и подвергшись штрафу за безбилетный проезд в сумме десяти блеклых рублей, снова оказалась на улице Гвоздева – с тем и вышла.
Делать было особо нечего; точнее, то, что делать было нужно, делать совершенно не хотелось: в таких ситуациях Анфиса шла наугад, полагаясь на остатки хромающей интуиции, причем последняя тоже хромала налево, как в коммунистическом трактате о детстве.
Странным образом, бредя наугад, Анфиса оказалась у стен инститама, к которому испытывала достаточно потухшие чувства. Анфиса тоскливо посмотрела в зачетку и решила зайти, чтобы ее все-таки не выгнали с последнего курса, до которого она и сама не знала как докатилась.
Стены инститама пахли новой краской, и у Анфисы слегка закружилась голова:
– Как же давно я не была здесь, – подумала она, стараясь пройти незамеченной мимо разнополых преподавателей, строящих ей в глубине души самые невообразимые рожи. Так миновала Анфиса несколько мин, но на шестой нос ищейки-интуиции ослаб, и Анфиса лоб в лоб столкнулась с чем-то вовсе не абстрактным, а достаточно среднего рода, но более-менее отдаленно напоминающим чадо Евы.
Чадо Евы было выкрашено в рыжеватый цвет, завершающий свою цветовую полноценность невероятными барашками мелкой химии. На принадлежность к женскому роду указывали и комки золотых с красными круглыми рубинами серег; точно такие же Анфиса видела вчера на продавщице из рыбного магазина.
– Здравствуйте, Анфиса, – сказало чадо Евы. – Не хотите ли сдать мой зачет?
Анфиса почуяла дискомфорт всей кожей и кивнула, чудом удержавшись от «да-с».
– Пройдемте, – тоном Эдмундовича сказало чадо Евы, и Анфиса прошла в аудиторию.
…В аудитории тихо шуршало несколько дев и младых людей весьма раздолбайского вида. «Пересдача», – облегченно выдохнула про себя Анфиса и потянулась за очень левым билетом, на котором сразу после номера курсивилось: «Методика и методология…» Дальше Анфиса читать не смогла и посмотрела на вопросы.
Их оказалось четыре:
1) Специфические потенции эстетического развития морально-нравственного воспитания чел-ка разумного;
2) Деятельность лаборатории прогнозирования эстетического развития чел-ка разумного;
3) О прерогативе развития когнитивных способностей в вербальной форме; метод наглядности для чел-ка разумного;
4) Цели и задачи практического курса «Методики и методологии» как цели и задачи чел-ка разумного.
Анфиса поморщилась и аккуратно поинтересовалась у сзади сидящего типа, нет ли у того конспектов за этот семестр, на что тип хмыкнул и поднял глаза в потолок, разведя руками. Тогда Анфиса решила выкручиваться сама, пока ее не стошнит, и постепенно белый лист начал заполняться обрывками безумных с точки зрения Homo Sapiens'а мыслей, и достаточно неглупыми с точки зрения методологического процесса, зерна которого догнивали в верхнем бессознательном Анфисы, спасибки за ликбез бесплатной вышке.
На первые три вопроса Анфиса кое-как удовлетворила отпрыск Евы, но вот с «целями и задачами» Анфису переклинило, так как, находясь если не совсем в здравом уме, то, по крайней мере, в твердой памяти, она никак не могла их определить, абсолютно уверенная в том, что их нет – да так оно и было.
Чадо Евы потерло руки и перешло к наводящим и дополнительным восклицаниям, перемежающимся с огнеупорными наставлениями:
– Вы, Анфиса, разве не знаете, что цели и задачи решают попутно повышение эффективности всего процесса? А совершенствование навыков и умений? Разве это не продуктивно?
(Анфиса сглотнула то, что осталось от слюны в пересохшей гортани, и кивнула).
– На втором этапе, о котором, кстати, идет речь, – продолжало чадо Евы, – доминирующей является работа по выработке стратегии и тактики! Это очень важно, чувствуете, Анфиса?
(Анфиса снова попыталась сглотнуть, но только кивнула).
– Значительное внимание уделяется именно формированию первичных умений по переработке и закреплению! Да как же вы не понимаете таких простых вещей? А что вы можете сказать о коррекции умений и навыков? И вообще – о содержании первого этапа? – деловито осведомилась среднеродность.
…Анфиса себя еще чувствовала, но плохо. С каждым вопросом она тупела все больше и больше, с каждым вопросом все сильнее и сильнее хотелось промочить горло, сбежать куда-нибудь – она уже согласна была даже скатиться с лестницы, ведущей на инститамскую курилку, но это казалось областью фантастики: ради «зачета» с преподдавательской фамилией «Точизна» она уже согласилась потерять немного нормальной энергии, но – лишь немного (так она, по крайней мере, сама себя успокаивала).
– Не вдаваясь в анализ социокультурных факторов, – как сквозь сон слушала Анфиса, – способствовавших возникновению этой проблемы…
Анфиса мысленно надела на себя стеклянный колпак, как советовали в рекламном журнале «Вампир-донор» для домохозяек, прочитанном в туалете во время экспромтного запора, удивилась и ощутила облегчение.
Точизна, выговорившись и увидев блуждающие глаза Анфисы, изрекла:
– Ну, хорошо, я поставлю вам зачет, если вы ответите вот на что… – она на секунду замялась, но лишь на секунду. – Что вы можете сказать о подскоках?
– О чем-о чем? – переспросила Анфиса.
– О подскоках, милочка, о подскоках, – улыбнулась Точизна, и Анфиса поняла, что зачета ей не видать, как ни Парижа, ни Берлина в околодоступном радиусе, и вышла в коридор.
В коридоре стало лучше; недолго думая, Анфиса глотнула воздуха и направилась к буфету. За последним столиком у окна в гордом одиночестве пила чай Лисицына.
– Хочешь вина? – гостеприимно спросила она Анфису.
Анфиса взглянула на стол; на нем не было ничего кроме чая.
– Я не вижу вина, – заметила она.
– Да его и нет, – сказала Лисицына.
– Ты опять перечитываешь Кэрролла? – спросила Анфиса.
– Я устраиваю безумное чаепитие, – отозвалась Лисицына. – А сурок опять заснул!
– Мы даром теряем время, – сказала Анфиса, обводя взглядом инститам. – Пора кому-то отрубить голову.
– Кстати, в детстве это был мой любимый мультик, – Лисицына отхлебнула чаю.
– Без вопросов, – отозвалась Анфиса и подумала: «Как странно! Что это за дверь? Посмотрю, что такое за нею».
…Отворив дверь, она очутилась в малознакомой комнате с крутящимся в центре небольшим стеклянным столиком.
– Столик, столик, – попросила общения Анфиса. – Не расскажешь ли мне о подскоках?
Столик, не прекращавший своего движения несколько тысячелетий, как не прерывает своего звучания «ОМ», внезапно поскользнулся и выругался.
Тогда Анфиса извинилась и, набравшись смелости, спросила снова:
– Столик, столик, скажи, а есть ли ТАМ что-нибудь? Или все только ТУТ, как в инстике?
Столик закашлялся, но все-таки разрешил Анфис присесть:
– Можешь отдохнуть, а потом уйти и напиться чаю, – проскрипел он.
– Please, dear table, please, – напрягла остатки английского Анфиса. – Мне нужна помощь!
– Ха, всем нужна помощь, – рассмеялся хрипло столик.
– Но мне нужна, очень срочно нужна! Иначе я умру, – Анфиса произнесла это, впрочем, без особого сожаления, но женственно и меланхолично, произведя впечатление.
Столик с минуту-другую думал, а потом спросил:
– Единственное, что я могу для тебя сделать, это научить правильно умирать. Гипотетически, так сказать. А, может, даже концептуально. Если ты правильно будешь умирать, то потом – ТАМ – уже не будет, как ТУТ. Хочешь? Будешь везде круто себя позиционировать.
– Конечно, хочу, – Анфиса ведь только и мечтала о том, чтобы различать инстиТУТ и инстиТАМ. – Это очень дорого стоит?
– Да нет, всего лишь один выход из некрополя.
– Из некрополя? – испугалась Анфиса.
– Да, а чего хотела-то? Между прочим, ты сейчас находишься в самом настоящем некрополе. Ты ведь еле дышишь! Я вообще не представляю, как у тебя еще хватило энергии здесь оказаться, ее почти всю выкачали, – заявил столик.
– Кто выкачал? – не поняла Анфиса.
– Кто, кто, сама знаешь, кто. Еще пара-тройка таких выходов, и твой выдох на зеркальце станет не заметен, – безоговорочно подытожил Столик.
Анфиса посмотрела в пол, но увидела только то, что увидела: обшарпанный линолеум и собственные незагорелые ноги в старых кожаных босоножках, состоящих из одних тонких плетеных ремешочков…
Анфиса подняла глаза и сказала столику, что, вообще-то, не очень дура, хотя, конечно, местами и очень, но про мир идей, вещей и теней слышала, по «И-цзин» гадала, монетки подбрасывая, «Жизнь после жизни» прочитала лет в тринадцать и даже отрывки из Египетской книги мертвых в «Науке и религии» – тоже, а еще, будто бы, придерживается закона сохранения энергии, хотя и весьма относительно.
Столик захохотал и раскрутился от этого:
– Давно я не слышал такого бреда от женщины! Ладно, а как насчет Тибетской?
Анфиса вопросительно посмотрела на него.
– Ну, «Тибетскую книгу» слабо порепетировать?
– Что порепетировать?
– Что-что. Посмертный опыт и порепетировать.
– А я… – начала, было, Анфиса, но столик ее перебил:
– Да вернешься ты в это все, – сказал он, презрительно обводя глазами окружающую живую и не очень живую природу инститама. – Зато поймешь, что никогда не нужно идти на тусклые цвета. И что идти вообще никуда не нужно.
– Чего?
– Надоела ты мне, Решайся, или я закручиваюсь сам по себе, – сказал столик, набирая обороты.
– Погоди, ну, погоди ты, – подбежала к нему Анфиса. – А я пойму, почему мы… тогда… ну… расстались?! – спросила она, как плохая героиня мелодрамы.
Столик, с сожалением посмотрев на нее, захотел что-то ответить, но, будто щадя, достаточно нейтрально и отстраненно произнес:
– И это поймешь.
«…Бардо – промежуточное состояние между смертью и новым рождением продолжительностью в 49 дней. Высшая степень понимания и просветления, а значит, – максимальная возможность освобождения – достигается человеком в момент смерти… Представление о том, что все происходит „для меня“, более непосредственно, нежели мысль о том, что все происходит „из меня“. Действительно, животная природа человека не позволяет ему видеть в себе творца своих обстоятельств… Однако в посвящении живущего загробный мир – это не мир после смерти, а переворот в его взглядах и стремлениях, психологический загробный мир, или, прибегая к христианским понятиям – искупление мирских соблазнов и греха.
…Цель процесса посвящения – вернуть душе божественную сущность, утраченную с физическим рождением…
…Истинное просветление умерший испытывает не в конце Бардо, а в его начале, в момент смерти, после чего начинается погружение в область иллюзий и неведения, постепенная деградация, завершающаяся новым рождением в физическом мире…
Пребывание в Бардо не связано ни с вечным блаженством, ни с вечными муками: это нисхождение в очередную жизнь, которая приближает человека к его конечной цели, завершению его трудов и стремлений в период его земной жизни… В Чигай Бардо описаны психические явления в момент смерти, в Ченид Бардо – состояние после смерти и так называемые „кармические видения“; в Сидпа Бардо – возникновение инстинкта рождения и явления, предшествующие новому рождению… „Бардо Тёдол“ представляет собой вполне умопостигаемое учение… Читатели без труда смогут поставить себя на место умершего и внимательно прислушаться к поучениям… Возможно, удел истины – приносить людям разочарование…» – читал над Анфисой, лежащей на столике, монотонный голос. Анфиса казалась похожей то ли на спящую княжну, то ли не на совсем мертвую царевну – в общем, на что-то русское классическое, и разбудить ото сна ее мог только поцелуй если уж не королевича, то, во всяком случае, не козла – все, как в сказке, которая достаточно скоро сказывается на (а)моральном облике.
– Можно слушать много религиозных наставлений, но не познать. Можно познать и все же быть нетвердым в знании, – начал читать Голос Бардо момента смерти, и Анфиса сложила на груди руки, смиряясь.
– О, благороднорожденная Анфиса, – Голос на минуту запнулся, будто оценивая, действительно ли благородно была рождена та, – настало время искать Путь. Твое дыхание сейчас остановится. Гуру… – Голос снова запнулся, припоминая инцидент в скверике около Таганской кольцевой и Марксистской. – Гуру подготовил тебя к встрече с Чистым Светом; сейчас ты, Анфиса, воспримешь его как он есть в мире Бардо, где все вещи подобны ясному безоблачному небу, а обнаженный незамутненный разум – прозрачной Пустоте, у которой нет ни границ, ни центра. Познай себя, Анфиса, в это мгновение и останься в Этом Мире. Я помогу тебе, – Голос повторил все это несколько раз прямо на ухо Анфисе перед тем, как прекратилось ее дыхание.
Анфиса внимательно слушала все, что ей говорили, но совершенно не чувствовала себя мертвой – точнее, вообще себя не чувствовала. Это был какой-то улет, которого она ждала много лет, и которого, одновременно, боялась. То, что он наступит так внезапно, она не могла и предположить. Потом Анфиса припомнила, что читала где-то о том, как мертвые не понимают того, что они мертвые.
«Какая тогда разница, – подумала Анфиса. – Тогда между живыми и нами и вправду нет никакой разницы?»
Но у гуру спросить было стыдно, она лежала на столике, а Голос на время куда-то исчез, так что Анфиса, оставшись наедине с собственной риторикой, расслабилась полностью. Никогда ТАМ (или ТУТ?) Анфисе не было так хорошо и спокойно; не нужно стало никуда идти или бояться опоздать, неактуальным стал незачет по методике и методологии разлагающихся наук; стало смешно от того, что ее волновал цвет собственных волос, наличие денег и чей-то день рожденье последнего летнего месяца, но не весеннего месяца Нисана; какими-то мелкими морщинками покрылось все то, к чему она то ТУТ, то ТАМ стремилась, а покрывшись, растрескалось на большие куски сухой глины, не годившиеся вообще ни на что. Исчезла скука, так напрягавшая Анфису последний год.
«В таком случае, умирать ТУТ гораздо интереснее, чем умирать ТАМ, – заключила Анфиса. – Тем более, кажется, делаю это я правильно, со шпаргалкой!».
– О благороднорожденная, сейчас приходит к тебе то, что называют смертью. Думай о ней так: «Вот и настал час моей смерти; воспользуюсь же ею во благо всех живых существ, которые населяют беспредельные просторы небес и буду поступать так, чтобы достичь совершенного состояния Будды…» – настиг Анфису Голос. – О благороднорожденная Анфиса, слушай! Сейчас ты созерцаешь Сияние Чистого Света Совершенной Реальности. Познай его. Твой разум пуст, он лишен формы, свойств, признаков, цвета; он пуст – это сама Реальность, Всеблагость. – Анфиса хотела спросить: «Неужели?», но то ли сдержалась, то ли не смогла. – Твой разум, Анфиса – свободный, трепещущий, блаженный, и есть Всеблагой Будда. Твое сознание, лишенное формы, воистину пустое, и твой разум, сияющий, блаженный, – о, да, они не разделимы. Их единство и есть Дхарма-Кайя, Совершенность Просветления. Твое сознание не рождается и не умирает; оно – Немеркнущий Свет, Будда Амитаба. Этого знания достаточно. Осознав, что пустота твоего разума есть состояние Будды, и рассматривая ее как свое собственное сознание, ты достигнешь состояния Божественного Разума.
На этом Голос остановился, чтобы повлечь за собой другой. Тот, «другой» голос, говорил первому:
– Повтори ей все это внятно трижды, а лучше – раз семь. Так она пробудится от прежнего, а если будет не дурой – увидит Чистый Свет в Пустоте, соединится с Дхарма-Кайей и достигнет Освобождения.
…Анфисе стало обидно от человеческого «дура», но она решила не обращать внимания и слушать дальше.
– Анфиса, сосредоточься на своем божестве-хранителе, не отвлекайся: усердно сосредоточь на нем свой ум. Думай о нем так, словно он – отражение луны в воде, видимое и в то же время не существующее само по себе. Думай о нем так, словно он обладает физическим телом, – бормотал Голос, но Анфисе трудно было сосредоточиться, и она почему-то вспомнила Хому Брута, читавшего над панночкой в церкви Псалтырь.
– Ай да Гоголь, ай да сукин сын, – попробовала рассмеяться она, но, вспомнив, что высказывание принадлежит А. С., который «наше всё», и читается с фамилией «Пушкин» после «Руслана…», рассмеяться уже не смогла: – Что-то все в голове перепуталось, – озадачилась она и уснула крепко-крепко. Разбудил ее тот же Голос:
– …ная Анфиса, слушай внимательно, не отвлекайся! Запоминай мои слова. Ты покидаешь этот мир, но ты не одинока: смерть приходит ко всем. Не привязывайся к этой жизни ни из любви к ней, ни по слабости. Даже если слабость вынуждает тебя цепляться за жизнь, у тебя не достанет сил, чтобы остаться здесь, и ты не обретешь ничего, кроме блуждания в Сансаре… – Анфиса подумала: «Плавали, знаем», – но не стала возникать. – Не привязывайся к этому миру; не поддавайся слабости, – разумно советовал Голос-путеводитель.
Еще Голос добавил достаточно уже попсовую мысль, что весь Анфисин страх и трепет – лишь отражение ее собственного ума; Анфисе это можно было и не говорить, но Голос совершал все с методической точностью.
– Тело, которым ты сейчас обладаешь, называется духовным телом склонностей; оно – не из плоти и крови, и потому ни звуки, ни свет, ни видения, ничто не причинит тебе вреда, – будто врезались мысли в Анфисину не-плоть-не-кровь. – Ты более не подвержена смерти. Тебе достаточно знать, что это – твои собственные мысли. Помни, что все это – Бардо. До тебя дошло, Анфиса? – как-то совсем уж по-простецки спросил Голос и Прекрасное Далёко распахнуло перед ней свои ворота, а перед этим самым распахиванием Анфиса почти вслух шептала что-то из Бродского:
…Но пока мне рот не забили глиной, Из него раздаваться будет лишь благодарность…«А интересно, – думала Анфиса, – ТАМ сразу забивают рот глиной или постепенно?!»
Ее еще волновал почему-то чисто женский вопрос – как она, вообще-то, выглядит, но, как обещал совсем недавно столик, на котором она теперь лежала, погружаясь в пласты Б. Тёдол, «и это прошло».
…Небо над тем, где она оказалась, показалось Анфисе темно-синим, а еще показалось, что всё сдвинулось со своих мест и пришло в полный беспорядок. Еще она заметила, как перенеслась к кинотеатру «Художественный» и увидела около касс бхагавана Вайрочану, державшего в руках колесо, очень похожее на то, которое продавалось неподалеку на Старом Арбате. Но колесо у Вайрочаны было с восемью спицами, а не так себе, поэтому Анфиса поняла: настоящий, да еще с голубым сиянием чьей-то мудрости. Мудрость так сияла, так сияла, что Анфиса чуть не ослепла, но вовремя отвела глаза, которые сразу же уперлись в тусклый белый цвет мира дэвов.
Анфиса вспомнила, как столик советовал сторониться всего тусклого, и посторонилась: мир дэвов прошел стороной, а Анфиса спустилась в подземный переход. В подземном ей преградил дорогу бхагаван Ратна-Самбава, держащий в руке драгоценный камень желтого цвета. Этот бхагаван сидел на лошади, по бокам которой работала телохранителями пара бодисатв с женами, несущими непопсовые гирлянды и «родные» благовония, а не те дешевки, что продаются в переходе. Все пятеро так светили в глаза желтым, что Анфисе стало нехорошо: «Может, у них у всех гепатит?» – подумала она, но успела остановить поток сознания. Анфиса посмотрела на проходивших мимо людей: те тоже казались желтыми, но тускло-желтыми, и Анфиса снова вспомнила про шпаргалку столика не привязываться к тусклому – так и спаслась.
Подойдя к концу перехода, Анфиса заметила еще одного бхагавана – Амитабу. Он был весь красный, как свареный живьем (по соображениям гуманности) рак, а в руке держал лотос, к тому же сидел на троне павлина. С ним рядом были бодисатвы Авалокитешвара, постоянно опускающий глаза вниз, и Маньчжушри с женами. Одна из них, Гирдхима, понравилась Анфисе больше, и они даже разговорились:
– На самом деле меня зовут Гита, – сказала Гирдхима. – Я пишу музыку и стихи, – и покрутила в руках лиру.
Анфиса чуть было не попросила послушать диск, но посчитала это бестактным и не стала, тем более, красный цвет Гиты и всей красной свиты ослепил ее; заметив же тусклое, грязновато-розовое свечение где-то справа, Анфиса развернулась и гордо вышла из перехода на дорогу.
…Улица оказалась зеленой. На зеленой улице появился очередной бхагаван – Амога-Сидхи. Он сидел на антикварном троне типа трона Шан-Шан, на котором любили посидеть в Греции гарпии с головогрудью женщины и птичьим тазом, косящим под пернатский. Амога-Сидхи держал в руках что-то непонятное с четырьмя зубцами, а за этими зубцами методично проглядывались трое Бодисатв с женами, изображавшими мудрость. Зеленый цвет ослеплял; Анфиса опустила глаза и, будучи подкованной, сразу отвернулась от тусклого зеленого и пошла по направлению к ресторану «Прага», где никогда не была.
А в «Праге» в это время тусовались 42 божества, которые предлагали познать Анфисе Очень Внутренний Голос.
– Что значит познать 42 божества? – спросила Анфиса, и ей не очень захотелось идти в ресторан, где все пили и закусывали в невероятных количествах. Но Голос был, и Анфиса решила не трусить.
«Все равно они мне уже ничего не смогут сделать, раз я ни жива, ни мертва», – резонно заметила она, а, хлопнув три раза в ладоши, чудесным образом поменяла одежду и с удовольствием посмотрела в витрину: роскошный финикийский костюм из пурпурной ткани с красновато-фиолетовым оттенком шел Анфисе гораздо больше инкубаторского облегающего сарафана, в которых ходило пол-Москвы. На голове у Анфисы появился чепец, вокруг которого шла лента, спадающая на затылок обоими концами. Плечевой воротник был совершенно прозрачен, и Анфиса вспомнила о том, что давно забыла о своих хрупких плечах…Миновав дорогу и швейцара, она поднялась в зал, где для нее уже был заказан столик.
– Кофе со льдом, – попросила она официанта и принялась рассматривать присутствующих. Оказалось, что за соседним столиком сидит жена бодисатвы Маньчжушри. Гита скучающе перебирала струны лиры. Анфиса подошла к ней; на ее столике лежала маленькая книжечка Псапфы.
– Нравится? – Спросила Гита Анфису.
– Да, ее слова такие же нежные, как лепестки хризантемы. Помнишь?
Я не знаю, как быть: У меня два решения.– Помнишь, – улыбнулась Гита и прочитала:
Лира, Лира священная! Ты подай мне свой Голос!При слове «голос» на Анфису как будто повеяло холодом, но, помня, что это всего лишь проекция ее мыслей, она перестала проецировать, и холод исчез.
– Расскажи, как вы живете. Или не живете… Просто не знаю, как это назвать, – замялась Анфиса. – Да и на свой счет уже давно непонятно: то ли живу, то ли умираю.
– Ты существуешь, – серьезно сказала Гита, пристально глядя в глаза Анфисе. – Решай сама, как быть тебе дальше. А мы… – она обвела рукой зал, полный божеств в экзотических костюмах, что напоминало выставку одежды земного шара, – мы тоже сами. Ты туда не лезь. Давай кофе пить.
– Давай, – согласилась Анфиса. Ей понравилась Гита – может, именно тем, что у нее была лира, или тем, что она могла наизусть прочитать что-нибудь из Псапфы, кто знает. – А как там Эвтерпа поживает?
– Да сочиняет все, мечтательница, – вздохнула Гита. – Диск выпустила, сейчас вот хочет с Терпсихорой клип снять, а Мельпомена говорит, что это – трагедия: клип. Что раньше без клипов обходились.
– Теперь интеграция, – сказала Анфиса, поправляя чепец. – Послушай, все-таки у меня ощущение, будто я сплю. Ну не может, чтобы это все на самом деле… – Анфиса посмотрела вокруг.
– Не бери в голову, – сказала Гита. – И рот на всякий случай тоже не разевай, а то Аполлон на подхвате, а неизвестно, здоров он или болен.
– А что, у вас тоже болеют? – поинтересовалась Анфиса.
– Где это у вас? – возмутилась Гита. – А ты, по-твоему, где сейчас?
– В полной жопе я сейчас, – выдавила Анфиса.
– Нет, ты сейчас в Москве, в дорогущем ресторане «Прага», ты молода и небезынтересна, – сосредоточила ее Гита. – Поэтому с Аполлоном никакого орального, поняла?
Анфиса передернула плечами:
– Да я не то, что с Аполлоном, я вообще не хочу…
– И правильно. А вот когда твой нищий принц тебя поцелует и ото сна летаргически-затянувшегося избавит, тогда – пожалуйста.
– А он обязательно будет нищим? – обреченно вздохнула Анфиса.
– Все принцы – нищие на самом деле, – успокоила ее Гита и добавила приглушенно: – Зато как поцелует…
Анфиса от этих слов зажмурилась и даже представила, как и кто ее поцелует, но это «как» и «кто» никак не вязалось с образом прекрасного нищего принца, готового пожертвовать «честью мундира» ради ее, Анфисы Прекрасной, спасения, и она заказала штоф по случаю.
– Никогда не пила эту вашу водку, – поморщилась Гита. – Ну ладно, наливай уж, раз такое дело – принца все-таки обмываем. А ты почаще думай о мечте, как о реальности. Тогда все само собой и случится, – выдохнула Гита и залпом опрокинула сотку.
– Ну, как?
– Как, как. Как будто в трехмерность возвращаешься, вот как, – засмеялась Гита, и пошла искать мужа.
…Анфиса осталась вдвоем со штофом и обвела глазами зал: у каждого божества было свое украшение, цвет, собственный столик с троном и символом власти на спинке. Группы божеств образовывали подгруппы из пяти пар, и каждая подгруппа окружалась пятикратным радужным ореолом.
Ореолы голубого цвета были мудры и не напрягали подобно тому, как не напрягает бирюзовая чаша, отгороженная в музее – ниткой – от посетителей. У ореолов голубого цвета не было ни центра, ни границ.
Белый ореол мудрости казался Зеркалом: именно с таким ореолом бежала когда-то мимо Анфисы Белка.
Желтый ореол Равенства был подобен золотой музейной чаше, а красный, сияющий из сердца Амитабы, – коралловой музейной чаше, тоже опрокинутой.
У каждого ореола имелись собственные спутники предельно простого типа «Луна-Земля», но не имелось ни конца, ни начала: Анфисе даже стало казаться, что сами стены «Праги», расширившись до неузнаваемости, никогда не имели ни конца, ни начала, а родились сразу где-то в конфуцианской середине, которую Анфиса с некоторых пор (одной ей известно, за что), недолюбливала.
Вдруг внутренний голос оборвал мысли Анфисы и она поняла, что все эти 42 божества, засветившиеся в Тибетской книге мертвых – порождение чьего-то, а не ее собственного, ума! И как только она это поняла, все божества переместились назад на свои страницы, как когда-то – персонажи «Королевского крокета», отправившиеся на историческую родину, в колоду карт.
Анфиса снова вспомнила о все порождающих мыслях и, прогнав видения, расстроилась немного от той чертовщины, которую вызывала собственной головой лет двадцать.
«Принца пора материализовывать, – гордо, печально, одиноко и медленно соображала Анфиса. – Или нищего. Разницы нет, главное, чтоб разбудил, собака. Поцелуй не обязателен, но запланирован. Фрейд и тут успел…»
Анфиса хотела потрогать себя за рукав, но наткнулась на голое тело: чудесный финикийский костюм пурпурного цвета исчез, оставив вместо себя инкубаторский узкий сарафан, в котором ходило пол-Москвы.
Анфиса вышла из «Праги» и пошла прямо по Калининскому, морщась от грохота и выхлопных газов. Ей показалось, что те образуют не столь отдаленное подобие замкнутого круга, оказавшегося мандалой: Анфиса присвистнула. В центре мандалы сидел лотосоподобный Бог Танца с кривым ножом и черепом, наполненным кровью. Анфиса вспомнила, что череп с кровью означает отречение от жизни – уход от Сансары, и стала ждать, кого увидит дальше.
В восточной части круга появился Хранитель Земного знания, в южной – тот, кто продолжает или укорачивает жизнь, в западной – Хранитель Великого Символа с «Практическим курсом йоги» в руках, в северной – Хранитель Чего-то Особого, очень сложного, и для Анфисы засемьюпечатанного.
Все эти хранители находились в обществе дакинь, похожих на древних манекенщиц, если те существовали, а на самом деле – фей, увлекающихся по молодости тантрической эротикой.
Вслед за хранителями шли, из смога материализовавшиеся, герои и героини небесного труда с бубнами, барабанами и флейтами, поэтому на Калининском стало еще более шумно, чем обычно.
Вся эта процессия светилась и переливалась так бирюзово, что Анфиса впервые по-настоящему испугалась, но на тусклый цвет не соблазнилась, а по кармическому закону, после видения такой демонстрации Анфису могли реинкарнировать на более высокую ступень, а то и вовсе оставить в покое, как она мечтала.
«Как я замучалась, – подумала Анфиса, заходя в метро, – как замучалась! Как они меня все за…» – но не договорила и проснулась на конечной станции, где Щелковский автовокзал подмигивал ей фарами.
Анфиса никак не могла все-таки взять в толк, что же с нею происходит: да и как его взять, где он лежит, этот толк? Пошли кривотолки, но прошли достаточно быстро.
Анфиса уперлась лбом в оконное стекло, и оно тут же треснуло, не выдержав и сотой доли Анфисиных мыслей. «Сильная женщина плачет у окна…» – донеслось откуда-то сверху пугачевское, но заплакать у Анфисы не получилось.
– Так и железной ледькой станешь, – подумала она, вспомнив о восковой фигуре Маргарет Тэтчер: она стояла в стеклянной витрине – стояла в синем «родном» костюме и отталкивала маленькими мышиными глазками, будто живыми.
Еще Анфиса подумала, что неплохо бы перекусить, что зря она в «Праге» упустила такой момент, и стала уныло грызть чипсы. «А если он не придет и не поцелует, в смысле – не разбудит? – тревожилась. – Что тогда? Сама-то себя я поцеловать не могу»
– Но разбудить можешь, – сказал ей внутренний голос, и Анфиса разозлилась:
– Да сколько можно, все сама и сама!! Хоть раз бы – как в сказке! – тут она вдруг разревелась, а внутренний голос утонул в Слезном пруду, потопившем не только окно, Музей восковых фигур, но и сам Щелковский автовокзал. Люди и манекены стали похожи на героев «Титаника», только Ди Каприо поблизости не было.
– А ты бы смогла за мной, как она? – вспомнила Анфиса давнее, когда смотрела фильм с Небезызвестным.
В кадре Ди Каприо был прикован, к какой-то трубе, и вода заливала отсек, а Роуз аффективно плыла к красавчику с топором. Анфиса тогда промолчала; молчала она и сейчас, потеряв всякие ориентиры – она ведь не знала, зачем ей эти все Бардо, в ассортименте с принцем, методологией и пустым желудком. Анфиса, впрочем, не решаясь упасть окончательно в собственных глазах, наспех вытерла глупые слезы и чихнула, шепнув в пустоту:
– Да разве может быть что-то хуже, чем упасть у себя самой в собственных глазах? – и, отряхнувшись, пошла искать чудо в щекотливом промежутке между жизнью и ее подобием.
«Тиха украинская ночь», – пронеслась строчка мимо Анфисы, и тут же скрылась за ярким месяцем, который так и хотелось лизнуть: он был будто леденец на фоне темного неба с парой-тройкой вылинявших за день тучек. Анфиса подняла глаза вверх и вдруг поняла, что никакая сейчас не ночь, а самый настоящий белый день, и стоит она аккурат в центре Дерибасовской, слушая обрывки интеллектуальной беседы:
– Вы бы, мадам Жлобенко, не вдалбливали в огурцы столько соли. Огурцы – не девушка в положении!
– Я, мадам Лохушко, и рада бы поменьше соли, да Фанька того и гляди выродит!
– Вы бы, мадам Жлобенко, все-таки поменьше… А Фанька и капусты съест.
– Да Фанька-то уж всю капусту сожрала, мадам Лохушко! Так что к ужину не приглашаю, пока Фанька не выродит; уж не обессудьте, мадам Лохушко!
Отойдя куда подальше, Анфиса заметила полинявших, как тучки, путанок лет по осьмнадцать, а прямо по курсу – крайне мерзкого типа. Это был майор Похренушко, действующий согласно пунктам разнообразных приложений к несуществующей Инструкции.
– Здрасьте, здрасьте, – тошнотно изменил он положение лицевых мышц улыбкой. – Никак, на заработки?
– Никак нет, – ответила Анфиса. – Хотя, работка бы не помешала, нельзя же жить на одну стипендию!
Майор Похренушко загоготал:
– Да кто ж тебя на работу без блата возьмет? Эх, зелень… – он почесал затылок. – Вот, правда, если хочешь Большой и Чистой Работы, приходи вечером на сеновал. Придешь?
– А чего ж не прийти, – сказала Анфиса. – Приду. Только с Бхагаваном.
– С каким таким Бхагаваном? – переполошился Похренушко и даже не успел цыкнуть на пасущихся недалеко пасторальных путанок: чистый фа-мажор, неразбавленный! – Бхагаван нам не нужен!
Анфиса пожала плечами и направилась было к морю, оставляя легавого у открытого кафе, но тот быстро отставать не привык:
– Ваши документы, – сказал он официально.
Анфиса протянула паспорт.
Майор Похренушко долго изучал графу «место жительства» и, напрягши мозг, догадался: Анфиса не из местных.
– Почему прописана не по Дерибасовской? – он вытаращил на Анфису мутно-поносные глаза.
–..?!
– Прописаны в другом городе, а по Дерибасовской расхаживаете, как по дому родному! Платите штраф.
– Но за что? – Анфиса обалдела от такого идиотизма.
– За то, что не зарегистрировались.
– Но я только приехала…
– Короче: или штраф, или вечером на сеновал, ясно?
– Не очень, – Анфиса разозлилась не на шутку и крепко выругалась.
– Ах, так? – разъярился Похренушко. – Взять ее!
Откуда ни возьмись, появилось еще несколько легавых: Анфису затолкали в «воронок» к трем фа-мажорным путанкам.
– За что? – тихо поинтересовалась у самой себя в воронке Анфиса, а тощенькая с малиновой, размазавшейся на губах, помадой, объяснила:
– За что, за что. За «Титаник», известно. Ди Каприо, Роуз с топором… Вот и торчи в ментовке теперь, москвачка хренова.
– Дура, – сказала Анфиса и отвернулась. – Ты хоть «Муму» успела в школе прочитать?
Майор Похренушко не дал возможности расставить точки над шедевром классики и, залезая в воронок, наклонился к Анфисе: она почуяла, как противно несет от него луком, потом, политинформацией и хоровым дирижированием.
– Так как – «туда» или на сеновал?
Анфиса в секундном размышлении «сказать-не сказать гадость?» ужаснулась, до какой же степени она глупа, если материализует постоянно какое-нибудь Г. вместо «большой и чистой». Вот и сейчас: проститутки, офигевший мент, жара; до моря – рукой подать, а ее везут в ментовку…
– Я твой самый знаменательный числитель, – продолжал распинаться Похренушко. – Из первого ряда.
– А я тебя на «ноль» разделю, – осенило вдруг Анфису, и внезапно исчезло все: Похренушко с запахом изо рта, глупые путанки, душный «черный ворон», не списанный с 1937-го, и даже сама Дерибасовская. Жаль было только море…
Вместо всего этого Анфиса увидела саму себя, стоящую неподалеку от грязноватого пятачка, у магазина «Продукты» с игривой надписью «ООО Содом, Гоморра и К°» сверху. На тяжелой железной двери висела ксеранутая реклама «Йохимбе – и вы настоящий пацан», а несколько пока не очень настоящих пацанов внимательно, по складам, читали одинокую бумажку. Автобус, отправляющийся от станции «Куево-Кукуево», ходил раз в полтора часа.
В Куево-Кукуево к этому привыкли; автобус раз в полтора часа мало кого трогал. Анфиса тоже попыталась сделать так, чтобы ее это мало трогало; это почти получилось, если б кто-то не сказал, будто автобус пойдет только до «Куяково», а не до Города.
– А из Куяково до Города когда? – поинтересовалась осторожно Анфиса.
– А из Куяково, мадам, сегодня ничего не пойдет. Отменили.
– Как же тогда до Города добраться? – спросила в воздух Анфиса.
– Ну, язык до Города доведет, – ободрили Анфису куево-кукуевцы и встали в длинную очередь к прибывшему транспорту с табличкой «до Куяково» на лобовом стекле. Автобус напоминал машинку фирмы «Ритуал», но внутри было весело – народец оказался не злобным, а смешливым. Особенно долго смеялись потом карманники, собирающие собственный НДС.
– Почем билет? – спрашивал кто-то, никогда не живший больше, чем на одну зарплату.
– Немерено, – отвечали в другом конце автобуса, вызывая всеобщий смех.
Анфису же смяли с пяти сторон: дышать свободно не было никакой возможности, и она закрыла глаза, представляя, что спит. Вдруг ее так тряхнуло и сдавило, что все кастанедовские сказки потеряли актуальность, и Анфиса грустно вжалась грудью в воображаемый поручень, а через сорок минут оказалась в Куяково с ощущением брезгливости и тоски – одновременно.
– Что я делаю здесь? – снова, в который раз, спросила саму себя Анфиса. – И делаю ли здесь «это» – Я? Где то самое «здесь»? Сейчас ли – оно?!
Она пошла по длинной тенистой аллейке в направлении хоть какой-нибудь гостиницы.
Смеркалось…
Куяковская аллейка оказалась еще и узкой, так что двоим на ней никак было не разойтись. Анфиса, заметив издали гормонально-озабоченного юнца, подвинулась к проезжей части. Но гормонально-озабоченный юнец вовсе не собирался обходить ее стороной, даже наоборот: широко улыбаясь, шел навстречу Анфисе, вспоминая мыслительно-двигательное действие, позволяющее лазать за словами в карман.
– Здрасьть, а вас как звать?
Анфиса подумала, что материализовала опять какого-то козла и нащупав в кармане дамский кастет, отозвалась:
– Неточка Незванова.
– А… – юнец призадумался и снова полез в карман за словом. – А меня Вова. Я в ПТУ учусь, знаю три слова и хочу тёлку. Пошли, Неточка, а то у меня на проститутку не хватит.
Анфиса улыбнулась и, обняв Вову за квадратную талию, даже прошла с ним несколько метров, а около указателя «Бредятино» вспомнила о ловкости рук и достаточно профессионально врезала Вове изящным, но тяжелым дамским кастетом. Получилось стильно: Вова медленно сполз в лужу, а Анфиса, переведя дух, нащупала Вове пульс: его стук показался ей похожим на бой кремлевских курантов.
– Шла-шла, и никого не встретила, – шагая, взбадривала себя Анфиса. – Да и должно же где-нибудь здесь быть море?
Она явно слышала какой-то шум и решила идти на него.
Это было нескончаемо долго. Анфиса еле переставляла ноги и ни о чем не думала – думать сил не осталось, как не осталось сил и хотеть есть. Ветер трепал волосы, а прохладный воздух успокаивал тем, что кожа дольше сохранится в таких условиях, и Анфиса верила ветру и воздуху на дуновение.
Вдруг она увидела море: оно оказалось именно таким, какое показывают по телевизору, только большое, красивое и с запахом. Море пахло морем: криками чаек, соленой водой, мокрой прибрежной галькой, темным небом с полумесяцем, так похожим на рождественский леденец… Анфиса расслабилась и, сняв одежду, легла в самое начало моря; оно погладило ее тело и, зашуршав волнами, пообещало не топить. Тогда Анфиса поплыла в самую середину моря; море снова погладило ее тело и, зашуршав волнами, промолчало про главное; тогда Анфиса поплыла далеко-далеко, а когда поняла, что берегов не видать ни с одной стороны, внезапно увидела себя лежащей в огромной луже в черном купальнике с полинявшей надписью Sorry, my love – на груди.
– Тьфу ты, опять фантомные боли, да и море ненастоящее… – Анфиса стала выжимать волосы, вспоминая почему-то Небезызвестного, хотя, с точки зрения Анфисы, он этих воспоминаний не заслуживал в данной ситуации, когда пора настала вылезать из любых влажных мест сухой, стрессоустойчивой и не смущенной портретом Кун-фу.
Анфиса оделась и, подняв глаза вверх, заметила Солнце. «Утро, что ли», – мелькнуло у нее, но начало мысли тут же оборвалось двумя очень знакомыми голосами, доносящимися из бредятинского репродуктора, от звуков которого Анфису чуть не стошнило прямо на мельтешащих жителей Бредятино, спешащих на праздник Урожая.
– Дорогие бредятинки, бредятинцы и бредятки! Сегодня мы собрались здесь, чтобы… – ради чего все собрались, Анфиса слушать не стала, уловив в репродукторских голосах Точизну и майора Похренушко, а, опознав, окончательно увидела такую картину: вместо моря (хоть и искусственного, но все-таки – моря) образовалась площадь виленина Бредятинского уезда и всё вытекающее.
Между Домом Культуры с облупившейся краской и памятником вождю пролов и проловчанок, выкрашенным довольно неаккуратно серебрянкой вчера вечером (на асфальте можно было заметить капельки засохшей краски), стоял столб с намертво прикрепленным громкоговорителем:
– А теперь поговорим о подскоках, – пел голос Точизны. – Встаньте, товарищи, дружно в ряды – к виленину передом, к Дому культуры задом.
(Анфиса притаилась за кустом крыжовника, ощущая себя бледнолицей на заселенном дикарями необитаемом острове, подглядывающей за их ритуальными танцами. «Интересно, а жертвоприношение у них будет, или – так?» – подумала Анфиса, но спохватилась и, собрав в ладонь волю, прекратила ход мыслей.
Бредятинцы встали в ряды, как велели и, вслушиваясь в слова репродуктора, претворяли их в жизнь (она же – действие):
– На счет «р-раз» сделаем небольшой шаг вперед правой ногой, а левую, слегка согнутую в колене с оттянутым вниз носком, чуть приподнимем вверх, – взволнованно говорила Точизна. – На счет «и», товарищи, легко подпрыгнем на носке правой ноги и продвинемся вперед, а потом сделаем все то же самое с левой ноги.
Особенно хорошие подскоки получались у бредятинцев, стоящих ближе к виленину; те же, кто стоял рядом с Домом Культуры, работали в пол-ноги, но в целом, атмосфера была еще та.
– Подскок, товарищи, можно чередовать с обычной ходьбой! – встрял майор Похренушко. – А сейчас выучим «Ковырялочку». Встаньте, товарищи, в исходное положение.
– Это как? – донесся голос слева. – «На исход», что ли?
– Вы не правильно мыслите, гражданин, – строго сказал из репродуктора майор Похренушко. – Положите руки на пояс…
Но Похренушко перебила Точизна:
– Мы понимаем, что не все просто сейчас. Мы знаем, как тяжело противостоять, но наши цели, задачи и методы предполагают принципиально новую гипотетическую концепцию! Да, товарищи! Так сделаем это! Совершим небольшой подскок на левой ноге, а правую согнем в сторону в носок. Так, хорошо; веселей, товарищи! Теперь колено – внутрь, а голову повернем направо. Получилось? Конечно, товарищи, главное – желание и вера в методологию ускорительного процесса интеграции!
(«Во Точизна дает!» – обалдело слушала Анфиса за крыжовником).
– А теперь, товарищи, сделаем небольшой подскок на левой ноге, правую поставим на пятку в сторону и повторим то же самое с левой, – дирижировали реальностью из репродуктора.
Анфиса, исколотая колючками, ойкнула, совершенно случайно заметив, как к гильотине (стоявшей чуть левее от Ленина), посверкивающей серебром, повели Небезызвестного. Он был одет в смирительную рубашку и казался равнодушным к происходящему. Анфиса зажала рот рукой и широко раскрыла глаза: «А ты бы смогла, как Роуз?» – колыхнулось в ней давнее и прокусило губу до крови; потом она вспомнила почему-то несовершеннолетнюю пасторальную путанку в «черном вороне», увозящем их с Дерибасовской, и презрительно-завидущее: «Москвачка хренова!»
Тем временем Точизна и Похренушко вылезли прямо из репродуктора и встали на трибуну, располагающуюся как раз под лозунгом «Даешь интеграцию!»
– Всем встать, суд идет! – прогремел голос Точизны, и Анфисе стало страшно, как в темном коридоре в пять лет.
Бредятинцы встали. Похренушко толкнул обвинительную:
– …не работает… песни бредятинские не поет… с бабами, то есть, с женщинами не спит… книжки какие-то читает, все больше не бредятинские… как бы чего не вышло… тунеядец… а еще ноты знает…
Толпа бредятинцев ахнула:
– Как, и ноты знает?
– Знает.
– И писать умеет?
– На двух языках!
– Отрубить ему голову! – ласково сказала Точизна, заворачиваясь в откуда-ни-возьмись появившуюся горностаевую мантию.
– Мне кажется, следовало бы переговорить с Герцогиней, – сказал Похренушко. – А что скажет на это княгиня Марья Алексевна?
– И ему отрубить голову! – указала Точизна на Похренушко палачу в красном трико с отвислыми коленками, старых лаптях и с заточенным серпом.
– Как прикажете, – сказал палач и стал толкать Похренушко к гильотине.
– Погоди-ка, – сказала вдруг Точизна. – Давай, двинь лучше ему серпом по яйцам.
– Как изволите, – сказал палач и, поставив на место казни похренушкинское лукошко с ворованными яйцами (а их было четыре десятка), со всей силы ударил по нему серпом, после чего раздались бурные продолжительные аплодисменты.
– Ура! – кричали бредятинцы.
– Ура… – тихо шептала Точизна, чуть прослезившись.
– Ура!! – кричал Похренушко, держась за ширинку.
– А с этим что? – указал палач на Небезызвестного, поворачиваясь к Точизне.
– Что-что? Отрубить голову, а потом всех мужиков – на войну.
– С кем? – поинтересовался Похренушко.
– С кем-с чем, с Марсом, – недовольно процедила Точизна и посмотрела на Небезызвестного: лицо его не выражало ничего, кроме усталости и желания того, чтобы все поскорее закончилось…
Точизне это не понравилось:
– Если будешь делать подскоки, будешь жить. Как все, – сказала она ему.
Он поднял на нее глаза и тут же опустил.
– Я же сказала: будешь жить, делать подскоки, как все; не понял, особо одаренный?
Небезызвестный усмехнулся и ничего не сказал.
– Совершенно бесперспективный экземпляр, – сказала Точизна. – Отрубить ему голову! Он не живет жизнью нашего стада!
И тут Анфиса полетела. Как будто десять тысяч пантер вселились в нее, и она одним движением, одним прыжком оказалась рядом с гильотиной. Небезызвестный вздохнул свободнее, бредятинцы оживились, палач остановился, Точизна поправила съехавшую на бок шапку Мономаха, а Похренушко заорал:
– Это она, она, сука! Это она во всем виновата!
– Казнить ее! – во все горло прокричала Точизна. – А приговор объявим потом.
– С точки зрения гипотетической концепции интеграции и ускорения неправильно сначала объявлять приговор, а потом совещаться! – как можно спокойнее сказала Анфиса.
– Молчать! – произнесла Точизна, побагровев. – Казнить ее!
Никто не тронулся с места.
– Неужели вы думаете испугать меня? – воскликнула Анфиса. – Да вы все просто самые обыкновенные совки! И больше ничего!
…Вдруг все совки поднялись в воздух и улетели, а Анфиса, развязав руки Небезызвестному, запела мелодию из «Титаника» и, похлопав по плечу, упомянула Ди Каприо, вызвав тем самым смех как у себя, так и у экс-приговоренного.
– Ладно, как ты до пятого курса докатилась, это фигня, хотя, тоже конечно, стыдно. Но как ты до Куево-Кукуево докатилась, да еще с пересадкой в Бредятино? – спросил Анфису Небезызвестный, когда та очнулась на его плече.
Анфиса пожала плечами:
– Как Колобок; он же ото всех ушел – и тоже докатился.
– Ты от темы не отходи, – перебил ее Небезызвестный. – Я тебя спрашиваю: чего ты в Куево-Кукуево понеслась?
– На Сидпа Бардо посмотреть!
Небезызвестный недоверчиво и осторожно, как будто впервые, рассматривал Анфису:
– Зачем?
– Занадом, – буркнула Анфиса. – Чтобы не переродиться потом больше никогда, сколько можно гимор устраивать. А если честно, хочу написать «Среднерусскую книгу живых».
– Ты же буквы забываешь.
– Да я быстренько их вспомню, буквы-то. Главное, чтоб в плагиате не обвинили.
– Это они могут, – вздохнул Небезызвестный. – А в плагиате на что?
– На мироощущение из пелевинской «Желтой стрелы» и на непочтительность к Тибетской…
– Это серьезно.
– Да нет, мы с Пелевиным по-разному чувствуем; к тому же, sorry, в силу пола… А к Бхагаванам я нормально вполне отношусь. Правда, кое-кто может не понять.
– Может.
– А ты? – вдруг задумчиво спросила Анфиса.
– Что – я? – не понял Небезызвестный.
– Ты – тоже не поймешь?
– Да мне некогда, мы завтра на Марс летим.
– Зачем?
– Командировка по обмену опытом.
– А-а, – протянула Анфиса. – Значит, хорошо, что совки улетели.
– Весной прилетят. Черным-черно будет.
– Картина такая есть. По ней в школе все сочинения пишут – «Совки прилетели». Помнишь?
– Помнишь, – сказал Небезызвестный. – Ты, это, вот что: не пропадай. Как с Марса прилечу, позвони хоть.
Анфиса хотела спросить, когда он прилетит с Марса, но сказала правду:
– А у меня палец не стоит.
– В смысле?
– В смысле на телефон.
Небезызвестный долго смотрел на Анфису, потом сказал: «Спасибо тебе», и улетел на Марс до первой звезды.
Анфиса почувствовала себя разбитой и старой. Она долго изучала собственное зеркальное отражение, а потом поинтересовалась у него же, есть ли жизнь на Марсе и, распечатывая одноименный шоколадный батончик, изо всех сил старалась держаться.
«Держись!» – говорили ей когда-то.
«На что? – молчала Анфиса, вцепившись в поручень. – Да и ЗА ЧТО?» Еще можно было, кроме поручня, держаться правой или левой стороны, но это только в метро, а на поверхности держаться, выходит, не за что, так что Анфиса освоила цепную хватку зубов за воздушное пространство, но умней от этого не стала, как и счастливей.
«Даже если так будет продолжаться всегда, – думала Анфиса, – то все равно это „всегда“ закончится, и я, наконец-то займусь любимым делом. А какое дело у меня любимое? – спросила она себя. – Оно зависит исключительно от себя самой!»
С такими мыслями шла и шла Анфиса по тропке, незаметно выведшей ее из Куево-Кукуево на свет белый. На свету белом было слишком светло, и Анфиса зажмурилась. Еще ей стало неловко за внешний и внутренний вид, с которыми на свет белый лучше не выходить: к сарафану прилипли репейники, босоножки запылились, а в районе солнечного сплетения как мухи, жужжа и доставая, кружились отрицательные эмоции.
И тут Анфиса снова услышала:
– О, благороднорожденная, будь внимательна!
– Да внимательна я, куда уж, – осмелела от безысходности Анфиса, отвечая Голосу мудрой очарования, о которой прочитала в комментариях к «Тибетской книге мертвых»: средний палец прикасается к большому, безымянный прижат к ладони, а указательный и мизинец вытянуты.
Анфиса пыталась хоть как-то восстановить утраченные силы, поэтому хотела с помощью мудры очарования изменить магнетические токи тела, но ничего у нее не вышло:
– Йогой надо было по-человечески заниматься, а не через пень-колоду, – расстроилась Анфиса, опуская ладонь. – И вообще…
Что скрывалось за трогательным «и вообще», могла понять только Анфисе подобная; Голос же снова напомнил о себе, но помягче:
– О благороднорожденная! Помнишь ли, зачем оказалась ты в Стране Чудес?
– Как же мне не помнить? – отвечала Анфиса. – Сансару свою прикрыть.
– Правильно, – сказал Голос. – Но в твоем теперешнем положении это сложнее.
– Почему? – удивилась искренне Анфиса. – Разве я сделала что-нибудь не так?
– Не все. Но что касается Куево-Кукуево… – Голос как бы ушел за кулисы, а потом спросил: – И зачем ты совков к нам спровадила? Своих дебилов хватает.
– Куда это – «к вам»? – не поняла Анфиса.
– Сама подумай. Ладно, проехали. Теперь запоминай: не привязываться здесь ни к чему и ни к кому – ни к зверю, ни к человеку, ни к жилищу, иначе – как страдала раньше, так страдать и будешь, а про отвязку от «колеса» тогда забудь.
– Это вы о марсианине? – испуганно и одновременно решительно спросила Анфиса.
– И о нем тоже, – сурово прогремел Голос. – Еще не хватало, чтоб ты сперматозоиды разводила. И не спрашивай, почему – сама знаешь.
Анфиса знала.
Анфиса знала и то, что остановить свое колесо перерождений при наличии оставленного на Земле выросшего сперматозоида гораздо сложнее – выросший сперматозоид может «привязать», и тогда даже после смерти она не достигнет Абсолюта и не сможет заняться любимым делом.
После долгой паузы Анфиса все-таки осмелилась спросить:
– А если без ЭТОГО? Ну, можно же и без детей обойтись…
– Дура, – ответил Голос. – Тебе говорят, как лучше: кончай с Небезызвестным, иначе все усилия насмарку. Он – не Тот.
– А где – Тот? – всхлипнула Анфиса.
– Тот – в Очень Древнем Египте, но, впрочем…
Внезапно поднялся ветер, потом стало темно и жарко; только Анфиса успела заметить в небе смущенную дневную луну, как вдруг увидела напротив что-то необычное. От неожиданности появилась та самая непосредственность, упорно удаляемая социумом, и Анфиса задала человеку с головой Ибиса обыкновенный вопрос:
– А вы, собственно, кто?
– Я – Тот, – ответил ей бог Тот. – Только что из Египта.
– Из Древнего Царства?
– Не совсем, – засмеялся Тот, – из Новейшего.
– Но вы не тот! – запротестовала Анфиса. – Вы совсем, совсем не тот!
– Я – Тот, – покачал головой бог мудрости, счета и письма. – Я Тот самый. Еще Тот я, короче – луну и календарь ваш дурацкий придумал.
Анфиса смотрела на него широко раскрытыми глазами и бессвязно нашептывала:
Бог Тот чертил слова гигантских книг, Чтоб в числах три, двенадцать и четыре Мощь разума распространялась в мире[1].Откуда она это помнила, Анфиса понятия не имела. Еще Тот оказался телепатом:
– Коллективное бессознательное, душа моя, коллективное бессознательное – улыбнулся он. – Карл Густавович молодец, не все наврал. А вот интересно, – Тот подошел к Анфисе, положа руку ей на сердце, – а вот интересно, сколько весит сердечко?
– В смысле? – покраснела Анфиса, убирая руку Тота с груди.
– Ха-ха, в прямом, – засмеялся еще Тот. – Мы с Осирисом на Суде мертвых всегда взвешиваем сердца.
– Но я-то пока жива, – неуверенно сказала Анфиса.
– Да ты вообще ни жива, ни мертва! Надо ж до такого докатиться! – покачал головой еще Тот.
– До какого – такого? – рассердилась Анфиса.
– Там расскажу, некогда сейчас, – сказал еще Тот и, снова вызвав внеплановое затмение, был таков.
Анфиса ждала, что после этого бреда объявится Голос, но вокруг стояла тишина. Анфиса вздохнула и пошла в Город, но вместо Москвы набрела на Питер, где вовсю стояла белая ночь.
Белыми ночами по Дворцовой площади слонялись бедные люди, и Анфиса присоединилась к ним, не стесняясь порванных босоножек, а когда совсем устала, присела у большого столба напротив Эрмитажа, заснув незаметно для себя самой.
– Эй, вставай, – дворник тряс ее за плечо.
– Который час? – потянулась, было, Анфиса, но, посмотрев в глаза дворника, ощутила всю неуместность вопроса. Дворник, впрочем, был не злой, а скорее наоборот. Он лишь чуть-чуть подмел Анфису, а потом спросил:
– Ты где живешь-то?
Анфиса отвернулась, но не от бестактности, а просто так.
– Есть хочешь? – настаивал на диалоге дворник.
– Хочу, – честно призналась Анфиса. – Аж переночевать негде.
– Это мне знакомо, – сказал дворник, почесывая бороду. – Это нормально. Тебя как звать-то?
– Анфисой. А тебя?
– А меня дядя Слава.
– Какой же ты «дядя»? – рассмеялась Анфиса. – Ты меня всего лет на десять старше, ну, на пятнадцать.
– Давнее, – махнул рукой дядя Слава. – Давнее и долгое. Я же из того гребанного поколения дворников и сторожей, – протянул он Анфисе сухарь, отставляя модерновую метлу.
– Музыкант, что ли? – поинтересовалась Анфиса, отгрызая кусочек.
– Не… – дядя Слава почесал затылок, – хуже: писатель.
– Как интересно, – задумчиво сказала Анфиса. – Так вот проснуться на Дворцовой площади и встретить настоящего писателя. Печатался?
– Ну вот, сразу «печатался», – посмурнел дядя Слава. – Эти вознесенские разве дадут? Они же таким как мы, проходу не дают, а в редакциях такой отстой сидит! – дядя Слава махнул рукой и закурил что-то вонючее. – Будешь? С планом.
– Нет, спасибо, – отказалась от косячка Анфиса. – А сейчас-то пишешь что-нибудь?
– Сейчас я пью, – сказал дядя Слава. – Да и все равно не поймет никто. Все хочу в «Континент» пробраться, может оценят… А ты чем живешь? – спросил дядя Слава.
– Мигом одним, – ответила Анфиса, делясь сокровенным.
– Это правильно, это ты молодец. Я вот тоже все хочу – мигом, а за пивом даже – минут десять от дома. Слышь, – дядя Слава неодобрительно посмотрел на Анфису. – Тебя же менты в таком виде остановят, ты бы переоделась во что…
Вдруг прогремел гром среди ясного неба, и Анфиса услышала преувеличенно членораздельное:
– Иди в бутик на Невский, нельзя посмертный опыт в таком виде изучать.
– А что, уже посмертный? – хотела спросить Анфиса, но смолчала, пытаясь сойти за умную хотя бы отдаленно, а, смолчав, заметила рядом Алоке – ту самую, с которой они так мило разговаривали в ресторане «Прага».
– Я тебе помогу, – сказала она и повела Анфису в один из французских бутиков, наличие которых Анфиса предпочитала не замечать по причинам весьма понятным.
В бутике было много зеркал, манекенов в стильных шмотках и улыбающихся продавщиц. Анфиса подходила к вешалкам с красивым тряпьем, но, увидев цену, тут же отходила, пока, наконец, Алоке не раскололась: ее спонсируют сверху. О деньгах Анфиса уже не думала, а думала черт знает о чем, только не о покупках.
– Ну, ты как будто и не женщина, – удивилась Алоке. – Я хоть и богиня, а вон от этого платья без ума. Примерь.
– Не люблю я платья, – отмахнулась Анфиса.
– Почему? – снова удивилась Алоке.
Анфиса посмотрела на нее снисходительно:
– Да потому что к платью нужны дорогие колготки, туфли и сумка в тон; на туфлях надо часто менять набойки, колготки рвутся, сумку в тон – не найдешь… Не люблю платья, – резонно заключила Анфиса.
Алоке трагично прижала руки к груди:
– И что, ты теперь весь посмертный опыт будешь летом в сарафане, а зимой в старых джинсах изучать? Я же говорю: спонсируют сверху. Купи что хочешь, только не штаны, я тебя умоляю, – запричитала Алоке, показывая стопочку долларов. – Не думай о деньгах. Вспомни о красоте. О своей.
Анфисе давно никто не напоминал о красоте, и она вошла в примерочную кабину с несколькими вешалками, на которых хрупко спали изящные вещи из тонких прочных материалов. К слову сказать, Анфиса терпеть не могла мерить что-то. Но тут… Она долго не могла остановиться на чем-то одном – настолько все было ей к лицу и впору, что она сначала даже расстроилась.
– Ну, как дела? – спросила из-за шторы Алоке, а через несколько минут ахнула, увидев Анфису в длинном облегающем платье из китайского шелка цвета лепестков чайной розы и прозрачном темно-розовом кашне на шее, плюс сумка и туфли – в тон.
– Я не привыкла, – вышла, смущаясь, улыбающаяся Анфиса. – Я еще на всякий случай купила джинсы с футболкой, – и тряхнула пакетом.
– Может, в кафе посидим? – предложила Анфиса Гите, когда они оказались на улице. – В Питере целая куча классных кафе!
– Гулять, так гулять, – Гита пересчитала баксы, и они направились к кафе неподалеку от библиотеки имени Блока. Только когда Анфиса и Гита уже прикоснулись к дверной ручке, до них донесся Голос:
– Деньги – казенные; пора делом заниматься. Слушай же, благороднорожденная, и отвечай.
И тут Анфиса вдруг обнаружила, что не на Невском она и без Гиты, а на Московском вокзале у поезда «Красная стрела» с билетом на забронированное купе и паспортом на имя «пани Ежинска».
Анфиса легла на нижнюю полку. За окном исчезали питерские окраины. «В Москву, в Москву!» – галдели три сестры в соседнем купе; ложка весело позвякивала в стакане чая с железным подстаканником; Анфиса лениво перечитывала «Повесть о Сонечке» и равнодушно засыпала под стук колес. Вскоре ее разбудил звук гонга, который никак не должен был звучать в «Красной стреле», да еще в понедельник. «Начинается», – вяло вздохнула Анфиса и стала слушать.
– Слушай, о благороднорожденная! Пять ядов, подобных наркотикам, порабощают человечество и привязывают его к страданиям существования в пределах Шести Лок – похоть, ненависть, глупость, тщеславие (эгоизм), зависть.
– Плавали, знаем, – пробурчала Анфиса, но замолчала, услышав главную мантру Авалокитешвары ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, а потом и самого Авалокитешвару, сидящего напротив, на соседней нижней полке. Авалокитешвара пил чай с кусочком сахара вприкуску, следуя хрестоматийному виленинскому примеру.
– Как покровитель Тибета, хочу заметить тебе, Анфиса, что повторение моей мантры и при этой жизни, и в Бардо помогает завершить круг смертей и рождений. Моя мантра открывает путь в Нирвану, – сказал он очень серьезно. – ОМ затворяет врата рождения в мир богов, МА – в мир асуров, НИ – в мир людей, ПАД – в мир животных, МЕ – в мир «прет», ХУМ – в мир обитателей Ада. Чтобы закончить скрип Сансары, ты должна умереть правильно: спокойно, достойно и без страха. Ты должна прилежно изучить искусство умирания, будучи еще в добром здравии. Тогда ничто не опьянит тебя в Сидпа Бардо, и ты никогда больше не появишься ни в одной из шести Лок.
– Я стараюсь, – тихо сказала Анфиса.
– Плохо стараешься, – помрачнел Авалокитешвара. – Ты на Гиту не смотри: она богиня, ей по бутикам ходить привычно. А тебе просто не нужно думать о Марсе. Тебе вообще вредно думать.
– Всем вредно думать, – попыталась возразить Анфиса, но Авалокитешвара остановил ее, подняв ладонь:
– Не всем. А тебе вредно. Особенно о Марсе. Все, тема закрыта, иди изучай Сидпа Бардо, только особо не увлекайся – не то заново родишься.
– Спасибо, что напомнили, – Анфиса закрыла глаза и нырнула в засемьюпечатное.
– Ты получишь тело, подобное прежнему – чувственному телу из плоти и крови. Оно будет наделено особыми свойствами и совершенством. Но это тело, рожденное желанием, Анфиса, всего лишь иллюзия мыслеформ в Промежуточном Состоянии.
«Я помню, я читала, – не сказала Голосу Анфиса. – Тело желания оно называется».
– Не следуй за видениями, Анфиса, что появятся перед тобой, не соблазняйся, будь тверда. Если окажешься слабой и привяжешься к ним, снова будешь скитаться – хуже, чем в Питере! – в Шести Локах будешь скитаться и страдать.
«И тут „благоприятна стойкость“» – не вздохнула Анфиса, ныряя куда-то совсем уж глубоко.
– Дабы овладеть истиной, оставь суетное, дай своему глупому уму успокоиться в бездеятельности. Стань изначальна, ясна, пуста; пребудь неомраченной, забудь даже о Марсе – так, и только так ты избежишь очередных врат чрева и освободишься от грязной скрипучей колесницы.
«Хрен-два от нее освободишься», – не подумала Анфиса, но спохватилась.
– Даже если при жизни ты была слепой, глухой или хромой, то здесь, в Посмертном мире, станешь совершенна.
«Иногда от „совершенства“ становится грустно, – не возразила Анфиса. – Но от несовершенства вообще хоть на стену Китайскую лезь…»
– Нерожденность, Нестановление, Несотворенность, Невоплощенность – вот цель, которая стоит перед тобой, и ничего более не должно прельщать тебя.
«Трандец, Нирвана», – улыбнулась Анфиса и поплыла дальше, вслушиваясь в засемьюпечатанное.
– Теперь твое тело не состоит из грубой материи. Ты можешь легко проходить сквозь скалы, холмы, камни, землю, дома. Даже через гору Меру можешь пройти.
«Это та, что в центре Земли, а вокруг – континенты?» – не спросила Анфиса.
– О благороднорожденная, ты увидишь места, хорошо тебе знакомые на Земле, увидишь родственников и друзей; ты захочешь поговорить с ними, но НЕ ОНИ услышат тебя. Тогда ты поймешь, что мертва и будешь страдать подобно рыбе, выброшенной из воды на раскаленные угли.
«Да я и так вроде ни жива, ни мертва, – не слишком усомнилась Анфиса. – Ничего не понимаю».
– Привязанность к земному не спасет тебя от страдания, поэтому молись своему гуру, детка.
«Где же этот гуру, и есть ли он вообще?» – не прикинула Анфиса, но на всякий пожарный произнесла ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, вызвав одобрительный кивок Авалокитешвары, расслабившегося неподалеку от Лхасы в пещере с крутым кондиционером.
Анфиса вдруг почуяла, как не знающий покоя ветер кармы уподобил ее перышку, увлекаемому вихрем, и удивилась, не заметив ни Солнца, ни Луны, окунулась в естественный природный свет. Этот астральный свет рассеивался по эфиру, как сумеречное освещение: тогда Анфиса залетела на секундочку в телевизор, но так же быстро и вылетела, попав в 345-ю серию мексиканского сериала, где во время ее явления добропорядочная семья пила апельсиновый сок, а Анфиса возмущала спокойствие.
– Ходют тут всякие, – сказала донна Сальвара донну Сальвару.
– Это ничего, главное, чтобы наш сын стал настоящим человеком, – ответил дон Сальвар донне Сальваре, и та заткнулась.
Анфиса полетела дальше, но вдруг дорогу ей преградили белая, черная и красная пропасти. Она, почти уже потерявшая нюх на страх, испугалась: так глубоки и страшны они были, эти пропасти.
– О благороднорожденная, – раздался Голос из Подвала Вечности, – не пугайся. Это не есть пропасти, это есть лишь Гнев, Похоть и Невежество. Ты сейчас в Сидпа Бардо, откуда можешь опять завернуть в Сансару, а можешь и не завернуть. Решайся же! Молись своему сострадательному гуру, чтобы он не дал низвергнуться тебе в мир несчастий.
Анфиса прочитала «Отче наш», потом на всякий случай, ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, и потихонечку стала отбрасывать привязанности и желания; и даже на время забыла о Марсе.
– Даже если ты не страдаешь и не блаженствуешь, а испытываешь одно равнодушие, сосредоточься на Великом Символе; только не думай, что размышляешь.
Анфиса забыла, что это за «Великий Символ», но все-таки сосредоточилась, прогнав мысли о медитации. После этого она оказалась возле каких-то мостов, храмов и пагод, но у нее не было сил задерживаться на одном месте: Анфисе стало неспокойно, и она прошептала: «Что делать?»
Как только вопрос был задан, Авалокитешвара протянул ей томик Чернышевского.
– У вас плохое чувство юмора, – обиженно сказала Анфиса и отвернулась.
Авалокитешвара улыбнулся и, перебирая четки, улетел вместе с ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ и нудной прозой жизни.
Внезапно до Анфисы дошло, что ее счастье и горе зависят исключительно от мифической кармы и что сделать уже ничего нельзя кроме, разве, того, как не думать.
«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь», – пропела нагло Анфиса и успокоилась, но неожиданно поймала себя на мысли, что снова хочет иметь человеческое тело и ради этого готова забыть даже самые прекрасные сутры. И, хотя Анфиса знала, что совершает, может быть, самую большую глупость, все же полетела на поиски собственного тела.
– Дура, – прошептала Анфиса – Анфисе, и прислушалась.
– Отринь свою жажду! Смири ум! – как-то очень уж издалека наставлял ее Голос, но Анфисе стало скучно, и она недовольно фыркнула, зная, что тело – духовное, и если даже кто-то решится его четвертовать, она все равно не умрет.
Вскоре Анфиса начала испытывать нечто похожее на маниакально-депрессивный психоз: мгновения небывалой радости сменялись глубочайшей печалью. Это было очень похоже на натяжение и ослабление древней катапульты, но Анфиса могла уже не привязываться к радости и не зацикливаться на печали, хотя с последней оказывалось сложнее всего.
– А как переводится моя любимая мантра, ты хоть знаешь? – откуда ни возьмись появившийся Авалокитешвара улыбался Анфисе.
– «Слава Драгоценности Лотоса!» – вздохнула Анфиса. Это что – экзамен?
– Нет, зачет.
– Ну и… у меня есть шансы?
Но вместо ответа Авалокитешвары материализовалась пара оборванных ламаистов и начала кричать слева и справа от ни живой, ни мертвой Анфисы:
– ОМ ВАГИ ШОРИ МУМ! ОМ ВАДЖРА ПАНИ ХУМ! ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ!
– Translate, please, – попросила их Анфиса. – Do you speak Eurоpe?
– Слава Владыке Речи! Слава Драгоценности Лотоса! – еще громче закричали ламаисты, а потом затихли и стали пить свой вонючий чай с маслом, даже не предложив тот Анфисе.
– Очень надо, – усмехнулась она и полетела налево, обретя знание прошлого, настоящего и будущего, а так же ощущение осознания своей беспредельности. – Как жаль, что это чувствуешь только в Бардо…
– О, благороднорожденная, слушай! Сейчас под влиянием Кармы твое тело желания примет цвет того мира, в котором тебе предстоит родиться. Тускло-белый – цвет мира дэвов, тускло-зеленый – мира асуров, тускло-желтый – из мира людей, тускло-голубой – из мира животных, тускло-красный – из мира «прет», а тускло-серый – из Ада. Наставление это особенно важно, Анфиса: какой бы свет тебе ни сиял, размышляй о нем сострадательно – это еще может предотвратить твое рождение. Это глубочайшее знание, воспользуйся же им, а то опять все сначала: ясли, алфавит, институт, очередной Небезызвестный… Погрузись в состояние Чистоты и Пустоты… – но Анфиса уже не слушала, так и не доборов остаток привязанности:
«Небезызвестный…» – сдержанно-скромно улыбнулась она и, подобно красивому ночному насекомому, устремилась к желтому цвету, который показался ей неожиданно ярким, а вовсе не тусклым, как увещевал Голос.
Я словно бабочка к огню Стремилась так неодолимо… –раздавался романс Ларисы из телевизора роддома, куда залетела Анфиса.
В Любовь – волшебную страну, Где назовут меня любимой.Анфиса отстраненно наблюдала за десятком одновременно распотрошенных снизу женщин, живот одной из которых она должна покинуть в случае собственного очередного рождения, потом заорать истошно «А-а-а!», стать мокрым красно-синеватым комком и забыть все-все, что знала раньше, забыть себя, прежнюю Анфису, и тогда – кранты: ясли, алфавит, бередящий нервы Небезызвестный, слезы, деньги, похмелье, зачетка, переезд, грязные тарелки…
Где бесподобен день любой, Где не страшилась я б ненастья…Одинаково безмакияжные женщины в одинаковых застиранных халатах; тапочки, как музейные бахилы, непрекращающийся ор – как детский, так и дамский, очень похожий на визг свиньи, которую убивают: Анфиса слышала в деревне, как режут свинью, поэтому не могла перепутать, а у одной тетки глаза были совсем как у той хрюшки – серые и тоскливые.
Прекрасная страна – Любовь, Страна Любовь, Ведь только в ней бывает счастье…Анфиса прикинула, что это не Город даже, а самое настоящее Куево-Кукуево и кукуевей не бывает; любой ценой решила Анфиса не вырождаться. Для этого потребовались колоссальные усилия и все, что могло болеть, вдруг заболело; Анфиса сама не заметила, как издала визг, так похожий на визг свиньи с грустным взглядом, предчувствующей нож…
На Анфису налетели ветер, ледяной шквал, град. Окруженной мраком Анфисе показалось, будто ее преследуют целые толпы людей. Обессилев от борьбы с ветряными мельницами, она опустилась до включения «Маяка» в куево-кукуевском коридоре и услышала из коробки радио:
– О благороднорожденная Анфиса! Спокойно размышляй о своем божестве – Хранителе, как об отражении луны в воде. Соедини воедино цепь хорошей кармы, затвори врата материнского чрева и помни о противодействии. Настало время, когда необходима искренность и чистая любовь, отбрось зависть к имеющим форму и размышляй себе о Божественном Гуру, Отце-Матери. Ты блуждаешь сейчас в Сидпа Бардо. Смотри же! Не видно твоего отражения ни в воде, ни в зеркале, да и тени ты не отбрасываешь…
Анфиса посмотрелась в треснувшее роддомовское зеркало в холодной душевой и, не увидев себя, расстроилась.
– Да, я не хочу рождаться, похожей на маленького розового свинёныша! Но и не отбрасывать тень – тоже не хочу!
– Ты должна, не отвлекаясь, принять одно-единственное решение. Принятие этого решения, Анфиса, очень важно и напоминает управление лошадью с помощью поводьев, – говорил Голос. – Что бы ты ни пожелала, все сбудется. Думай о добре, а не о зле – именно здесь и сейчас проходит граница между восхождением и нисхождением. Не отвлекайся, Анфиса! А будешь долго колебаться – хотя бы секунду, будешь долго страдать. Время пришло, соединяй цепь добрых дел.
– Смотря что считать «добрым делом», – усмехнулась Анфиса. – Вот, например, дам я соседу червонец на опохмелку, он и сочтет меня доброй. А все остальные будут смотреть с укором – с противным немым укором, как монашки на манекенщиц, и доброй вряд ли сочтут, – размышляла Анфиса, так и не решившая проблему добра и зла, и стала нанизывать все свои плюсы и минусы на ниточку – подряд, как бусы: получилось красиво, разноцветно и стильно.
– О благороднорожденная Анфиса! Сейчас ты увидишь соединяющихся мужчин и женщин. Помни, что тебе нельзя оказаться между ними! Размышляй о божественном гуру: твоя решимость непременно затворит врата материнского чрева!
– Спасибо, что напомнили, – беззвучно крикнула Анфиса, снисходительно различая запутавшиеся друг в друге руки и ноги М и Ж. Некоторые из них были почти совершенны, и Анфисе стоило целого нервного состояния не остаться с ними. Уродливые же или неинтересные тела Анфиса миновала с той легкостью, с которой музыкант минует быстрое подкладывание пальцев в каком-нибудь этюде. К тому же совершенства оказалось совсем мало, и вскоре Анфиса с облегчением вздохнула.
– Молодец, благороднорожденная! – совсем близко к Анфисе сказал Голос. – Ты вставила палки в колеса Сансары и теперь почти в порядке. «Почти» – потому, что ни жива, ни мертва. Тебе нужно скорее выбрать.
– Ха, если б я могла, то давно бы уже выбрала между тем и этим, – зевнула Анфиса. – Мое уравнение, как видите, не просто решается.
– Любое уравнение можно решить. Это только люди вечный двигатель никак не изобретут, повторяя «вычисления колеса».
– На вечный двигатель мне, допустим, наплевать, – призналась Анфиса, – я же элемент деклассированный. Но ведь я-то и правда ни жива, ни мертва, и никто ничего с этим сделать не может, и никогда не сможет – потому что, для начала антиевклидова, это должна Я сама сделать, а у меня ни жить, ни умирать – не получается, все как будто понарошку…
– Ну, ну, – успокоительно пропел Голос. – На это случай есть мудрое наставление.
– Какое? – хотела спросить Анфиса, но вдруг, неожиданно для себя самой, произнесла что-то типа мудрого наставления самой себе: «Влечение и отвращение не должны определять мои поступки, иначе снова погружусь в океан страданий».
– А еще перестань принимать несуществующее за существующее, – обозначился вновь Голос. – Все вокруг лишь иллюзия твоего разума. Но ведь и разум иллюзорен, он не существует извечно, пойми Анфиса! Тебе только кажется, что ты есть! На самом деле тебя нет!
– Как это меня нет?! – изумилась Анфиса. – Ничего себе! Я очень даже есть; я все чувствую, слышу… Разве то, чего нет, может так чувствовать и слышать?
– Может, – ответил Голос.
– Ну, вообще, дела… – не поверила Анфиса. – Но ведь, – она на секунду задумалась, – раз то, чего нет, может чувствовать и слышать, значит, оно есть!
– Хватит софистику гнать, – остановил Голос рассуждения Анфисы. – Все явления – твой глупый разум, а разум в идеале пуст, нерожден и бесконечен. Стремись к этому.
Анфиса как-то очень тяжело вздохнула и сказала:
– Задолбалась я к этой Пустоте – и так далее – стремиться. Да и зачем? Я живу мигом.
– Вот именно, мигом. Один миг. А так будешь жить целую вечность, – убедительно произнес Голос.
– А на фига мне эта ваша вечность, спрашивается, раз вся вечность – сплошной миг?!
– Пока ты окончательно не примешь форму или бесформенность и не успокоишься, разговор продолжать бесполезно. Я и так с тобой сколько вожусь, а ты все ни жива, ни мертва.
– Это точно, – согласилась Анфиса и добавила: только еще не факт, что я такой не родилась.
– Сумев уничтожить страсти, ты вспомнишь прошлые жизни. Затем у тебя появятся сверхъестественные силы, зрение, слух, к тому же ты сможешь читать чужие мысли, – говорил Голос.
– А на фига мне сверхъестественные силы и чужие мысли? Со своими бы разобраться.
– У тебя карма неотмытая. Твои мысли на протяжении многих кальп привыкли к не совсем благовидным поступкам, поэтому теперь так сложно.
– Послушайте, а если человек ни жив, ни мертв – ну, как я, короче, может его вообще в покое оставить? – спросила Анфиса с надеждой.
Голос нахмурился:
– Людей вообще нельзя в покое оставлять.
– Почему? – пропела вместо Анфисы гр-ка Уфы Рамазанова, а потом вот так: «Ну почему? Ла-ла-ла»…
– По кочану, – подытожил Голос, – теперь тебя только твой нищий принц доделает.
– В каком смысле доделает? – не поняла Анфиса.
– В прямом, – тихо ответил Голос. – Поцелует, как спящую княжну. Ложись тогда в гроб хрустальный.
– Не хочу я в гроб, – засопротивлялась Анфиса, но тут же оказалась в нем – красивом, переливающемся всеми цветами радуги и ни жива, ни мертва, приготовилась к поцелую, который оживит – или наоборот.
– Как я выгляжу? – спросила Анфиса Голос, на что тот только покачал головой: «Ты неисправима. Спи», – и Анфиса крепко-крепко заснула, выпадая в ментальный осадок.
Анфиса лежала в своем гробу, лежала, а потом от скуки начала раскачиваться. «Как бы не разбился, – подумала она, замедлив движение. – Хрустальный все-таки… Как большая рюмка без ножки…» Потом услышала и увидела себя саму как будто со стороны – в розовом платье из китайского шелка, купленном с Гитой во французском бутике на Невском. Та Анфиса, которая не лежала в гробу и источала аромат безмятежности и сандала, была, кажется, только что из салона красоты, где посетила не меньше трех залов, включая солярий.
– Ух ты, – удивилась Анфиса, лежащая в гробу до такой степени, что даже перестала в нем раскачиваться. – Неужели это я?
– Ты, а кто же, – усмехнулась Анфиса в розовом. – К тому же, редкостная ты дура.
– Я – дура? Ну, допустим, – ответила из гроба Анфиса. – Только, пожалуйста, поподробнее.
– Она еще спрашивает! – топнула ножкой в атласной туфельке Анфиса в розовом. – Лежит себе неизвестно сколько, и в ус не дует, все какого-то нищего принца ждет. Сказки Пушкина это все, как теорема Ферма – доказано. Неужели ты действительно так глупа?
– Теорема Ферма как раз не доказана, а я вообще офигела… – сказала та Анфиса, которая лежала в гробу.
– Ты мне на жалость не дави, – нахмурилась Анфиса в розовом. – Офигевших – полно, а ты одна, и сейчас скажешь то, что давно знаешь, но никак не можешь почувствовать.
– Меня никто никогда не сможет разбудить, кроме меня самой, – неуверенно, почти по слогам, произнесла ни живая ни мертвая Анфиса.
– Только когда тебе станет уютно ТАМ, – Анфиса в розовом больно ткнула Анфису, лежащую в гробу, острым шпилем прозрачного зонтика в плечо, – будет уютно ТУТ, – и показала на окружающие предметы живой и неживой природы.
– Я, может, и дура, но уж об этом-то ты могла бы и не говорить, – обиделась Анфиса из хрустального гроба.
– Имею право, – Анфиса в розовом посерьезнела и взволнованно прошептала: – Ну, с богом.
В тот момент Анфиса ощутила, что в ее мозг влили очень много чего-то едва ли безалкогольного; по телу пробежала дрожь, зрачки расширились, а потом хрустальный гроб и Анфиса в розовом исчезли.
– Эй! – окликнула ее Анфиса, но даже эхо стало ленивым.
«Ладно, ладно, еще посмотрим, кто кого», – Анфиса отряхнулась и надела джинсы и футболку, купленные «на всякий» в бутике. Французские джинсы оказались впору, а футболка немного велика, но Анфиса не думала об этом, уже танцуя по лезвию бритвы. Это были ее любимые танцы еще с доинститутских, а, может быть, даже и докальповских времен. Она была пластична и естественна, как может быть пластична и естественна молодая волчица. Анфиса распустила волосы, чтобы не видеть, как капает кровь с пяток на лезвия: лезвия очень напоминали гильотину, к тому же весьма усовершенствованную в процессе интеграции странами-союзниками, но Анфисе плевалось и на это. Она двигалась легко и изящно, как Русалочка, потерявшая голос, во дворце принца; жесты представляли собой печальную и в то же время радостную пантомиму. Лицо Анфисы не выражало абсолютно ничего, кроме облегчения и небывалой дотоле уверенности в себе, а потому глаза блестели, а губы сдержанно улыбались. И только кровь, стекавшая с пяток на лезвия и капавшая в пространство, напоминала о том, что не все закончилось, и миллионы среднерусских ежедневно ходят на работу, платят налоги, ждут выходных, чтобы отоспаться и потереть пемзой больную мозоль.
– А-у-у-у! – взвыла про себя Анфиса. И именно потому, что она не рассчитывала быть услышанной, ее услышали.
Она как раз присела у краешка лезвия, перестав ждать, хотеть и мечтать о чем-либо. А когда это периодически случалось, появлялся Небезызвестный.
Он продолжил традицию. Анфиса, взглянув на него, подумала: «Когда я стремилась к нему одному, ничего не получалось. Как только перестала… – вот он собственной персоной, и даже в новых ботинках. И что люди за странные существа?» Потом она подумала по-другому: «А уверена ли я, что он мне нужен?» При этой мысли Небезызвестный стал как будто отдаляться, но неуверенно, и Анфиса снова подумала: «Нет, не нужен». Тогда Небезызвестный снова приблизился, и Анфиса испугалась: «Неужели я могу управлять всем? Стоит только подумать наоборот, и…» – она решила не развивать мысль, и стала повторять мантру Авалокитешвары, хотя, с таким же успехом могла бы повторять таблицу умножения.
Тем временем Небезызвестный посигналил ей из машины:
– Анфиса-а-а!! Живая… Садись быстрей, – сказал он, приоткрывая дверцу.
– Ты откуда взялся?
– С Марса, вестимо. Планета большая, да два человека всего мужиков-то…
– …?
– Остальные голубые. Ладно, поехали отсюда.
– Куда? – равнодушным многоточием сказала Анфиса.
– Да куда угодно! – Небезызвестный нажал на газ, и вскоре Анфиса увидела удаляющуюся табличку «Страна Чудес» с перечеркивающей надпись красной полоской по диагонали.
…Они ехали долго и быстро; Анфиса терла непонятно откуда взявшееся пятно на светло-голубых джинсах.
– Откуда у тебя деньги? – поинтересовался Небезызвестный.
– В Стране Чудес подкалымила.
– Не ври.
– Не вру. За возмещение морального ущерба дали.
В машине было тепло и приятно; Анфиса тешила себя иллюзией «самадхи»: теперь окружающим тоже могло показаться, что от Анфисы за версту несет комфортом и новыми рыжеватыми, как листья в октябре, стольниками в мягком кожаном кошельке, хотя сумасшедшими духами, продающимися в переходе метро в розлив и бесценным некоммерческим пофигизмом несло тоже – две последние детали вообще не выветривались.
– Ты помнишь санскрит? – спросил почему-то тихо Небезызвестный, сворачивая налево.
– Помню одно слово «прити» – я его долго изучала.
– Что такое «прити»?
Анфиса не ответила и задремала, а проснулась от включившегося радио, в котором молодой голос пел:
До свиданья, Мой посмертный опыт, Я почти попала В хроники твои…– Про тебя прям, – усмехнулся Небезызвестный.
Анфиса снова ничего не ответила, а только зевнула.
…Ожиданье – самый скучный повод, Как же я устала Думать за двоих…– Санскрит ведь самый древний язык, – задумчиво произнесла Анфиса после того, как закончилась песня. – И очень красивый. А «прити» мне нравится даже больше, чем «вичара» и «ананда».
– Вичара, кажется, размышление, а ананда – блаженство, да? – спросил Небезызвестный.
– Да, – кивнула Анфиса. – А помнишь пять ментальных состояний дхьяны?
– Сама-то знаешь? – недоверчиво покосился на нее Небезызвестный.
– Знаешь. Отвечай.
– Ну, анализ – размышление – блаженство – сосредоточение. Витарка – вичара – ананда – экаграта.
– Ты забыл про прити, – покачала головой Анфиса и вышла из роли и из машины, оставляя на сиденье «Среднерусскую книгу живых».
Небезызвестный смотрел в нерешительности на удаляющуюся фигуру Анфисы, а потом бросился догонять:
– Ты всегда исчезаешь. Ты сама этого хочешь, да? – Небезызвестный казался очень встревоженным.
– Нет, – равнодушно ответила Анфиса. – Нет. Я просто больше не могу думать о сводках погоды с Марса; я не синоптик.
– Тсс! – Небезызвестный поднял указательный палец вверх и произнес, будто эврику:
– Я все понял! «Прити» – это…
– Тсс! – Анфиса приложила палец к его губам. – Молчи. А мы что, институт уже закончили?
– И институт, и инститам, – Небезызвестный закурил.
– Когда же мы успели? – удивилась Анфиса.
– А когда «прити» занимались, – выдохнул дым Небезызвестный.
– Странно, – снова удивилась Анфиса, – я почти ничего не помню.
– Странно, – теперь удивился Небезызвестный. – Я думал, нашу «прити» нельзя забыть.
– А я и не забыла вовсе, просто не помню, – улыбнулась Анфиса и сказала Небезызвестному, что пора пить чай, ведь уже четыре часа!
– Я думал о тебе. Часто, слишком часто. Каждый день, – сказал Небезызвестный, глядя в землю.
– У тебя белена – любимое растение? – расхохоталась Анфиса.
«Да. Именно. Знаешь, пусть они все катятся в Бардо, а я – пас. А „прити“ – это любовь. Эй, Любаш, третьей будешь?» – сказал в Пустоту Голос Небезызвестного, поддерживая Голос Анфисы за локоток…
2000Сноски
1
Брюсов.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
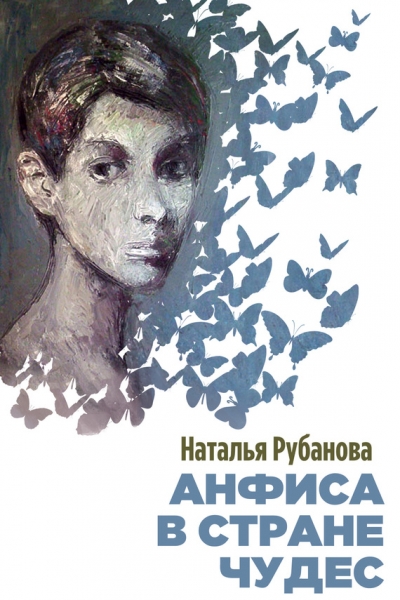

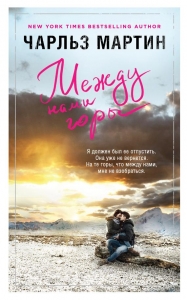







Комментарии к книге «Анфиса в Стране чудес», Наталья Федоровна Рубанова
Всего 0 комментариев