Алекс Капю Мистификатор, шпионка и тот, кто делал бомбу
Эмиль Жильерон
1885–1939
Лаура Д’Ориано
1911–1943
Феликс Блох
1905–1983
Права
В оформлении обложки использован фрагмент картины «Адам и Ева в гангстерском стиле» австралийской художницы Кэтрин Эйбел
© Carl Hanser Verlag München 2013
© «Текст», издание на русском языке, 2015
Глава первая
Мне по душе эта девочка. По душе мысленно рисовать себе, как она сидит в открытой двери последнего вагона Восточного экспресса, а мимо, серебристо поблескивая, скользит Цюрихское озеро. Вероятно, было это в ноябре 1924 года, но в какой день, я точно не знаю. Ей тринадцать лет, высокая, худенькая, еще слегка неуклюжая, с маленькой, но уже глубокой сердитой складочкой на переносице. Правое колено она подтянула к себе, левой ногой болтает в пустоте над лесенкой. Сидит, прислонясь к дверной раме, и покачивается в ритме рельсов, белокурые волосы развеваются на ветру. Чтобы не замерзнуть, она кутается в шерстяной плед, придерживая его на груди. На маршрутной табличке поезда значится «Константинополь – Париж», чуть выше сверкают золотом латунные буквы и фирменный знак с бельгийским королевским львом.
В правой руке у девочки сигарета, она курит их одну за другой, потому что на ветру они сгорают быстро. Там, откуда она держит путь, никого не удивляет, что дети курят. В промежутках между сигаретами она напевает обрывки восточных песен – турецкие колыбельные, ливанские баллады, египетские любовные песни. Она думает стать певицей, как ее мать, только лучше. Никогда она не обратится на сцене к помощи декольте и красивых ног, как мать, и боа из розовых перьев ни за что не наденет, и не появится в сопровождении типов вроде отца, который всегда держит на фортепиано полный стакан бренди, а когда мать показывает чулочную подвязку, подмигнув, отчебучивает глиссандо. Она станет настоящей артисткой. В груди у нее большое и широкое чувство, которому она в один прекрасный день даст выход. Тут у нее нет ни малейших сомнений.
Пока что голосок у нее тонкий, хрипловатый, это ей тоже известно. Она и сама едва слышит его, напевая здесь, на лесенке. Ветер срывает мелодии с ее губ и уносит прочь в вихрь за последним вагоном.
Три дня назад в Константинополе она вместе с родителями и четверкой братьев и сестер села в синий вагон второго класса. И с тех пор уже много часов провела у открытой двери. В купе, которое занимает семейство, душно и шумно, а снаружи погода мягкая для такого времени года. За эти три дня, сидя на лесенке, она вдыхала аромат болгарских виноградников, видела зайцев-русаков на скошенных пшеничных полях Воеводины, махала рукой дунайским шкиперам, которые отвечали ей судовыми гудками, видела в предместьях Белграда, Будапешта, Братиславы и Вены дочерна закопченные доходные дома с тускло освещенными окнами кухонь, где склонялись над своими тарелками усталые люди в нижних рубахах.
Когда ветер относил дым паровоза вправо, она сидела в проеме левой двери, а когда ветер менялся, пересаживалась на другую сторону. А если проводник по соображениям безопасности прогонял ее в купе, делала вид, что слушается. Но едва он уходил, опять распахивала дверь и садилась на лесенку.
На третий вечер незадолго до Зальцбурга проводники обошли все купе, объявляя о внеплановом изменении маршрута. Поезд свернет в Инсбрук и через Тироль и Швейцарию обогнет Германию с юга; с той поры как бельгийско-французские войска вошли в Рурскую область, бельгийско-французскому Восточному экспрессу практически перекрыли обычный маршрут через Мюнхен и Штутгарт. Дежурные по станциям Германской железной дороги устанавливали стрелки нарочито неправильно или отказывали паровозам в угле и воде, а на вокзалах полиция приказывала всем пассажирам выйти из вагонов и ночь напролет проверяла паспорта, когда же путешествие наконец могло продолжиться, у выезда со станции нередко стоял на рельсах бесхозный вагон для перевозки скота или платформа с бревнами, и оттащить их на запасный путь никто во всей Германии права не имел, пока законный владелец не даст на то официального письменного согласия. А обеспечение оного в обычном служебном порядке могло очень и очень затянуться.
В Тироле стало темно и холодно, с обеих сторон угрожающе близко вздымались к небу отвесные скалы. В конце концов девочке пришлось бы лечь на спину, чтобы увидеть звезды на ночном небе, и тогда она ушла в купе, легла спать в душной защищенности семьи. Но рано утром, когда поезд одолел перевал Арльберг и покатил вниз, в долину, она вернулась с шерстяным пледом на лесенку и стала смотреть, как долины расширяются, горные пики отходят назад и в рассветных лучах уступают место сначала деревням и ручьям, затем городам и рекам, а в итоге озерам.
Родители давно привыкли к своенравию дочери, еще маленькой девочкой она сидела вот так на лесенке. Пожалуй, во время то ли второго, то ли третьего багдадского турне между Тикритом и Мосулом она впервые побежала по боковому коридорчику к двери, чтобы получше разглядеть журавлей на берегу Тигра; на обратном пути она опять села на лесенку, и было невозможно оторвать ее от зрелища кишащих москитами рисовых полей, безлюдных степей и облитых багрянцем гор. С тех пор она неизменно сидит на своей лесенке, на пути через дельту Нила из Александрии в Каир точно так же, как на узкоколейке в горах Ливана или по дороге из Константинополя в Тегеран. Неизменно сидит на лесенке, смотрит на мир вокруг и напевает. Иной раз позволяет кому-нибудь из братьев и сестер немножко посидеть рядом. Но потом хочет снова остаться в одиночестве.
В Кильхберге ей в нос ударяет аромат шоколада, за спиной проплывает роскошная, как замок, фабрика Линдта и Шпрюнгли. По озеру курсируют несколько парусных лодок, у одного из причалов стоит колесный пароход. Утренний туман рассеялся. Небо блекло-голубое. Луга на противоположном берегу, поскольку мороза в здешних краях еще не было, выглядят не по сезону зелеными. У верхней оконечности озера возникает из дымки город. Рельсы описывают длинную дугу и соединяются с четырьмя, пятью, двадцатью другими путями, что сбегаются со всех сторон и в конце концов параллельно вливаются под дебаркадеры Главного вокзала.
Вполне возможно, что при въезде в город внимание девочки привлек тот молодой человек, что в ноябре 1924 года частенько сиживал среди путей на погрузочной платформе серого от непогоды товарного склада, наблюдал за прибывающими и уходящими поездами и размышлял о своей дальнейшей жизни. Я прямо воочию вижу, как он мял в руках шапку, когда мимо проезжал Восточный экспресс, и заметил в последнем вагоне девочку, которая с легким интересом посмотрела на него.
Парень никак не вяжется с погрузочной платформой и товарным складом. Во всяком случае, он явно не младший составитель поездов и не прокладчик рельсов, да и не носильщик. Одет в брюки гольф и твидовый пиджак, ботинки блестят на осеннем солнце. Правильное лицо свидетельствует о беззаботном детстве, по крайней мере почти не омраченном катастрофами. Кожа чистая, глаза, нос, рот и подбородок выстроены под прямым углом, как окна и двери в доме. Каштановые волосы аккуратно причесаны на пробор. Пожалуй, чуть слишком аккуратно.
Она видит, что он провожает ее взглядом, смотрит на нее, как мужчина на женщину. С недавних пор мужчины смотрят на нее именно так. Большей частью они затем быстро понимают, что она еще совсем молоденькая, и смущенно отворачиваются. Этот же как будто не замечает. Парень ей нравится. Выглядит сильным, добродушным. И неглупым.
Он приветственно вскидывает руку, она жестом отвечает. Но не машет по-девчачьи рукой и не растопыривает пальцы, словно кокотка, просто спокойно, как и он, вскидывает руку. Он улыбается, она тоже.
Потом они теряют друг друга из виду и никогда больше не встретятся, это девочке ясно. Она опытная путешественница и знает, что обычно люди встречаются вот так лишь один раз, ведь любое разумное путешествие ведет от исходного пункта к цели максимально по прямой, а по законам геометрии две прямые дважды не пересекаются. Новая встреча бывает только у деревенских, у жителей долин и у островитян, которые всю жизнь ходят по одним и тем же тропинкам и оттого постоянно перебегают друг другу дорогу.
Молодой человек на погрузочной платформе не деревенский и не островитянин, он родился и вырос в Цюрихе и превосходно знаком с тропинками этого городишки. Странную девочку в открытой двери он бы охотно повидал еще раз. Если она сойдет в Цюрихе, он ее увидит, наверняка. А если нет, то нет.
Ему девятнадцать лет, четыре месяца назад он закончил школу. Теперь надо выбрать, где учиться дальше. Время поджимает, семестр уже начался. Завтра в одиннадцать тридцать истекает срок зачисления.
Отцу хочется, чтобы он изучал машиностроение или инженерное дело. У Швейцарского высшего технического училища (ШВТУ) превосходная репутация, а на городской окраине расположены лучшие в мире промышленные предприятия. «Браун и Бовери» в Бадене строят лучшие в мире турбины, «Зульцер» в Винтертуре – лучшие в мире ткацкие станки и дизельные моторы, машиностроительный завод «Эрликон» – лучшие локомотивы. Займись машиностроением, говорит отец, как технарь будешь жить без забот.
Сам отец не технарь, а зерноторговец. Торговля зерном с Восточной Европой осталась в прошлом, говорит отец, о ней можно забыть. Границы наглухо закрыты, таможенные пошлины высоки, а у большевиков мозги набекрень, дела с ними делать невозможно. Для твоего деда зерно было в самый раз, он на нем разбогател. Пшеница с Украины, картофель из России, для души немного венгерского красного вина и боснийских сушеных фиг. Хорошие тогда были времена, железную дорогу уже построили, национализм еще не утвердился, и как еврей ты мог худо-бедно существовать под властью прогнивших империй. Жаль, ты никогда не видел наш дом в Пильзене. Твой дед еще верил в торговлю зерном, потому и послал меня сюда, в Цюрих. Я подчинился, приехал, стал швейцарским гражданином, но уже тогда не верил в это дело. Теперь я здесь и продолжаю им заниматься, пока все кое-как идет. Нам с твоей матерью хватает.
Но тебя, сынок, украинское зерно уже не прокормит, вот я и советую тебе: учись машиностроению. Нынче всё делают машины. Машины сеют зерновые, машины убирают урожай, машины мелют муку и пекут хлеб, и скот забивают машины, и дома строятся машинами. Музыка звучит из автоматов, в свою очередь построенных автоматами, и картины пишет не художник, а фотоаппарат. Скоро нам и для любви понадобятся машины, и для смерти тоже будут чистые, бесшумные машины, и о незаметном уничтожении трупов позаботятся деликатные инструменты, и молиться мы станем не Богу, а машине или имени ее изготовителя, мессия же, что принесет миру мир и снова воздвигнет Иерусалимский храм, будет не сыном колена Иудина, а машиной или ее создателем. Мир целиком превратился в машину, сынок, поэтому мой тебе совет: иди в ВТУ и учись машиностроению.
Сын слушает и кивает, ведь он послушный сын и выказывает отцу должное уважение. Но про себя думает: нет, не стану я учиться машиностроению. Знаю я эту машину. Лучше уж вовсе ничего в жизни не делать, чем служить ей. Если я вообще чем-то займусь, так чем-нибудь абсолютно бесполезным, бесцельным; чем-нибудь, что машина ни в коем случае не сможет поставить себе на службу.
Половину своего детства и юности молодой человек издалека исследовал свирепое буйство машины. Ему еще и девяти не сравнялось, когда отец за завтраком протянул ему через стол «Нойе цюрхер цайтунг» с новостью из Сараева, и с той поры он каждый день читал сводки с Мааса, Марны и Соммы. Смотрел в атласе, где расположены Ипр, Верден и Шмен-де-Дам, повесил над кроватью в своей мальчишечьей комнате карту Европы и утыкал ее булавками, вел статистику в школьных тетрадях в клеточку, где подсчитывал убитых поначалу тысячами, затем сотнями тысяч и в конце концов миллионами. Но ему так и не удалось отыскать смысл во всем этом убийстве. Или хоть логику. Или уважительную причину. Или, по крайней мере, резонный повод.
В утешение себе Феликс часами играл в родительской гостиной на фортепиано. Особой одаренностью он не отличался. Но когда пальцы начали слушаться, у него возникла глубокая любовь к баховским Гольдберг-вариациям, чья спокойная, надежная и исчислимая механика напоминала ему о галактическом балете планет, солнц и лун.
Десятилетия спустя он рассказал в своих рукописных воспоминаниях, что в детстве был одинок. В начальной школе одноклассники издевались над ним, оттого что он говорил на швейцарском немецком с богемским акцентом, а учитель не упускал случая с удовольствием напомнить классу, что Феликс принадлежит к скверной, чуждой расе.
Его защитницей и ближайшей подругой была тремя годами старшая сестра Клара. Когда на второй год войны она умерла, наступив на гвоздь и поранив ногу, он на долгие годы погрузился в безнадежную печаль. Врачи с их наукой начала ХХ века могли, конечно, весьма точно объяснить, что происходило в Кларином организме – бактериальное заражение, сепсис и в итоге коллапс, – но не знали способа лечения, который уберег бы Клару от мучительной, бессмысленной и банальной смерти. В последующие месяцы успехи Феликса в гимназии резко ухудшились. Зачем напрягаться в биологии и химии, если в решающую минуту наука оказалась бесполезной? Зачем вообще чему-то учиться, если познание бесполезно?
Удовольствие ему доставляли только уроки математики с их четкими, свободными от практической цели играми ума. Уравнения с несколькими неизвестными, тригонометрия, графики функций. Для молодого человека стало открытием, что в выбитом из колеи мире существует что-то столь ясное и красивое, как взаимосоотношение чисел. В 1917 году он потратил целую неделю осенних каникул, вычисляя на основе скорости вращения Земли, угла наклона ее оси к Солнцу, а также географической широты Цюриха продолжительность октябрьского дня. Наутро он с помощью карманных часов замерил временной промежуток от восхода до заката солнца и был неописуемо счастлив, когда результат замера совпал с его расчетами. Сознание, что его мысли – тригонометрические расчеты – действительно сопряжены с реальным миром и даже с ним гармонируют, наполнило его предчувствием гармонии меж духом и материей, которое уже никогда в жизни его не покинет.
В годы войны юношу больше всего обескураживало то, что почерпнутые из газет знания о мире резко контрастировали с его будничными эмпирическими наблюдениями. Глядя в окно своей мальчишечьей комнаты, он не видел внизу, на Зеехофштрассе, ни солдат, бегущих по траншеям, ни раздутых конских трупов в воронках от бомб, нет, он видел упитанных служанок, несущих домой доверху набитые снедью корзины, и краснощеких детей, играющих на мостовой стеклянными шариками. Видел таксистов, которые кучками стояли возле Оперы, курили сигареты и поджидали клиентов, видел сонных кучеров с их сонными лошадьми и точильщика, ходившего от дома к дому. На Зеехофштрассе царили мир и покой, даже полиции не было видно. Эта мирная улица находилась в сердце непостижимо мирного города, расположенного в сердце непостижимо мирной страны, чьи крестьяне на своих унаследованных от предков полях неспешно шагали за плугом, распахивая борозды до самого горизонта, за которым происходило великое европейское смертоубийство. Лишь особенно тихими ночами из-за Рейна и Шварцвальда доносился гул немецко-французского фронта.
Этот раскатистый гул преследовал его во сне, нарастая там до оглушительного грохота. Во сне он брел в ручьях крови по развороченной земле, а проснувшись, с беспомощным ужасом читал за завтраком в «Моргенблатте», как военная машина перепахивает континент, пожирая все под солнцем, что мало-мальски может ей пригодиться. Она пожирала монахов и выплевывала их как военных священников, превращала пастушьих собак в окопных, а пионеров авиации – в пилотов бомбардировщиков, егерей – в снайперов, пианистов – в военных музыкантов, детских врачей – в лазаретных мясников, философов – в поджигателей войны, поэтов-лириков – в вампиров; церковные колокола переливали в пушки, линзы от оперных биноклей монтировали в прицелы, прогулочные пароходы становились войсковыми транспортами, псалмы – национальными гимнами, ткацкие станки из Винтертура ткали уже не шелка, а тик для обмундирований, баденские турбины вырабатывали ток не для рождественской иллюминации, а для электролокомотивов «Эрликона», перевозивших не туристов в Энгадин, а уголь и сталь для домен и литейных цехов производителей оружия.
Через тысячу пятьсот дней, незадолго до тринадцатилетия Феликса Блоха, машина по причине нехватки топлива забуксовала и нехотя остановилась. С тех пор она вела себя более-менее спокойно, что правда, то правда, однако теперь уже урчит снова; скоро опять начнет дергаться и тарахтеть, и рано или поздно ее маховики опять завертятся, а острые зубья опять вгрызутся в ландшафты, пожирая плоть и души людей.
Возможно, эту машину не остановить, говорит себе молодой человек, но меня она не получит. Я в этом участвовать не стану, не стану учиться машиностроению. Займусь чем-нибудь абсолютно непрактичным. Чем-нибудь красивым и бесполезным, что машина нипочем не поглотит. Вроде Гольдберг-вариаций. Что-нибудь да найдется. Во всяком случае, в ВТУ я не пойду. Не стану учиться машиностроению, сколько бы отец ни настаивал. Скорей уж наймусь возчиком в пивоварню.
Он резко отталкивается от стены склада и, готовый к мятежу, спрыгивает с погрузочной платформы. Но, еще не приземлившись на щебенку, опять падает духом, теряет решимость, а когда делает первые шаги по разболтанным плиткам дорожки, ведущей среди путей к зданию вокзала, из глубин его существа, через сердце в голову, потихоньку, но неудержимо, словно горький пузырек в шампанском, поднимается осознание, что он наверняка пойдет в ВТУ и будет учиться машиностроению, ведь, во-первых, не выдержит разрыва с отцом, во-вторых, у него сплошь отличные оценки по математике, физике и химии, а в-третьих, хоть убей, ему совершенно не приходит в голову, куда еще приложить свое одностороннее дарование, кроме как к изучению машиностроения в ВТУ.
Семафор между путями переключается на зеленый, открывает «зеленую улицу» скорому поезду на Женеву. В купе первого класса в один из первых ноябрьских дней 1924 года – трудно сказать, в тот же ли день и в тот же ли час, – сидит художник Эмиль Жильерон. Через Триест и Инсбрук он ездил по делам из Греции в Райслинген под Ульмом, с заказом для Вюртембергского метизного завода. На обратном пути он намеревается ненадолго заехать на Женевское озеро и похоронить на родной земле прах отца, который незадолго до своего семидесятитрехлетия скончался в одном из афинских ресторанов.
Отца тоже звали Эмиль Жильерон, он тоже проживал в Греции и был художником, а при том знаменитостью. Как рисовальщик он сопровождал Генриха Шлимана[1] на раскопках в Трое и Микенах, создал для греческой почты серию марок, служил учителем рисования в королевском семействе, выстроил себе солидный дом с роскошным видом на Акрополь и сделал из сына превосходного делового партнера. Поэтому для семьи стало большим сюрпризом, когда после вскрытия завещания обнаружились одни только долги и выяснилось, что Жильероны жили на широкую ногу, однако ж всегда едва сводили концы с концами.
Замешательство близких усилилось еще и оттого, что в завещании покойный высказал пожелание быть похороненным на старой родине, на Женевском озере; ведь официальная, законная репатриация трупа через три или четыре государственные границы сопряжена с финансовыми и административными затратами, которые по карману разве что Папе Римскому, королю Англии или какому-нибудь американскому железнодорожному магнату. Мало-мальски осуществима была только тайная перевозка после кремации. Хотя кремация в православной Греции находилась под запретом и за нее грозило суровое наказание, в посольском квартале Афин существовали похоронные агентства, специализировавшиеся на зарубежной клиентуре. За особую мзду они в день похорон доставляли попу на кладбище гроб, где вместо покойника лежали мешки с песком, а тело скрытно вывозили на подпольную кремацию.
Эмиль Жильерон наотрез отказался выслушать подробности означенной услуги; он не хотел знать, какой булочник, гончар или слесарь ночью предоставлял похоронщикам свою печь, а утром снова пек в ней булочки или обжигал кувшины для воды. Лишь во время плавания из Пирея в Триест на пакетботе компании «Триестинский Ллойд» ему пришло в голову, что он никогда в точности не узнает, вправду ли отца кремировали или бросили на корм акулам и не наполнена ли сигарная коробка в его чемодане прахом чужого человека, а то и размолотыми костями уличной собаки.
Эмиль Жильерон-младший – красивый мужчина в расцвете лет. Лицо еще сохранило юношескую резкость черт и золотистый загар тех лет, что он вместе с отцом провел на раскопках Кносса, глаза блестят, как у его итальянки-матери Джулианы, которая всю жизнь донимала его и отца своей опекой и ревностью. Волосы и лихо закрученные усы очень уж черные, чтобы счесть их цвет природным, нос покраснел от ежедневной бутылки арманьяка, складочки в уголках губ свидетельствуют о легкой горечи и разочарованном честолюбии. В Афинах его ждет жена, итальянка Эрнеста, которая на досуге пишет маслом на террасе их особняка симпатичные пейзажи, один и тот же вид на Акрополь, и четырехлетний сынишка по имени Альфред.
Глава вторая
Было бы чистой случайностью, если бы Эмиль Жильерон, выезжая с цюрихского вокзала, заметил девочку и юношу, но мне этого хочется. Хочется, чтобы он засиделся в вокзальном буфете и был вынужден бежать к поезду и чтобы в поту, едва переводя дух, снял шляпу и пальто и пихнул чемодан в багажную сетку, меж тем как поезд, мало-помалу набирая скорость, покидал вокзал.
Мне хочется, чтобы Эмиль Жильерон упал на мягкое сиденье и, тяжело дыша, посмотрел в правое окно, где на некотором отдалении проезжает темно-синий, как ночь, поезд. В окнах видны пассажиры, готовящиеся выходить и теснящиеся в коридорах. Двери еще закрыты, только в последнем вагоне сидит на лесенке белокурая девочка-подросток и зевает во весь рот. Странное зрелище для этого времени года, думает Эмиль Жильерон, глупышка может до смерти простыть. Наверно, поссорилась с родителями и теперь упорно не желает вернуться в теплое купе. Считает родителей павианами или жабами, себя же – венцом творения. Этой светлой фигурке следовало бы хоть одной рукой держаться за поручень, иначе юношеской избранности быстро придет конец. А другой рукой не мешало бы, зевая, прикрывать рот, было бы куда симпатичнее.
Синий поезд исчезает справа из поля зрения, в левом окне открывается вид на товарные склады, где среди рельсов нога за ногу бредет молодой парень. Ох и субъект, думает Жильерон. Парень выглядит так, будто намерен броситься под поезд, потому что слишком хорош для этого мира. Или слишком плох. Странное дело, что молодые, красивые и здоровые люди бросаются под поезда. Под мой поезд, слава Богу, не угодит, он чересчур далеко. А то ведь не один час пройдет, пока все уберут и можно будет продолжить путь.
Входит проводник, проверяет билеты. Эмиль Жильерон закуривает одну из своих египетских сигарет с золотой монограммой, потом откидывается назад и смотрит в окно на страну своих предков, чья кукольная миниатюрность всякий раз вновь его завораживает. Поезд минует забавную маленькую пивоварню, очаровательную маленькую мельницу и блестящие стальные шары-газгольдеры газового заводика, потом следует вдоль берега прелестно змеистой речушки, устремляющейся к отрогам пологих лесистых гор. Порой он останавливается на чистеньких кукольных станциях в чистеньких, хотя и мрачноватых городках, окруженных средневековыми стенами, за которыми живут люди, трудолюбивые, вежливые, но не очень-то добродушные. И не очень-то хорошо одетые.
Меж двумя городишками поезд минует известняковые столбы средневековой виселицы, белоснежная и заметная издалека, она стоит на опушке леса, словно на ней еще вчера болтался на веревке последний бедолага. Такого больше нигде на свете на сыщешь, думает Жильерон, ну где еще народ посылает палача к черту, а эшафот оставляет; что же это за люди такие – веками не только не сносят эшафоты преодоленного феодального господства, но даже чистят их и ремонтируют. Маленькие люди в маленькой стране с маленькими идеями, строящие маленькие городки, маленькие вокзалы и непостижимо пунктуальные железные дороги. Виселица и та маленькая. Я бы все коленки себе ободрал, если б меня на ней вздернули.
В восьмом по счету городишке Жильерону надо сделать пересадку, дальше он отправится вдоль одного озерца к следующему, потом через гряду холмов с по-зимнему голыми картофельными полями и разбитыми на до смешного мелкие участки виноградниками, которые еще долго после заката светятся золотом. На юге могучий, незыблемый, белый вздымается Монблан, высочайшая вершина Европы. Наконец хоть что-то большое в этой стране, думает Жильерон, хотя ему известно, что, если быть точным, расположен Монблан во Франции, тогда как Швейцария довольствуется его видом. С точки зрения экономики это весьма умно. Издалека любоваться такой горой очень даже приятно, туристическое использование открыточной идиллии приносит хорошие деньги. Вблизи же она всего лишь опасная и разорительная каменная осыпь.
В Лозанне Жильерон пересаживается на местную железнодорожную линию. Через полчаса он уже у восточной оконечности Женевского озера, на родине отца и у цели своего путешествия.
Вокзал Вильнёва тонет в темноте. На платформе ни души, в здании вокзала ни огонька. Билетная касса закрыта, в дверях зала ожидания валяется сухая листва. Ни такси, ни конного экипажа, а уж носильщиков тем паче нет и в помине. Вокзальная площадь окаймлена голыми платанами, на сырой брусчатке голуби клюют расплющенный колесами конский навоз. Позади вокзала виднеется черный силуэт предгорий Водуазских Альп, а на их фоне стоит на взгорке гостиница «Байрон», которая целый век тщетно дожидается состоятельных англичан и успела разорить всех своих владельцев.
Эмиль Жильерон ставит чемодан на землю, принюхивается. В воздухе действительно чувствуется запах гнили – сладковатый, пряный, болотный запах дельты Роны, который отец без устали проклинал, словно все еще чуял его и после десятилетий греческой эмиграции. По его словам, дурной воздух Вильнёва, если дышать им достаточно долго, приводит к чахотке и слабоумию, а также к рахиту и кариесу, к алкоголизму, опоясывающему лишаю, эпилепсии и всевозможным формам женской истерии. Столь многообразную токсичность он объяснял тем, что болотный запах есть не что иное, как смрад от гниения погибших организмов, которые на протяжении своей жизни накапливали всех и всяческих болезнетворных возбудителей, причем любопытным образом человек, попадая в болото, не участвует в этом пиршестве разложения, потому что не остается на богатой кислородом поверхности, а довольно быстро погружается на глубину трех-четырех метров, где удельный вес его тела сбалансирован с окружающим болотом, а там, если еще не умер, задыхается и в стабильной подвешенности, герметически упакованный и исподволь продубленный болотной кислотой, тысячелетиями сохраняет телесную свежесть, о которой фараоны в сухих песках Египта при всем их искусстве бальзамирования могли только мечтать. Вот почему с большой вероятностью следует допустить, что в болотах Вильнёва мирно лежат бок о бок сотни, если не тысячи прекрасно сохранившихся болотных трупов, которые под солнцем никогда бы встретиться не могли, – кельтские рыбаки рядом с бургундскими рыцарями-крестоносцами, римские легионеры рядом с немецкими паломниками в Рим, мавританские путешественники-открыватели рядом с венецианскими торговцами пряностями и алеманнскими пастушками, – причем одни попали в болото, возможно, от несчастной любви, другие – в охотничьем азарте, третьи – спьяну, или по глупости, или от жадности, так как не пожелали заплатить графу Шильонскому дорожный сбор; и где-то среди них, наверно, лежат, будто спящие, сто двадцать семь вильнёвских евреев, которые в 1348 году во время эпидемии чумы были зверски убиты горожанами за отравление колодцев и брошены в болото.
Ах, эти вильнёвские граждане.
Отец провел с ними все детство и юность и, хотя потом полвека прожил в эмиграции, все равно остался одним из них. Молодым парнем он сбежал из Вильнёва, пожалуй, лишь затем, чтобы иметь возможность остаться одним из них, чтобы его не изгнали окончательно и бесповоротно.
Вильнёвские граждане были рыбаками, крестьянами и возчиками, работящими протестантами и добропорядочными подданными, которые знали свое место в прочном, устоявшемся мире. Любой сын рыбака знал, что всю жизнь будет ловить в озере рыбу, а любой крестьянский сын знал, что до конца своих дней будет засевать унаследованную от предков землю; таков естественный порядок вещей, и раздумывать тут не о чем. Лет в двадцать пять женились, в пятьдесят умирали, первенца нарекали именем отца, в полдесятого гасили свет, по средам спали с женами, по пятницам ели рыбу. По воскресеньям ходили на проповедь и надевали черную куртку. А не серую, к примеру. И тем более не синюю.
Само собой, и в Вильнёве всегда находились молокососы, носившие синие куртки, чтобы понравиться девушкам, и во все времена эти желторотые щенки стаей шастали по улицам, мечтая выбраться из Вильнёва и через Большой Сен-Бернар удрать в Италию. Горожане относились к этому снисходительно, ведь когда-то и сами были молоды. Однако ж все твердо знали, что так или иначе веселью придет конец, самое позднее после двадцатилетия снисходительность прекращалась. Тому, кто продолжал носить синюю куртку, пожалуй, впрямь лучше было удрать за Большой Сен-Бернар.
Ах, эти вильнёвские граждане. Отец яростно костерил болото, но как же благодушно он всегда поглаживал свою седую козлиную бородку, когда речь заходила о вильнёвских гражданах. Сын рано сообразил, что отец лишь потому так страстно ненавидел болото, что хотел по-прежнему любить сограждан.
Эмиль Жильерон снова подхватывает чемодан, пересекает вокзальную площадь и сворачивает в непроглядные потемки улицы Гранд-рю, окаймленной средневековыми фахверковыми постройками. Все окна темные, а ведь еще и десяти нет. Справа аптека, слева булочная, справа мясная лавка, слева гостиница «Орел». Кормят там якобы весьма недурно, но в окнах уже темно. В боковом переулке развешены на просушку рыбачьи сети, в следующем воняет навозная куча от мелкого скота.
Перед церковью сиротливо журчит большой источник. Должно быть, там находится корыто, о котором рассказывал отец. Многие сотни лет вильнёвские женщины стирали в этом корыте белье и не обращали внимания, что с одного угла его подпирает необычный круглый столбик с цифрой «XXVI». В один прекрасный день кантональный археолог из Лозанны, случайно оказавшийся в этих местах, объяснил гражданам Вильнёва, что их корыто стоит на двухтысячелетнем мильном столбе древнеримской военной дороги, а цифра двадцать шесть указывает расстояние до гарнизонного города Мартиньи в римских милях. Граждане задумчиво кивнули, склонили головы набок, одобрительно смерили взглядом римский камень, некоторые пробормотали «Tiens donc», «Sacré Romains» или «ça, par exemple»[2]. Когда же кантональный археолог попросил оградить памятник прошлого от непогоды и мыльной воды и на благо потомков установить в церкви, граждане упрямо засунули кулаки в карманы и выпятили нижнюю губу, поскольку для такой работы пришлось бы вызвать из Веве каменотеса и заплатить ему не меньше двадцати пяти баценов[3]; согласились они лишь после того, как археолог выложил эти двадцать пять баценов из собственного кармана да прибавил сверху еще пятнадцать.
Случилось это в середине XIX века, когда отец Эмиля Жильерона подрастал в Вильнёве единственным сыном деревенского учителя и был самым обыкновенным, ничем не примечательным деревенским мальчуганом. Среднего роста, средней силы, со среднекаштановыми волосами, никаких выдающихся качеств или ярких талантов, кроме одного: он невероятно хорошо рисовал – невероятно четко, невероятно выразительно, с невероятной, почти фотографической точностью и фантазией. Специально он этому не учился, никто его не побуждал, никто не заставлял упражняться, он даже особой охоты не выказывал – просто умел, и всё. А поскольку Вильнёв предлагал молодым людям мало развлечений, рисовал он без передышки. Уже в семь лет беглой рукой набрасывал углем на мостовой рекреационного двора поразительные портреты школьных товарищей, по воскресеньям спешил с ящиком акварельных красок в гавань, рисовал суда, ивы на берегу и снежные горы на горизонте с такой легкостью, что зритель словно бы чувствовал бриз, задувавший с озера после полудня.
Вильнёвские граждане приняли его талант к сведению, не ломая себе над этим голову. Бывает, говорили они, пожимая плечами, одни что-то умеют, другие нет, думать тут не о чем. Некоторые люди чуют водяные жилы или слышат голоса духов, некоторые говорят на разных языках или умеют сводить бородавки. Маленький Жильерон умеет рисовать, ну и что такого? Ничего особенного и никому не мешает. Пока парнишка играет цветными карандашами, он не делает больших глупостей.
Сам Жильерон тоже не придавал значения своему таланту. Рисование было для него просто времяпрепровождением и, кстати говоря, не доставляло ему особого удовольствия. Он не гордился своими рисунками, не продавал их по деревням и не хранил, а складывал готовые рисунки на поленьях возле печки, для растопки.
Все изменилось только в 1866 году, ему сравнялось пятнадцать, он завел себе синюю куртку и начал мечтать о том, как бы ему навсегда удрать в Италию, а не становиться, по примеру остальных щенков-одногодков, вильнёвским крестьянином, рыбаком или школьным учителем. Когда отец надумал послать его в Лозанну, в учительскую семинарию, он презрительно фыркнул и заявил, что скорее позволит себя четвертовать, но ни за что не станет впустую растрачивать остаток своей жизни на учительской кафедре и за грифельной доской.
Вместо этого он оборудовал в заброшенном сарае возле болота свое первое ателье, отпустил длинные волосы и стал курить стебли ломоноса, которые срывал с деревьев на болоте и сушил на сеновале. В базарные дни слонялся у постоялых дворов и обихаживал лошадей приезжих крестьян, при условии, что они угостят его стаканчиком феши. Если ему требовались деньги, он помогал виноделам на виноградниках или чистил сети рыбакам. В хорошую погоду проводил вечера с друзьями на озере под старой плакучей ивой. В холодное время года местом встречи служило его ателье.
Так минул год, другой, третий. Но когда Эмиль и его друзья достигли совершеннолетия и по-прежнему не делали поползновений сменить синие куртки на черные или хотя бы серые, граждане Вильнёва решили, что с них хватит. Прохладной весенней ночью Эмилево ателье по так и не выясненным причинам сгорело дотла, а две недели спустя почтальон принес ему письмо, каковым, к его удивлению, Базельское художественно-промышленное училище уведомляло его, что он допущен к обучению по специальности учитель рисования и в следующий понедельник с восьми до десяти часов утра должен явиться в Большой актовый зал для зачисления.
Эмиль понял, что подлинным адресантом было не Базельское училище, а вильнёвские граждане, очевидно реквизировавшие несколько его рисунков и пославшие их в Базель, и что письмо надлежит трактовать не как приглашение, а как ссылку. Презрительно фырча, он собрал узелок, поехал в Базель и после первого семестра, опять-таки презрительно фырча, констатировал, что вообще-то уже умеет все, чему профессора хотят его научить. Конечно, он осваивал приемы подготовки эскизов, подчистки, работы шпателем, гравировки, моделирования и травления, о чем в Вильнёве слыхом не слыхал, а постоянная экспозиция Художественного музея открыла ему миры, о которых он в вильнёвских болотах даже мечтать не смел; вернувшись в класс, он копировал, варьировал и шаржировал любого из увиденных старых мастеров, любой стиль и любую школу. Писал пухлых ангелочков, как Рубенс, и пронзенных стрелами мучеников, как Караваджо, и смешил однокашников, изображая пронзенных стрелами ангелочков и танцующих мучеников с жареными куриными ножками в зубах; он делал керамические вазы и лепил статуэтки богов, рисовал греческие храмы и статуи, будто до сих пор безвылазно жил на Пелопоннесе, причем все это с небрежностью, безразличием и пренебрежением к собственному таланту, который завораживал профессоров и даже слегка обижал.
После занятий Эмиль шатался по кабачкам Малого Базеля и прославился тем, что, как никто другой, мог выхлестать неимоверное количество белого вина. Со своей безыскусной сердечностью и крестьянской находчивостью он, куда бы ни пришел, тотчас находил себе друзей; однако однокашники обижались, ведь он, на занятиях мгновенно усваивавший все, что им самим давалось с большим трудом, наотрез отказывался за столом завсегдатаев вести ученые разговоры об искусстве и музах, куда больше его интересовали ножки и декольте официанток.
При всей лени и небрежности Эмиль Жильерон бесспорно был лучшим студентом в своем выпуске. Он побеждал на всех конкурсах, хотя руководство училища каждый раз принуждало его к участию, а работы свои он всегда делал ночью накануне подачи; когда же фонд «Мериан» учредил двухгодичную стипендию в парижской École des Beaux-Arts[4], он написал заявление, только чтобы отсрочить неизбежное возвращение в Вильнёв.
Следующие два года он провел главным образом в бистро кварталов Маре и Монмартр. Временами для проформы немножко занимался у популярных профессоров и художников того времени. Ежемесячные стипендии покрывали его потребности лишь до середины месяца, потом он копировал произведения Милле, Труайона и Курбе и продавал рестораторам и туристам. Больше всего он зарабатывал, изготовляя греко-римские архитектурные «изыски» в помпезном псевдоисторическом стиле, столь популярном у самовлюбленного буржуазного общества при Наполеоне III.
Хотя среди парижской богемы ношение синих курток было чуть ли не обязанностью, Эмиль и в этом сравнительно вольнодумном окружении очень скоро умудрился снискать нелюбовь всех высокопоставленных персон. Свои шансы на успех в парижских артистических кругах он изрядно подорвал еще в начале первого курса, когда явился на открытие ежегодного Салона с откупоренной бутылкой белого вина в руке и на всем протяжении речи президента Академии скалил зубы в ухмылке. А когда вдобавок в саду помочился за статуей Жанны д’Арк и выбил у лакея из рук поднос с пирожными, двое блюстителей порядка в униформе вышвырнули его на улицу.
Время прошло быстро. Близился день, когда Эмилю придется вернуться в Вильнёв и раз навсегда облачиться в черную куртку. Вот тогда-то немецкий миллиардер Шлиман, владевший красивым особняком на площади Сен-Мишель и в середине жизни надумавший оставить свои торговые дела в России и заделаться знаменитейшим археологом на свете, осведомился у директора École des Beaux-Arts, нет ли среди его студентов хорошего рисовальщика, который бы пригодился ему на раскопках Микен. Директор призвал к себе талантливого и ершистого Жильерона, полагая, что парню требуется свобода действий и в строго ритуализированном артистическом мире Парижа он все равно не найдет себе места. Когда он спросил, не желает ли Эмиль поехать в Грецию в качестве научного рисовальщика, тот не раздумывая согласился.
Директор тогда все же предупредил его, что Шлиман, сын мекленбургского пастора, человек властный и вспыльчивый, никогда в жизни не имел друзей, без устали разъезжает по свету и всюду полагает своим долгом за считанные дни овладеть соответствующим языком.
Это по крайней мере означает, что он разговаривает с людьми, сказал Жильерон.
Шлиман не разговаривает, он командует, отвечал директор. Ему неведомы любовь и дружба, человечество для него делится лишь на начальников и подчиненных. С русской женой он развелся, так как для своей археологической авантюры хотел иметь рядом гречанку. Затем он письмом попросил архиепископа Афинского подобрать несколько красивых молодых гречанок и по фотографии выбрал семнадцатилетнюю девушку; во время свадебного путешествия тридцатью годами старший супруг четыре месяца гонял бедняжку по итальянским древностям и так безжалостно донимал ее уроками немецкого, что вскоре по приезде в Париж у нее случился нервный срыв.
Что ж, заметил Жильерон, но я-то вовсе не собираюсь жениться на Шлимане.
Надо также учесть, продолжал директор, что Шлимана-археолога никто всерьез не принимает. Научный мир смеется над наивным пруссаком, который с лопатой в одной руке и дешевым изданием «Илиады» в другой отправляется за Геллеспонт[5] и немедля заявляет, что отыскал настоящий дворец Приама вкупе с его золотым ларцом или подлинное место сражения у врат Трои, где Афродита уберегла своего любимца Париса от боевого топора Менелая.
Что ни говорите, а этот человек раскопал множество превосходных вещей, заметил Жильерон.
Но не боевой топор Менелая, сказал директор. С тем же успехом можно разыскивать в Андалузии копье Дон Кихота или в Шварцвальде – печку Гензеля и Гретель.
Боевой топор есть боевой топор, сказал Жильерон.
Директор не мог не согласиться. Примечательно, однако, что золотые побрякушки Шлиман всегда находит в последний день раскопок, когда никто за ним не подсматривает. В присутствии же свидетелей обнаруживаются только глиняные черепки, как и у всех остальных археологов.
Когда из-под земли достают золотые побрякушки, сказал Жильерон, их надо точнейшим образом зарисовать. И он, Жильерон, сумеет. А за сертификат подлинности рисовальщик не отвечает.
Что верно, то верно, кивнул директор.
Греция, говорят, очень красивая страна, сказал Жильерон, и жалованье обещано хорошее. А срок стипендии вот-вот закончится.
По прибытии, правда, Греция очень его разочаровала. Уже во время трехдневного плавания из Триеста через Бриндизи, Корфу и Патры он так измучился от морской болезни, что мечтал умереть, а утром 23 марта 1877 года, стоя под проливным дождем на верхней палубе и с нетерпением ожидая, когда опустят сходни, увидел, как у входа в пирейскую гавань аристократичный, белоснежный египетский пароход «Австрийского Ллойда» угодил в заварушку со скопищем дочерна продубленных, вонючих, окруженных тучами чаек рыбацких лодок, из которых одни уходили в море, а другие возвращались в гавань, суденышки преградили друг другу путь и с грохотом сшиблись, аж шпангоуты затрещали. Капитан египетского парохода скомандовал на безопасном расстоянии «стоп машина!», вышел при полном параде на мостик и стал ждать. Поскольку же, судя по всему, никто из рыбаков в разумный срок не уступит и соседа вперед не пропустит, он на целых две минуты включил сирены на всю мощь, после чего прямо через скопление суденышек двинулся на умеренной скорости к выходу из гавани.
Рыбачьи лодки нехотя порскнули врассыпную и освободили проход, кое-как позволив пароходу пройти. Жильерон смотрел с высоты тентовой палубы на растерянных рыбаков, а те трясли под дождем черноволосатыми кулаками и пытались ржавыми баграми отталкивать в сторону чужие лодки. Малорослые, приземистые мужики в шароварах, толстощекие, с черными усами, они были совершенно непохожи на мраморные статуи из античного отдела Лувра, которые сформировали у Эмиля образ Греции.
Когда пароход миновал маяк у волнолома, открылся вид на гавань, где некогда бывали Аристотель, Перикл, Платон и Александр, – унылое полукружье серых одно– и двухэтажных кирпичных построек на фоне голой гряды холмов, уже тысячелетия лишенной древесной растительности, над ними свинцово-серое небо и наползающие на сушу черные дождевые тучи. На пристани среди луж стояли оборванные босые фигуры, возбужденно махали пассажирам первого класса, ходили колесом, вставали на руки, приплясывали, а пассажиры бросали им медные монетки и с удовольствием наблюдали, как босяки дерутся из-за них.
Едва Эмиль Жильерон ступил на твердую землю, морская болезнь улетучилась, зато на недолгом пути до Афин в открытом пароконном экипаже он вымок до нитки. По обе стороны грязной дороги сидели сотни худущих ребятишек, которые большими черными глазами смотрели на проезжающих. Эмиль спросил кучера, что это за дети, и в ответ услышал, что сиротский приют каждое утро высаживает их здесь в надежде, что какой-нибудь приезжий сжалится и возьмет с собой хоть одного.
Когда сквозь завесу дождя вдали завиднелись белые колонны Акрополя, Жильерон слегка повеселел, а когда, добравшись до гостиницы «Англетер», впервые вошел в просторный светлый номер, заказанный для него Шлиманом, и горничная забрала у него пальто и для подкрепления молча подала рюмочку узо, он почти забыл о своих опасениях, несколько недель или месяцев уж как-нибудь выдержит. А если Шлиман вправду будет платить ему, как обещано, он и на целый год останется и следующей весной поедет домой в Вильнёв с полными карманами денег. Там построит себе у озера домик, вечера будет проводить с друзьями юности, а днем зарабатывать на жизнь, изготовляя халтурные акварельки для английских туристов, – и, само собой, хотят этого вильнёвские граждане или нет, до конца своих дней будет носить синие куртки. А глядишь, и желтые.
Вот так думал Эмиль Жильерон, только вот вышло, разумеется, по-другому. Следующим утром, когда он, напившись кофе, собирался на первую прогулку по городу и к Акрополю, у подъезда его перехватил кучер Генриха Шлимана и с безмолвной услужливостью доставил в элегантном, запряженном четверкой лошадей экипаже прямиком к своему господину и провел в кабинет, богато декорированный мраморными статуями, ярко раскрашенными вазами и репродукциями эллинских фресок.
Шлиман сидел за письменным столом и, по-черепашьи вытянув шею, холодными голубыми глазами разглядывал Жильерона сквозь круглые очки в никелевой оправе. Он коротко поздоровался на звучащем несколько странно, однако безукоризненном французском и властным жестом указал на свой стол, где на деревянном подносе лежали три фрагмента фрески, размером с ладонь. На одном фрагменте была изображена сжатая в кулак рука, на другом – орнамент из лилий, а на третьем – ступня и щиколотка.
Эти фрагменты привезли вчера из Микен, сказал Шлиман и спросил, что видит в них Жильерон.
Эмиль пожал плечами и ответил, что видит руку, ногу и кусочек узора из лилий.
Я дерзостей не терплю, сказал Шлиман. Меня интересует, что могла бы изображать фреска в целом.
Этого никто знать не может, ответил Жильерон.
В таком случае вы мне не подходите, сказал Шлиман.
Никто на свете не может знать этого наверняка, сказал Жильерон.
Но ведь можно что-то предположить, возразил Шлиман.
Конечно, сказал Жильерон, пожал плечами и, наклонясь над подносом, принялся передвигать фрагменты. Потом взял приготовленный рисовальный блокнот и мгновенно набросал колесничего, который сжимал в кулаке копье, а правой ногой опирался на край колесницы, украшенный узором из лилий.
Замечательно, сказал Шлиман, вот и разгадка. Как я сам-то не сообразил, это же очевидно.
А Жильерон между тем расположил фрагменты иначе и на новом листе изобразил храмового стража, с горящим факелом в кулаке и в наголовнике с узором из лилий.
Ишь ты, сказал Шлиман. Ай, молодец! Давешний колесничий – полный вздор, теперь я и сам вижу.
Жильерон вырвал и этот лист и нарисовал Лаокоона, который на поле из лилий руками и ногами отбивается от душащих его змей.
Ну и ну… – проговорил Шлиман. Вы норовите меня разыграть?
После этого Жильерон нарисовал Тесея в поединке с Андромахой, затем аттического крестьянина, собирающего урожай олив, и победоносного атлета с оливковой ветвью, и на каждом рисунке присутствовали кулак, нога и узор из лилий. Шлиман следил за его карандашом, затаив дыхание от восторга. Жильерон набрасывал укротителей быков, и овечьих пастухов, и мореходов, и даже амазонку, которая с мечом наголо преследовала обнаженную парочку.
Эти двое обнаженных мне знакомы, сказал Шлиман. Где я мог их видеть?
В Сикстинской капелле, ответил Жильерон. Адам и Ева, изгнанные из Рая. Микеланджело.
Ай, молодец! – повторил Шлиман.
Эмиль взял новый лист и нарисовал юношу с бараном.
А это? – спросил Шлиман.
Иоанн Креститель. Караваджо.
Затем Жильерон быстро изготовил маленького Боттичелли и Дега, после чего Шлиман отобрал у него карандаш.
А сейчас довольно библейских шуточек, сказал он, пора обедать. Вы останетесь здесь, закусим en famille и sans façon[6], возражений я не потерплю. Моя жена распорядилась приготовить мусаку. Потом мы составим договор, на год. По меньшей мере.
На шесть месяцев, сказал Жильерон.
На год, сказал Шлиман.
Максимум на шесть месяцев, сказал Жильерон. В октябре на Женевском озере начинается сбор винограда, к тому времени я должен быть дома.
Почему? – удивился Шлиман.
У моего отца есть виноградник, соврал Жильерон.
Вы останетесь на год, сказал Шлиман, и никаких возражений. Мы вместе поедем в Трою, в Микены и Тиринф, затем вы понадобитесь мне здесь, в Афинах. А теперь к столу.
Так-так, думал Жильерон, следуя за своим патроном в столовую. En famille и sans façon, возражений он не терпит. Ладно, посмотрим.
Полвека отделяет отъезд молодого человека в Грецию от возвращения его праха на Женевское озеро. Его сын с чемоданом спускается к гавани, шаги гулко отдаются от брусчатой мостовой. Парусные лодки отдыхающих прочно зачалены на зиму, на рангоуте спят чайки. Жильерон-младший бросает взгляд на свои карманные часы. До поезда на Бриг еще целый час. Там он пересядет на ночной поезд до Триеста, откуда во второй половине дня отходит пакетбот в Афины, где его встретит жена и покажет свой новый пейзаж с Акрополем.
Эмиль Жильерон-младший проходит в дальний конец набережной, садится на причальную тумбу, достает из чемодана сигарную коробку. Там внутри – кучка сизого праха. Горсти три-четыре, наверно, кое-где видны кусочки костей, маленькие, с ноготь. Вправду ли этот прах принадлежит его отцу или какому-то другому существу, сейчас уже не имеет значения. Он исполнил последнюю волю отца, вот что главное.
Эмиль смотрит в черную воду, тихо плещущую о стенку набережной. Медленно высыпает прах в воду, бросает туда же коробку. Собственно говоря, он уготовил отцу моряцкую могилу. Но где в Вильнёве отыщешь тихий клочок земли, чтобы незаметно его похоронить? Городишки вроде Вильнёва ночами погружены в тишину, но не спят; в каждом переулке хватает скорбящих вдовцов или страдающих зубной болью девиц, которые спешат к темному окну, заслышав на уличной брусчатке стук каблуков чужака. Жильерон прекрасно понимает, что, с тех пор как он сошел с поезда, ни один его шаг не остался незамеченным. В виноградники идти нельзя, там караулят цепные псы; в болота тоже не пойдешь, там бы он со своим чемоданом был виден как на ладони и тем паче вызвал у вильнёвских граждан подозрения.
И в гавани Жильерон тоже под надзором, это ему ясно. Однако в глазах граждан здесь он просто безобидный турист, случайно сошедший с поезда остановкой раньше и теперь вынужденный убивать время до следующего поезда. То, что он не расхаживает в ожидании по платформе, а идет прогуляться в гавань хотя и примечательно, но вполне благоприлично. Ну а если он садится на причальную тумбу и минуту-другую роется в своем чемодане, так это не повод для беспокойства. Главное, чтобы он вовремя встал и вернулся на вокзал, чтобы одинокие вдовцы и девицы могли снова лечь в постель.
Прах отца погружается в темную воду и исчезает из виду; косточки покрупнее пойдут прямиком на дно, пепел расплывется и в конце концов смешается с донным илом. Ил есть не что иное, как земля, думает Жильерон, в итоге и моряцкая могила тоже возвращает прах матери-земле. Сигарная коробка покачивается у стенки набережной. Обыкновенная сигарная коробка, и только. За ночь она уплывет прочь, а через день-другой ее где-нибудь прибьет к берегу, там она и сгниет в куче водорослей.
Глава третья
Феликс Блох больше не видел девочку из Восточного экспресса, потому что в Цюрихе она с поезда не сошла. В тот ноябрьский день Лаура д’Ориано отправилась дальше, через Базель в Бельфор, а на следующее утро, когда Феликс Блох посетил приемную комиссию ВТУ, а Эмиль Жильерон ждал в Триесте своего парохода, села там на скорый поезд в Марсель, где ее родители решили бросить якорь и заняться торговлей в музыкальном магазине дальнего родственника. Пришла пора закончить семейную одиссею. Полвека д’Ориано провели в странствиях, двадцать лет мать как моложавая шансонетка кочевала по роскошным отелям Ближнего Востока. Теперь она устала и видела, что близок день, когда подвязка и декольте больше ей на сцене не помогут. Отец тоже устал, у него болела печень. Да и для пятерых детей настало время прекратить разъезды.
От постоянных путешествий и роскоши, которая окружала их, детей артистов, в гранд-отелях, Лаура и четверо ее братьев и сестер избаловались и рано повзрослели. За столом они держались как дети английских графов и умели танцевать, как казаки, между собой говорили на смеси английского, французского, греческого, русского и итальянского. Курили, как турки, и интересовались лондонскими курсами акций, знали тарифы босфорских паромов и умели есть апельсины с помощью ножа и вилки. Но никогда не играли с соседскими детьми в разбойников и жандармов, потому что сами никогда и ни для кого не были соседскими детьми, Рождество неизменно проводили в компании незнакомых гостиничных постояльцев, а единственными их друзьями были горничные и портье, которые не забывали детей д’Ориано и звали их по именам.
Подобно всем номадам они прекрасно свыклись с рутиной путешествий. Первенец, Лаура, чувствовала себя как дома в репетиционных и артистических уборных, куда мать приносила ее еще младенцем, чтобы вовремя покормить грудью. Во второй половине дня она слушала репетиции музыкантов, вечерами смотрела, как мать гримируется и снимает грим, и круглые сутки участвовала в одних и тех же банальных артистических драмах из-за сомнений в себе, мировой скорби и непонятости, что разыгрывались за кулисами. Ни дня, ни часу не проходило без маленькой драмы, никогда не было недостатка в клятвах верности, обмороках и приступах слез, то и дело вдребезги разлетались бокалы с шампанским и хлопали двери, и посреди всего этого стояла малышка Лаура, прижимала к детскому животику куклу и подрастала в уверенности, что это и есть настоящая жизнь в реальном мире.
Когда Лаура достаточно подросла, чтобы в одиночку ходить по длинным коридорам, подниматься по служебным лестницам и уверенно стучать в двери с правильным номером, взрослые посылали ее с записочками или с заученными наизусть проклятиями. Лаура добросовестно выполняла поручения и передавала отборную брань с сияющей невинной улыбкой, а заодно хорошенько запоминала, кто в кого влюблен и кто с кем враждует – из-за украдкой сорванного поцелуя, артистического оскорбления или невыплаченного карточного долга. Но поскольку все это было ужасно занимательно, вскоре она уже не довольствовалась второстепенной ролью гонца, а выходила на сцену кудрявым белокурым исчадием ада, которое на свой страх и риск, невинно лепеча, сеяло смерть и погибель.
Лаура получала огромное удовольствие от этого кукольного спектакля. Она подбрасывала дамские подвязки в такие места, где им быть никак не полагалось; чтобы нанести обиду исполнителям главных ролей, опускала занавес посреди действия или, прокравшись в зрительный зал, хихикала в самый неподходящий момент. Нарочно уверяла, что один носит шиньон, другой – вставные зубы, а третьему из-за деликатного недомогания пришлось посетить уролога. Иной раз достаточно было всезнающего взгляда голубых детских глаз, чтобы крепких мужчин средних лет бросило в пот.
Временами интриги Лауры раскрывались прежде, чем семейство д’Ориано успевало продолжить турне. Тогда она плакала, оправдывалась детской безответственностью и пряталась у матери в гримуборной, пока пороховой дым не рассеивался. Делать там было нечего, и она тихонько подпевала, когда мать репетировала свои колоратуры, а вскоре решила, что берет ноты так же хорошо, как мама. И даже немножко лучше. Что было чистой правдой. А потом настал день, когда она во время долгого путешествия на поезде впервые села на лесенку.
Когда родились Лаурины братья Умберто и Витторио Эммануэле, мать не могла брать с собой на репетиции еще и их. И поручила сыновей отцу, ведь ему давно не было нужды репетировать свое вечернее бренчание, да и все прочие артистические амбиции он уже оставил. Поэтому детство мальчиков прошло подле отца на ипподромах, прибрежных променадах и в курительных гранд-отелей, где они и выросли в ушлых игроков в покер, которые очень серьезно играли между собой с очень высокими ставками. То один из них был в пожизненных долгах у другого и фактически его рабом, то несколько дней спустя роли менялись.
Младшие сестры, Марина и Мария Тереза, росли под присмотром няньки, простодушной особы, которая тратила уйму времени, обучая девочек пользоваться тушью для ресниц и лаком для ногтей. Вечером перед сном она разъясняла им родственные связи европейских монарших домов и рассказывала о волшебных свадьбах и трагических смертях. Девочки слушали, упрятывали все в глубину своих мягких детских черепных коробок и уже вскоре уверились, что важнейшая жизненная цель любой девушки – выйти замуж за какого-нибудь русского царевича; эта мысль укоренилась так глубоко, что позднее, когда их черепные коробки окрепли, уже не могла вылететь у них из головы. Поэтому Марина и Мария лишь закатывали глаза, когда родители заставляли их решать задачки по арифметике, а когда им объясняли, что девушкам тоже необходимо чем-то в жизни заниматься, ведь, во-первых, девушек на свете всегда гораздо больше, чем русских царевичей, а во-вторых, немногочисленных русских царевичей либо всех перестреляли, либо они работали в Париже таксистами, – когда им это объясняли, они недоверчиво улыбались и мечтательно смотрели в окно.
Семейству д’Ориано было и вправду более чем пора осесть на одном месте. За долгие годы странствий они хорошо узнали свет, набрались житейского опыта, их кругозор охватывал весь мир. Однако ни корней, ни привязанностей они не имели, да и сердцем немного очерствели. И это уже в третьем поколении.
Одиссея семьи началась полувеком раньше в неаполитанской рыбачьей деревушке Поццуоли с Винченцо д’Ориано, деда детей. Как-то раз этот молоденький парнишка с горящими глазами сидел на пирамиде селедочных бочонков и пел песню, а в гавань тем временем вошла яхта богатого англичанина, которому тотчас взбрела в голову блажь нанять Винченцо своим персональным певцом. В первом плавании, на пути в Палермо, англичанин наслушаться не мог песен живописного парнишки-рыбака, что заливался соловьем на носу яхты, но затем последовал переход в Корфу, потом в Пирей, потом в Гераклион и на Наксос, когда же яхта добралась до турецкого побережья Эгейского моря, Винченцо наверняка успел раз сто огласить левантинские небеса своим репертуаром, до смерти наскучив англичанину, поэтому тот радостно высадил его в порту Смирны[7] с наилучшими пожеланиями и щедрым вознаграждением.
Как молодой Винченцо д’Ориано первые годы в такой дали от дома зарабатывал на жизнь, скрыто во мраке истории и уже вряд ли когда-нибудь выяснится. Документально подтверждено, что 29 января 1877 года – 14 мухаррама 1294 года по исламскому летосчислению – он обвенчался в смирнском соборе с Терезой Каппони, которая в течение следующих двадцати четырех лет подарила ему восьмерых детей, всех их крестили также в смирнском соборе, и шестым из них был мальчик по имени Поликарпо. В мае 1910 года двадцатичетырехлетний Поликарпо женился – опять-таки в смирнском соборе – на тогда еще подававшей большие надежды двадцатилетней красавице шансонетке Аиде Аньезе Каруане, стал сопровождать ее как защитник и пианист в разъездах по Ближнему Востоку, и в пути у них родились своенравная Лаура и четверо ее братьев и сестер.
Теперь все это осталось в прошлом, того мира уже не было. Османская империя развалилась в Великой войне на огромное количество ущербных и истеричных мелких национальных государств, которые ожесточенно дрались между собой, изобретали доселе неведомые этнические разногласия и превращали свои новопрочерченные границы в непреодолимые баррикады. Торговля и транспорт оказались парализованы, суда не выходили из портов. Гранд-отели в Бейруте и Александрии остались без постояльцев, кабаре закрылись, музыкантов отправили по домам.
Поскольку ни ангажементов, ни доходов больше не было, д’Ориано вернулись в Смирну, в дом покойного деда. Мать не выступала, отец понемногу давал уроки игры на фортепиано. Два года они праздно прожили в красивом старинном портовом городе, который одни называли Парижем Востока, а другие – столицей толерантности, ведь со времен Гомера здесь бок о бок мирно жили люди из разных стран, исповедующие разные религии; сотни лет они мирно жили под греческими колонистами, под императорами Рима и Византии и под защитой калифов; мирная жизнь продолжалась до 15 мая 1919 года от Рождества Христова, когда патриотические греческие войска ворвались в город и в элленистическом угаре учинили резню мусульманского населения, а три с половиной года спустя войска Ататюрка в свою очередь ворвались в город и в кемалистическом угаре учинили резню немусульманского населения и спалили Смирну дотла.
Надо полагать, д’Ориано потеряли в огне большую часть своего и так уже весьма скудного достояния. Удалось ли им в последнюю минуту бежать на пароме или они через приморские горы пешком скрылись в глубине страны, никому не известно. Зато в точности известно, что два года спустя они сели в Константинополе на Восточный экспресс и через Будапешт и Вену отправились в Цюрих, чтобы затем начать новую жизнь в Марселе.
Могу себе представить, что по прибытии в Марсель тем ноябрьским утром 1924 года д’Ориано наняли на вокзале Сен-Шарль носильщика, который на тележке отвез их чемоданы вниз по улице Канебьер к Старой гавани. Велика вероятность, что приветливое солнце Лазурного Берега озаряло широкие улицы, заливая блеском новые, похожие на дворцы жилые дома коммерсантов.
Недавно Марсель в значительной своей части был отстроен заново – как врата во французские колониальные владения в Африке и Восточной Азии. Атмосфера слегка отдавала Востоком, на улицах виднелись черные бороды и кафтаны, турецкие шаровары и тюрбаны, но и британские стоячие воротнички, белые военные мундиры и французские береты, и все в полном согласии ездили сообща на трамвае, заключали в кофейнях сделки или разглядывали приходящие и уходящие корабли.
Порт обзавелся новыми обширными доками и причалами с современными погрузочными кранами и товарными составами для вывоза колониальных товаров. Только вот в акватории порта стояли не новые пароходы, а главным образом допотопные деревянные парусники. Внушительные ганзейские пятимачтовики XIX века рядом с элегантными американскими клиперами, норвежские гафельные шхуны рядом с арабскими дау, иной раз причаливали даже китайские джонки; но современные стальные пароходы здесь видели редко, ведь в 1914–1918-м большая часть всемирного парового флота ушла на океанское дно. Оттого-то после войны судовладельцы извлекли на свет божий все мало-мальски мореходные деревянные суда, а поскольку по всему миру вместе со стальными кораблями утонуло и большинство моряков, судовладельцы прочесали еще и богадельни и, слегка поднажав, наняли тех седобородых, беззубых морских волков, что еще кое-как стояли на ногах и были в своем уме.
Новое жилье д’Ориано находилось у Вьё-Пор, у Старых ворот, в фахверковом доме XVIII века. Внизу располагался музыкальный магазин, а два этажа над ним занимала квартира – четыре маленькие комнаты и салон с видом на портовую акваторию. Стены беленые, на лестнице пахнет восковой мастикой. Лаура осмотрела дом, зная, что ей придется выдержать здесь три года. Она будет посещать школу, не давая ни малейшего повода для нареканий, ходить за покупками и мыть посуду, а после школы помогать в магазине. Через полгода примерного поведения попросит у матери позволения брать в марсельской консерватории уроки пения и станет от случая к случаю бывать на концертах. Но в шестнадцать лет, это она знала совершенно точно, соберет чемодан и уедет в Париж.
Причем одна.
* * *
Феликс Блох принадлежал к числу тех редких людей, кому выпало в жизни испытать прозрение, и до конца своих дней он его не забудет. Случилось это в конце первого курса, в последний день четырехнедельной производственной практики, около половины шестого, когда он последний раз стоял за кульманом в чертежной литейного завода «Фриц Кристен» в Кюснахте на Цюрихском озере. Завод уже затих, рабочие разошлись на выходные. Секретарша, зажав под мышкой пальто и сумку, попрощалась, шеф еще сидел у окна над своими книгами. На озере прогудел пароход, дневной свет мало-помалу тускнел. Скоро придется зажечь электричество.
Феликс Блох провел тушью последнюю линию на последнем чертеже крышки канализационного люка, которую литейный завод собирался зимой запустить в производство. Четыре недели кряду Феликс по девять часов в день занимался этой крышкой, изучил ее вдоль и поперек – круглая чугунная крышка вкупе с рамой, шестидесяти сантиметров в поперечнике, пяти сантиметров в толщину, с вмонтированной посредине скобой для подъема и названием фирмы, а также с двадцатью четырьмя концентрически расположенными отверстиями для стока воды и пересекающимися под прямым углом канавками против скольжения.
В первый рабочий день шеф сунул ему кипу бумаг с карандашными набросками и техническими размерами и поручил превратить все это в нормальные технические чертежи для цеха и отдела сбыта. Крышки для канализационных люков – товар ходовой и надежный. С тех пор как все больше людей ездили на автомобилях, дорожное и канализационное строительство процветало. Без крышек для люков не обойтись, спрос с годами только возрастал. Самыми важными клиентами были общины и кантоны, они платили сразу и заказывали крышки не по одной и не десятками, а крупным оптом.
К концу практики Феликс Блох знал свою крышку как ничто другое на свете – лучше, чем глаза матери, лучше, чем свой перочинный нож, лучше, чем выключатель своего ночника, лучше, чем собственные руки. Он вычертил крышку в вертикальной проекции сверху и снизу, причем в разных масштабах – один к четырем, один к восьми и один к двенадцати, – изготовил и не очень полезный вид сбоку. Особенно трудоемкими были чертежи в проекции под углом сорок пять градусов, причем каждый чертеж он снабжал техническим приложением, указывая размеры и вес, а также содержание углерода в стали и данные по ударопрочности и прочности на сжатие на квадратный сантиметр.
Четыре недели работы над канализационной крышкой, к собственному его удивлению, оказались весьма занимательными. Первый день он дивился прямо-таки непревзойденной простоте объекта, а позднее с удовольствием и монашеским благоговением погружался в свою задачу. Вопрос о смысле работы у него не возникал. Во-первых, производственная практика была обязательной частью учебного процесса и завершала каждый курс. Во-вторых, чугунные крышки безусловно полезны и нужны, ведь благодаря им улицы не заносило грязью, и служили они народному хозяйству, а равно свободе передвижения людей, общественной гигиене и здоровью народа. В-третьих, с военной точки зрения они очевидной ценности не имели. В-четвертых, Феликс Блох обнаружил, какое удовлетворение испытываешь, обладая основательными специальными познаниями в четко очерченной области. С середины второй недели он по праву мог считать себя экспертом по канализационным крышкам шестидесяти сантиметров в поперечнике.
Четыре недели он ежедневно ездил на велосипеде из Цюриха в Кюснахт и увлеченно, с удовольствием чертил канализационные крышки. Утром приходил в контору первым, вечером уходил последним, а когда стоял за кульманом, шеф заглядывал ему через плечо и одобрительно ворчал. Обеденный перерыв он проводил с рабочими в раздевалке. Сидел с ними на лавках, приделанных вдоль стен, как и они, облокачивался на колени и, как они, ел хлеб с сыром из принесенной жестянки. Слушал их разговоры, благоразумно помалкивал и был благодарен, что они не слишком выказывали ему, студенту, свое презрение.
В конце второй недели шеф после работы сунул Феликсу пять франков и пробурчал: когда после Училища он будет искать работу, пусть первым делом обратится к нему. В конце третьей недели он сунул ему еще пять франков и пробурчал, что вообще-то не придает большого значения аттестатам и дипломам, так что охотно возьмет его на работу прямо сейчас. Литейная быстро растет, и ему нужна светлая голова, которую впоследствии можно и компаньоном сделать.
Феликс Блох порадовался похвале и отеческой благосклонности шефа и в последнюю неделю практики воображал себе, как все будет, если он впрямь бросит учебу и начнет здесь новую жизнь – взрослый мужчина с собственной квартирой и солидной профессией эксперта по канализационным крышкам. Станет платить налоги, обзаведется женой, спроектирует на берегу озера новый цех по выпуску канализационных крышек, будет ездить по делам в Кёльн и кататься на лыжах в Энгадине, совершит с женой путешествие в Италию. Позднее построит на зеленом лугу дом и станет управлять всем заводом, а когда-нибудь уйдет на покой, передаст производство канализационных крышек своим сыновьям, а сам займется внуками и коллекцией кактусов.
Но в последнюю минуту последнего дня практики, когда в последний раз отложил рейсфедер, закрутил крышку пузырька с тушью, снял с крючка пальто и попрощался с шефом, который с наигранной непринужденностью проводил его к выходу и в дверях неловко пробормотал, что здесь, он ведь знает, двери ему всегда открыты, – в ту минуту, когда Феликс Блох вышел на улицу и сел на велосипед, его словно током пронзило прозрение, что он никогда больше сюда не вернется, потому что канализационная крышка – всего-навсего канализационная крышка и ему в жизни не набраться смирения, чтобы посвятить свои творческие силы изготовлению таких крышек. Или производству коленчатых валов. Или шатунов. Или ткацких станков. Или газовых турбин.
В тот миг ему стало ясно, что он больше ни дня не станет изучать машиностроение, так как минувшей осенью на погрузочной платформе товарного склада был совершенно прав, когда на секунду-другую твердо решил заниматься в жизни исключительно чем-то прекрасным, бесполезным и абсолютно бесцельным. И он энергично нажал на педали. Сейчас поедет прямо домой и заявит отцу, что иначе не может, что сию же минуту начнет новую жизнь.
В те годы в цюрихском ВТУ действительно было несколько человек, которые по роду своих занятий изо дня в день предавались прекрасным и малопонятным размышлениям, каковые не имели явной практической пользы и демонстрировали известное сходство с Гольдберг-вариациями. С помощью новейших телескопов они всматривались в глубины Вселенной и представляли себе, что космос непременно должен быть искривлен и каждый человек, если б только мог заглянуть достаточно глубоко, увидел бы далеко в черноте Вселенной собственный затылок. Они нагревали соли и металлы, пропускали свет их накала сквозь стеклянные призмы и на основе игры красок строили гипотезы о танце атомов и электронов, который удивительно напоминал балет планет, солнц и лун.
В одном из кабинетов цюрихского ВТУ Альберт Эйнштейн записал свою теорию относительности, а неподалеку тем летом 1925 года Эрвин Шрёдингер[8] ломал себе голову, почему электроны, с одной стороны, ведут себя как волны, а с другой – как частицы. Здесь Герман Вейль[9] математически доказал Эйнштейнову теорию относительности, а Петер Дебай[10] в Цюрихе экспериментально подтвердил, что мельчайшие частицы материи действительно ведут себя странно скачкообразно, как предсказывал Макс Планк[11].
Феликс Блох, однако, в том же месте целый год изучал машиностроение. «Механическая технология I» с повторительным курсом, «Химия I» и химический практикум, «Механика I» с повторительным курсом и упражнениями, начертательная и проективная геометрия, металлургия технически важных сплавов, национальная экономика, логарифмическая линейка с упражнениями, два часа в неделю лекции по деталям машин.
Попутно он для развлечения посетил несколько лекций по квантовой механике. Понял не очень-то много, но поэзия идей, метафизическая красота языка и антимеханистический и антикаузальный темперамент логики заворожили его. Вдобавок атомной физикой занимались преимущественно молодые люди. Иные всемирно известные профессора были едва ли старше Феликса Блоха, и поголовно все – моложе его отца. Гейзенбергу[12] – двадцать четыре, Паулю Шерреру[13] – тридцать шесть, Шрёдингеру – тридцать семь; Бору[14], Вейлю и Дебаю тоже сорока не сравнялось.
На дорогу домой требовалось полчаса, но на сей раз Феликс не пал духом. Проезжая по берегу озера, он обдумывал, что скажет отцу. В меру своего понимания сообщит об искривленном пространстве-времени, и о соотношении неопределенностей Гейзенберга, и о рентгеновской камере Пауля Шеррера, об удивительной стабильности материи и загадочной простоте законов природы. Может быть, расскажет и о своей догадке, что глубоко под поверхностью атомарных явлений располагается дно странной внутренней красоты.
Когда отец затем спросит его, считает ли он, что в машиностроении нет красоты, он ответит, что крышка канализационного люка есть всего лишь крышка канализационного люка и что подобного отсутствия таинственности ему долго не вынести. А когда отец упрекнет его в гордыне, он с ним согласится и скажет, что иначе не может. Если же отец заметит, что не каждый человек Эйнштейн, он опять согласится и добавит, что в научных исследованиях требуются не только гении, но и, так сказать, пехота и что извозчикам всегда хватало работы, когда короли строили. Если отец поинтересуется заработком, он скажет, что заодно получит учительский патент и в худшем случае сможет преподавать физику в гимназии. А если отец спросит, уж не хочет ли он кончить как учитель физики Зайлер из его гимназии, который после сорока лет работы ютится старым холостяком в крохотной мансардной квартирке без электричества и ватерклозета и в одиночестве коротает долгие зимние вечера возле буржуйки, кутаясь в шерстяной плед, – если отец спросит об этом, он ответит: Да, хочу. Если надо, я кончу в точности, как мой учитель физики Зайлер.
В итоге он отвоевал у отца благословение на смену специальности аргументом, что физико-математический факультет в полном объеме зачтет ему два первых семестра и таким образом он не потеряет время. Отец удивился, да и самого Феликса удивило, что его экспертные познания в сфере производства канализационных крышек зачтутся как изучение основ атомной физики. Позднее, кстати, выяснилось, что студенты-физики пользуются в цюрихском ВТУ свободой, граничащей с пренебрежением.
Не было ни обязательных вводных лекций, ни твердых учебных программ, ни зачетов, как и обязательного числа учебных лет и выпускного экзамена. Двадцать четыре студента, записавшиеся в зимний семестр 1925/26 года на физико-математический факультет, во многом были предоставлены сами себе – по собственному усмотрению на основе перечня лекций составляли себе учебный план, причем руководствовались не директивами, которых не существовало, а исключительно собственными склонностями. От них ожидали только, что в ходе учебы они сильно увлекутся какой-нибудь специальной областью и ободренные профессором напишут в заранее непредсказуемый момент докторскую диссертацию по узко ограниченному частному аспекту своей специальной области.
Эта гумбольдтовски старомодная свобода объяснялась тем, что после Первой мировой войны интерес к точным наукам упал как никогда за последние сто лет. После катастрофы широкая европейская общественность в лице читателей газет, политиков в сфере образования и школьных учителей потеряла веру в разумный миропорядок и теперь искала спасения в миропорядке неразумном. Только в Цюрихе имелось вдесятеро больше профессиональных астрологов, чем астрономов; спиритизм и антропософия, психоанализ и религиозные учения об избавлении, а равно лечение опием, сексуальная распущенность и вегетарианские диеты пользовались огромнейшей популярностью. Точным же наукам пришлось взять на себя главную вину за механизированное убийство на полях сражений, которого они, конечно, не добивались преднамеренно, однако по мере сил довели до крайностей, невозможных без их участия.
К тому же реальный мир заводчиков и фабрикантов во многом потерял интерес к физике, ведь их паровые машины, локомотивы и турбины функционировали безупречно. Они знать ничего не хотели о новых исследованиях, которые не обещали практической пользы и своей релятивистской возней разве только грозили поставить под сомнение простую, полезную механику Ньютона. Что же до оторванных от жизни чудаков в высшей школе, то уж для них заводчики и фабриканты тем более не находили применения.
Конечно, Феликса Блоха вполне устраивало, что никто им не интересуется и никто не диктует ему предписаний. Но в начале учебы он бы все же не возражал против известного руководства. Поскольку же на факультете не было никого, с кем можно бы посоветоваться, программу лекций он составил себе по благозвучности названий. И записался к Дебаю на «Квантовую теорию спектров», к Шерреру на «Рентгеновские лучи», к Вейлю на «Философию математики» и по тому же принципу выбрал из специальной литературы первым делом «Строение атома и спектральные линии» мюнхенского профессора Арнольда Зоммерфельда[15].
К Феликсову облегчению, в предисловии профессор писал, что хочет «дать неспециалисту возможность проникнуть в новый мир недр атома» и «в интересах общепонятности старался свести математический аппарат к минимуму», чтобы кратко и без непонятных формул раскрыть «подготовительные физические и химические данные», на которые опирается новая атомная физика. Однако прямо на первой странице Феликс споткнулся о понятия, которые автор полагал известными, он же представления о них не имел. И после первой главы волей-неволей признался себе, что не понимает даже подготовительных данных, так как не владеет необходимыми предварительными знаниями. А когда попытался усвоить эти предварительные знания, выяснилось, что ему и здесь недостает предварительных знаний.
Так, например, уже на первой странице речь шла об электромагнитном поле. Рассчитывая выяснить, что имеется в виду, он пошел в библиотеку и взял «Теорию электричества» Макса Абрахама. Тот в предисловии опять-таки заверял, что при написании книги стремился прежде всего к общепонятности, но уже в первой главе использовал загадочные понятия вроде «корпускулярного излучения» и «теории циклов», и, чтобы в них разобраться, Феликс был вынужден опять идти в библиотеку.
Феликс изо всех сил старался овладеть основами знаний, но уразумел только, что человеческий разум похож на мускул, который при непривычном усилии склонен впадать в паралич и даже при регулярных тренировках действует лишь в ограниченных пределах.
Читая вторую главу, где профессор Зоммерфельд рассматривал «центральные и периферические свойства атома», Феликс едва не капитулировал, а когда в четвертой главе речь пошла о «введении в квантовую теорию», настолько болезненно ощутил нарциссическую обиду своего слабого мозга, что всерьез подумывал сдать книгу в библиотеку и покаянно вернуться к машиностроителям и канализационным крышкам.
Пожалуй, в атомной физике он остался главным образом потому, что не хотел позориться перед отцом. Вдобавок через несколько месяцев он сделал приятное открытие, что даже самые сложные идеи становятся легкопонятными, когда в них разберешься, да и пробелы в знаниях в ходе учебы постепенно уменьшались или хотя бы обретали более-менее обозримую величину. Конечно, он по-прежнему чувствовал себя как белый медведь, плывущий на маленькой льдине знаний по океану невежества; однако со временем появились другие льдины, он мог перескакивать с одной на другую, их число множилось, а расстояния между ними сокращались, и к концу второго семестра несколько льдин соединились в остров пакового льда, где Феликс чувствовал себя уже вполне уверенно.
Кроме того, он познакомился с однокурсниками, с которыми происходило точно так же. Каждый балансировал на персональной, в общем-то случайно возникшей льдине, надеясь в один прекрасный день обнаружить новую научную землю. Одни прикрепляли к кристаллам соли электрические кабели и пытались установить, что происходит там внутри, другие ездили за Рейн, покупали в немецких аптеках радиоактивную зубную пасту «Дорамад» и наносили ее на тончайшую металлическую фольгу, третьи смотрели во Вселенную и представляли себе чудовищные взрывы в недрах звезд.
Когда настала весна, Феликс Блох подружился с двумя немецкими докторантами, Фрицем Лондоном и Вальтером Гейтлером[16], которые приехали в Цюрих как ассистенты Шрёдингера. Оба они были немного постарше Феликса и пытались отследить силы межмолекулярного взаимодействия, нагревая водород и облучая его светом. По выходным он гулял с ними на Хёнггерберге или ходил в походы по Гларнским Альпам. Фриц Лондон и Вальтер Гейтлер глубоко поразили Феликса Блоха своей способностью посреди альпийского пастбища непринужденным тоном составлять дифференциальные и интегральные уравнения и тотчас решать их в уме. Большей частью он шагал следом и пробовал понять, о чем они толкуют.
В последние выходные перед летними каникулами они отправились в поход по кантону Ури, и к ним присоединился докторант-датчанин. На привале, когда они жарили на костре сосиски, датчанин высмеивал устарелую модель атома, предложенную его учителем Нильсом Бором, и вскользь упомянул, что сам осуществил несколько довольно сложных молекулярных расчетов, которые, по-видимому, можно проверить с помощью ультрафиолетовой спектроскопии.
Феликс еще не имел четкого представления о моделях атома и не знал, что следует понимать под молекулярными расчетами и ультрафиолетовой спектроскопией. Однако догадался, что мимо него проплывает превосходная льдина и, пожалуй, не мешало бы взять ее на абордаж. Вот и спросил у датчанина, что это за расчеты и каким образом можно проверить их экспериментально, в ответ датчанин достал из рюкзака экземпляр своей работы. Феликс отложил сосиску в сторону и прочитал работу. Пять страниц тетради в четвертушку листа. Он был далек от того, чтобы осмыслить содержание в целом, но все-таки интуитивно уловил, о чем речь. Феликс Блох догадался, что это задача в самый раз для него – обозримая по величине, но не лишенная значения.
Когда они на почтовом автомобиле возвращались в Цюрих, он набрался храбрости и спросил у датчанина, нельзя ли ему переписать работу и сделать попытку экспериментального доказательства. Датчанин насмешливо покосился на него и спросил, есть ли у него под рукой спектрограф. Увы, нет, ответил Феликс. А датчанин сказал, что так и думал, ведь, насколько ему известно, такого прибора нигде между Римом и Копенгагеном не найдешь.
Следующим утром Феликс отнес эту работу Паулю Шерреру, своему профессору экспериментальной физики. Тот внимательно ее прочитал, удовлетворенно потер подбородок и, возвращая листки, заметил, что для экспериментального доказательства необходим спектрограф. Да, сказал Феликс, это ему известно, как раз тут и заключена трудность. Тогда профессор достал из ящика письменного стола несколько кварцевых призм, прошел к окну и поднес их к солнечному свету – на полу заиграли все цвета радуги. Оба долго молча наблюдали за переливами красок, пока профессор не убрал призмы с солнца и радуга не погасла.
Если хотите, можете сами смастерить спектрограф, сказал он. Терпения хватит?
Следующие десять месяцев Феликс Блох провел в одном из безоконных помещений второго подвального этажа в главном здании ВТУ. Рано утром он покидал родительскую квартиру и возвращался поздно вечером, а в промежутке лишь изредка поднимался из подвала, чтобы послушать лекцию или прогуляться по обзорной террасе, не позволяя глазам совсем уж отвыкнуть от дневного света. Брился он только раз в неделю, питался черным хлебом и сушеными фигами, в остальном же целиком отдавался работе над спектрографом.
Он закрепил свои призмы в латунных держателях и смастерил из медной фольги маленькие бленды для источника света. Десятками покупал в универсальном магазине дамские зеркальца, выскабливал в их амальгаме крошечные отверстия разного диаметра и покрывал их золотой, серебряной или алюминиевой фольгой. Приобретал на блошином рынке старые бинокли, разбирал их и помещал линзы между лампой и призмами, чтобы собрать свет в пучок. Выращивал кристаллы соли, устанавливал их в луче света и наблюдал, как этот луч разворачивается в радугу. Если в спектре отсутствовал какой-нибудь цвет, он это записывал и нагревал соляной кристалл на десять градусов Цельсия. И если тогда отсутствовал другой цвет, снова записывал и нагревал кристалл еще на десять градусов.
Неделю за неделей, месяц за месяцем Феликс трудился в темном подвале. Чем больше накапливалось данных, тем очевиднее становилось, что его результаты действительно совпадают с предсказаниями датчанина. И чем яснее Феликсу становилось, что и здесь изначально умозрительная идея находила соответствие в мире вещей, как и тогда, когда он заранее рассчитал продолжительность осеннего дня в Цюрихе, тем больше крепла в нем вера, что радужные цвета на стене подвала действительно были зримым отражением атомов.
Когда опять настала весна, он возобновил свои походы с Фрицем Лондоном и Вальтером Гейтлером и обнаружил, что на сей раз именно он при восхождении на вершину с легкостью вел разговор, тогда как двое других, с трудом переводя дух, пытались не отстать от него. Феликс говорил о частотах, поглощениях и импульсах, о рассеяниях и амплитудах, а когда друзья задавали вопросы, отвечал с самоуверенностью эксперта, который владеет сво ей специальностью, как никто другой на свете.
Глава четвертая
Как и следовало ожидать, Эмиль Жильерон-старший остался в Греции не на месяц-другой, а намного, намного дольше. Конечно, уже через несколько недель он затосковал по дому, когда восточное очарование новой родины выдохлось и его начали раздражать крестьянская неотесанность греков, их тупая поповская вера и провинциальная затхлость их столицы, во многом напоминавшей ему родной городишко Вильнёв. Одинокими вечерами, устроившись с бутылкой вина на террасе «Англетера», он смотрел в угасающем свете дня на Акрополь и мечтал о домике на Женевском озере, который скоро построит где-нибудь в уединенной бухточке в нескольких сотнях метров от гавани. Когда бутылка пустела, он порой откупоривал вторую, а когда пустела и та, зачастую решал на следующий же день написать письмо в Вильнёв и попросить бездетного старого рыбака, владельца земли вокруг бухты, продать ему участок под строительство.
Впрочем, наутро, сидя с тяжелой головой за утренним кофе, он письмо так и не писал. Во-первых, рыбак не продаст ему землю, потому что ни один из вильнёвских граждан никогда землю не продаст, разве только Бог, персидский шах или лозаннский налоговый чиновник приставит ему нож к горлу. Во-вторых, вильнёвские граждане нипочем не дадут ему разрешения на постройку дома, ведь иначе бы не стали сжигать его ателье. А в-третьих, они не признают его своим, пока у него в багаже синие куртки. Или хоть желтые. Разве что в карманах курток будут деньги. Очень много денег. И эти деньги, Эмиль прекрасно понимал, могут прийти только от Шлимана.
Чтобы скопить денег, Эмиль сопровождал своего патрона в Трою и в Микены. Его зарисовки были гораздо четче и понятнее расплывчатых снимков, какие домашний фотограф Шлимана делал своим деревянным аппаратом и стеклянными пластинками. И в отличие от фотографа Эмиль мог изображать то, чего не было. По желанию Шлимана он заполнял слепые пятна настенных росписей, дорисовывал отбитые конечности у поврежденных изваяний богов или воссоздавал по отдельным черепкам роскошные керамические вазы.
Богатый пруссак с первого дня был у Эмиля в руках. Шлиман не мог и не хотел отказываться от его услуг, так как он был проворным, добросовестным и надежным рисовальщиком, который с детальнейшей точностью умел воспроизвести на бумаге любую статуэтку, любую монету и любую вазу. Но не это главное. Из толп студентов-художников, в панэллинистической эйфории хлынувших в Афины со всей Европы, чтобы подзаработать на классической древности, Эмиля выделяло безошибочное чутье к желаниям Шлимана, которые он понимал лучше, чем сам патрон. Понимал его слабость к золотым побрякушкам и отрицание будничного, понимал, что властный характер Шлимана не терпел нераскрытых загадок. Вот почему из любого кончика безымянной бороды Эмиль воссоздавал лик Посейдона, а глиняный сосуд с прахом не оставался просто урной, но оборачивался по меньшей мере местом упокоения Агамемнона. Или Пенелопы. Если не Тесея.
Все прелести античности Жильерон воскрешал в той самой целостности, в какой их представил бы себе Шлиман, обладай он необходимым воображением. Таким образом оба срослись в сыгранную команду. Все, что с непоколебимым упорством раскапывал Шлиман, Жильерон своей неуемной фантазией пробуждал к жизни. И если Шлиман, бывало, до поры до времени приказывал снова зарыть найденные побрякушки, то Жильерон предпочитал об этом не знать.
Шлиман ценил, что Жильерон не надоедает ему нежелательными философскими рассуждениями о том, где проходит граница между оригиналом, копией, репродукцией и подделкой, и не чванится художественными сомнениями или научными колебаниями. Он просто делал, что велено, все остальное его не касалось. Если Шлиман желал видеть голову на безголовой статуе Гермеса, он эту голову рисовал, а если кораблю на вазе требовался нос, рисовал нос. В остальном античность и археология были ему скорее безразличны, хоть он и уважал извлеченные из земли артефакты – как значительные образчики работы довольно компетентных собратьев по профессии, навсегда отложивших кисть тысячи лет назад.
Куда больше его интересовали три сотни французских франков, которые он получал в конце каждого месяца, бутылка красного вина после работы и хихиканье анатолийских деревенских девушек, стайками порхавших мимо его рисовального стола.
За пределами раскопок он мало общался с патроном. Когда летом становилось чересчур жарко и когда осенние шторма пригоняли через Эгейское море первые дождевые тучи, они возвращались в Афины. Зимой Шлиман совершал с молодой женой продолжительные поездки в Рим, Париж и Лондон, а Эмиль Жильерон экономил деньги, оставался в своем жарко натопленном и все же полном противных сквозняков гостиничном номере и скучал до весны, ведь Афины не были пока настоящей европейской столицей, походили скорее на заспанную османскую провинциальную дыру.
Так или иначе, на чужбине Жильерон достиг душевного умиротворения, к которому дома, в Вильнёве, вероятно, никогда бы не пришел. Он был счастлив, что автохтонные афинские граждане будут до конца времен считать его иностранцем и никогда не примут как своего; стало быть, ему не придется подвергать себя ритуалам инициации, ведь, как известно, во всех на свете обществах единственная их цель – сковать молодых мужчин и заткнуть им рот. Поскольку же этой опасности не существовало, Эмиль чувствовал себя свободным и от обязанности носить назло гражданам синие или желтые куртки. Не было в Афинах и надобности задевать важных персон, он мог встречать их сдержанной вежливостью, какую они в свою очередь выказывали ему как аккредитованному иностранцу и признанному художнику.
Каждые несколько месяцев он вымогал у Шлимана прибавку к жалованью, объявляя, что уезжает навсегда. И, как всякий эмигрант, с течением времени против воли пустил на чужбине корни. Началось с того, что он съехал из гостиницы «Англетер», потому что долгое проживание там обходилось дороговато. Снял себе красивую квартиру с лепными потолками и приятно тенистой садовой террасой, нанял экономку, которая преданно ждала его и пересылала почту, когда он находился со Шлиманом на раскопках. Выучил греческий, нашел друзей среди немногочисленной афинской богемы и как правая рука Шлимана мало-помалу снискал известность в столичных дипломатических кругах.
А вдобавок еще и женщины, бросавшие на него бархатные взгляды. Ведь в свои тридцать с небольшим он был красивый, свободный мужчина, с хорошими манерами, и деньги у него водились. На седьмой год жизни в Греции он познакомился с дочкой итальянского коммерсанта, по имени Джулиана, она пылко целовала его, клялась в вечной любви и с первого дня преследовала своей жгучей ревностью. Эмиль Жильерон к такому совершенно не привык. Дома, в ограниченном протестантском Вильнёве, он имел две-три прагматические любовные интрижки и студентом в Париже отведал сладкого яду капризных однокурсниц, которые могли без передышки рассуждать о любви, страсти и родстве душ, но в глубине души неизменно оставались хладнокровно-расчетливыми французскими буржуазками, ведь себя не переделаешь. А Джулиана отдалась ему душой и телом, без сомнения, боготворила его и будет верна ему до конца своих дней. Это обилие средиземноморской страсти пробудило и в Эмиле дотоле неведомый восторг, и в мае 1884-го они поженились. Одиннадцать месяцев спустя, 14 июля 1885 года, родился их единственный сын, нареченный Эмилем-младшим.
* * *
Из реестра иностранцев по городу Марселю явствует, что 12 июля 1930 года Лаура д’Ориано вернулась из Парижа и снова поселилась у родителей на Кэ-дю-Пор. Ей сравнялось девятнадцать. Двадцать два месяца минуло с тех пор, как она отправилась с чемоданчиком на вокзал Сен-Шарль. Теперь там были совсем другие вещи, двадцать два месяца – долгий срок. Она читала другие книги и курила сигареты другой марки, щетка для волос была другая, и пудра новая, и тени для век, и духи. И одежда, конечно, была совсем не та, что куплена матерью.
Только чемоданчик остался прежним. Дорогой, из свиной кожи, высшего качества, с латунными уголками и наклейками крупных отелей Каира, Багдада и Бейрута. От частого использования кожа местами потемнела и поцарапалась, но благодаря многолетнему тщательному уходу выглядела аристократично, петли всегда хорошо смазывали, а шелковую подкладку не раз меняли. Мать Лауры твердо настаивала, что семья должна иметь первоклассный багаж, ведь в разъездах нет ничего досаднее лопнувших чемоданных крышек, оторванных ручек или сломанных петель. В дороге можно и нужно отказываться от многого, твердила она, но только не от добротных чемоданов. Тому, кто так много путешествует, как они, д’Ориано, необходимы надежные чемоданы. В конце-то концов и аравийские кочевники не рискнут отправиться в пустыню на второсортных верблюдах, а индейцы-шайены оставляют в живых лишь самых быстроногих и выносливых лошадок, всех же остальных пускают на сушеное мясо.
Лаура с раннего детства ездила по свету с этим чемоданчиком, и за долгие годы ручка превосходно притерлась к ее ладони. Снаружи он слегка пах дегтем, изнутри – одеколоном, а к обманчивому впечатлению, какое он производил, она давным-давно привыкла. Вот и перед отъездом из Парижа носильщик опять отнес благородную вещицу в первый класс, а не в третий и ожидал от Лауры непомерно больших чаевых, что было ей не по карману. Когда же чемоданчик наконец разместился в третьем классе, в багажной сетке над ее головой, ей пришлось вытерпеть многозначительные взгляды попутчиков, которые сопоставляли аристократичный багаж со скромным внешним видом девушки и из несоответствия делали оскорбительные выводы.
По прибытии в Марсель Лаура достала чемоданчик из багажной сетки и отвергла всех носильщиков. Двадцать два месяца назад она ушла на вокзал одна и теперь вернется в портовый квартал тоже одна. По этой причине она и родителям не сообщила день и час своего возвращения.
Вероятно, она снова заняла свою прежнюю девичью комнату на третьем этаже, откуда открывался красивый вид на акваторию порта, и стала снова помогать родителям с мытьем посуды, с покупками, а также и в магазине. Однако за время ее отсутствия не все осталось по-старому. Братья и сестры вылетели из гнезда. Братья работали конторщиками в Каннах и по воскресеньям транжирили свои ученические заработки в Монте-Карло; сестры учились в ниццском женском лицее и высматривали на приморском бульваре русских царевичей. Поскольку детский шум смолк, утихла и ежедневная какофония родительских увещеваний, угроз и ругательных тирад. В заполонившей дом тишине трое оставшихся ходили тихо и осторожно.
Отец страдал от болей в печени и от непривычного однообразия оседлой жизни, к которой его вынуждало хроническое безденежье; не мог он привыкнуть, что каждый день просыпается в той же постели и в одних и тех же кофейнях квартала Вьё-Пор слушает одни и те же разговоры одних и тех же завсегдатаев. Мать в свою очередь радовалась, что бродячая жизнь пришла к концу. Но тихими вечерами, под тиканье стенных часов, когда муж спал с недопитым стаканом бренди в руке, она все же мечтала о былом сценическом волнении и восторженном реве публики при виде ее подвязки.
Вдобавок будничная работа в музыкальном магазине наводила на супругов скуку; им и во сне не снилось, что жизнь коммерсантов может быть настолько однообразной. И потому они испытали благодарность к дочери, когда по возвращении она взяла ответственность на себя. Лаура ходила с поручениями и драила стекла витрин, утром подметала тротуар, вечером после закрытия натирала паркет, а утром в понедельник четвертой недели взяла за завтраком ключ от магазина и сказала родителям, что они могут не спешить с утренним туалетом и даже спокойно пойти в кофейню почитать газету. Они так и сделали. Наутро опять пошли в кофейню, на другой день тоже и в скором времени появлялись в магазине лишь перед самым закрытием, переложив всю торговлю на дочь.
Лаура не возражала. Она предпочитала быть одна, ведь в таком случае могла действовать по собственному усмотрению, да и работы в магазине было немного. В тихие утренние часы она, став в позу за прилавком, распевала гаммы. После обеда садилась на стул у входа, на освещенном солнцем тротуаре, курила сигареты и наблюдала за суматохой в порту. Когда приходил клиент, она следовала за ним в сумрачный магазин и разыскивала нужные ноты. Большинство клиентов составляли эмигранты, которые перед большим плаванием за океан наскоро запасались толикой музыкальной родины. Моцарт, Шуберт, Вивальди, Шопен, Бах, Бетховен, Малер. А иные брали с собой в дорогу еще и губную гармонику.
Лаура могла исполнить почти любое их желание, магазин предлагал широкий ассортимент, а складские запасы, доставшиеся д’Ориано от предшественников, казались неисчерпаемыми, обновлять их пока что не требовалось. Поскольку же не было расходов ни на закупки, ни на аренду, ни на жалованье, всю выручку Лаура могла записывать в прибыль. Это весьма упрощало бухгалтерию.
При Лауре оборот утроился, она оказалась хорошей продавщицей. Встречала покупателей с одинаковой деловитой приветливостью и с большинством могла поговорить на их родном языке. Кроме того, она прекрасно ориентировалась в магазине и уверенно доставала с полок все, что нужно. Если клиент уходил из магазина довольный, она провожала его взглядом, пока он не исчезал в людском потоке, и воображала себе, как он поплывет с ее нотными листами за океан и поселится где-нибудь в джунглях, в саванне или в торговой фактории на краю света, как день-деньской будет исполнять какие-то обязанности, а вечером при свете коптящей керосиновой лампы под ночные крики шимпанзе весь в поту станет разучивать Моцарта, Шуберта или Шопена, многие сотни часов, пока однажды тяжелобольной, богатый как Крёз или вконец разочарованный не вернется на старую родину.
Примечательно, что большинство клиентов музыкального магазина отличались исключительно хорошими манерами. Это не имело касательства к их музыкальным наклонностям – во все времена именно среди музыкантов хватало отъявленных грубиянов и ребячливых простофиль, – но было связано с предстоящим отъездом. Лаурины клиенты вели себя очень вежливо, потому что уезжали в эмиграцию и видели перед собою цель, которой не хотели навредить ненужной склокой. Вот и старались не бросаться в глаза и нигде не вызывать возмущения.
У себя на родине они, вероятно, были совершенно заурядными, грубоватыми деревенскими хлыщами и в вольготном тепле отцовского свинарника чувствовали себя сильными и неуязвимыми, а потому не испытывали необходимости проявлять к ближним особую вежливость. Однако затем по той или иной причине покинули дом, за большие деньги купили билет на пароход и, пока не вышли в открытое море, предпочитали по возможности избегать всего, что может помешать им подняться на борт.
Они не устраивались вздремнуть на скамейках в общественных парках и не топили боль разлуки в анисовой водке, а если продавец сигарет обманывал их со сдачей, шума не поднимали, не возмущались. Входя в магазин Лауры, говорили тихо и свои желания высказывали с улыбкой и в просительной форме, торговаться никогда не пытались и неизменно платили наличными. И никому из них в голову бы не пришло в последнюю минуту ограбить магазин, поставив на карту свое место на эмигрантском судне.
Наряду с эмигрантами заходили постоянные покупатели из местных – несколько гимназистов, учительница музыки, две-три пожилые дамы. Правда, иной раз вдруг заявлялся какой-нибудь моряк, делал вид, будто интересуется музыкой. Тогда Лаура знала, что ее ожидают пренеприятные пятнадцать минут. Ведь судовые команды по-прежнему состояли из тех хромоногих, седобородых и беззубых мужиков, которых после мировой войны вытащили из богаделен на замену погибшим молодым матросам.
Эти старики не делали Лауре комплиментов и не приглашали ее на эспланаду выпить бокальчик джина с шипучкой, как поступили бы молодые, нет, они отпускали сальные шуточки и требовали показать им сотни нотных листов, но никогда ничего не покупали. Гоняли Лауру от одной полки к другой, снова и снова вверх по лесенке, чтобы как следует рассмотреть ее ножки и декольте и, глядишь, узловатыми пальцами все-таки цапнуть ее за юбку. Если это им не удавалось, они сплевывали на паркет жеваный табак, отпускали напоследок еще одну грязную шуточку, которая, пожалуй, была худо-бедно под стать прошлому веку, а уж потом, топоча, ковыляли к выходу.
Остерегаться нужно не молодых матросов, а стариков, это Лаура быстро усвоила. Молодые матросы – народ бесхитростный, с ними всегда ясно, что они замышляют. Эти юнцы просто шатались толпой по кабакам, норовили выпивать подольше да побольше, а под конец, если подворачивалась возможность и хватало деньжат, еще и малость заняться с кем-нибудь любовью, где-нибудь и как-нибудь.
Опасны были старые матросы, прошедшие огонь, воду и медные трубы и за долгую матросскую жизнь на себе изведавшие все коварство и подлость окружающего мира. Большинство вечерами оставалось на борту трухлявых деревянных посудин и рано ложилось спать, чтобы увидеть во сне лучшие времена, которых, пожалуй, никогда не знало. Но кое-кто с наступлением ночи приободрялся, тащил свои хилые кости вниз по сходням на набережную и нырял в темные переулки квартала Вьё-Пор. Неугомонные, безрассудные, непримиренные – по-настоящему опасные типы.
Эти старики матросы никогда толпой не ходили, всегда поодиночке. Они могли приветливо поздороваться со старой дамой и мимоходом вмиг перерезать горло собачке, которую она вела на поводке. Простые удовольствия юности их уже не удовлетворяли. Если они снимали проститутку, то лишь из наслаждения мыслью, что наградят ее болезнью, которая десятилетиями превращала для них малую нужду в адскую муку. А если слонялись по портовым кабакам, то не желали петь и смеяться, как молодежь, а поджидали случая сызнова отрезать кому-нибудь ухо или выбить глаз.
Лаура все это знала. Пройдет еще несколько лет, пока новые пароходы привезут в Марсель молодых, здоровых матросов, а до тех пор ей надо остерегаться стариков. С наступлением сумерек она ставила стул в круг света от уличного фонаря, где ее было видно издалека, а когда ночью, случалось, выходила за сигаретами или за лауданумом для матери, избегала тесных переулков, держалась газовых фонарей на больших бульварах.
В Париже Лаура, напротив, остерегалась не стариков, а как раз молодых мужчин. На парижских улицах при виде старика можно было исходить из того, что он не новоприезжий, а прожил в этом городе огней не один десяток лет. Раз человеку удалось так долго продержаться, значит, нашел он себе местечко на свете. Имел ренту и квартиру, а при толике везения и жену, которая жарила ему говяжий шницель и в случае чего могла почесать спину; если он ничего такого не имел, то все же располагал спальным местечком под мостом и собственным методом ежедневно добывать себе кусок хлеба, ветчину да красное вино. Впрочем, парижские старики сами каждый день диву давались, что вообще еще живы после всех войн, кризисов и восстаний минувших десятилетий, а потому никого не обижали и радовались, когда их оставляли в покое.
Старики в Париже были безобидны, зато ох как опасна была молодежь – десятки тысяч бездомных, осиротевших, отчаявшихся парней, они выбрались после войны из окопов Европы и теперь гонимые своими призраками скитались по городу. У многих и через десять лет в глазах плескался ужас, многие остались заиками, по-прежнему дрожали от страха и ночами не могли спать, и все они терзались голодом, жаждой, алчностью и не жалели ни себя, ни других.
Встречая на улице таких парней, Лаура распознавала их издалека. Она научилась не замечать их взгляды и пропускать мимо ушей их вызывающий шепоток, научилась не принимать на веру их спектакли одного актера, специально разыгранные прямо на тротуаре, – обмороки, любовные клятвы и мнимые прыжки с моста – и ни разу за двадцать два месяца не совершила ошибку, не позволила им втянуть ее в разговор.
Выдержав вступительный экзамен в консерваторию и уплатив семестровый взнос, она поселилась на улице Бак в мансардной комнатушке с вспученными обоями и окном во двор, летом там было нестерпимо жарко, а зимой до ужаса холодно. Располагалась комната в одном ряду с еще семью, а напротив, по другую сторону коридора, было еще восемь мансардных комнатушек, стоивших чуть дороже, так как окна их смотрели на улицу Бак. В этих шестнадцати комнатушках обитали шестнадцать более или менее молодых женщин, зачисленных в консерваторию и уже неплохо умевших петь, и все они мечтали об одном и том же – стать когда-нибудь великими певицами. Одни совершенно отчетливо представляли себе, как будут в лучах софитов выступать на сцене театра «Капюсен», «Матюрен» или «Олимпии», а то и «Гранд-опера», другие лишь ощущали в груди большое, широкое чувство, которому надеялись когда-нибудь дать выход.
Первые дни Лаура радовалась соседству пятнадцати единомышленниц и надеялась подружиться кое с кем из них. Но потом поневоле приняла к сведению, что эти будущие дивы, встречаясь с ней в коридоре, в лучшем случае бросали беглое «здравствуйте» и, трепеща ресницами, проскальзывали дальше, будто ужасно торопятся и, прежде чем отправиться на ужин в «Риц», должны разогнать на тротуаре поклонников, раздать несметное количество автографов, а затем еще быстренько заглянуть к своему агенту, к портнихе и к финансовому управляющему.
На самом деле ни у кого из них не было в Париже никаких знакомых, кроме консерваторских преподавателей да рыночной торговки за углом, у которой они ежедневно покупали кило яблок. Денег на кино они не имели, как и на театр и на шикарные рестораны, никто знать не знал их имен, на оплачиваемую работу нечего и надеяться, ну разве только подцепить в метро какого-нибудь мещанина из Пасси и за двадцать франков в неделю стать его любовницей. Так что оставалось единственное развлечение – ежедневная прогулка в Люксембургском саду или в Jardin des Plants[17], где в игре красок платанов они наблюдали смену времен года и воображали себе, как в не слишком далеком грядущем сбудутся их мечты. А поскольку кичливые чугунные ворота парков на ночь запирались на большие ключи, вечера они проводили в одиночестве мансардных комнатушек.
Шестнадцать обитательниц улицы Бак составляли этакую монастырскую общину. Днем они прилежно посещали уроки вокала, вечерами усердно распевали гаммы, старались достаточно спать и следовали предписаниям секретных рецептов, которые им тихонько подсказывали преподаватели или консерваторки постарше. Одни налегали на фенхелевый чай и черный шоколад, потому что это якобы повышало гибкость голосовых связок, другие пили сырые яйца и упражнялись в октавных интервалах, стоя на голове. Третьи массировали солнечное сплетение миндальным маслом или клали ночью под подушку цветки лаванды.
По приказу преподавателей Лаура бросила курить, что не составило для нее большого труда; сигарет ей недоставало лишь для развлечения, когда у себя в комнате, сделав паузу между двумя комплексами упражнений, она слушала сквозь тонкие стены голоса своих пятнадцати соперниц и вечные запинки на одних и тех же пассажах. У одних голоса были тонкие, хрипловатые, девчоночьи, у других – округлые, благозвучные, женские. А еще четыре-пять голосов – один слева от Лауры, один наискось через коридор и два или три в его конце – перекрывали все прочие, отодвигали в сторону, сминали своей пронзительной, безудержной и бесстыдной страстностью.
Страстность этих голосов объяснялась тем, что их обладательницы слишком много страдали и оттого утратили стыд. Не было нужды знать их истории, чтобы понять, что эти женщины оплакивали братьев, отцов, сыновей или свое детство, или невинность своих сестер, или гибель родной деревни. Лаура слушала их пение, исторгнутые словно из самой глубины души слезы, рыдания и мольбы, и корчилась от стыда за этих женщин, спрашивая себя, сколько страданий способен выдержать певческий голос, пока не станет смехотворным.
Однако, к своему разочарованию, Лаура не нашла во всем коридоре голоса, какому ей хотелось бы подражать. Меньше всего ее интересовали хрипловатые девчоночьи голоса, ведь у нее самой был такой же. Благозвучные женские голоса она презирала, потому что по собственной вине они оставались ниже своих возможностей. Куда больше ей нравились бесстыдные голоса страдалиц, хотя они никогда сразу не попадали в тон и не узнают иной партитуры, кроме созданной их собственной душевной мукой.
Только вот гениальностью – неуловимой, крохотной добавкой, которую невозможно перенять, но именно в ней все дело, – ни одна из них не обладала.
Через месяц Лаура уже вполне твердо убедилась, что никто из обитательниц улицы Бак, в том числе и она сама, не имел задатков для чего-то большого. Каждая, безусловно, была существом с нежной и чувствительной душой, но великой певицей – подлинной артисткой, которая трогает публику до самой глубины сердца, потому что несет неповторимое, беспримерное послание, настолько важное и правдивое, что человечество и через сотню лет будет помнить о ней, – такой артисткой никому из них не бывать.
Может статься, одной-другой достанет способностей, чтобы выступать шансонеткой в кабаре, самые хорошенькие при толике везения, если будут послушно показывать подвязку и декольте, возможно, смогут разок спеть песенку в «Фоли-Бержер» или в «Мулен Руж»; иные попытают летом счастья как уличные певицы, а самые храбрые, может статься, поедут в турне по ночным кафе Барселоны, Мадрида и Рима как «danseuses orientales»[18]; но рано или поздно каждая, если хватит ума, вернется в родную деревню и успеет выйти замуж за зубного врача, нотариуса или трактирщика, который знаком ей с детства и не будет особо вникать, чем она занималась в Париже.
А как же большое, широкое чувство, которому Лаура надеялась однажды дать выход? Ах, здесь опять-таки ничего особенного не было, поголовно все ее товарки лелеяли в груди точно такое же чувство. Лаура догадалась об этом, заметив, что и остальные, поднимаясь по лестнице, безотчетно проводили кончиками пальцев по засаленным обоям, а порой без явного повода садились на верхнюю ступеньку, задумчиво смотрели в незримые дали, словно могли сквозь стены увидеть чудеснейшие пейзажи. Позднее она сообразила, что обои засалились именно потому, что несчетные поколения учениц водили по ним пальцами. Примирившись с этим фактом, она обнаружила, что и подмастерья мясников в тихие минуты задумчиво глядят вдаль и даже полицейские, когда думают, что никто на них не смотрит, безотчетно барабанят пальцами по пистолетной кобуре. Иначе говоря, ощущение, так долго служившее ей источником надежд на будущее, было всего-навсего рабочим шумом души, который улавливает в себе любой живой человек, если среди мирской суеты на миг затаит дыхание и чуточку прислушается к себе.
Но было и кое-что еще. С некоторых пор в ночной тишине своей комнатушки, лежа в кровати и закрыв глаза, Лаура слышала вроде как звенящий гул, шедший, казалось, не из ее груди, а извне, откуда-то издалека, быть может из глубин космоса, как бы далекое эхо музыки, которая простыми гармониями доходчиво и понятно показывала, из чего состоит мир в его сокровенных глубинах. Когда слышала эти звуки, Лаура была счастлива и чувствовала единение с Вселенной. Но наутро, когда в укромном уголке Jardin du Plants она робко поднимала голос и пробовала их воспроизвести, получалась не всеобъемлющая мировая формула, а всегда лишь банальное, бездушное карканье, ничем не отличавшееся от карканья ее соседок.
Лаура была ужасно разочарована, оттого что ей никак не удавалось выразить свое ощущение. Конечно, в консерватории ее голос стал чище и полнозвучнее, и ноты она брала куда увереннее, но дело не в этом. Лаура не строила иллюзий. Артистичность натуры не позволяла ей обманывать себя, она понимала, что артисткой ей не бывать. И потому не удивилась, когда в конце третьего семестра педагог по вокалу уведомил ее с чисто парижской безжалостностью, что голос у нее неплохой, однако ж в плане развития бесперспективный и держать ее в консерватории четвертый семестр нет смысла.
Тем вечером она долго плакала в своей мансардной комнатушке на улице Бак, а в соседних комнатушках плакали другие девушки, получившие такое же уведомление. Правда, в отличие от них Лаура не искала утешения в том, что, мол, всему виной враждебность окружения, коварство эпохи или ограниченность преподавателей, нет, она трезво оценила ситуацию. Голос у нее бесперспективный, жаль, конечно, но так оно и есть. Ведь и в балетных школах девяносто девять учащихся из ста заканчивали карьеру по причине слишком широкого зада или слишком коротких ног, это обусловлено генетикой, и ничьей вины тут нет. Ведь и зубным врачом опять-таки может стать не каждый желающий. И не один юноша, горячо мечтавший стать прославленным футболистом, волей-неволей делался преемником отца в зеленной лавке.
Те несколько недель, что еще оставались ей в консерватории, Лаура храбро посещала уроки, а вечерами усердно проделывала заданные упражнения. Но от сигарет больше не отказывалась. И все-таки в груди у нее по-прежнему жило то чувство. И звенящий гул из Вселенной был при ней. И вполне неплохой голос.
Все-таки.
Глава пятая
Потом настало время, когда Феликс Блох завершил свои эксперименты, вернулся на свет божий и обнаружил, что снискал некоторую известность в маленьком мирке атомной физики. Разнеслись слухи, что один парень занят в подвале ВТУ необычными вещами, – сперва в Цюрихе, затем в других высших учебных заведениях страны и наконец в тех физических институтах Европы, где занимались атомной физикой. Он еще и не думал писать диссертацию, ему только-только сравнялось двадцать два года, а его уже приглашали на конференции в Гёттинген, Гамбург и Копенгаген, где он выступал перед маленькими группами преимущественно молодых людей с докладами о поведении электронов при различных температурах, а после каждый раз непременно представал перед инквизиторским синклитом хмурых пожилых профессоров, которым нечеткие рассуждения и невразумительные «как, так и» молодого физика были совершенно не по нутру.
Эти допросы Феликс Блох обыкновенно выдерживал без ущерба для себя, так как не пускался в спекуляции насчет широких взаимосвязей, а по-прежнему обеими ногами стоял на своей относительно прочной льдине и просто рассказывал о переменчивой игре красок спектрографа, какую видел сам и какую любой может увидеть и перепроверить на соответствующей аппаратуре.
В атомной физике Феликс Блох чувствовал себя теперь как дома, профессора и сокурсники стали ему второй семьей; часто он засиживался с ними до глубокой ночи на институтской кухне за сыром, хлебом и красным вином, обсуждая с единомышленниками результаты новейших исследований и положение в мире.
При этом выяснилось, что большинство студентов разделяли Феликсов пацифизм и его надежду на более светлое будущее по ту сторону грубой механики; в своем отвращении ко всему индустриальному и машинному иные заходили так далеко, что как ученые категорически отвергали изначальный принцип всякой машины – закон причины и следствия, – считая его измышлением человеческого ума. На подобный неоромантический экзистенциализм старшие возражали, что с эмпирической точки зрения машина все-таки явно функционирует, если уж функционирует, и это достаточно доказывает, что по крайней мере в физике некоторые вещи имеют причину, а некоторые – следствие; молодые же отвечали на это, что машина функционирует лишь как выражение человеческой идеи и всегда приводит к смерти и уничтожению, поскольку ее принцип каузальности, во-первых, придуман людьми, а во-вторых, есть отрицание всего живого и органического, развивающегося всегда без причины и следствия из себя самого и в себе самом; старики в свою очередь аргументировали, что Луна, двигаясь по точно предсказуемой орбите, все же едва ли ориентируется на человеческие идеи, а молодые отвечали, что наивно считать атомную физику вроде как астрономией в малом.
Такие вот разговоры велись на институтской кухне. А позднее вечером, когда опустела уже не одна бутылка и семестры постарше, попрощавшись, расходились по домам, молодые неизбежно заводили речь о пацифистском «Призыве к народам» Эйнштейна и о позорном служебном рвении, с каким иные его коллеги сделались послушными приспешниками войны.
Например, говорили о берлинском профессоре-химике Фрице Габере[19], который 22 апреля 1915 года руководил у бельгийского городка Ипр первой в истории газовой атакой, за считанные минуты унесшей на французской стороне восемнадцать тысяч жизней. Или о его красивой и умной жене Кларе Иммервар, она тоже имела докторскую степень по химии и от стыда за содеянное мужем застрелилась в саду их берлинской виллы из его служебного оружия. И снова о Фрице Габере, которого кайзер в награду за массовое убийство лично произвел из младших вахмистров в капитаны и который прямо в день смерти Клары уехал в Галицию готовить следующие газовые атаки и потому не присутствовал на ее похоронах. Или о химике-ядерщике Отто Гане[20], который вместе с Фрицем Габером в непомерном патриотическом рвении откупорил бутыли с хлором, а после, гонимый муками совести, бросился на поле боя, чтобы с помощью кислорода облегчить умирающим сибирским солдатам страшную боль в сожженных легких; или о нелепой выходке Гана и Габера, когда они в разгар войны предложили рейхсверу нанести на прицелы миллиона винтовок светящийся радиоактивный радий, чтобы солдаты могли стрелять и ночью; и о военном министре, который принял эту идею с восторгом и приказал реквизировать весь имперский радий, пока пробные стрельбы в Бруке-на-Ляйте не показали, что в темноте следует освещать все-таки в первую очередь цель, а не прицел; и о том факте, что вскоре после войны именно Фриц Габер получил Нобелевскую премию по химии и что позднее он несколько лет бороздил Атлантический океан в тщетных попытках извлечь из морской воды золото с целью выплаты немецких репарационных долгов, а теперь как рейхскомиссар по борьбе с вредителями разрабатывает отравляющие вещества для грызунов и насекомых. Тогда, весной 1927 года, студенты-физики еще не могли знать, что отравляющее вещество Габера войдет в историю под названием «Циклон-Б».
Феликс Блох воспринял истории Гана и Габера как предостережение, но они не поколебали его решимость посвятить свою профессиональную жизнь физическим исследованиям. Эти люди прислуживали машине, потому что были сыновьями своей эпохи и своей империи. Он же принадлежал другой эпохе и не был немцем. Он был швейцарцем.
До сих пор Феликс Блох почти все время жил в Цюрихе. Уезжал только в Энгадин покататься вместе с родителями на лыжах, а позднее совершал продолжительные вылазки в Гларнские Альпы. Теперь он говорил на цюрихском диалекте практически без акцента и освоил цвинглианский, слегка язвительный цюрихский юмор, которому слегка неловко от собственного веселья. По субботам ходил в Летцигрунд на футбол, а по средам на набережную Лиммата поесть сосисок. В ВТУ к нему относились с уважением, ему было там хорошо, а его исследовательская работа имела смысл, в который он с легкостью поверил.
Но затем, когда его физическую семью в ВТУ вдруг разбросало на все четыре стороны, он в одночасье стал бездомным. В конце летнего семестра 1927 года пришлось распрощаться с походными товарищами, Фрицем Лондоном и Вальтером Гейтлером, потому что один вернулся в Мюнхен, а второй уехал с профессором Шрёдингером в Берлин; одновременно руководитель института Петер Дебай принял приглашение в Лейпциг. На институтской кухне воцарилась тишина, теперь Феликс проводил вечера с родителями на Зеехофштрассе. Мало-помалу ему стало ясно, что после летних каникул во всем Цюрихе поговорить об электронах будет не с кем, кроме профессора Шеррера.
Однажды во второй половине дня он наведался к Шерреру и выложил на стол кварцевые призмы. Профессор удивленно вскинул брови и спросил, закончил ли Феликс свою работу.
Да нет, отвечал Феликс, если быть точным, он по-прежнему понятия не имеет, совершают ли электроны прыжки в высоту или в длину либо еще что-нибудь этакое.
Шеррер рассмеялся: И что же?
Спектрограф пока что больше не понадобится, сказал Феликс. Если ему опять потребуются призмы, он добудет замену.
Чепуха, сказал профессор, подвинул призмы по столу к Феликсу и поинтересовался его планами.
Собственно говоря, сказал тот, пожав плечами, ему все еще хочется докопаться, почему электрический ток в металлах течет с такой необъяснимой быстротой. Вдобавок осенью он запишется на педагогические семинары и подготовится к учительской должности, на будущий год в Зеефельдской гимназии будет вакансия.
Вы этого хотите? – спросил профессор.
Феликс кивнул.
Стать учителем? – спросил профессор. Потчевать скучающих юнцов основами механики и теории теплоты?
Феликс кивнул.
Всю жизнь? Каждый раз заново, до конца ваших дней?
Почетная задача, сказал Феликс.
Но не ваша, возразил профессор. Ваша задача – наблюдать за электронами, совершающими прыжки в высоту или в длину либо еще что-нибудь этакое. Работу в школе предоставьте другим.
Феликс молчал.
Понимаю, сказал профессор. Послушайте, Блох, вам бы надо отправиться в широкий мир, здесь, в Цюрихе, в ближайшее время будет весьма одиноко. Поезжайте в Гёттинген или в Копенгаген. Или в Лейпциг. Дебай вместе с Гейзенбергом заново создает там Институт теоретической физики.
Мне это не по карману, сказал Блох.
Если хотите, я позвоню Гейзенбергу. Насколько мне известно, он ищет второго ассистента.
Феликс молчал.
Понимаю, повторил профессор. Ваш отец?
Феликс кивнул. Мой отец не очень восприимчив к обаянию электронов.
Будьте мужчиной, сказал профессор, сообщите ему о своем решении. Вряд ли он откажет вам в благословении.
* * *
Вообще-то Лаура д’Ориано не всегда горевала по поводу отчисления из консерватории и вынужденного отъезда из Парижа. Конечно, горько сознавать, что как артистка она не состоялась, но разлука с по-северному серым городом огней, который двадцать два месяца кряду выказывал ей безжалостное равнодушие, все-таки стала избавлением для ее средиземноморской натуры.
В Марселе она чувствовала себя превосходно. По-восточному пестрая суета в порту напоминала ей беззаботные дни детства в Смирне или в Дамаске, здесь она за день слышала больше смеха, чем в Париже за год. Конечно, борьба за существование и здесь была жестокой, каждое утро квартал объезжала конная повозка из морга, подбирая бедолаг, которые за ночь в одиночестве и без поддержки закончили свой путь где-нибудь на заднем дворе, на подвальной лестнице или за штабелями досок. Но пока бедолаги кое-как держались на ногах и им хватало сил самим добывать себе на день кусок хлеба и сухой ночлег, старинный портовый город благосклонно их терпел как старожилов.
Теперь Лаура знала всех обитателей квартала и, когда ходила за круассанами к завтраку, здоровалась направо и налево, а вечерами, когда стены после заката отдавали солнечное тепло, часто далеко за полночь сидела подле магазина в свете уличного фонаря, курила и радовалась, если к ней присоединялись друзья по кварталу. Официанты окрестных бистро проводили с ней свои перекуры, торговец устрицами мимоходом дарил ей полдюжины. Иногда небрежной походкой подходили мальчишки-школьники и дерзко просили у нее огоньку, чтобы прикурить краденые сигареты, вечерами же к ней подсаживались проститутки, укладывали повыше свои измученные ноги и предостерегали от опасностей этого мира, будто Лаура наивная деревенская простушка.
Скоро пошла молва о том, что у нее красивый голос. Иногда друзья упрашивали ее в завершение вечера спеть восточную песню про любовь; тогда она радостно соглашалась, забиралась на свой стул и меланхолично пела в ночи. Но когда официанты предлагали посодействовать и устроить ей выступление в кафе с танцплощадкой или в мюзик-холле, Лаура отказывалась, так как понимала, что там ей, как прежде матери, придется привлекать на помощь декольте и подвязку. А она еще в раннем детстве поклялась никогда этого не делать.
Поскольку же детство кончается и детские клятвы теряют силу, а Лауре уже сравнялось двадцать, она решила снова обдумать этот вопрос. Будни продавщицы наводили на нее скуку, и она все еще тосковала по сцене. Ну а если молодая женщина тоскует по сцене, ей придется заплатить за вход, то бишь показать подвязку, так было во все времена и во всех областях искусства.
И в марте 1931 года Лаура в конце концов приняла ангажемент и пять вечеров подряд выступала в «Черном коте». У хозяина нашелся в запасе казацкий костюм с опушкой из поддельного горностая, который сидел на ней как влитой, и она пела русские песни про любовь и плясала казачок. Публика неистовствовала, сама Лаура наслаждалась огнями рампы и аплодисментами, да и пятнадцать франков, которые ей платили за каждый вечер, были очень кстати. По окончании вечера у черного хода всегда поджидал приятель-официант, ограждавший ее от не в меру восторженных зрителей и рыцарски провожавший домой.
Лаура конечно же сознавала, что в художественном плане ее выступления были весьма скромны, да и голос с парижских времен слегка заржавел, но публике она бесспорно доставляла удовольствие. А разве не высшая цель любого артиста – радовать публику? И коль скоро радость публики еще возрастет, если покажешь чуточку декольте или ножку, то почему бы и не показать?
Выступала она не так уж часто. Марсель – второй по величине город во Франции, но все равно провинциальный, музыкальных кафе там наперечет, и, выступив в каком-нибудь из них, Лаура могла думать о следующих гастролях не раньше чем через год. Быть может, позднее, когда ее имя станет достаточно популярным, удастся устроить небольшое турне по Лазурному Берегу – в Канны, Ниццу и Монако.
Лаура обжилась в Марселе, как нигде до сих пор. Родители заметно постарели, запасы в музыкальном магазине не иссякали. И вот настал тот вечер, когда дверь торгового помещения распахнулась и вошел молодой человек – белый полотняный костюм, белые гамаши, белая шляпа-борсалино на напомаженных волосах. Он остановился, широко расставив ноги и покачиваясь, потом короткими, пронзительными взглядами осмотрел все углы, будто принадлежал к числу тех молодых людей, что ведут опасную жизнь и в любую минуту должны быть начеку, остерегаясь могущественных противников. В конце концов он перевел острый взгляд на Лауру, пальцем сдвинул борсалино на затылок и сказал:
Бонжур, мадемуазель.
Бонжур, молодой человек, ответила Лаура и отметила, как юноша вздрогнул от такого обращения. А она, чтобы его порадовать, с наигранной робостью потупила глаза.
Мне нужны ноты, сказал он, покачиваясь с пятки на носок и поскрипывая кожаными гамашами. Я слышал, у вас богатый выбор.
Совершенно верно, месье. Желаете что-то определенное?
У меня много желаний, и очень определенных, сказал он, доставая из нагрудного кармана сложенный листок бумаги. Концерт для кларнета Моцарта у вас найдется?
Конечно.
Лаура открыла ящик и улыбнулась. Этот расфуфыренный юнец, корчащий из себя дерзкого вояку, чтобы скрыть собственную безобидность, стал для нее приятным разнообразием в бесконечной череде раболепных эмигрантов и злобных старых матросов. Белый костюм ему очень к лицу, а в изгибе верхней губы сквозит упрямство, которое так и хочется стереть поцелуем. Походка легкая, наверно, он хороший танцор. И по-французски говорит с резковатым, но одновременно мягким и мелодичным, почти по-девичьи звонким акцентом, который был Лауре незнаком.
Еще я хотел бы Лунную сонату Бетховена, сказал молодой человек.
Концерт для кларнета вам, стало быть, не нужен?
Мне нужно то и другое, концерт для кларнета и Лунная соната.
Он резко втянул воздух сквозь зубы.
Как вам будет угодно, сказала Лаура, открывая другой ящик.
Пять экземпляров, пожалуйста.
Пять экземпляров Лунной сонаты?
И три экземпляра прелюдий Шопена.
Лаура с удивлением посмотрела на молодого человека, но открыла еще один ящик.
Кроме того, мне нужна… Сюита си-минор Ио ганна Себастиана Баха. Один экземпляр.
Вся партитура?
Только поперечная флейта. Затем два экземпляра Венгерских танцев Брамса и три – «Картинок с выставки» Мусоргского. Пожалуй, это все. Хотя нет. Еще «К Элизе» Бетховена, пожалуйста. Двенадцать экземпляров.
Двенадцать «К Элизе»?
Двенадцать, ничего не поделаешь.
Простите, вы что же, шутите со мной?
У меня есть деньги, мадемуазель, плачу наличными. Сколько с меня?
Оба прошли к кассе, и, пока она выписывала счет, молодой человек представился.
Его звали Эмиль Фраунхольц. Двадцать пять лет, швейцарец, родился и вырос на Боденском озере, в деревне под названием Боттигхофен. Два-три года назад, уклоняясь от призыва на службу в швейцарскую армию, сбежал в Марсель и с тех пор перебивался в жизни случайными заработками и комбинациями, предназначенными в первую очередь для того, чтобы как можно лучше оградить его от военной службы и от крестьянской маеты.
Самая доходная комбинация заключалась вот в чем: за определенную мзду он через посредников собирал в колониях письма солдат из французского Иностранного легиона и мимо военной цензуры переправлял в Марсель, а оттуда обычной почтой рассылал адресатам. Кроме того, за предоплату снабжал легионеров сувенирами, которых в Сиди-Бель-Аббесе, Сайгоне или Нумее не достать, – фотографией той или иной актрисы, банкой каштанового пюре, килограммчиком вяленой трески, десятью граммами опиума или же Лунной сонатой.
Иногда карманы у него раздувались от денег, а иногда он сидел без гроша, ведь его гешефты были подвержены резким конъюнктурным колебаниям. Наибольший оборот он делал, когда в казармах квартировали старые вояки, которые знали, что к чему, и не боялись при необходимости подкупить часового бутылкой водки или вырубить неподкупного хорошо рассчитанным ударом по затылку; хуже всего обстояло, когда в казармах были новички, которые еще полагали устав священным законом.
Осечки случались у Эмиля Фраунхольца и когда один из его посредников терпел провал, а такое происходило каждые несколько месяцев. Тогда его ожидал визит военных полицейских, которые носили белые шлемы, задавали неприятные вопросы и могли проявить изрядную грубость, если им врали. В подобных случаях Эмиль почитал за благо на время отойти от дел и съездить к несуществующей тетушке в Ниццу или в Канны.
Но в мае 1931 года, когда он впервые вошел в музыкальный магазин Лауры д’Ориано, дела шли хорошо. И поскольку тем вечером денег у него в карманах было предостаточно, а девушка за прилавком очаровала его, как никакая другая до сих пор, он набрался храбрости, сбросил маску наглого вояки и робко спросил, не согласится ли она в следующее воскресенье составить ему компанию и выпить кофе с пирожными на террасе отеля «Эксцельсиор».
Отныне Лаура и Эмиль проводили вместе все воскресенья, а иногда и будние дни. Лаура никогда не встречала таких мужчин, как Эмиль Фраунхольц. Фальшивая наглость совершенно слетела с него в тот миг, когда он пригласил ее на первое свидание, и она увидела дружелюбного и сдержанного, но неглупого и оборотистого парня, который внимательно ее слушал и охотно смешил; особенно ее трогало его непринужденное добродушие, наверно принесенное с его миролюбивой родины, которую разорение и катастрофы уже много поколений обходили стороной.
Эмиль не разглагольствовал о войне и не скрипел зубами, не разыгрывал попыток самоубийства и не перерезал горло маленьким собачкам, без нужды не собирал лоб в задумчивые морщины, а откровенно рассказывал своим по-девичьи звонким голосом, какие красивые глаза у боттигхофенских коров и какой чудесный вкус у свежего яблочного сока, выжатого из паданцев, которых можно даром набрать во влажной траве чужих выгонов.
Рассказывал Эмиль и о том, что из родительской усадьбы открывался чудесный вид на Боденское озеро, где величественно курсировали яхты богачей, и что в раннем детстве он дал себе клятву когда-нибудь оставить крестьянские хлопоты и коровий навоз, чтобы на борту белых яхт пить шампанское в обществе красивых женщин. А когда Лаура с улыбкой спрашивала, сумел ли он достичь своей цели, он приносил на очередное свидание бутылку «Клико» и у Пор-де-Бельж вел ее к белой парусной лодке, которая, видимо, принадлежала приятелю или деловому партнеру, задолжавшему ему услугу.
Когда же Лаура во время лодочной прогулки опускала руку в воду и восхищалась холмистыми красотами провансальского побережья, на следующее свидание он приезжал на «бентли» или «пёжо» и приглашал ее немного покататься. Она садилась в машину, и он увозил ее в холмы, а стоило ей проголодаться, расстилал в каком-нибудь симпатичном местечке шерстяной плед и доставал из корзины деликатесы, надеясь, что Лауре они придутся по вкусу. Если у нее кончались сигареты, то в перчаточном отделении непременно лежала наготове пачка ее марки, а с наступлением сумерек он отвозил ее домой, за весь долгий день ни разу не схватив за колено.
Все между Эмилем и Лаурой было хорошо, потому что происходило просто, без фальши и без умысла. Когда они пили шампанское, то просто пили шампанское, а когда лежали на пляжном песке, то просто лежали на песке. Он рассказывал о своих гешефтах и комбинациях и радовался, если Лаура над ними смеялась, а она рассказывала ему о большом чувстве в груди и о гуле Вселенной, хотя сейчас уже не придавала значения этим вещам. И радовалась, когда он внимательно слушал и ничего не говорил.
Когда же они занялись любовью, то просто занялись любовью.
Лаура стеснялась сказать ему о своих выступлениях в ночных кафе, но он все-таки прослышал об этом и весь вечер, широко раскрыв глаза, сидел у ее ног, а потом целовал ей руки и клялся, что в жизни не слыхал ничего замечательнее. В ответ она назвала его льстецом, но он горячо запротестовал, уверяя, что умрет на месте, если это не чистая правда. Тогда она поверила и была счастлива.
В конце лета 1931 года они, однако, уже не могли оставлять без внимания беременность Лауры, и ситуация усложнилась. Лаура плакала, ведь теперь с карьерой певицы было покончено навсегда; Эмиль обнял ее и сказал, что все уладится, он прекратит свои комбинации и попросит у родителей Лауры ее руки.
Родители отнеслись к нежданному жениху без особого восторга, так как чуяли под белым полотняным костюмом крестьянского парня и сомневались, достанет ли ему сил и изворотливости, чтобы надолго удержаться рядом с их своенравной дочерью. Но природа создала бесспорные факты, и любящие родители никак не могли предложить Лауре истребить оные, вот и пришлось им благословить парочку.
Венчание состоялось 18 августа 1931 года в маленькой церкви Сент-Мари-де-ля-Шарите, затем свадебное общество на двух наемных автомобилях отправилось в загородный трактир. Компания была немногочисленная – кроме новобрачных, только родители Лауры да четверо ее братьев и сестер. Тем не менее после обеда им удалось устроить весьма разнообразное ревю. Лаура спела египетскую балладу, Эмиль продемонстрировал свой коронный номер – жонглировал пятью винными бокалами. Братья Лауры показывали карточные фокусы, заставляли монетки исчезать, а потом доставали их из ушка невесты. Все шутили по поводу того, что с замужеством Лаура стала швейцарской гражданкой. Под конец мать и дочь исполнили дуэт, чего прежде никогда не случалось, а отец аккомпанировал им на чудовищно расстроенном трактирном фортепиано, у которого вдобавок не хватало клавиш.
Наконец все утерли слезы, заказали кофе и шнапс. А позднее, изрядно навеселе, вернулись в город.
* * *
Хмурым осенним днем в начале октября Феликс Блох вышел из поезда под огромный дебаркадер лейпцигского Главного вокзала, забрал из почтового вагона свой велосипед и поехал в Институт теоретической физики, расположенный на окраине, между кладбищем и психиатрической клиникой. Чемодан он оставил в мансардной ассистентской каморке, после чего наведался к Гейзенбергу, доложил о приезде.
На новом месте он сразу почувствовал себя как дома. Свою электрическую аппаратуру разместил в безоконном подвальном помещении, спектрограф пока что распаковывать не стал. Утром он ассистировал на лекциях Гейзенберга и проводил семинары для первокурсников, во второй половине дня проверял студенческие работы и занимался своими экспериментами.
Коллектив нового института был невелик, и через неделю Феликс уже знал всех студентов по именам. Еще не разнеслась весть, что здесь преподает молодой Вернер Гейзенберг, который потряс физический миропорядок своим соотношением неопределенностей и руководил институтом как вожак стаей перелетных птиц. Лекционные залы были слишком просторны. Студенты кружком сидели на столах, заваривали чай на бунзеновских горелках и ели пирог, прихваченный профессором Гейзенбергом из пекарни за углом.
Компания тут подобралась веселая. Гейзенберг распорядился поставить в институтском подвале стол для пинг-понга, доступный для всех. Материальной частью заведовал Феликс Блох. Венгерский студент по имени Эдвард Теллер[21], который в Мюнхене угодил под трамвай и лишился одной стопы, неизменно готовил на всех чай. Профессор Гейзенберг был бесспорным чемпионом по пинг-понгу и после лекционного турне по Восточной Азии считался непобедимым. Регулярно побеждал его только японец по имени Ёсио Нисина[22], и Гейзенберг тяжело переживал поражения. Говорят, как-то раз после поражения исчез на целых три дня.
По выходным студенты и преподаватели сообща знакомились с городом, который за многие столетия разбогател на своих шерстопрядильнях и шерсточесальнях, типографиях и издательствах, а также на торговле мехами и зерном из Восточной Европы. Шли к каруселям и американским горам на площади Альтер-Мессплац или на Виндмюленштрассе потанцевать в кабаре «Роте мюле», которое, подобно его парижскому образцу, тоже выглядело снаружи как красная мельница; вечерами посещали политические кабаре, благо после войны их было как грибов после дождя, – «Реторту», «Брюхо» и «Афишную тумбу». Летом ходили в открытый бассейн Шёнефельд или в бассейн возле ярмарочной территории, зимой катались с горы в Шёнефельдском парке. На Пасху Гейзенберг приглашал ближайших друзей в свою лыжную хижину в баварских Альпах.
Поздние вечерние часы Феликс проводил у себя в каморке, читал в одиночестве специальные журналы или писал письма родителям. Прежде чем погасить свет, он погружался в раздумья, смотрел на настольную лампу и спрашивал себя, происходит ли с электронами внутри светящейся проволочки именно то, что ему представляется. Потом, лежа в постели, он слышал в темноте сквозь тонкие стены, как в дальнем конце коридора Гейзенберг играет на рояле красного дерева, выписанном с лейпцигской фортепианной фабрики Юлиуса Блютнера. Той осенью 1928 года Гейзенберг вечер за вечером часами разучивал трудное Allegro vivace из фортепианного концерта ля-минор Шумана. Феликс слушал, пока не засыпал, и удивлялся, что Гейзенберг выбрал как раз это меланхолично-романтическое произведение, шумановские фантазии о пылкой любви и блаженстве соединения с Кларой.
Между двумя молодыми людьми завязалась сдержанная, но серьезная дружба. Незадолго до Рождества 1927 года Гейзенберг отвел Блоха в сторонку и спросил, как его успехи с электронами.
Успехи неплохие, ответил Феликс, результаты измерений полностью соответствуют исходному тезису.
Так не пора ли записать все это на бумаге как диссертацию? – спросил Гейзенберг и, застенчиво улыбаясь, добавил, что в ходе своей короткой профессорской карьеры еще не руководил ни одним докторантом и почтет за честь, если Феликс станет первым.
Следующие шесть месяцев Феликс Блох посвятил своей докторской диссертации, которую озаглавил «К вопросу о квантовой механике электронов в металлических решетках» и представил 2 июля 1928 года. Там он рассматривал не разгаданную до тех пор физическую загадку, что даже в очень длинных металлических проводниках электрический ток течет очень быстро, и объяснял на удивление низкое сопротивление тем, что ионы металлов упорядочены в форме стабильной кристаллической решетки, а это делает столкновение с движущимися электронами крайне маловероятным; кроме того, чем ниже температура, тем стабильнее решетка и тем невероятнее столкновение. Действительно, его эксперименты в подвале показали, что проводимость металлов с понижением температуры возрастает. Немногим позже его научный руководитель Гейзенберг подхватит идею решетки и выдвинет гипотезу, что весь космос организован как огромные соты в единой решетке.
Опубликованная в берлинском «Журнале физики» диссертация Феликса стала европейской сенсацией, всем хотелось увидеть молодого ученого. В зимний семестр 1928–1929 года Вольфганг Паули[23] пригласил его в цюрихское ВТУ, затем он поехал к Нильсу Бору в Копенгаген, к Максу Планку и Отто Гану в Берлин, к Паулю Эренфесту[24] в Лейден и к Максу Борну[25] в Гёттинген, где познакомился с американским докторантом по имени Роберт Оппенгеймер[26], который мог взахлеб говорить о санскрите, Данте или понятии времени у Будды и в свое время сыграет в жизни Феликса судьбоносную роль.
Хорошо бы своими глазами увидеть, как на Пасху 1932 года молодые лейпцигские квантовые механики поехали на Копенгагенскую весеннюю конференцию в институте Нильса Бора. Вернер Гейзенберг и Феликс Блох отправились в многочасовое путешествие по железной дороге вместе со своими лейпцигскими докторантами Карлом Фридрихом фон Вайцзеккером[27] и Эдвардом Теллером, в Берлине к ним присоединился ассистент Отто Гана Макс Дельбрюк[28]. В дороге молодые люди подробно обсуждали самую волнующую тему года в области атомной физики – открытие британца Джеймса Чедвика[29], что наряду с положительно заряженным атомным ядром и отрицательно заряженными электронами существуют еще и нейтроны, то есть элементарные частицы без заряда. Ведь отсюда следовало, что атомные ядра вовсе не неделимое целое, как полагали до сих пор, а могут состоять из нескольких частей и, стало быть, их можно расщепить.
Поскольку в те дни отмечалось еще и столетие со дня смерти Гёте, тот или иной путешественник, наверно, прихватил с собой «Фауста»; и на пути в Копенгаген Гейзенберг, Блох, Теллер, фон Вайцзеккер и Дельбрюк придумали украсить конференцию квантово-физической пародией на «Фауста».
И немедля претворили свой замысел в жизнь. Центральное место в пьесе занимало «пуделево» ядро, а также вопрос, что соединяет и держит мир в его глубинной сущности. Состоялся спектакль в пасхальное воскресенье 1932 года при содействии многочисленных участников конференции в большой аудитории института.
Роль Фауста исполнил лейденский профессор Пауль Эренфест, Мефистофеля – бельгиец Леон Розенфельд[30]. Феликс Блох играл самого Господа; он восседал на высоком табурете, водруженном на лабораторный стол, в цилиндре и самодельной маске, в которой явно угадывались черты Нильса Бора. Chorus mysticus составляли Гейзенберг, Оппенгеймер и еще четверо добровольцев.
Грянул громкий хохот, когда Фауст, выйдя на сцену, продекламировал:
Электродинамикой я овладел И над валентностью сильно корпел, Ученье о преобразованиях долбил И Вильсона камеру соорудил. Однако я при этом всем Был и остался дураком: Ни с чем я точно не знаком! В магистрах да профессорах хожу И за нос тридцать лет вожу Учеников, как буквоед, Толкуя так и сяк предмет. Хоть я разумней многих ловкачей, Сомненьями терзаюсь, хоть убей, И Паули боюсь, как аспида какого.Волнующий эпизод – появление датской студентки Эллен Тведе в роли Гретхен. С большим знаком плюс-минус на лице она изображала нейтрон и пела на мелодию Шубертовой «Маргариты за прялкой»:
Что сталось с зарядом? Статистике тяжко. Его не найти мне Нигде никогда. Коль меня недостает, То и формула нейдет, И с миром всем Тебе тогда беда. Когда нет меня — Нет и бета-луча, Но я не чуждаюсь Азота ядра. Что сталось с зарядом? Статистике тяжко. Его не найти мне Нигде никогда. К нему одному я Диполем стремлюсь. Ах, если б поймать И его удержать. Как спин мой трепещет, Как сердце стучит! Люблю, умоляю: Прими же меня. Что сталось с зарядом? Статистике тяжко. Его не найти мне Нигде никогда.Глава шестая
По возвращении из Копенгагена Феликс Блох набросал первые заметки к работе о тормозящей способности атомов с несколькими электронами. В это же время в Марселе Лаура д’Ориано предпринимала первые попытки привыкнуть к роли замужней женщины и будущей матери. Чисто технически Эмиль Фраунхольц мог бы, пожалуй, поселиться у д’Ориано, над музыкальным магазином, ведь ввиду экономического кризиса и массовой безработицы было бы вполне разумно снизить прожиточный минимум молодой пары и объединить доходы. Но всем этим людям хватило ума понять, что на перспективу ничего хорошего из этого не выйдет, вот почему Эмиль взялся за осуществление плана, на всякий случай подготовленного уже некоторое время назад. Дело в том, что один легионер – в прошлом аптекарь в Грассе, который по неведомой причине был вынужден спешно покончить с прежней жизнью, – давно предлагал ему за смешные деньги выкупить аптеку вместе с квартирой.
Пока Эмиль строил планы, Лаура осторожно заметила, что, во-первых, Грасс – захолустная дыра на задворках мира, а во-вторых, сам Эмиль, насколько ей известно, понятия не имеет об аптечном деле. На это Эмиль возразил, что, во-первых, воздух Приморских Альп для младенца несравненно полезнее, чем воздух марсельского порта, а во-вторых, Грасс как мировая столица парфюмерии – любимое место паломничества богатых американских туристов. Ну а в-третьих, что до аптекарской профессии, то никакого чародейства тут и в помине нет, от кашля продаешь сиролин, от мозолей – опийсодержащий пластырь «Анакса», во всех более сложных случаях отсылаешь к домашнему врачу.
Словом, молодая чета собрала пожитки, и папаша д’Ориано отвез их на прокатном «фиате» в Грасс, где они забрали у матери легионера ключи и вселились в свой новый дом. Там Лаура и Эмиль с удивлением обнаружили, что все будничные вещи в аптеке и в расположенной напротив квартире до такой степени отвечали их потребностям, их вкусу и их меркам, будто они сами же и были своими предшественниками. Домашние туфли за дверью квартиры в точности подошли Эмилю по размеру, как и купальный халат в шкафу. Лаура нашла в спальне на туалетном столике новый карандаш для подводки глаз (своей марки!) и любимые духи, а подле кровати стояла колыбель с подушечкой и пуховым одеяльцем, словно только и ожидающая ее младенца.
Эмиль, что это значит? – спросила Лаура.
Уму непостижимо, ответил он.
Твои штучки?
Для меня это загадка, сказал он. Клянусь, я удивлен не меньше твоего.
Это не смешно, Эмиль. Я хочу знать, бывал ли ты здесь раньше.
Никогда. Клянусь.
Лаура поверила, знала ведь, что Эмиль хотя и хитрец, но не лгун. Он никогда не бывал в Грассе, да и легионера знал только по переписке, а что дом подошел им на все сто, действительно чистая случайность. Позднее Эмиль и Лаура ничуть не удивились, что в аптеке нашлось два белых халата, будто сшитых по заказу, в заполненных шкафах не было ни пылинки, а на прилавке лежал отчет о последней инвентаризации, в двух экземплярах.
Эмилю только и оставалось в следующий понедельник в восемь утра надеть белый халат и отпереть дверь аптеки. Лаура будет заниматься домашним хозяйством, заботиться о малыше и иногда, пока малыш спит, помогать в аптеке. Если дела пойдут хорошо, они купят подержанную машину и на выходные станут ездить в Канны и в Ниццу, а по большим праздникам – в Марсель, к родителям и братьям-сестрам Лауры.
Эмиль твердо рассчитывал, что во время кризиса аптека прокормит его и семью, ведь люди болеют во все времена и нуждаются в лекарствах, которым могут доверять. Но он ошибся. В день открытия пришла одна-единственная покупательница, на второй день не появился никто, а на третий – двое. Как выяснилось, в первую очередь кризис загубил туризм, американцы больше не приезжали; следом захирела и торговля парфюмерией, денег граждане Грасса уже не зарабатывали. И поскольку не могли позволить себе болеть, просто оставались здоровы. Те же, кто все-таки заболевал, не подавали виду, предпочитая нести свои небольшие деньги к мяснику, а не в аптеку. В крайнем случае человек обойдется без мозольного пластыря и опийной настойки, но без говяжьего шницеля нипочем не проживет.
Целыми днями Эмиль стоял один в аптеке, колокольчик над дверью молчал. Когда вечером он запирал аптеку, касса была так же пуста, как и утром. Накопления и средства из приданого таяли, в скором времени Лаура не находила в городке ни булочника, ни зеленщика, которые соглашались отпустить ей в кредит. Уже два раза она ездила в Марсель, просила денег у родителей. В третий раз она ехать не хотела. В апреле родился ребенок. Девочка, которую назвали Рене. Торговцы сжалились и опять открыли Лауре кредит. Но когда через несколько месяцев она забеременела второй раз и с округлившимся животом опять стояла в очереди за колбасой и хлебом, лавочники с суровой миной смотрели сквозь нее, будто на пустое место, в конце концов она все поняла и ушла домой ни с чем.
В марте 1933-го родилась вторая дочка. Ее окрестили Анной. Положение у Лауры и Эмиля было отчаянное, им недоставало буквально всего. Кое-как оправившись от родов, Лаура обзвонила все три каннских кафе с танцплощадками, попросила о выступлениях и унизилась до того, что на пробу пела в телефонную трубку. А когда в самом деле выпросила себе выступление и однажды пятничным вечером в вечернем платье уехала на автобусе в Канны, Эмиль Фраунхольц в припадке яростной ревности, какой он в себе даже не подозревал, оставил спящих дочек одних в квартире, увел у соседа велосипед и отправился за двадцать километров в Канны, чтобы наблюдать в темноте за выступлением Лауры, а после устроил ей жуткую сцену, оттого что в свете софитов она показала подвязку и декольте.
Потом настало лето, жизнь стала чуть полегче, ведь продуктов питания в Южной Франции было хоть завались. Но октябрьским вечером, когда снова понадобились деньги на уголь для печки, Эмиль Фраунхольц уже в постели осторожно поинтересовался у жены, как бы она посмотрела на то, чтобы пока свернуть шатры в Южной Франции и дождаться окончания кризиса в Швейцарии, в усадьбе его родителей.
Так тебе ведь придется там идти в армию, сонным голосом сказала она.
Теперь я им не нужен, ответил он. Я женат и имею двоих детей, понятно?
Тут Лаура села в постели и снова включила ночник.
Эмиль, посмотри на меня и послушай, что я скажу.
Я слушаю.
Я поехала с тобой в Грасс, хотя предпочла бы остаться в Марселе.
Верно.
Я остаюсь с тобой в печали и в радости, как и обещала священнику.
Знаю.
Однако сейчас ты требуешь от меня невозможного. Это выше моих сил, слышишь, я скорее разведусь или пусть меня пристрелят как собаку, но я не стану хоронить себя в твоей деревне.
Как ты можешь так говорить, сказал он, деревня не моя. Просто мы бы имели крышу над головой, и дети были бы сыты. Там сколько угодно картошки, и яблок, и парного молока.
Как называется деревня? Боттиков?
Боттигхофен. И уедем мы не навсегда. На год-два, пока кризис не кончится.
Боттиков, это где? В России? И что там есть? Коровы? Яблони?
Боденское озеро очень красивое, сама увидишь. Туристы издалека приезжают.
Я останусь здесь.
Навсегда в Южной Франции?
Что ты имеешь против Южной Франции?
Ничего, сказал Эмиль.
Нет, ты что-то имеешь против Южной Франции.
Южная Франция очень красивая, сказал Эмиль.
Но?
Есть и теневые стороны, как везде.
Например?
Да ладно тебе.
Например?
Например, в Южной Франции привередливые официанты поучают молодых иностранцев, как есть мелкую дичь ножом и вилкой.
И поэтому тебя тянет домой в Боттиков?
Если хочешь, то да. Мы там не едим мелкую дичь, нам вдоволь хватает картошки и парного молока.
Больше Лаура ничего слушать не пожелала, о переезде в Боттигхофен для нее и речи быть не могло. Она погасила свет, а наутро за завтраком опять твердо заявила Эмилю, чтобы он раз навсегда выбросил эту идею из головы. И конечно же настояла бы на своем, да только вот три дня спустя явился судебный исполнитель и опечатал аптеку, а еще пять дней спустя домовладелец предупредил, что в конце месяца отказывает им от квартиры, потому что они задолжали плату за полгода.
* * *
По возвращении из Копенгагена Феликс Блох представил диссертацию на звание доцента, после чего читал лекции по общей теории относительности, квантовой теории магнетизма и поглощении материей частиц высоких энергий. 1932 год был удачным для естественных наук, открытие нейтрона распахнуло новые широкие горизонты во многих областях. Но в Германии этот annus mirabilis[31], как его называли физики, подошел к концу задолго до осени.
Феликс Блох заметил это по тому, что в лейпцигском Старом городе вывешивали все больше флагов. Постоянно происходили демонстрации и факельные шествия, каждые несколько дней случались кровопролитные драки и перестрелки. В университете Национал-социалистская студенческая лига Германии (НССЛ) расставила у входов и лестниц своих людей, которые избивали тех, кто агитировал за другие партии. В аудиториях студенты в униформе устраивали беспорядки, стоило им заподозрить в преподавателе еврея. Из-за улюлюканья этих молодчиков профессор радиофизики Эрих Маркс вообще не мог больше проводить занятия и был вынужден подать в отставку. НССЛ требовала вычеркнуть из учебных планов квантовую физику, так как она пропагандирует еврейские идеи. Вскоре в немецких университетах запретили преподавать теорию относительности, само имя Эйнштейна стало табу. Десятого декабря Альберт и Эльза Эйнштейн с шестью чемоданами сели на берлинском вокзале Лертер-банхоф в поезд на Антверпен, а в Антверпене поднялись на борт океанского судна и отправились в Нью-Йорк.
Феликс Блох тоже не избежал шиканья, незадолго до Рождества ему впервые пришлось прервать лекцию. Началось все якобы невинно – студент в униформе уронил на пол медную монетку. Но не успела она отзвенеть, как упала вторая, а затем друг за другом – пятая, десятая, двадцатая, и среди этого дребезжания кто-то из студентов громко хлопнул ладонью по столу, после чего по столам уже ритмично хлопали сотни рук, да так, что казалось, топочут сапоги. Феликс Блох невозмутимо продолжал писать на доске свои формулы. Но когда первые медяки полетели в сторону кафедры, положил мел и покинул аудиторию.
В тот день Феликс волей-неволей принял к сведению, что пацифизм никоим образом не защищает его от слепой ненависти заблудших. Он был бессилен против злобной глупости и необузданного насилия, захватившего не только университетские аудитории, но и улицы Лейпцига. Когда он ехал на велосипеде в центр, студенты узнавали его и осыпали бранью, иной раз и камни швыряли. Вскоре он ездил только на трамвае, прячась за газетой.
Зима в тот год долго заставляла себя ждать, сочельник миновал, а погода стояла не по сезону теплая. Многие домовладельцы уже думали, что обойдутся половиной обычного запаса угля, но в середине января 1933-го все-таки грянули свирепые морозы. Голуби замертво падали с крыш, ручьи, канализация и водопровод замерзли. Окна трамваев изнутри и снаружи плотно обросли инеем. Феликс не раз проезжал нужную остановку из-за того, что кондуктор ее не объявил.
Чтобы спастись от постоянного злобного крика, по воскресеньям он часто ездил на каток; саночная горка по причине нехватки снега была пока закрыта. Вечерами, чтобы не мерзнуть в своей мансардной каморке, он ходил в кино. В «Альбертхалле» и в «Королевском павильоне» крутили «Возвращение Тарзана» с Томом Тайлером, в «Капитоле» – «Белокурую Венеру» с Марлен Дитрих.
В последний морозный день двадцать тысяч рабочих-социалистов устроили демонстрацию на площади Мессплац, а следующим утром ровно в семь над Лейпцигом разразилась яростная зимняя гроза. Под громы и молнии выпало тридцать сантиметров снегу, а затем резко потеплело. Во второй половине дня, когда Национал-социалистская студенческая лига проводила в университетском дворе ежедневную демонстрацию, снег под сапогами нацистов превратился в грязную жижу.
К тому времени Феликс Блох, наверно, уже осознал, что срок его пребывания в Лейпциге истек. После состоявшихся 5 марта выборов в рейхстаг университет получил нового ректора, который, вступая в должность, на глазах у всего персонала самолично поднял на крыше Феликсова института флаг со свастикой. В учебный план включили новые тематические курсы типа «Кровь и почва» и «Народ без пространства». Двадцать первого марта от Мессплац до Аугустусплац прошагало трехсоттысячное факельное шествие. Участвовали в нем все – школьники, студенты, солдаты, рабочие, бюргеры, крестьяне.
Топот сапог и тысячеголосые песнопения далеко разносились по переулкам, достигая до Института теоретической физики, где Феликс Блох и Вернер Гейзенберг, конечно, их слышали, но никогда о них не говорили. Знаки были совершенно очевидны, а надвигающаяся катастрофа казалась совершенно неизбежной – какой смысл что-то говорить? Вот они и обходили это молчанием, когда рано утром пили кофе и обсуждали дневные дела. Молчали и вечером в подвале, играя в пинг-понг. А когда на Пасху 1933-го Гейзенберг и его друзья поехали на недельку в баварские Альпы покататься на лыжах, они тоже молчали.
Было уже четыре часа дня, когда Гейзенберг, Нильс Бор с сыном Кристианом, фон Вайцзеккер и Феликс Блох отправились в дорогу со станции Обераудорф неподалеку от австрийской границы. Подъем к лыжной хижине, расположенной у южного склона Большого Трайтена, на плато Штайле-Альм, требовал серьезных усилий; летом его легко можно одолеть за два-три часа, но сейчас, поскольку накануне выпал целый метр снегу, времени понадобится вдвое, а то и втрое больше.
Путь вел круто в гору по глубокому снегу, через лес, да с тяжелым багажом. На первом привале Гейзенберг объявил, что сейчас куда приятнее было бы «инверсивное восхождение», как в Америке на Большом Каньоне. Там спальный вагон доставляет тебя на высоту двух тысяч метров, на край огромной пустынной равнины, откуда ты без особого труда спускаешься вниз, к реке Колорадо, которая практически течет на уровне моря; правда, на обратном пути к спальному вагону приходится взбираться на две тысячи метров.
Самый утомительный участок подъема предстояло одолеть после захода солнца, когда они достигли высот, где снег утратил прочность и стал опасно рассыпчатым. Гейзенберг молча шагал впереди, за ним следовали Нильс и Кристиан Боры, потом Карл Фридрих фон Вайцзеккер с фонарем в руке. Замыкал цепочку Феликс Блох как самый опытный и выносливый альпинист.
Мужчины запыхались, никто не говорил ни слова. Подъем шел медленно, потому что Бор, на два десятка лет старше остальных, уже немножко устал. Вскоре после десяти Гейзенберг, как он позднее писал в «Части и целом», неожиданно испытал странное ощущение – словно бы поплыл куда-то в ночном мраке. Снег вдруг окружил его со всех сторон, он больше не владел ни руками, ни ногами, с минуту даже дышать не мог, хотя голова находилась над поверхностью снежных масс. Потом все успокоилось. Гейзенберг выбрался из снега, обернулся к друзьям, однако в потемках не смог ничего разглядеть. «Нильс!» – крикнул он, но ответа не получил. И испугался, поневоле заключив, что лавина унесла его друзей. С огромным трудом откопал из-под снега лыжи, еще раз всмотрелся в ночь и далеко вверху заметил на склоне огонек – фонарь фон Вайцзеккера. Вот тогда-то Гейзенберг понял, что лавина унесла не друзей, а его; друзья остались на тропе. Он быстро надел лыжи и поднялся к остальным. Едва переводя дух, они заверили друг друга, что все в полном порядке, потом молча продолжили путь.
До лыжной хижины добрались на следующее утро по ослепительно белым снегам под темно-синим небом. После пережитого испуга и тяжкой ночи кататься на лыжах пока что не хотелось, они вооружились лопатами, очистили крышу хижины от снега и улеглись на солнышке. А когда наконец вновь обрели дар речи, заговорили отнюдь не о лейпцигском начальнике полиции, который своим указом запретил «Лейпцигер фольксцайтунг», и не об ордах штурмовиков, закрывших еврейский магазин «Хельд» на Мерзебургерштрассе, и не о том, что несколько дней назад город Лейпциг предоставил Гитлеру и Гинденбургу права почетного гражданства, а также и не о том, что в университете спешно уволили уже восьмерых профессоров.
Обо всем этом они не говорили, потому что стыдились собственного бессилия и потому что попросту не было слов, соразмерных катастрофе. Вот и обсуждали на фоне роскошной альпийской панорамы вопрос, могут ли наряду с нейтронами и отрицательно заряженными электронами существовать также положительно заряженные античастицы, как недавно сообщили их коллеги-англосаксы Дирак[32] и Андерсон[33]. Нильс Бор вытащил из рюкзака свежий номер «Физикал ревью», где был воспроизведен снимок камеры Вильсона, как будто бы подтверждающий это. На фото виднелся инверсионный след частицы, которая в камере Вильсона пробила свинцовую пластинку и пролетела мимо сильного магнита. И вот что удивительно: инверсионный след отклонялся не к магниту, как в случае отрицательно заряженного электрона, а прочь от магнита, что позволяло сделать вывод о положительном заряде.
Об этом пятеро мужчин говорили не один час. Снова и снова передавали журнал из рук в руки и, наморщив лоб, рассматривали фото, где помимо инверсионного следа виднелись только головки четырех шурупов да боковое ребро свинцовой пластинки, и искали объяснения странно искривленной траектории, пока солнце не скрылось за заснеженными горными вершинами.
Тогда компания ушла в дом. Гейзенберг затопил железную печку. Все пили грог, играли по маленькой в покер при свете керосиновой лампы, заводили на старом патефоне плохонькие пластинки со шлягерами, а поскольку с наступлением ночи в щели потянуло жгучим холодом, вскоре без долгих разговоров улеглись на соломенные тюфяки и уснули.
Наутро, поскольку снежный покров под солнцем окреп, они предприняли лыжный поход, а во второй половине дня опять устроились на крыше хижины и продолжили свою физико-философскую дискуссию; обо всем прочем они молчали. Гейзенберг не говорил о том, что теперь обязан открывать каждую лекцию гитлеровским приветствием. Карл Фридрих фон Вайцзеккер оставил при себе, что, конечно, считает ненависть нацистов к евреям примитивной, зато вновь обретенную немецким народом надежду – просто завораживающей; умолчал он и том, что через две недели примет участие в лейпцигских первомайских торжествах, где фюрер выступит с речью. В свою очередь Феликс Блох ни словом не обмолвился, что новый закон о государственных служащих от 7 апреля вынудил его декларировать своих еврейских деда и бабку, и не сообщил друзьям, что с 1 октября станет получать рокфеллеровскую стипендию в размере ста пятидесяти долларов в месяц и благодаря финансовой независимости может продолжить свои исследования где угодно на свете.
Так проходили дни. В пасхальный понедельник 16 апреля 1933 года каникулы закончились, все пятеро стали на лыжи и по короткому западному спуску съехали со своим багажом в долину между Байришцеллем и Ландлем. День выдался теплый и солнечный. Снег немного подтаял, но обеспечивал достаточно прочную опору. Внизу, в долине, где снег уже сошел, среди деревьев цвели перелески, а луга были усеяны желтыми первоцветами.
На постоялом дворе «Ципфель» атомные физики наняли пару лошадей и в открытой крестьянской повозке добрались сквозь баварскую весну до ближайшей железнодорожной станции. А так как все это время они не говорили ни слова о черной ночи, которая накрыла Германию и Лейпциг, университет и каждого из них, то и в поезде рассуждали только о погоде и расщеплении атомного ядра и молчали о неизбежном факте, что на мюнхенском главном вокзале их пути разойдутся. Нильс и Кристиан Боры, граждане Дании, возвратятся в Данию. Гейзенберг и фон Вайцзеккер, не желая бросить свой институт на произвол судьбы, сядут в поезд на Лейпциг, чтобы в годы варварства спасать свой островок культуры. А Феликс Блох в одиночестве поедет в Цюрих и больше никогда в жизни не ступит на землю Германии.
* * *
Вот так и вышло, что Эмиль и Лаура с двумя дочками в конце октября 1933 года пошли на вокзал и через Канны, Экс и Лион отправились на север. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы они прибыли в Швейцарию в один из прозрачно-ясных осенних дней, когда теплый ветер со снежных гор приносит в долины последнее дуновение уходящего лета, воздух снова полнится суетой насекомых, а женщины последний раз надевают легкие юбки. Тогда поездка от Женевы к Боденскому озеру могла бы стать для Эмиля Фраунхольца триумфом, ведь он мог бы показать Лауре багряную красоту осенних виноградников и величие белой гряды Альп, что всю дорогу тянулась бы за правым окном, возможно, они бы сделали остановку в Цюрихе и прогулялись по Банхофштрассе к озеру, полюбовались оперным театром и, глядишь, столкнулись с Феликсом Блохом, который в те дни жил у родителей на Зеехофштрассе и готовился к отъезду в Америку; разумеется, Феликс Блох и Лаура д’Ориано не узнали бы друг друга, и Лаура с мужем и детьми прошла бы к драматическому театру, потом мимо Художественного музея через Нидердорф и обратно к вокзалу; вероятно, тогда бы они добрались до Кройцлингена лишь поздно вечером и на последний автобус в Боттигхофен опоздали, ночевать пришлось бы в гостинице, а следующим утром, по-прежнему в хорошую погоду, они бы прокатились на красивом колесном пароходике по Боденскому озеру и лишь потом сели на автобус до Боттигхофена и явились к Эмилевым родителям.
Но получилось не так. Все время, пока они ехали в поезде, лило как из ведра, небо затянули такие черные тучи, что еще задолго до вечера совсем стемнело, вдобавок ледяной ветер с силой швырял струи дождя в стекла, так что при пересадке Эмилю и Лауре даже в голову не пришли туристические развлечения, они думали только о том, как бы уберечь от дождя чемоданы и детишек. Расстояние от Главного вокзала Кройцлингена до боттигхофенского почтамта автобус одолел в вечерних сумерках за двадцать минут, а пеший путь до усадьбы родителей занял четверть часа.
К дому они подошли в темноте. Чемоданы оставили в гостинице «Медведь», спящих дочек несли на руках. Дождь перестал. Эмиль громко позвал сперва отца, потом мать. Дверь открылась, родители в деревянных башмаках вышли на грязный двор, мать светила керосиновой лампой. Последовали неловкие приветствия и объятия, вновь прибывших пригласили в дом.
Детьми повосхищались, потом уложили их в кроватки, в горнице на столе стояли хлеб, колбаса, сыр да бутылка красного вина и кувшин молока. Отец на ломаном французском, какому выучился на военной службе, сказал Лауре добро пожаловать. Мать ободряюще улыбнулась ей, потрепала по плечу и радушными жестами предложила угощаться.
Лаура в свою очередь улыбнулась и через Эмиля сказала, что, к сожалению, пока что не понимает ни слова на швейцарском немецком, потом откинулась на спинку стула, слушая разговор свекра и свекрови с сыном, которого они уже пять лет не видели. Она смотрела на их растроганные лица и узловатые руки и говорила себе, что ей не составит большого труда несколько времени пожить в согласии с этими добрыми, миролюбивыми и прилежными людьми.
После ужина Эмиль с отцом поспешили в «Медведя» забрать чемоданы, а Лауре мать показала, где туалет и прачечная. Перед сном Лаура разложила вещи в шкафу с твердым намерением обжиться здесь и не думать сразу же об отъезде.
В Боттигхофене издавна было заведено в последнюю неделю октября вставлять зимние рамы и класть на подоконники подушки, похожие на колбасы. Лаура поняла, что зима будет холодной и долгой и что окна теперь накрепко заперты и до весны их уже не откроют.
Стояла самая унылая пора года. Ночи тянулись долго, а дни были так коротки, что утренние сумерки переходили прямиком в вечерние. Иногда выпадало немножко снегу. На выгонах мокрые коровы, повесив голову, бродили под голыми яблонями. Эмиль помогал отцу заново перекрыть гонтом крышу сарая. Лаура подсобляла свекрови на кухне, а чтобы дети дышали свежим воздухом, гуляла с ними в холмах над деревней.
На второй неделе свекровь дружелюбными жестами дала Лауре понять, что на улице холодно и, если она хочет прогуляться, дочек можно спокойно оставить с нею на кухне. А вернувшись с долгой, беззаботной прогулки, когда впервые невесть с каких пор следила только за своими шагами, Лаура застала девочек и их бабушку на кухне в атмосфере поистине безоблачного счастья. На другой день, когда она опять отправилась на прогулку в одиночестве, никто в доме и внимания не обратил, и отныне она всегда ходила гулять одна и отсутствовала сколько хотела.
Наверху, возле развалин замка Либбург, была скамейка, откуда Лауре открывался чудесный вид на Боденское озеро – свинцово-серое, оно терялось вдали, сливаясь у немецкого берега с туманом. Там она сидела каждый день, курила сигареты и зубрила швейцарско-немецкие слова, какие свекровь с застенчивой гордостью учила ее выговаривать на особый крестьянский манер. Лаура легко запоминала эти слова и упражнялась в звонкой, приятной окраске тургауского диалекта, который очень шел женщинам, а мужчинам придавал некую женственность, – упражнялась с прилежанием музыкантши, которая уже уловила правильный тон и достаточно честолюбива, чтобы в точности его воспроизвести.
Лаура твердо решила как можно скорее научиться говорить на швейцарском немецком по возможности без акцента, ведь в Боттигхофене она попала к добродушным, достойным любви и щедрым людям. Она хотела остаться у них, от добра добра не ищут.
А когда при спуске на грязный проселок, при виде приземистых крестьянских домишек и ворон, бродивших в полевых бороздах и склевывавших посевы, у нее сжималось сердце, она утешала себя мыслью, что после Рождества дни опять станут длиннее, а вскоре тысячи яблонь, которые сейчас черные и как бы неживые стояли на склонах Боттигхофена, глядишь, вновь оденутся бело-розовым цветом.
Но затем настало то солнечное утро, когда Лаура с корзиной постиранного белья вышла из прачечной, расположенной в небольшой сараюшке чуть поодаль от жилого дома. С крыш капала талая вода, на дорожке, ведущей во двор, стоял Эмиль Фраунхольц, приложив ладонь к щеке, как человек, который должен сообщить не слишком значительную, однако неприятную весть. Лаура остановилась, посмотрела на него.
Все в порядке? – спросил он.
Лаура кивнула.
Идешь развешивать белье?
Как видишь.
Лаура, послушай. Эмиль почесал затылок, искоса бросил на нее смущенный взгляд. Я вот спрашивал себя…
О чем?
Я спрашивал себя, не согласишься ли ты впредь развешивать свое белье не в палисаднике, а за домом. Возле козьего хлева.
Там нет веревки.
Мама вот только что протянула веревку.
За домом тень и нет ветра, сказала Лаура. Там белье никогда не просохнет.
Толстые вещи не просохнут, ты права, сказал Эмиль. Но тонкие вполне.
Значит, толстые вещи надо развешивать в палисаднике, а тонкие – за домом?
Только нижнее белье, сказал Эмиль. Только твое нижнее белье.
Только мое нижнее белье?
Так просит мама.
Твоя мама протянула веревку специально для меня? Для моего нижнего белья?
Эмиль кивнул.
Что она имеет против моего нижнего белья?
Ничего, не пойми превратно.
Вот как?
Просто люди могут увидеть твое белье, если вешать его в палисаднике.
Я ношу совершенно обыкновенное белье. Оно нисколько…
Дело не в этом, сказал Эмиль.
А в чем же?
Люди могут увидеть твое белье, вот и все. Дай мне, пожалуйста, корзину, я отнесу.
Лаура рассмеялась и отвернулась, чтобы он не мог забрать у нее корзину.
А нижнее белье твоей матери? Оно что, невидимое?
Да нет. Но по нему издали не разглядишь, кому оно принадлежит.
А по моему белью сразу увидишь?
Оно заметно издалека, сказал Эмиль.
Смешно, честное слово, сказала Лаура. Мое нижнее белье не менее добропорядочное, чем у твоей матери, видит Бог, я считаюсь с деревенскими обстоятельствами.
Да не в этом дело. Пожалуйста, дай мне корзину.
А в чем же дело?
По твоему белью люди с первого взгляда видят, что оно нездешнее. На нем словно написано твое имя, понимаешь? А нижнее белье моей матери – совершенно обыкновенное, местное, поэтому никто и не замечает, что оно принадлежит моей матери. Оно выглядит точно так же, как белье моей сестры. Или соседкино.
Что верно, то верно, сказала Лаура. Или как белье твоего отца.
Мама, кстати, находит твое белье очень красивым. Но люди могут сразу смекнуть, что оно твое.
Жаль, что мое белье тебе неприятно.
Ты должна понять, мы не в Марселе. Люди глядят на нашу бельевую веревку и зорко примечают, что за белье на ней развешено. А по воскресеньям в церкви готовы себе шею свихнуть да еще и ухмыляются, так как знают, что у тебя надето под юбкой.
Неужели правда?
Мне очень жаль.
Эмиль и Лаура смотрели друг на друга. Корзина с бельем стояла между ними. Больше слов не требовалось, оба все сказали и все поняли. Эмиль развел руками, повернув ладони вверх, как человек, просящий с пониманием отнестись к очевидным вещам. Лаура задумчиво кивнула.
Ладно, пойду за дом.
После обеда она сняла с веревки высохшее нижнее белье, отнесла в комнату и упаковала в старый, благородный чемоданчик вместе с юбками, туалетными принадлежностями и заграничным паспортом. Потом тихонько вынесла чемодан из дома и спрятала за поленницей.
После ужина она уложила дочек в постель, принесла угля для печки на ночь и опять вышла из дома, чтобы, как обычно, немного прогуляться в яблоневой роще и выкурить последнюю сигарету. А проходя мимо поленницы, одним плавным жестом вытащила чемодан, не спеша прошагала в конец яблоневой рощи, перелезла через забор и вдоль ручья прошла к мельнице, а затем вверх по холму. Добравшись до развалин Либбурга, она села на лавочку, бросила прощальный взгляд на темный ночной Боттигхофен и всплакнула – по дочерям и по Эмилю Фраунхольцу. Достала носовой платок, утерла слезы, поднялась и решительно отправилась на юг, к ближайшей железнодорожной станции.
Глава седьмая
Чем дольше Эмиль Жильерон оставался в Греции, тем больше денег оседало у него в карманах – не только греческих драхм, но и французских золотых франков, британских фунтов стерлингов, а также золотых марок и американских долларов. После десяти лет службы у Шлимана он давно стал вполне обеспеченным, чтобы выстроить на Женевском озере домик, красиво его обставить, а на оставшиеся средства довольно длительное время жить в приятном ничегонеделанье. Однако год за годом он откладывал возвращение домой. Каждые несколько месяцев получал письмо от матери, в котором она спрашивала, хорошо ли он питается в Греции, и тепло ли одет, и вообще, не тоскует ли по дому. Каждый раз он отвечал ей, что охотно вернулся бы прямо сейчас, но как человек женатый не может принимать важные решения в одиночку.
Пожалуй, он не грешил против истины. Его супруга при всяком удобном случае весьма прозрачно давала понять, что ей, коренной афинянке, было бы трудновато привыкнуть к мысли провести остаток своих дней в заснеженной горной долине за компанию с дикими волками и медведями. Вдобавок пришлось бы взять с собой ее овдовевшую мать и незамужнюю сестру, а также сына, Эмиля-младшего, который благополучно подрастает среди других мальчишек на улицах Афин.
Все это действительно мешало Эмилю Жильерону вернуться в Вильнёв. Но самым важным препятствием, о котором он скромно умалчивал, были деньги. Дела шли слишком хорошо, чтобы их оставить. Ведь при всей любви к богеме он в глубине души остался по-крестьянски бережливым сыном деревенского учителя, который не мог не собирать созревшие яблоки. А поскольку его яблоки вправду созрели и конца сбору урожая не предвиделось, он год за годом отодвигал возвращение на родину и против воли стал человеком оседлым и зажиточным.
В ту пору деньги стекались в Афины рекой. Генрих Шлиман с его троянскими открытиями вызвал повсюду на Западе доселе невиданное увлечение Грецией; если он объявлял, что отыскал сокровища Приама, то весь мир желал увидеть эти сокровища. Поскольку же сокровища Приама нельзя было одновременно выставить во всех музеях Берлина, Парижа, Лондона и Бостона, неудачливым соискателям требовались по меньшей мере точные копии с оригинала – причем за любую цену.
И эти копии обеспечивал им Эмиль Жильерон, самый подходящий человек для такой задачи. Во-первых, он лично присутствовал на местах раскопок, когда драгоценные сокровища спустя тысячелетия вновь извлекались на свет божий, а во-вторых, как художник умел оценить их ценность. В-третьих, он первый очищал и по частям собирал находки, если они были разбиты. А разбиты были почти все, ведь на них тысячелетиями лежала многотонная толща земли.
Эмилю Жильерону доставляло огромное удовольствие складывать кусочки мозаики, игрой с возможностями, которую так впечатляюще продемонстрировал Шлиману при первой встрече, он владел виртуозно; если недоставало важного кусочка, например левой руки золотой статуэтки, он лично спускался в раскоп и искал ее. И коль скоро найти эту руку никак не удавалось, делал эскиз, набрасывал, как по логике вещей она должна была выглядеть, и заказывал в Афинах доверенному ювелиру. Если же какая-нибудь ваза оказывалась так испорчена, что при всем желании не поддавалась восстановлению, он заказывал керамистам новую и собственноручно расписывал ее мотивами, найденными на черепках. Коль скоро результат его удовлетворял, он распоряжался изготовить три или четыре копии, а порой сразу десяток. Но прежде чем разослать свои копии в широкий мир, делал с них зарисовки акварелью и тушью, которые за хорошие деньги продавал в научную периодику, энциклопедии и дамские иллюстрированные журналы.
Так шли годы. Его первенец Эмиль подрастал, родились еще трое детей – Гастон, Джемма и Люси. Квартира стала тесновата. К тому же теща состарилась, пришлось взять ее к себе, а вместе с нею служанку и незамужнюю свояченицу. Поэтому Жильерон выстроил для своего греческого семейства просторную виллу – на холме, на северной окраине города, где еще паслись овцы и земельные участки стоили недорого. На это, конечно, ушли все его сбережения, зато он имел прекрасный вид на Акрополь, да и деньги вложил удачно, ведь город быстро рос и скоро проглотит свободные пустыри. Только вот касса опять опустела. Эмиль Жильерон, совсем недавно состоятельный молодой человек с блестящими перспективами, внезапно осознал, что он глава семейства, обремененный огромной ответственностью и многочисленными финансовыми обязательствами. Спору нет, он еще долго останется на службе у Шлимана.
Когда его первенцу сравнялось пять, открылось чудо: мальчик унаследовал отцовский талант. Как только Эмилю-младшему дали карандаш и бумагу, он принялся рисовать все вокруг – родителей и младших братьев-сестер, вазу с фруктами на столе, старую торговку дровами на углу улицы, – причем необыкновенно четко, необыкновенно точно и верно во всех деталях и с тем же равнодушием к собственному дарованию, какое отличало в юности и его отца. Эмиль-старший со смешанными чувствами наблюдал, как сын на глазах у туристов мгновенно набрасывал весьма недурственные эскизы Акрополя и немедля продавал их за хорошие деньги. С одной стороны, он радовался, что мальчику передались его способности и что, продавая свои работы, тот выказывал коммерческую ловкость. С другой же стороны, огорчался, ведь, коль скоро его артистичность не более чем результат менделевской теории наследственности, личные его заслуги стоят не очень-то много. Но, прекрасно понимая, какие деловые перспективы откроются перед совместным предприятием отца и сына, Эмиль-старший уже в скором времени стал брать младшего с собой на раскопки и по мере сил обучал его всем приемам художественного творчества.
Однако вскоре после Рождества 1890 года Генрих Шлиман скончался в ужасных муках от гнойной опухоли среднего уха, которую немецкие врачи тщетно пытались оперировать. Молодая вдова, конечно, не замедлила объявить миру, что в память мужа намерена продолжить его археологические изыскания, но с глазу на глаз рекомендовала Эмилю Жильерону спешно искать себе другое дело, так как у нее и в мыслях нет транжирить свое состояние на нелепые гомеровские фантазии.
Для Эмиля Жильерона это труда не составило, за минувшие годы он достиг выигрышного положения как самый лучший, самый знаменитый и самый высокооплачиваемый во всей Греции рисовальщик древностей. Деньги, впрочем, у него в карманах не задерживались, ведь его большая семья привыкла к определенному образу жизни. Но Французский институт археологии регулярно приглашал его научным консультантом и ценил его услуги, потому что, когда требовалось, он умел отбросить шлимановские мечтания и сочетать ремесленные навыки с величайшей академической точностью и добросовестностью. Попутно он давал уроки живописи детям греческого королевского дома и так часто бывал во дворце, что королевские собаки уже не лаяли, когда он шел короткой дорогой через дворцовый сад; на второй год королева разрешила ему держать в вестибюле домашние туфли. А в 1896 году, когда состоялись первые Олимпийские игры Нового времени, принц Николай от имени Олимпийского комитета поручил ему разработать серию марок для греческой почты.
Главным же источником доходов после кончины Шлимана было изготовление точных копий для международного рынка. Вот почему для него стал тяжелым ударом закон, принятый греческим парламентом в 1899 году и под страхом пятилетнего тюремного заключения запрещавший экспорт античных артефактов и изготовление и продажу имитаций. И хотя Эмилю Жильерону оказалось несложно втайне продолжать производство на неприметных задних дворах и секретными путями переправлять изделия за границу, число заказов резко упало, поскольку крупные музеи вроде Британского музея и Лувра не могли допустить в свои фонды экспонаты неясного происхождения.
Доходы сокращались, а потребность в деньгах оставалась велика. Эмиль был уже немолод, приближался к пятидесяти, густая его эспаньолка мало-помалу поседела, вдобавок он привык к определенным удобствам. В свою очередь жена, теща и свояченица привыкли к определенным расходам на хозяйство и на личные нужды, а Эмиль-младший, которому исполнилось пятнадцать и который начал носить синие куртки, посещал французскую гимназию и на досуге предавался дорогостоящим развлечениям местной золотой молодежи.
Потому-то письмо с Крита, пришедшее в начале апреля 1900 года, стало для Эмиля Жильерона спасением – в этом письме его приглашали спешно помочь на раскопках. Отправителем был английский рантье по имени Артур Эванс[34], с которым Жильерон познакомился в восьмидесятые годы на раскопках в Тиринфе и Микенах. Эмиль знал, что Эванс, сын успешного бумажного фабриканта, получал в английских фунтах щедрую ренту, обеспечивавшую ему в нищих средиземноморских странах практически неисчерпаемое богатство. С тех пор как его жена Маргарет умерла в Алассио от чахотки, он носил только черные галстуки, пользовался писчей бумагой с траурной окантовкой и путешествовал по берегам Средиземного моря как одинокий вдовец, интересующийся археологией.
Эванс был чрезвычайно близорук и фактически ничего не видел на расстоянии вытянутой руки, однако из тщеславия отказывался носить очки. Когда бывал на раскопках, он, не видя почвы под ногами, передвигался ощупью, с помощью трости. Зато вблизи его голубые глаза видели все необычайно зорко, и нередко он замечал детали, ускользавшие от других.
Артур Эванс был человек умный, тонкий и терпеливый. Со времен шлимановских раскопок его снедало желание сделать открытие сходного масштаба и тем придать своей праздной жизни значение, какого она дотоле не имела. После смерти жены он отправился на Крит и южнее столичного города Кандии, на зараженном малярией холме Кефала, где издавна предполагали поселение бронзового века Кносс, всеми правдами и неправдами сумел за шесть лет скупить все овечьи пастбища и оливковые рощи.
А затем, получив наконец все разрешения на раскопки, утром в пятницу 23 марта 1900 года он выехал из города на осле к той таверне, возле которой его ждали несколько сотен женщин и мужчин всех возрастов, и нанял тридцать два человека в качестве землекопов, лопаточников, носильщиков и мойщиц. Потом он снабдил их инструментом для ведения раскопок и промывки и повел в оливковые рощи с твердой целью найти там высокоразвитую древнюю европейскую культуру, сравнимую с культурой фараонов и шумеров.
И Эванс нашел, поскольку совершенно точно знал, что ищет.
После нескольких дней не слишком продуктивных пробных раскопок он отправил рабочих на вершину небольшого холма, поднимавшегося посредине равнины. Там обнаружилось множество доисторических стен, в странном порядке они тянулись то параллельно, то под прямым углом и очень близко, почти вплотную друг к другу на площади нескольких гектаров. Артур Эванс сразу понял, что перед ним: лабиринт царя Миноса, родного сына Зевса и Европы, лабиринт, где Тесей убил пожирающего людей Минотавра и благодаря красному шерстяному клубку царевны Ариадны сумел найти выход. Когда же затем у подножия одной из стен открылась большая чаша для воды, Эванс отождествил ее с ванной Ариадны. А найдя в одном из помещений вытесанное из камня кресло с высокой, вделанной в стену спинкой, Артур Эванс ни на миг не усомнился, что перед ним трон царя Миноса.
Конечно же это были домыслы в чистейшей шлимановской традиции, ведь, если разобраться, трон был просто каменным креслом четырехтысячелетней давности, а водная чаша – просто чашей, да и о стенах, по правде говоря, можно было разве что сказать, что они состояли из грубо обтесанных камней и в совокупности образовывали скопление из тысяч маленьких помещений, которые до того, как четыре тысячи лет назад их разрушило землетрясение, служили неведомому народу для неведомых целей.
Но из земли между стенами рабочие извлекали находки, превосходившие все ожидания: в решетах обнаруживалось множество изысканной керамики, а также украшения и печати тонкой работы, каменные и медные сосуды для воды, филигранные фигурки из слоновой кости, вдобавок сотни глиняных табличек с письменами на неведомом языке, которые Эванс трактовал как первые законодательные тексты на европейской почве. Самым же важным из всех открытий было вот что: стены Кносса сверху донизу покрывала многоцветная фресковая живопись, которой свидетельствовала о себе богатая и оптимистичная культура – Эванс назвал ее минойской.
Отдельные фрагменты расписной штукатурки еще держались на стенах, но сотни и тысячи обломков отвалились и, сияя красками, лежали в земле, откуда рабочие выкапывали их лопатами и отправляли в решета. На одних фрагментах виднелись человеческие руки, ноги и уши или геометрически размещенные линии, розы и папоротники, на других – бычьи рога, павлины и фазаны, обезьяньи хвосты, собаки, оливковые деревья или парусные корабли. Иные обломки были величиной с суповую тарелку, другие – маленькие, с ноготь, и беспорядочно разбросаны повсюду, теперь же, когда эти обломки откопали, ничто не защищало их от воздействия атмосферы, от сапог рабочих или козьих копыт. Чтобы находки не рассыпались пылью, было необходимо спешно укрыть их в безопасном месте, очистить и соединить. А такую задачу – Артур Эванс это знал – мог решить Эмиль Жильерон, и никто другой.
Получив приглашение от богатого англичанина, Жильерон, должно быть, бросил в Афинах все дела. Рейс пакетботом из Пирея в Кандию при хорошей погоде продолжался полтора дня, поездка в деревянном седле на муле от гавани в Кносс – полтора часа. Десятого апреля 1900 года Артур Эванс записал в блокноте, что Жильерон прибыл на раскопки и тотчас начал сортировать фрагменты.
На это стоило бы посмотреть. В те дни дул нот, мягкий, теплый южный ветер, который несет из-за моря песок Ливийской пустыни, по пути насыщается влагой и придает критскому небу неприятный желтый цвет. Можно представить себе двоих мужчин в оливковой роще, они стоят, обливаясь потом, в тени большого брезентового навеса у широкого стола и, как школьники за игрой в мозаику, с увлечением передвигают так и сяк четырехтысячелетние фрагменты, прикладывают лазурные кусочки к лазурным, а ярко-красные – к ярко-красным и победоносно жмут друг другу руки, когда кусочки в точности подходят один к другому. Но такие удачи случались редко, маленькие связные островки всегда оказывались окружены большими пространствами зияющей пустоты. А поскольку человек по природе своей мысленно не терпит пустоты, уже в скором времени Эванс и Жильерон начали строить предположения насчет того, что некогда находилось в пробелах между кусочками, где сейчас видны лишь доски стола.
Этого нам никогда не узнать, сказал Жильерон, такие разговоры были ему хорошо знакомы, и он теперь воспользовался случаем выяснить душевную механику своего нового работодателя.
Конечно, нет, сказал Эванс. Но просто удовольствоваться фрагментами, лежащими сейчас перед нами, очень уж убого. Они же почти ничего не говорят, вы согласны?
Увы, так оно и есть, сказал Жильерон.
И ведь не надо обладать буйной фантазией, чтобы дорисовать себе тут и там, как продолжался рисунок.
Разумеется.
Например, у нас есть колено, а значит, продолжением наверняка были бедро и ступня, верно? А с противоположной стороны, весьма вероятно, прошу прощения, находился зад. И если на заднем плане стоят восемь пальм, не будет ошибкой при необходимости удлинить их вереницу до девяти и десяти. Как вы считаете?
Я прекрасно понимаю, сказал Жильерон. Всегда можно немножко пофантазировать, в конце концов мир имеет свою логику. Замечу только, что с чисто научной точки зрения того, чего нет, быть не должно. Наука, как вы знаете, принимает в расчет только факты.
Ах, наука с ее фактами, сказал Эванс. В ней тоже полно пробелов.
Разумеется, сказал Жильерон. Но она обязана заявлять об этих пробелах и жить с ними, пока они существуют.
Наоборот! – воскликнул Эванс. Как раз ученые первыми и приправляют свои неполные знания мечтами… не могут не приправлять! А уж археологи и историки вообще ничего бы не смогли рассказать, если бы строго придерживались эмпирических данных. Вся наука – это рассказ, она перескакивает от факта к факту через пробелы в знаниях. Факты суть мельчайшие неделимые частицы науки, и между ними зияют вселенные пустоты. Или вам известен хоть один ученый, способный при истолковании своих фактов обойтись без метафизики?
Нет, не известен, согласился Жильерон.
А знаете, что останется от науки, если она будет строго держаться фактов и ничего не домысливать?
Мало что.
Вовсе ничего. Тупое перебирание фактов. Ничего, кроме убогого перебирания мертвых фактов.
Тут вы, пожалуй, правы, сказал Жильерон.
Вот видите, оттого-то мы обязаны заполнить пробелы. Человеческое знание всегда фрагментарно, такова наша судьба. В конечном счете именно поэтому в наших сердцах живут вера, любовь и надежда – чтобы мы могли соединять меж собой обрывки наших знаний и верить, что все это имеет смысл. Вы так не считаете?
Совершенно с вами согласен, сказал Эмиль Жильерон, он уже вполне понимал нового работодателя и теперь хотел только выяснить, какие образы носил в своей душе Артур Эванс.
Стало быть, вы думаете, осторожно спросил он, что перед нами действительно дворец царя Миноса?
Позвольте мне объяснить, сказал Эванс. Мне кажется совершенно очевидным, что здесь перед нами самый большой и самый красивый дворец, когда-либо построенный на Крите. Вы согласны?
Похоже на то, сказал Жильерон.
В таком случае встает вопрос о строителе. Кто построил самый большой и самый красивый дворец на Крите? Ответ можно найти у Гомера, Гесиода и Геродота, тут у них нет разногласий. Как по-вашему, кто построил самый большой и самый красивый критский дворец?
Царь Минос, сказал Жильерон, скрывая нетерпение, ведь Эванс обходился с ним, как со школьником.
Вот видите. И в каком месте на Крите мог располагаться дворец Миноса, если не здесь? Разве еще где-нибудь на острове находили постройку такого масштаба и такой роскоши? Или поставим вопрос наоборот: кто мог бы построить этот гигантский дворец, если не царь Минос?
Прояснив ситуацию, они взялись за работу. Отныне широкий стол под белым навесом стал рабочим местом Эмиля Жильерона, рабочие несли к нему все остающиеся в решетах фрагменты. Артур Эванс увеличил число рабочих сперва до сотни, а затем до ста сорока. Для себя он распорядился поставить армейскую палатку на краю участка раскопок и поднял рядом «Юнион Джек».
По утрам Эванс и Жильерон еще до рассвета были на раскопках, а вечером, в сумерках, уходили последними. Оба они, ровесники с разницей в несколько месяцев, трудились сообща, как неравная супружеская чета. То, что близорукий Эванс обнаруживал в деталях, Жильерон помещал в крупномасштабные взаимосвязи, заранее ими домысленные. Почва оставалась по-прежнему тяжелой и сырой от зимних дождей, малярийные комары расплодились как на дрожжах. Жильерона малярия пощадила, Эванс тяжело захворал. Когда был уже не в силах стоять на ногах, лег на армейскую походную койку возле своей палатки и велел рабочим приносить ему все находки для первичной оценки.
Несмотря на озноб и диарею, весной 1900 года Эванс провел на раскопках Кносса счастливейшие дни своей жизни. Находки превзошли его самые смелые ожидания. Он действительно отыскал древнюю, неизвестную до сих пор высокоразвитую культуру, чья живость и утонченность затмевала открытия Шлимана. Минойцы не только оставили письменные свидетельства – Шлиман тщетно искал их в Трое, Тиринфе и Микенах, – образный язык их росписей говорил о любви к спонтанному и импровизированному, о постижении мимолетной красоты прожитого мига, в сравнении с чем искусство древних египтян, шумеров и греков невольно казалось застывшим и неподвижным.
К тому же островное минойское царство Артура Эванса, коренного англичанина, во многом напоминало его викторианскую родину. Он не сомневался, что Кносс, в точности как Лондон, не мог разбогатеть за счет скудных почв острова. И отсюда сделал вывод, что минойцы, как и британцы, были народом моряков и торговцев, защищавшим свою огромную колониальную державу сильной армией. И держава царя Миноса незадолго до заката, который предстоял и викторианской империи, конечно же достигла последнего, высочайшего расцвета – «дивный сей алмаз в серебряной оправе океана, который словно замковой стеной иль рвом защитным ограждает остров»[35], как писал Шекспир.
Величайшее удовольствие Эвансу доставляло то, что все находки превосходно вписывались в картину, какую он составил себе по гомеровскому описанию дворца Миноса. Лабиринт, наружная лестница, трон – все на месте. Недоставало только танцевального зала из алебастра, сооруженного Дедалом для царевны Ариадны, прежде чем он вместе с сыном Икаром бежал по воздуху на самодельных крыльях.
Потому-то возник большой переполох, когда 3 и 4 мая 1900 года рабочие нашли в только что расчищенном помещении восемь фрагментов фрески, – сложенные вместе они составили хрупкий торс с голубоватой кожей, в склоненной позе, со странно вывернутыми руками и ногами. Артур Эванс с первого же взгляда уверился, что перед ним изображение танцующей девушки, а стало быть, расчищенное помещение – танцевальный зал Ариадны, тем более что пол выложен белым алебастром. Эванс зафиксировал находку в своем блокноте, потом спросил, каково мнение Жильерона. Тот давно привык соглашаться с работодателем, однако рекомендовал сначала как следует расчистить фрагменты. Так и сделали, и Эванс не мог не признать, что безголовая фигура слишком мускулистая и узкобедрая, чтобы сойти за девичью, и что голубой юноша, как его с тех пор называли, вовсе не танцует, а собирает на цветущем лугу шафран. Он зачеркнул в блокноте танцующую девушку и записал новые сведения, меж тем как Жильерон смешал гипс, цемент и пигментные краски, снабдил голубую фигуру человеческим лицом и дополнил фон, создав сплошное поле цветущего шафрана.
Под именем «Blue Boy»[36] этот портрет вошел в историю искусства как трогательный образец легкости и человечности минойского искусства и сохранил за собой это место, даже когда много лет спустя нашлись дополнительные кусочки мозаики и оказалось, что Blue Boy вовсе не юноша, а собирающая шафран обезьяна, чей длинный, изогнутый хвост Жильерон не распознал как таковой и поместил на цветущем лугу далеко от обезьяны.
Словом, работа продвигалась. Шестнадцатого мая 1900 года рабочие обнаружили комнату, стены которой были украшены изображениями быков и сцен борьбы. Артур Эванс заключил, что добрался до самого сердца минойского Лабиринта – до подлинного обиталища Минотавра, где каждые девять лет семь афинских юношей и девушек находили печальный конец.
В свою очередь Эмиль Жильерон понимал, что Артуру Эвансу необычайно важно представить мировой общественности яркие и выразительные сцены схваток с быком. Но сложность состояла в том, что фрагменты очень различались по структуре, окраске и толщине, потому что были обломками разных фресок и украшали разные стены. Взятые по отдельности, почти все они являли собой не более чем бурые пятна и говорили едва ли больше, чем комья земли на козьем пастбище, поэтому Эмиль, разложив их на столе, долго передвигал так и этак, пока они, невзирая на свое различное происхождение, не соединились в прелестную, прекрасно скомпонованную сцену схватки с быком, то есть пока фрагменты не вписались в сцену схватки с быком, которую Жильерон придумал заранее.
В итоге получилось вот что: роскошный бык в стремительном галопе, у него на спине юноша делает стойку на руках, справа и слева – две девушки, одна держит быка за рога, а вторая, стоя позади животного, протягивает вперед руки, словно желая помочь юноше спрыгнуть наземь. Конечно, это противоречило здравому смыслу, ведь никогда и нигде человеку даже в голову не приходило хватать за рога взрослого бегущего быка, да и стоять на руках на спине исполина, мчащегося со скоростью километров тридцать в час, совершенно невозможно, а что до девушки позади означенного парнокопытного, то она очутилась там не иначе как намереваясь покончить с собой.
Но Артур Эванс был в восторге.
Потрясающе! – сказал он Жильерону. Несомненно, ритуальное человеческое жертвоприношение минойскому богу-быку, как вы полагаете?
Возможно, сказал Жильерон, лишний раз удивившись, что все археологи, каких он знал на своем веку, при виде изображений молодых людей невольно принимались фантазировать о ритуальном убийстве. Впрочем, не исключено, осторожно прибавил он, что речь идет о спортивном состязании или какой-нибудь игре.
Ритуальное человеческое жертвоприношение, упрямо повторил Эванс. По-моему, все ясно.
Прошу вас принять в соображение, что факты были весьма слабоваты, сказал Жильерон, мне пришлось позволить себе множество вольностей.
Понимаю, сказал Эванс. Но в счет идет только результат.
Всегда есть риск, сказал Жильерон. Ведь ступаешь на скользкую почву.
Но дело того стоило, вскричал Эванс, чудесная схватка с быком! Что бы мы имели без вашей дерзости – несколько бурых пятен?
И Эмиль Жильерон продолжил работу в таком же духе.
Чуть севернее, в непосредственной близости от тронного зала, рабочие расчистили помещение, стены которого украшали многочисленные изображения женских фигур. От одних сохранились лишь ступни и подолы юбок, от других – глаза или обнаженное плечо, но Эмиль Жильерон восполнил пробелы, поскольку женскому телу тоже присуща своя логика. Когда он закончил работу, фрески сияли целостной свежестью, будто минойские женщины позировали художнику только вчера; иные склоняли головы друг к дружке, будто обменивались новейшими минойскими сплетнями, иные чокались винными кубками, а двенадцать удивительным образом сидели на подобии складных стульев с тонкими металлическими ножками, и у всех были длинные черные волосы, причем кое у кого на лоб падал кокетливый локон. У всех огромные миндалевидные глаза, чувственные, ярко-алые накрашенные рты, у некоторых гимнастические туфли без каблука, короткие юбки и блузы, открывающие шею, словно они пришли с теннисного корта, другие одеты в коротенькие, тесные болеро, гордо выставляя напоказ обнаженную грудь, тогда как третьи носили прозрачные рубашки, вплели в волосы пестрые ленты и самоуверенно вскидывали подбородок, будто говоря: Следуйте за мной, молодой человек.
Артур Эванс опять пришел в восторг, а когда картины Жильерона стали всеобщим достоянием, ученый мир охватило возбуждение. Для усталой от техники Европы стало сущим благодеянием обрести свои культурные корни в столь утонченной, радостной и оптимистичной цивилизации, совершенно чуждой строгости классической Греции. К тому же минойская культура с ее цветочными орнаментами напоминала иным зрителям стиль модерн, который в те годы был популярен от Мюнхена, Парижа, Брюсселя и Лондона до самого Нью-Йорка.
Однако некоторых раздражало, что кносские фрески выглядели такими современными и никакой древности в них не чувствовалось. «Mais, ce sont des Parisiennes!»[37] – воскликнул проезжий археолог и историк искусства Эдмон Поттье, увидев жильероновских красоток на складных стульях, а британский писатель Ивлин Во сказал, что не берется судить о минойской культуре, поскольку максимум десятая доля выставленных фресок старше двадцати лет, и вообще невозможно отделаться от впечатления, что от восторга перед титульными иллюстрациями «Вога» реставратор позабыл о своей ремесленной тщательности.
Глава восьмая
После полуторачасового пешего перехода по заснеженным ночным лугам и полям Лаура д’Ориано со своим чемоданчиком, наверно, добралась до Вайнфельдена, откуда в 22.48 отходил по расписанию последний пассажирский поезд. Если она на него успела, то в 0.23 приехала на цюрихский Главный вокзал и там, поскольку следующий поезд на Женеву отправлялся только в 6.34, провела ночь в зале ожидания второго класса, на деревянной скамейке. Той ночью новая встреча с Феликсом Блохом состояться не могла, потому что в конце марта 1934 года его уже не было в Цюрихе, он находился в другом полушарии, где стоял белый день.
Уезжать в Америку Феликс не планировал, все случилось внезапно, как то прозрение, что привело его от производства чугунных канализационных крышек в атомную физику. После последнего лыжного отпуска с Гейзенбергом он вернулся к родителям на цюрихскую Зеехофштрассе, чтобы бесплатно прожить там лето и дождаться октября, когда возобновятся выплаты рокфеллеровской стипендии. Вспомнив привычки юности, он купался в Цюрихском озере и совершал походы в Гларнские Альпы. По субботам ходил в Летцигрунд на футбол. Вполне возможно, съездил разок на велосипеде в Кюснахт, ознакомился в литейной Фрица Кристена с новейшими достижениями в области литья канализационных крышек. По понедельникам посещал коллоквиум Института теоретической физики, где обсуждали главным образом недавно открытый нейтрон. Вечерами читал специальные журналы, где опять-таки много места отводилось нейтрону.
Весь мир летом 1933 года говорил о нейтроне, за долгое время это было самое волнующее открытие в физике и величайшая надежда экспериментальных исследований. Нейтрон не имел ничего приблизительного и расплывчатого, а главное, его можно было использовать как «снаряд», ведь ни положительно, ни отрицательно заряженные частицы его не отклоняли, он всегда летел по прямой. Феликс Блох догадывался, что в лаборатории с ним можно кое-что сделать – кое-что большее, чем с электронами, о которых по-прежнему доподлинно неизвестно, совершают ли они прыжки в длину или в высоту либо еще что-нибудь этакое.
Вот почему он решил предпринять на свою рокфеллеровскую стипендию атомно-физическое путешествие по Европе и приобщиться к новейшим результатам исследования нейтронов. Прежде всего надо наведаться в Рим к Энрико Ферми[38], который поставил перед собой задачу подвергнуть бомбардировке нейтронами один за другим все элементы периодической системы и посмотреть, что получится. Потом он заглянет в Копенгаген к Нильсу Бору и расскажет ему о своей идее, что нейтроны, хотя и нейтральны электрически, все же могут обладать магнитным зарядом. А после на месяц-другой поедет в Кембридж к Джеймсу Чедвику, который вообще первым экспериментально доказал существование нейтрона.
Таков был план, но вышло по-другому. Ведь летом 1933 года с каждым днем становилось все яснее, что невинным образовательным поездкам в Европе скоро и надолго придет конец. В Цюрихе повсюду развешены флаги и знамена, в университетской галерее патрулировали охранники Национального фронта в серых мундирах. Его друзья Фриц Лондон и Вальтер Гейтлер эмигрировали в Великобританию, как и его учителя Эрвин Шрёдингер и Ханс Бете[39]. Альберт Эйнштейн публично заявил в Америке, что в обозримом будущем в Европу не вернется. Даже Фриц Габер, немецкий патриот и ветеран отравляющих газов Первой мировой, из протеста против зверств национал-социалистов сложил с себя посты в Берлине и принял профессуру в Кембридже.
Летом 1933-го было очевидно, что шестеренки военной машины снова пришли в движение и рано или поздно она раскрутится так, что ее уже не остановишь. Каждое утро Феликс читал в газете о переполненных концлагерях и драках в залах парламента, о сожжении книг в немецких университетах и о расстрелах кулаков в Советском Союзе, о спуске на воду огромных военных кораблей и о нехватке угля, ужесточении визового режима, массовой безработице, приобщении к господствующей идеологии, погромах, ремилитаризации и голодных бунтах.
Таково было положение вещей, когда пришла телеграмма, в которой декан Стэнфордского университета предлагал ему профессуру по теоретической физике. Феликс понятия не имел, где на свете находится Стэнфорд, но, поскольку предложенное жалованье было указано в долларах, предположил, что это в Америке.
Десятидневное плавание через по-зимнему суровый Атлантический океан стало в его жизни первым морским путешествием; минуло восемь дней, пока его желудок привык к килевой и бортовой качке. А когда он наконец сошел на берег в гавани Нью-Йорка, то с удивлением вновь ощутил дурноту, потому что желудок неожиданно отреагировал на спокойствие terra firma[40] этакой обратной морской болезнью.
До продолжения путешествия предстояло убить двадцать часов, поэтому он слонялся по Манхэттену, разглядывая все вокруг – небоскребы, широкие улицы, большие автомобили, – но, к собственному разочарованию, восторга не испытывал. Небоскребы действительно были очень высокие, а улицы – необычайно широкие, шире, чем иные переулки Старого Цюриха в длину, и автомобили были огромные, блестящие, как рождественские елки, а по тротуарам катился густой, бесконечный людской поток.
Пожалуй, именно по причине ослабленного состояния Феликс Блох нашел эту всеобъемлющую огромность хотя и впечатляющей, но не особенно интересной. В его глазах манхэттенские небоскребы, сколь ни высоко они устремлялись к небу, были всего лишь практичными домами с окнами и дверьми, в которые входили и выходили люди. Улицы, шести– и восьмиполосные, все равно оставались улицами, по которым ехали легковые и грузовые машины. А машины под хромом, лаком и сантиметровой толщины кузовом имели опять-таки четыре колеса, как и автомобили повсюду на свете. Ну а что до людей, то они были просто людьми. Различались, конечно, цветом кожи, волос и глаз, и никого из них Феликс Блох не знал, но чуждыми они не были. Люди есть люди. Повода для волнений нет.
Следующим утром он пошел на вокзал Гранд-Сентрал, где уже стоял поезд, который пересечет весь континент и доставит его на другой конец Америки. Стоя под куполом большого, безупречно белого и ярко освещенного вокзала, грандиозностью превосходившего все человеческие мерки, всякий здравый смысл и всякую целесообразность, он впервые затосковал по старой, хмурой Европе.
Дорога на поезде заняла четверо суток. Феликс проехал через предместья Чикаго, миновал бесконечные мосты, на головокружительной высоте перекинутые через Миссисипи и Миссури. Проехал через Скалистые горы и вдоль реки Колорадо по оранжевым, желто-бело-полосатым и лиловым каньонам; за окном купе он видел пасущихся лосей, бегущих оленей и кружащих орлов. Поезд сделал остановку в Солт-Лейк-Сити, в Рино и Вирджиния-Сити, одолел Сьерра-Неваду и спустился в плодородные долины Калифорнии, где фермеры трижды в год собирали урожай яблок, а goldnuggets[41] открыто лежали в полевых бороздах. В конце четвертых суток за правым окном появился мост Золотые Ворота, а вскоре поезд наконец-то остановился в весьма скромном вокзале Сан-Франциско.
За эти четверо суток Фелиск Блох по многу часов смотрел в окно и в финале путешествия сделал вывод: в здешних краях ему понадобится автомобиль. Он, конечно, вовсе не думал, что американский ландшафт значительно просторнее европейского, ведь по его наблюдениям гора и в Америке гора, а река – река. В километре и здесь не больше тысячи метров, а расстояние от Нью-Йорка до Сан-Франциско, объективно говоря, куда меньше расстояния от Лиссабона до Москвы. К тому же американцы, насколько Феликс Блох мог судить, глядя в окно, жили в стороне от метрополий исключительно в городках европейского образца, где насчитывалось несколько тысяч жителей, несколько ресторанчиков да приходская церковь.
Разница заключалась лишь в том, что городки эти располагались не на обозримом расстоянии один от другого, их разделяли бесконечные просторы, где хватило бы места всему Шварцвальду, половине Альп или всей Тоскане, а отцу семейства, пожелай он в воскресенье после заутрени купить на завтрак свежего хлеба, пришлось бы по дороге из церкви в булочную пересечь три каньона и прерию с десятком тысяч пасущихся бизонов.
В здешних краях ему понадобится автомобиль, это Феликс Блох понял уже в конце путешествия, когда с чемоданом в руках стоял на вокзале Сан-Франциско. Он подозвал такси и попросил отвезти его к ближайшему торговцу подержанными автомобилями, где за считанные минуты выбрал почти не ржавый «шевроле-спортстер» выпуска 1928 года – колеса с деревянными спицами, капот покрыт бордовым лаком, мотор, судя по звуку, работает довольно гладко. Поскольку Феликс никогда в жизни за руль не садился, продавцу пришлось объяснить ему, как машина действует, и проехать с ним несколько кругов по территории фирмы, после чего Феликс рывком-броском выехал из города, направляясь за тридцать километров к югу сквозь вечную весну этой благословенной земли.
Поездка по новенькому асфальту четырехполосного bayshore highway[42] продолжалась около часа. Справа за окном виднелись отлогие волны холмов, напомнившие ему швейцарскую Юру. Слева он видел длинноногих птиц, бродивших в серой солоноватой воде залива Сан-Франциско. Дорога была без пыли, ровная и твердая. Глядя вперед, он видел по обе стороны черной асфальтовой ленты телеграфные столбы, огромные рекламные щиты и гаражи, а также бензозаправочные станции и придорожные кафе самого фантастического вида, похожие то на индийские храмы, то на огромные лимоны, то на исполинские пряничные домики или индейские вигвамы. Впереди и позади катили шикарные блестящие машины, в которых сидели один или двое людей, автобусы, огромные как соборы, а нередко и дребезжащие «форды», тощие пассажиры которых веревками привязали на крыше и на подножке кухонную утварь, палаточные колья и чемоданы.
В Пало-Альто Феликс свернул направо. За вокзалом выехал на километровую пальмовую аллею, которая сквозь негустой парк с экзотическими деревьями вела к Стэнфордскому университету. Он припарковал машину, прошел под романской, богато украшенной рельефами аркой ворот и очутился перед приземистой, выдержанной в неовизантийском стиле церковью, к которой примыкали грубо обтесанные песчаниковые аркады, образовывавшие прямоугольник и своими терракотовыми черепичными кровлями напоминавшие мексиканскую асьенду, средневековый романский монастырь или воплощенную в камне историческую фантазию оторванного от родной почвы железнодорожного магната.
Позднее, когда журналисты расспрашивали Феликса Блоха о прибытии в Стэнфорд, он вспоминал приветливые лица, крепкое рукопожатие декана и приятное ощущение, что его встречают с распростертыми объятиями и искренне ему рады. Вспоминал он и импровизированную вечеринку, устроенную доцентами в его честь, и свою растерянность при виде загорелых и с виду веселых студенток и студентов, которые все без исключения выглядели так, будто только что пришли с пляжа и вот-вот опять уйдут на барбекю.
В апреле 1934-го Стэнфорд и правда походил на загородный клуб для богатой молодежи. В кампусе в их распоряжении было просторное поле для гольфа с двадцатью четырьмя лунками, слывшее самым красивым на всем тихоокеанском побережье, кроме того, имелись два искусственных озера, где происходили парусные соревнования и гребные регаты, а еще поле для поло, футбольный стадион на девяносто тысяч зрителей и несметное количество превосходно оснащенных гимнастических, физкультурных и спортивных залов в классическом стиле, из белого мрамора, с закрытыми бассейнами, площадками для гандбола и кегельбанами.
В ту пору в Стэнфорде учились пять тысяч студентов и тысяча студенток; согласно поименному списку в ежегоднике 1934-го, почти все они были англосаксонского, скандинавского или немецкого происхождения. Большинство занималось спортом, отличалось широкими плечами, крепкими ногами и здоровым цветом кожи. Парни носили вельветовые брюки и рубашки, как у лесорубов, девушки – прямые юбки и теннисные туфли; официальный дресс-код университетов «Лиги плюща» с Восточного побережья они не признавали. Не было здесь и элитарных тайных обществ, члены которых старательно культивировали британский акцент и проводили за увитыми плющом секретными дверьми нелепые ритуалы посвящения с черепами и окровавленными масками; стэнфордские студенты по выходным дням уходили в холмы Футхиллс ловить форель и охотиться на кроликов либо в битком набитых машинах ездили в Сан-Франциско потанцевать в «Марке Хопкинсе» или в гостинице «Святой Франциск», которую называли «Франтик».
Больше половины из них в тот год, пятый год Великой депрессии, имели собственный автомобиль, а кое-кто и собственный самолет. И жили все в спокойной уверенности, что Америка неприступно сильна, а сами они благодаря унаследованному от родителей богатству до конца своих дней защищены от голода, болезней, бедности и любой другой формы несчастья.
Феликс Блох понял, что очутился на солнечной стороне жизни, оставил позади мрачные сумерки мира. Но Института теоретической физики в Стэнфорде не было. Его задача – создать таковой.
Первое, что Феликс Блох предложил в Стэнфорде, был семинар по теории бета-излучения Энрико Ферми. В лекционной аудитории он нашел десяток сытых розовощеких студентов, они с любопытством смотрели на него, в ожидании держа остро отточенные карандаши на первых страницах новеньких тетрадей. Но когда он заговорил, карандаши не забегали по чистой бумаге, а так и остались слева вверху, потому что студенты не понимали ни слова из того, что он говорил. Феликс Блох сообразил, что имеет дело с новичками, которые на десять лет моложе его и еще не достигли двадцатилетнего возраста, и что им недостает фундаментальной основы, чтобы понять предпосылки к введению в квантовую физику. Поэтому он отложил свои записи и экспромтом набросал новую программу лекций, стараясь не делать допущений, что они располагают какими-либо предварительными сведениями или владеют специальными понятиями. Прежде всего он разъяснит студентам, отчего яблоко падает с ветки на землю, а вот Луна остается на небе, потом расскажет, почему пар в чайнике свистит, а айсберги хотя и тают, но не тонут, ну а в конце учебного года, если останется время, поведет речь о том, почему молния бьет всегда в вершины самых высоких елей, низкорослые же растения по возможности щадит.
Конечно, Феликс Блох отдавал себе отчет, что атомная физика на Западе США представляла собой непаханое поле, знал он и о том, что Стэнфордский университет ориентирован на практику, теорией здесь интересуются лишь с точки зрения ее конкретного приложения. Но что на две тысячи миль вокруг он был чуть ли не единственным, кто когда-либо занимался квантовой механикой, и что его задачей будет возвещать квантово-механическое евангелие в этом регионе мира, все-таки стало для него потрясением.
Как физик Феликс Блох чувствовал себя в Стэнфорде словно потерпевший кораблекрушение, да и на досуге ему было трудно с надлежащим восторгом участвовать в общественных ритуалах, принятых в кампусе. В пятницу вечером, собираясь на традиционную холостяцкую попойку, он испытывал неловкость, а наутро за ловлей форели изнывал от скуки. Охота на кроликов казалась ему банальной и непривлекательной, и на всю жизнь для него осталось загадкой, как воскресенье за воскресеньем девяносто тысяч людей могут впадать на бейсбольном стадионе в религиозный экстаз. Потому-то для него оказалось большой удачей, что несколькими годами раньше поблизости обосновался другой апостол квантовой физики. Роберт Оппенгеймер, знакомый ему по студенческим годам в Гёттингене, получил профессуру в университете Беркли и создал там кафедру теоретической физики. Поскольку Феликсу срочно требовался собеседник, с которым он мог бы обсудить свою пока что сырую теорию магнетизма нейтрона, он поехал в Беркли – по приморскому шоссе до Сан-Франциско, а затем на пароме в Окленд.
Встреча этих двух столь разных людей могла бы оказаться полной неудачей. Феликс Блох был дружелюбный, сдержанный молодой человек, интересовался главным образом физикой, а на досуге охотнее всего совершал походы в горы; Роберт Оппенгеймер, полутора годами старше его, в Гёттингене оставил у него впечатление капризного денди из богатой нью-йоркской семьи, который беспрерывно курил «Честерфилд» и сопровождал реплики других людей ритмичным «да… да-да… да-да… да», чтобы при первом удобном случае перебить и довести их мысли до конца, так как считал, что лучше их самих знает, что они хотели сказать.
Впрочем, по правде говоря, Оппенгеймер зачастую действительно знал мысли других людей лучше, чем они сами, и понимал их тоже быстрее, а кроме того, обладал ярко выраженным талантом включать новые идеи в мир своих собственных. И по правде говоря, Блох и Оппенгеймер одинаково обрадовались, что в квантово-механическом одиночестве Калифорнии нашелся соратник. Когда Феликс в общих чертах излагал свою теорию магнетизма нейтрона, Оппенгеймер жадно слушал, внимательно смотрел на него голубыми глазами, приговаривая «да… да-да… да… да…». Потом перебил и с ходу принялся развивать идею в том самом направлении, какого ожидал от него Феликс.
Отныне они каждый понедельник сообща проводили докторантский семинар по квантовой механике – раз в Стэнфорде, раз в Беркли, – который называли «The Monday Evening Club»[43]. Большей частью начиналось с того, что Феликс Блох знакомил студентов с новой статьей по квантовой механике из журналов «Физикал ревью» или «Нью сайентист», пока Оппенгеймер не прерывал его и не анализировал статью на предмет ее фактического познавательного содержания. Затем они вместе со студентами искали возможности продолжить исследования в означенной области посредством собственных экспериментов и теоретических работ.
Студенты были в восторге. Молодые профессора не талдычили затверженные наизусть академические сведения, а сосредоточивались на нерешенных проблемах и таким образом создавали у них ощущение, что они вместе с авангардом физиков выходят за пределы человеческого знания. В «Monday Evening Club» так и сыпались искры, Блох и Оппенгеймер щедро раздавали свои идеи всем, кто был в состоянии их воспринять. Если кому-либо требовалась тема для докторской диссертации, он каждый понедельник имел широчайший выбор.
Феликса Блоха дискуссии с Оппенгеймером тоже обогащали, но уже вскоре он начал догадываться, что оппенгеймеровский блеск был одновременно причиной и следствием странной душевной слабости. Оппенгеймер интересовался всем и вся, на лету схватывал любую новую идею и хранил в памяти все, что когда-либо понял. А так как все казалось ему простым, предпочтение он отдавал самым трудным вещам. Если бывал настроен на поэзию, то занимался не Эмерсоном[44], не Йе йтсом, не Рильке[45], а средневековой французской лирикой. Открыв для себя индуизм, он выучил санскрит, чтобы читать священные тексты в оригинале. А когда в телескоп смотрел во Вселенную, не думал о названиях небесных тел, а предавался квантово-механическим спекуляциям насчет ядерных реакций в недрах звезд.
К теоретической физике он пришел не по склонности, просто ему, студенту-химику, недоставало в лаборатории усидчивости и тщательности. По квантовой же механике специализировался оттого, что это самая отвлеченная и трудно постижимая теория, какую когда-либо выдвигали люди.
Однако именно потому, что так легко и быстро схватывал все, над чем другие годами ломали себе голову, он, имея дело с какой-либо истиной, мог без труда помыслить сколь угодно много альтернативных истин. А поскольку сразу обнаруживал в любой теории слабое место, никогда не мог спокойно поверить в некую идею, постоянно сомневался и в собственных идеях и ни в чем не выказывал твердой усидчивости, необходимой для достижения больших целей. В конечном счете научные размышления доставляли ему удовольствие не как познание, а просто как пища для собственного честолюбия.
Неспособный на глубокие чувства, он прибегал к сильным стимулам. Его квартиру украшали ковры индейцев навахо из Нью-Мексико и статуэтки индийских божеств, окна зимой и летом были распахнуты настежь. Если он угощал студентов обедом, то готовил чертовски острый нази-горенг, который они, находясь на глазах друг у друга, считали за благо съесть. За рулем своего «крайслера» он устаивал гонки с поездами, идущими параллельно шоссе, и, если вдребезги разбивал при этом машину, а пассажирка получала травму, в порядке возмещения дарил ей маленького Сезанна из отцовской коллекции.
Студенты уважали его. Называли Оппи и во всем ему подражали. Беспрерывно курили «Честерфилд», как он, носили широкополые шляпы, как он, терпеть не могли Чайковского, потому что Оппи не терпел Чайковского. Бурчали «да… да-да… да…», когда говорил не Оппенгеймер, а кто-то другой, и взмахом запястья подносили зажигалку, когда кто-нибудь доставал сигарету.
После семинара Оппенгеймер с избранными студентами каждый раз ездил в Сан-Франциско во «Фрэнк», один из шикарных рыбных ресторанов возле гавани. Там он показывал им, как надо разливать французское красное вино, открывать устрицы и раскалывать кокосовые орехи, а попутно бархатным голосом декламировал по-древнегречески Платона и рассуждал о коврах навахо и диалектике Гегеля. Счет он всегда оплачивал сам.
На первых порах Феликс Блох участвовал в этих вечеринках, потом стал появляться на них реже, полагая, что достаточно осведомлен о разливании французского красного вина. Коротал вечера в одиночестве. Тосковал по Цюриху и Лейпцигу, по Гейзенбергу и родителям. Дня не проходило, чтобы он не читал в читальном зале университетской библиотеки «Нойе цюрхер цайтунг».
По выходным он уезжал в холмы, оставлял «шевроле» у холма Уинди-Хилл или в Пало-Альто у Футхиллс-Парка и шагал один по безлюдным холмам среди огромных, в рост человека, папоротников под высоким готическим сводом тысячелетних секвой, пока не открывался вид на Тихий океан. Тогда он доставал из старого рюкзака, привезенного из Европы, бутерброд с сыром, садился на камень в компании сапфирово-синих соек, пестрых дятлов и любопытных бурундуков, смотрел на морской простор и долго следил за бегом волн и тенями летучих облаков.
Глава девятая
До Южной Франции Лаура д’Ориано добралась в пору цветения миндаля. Над крышами Марселя кружили ласточки, владельцы кафе выставляли на тротуар столики и стулья, из открытых окон доходных домов пахло жавелем и свежевыстиранными гардинами. Родители не ожидали ее, но не слишком удивились, когда дочь одна, без семьи, со старым чемоданчиком в руках появилась у Вьё-Пор. Они заключили Лауру в объятия, вопросов особо не задавали и опять предоставили ей девичью комнату, которую она покинула в день свадьбы. Обручальное кольцо она сняла, положила в пустую пудреницу и спрятала в дальнем левом углу верхнего ящика комода. И тогда ей на мгновение почудилось, что она вообще никуда не уезжала.
Но все было конечно же не так. Едва Лаура осталась одна в своей тихой комнате, она горько расплакалась по своим дочкам, которых еще накануне вечером укладывала спать, и по Эмилю Фраунхольцу, с которым три года каждую ночь делила постель и мужская доброта которого снова и снова помогала ей чувствовать себя на свете как дома. Потом она всю ночь терзалась вопросом, в самом ли деле было необходимо уехать из Боттигхофена, имела ли она на это право и не было ли все же другого выхода.
На рассвете Лаура в конце концов решила, что другого выхода быть не могло, иначе бы она им воспользовалась, и что пора снова брать жизнь в свои руки. Ясно ведь, придется самой себя обеспечивать, так как родители еле-еле перебивались на свои сбережения. Она бы охотно поработала в музыкальном магазине, но после ее свадьбы родители продали магазин польскому еврею, который застрял в Марселе, поскольку США прекратили выдачу виз польским евреям.
Лаура наведалась в редакцию «Либерте» и поместила в газете маленькое объявление, где предлагала услуги машинистки и указывала, что говорит и пишет на французском, итальянском, турецком, греческом и русском. Потом обошла ночные кафе, представляясь как певица с богатым репертуаром.
Вернувшись домой, она возле музыкального магазина познакомилась с поляком, который оказался немногословным человеком средних лет, охотно пил арабский мокко и, как и Лаура, имел привычку в спокойные часы дожидаться покупателей, сидя на вечернем солнце возле двери. Лаура принесла стул, села рядом и за несколько часов установила, что поляк свел дружбу с теми же обитателями квартала, с какими раньше дружила она сама, – со школьниками, продавцами устриц и официантами из окрестных кафе. Лаура курила, пила с поляком мокко и радовалась, что снова дома.
Иногда она прогуливалась возле гавани. Старые трухлявые деревянные суда довоенных времен исчезли, теперь у пирсов стояли новенькие, отливающие серебром стальные колоссы. Пропали и злобные старики матросы со складными ножами и венерическими болезнями, наверно, приказали долго жить или вернулись в богадельни. На новых стальных кораблях служили молоденькие круглощекие матросы в безупречно белой форме, на берег они сходили не поодиночке, а толпами бродили по улицам и помышляли разве только о том, чтобы вечером на славу напиться и на славу развлечься.
Каждое утро Лаура, поднявшись с кровати, шла к почтовому ящику в надежде получить письмо с предложением работы, но писем не было. Однако в середине второй недели ей позвонили из «Черного кота» и предложили неделю выступлений в роли исполнительницы казачьих песен.
В «Черном коте» возле входной двери висела освещенная витрина с фотографиями выступающих артисток. У Лауры не нашлось подходящих фотографий, поэтому хозяин сунул ей казачий костюм и дал адрес фотоателье. Она помедлила в нерешительности, и он сказал, нечего, мол, ломаться, фотографа он оплатит из своего кармана; к тому же она может потом оставить снимки себе, если надумает выступать в других местах. Да и старый костюм тоже может оставить, ему он вообще-то без надобности.
Она надела казачий костюм, накинула на плечи пальто и пошла к фотографу. В ателье было тепло, фотограф с привычной вежливостью взял у нее пальто. Затем подкрасил ей лицо, подправил прическу, дал в руки опереточную саблю, попросил обеими руками опереться на нее, как на прогулочную трость, и улыбнуться в камеру. После этого она брала саблю на плечо, как винтовку, откидывала голову назад, сгибала левую ногу в колене, приподнималась на цыпочки, выпячивала грудь и втягивала живот, улыбалась, задумчиво смотрела вверх, держала между пальцами длинный мундштук с дымящейся сигаретой, ложилась на живот, подперев голову сплетенными ладонями.
Неприятным это не назовешь. И происходило все быстро. Фотограф оставался поодаль, почти незримый под своим черным платком, слышался лишь мягкий, тихий голос, который давал ей указания. Потом он выбрался из-под платка, помог Лауре надеть пальто и отворил ей дверь, она вышла на улицу и отправилась домой.
Впрочем, три дня спустя она все-таки испугалась, когда фотографии действительно появились в витрине «Черного кота», а над ними жирным шрифтом, псевдокириллицей было написано: «Аннушка – Киевский Соловей». Лаура пригляделась к снимкам. Она не узнавала себя, фигура в казачьем костюме была чужая и все-таки чем-то знакомая. Лишь секунду спустя Лаура сообразила, что с фотографий на нее смотрит мать. Невинность округлого лба, бессознательная кокетливость отведенных назад плеч, неловкая грация выставленной вперед ноги – она выглядела точь-в-точь как мать на фото, сделанных двадцать лет назад для турне по Востоку.
Вскоре настал вечер первого выступления. Казачий костюм с опушкой из поддельного горностая опять сидел на Лауре как влитой, после двух беременностей она восстановила прежнюю форму. Волнение донимало ее как никогда, но, едва только барный пианист наконец-то подал условный знак и она выбежала из-за занавеса, станцевала казачок и запела русскую песню о любви, ее опять охватило чуть ли не счастье. Публика неистовствовала, молодые матросы с серебристых стальных кораблей были покорены. Все как раньше, лишь самое важное – пение – звучало иначе.
С удивлением слушая собственный голос, Лаура обнаружила, что он уже не тонкий и хрипловатый, а исполнен пронзительной, безудержной печали, которая вызывала у нее прямо-таки неловкость. Она старалась взять себя в руки, следила за дыханием, старалась держать размер, правильно интонировать и чисто выпевать все гласные и согласные, но сколько ни приказывала себе петь пианиссимо и показать хорошую постановку голоса, все время пела фортиссимо и ни разу, ни в одном такте, ни в одной ноте, не попала точно в тон.
Однако мужчинам в публике, казалось, все нравилось, и пианист весело барабанил по клавишам, будто на собственном мальчишнике. И Лаура продолжала танцевать до изнеможения и громко распевала в ночи свои казачьи песни, а когда в заключение спела колыбельную и при этом расплакалась, матросы тоже заплакали и во все горло грянули «баюшки-баю».
Хозяин «Черного кота» остался весьма доволен и лично принес ей в уборную бокал шампанского. Пробурчал, что за минувшее время она сделала огромные успехи, и добавил к оговоренному гонорару еще несколько купюр. Лаура сунула деньги в карман и решила завтра же утром отослать их в Боттигхофен.
В конце вечера ее ждал у черного хода приятель-официант, который, как и раньше, оттеснил ее не в меру восторженных поклонников и проводил домой. Они дошли до музыкального магазина, Лаура уже отворила дверь и тут вдруг подумала о пустой комнате наверху и бессонных часах, ожидавших ее там. Она снова закрыла дверь, взяла официанта под руку, притянула к себе и сказала: У тебя ведь нет других планов? Давай еще немножко погуляем, ночь такая чудесная.
* * *
Весной 1900 года дворец царя Миноса прославил Артура Эванса и Эмиля Жильерона. Известие, что в то время, когда древние египтяне уже плавали по компасу, а китайцы пользовались бумажными носовыми платками, европейцы тоже далеко не поголовно все ходили в медвежьих шкурах и жили в пещерах, Берлин, Париж и Лондон встретили как давно желанный бальзам на душу.
Жильерон и Эванс работали круглые сутки. Днем находились на раскопках, по ночам каталогизировали находки, зарисовывали их и писали статьи для археологических журналов. Правда, через два месяца раскопки пришлось приостановить, так как солнце чересчур припекало и более сотни рабочих заболели малярией. Второго июня 1900 года Эванс уехал в Англию читать лекции и искать спонсоров для продолжения работ. Днем позже Эмиль Жильерон паромом отправился в Афины, уединился там в ателье на крыше своей виллы и начал изготовление репродукций для международного рынка.
С фрески, изображающей схватку с быком, он сделал сухой иглой гравюру на меди и по заказу десятками рассылал оттиски в ежедневные газеты и специальные журналы. Красоток со складными стульями рассылал как четырехцветную шелкографию музеям и состоятельным рантье. Сборщика шафрана пять раз написал маслом. Один экземпляр подарил греческому королю, другой – греческому Государственному музею, третий – Артуру Эвансу, четвертый повесил у себя в гостиной, а последний вручил сыну, Эмилю-младшему, поручив ему изготовить десять точных копий.
В феврале 1901 года Жильерон возвращался на Крит не один, он взял с собой своего первенца и на пароме представил его Артуру Эвансу как своего личного сотрудника. Поначалу Эванс без особого восторга отнесся к юному денди, который за завтраком меланхолично глядел на серое море и ни разу не попытался участвовать в разговоре старших. Однако между супом и вторым блюдом Эванс, несмотря на свою близорукость, заметил, что мальчик беспрестанно водит правой рукой по бумажной скатерти возле своей тарелки. Когда же археолог наклонился и прищурил глаза, чтобы получше рассмотреть, чем там занят Эмиль-младший, тот смущенно спрятал карандаш, положил подле тарелки салфетку и опять устремил взгляд на море. Эванс дождался конца трапезы и не вставал, пока отец и сын Жильероны не ушли к себе в каюту и стюард не унес посуду. Тогда он вооружился моноклем и наклонился к тому месту, где стояла тарелка Эмиля-младшего, – бумагу сплошь усеивали превосходные карандашные миниатюры минойских борцов с быками, жриц со змеями и красоток со складными стульями, сделанные так мастерски, будто рисовал их не пятнадцатилетний мальчишка, а его отец. Артур Эванс обошел вокруг стола и сел на стул Эмиля-младшего, чтобы рассмотреть все как следует. А потом невольно улыбнулся. Рисунки были аккуратно подкрашены красным вином, шпинатом, желтком, томатным соусом и кофе.
Прибытие в Кносс стало для них шоком – зимние субтропические дожди превратили территорию раскопок в сплошное болото. С трудом расчищенные шурфы оказались засыпаны, повсюду бродили козы, растаптывали копытами бесценные кучи тысячелетних обломков; в стенах тут и там зияли проломы, потому что приезжавшие на воловьих упряжках крестьяне забрали прекрасные глыбы тесаного известняка на постройку козьих хлевов. Алебастровый пол тронного зала разбух, трон царя Миноса и чаша Ариадны загажены козьим пометом. Драгоценные остатки штукатурки на развалинах растворились от бесконечного дождя и стекли в землю, вода размочила, подмыла и обрушила многочисленные стены, тысячелетиями покоившиеся под защитой земляной толщи.
Артур Эванс и Эмиль Жильерон понимали, что их делу грозит гибель. Необходимо действовать, как можно скорее защитить дворец крышей. Эванс приказал срочно заменить обугленные остатки четырехтысячелетних деревянных подпорных столбов новыми несущими колоннами из дерева и гипса, а по углам воздвигнуть на древних фундаментах современные кирпичные опоры, на которые уложат современную плоскую крышу из бетона. Когда все это было сделано, он выписал из Кандии слесаря, и тот обнес дворцовый комплекс кованой оградой, какие на Крите принято ставить вокруг мусульманских гробниц.
Теперь тронный зал был хорошо защищен от непогоды, парнокопытных и крестьян, но в солнечные дни под голой бетонной крышей царил адский зной. Вдобавок дворец царя Миноса в своем обновленном виде – с мусульманской решеткой, кирпичными колоннами и плоской крышей – не имел ничего общего с минойским дворцовым комплексом, каким представлял его себе Артур Эванс.
Чтобы избавиться от зноя, он распорядился на четвертый год, когда большая часть дворца уже была раскрыта, соорудить над бетонной крышей значительно большую двускатную кровлю из красной черепицы и импортных стальных балок. Так над тронным залом возник второй этаж, который в сезон раскопок служил хранилищем новых находок и одновременно импровизированным музейным залом. Эмиль-младший поставил в углу рисовальный стол и по эскизам отца делал для Артура Эванса минойские акварели и рисунки тушью.
Только вот с виду двускатная кровля напоминала скорее североевропейский сеновал, а не средиземноморскую царскую резиденцию эпохи неолита. Можно себе представить, как Артур Эванс летним вечером, сидя с отцом и сыном Жильеронами за бутылкой вина под оливой, недовольно смотрел на постройку.
Я не вижу кносского дворца, сказал Эванс. А вы его видите?
Он перед нами, сказал Эмиль Жильерон-старший.
Я его не вижу, сказал Эванс. Я вижу только черепичную кровлю. Наше сооружение – сущий анекдот. Мы прячем все минойское под крышей, которую видно издалека и в которой нет ничего минойского. Почему мы не построили минойскую крышу?
Потому что понятия не имеем, как выглядели минойские крыши, сказал Жильерон-старший. На всей территории мы не отрыли ни одной минойской крыши и, кстати говоря, ни верхних этажей, ни первых. Только фундаментные стены.
Во всяком случае, они толстые, сказал Эванс. И мы вполне уверенно можем исходить из того, что дворец имел три или четыре этажа.
Однако нам неизвестно, как эти этажи выглядели, заметил Жильерон. Не говоря уже о крышах. Рядом с тронным залом, возможно, располагалась широкая крытая наружная лестница, на что указывает крутой подъем фундамента. Но это и все, ничего больше мы знать не можем.
Эмиль-младший – тем временем ему уже сравнялось двадцать – молча сидел рядом, слушая разговор. Артур Эванс видел, как правой рукой он что-то рисует на бумажной скатерти.
Ну, не настолько уж мы несведущи, сказал Эванс. У нас есть изображения минойских построек. На фресках. На вазах. На монетах.
А у меня есть американская однодолларовая купюра, сказал Жильерон. И что же, я должен исходить из того, что во времена Авраама Линкольна все американцы жили под мраморными куполами с колоннадой?
Эта черепичная крыша не рассказывает никакой истории, сказал Эванс. Даже фальшивой.
С научной точки зрения нет лучшей истории, чем фальшивая, отозвался Жильерон.
Вам ведь известно, я придерживаюсь противоположного мнения, сказал Эванс. Как в случае с фреской, где изображена схватка с быком.
Это нельзя сравнивать, сказал Жильерон. Одно дело – чуточку домысла на фреске. И совсем другое – привезти бетономешалку и использовать четырехтысячелетние стены как опору для современных фантастических построек.
Архитектура тоже метафизична, сказал Эванс. Без метафизики все не имеет значения.
Никто не может знать, точно ли так происходил этот разговор, и нет никаких доказательств, что Эмиль-младший все время молчал. Но можно себе представить, что молодой человек для развлечения рисовал на бумажной скатерти карандашом и что позднее, когда отец и сын ушли к себе, Артур Эванс забрал бумажную скатерть, чтобы изучить ее в палатке при свете керосиновой лампы. И вполне возможно, в тот вечер Эванс впервые увидел на той скатерти кносский дворец во всей красе, каким рисовал его себе в мечтах, с наружными лестницами и анфиладами комнат, с характерными черно-красными, сужающимися книзу колоннами.
Зато исторически подтверждено, что в последующие годы, когда Жильерон-старший еще командовал, а младший подчинялся, на фундаментах Кносса не выстроили ничего, кроме большой наружной лестницы подле тронного зала. Правда и то, что лишь через полгода после скоропостижной смерти Эмиля-старшего от сердечной недостаточности, которая, как коротко упомянуто вначале, настигла его незадолго до семидесятитрехлетия в одном из афинских ресторанов, в Кносс доставили бетономешалки. И наконец, правда, что затем под руководством Эмиля Жильерона-младшего вновь воздвигся дворец Миноса, каким его воображал себе Эванс, – со всеми наружными лестницами, и анфиладами комнат, и черно-красными, сужающимися книзу колоннами. Старую черепичную кровлю над тронным залом заменили двумя верхними этажами, залитыми светом и опирающимися на колонны. С южной стороны возвышался зал, который Эванс именовал Таможней, с западной возник Бастион, внутри которого Жильерон-младший поместил фреску с быками. А неподалеку Эванс построил для себя и своих гостей прелестный коттедж, назвав его виллой «Ариадна».
Так с годами на равнине вырастала в бетоне и стали мечта Артура Эванса о дворце царя Миноса, и чем выше и красочнее она поднималась к небу, тем больше посетителей стекалось на Крит, чтобы составить себе представление о колыбели европейской культуры.
Ныне кносский дворец – по посещаемости второй после Акрополя археологический памятник Восточного Средиземноморья. Некоторые туристы удивляются, что фрески напоминают стиль модерн на исходе belle époque[46], тогда как сама постройка с ее изящными формами и яркими красками могла бы служить типичным примером ар-деко конца двадцатых и начала тридцатых годов. А некоторые местные экскурсоводы гордо указывают, что этот дворец – старейшая на Крите постройка из железобетона.
Десятилетиями время подтачивало творение Артура Эванса, тут и там бетон растрескался, обнажив ржавые стальные балки и арматуру. Фрески Эмиля Жильерона тоже пострадали от влажного и жаркого климата, штукатурка местами отошла от стен, и нынешние реставраторы с их верностью науке стоят перед дилеммой: чему отдать предпочтение – неолитическим фрагментам или работам Жильерона.
* * *
До калифорнийского уединения Феликса Блоха наконец-то добрались первые письма с родины. Он сразу же заметил европейские конверты, лежавшие в почтовом ящике среди специальных журналов и газет, ведь они были другого цвета и другого формата, нежели американские.
Теперь он каждые три-четыре дня получал письмо от матери, которая очень переживала, что ее единственный оставшийся в живых ребенок так от нее далеко. Она рассказывала ему о мирных цюрихских буднях, тактично избегая расспросов о качестве его жилья, питания и о здоровье, а отец большей частью приписывал в конце материнского послания несколько ласково-суховатых строчек.
Как все эмигранты, Феликс страдал оттого, что весточки с родины приходили с опозданием, обусловленным дальностью. Например, когда он читал в письме матери, что она резала лук и попала ножом себе по пальцу, ему хотелось сию же минуту узнать, зажил ли порез; а когда мать в следующих письмах ни слова про палец не говорила и он спрашивал ее об этом в своем письме, ответа приходилось ждать целый месяц.
Изредка писал Гейзенберг из Лейпцига, изредка – Нильс Бор из Копенгагена. Зато все чаще приходили письма от родственников, которые хотели эмигрировать в Америку и спрашивали у Феликса совета. Бабушка по матери писала ему из Вены, спрашивала, можно ли без провожатых отправить за океан двух семнадцатилетних девушек, не знающих английского. Дядюшка из Пильзена интересовался, производят ли на калифорнийских плантациях мед в промышленном масштабе. Эрфуртский кузен просил посодействовать с местом учителя немецкого языка в средней школе. Большей частью эти письма были выдержаны в бодром деловом тоне, каждое по отдельности не давало повода тревожиться, только вот во всех сквозила одна и та же жутковатая, вымученная ирония, неловкая насмешка и напряженная беззаботность, вызванная явно смертельным страхом.
Чем больше он получал таких писем, чем выше становилась их стопка на полочке у изголовья кровати, тем сильнее Феликс Блох ощущал исходивший от них невысказанный жуткий страх. Страх перед уже случившимися или еще предстоящими преступлениями, перед школьниками в униформе, которые с железными прутьями в руках безнаказанно шатались по центральным районам городов и били витрины, перед топотом сапог и вышибленными среди ночи дверьми, перед ружейными прикладами, обрушивающимися на головы старух и младенцев, перед мародерством и пишмашинками, летящими из окон, перед вырванными бородами и горящими синагогами, перед счетами за бензин, которые после поджогов предъявляли раввинам, страх перед разбитыми очками и стеклянными осколками, вонзившимися в глаза, и перед отчаявшимися, которые кончали с собой, наглотавшись веронала, выбрасывались из окон или кидались на колючие проволочные заборы под высоким напряжением.
Этот кошмарный страх преследовал Феликса Блоха во сне, поджидал утром за завтраком, нещадно терзал его, потому что сам он находился в безопасности. На лекциях ему удавалось забыть этот страх, но за рулем «шевроле-спортстера», направляясь в полдень сквозь калифорнийскую весну в Беркли и небрежно выставив левый локоть в открытое боковое окно, он снова чувствовал цепкие когти кошмара. Сильнее всего Феликсу доставалось в выходные, когда он уезжал в горы погулять среди мамонтовых деревьев.
Тогда он думал о несчастных, которых в наказание за выдуманные проступки подвешивали на связанных руках к сучьям деревьев, так что плечевые суставы вывихивались и от страшной боли человек терял сознание. Думал о тех, кого держали привязанными к дереву вниз головой, пока у них буквально не лопались мозги, думал о неумолчных, слышных на многие километры криках тех, кого привязывали спиной к дереву так, что они лишь кончиками пальцев на ногах касались земли. Думал о тех, кого парами ставили вокруг дерева и связывали за руки друг с другом, так что любая слабость одного удваивала мучения второго, и о тех, кого заставляли бежать через лес, пока в чаще подроста их не настигали собаки и не рвали в кровь, после чего молодые парни в мундирах волокли их за ноги обратно в лагерь, швыряли в ящик, обитый изнутри колючей проволокой, заколачивали ящик досками и оставляли под жарким солнцем и в ночном холоде, пока мученики через два-три дня наконец не умирали.
В холмах Пало-Альто росли преимущественно хвойные деревья, вида Sequoia sempervirens. И Феликс Блох дошел до того, что уже видеть не мог их шершавую красно-коричневую кору. Ему не удавалось убедить себя, что эти деревья находятся в другом мире, не в Дахау; напротив, чем глубже он заходил в лес и чем дольше оставался один, тем сильнее чувствовал, что все происходящее сейчас, в это время, присутствует здесь точно так же, как прошлое и будущее.
И он отказался от лесных прогулок. Чтобы отвлечься и не оставаться в одиночестве, сидел по выходным в кампусе и даже участвовал в попойках холостяков. А если все-таки бывал один, садился за письменный стол и пытался делать расчеты по магнетизму нейтронов. Но никогда не забывал, что родители в Цюрихе, бабушка в Вене и вся остальная многочисленная родня находятся под угрозой, тогда как он на безопасном расстоянии в восемь тысяч километров ест грейпфруты и поп-корн.
Он продержался полтора года. Но летом 1935-го, когда опять начались большие каникулы и кампус обезлюдел, потому что студенты на три месяца разъехались по домам, к родителям, Феликс Блох тоже отправился домой – сначала поездом в Нью-Йорк, потом на лайнере через Атлантику.
Тем летом эмигрантские транспорты в Америку были переполнены еврейскими беженцами, лишь очень немногие, как Феликс Блох, путешествовали в обратном направлении. То было время Нюрнбергских расовых законов[47] и «фронтовой инициативы», посредством которой фашисты рвались к власти и в Швейцарии, время, когда гестапо выкрадывало в Швейцарии еврейских беженцев и переправляло назад в Германию.
В Цюрих он приехал в конце лета, в чудесную погоду. По Лиммату скользили молодые лебеди, по озеру – парусные лодки. На площади Бельвюплац перед Оперой Крестьянский союз развернул выставку скота, на горизонте дружелюбно слали привет вершины Гларнских Альп. Счастливая мать осыпала Феликса Блоха ласками, потом он пошел с отцом прогуляться к озеру и в ходе многочасовых разговоров пытался убедить их обоих, что самое время бежать из Европы, уе хать вместе с ним в Америку.
В остальном он вернулся к привычкам юности, ходил на футбол в Летцигрунд и купался в озере. В конце сентября навестил бабушку в Вене, пробовал убедить и ее в необходимости спешно эмигрировать. В начале октября через Антверпен съездил в Копенгаген на пятидесятилетие Нильса Бора. Приехали Вернер Гейзенберг и фон Вайцзеккер из Лейпцига, Отто Ган из Берлина. Юбилей в кругу друзей-физиков прошел великолепно, о политике опять никто не говорил. Феликс Блох рассказывал о своих американских буднях, в спокойную минуту сообщил Нильсу Бору о своей работе по магнетизму нейтрона. Бор рекомендовал ему не ломать себе голову над теоретическими аспектами, а вернуться в лабораторию и заняться экспериментами. «Чтобы работать с нейтронами, нужны нейтроны, – сказал Бор. – Постройте машину, излучающую нейтроны. И тогда увидите, что с ними можно сделать».
По окончании торжеств Феликс Блох уехал домой в Цюрих. Приближался отъезд в Калифорнию, его ждали студенты. К тому же у него были планы насчет нейтрона. В первые дни 1936 года он последний раз попытался убедить родителей, что Швейцария больше не тихая гавань. А затем настал день, когда он с чемоданом прошагал по берегу Лиммата к Главному вокзалу и через Базель и Брюссель отправился поездом в Антверпен. Его судно находилось на полпути в Нью-Йорк, когда в Давосе еврейский студент-медик застрелил фюрера швейцарской НСДАП Вильгельма Густлофа.
Глава десятая
Лаура д’Ориано произвела фурор своим казачьим номером, и матросы со стальных кораблей валом валили в «Черного кота». На третий вечер она придумала, объявляя песни, сдабривать свой французский русским акцентом. На четвертый вечер впервые подрисовала себе гримом славянские скулы. Так она нравилась матросам еще больше.
В субботу, когда предстояло шестое и последнее выступление, хозяин предложил ей продлить гастроль еще на неделю. В тот же день «Либерте» посвятила Киевскому Соловью две колонки, сочинив ей трагическую биографию, где важную роль играли украинское имение и старинное дворянское семейство, а вдобавок орда кровожадных красноармейцев, кровавая бойня в конюшне и верный слуга по фамилии Павлов, который завернул маленькую Аннушку в медвежью шкуру и по замерзшей Волге вывез на собачьей упряжке в надежное место.
После этой газетной заметки в «Черного кота» хлынуло на второй неделе еще больше посетителей, и хозяин снова попросил продлить гастроли, а к тому же по собственной инициативе вполовину увеличил гонорар. Лаура д’Ориано восприняла успех, нахмурив лоб, но и пожимая плечами; вопрос, заслужен он или нет, она себе не задавала, ей просто требовались деньги. Что бы сказали по поводу исполнения преподаватели из парижской консерватории и за что ее любила публика – за пение, за подвязку или за сказочную биографию, – значения не имело; факт тот, что каждый вечер десятки мужчин ударялись в слезы, когда Лаура пела «баюшки-баю», и что на последних куплетах на сцену дождем сыпались денежные купюры, которые пианист услужливо для нее подбирал.
А как же большое, широкое чувство в груди, которое Лауре некогда хотелось выразить? Как насчет звенящего космического гула? Ну, это ее больше не интересовало, теперь в ее пении рвалось на волю совсем другое чувство, хотела Лаура этого или нет. Это чувство было, пожалуй, не столь большим и значительным, как тогдашнее, зато реальным. И сильным. И принадлежало ей одной.
Но выступления в «Черном коте» конечно же не могли длиться без конца, через три недели все кончилось; ведь публика не должна пронюхать, что Киевский Соловей на самом деле разведенная дочка мелкого марсельского торговца, бросившая своих двух дочерей и обитавшая возле Вьё-Пор у родителей, в своей старой детской. Но поскольку хозяин «Черного кота» знал нескольких рестораторов, которых за деньги крышевали те же мафиози, что и его, Лаура через несколько месяцев получила приглашение в Канны. Спустя еще несколько месяцев она выступала в Сете, затем в Ницце, а потом даже в Барселоне.
Слава опережала ее, повсюду был полный сбор. Повсюду публику составляли преимущественно матросы, повсюду они плакали, когда Лаура пела «баюшки-баю». Лаура давно поняла, что эти суровые парни, отправлявшие нелегкую службу на стальных кораблях, в прежней жизни были сыновьями своих матерей, братьями своих сестер и внуками своих бабушек. И когда в конце вечера ярко вспыхивал верхний свет, Лаура видела, до чего они молоды – большинство моложе ее, а многие даже моложе ее братьев Умберто и Витторио, которых она теперь видела лишь на Рождество и на Пасху.
Порой кто-нибудь из матросов поджидал ее у черного хода. Самых бойких, что караулили ее, держа наготове такси, она оставляла ни с чем; проходила и мимо слишком робких, бросавших на нее тоскливые взгляды из подворотен. Однако иной раз, прислонясь к фонарному столбу и засунув матросскую шапку в карман брюк, стоял такой, что сворачивал сигарету, а когда она проходила мимо, делал ей комплимент. И если он не бежал следом, а оставался возле фонаря и ждал, подаст ли она ему знак, то она, бывало, оборачивалась к нему, присматривалась. И если он ей нравился, приятно улыбался и носил начищенные башмаки, то – нечасто, иногда, время от времени – она вправду подавала ему знак.
Лаура наслаждалась такими часами, поскольку знала, что на рассвете матросы обязаны вернуться на корабли и никому из них в голову не придет пожелать ее в жены и увезти в какой-нибудь Боттигхофен. Она вообще не боялась оставаться с ними наедине, так как знала, что побои, насилие и убийство грозят всем на свете женщинам прежде всего дома, в кругу собственной семьи, и что с точки зрения криминальной статистики наиболее безопасную жизнь ведут девушки, которые остерегаются отца, братьев и их друзей и замуж никогда не выходят, а каждый вечер, ускользнув из дома, среди совершенно чужих мужчин выбирают себе на одну ночь любовника, с которым самое позднее наутро распрощаются навсегда.
Кстати, все матросы походили друг на друга, ведь различия между людьми на самом деле не очень-то велики. С Лаурой все они держались чуточку дерзко и чуточку застенчиво, словно с одноклассницей или лучшей подругой старшей сестры, и все были добродушны, молоды и пахли здоровьем и ядровым мылом. Большинство, конечно, были немножко неловки, и ни один не обладал той мужской самоуверенностью, какой ее покорил Эмиль Фраунхольц, а после лишь немногим удавалось завести ее на всю ночь; зато во всех и каждом было волшебство новизны и очарование незнакомого, и коль скоро они проявляли достаточную ловкость или послушно позволяли собой руководить, то обычно оба достигали цели.
Так проходили месяцы и годы. Лаура д’Ориано была довольна своей жизнью. Она, правда, не стала великой певицей, как мечтала, и из-за дочерей мучилась угрызениями совести, которые пыталась смягчить, посылая деньги в Боттигхофен. Но она пела свою песню и танцевала свой танец, и ее фото мелькали в газетах, и мужчины оборачивались на нее, тогда как другие женщины ее возраста уже тощали и начинали клониться к земле.
Поскольку между выступлениями обычно проходило по нескольку месяцев, денег не хватало, она жила на иждивении родителей, которые и сами едва сводили концы с концами; вдобавок Киевский Соловей мало-помалу исчерпал возможности выступлений на Лазурном Берегу, пора было окончательно отправить его домой на Украину. Лаура прикидывала, не поехать ли на гастроли под именем Свенья, Лилия Копенгагена или Кармен, Роза Севильи, а позднее, быть может, как Айша, Триполитанская Царица.
Так или иначе, ей требовался регулярный заработок. Не получив ответа на свое предложение насчет машинописных услуг, она помещала в газете новые и новые объявления, искала место няни, уборщицы и официантки. В итоге один из друзей-официантов нашел ей работу у своей одинокой тетушки, которая держала на авеню 12-го Марта специализированный шляпный магазин для дам и господ и подыскивала для своей интернациональной клиентуры продавщицу со знанием иностранных языков.
Звали тетушку Мария Хуарес, и была это суетливая, коротконогая и широкобедрая женщина средних лет, явно иберийского происхождения, с черными глазами и оливковой кожей. Едва Лаура д’Ориано вошла в магазин, хозяйка прониклась глубокой неприязнью к голубоглазой особе, которая выглядела беззастенчиво по-французски и которой, вероятно, даже не приходилось морить себя голодом ради стройности, какой она совершенно незаслуженно обладала. Но поскольку тетушка давно уже искала именно такую помощницу, как Лаура – презентабельную, знающую мир, многоязычную, – она наняла Лауру с трехмесячным испытательным сроком.
Весь магазин от витрины до прилавка был поделен на две части: слева – мужские шляпы, справа – дамские. За прилавком маленькая дверца вела в ателье, где три невзрачные пчелки-труженицы неопределенного возраста с утра до вечера бесшумно изготовляли шляпы, позволяли хозяйке тыкать их и на любой ее приказ отвечали «Oui, Madame»[48].
Рабочее место Лауры располагалось на левом конце прилавка, подальше от кассового аппарата. Ее обязанностью было заниматься зарубежной корреспонденцией. Когда в магазин заходили клиенты-французы, которых обыкновенно обслуживала хозяйка, Лауре надлежало мило улыбаться и держаться как можно неприметнее, а лучше всего исчезнуть в ателье. Когда же входили американец, итальянка или египтянин, в ателье исчезала хозяйка, оставляя Лауре свободу действий.
Лаура хорошо выполняла свою работу, обслуживала всех клиентов со сдержанно-непринужденным дружелюбием, как научилась в музыкальном магазине. Хозяйка за маленькой дверцей слушала иноязычную болтовню Лауры и одобрительное ворчание и смешки клиентов, когда они находили нужную шляпу. Она имела все основания быть довольной новой сотрудницей, ведь редкий клиент уходил из магазина без хотя бы одной покупки, но она все равно не доверяла Лауре – как раз по причине ее достоинств. Уже то, что кто-то владеет пятью языками, для нее, почти всю жизнь не покидавшей родного города и никогда не выезжавшей за пределы Франции, само по себе было подозрительно, но еще куда ни шло. Но как возможно, чтобы один и тот же человек явно с одинаковым знанием дела мог рассуждать о конфетах «Моцартскугельн», лондонском тумане и выращивании риса в дельте Нила?
В спокойные минуты хозяйка задумчиво разглядывала Лауру и раздувала ноздри, словно вот-вот учует, нет, словно чуяла и догадывалась, что за прилавком у нее сидит не только искушенная в языках конторщица Лаура д’Ориано, которую она наняла с трехмесячным испытательным сроком, но и Аннушка, Киевский Соловей. И Свенья. И Кармен. И Айша.
* * *
В субботу 26 июня 1926 года, в 21 час 45 минут, сильное короткое землетрясение встряхнуло Восточное Средиземноморье. Над раскопками Кносса стояла полная луна, у западного горизонта догорал последний отблеск дня. На вилле «Ариадна» Артур Эванс, лежа в постели, читал книгу, Эмиль Жильерон-младший с бутылкой арманьяка сидел на веранде. При первом резком толчке массивный каменный дом заохал-затрещал, потом закачался как корабль во время прилива; три месяца спустя Артур Эванс сообщил лондонской «Таймс», что от резких колебаний у него началась настоящая морская болезнь. Землетрясение продолжалось семьдесят пять секунд, и все это время из-под земли доносился глухой рев, словно ревел разъяренный бык, поблизости слышался треск рушащихся крыш, крики женщин и детский плач. Из города долетал как бы обратный звон колоколов собора, который вместе со своими башнями и звонницами качался туда-сюда, тогда как языки колоколов висели неподвижно. А когда землетрясение миновало, поднявшаяся к небу туча пыли скрыла луну.
Остаток ночи Артур Эванс и Эмиль Жильерон провели в саду, ожидая новых толчков. Но толчков больше не случилось, и в утренних сумерках они осмотрели дворцовые постройки. Новая бетонная конструкция над тронным залом устояла, как и Таможня и Бастион, а вот пятьдесят больших керамических сосудов разбились, и две богини со змеями разломились пополам, да и фрески изрядно пострадали. Скорее придуманная, чем отреставрированная Эмилем Жильероном-старшим фреска с драгоценностями, где одна «парижанка» острыми, покрытыми красным лаком ногтями прикасалась к цепочке на шее другой «парижанки», рассыпалась в порошок; репродукция Blue Boy, сборщика шафрана, тоже оказалась повреждена.
Теперь перед Эмилем Жильероном стояла задача восстановить фрески, отреставрированные отцом. Полтора года минуло с тех пор, как в вильнёвской гавани он предал прах отца водам Женевского озера. Теперь он был уже не младшим, а главой и кормильцем большой, дорогостоящей семьи. Отец, когда начал сдавать, передал ему по очереди профессуру в Королевской академии живописи, пост во Французском археологическом институте и художественное руководство раскопками в Кноссе. Для греческого Национального банка он разработал серию новых монет с чеканным изображением богини-покровительницы Афины, датой – 1926 год и подписью «Gilliéron fils»[49]; попутно он руководил отцовской мастерской, где ювелиры, керамисты и камнерезы изготовляли на заказ копии статуэток, ваз, золотых украшений и боевых мечей.
Последним его шагом в мир взрослых стала женитьба на одной из собственных учениц. Эта девушка, Эрнеста Росси, была дочерью королевского каретника, а заметил он ее сперва главным образом потому, что она всегда писала маслом только Акрополь, а все прочее, чему он старался научить свой класс, ее не интересовало – ни рисунки сангиной с обнаженной натуры, ни портреты углем, ни акварельные натюрморты. После свадьбы она установила мольберт на кровельной террасе жильероновского дома и опять писала маслом Акрополь – Акрополь на восходе солнца и Акрополь на закате, Акрополь ночью и в разгар дня, Акрополь под снегом и Акрополь под проливным дождем, – и Эмиль Жильерон оставил ее в покое, зная, что для любого художника самоограничение, конечно, величайшее поражение, но одновременно и важнейшая добродетель.
После землетрясения в Кноссе Эмиль Жильерон с досадой обнаружил, что способности, за которые его и отца долгое время превозносили до небес и щедро оплачивали, пользуются все меньшим спросом. Дерзкая реконструкция, смелое приукрашивание на грани свободной игры воображения – они уже ничего не значили для нового поколения археологов, получившего в университетах Лондона, Парижа и Берлина скорее естественно-научную, нежели художественную или классическую филологическую подготовку. Эти молодые буквоеды работали деловито, методично и эмпирически, дерзкие шлимановские догадки и эвансовские фантазии считались у них сомнительными, и к жильероновским доисторическим парижанкам с их складными стульями и теннисными туфлями они относились чрезвычайно критично.
Эмиль Жильерон, пожав плечами, принял это к сведению; по желанию клиента он был готов к любой научной точности. Сожаление вызывало только одно: тщательная, методичная, кропотливая работа оплачивалась значительно хуже, так как для ее выполнения не требовалось ни искры гения, ни даже таланта, хватало лишь чуточки прилежания и добросовестности.
Однако ж когда Жильерон начал восстанавливать фреску «Blue Boy» в соответствии с новейшим уровнем исследований – то есть не как юношу, собирающего шафран, а как голубую обезьяну на цветущем лугу, – новая версия встретила единодушное неприятие не только у Артура Эванса, но и у всего персонала раскопок и у всех туристов. «Blue Boy» был уже слишком знаменит, чтобы его уничтожить; он настолько глубоко запечатлелся в коллективном образном мире человечества как подлинная икона минойского искусства, что изображение голубой обезьяны всегда будет восприниматься как фальшивка.
Новое стремление к аутентичности привело к тому, что Жильеронова торговля репликами шла все хуже. Мастерская не получала заказов, потому что во главе крупных мировых музеев теперь стояли люди, которые полагали своим долгом руководствоваться не яркими романтическими мечтаниями, а обрывочно-корректной научностью. Британский музей и Лувр перестали заказывать минойские копии в конце двадцатых годов, а нью-йоркский музей Метрополитен, который четверть века принадлежал к числу постоянных клиентов, сделал последний заказ в 1931 году. Жильероновы копии вышли из моды, музейные кураторы стыдливо убрали их из музейных витрин, отправили в подвальные запасники, откуда никогда больше не достанут.
Но мастерская Эмиля Жильерона продолжала работать, камнерезы, ювелиры и керамисты трудились по-прежнему. Порой раздавались упреки, что он производит не только копии, но и подделки. Впрочем, доказать это никто не мог, потому что Эмиль вел свое дело совершенно открыто и назвать его копии фальшивками было бы возможно, только если б он выдавал их за оригиналы.
А он этого не делал. Пока готовые экземпляры находились в мастерской, они, разумеется, считались копиями, и никому в голову не приходило принимать их за оригиналы. Однако после продажи, когда они были отправлены в широкий мир и где-нибудь на извилистых путях международной торговли антиквариатом посредник забывал упомянуть, что выставленный на торги объект не тысячелетняя древность, а точная копия оригинала, – когда такое случалось в Париже, или в Нью-Йорке, или где-нибудь еще в тысячах километров от Кносса, Жильерон ничего поделать не мог, и обвинять его едва ли возможно.
Тем не менее временами случались полицейские обыски в присутствии экспертов. Из их отчетов известно, что мастерская представляла собой фантастический сумбур доисторических предметов на всех стадиях изготовления и процесса состаривания. Расписные керамические кувшины рядом с грубыми черепками, мотки серебряной проволоки рядом с готовыми золотыми украшениями, мыльницы, полные гравированных и необработанных полудрагоценных камней, рядом с необожженными кусками глины и свежевыкованными наконечниками копий, двойными топориками и боевыми кинжалами.
Многие годы наиболее прибыльным было изготовление женских фигурок высотой от десяти до тридцати сантиметров, со змеями в каждой руке и обнаженной грудью; эти так называемые богини, или жрицы, со змеями считались у музейных кураторов и частных коллекционеров особенно яркими символами минойского общества, которое Артур Эванс издавна мыслил матриархальным. Если первые богини со змеями, найденные в начале раскопок в Кноссе в 1903 году, еще представляли собой простые фигурки из терракоты или алебастра, то во время Первой мировой войны из темных источников появлялись все более тонко сработанные статуэтки из слоновой кости и золота, за которые музеи, невзирая на неясность их происхождения, почти два десятка лет платили крупные суммы.
В мастерской Жильерона имелись богини со змеями на всех этапах производства, от необработанной слоновой кости до полностью готовых, искусственно состаренных статуэток. В угоду вкусам новой публики свежевырезанные золоченые фигурки снабжали патиной минувших тысячелетий, помещая их в кислотную ванну, где мягкие составляющие слоновой кости растворялись, будто богини со змеями с доисторических времен лежали в кислой земле; отличие от по-настоящему древней слоновой кости не мог обнаружить даже сам Артур Эванс. Более простой и дешевый метод заключался в том, что богинь закапывали в саду в определенном месте и всем домочадцам было велено до поры до времени мочиться именно там.
На последнем рабочем этапе процесс искусственного старения завершался: слишком безупречным статуэткам богинь со змеями наносили мелкие повреждения прицельными ударами молотка. Большей частью откалывали руку или дробили голень, ударов по голове старались избегать, потому что богинь без головы или с разбитым лицом дорого не продашь. Но если на рынке все же иногда появлялась фигурка с испорченным лицом, специалисты считали ее надежным доказательством аутентичности, поскольку такое снижающее ценность повреждение едва ли могло быть делом рук фальсификатора.
Два десятка лет дворец царя Миноса, словно магнит, притягивал к себе мировую археологическую общественность. Артур Эванс был посвящен королевой Викторией в рыцари, Эмиль Жильерон заработал на своих иллюстрациях и копиях больше денег, чем когда-либо зарабатывали его предшественники, зарисовывавшие античные находки. Жены британских миллионеров, немецкие стальные бароны или американские киноактеры, совершая круизы по Средиземному морю, обязательно посещали Кносс. Тогда Артур Эванс устраивал им экскурсию по дворцу и угощал обедом на террасе виллы «Ариадна», а когда в конце долгого жаркого дня опускались сумерки, иным казалось, будто на широкой дворцовой лестнице вот-вот появится увенчанная плюмажем богиня со змеями или царь Минос собственной персоной. Образ был настолько заманчивый, что американская танцовщица Айседора Дункан просто не могла не исполнить на этой лестнице среди черно-терракотовых колонн импровизированный минойско-микенский храмовый танец, босиком, в развевающихся одеждах.
Все это разом кончилось, когда 4 ноября 1922 года в тысяче километров к югу от Кносса британский археолог Говард Картер отыскал в Долине Царей гробницу Тутанхамона. Яхты миллионеров внезапно отправились уже не на Крит, а в Египет. Теперь всем хотелось увидеть золотую посмертную маску и обрамленные ляпис-лазурью глаза, саркофаг из чистого золота и многочисленные золоченые саркофаги, золотой трон и изваяния двух стражей. По всему миру музеи, газеты и университеты охватила египтомания, которая будет продолжаться много лет. В полном же забвении дворец царя Миноса оказался, когда в Месопотамии другой британец, по имени Леонард Вулли, открыл библейский город Ур, который был на тысячу лет старше Кносса, а вдобавок изобиловал клинописными глиняными табличками, позволявшими сделать вывод, что еще шумерским школьникам приходилось решать задачки на квадратные и кубические корни.
Такое падение значимости очень обеспокоило Артура Эванса, ведь он всю жизнь мечтал когда-нибудь найти в Кноссе усыпальницу царя Миноса, а возможно, даже его библиотеку. Долгие годы он потратил на поиски, расширяя территорию раскопок вокруг Кносса, вдоль и поперек, вниз и вверх объездил в деревянном седле на осле весь гористый остров вплоть до южного побережья и обратно, разыскивая царскую гробницу, заползал в несчетные пещеры, наведался на каждый крохотный островок у скалистых берегов.
После большого землетрясения 1926 года эти поездки стали редкостью, бремя лет давало себя знать. Все реже он приезжал из Англии на Крит, все чаще проводил целые годы в Оксфордшире, в своей сельской усадьбе Юлбери. Однако в марте 1931 года, когда он незадолго до своего восьмидесятилетия вновь проверял, все ли в порядке в Кноссе, Николай Полакис, священник из Фортебы, предложил ему купить огромный перстень-печатку из массивного золота, который, играя в винограднике, якобы нашел крестьянский мальчик Михаил Пападакис. Одна из версий истории сообщала, что перстень, сверкая, выглядывал из земли, другая – что он висел на стебле только что проклюнувшегося из земли растения.
На перстне была выгравирована царственно прямая фигура в лодке, похожей на морского конька, а направлялась лодка меж двумя стенами к холму с оливковой рощей или виноградником, на вершине которого стояла постройка с колоннами – то ли небольшой храм, то ли гробница. Артур Эванс писал, что с первого взгляда уверился в подлинности перстня, поскольку мотивы гравировки были хорошо ему знакомы по кносским фрескам, к тому же солидный вес литого перстня – двадцать семь граммов – наводил на мысль, что принадлежал он особе царской крови. Покупка не состоялась, так как священник запросил аж двадцать миллионов драхм, однако он бесплатно и точно описал Артуру Эвансу место находки.
В начале апреля 1931 года Эванс с небольшой группой рабочих отправился к означенному месту в винограднике, в трех километрах к югу от Кносса. Там он обнаружил маленькое греческое кладбище, а под ним – большую, по-видимому минойскую постройку; после нескольких дней раскопок выяснилось, что это храм с колоннадой, мощеным передним двором и подземным склепом с красными стенами и синим потолком.
Артур Эванс пришел в восторг. Такой большой гробницы он на Крите до сих пор не видел. Правда, склеп был без украшений и пустой, но это не внушило ему сомнений, напротив, укрепило уверенность, что перед ним действительно подлинная гробница в память царя Миноса. Ведь, как известно, в погоне за сбежавшим Дедалом Минос добрался морем до Сицилии, а там был убит и похоронен, поэтому останки его не могли находиться на Крите. А стало быть, пустота погребальной камеры таким образом доказывала или, по крайней мере, указывала, что гробница действительно сооружена для царя Миноса.
Золотой перстень, который вывел Артура Эванса на след царской гробницы и с тех пор известен в археологии как перстень царя Миноса, приобрел Государственный музей в Кандии, однако позднее был признан фальшивкой и возвращен священнику, тот якобы отдал его на хранение жене, а она якобы где-то его закопала и, к сожалению, впоследствии забыла, в каком месте, – правда, Эмиль Жильерон успел зарисовать перстень и сфотографировать, а затем изготовил в своей мастерской лично для Артура Эванса копию, прямо-таки идентичную утраченной оригинальной подделке.
Потом перстень царя Миноса надолго окружило молчание, пока восемьдесят лет спустя внук священника Полакиса не явился в музей Гераклиона и не сообщил, что перстень объявился вновь. Директор музея приобрел его за неизвестную сумму, и с 2002 года он выставлен на видном месте в постоянной экспозиции.
* * *
По возвращении в Калифорнию Феликс Блох за несколько дней записал свою теорию магнетизма нейтронов. Он долго вынашивал эту идею, и теперь она сложилась четко и ясно. Борения, сомнения и решения последних лет вдруг отошли далеко в прошлое, словно ими терзался кто-то другой. В июле 1936 года его работа была опубликована в «Физикал ревью» и произвела сенсацию, Бор и Гейзенберг прислали письма с поздравлениями. Однако для самого Феликса магнетизм нейтронов уже ничего не значил; он даже удивлялся, что мог так долго ломать над ним голову. Теперь, изложенная на бумаге, идея казалась ему банальной и пустяковой, в том числе и оттого, что никто ее не поймет, кроме нескольких чудаков вроде его самого.
Вообще, атомная физика по причине своей бессмысленности и бесцельности, хотя именно за это он некогда ее полюбил, стала ему безразлична. Перед лицом катастрофы, грозившей захлестнуть весь мир, он считал тщеславным и прямо-таки неприличным тратить время на самодовольные интроспекции. Ночами, лежа без сна в своем холостяцком бунгало и слушая вой койотов, доносившийся с холмов Футхиллс, он чувствовал себя чужим и бесполезным, потому что не делал в своей жизни ничего толкового, не имел друга и не мог поддержать близких на родине. Поездка в Европу послужила только улучшению собственного самочувствия, людям в беде он не помог. Он стыдился месяцев, проведенных в безделье в цюрихской детской кровати и у материна кухонного стола, стыдился последних десяти лет жизни, растраченных без пользы для общества.
Но поскольку он подписал договор с университетом и нуждался в деньгах на питание, бензин и квартплату, каждое утро вставал, принимал душ, брился и шел в лекционную аудиторию Физического института, чтобы рассказывать своим белокурым, мускулистым и невинным овечкам о спектральных линиях атомов или о структуре периодической системы. Он был хорошим преподавателем, и студенты любили его, ведь он дружелюбно брал их за руку и уверенно вел по морю незнания от одной льдины до другой.
Только вот сам он уже утратил любопытство. Больше не хотел выяснять, совершают ли электроны прыжки в длину или в высоту либо еще что-нибудь этакое, и все эти «как-так-и» квантовой теории находил теперь просто кокетством. В Беркли на семинары с Оппенгеймером он больше не ездил, специальные журналы читал от случая к случаю.
Поэтому у него было много свободного времени и слишком мало пищи для ума. Он бы с радостью запил, но алкоголь не останавливал, а, наоборот, ускорял холостой ход его мыслей; да и слабенькое американское пиво ему не нравилось, мужчине вроде него, рослому и сильному, пришлось бы выпить невероятно много, иначе результата не будет.
И однажды субботним утром в апреле 1936 года он поехал в Сан-Франциско, купил в магазине скобяных изделий Коула набор первоклассных гаечных ключей и отныне на досуге возился со своим «шевроле-спортстером». Снял бамперы и в лаборатории Химического института поместил в хромовую ванну. Зачистил ржавые крылья и заново покрыл их ярко-красным лаком. Черную крышу водительской кабины перекрасил в белый цвет, чтобы она поглощала поменьше солнечного света. Заново набил просиженные сиденья, отшлифовал и отлакировал деревянные спицы колес. Снял головку блока цилиндров и за три дня скрупулезной работы вырезал из тонкой пробковой пластины новую прокладку, хотя за небольшие деньги мог бы выписать ее из Детройта. Потом смазал все подшипники и заменил клиновой ремень, высверлил впускной клапан и целый день трудился над распределителем зажигания, а под конец укоротил выхлопную трубу, потом опять удлинил и снова укоротил.
Когда он закончил, «шевроле» выглядел как новенький, и мотор стал мощнее, чем в тот день, когда автомобиль выехал из ворот детройтского завода. Феликс Блох слушал его урчание и радовался красоте, которая присуща функционирующей машине, и больше всего – он и сам удивлялся – ему нравились не сложные электрические компоненты вроде фар, распределителя зажигания или прерывателя, а простые механические детали – стеклоочистители с их неспешными маятниковыми движениями, или симпатичные маленькие бакелитовые переключатели на приборной доске, или карданный вал, который так изящно передавал крутящий момент двигателя на заднюю ось.
Ручной труд пошел ему на пользу, однако ж в обозримое время при всем желании никакого ухода за машиной не понадобится. Он начал искать себе какое-нибудь другое ремесленное занятие и придумал построить в лаборатории Физического института машину, производящую свободные, не связанные в атомном ядре нейтроны. Ему показалось заманчивым создать своими руками нечто такое, чего в природе не существует, да и в ушах до сих пор звучал совет Нильса Бора, что если хочешь работать с нейтронами, то тебе нужны нейтроны. Стало быть, он их и создаст. А там будет видно, что с ними можно сделать.
В приборных шкафах лаборатории он нашел всякие физические игрушки вроде трубки Крукса или водяного насоса Леонардо, затем несколько медных катушек и трансформаторов, разнообразную термостойкую стеклянную посуду, а также вакуумный насос и несколько призм, а главное – рентгеновскую трубку, которую можно питать максимальным напряжением в двести тысяч вольт. Двести тысяч вольт – совсем неплохо, вполне сгодится. Первым делом надо получить тяжелую воду, чтобы тормозить нейтроны, а с помощью рентгеновской трубки, пожалуй, удастся создать более-менее устойчивый луч. Идея Феликса Блоха заключалась в том, чтобы поляризовать нейтронный луч, направив его меж двух сильных электромагнитов, и таким образом доказать магнитный заряд нейтронов, а может быть, и замерить его.
Он с энтузиазмом взялся за работу. Перспектива после долгого перерыва снова привести собственную мысль в гармонию с реальным миром стала для него большим утешением. Круглые сутки он паял и орудовал отверткой, как раньше в Цюрихе, когда в подвале ВТУ собирал спектрограф. И вот настала минута, когда он на пробу поместил источник излучения – смесь нескольких миллиграммов радия и бериллия – внутрь рентгеновской трубки.
О своей установке Феликс Блох впоследствии говорил, что она была скорее источником вдохновения, чем источником нейтронов. Время от времени он, постаравшись, мог обнаружить один-другой свободный нейтрон, прежде чем тот был захвачен каким-нибудь атомным ядром; но их выход оказался слишком незначительным, получить сколько-нибудь стабильный нейтронный луч не удалось ни разу. Да и рентгеновской трубкой Феликс располагал отнюдь не единолично, каждые несколько дней приходилось предоставлять ее медикам, которые вместе со своими студентами просвечивали дохлых овец или собственные руки.
Феликс Блох прекрасно сознавал, что ему нужна машина побольше – во много-много раз больше. В лаборатории его друга Роберта Оппенгеймера стояла значительно большая машина, так называемый циклотрон, считавшийся крупнейшим в мире ускорителем частиц, но и она излучала нейтроны очень нерегулярно и нестабильно, и ее тоже приходилось каждые несколько дней одалживать студентам-медикам.
Короче говоря, Феликс сел за письменный стол, набросал первый эскизный проект собственного циклотрона и рискнул вчерне прикинуть расходы на материалы. Потом снял телефонную трубку и начал собирать деньги. Декан университета сообщил, что университет не имеет свободных средств на его, по всей видимости, далекий от практики эксперимент, однако с интересом следит за его работой и желает ему удачи. Рокфеллеровский фонд выделил четыре тысячи, сан-францискский «Ротари-клаб» – тысячу, а крупная местная пекарня, надеявшаяся на поставки хлеба в университет, раскошелилась на пятьсот долларов.
А потом нежданно-негаданно настал день, который положил конец забавам и навсегда все изменил – не только в жизни Феликса Блоха, но и в будущем человечества и всех живых существ на Земле.
Этот день – 26 января 1939 года.
Феликс Блох сидел в парикмахерской Пьетро на Хамильтон-авеню, по радио передавали полуденный выпуск новостей. У Пьетро он был постоянным клиентом, потому что красивый немногословный итальянец прекрасно владел своим ремеслом и питал слабость к мелким самодельным электрическим аппаратам. Когда, поднявшись по двум ступенькам, ты наступал на коврик у входа в салон, дверь открывалась автоматически, а когда садился в парикмахерское кресло, Пьетро устанавливал нужную высоту нажатием кнопки, с помощью электромоторчика. Мыльную пену он взбивал самодельной электрической взбивалкой, а бритвы правил машинкой с двумя абразивными камнями, вращавшимися в противоположных направлениях. А вот новенькие ремингтоновские электробритвы Пьетро презирал, так как испробовал одну на себе и пришел к пророческому выводу, что такими аппаратами даже через сто лет не добьешься хорошего бритья.
Делая стрижку, он пользовался исключительно собственными электрическими машинками, диковинный внешний вид которых старался по возможности скрыть от клиентов. Одной машинкой укорачивал покрывные волосы, другой – подстригал виски, для волосков в носу и ушах использовал третью, четвертой подравнивал волосы на шее, а срезанные волоски удалял из-под воротника маленьким пылесосом с самодельным бархатным наконечником.
В конце процедуры Пьетро обязательно пальцами втирал клиентам в виски одеколон «Аква ди Парма». Феликс Блох, закрыв глаза, слушал последние известия. Диктор сообщал, что Верховный суд штата Калифорния приговорил батрака Клода Дэвида за убийство к смертной казни. Войска генерала Франко вошли в Барселону. Под потолком жужжал вентилятор, в углу – автомат с колой. Диктор читал сводку погоды. Северную Калифорнию ждали пасмурные и прохладные выходные. Как вдруг голос диктора оживился, только что поступила важная информация. Послышался шелест бумаги. В Берлине немецкому химику Отто Гану удалось посредством нейтронной бомбардировки расщепить ядро урана, что до сих пор считалось физически невозможным. Эту новость сообщил нобелевский лауреат датчанин Нильс Бор на открытии пятой Вашингтонской конференции по теоретической физике. При расщеплении уранового ядра возник элемент барий и высвободилась чудовищная энергия в двести миллионов электронвольт.
Феликс Блох мгновенно понял, что это означает. Сорвал с шеи покрывало, выбежал вон из салона, помчался к «шевроле» и сломя голову рванул в Беркли. Припарковался у лестницы похожего на дворец Ле-Конт-Холла и бегом поднялся на три этажа в кабинет Оппенгеймера, где, с трудом переводя дух, рассказал, что слышал по радио. Можно представить себе, что Оппенгеймер сидел на краю своего письменного стола, приговаривал «да… да, да… да…» и при первой возможности перебил Феликса Блоха.
Какие продукты распада обнаружил Ган? – спросил Оппенгеймер.
Барий.
И больше ничего?
Так сказали по радио, но это, разумеется, невозможно. Уран-92 минус барий-56 дает 36, то есть криптон. Если Ган обнаружил барий, то наверняка обнаружил и криптон.
А свободные нейтроны? Оппенгеймер прикурил от окурка «Честерфилда» новую сигарету.
О нейтронах не сказали ни слова.
Пока не высвобождаются нейтроны, еще куда ни шло.
Боюсь, они высвобождаются.
Один нейтрон на распад означает урановую машину, сказал Оппенгеймер. Неограниченный источник энергии для всего человечества до конца его дней.
Но два нейтрона означают бомбу, сказал Блох. Что будем делать?
Оппенгеймер пожал плечами. Если бомба возможна, кто-нибудь ее построит.
Вероятно.
Наверняка.
Спрашивается только – кто.
Кто-нибудь, кто сумеет, сказал Оппенгеймер. Таких не очень-то много. Мы или они, верно?
Феликс Блох кивнул.
Кстати, где сейчас Ган?
По-прежнему в Берлине.
А ваш друг Гейзенберг?
По-прежнему в Лейпциге.
А фон Вайцзеккер?
По-прежнему в Берлине.
Глава одиннадцатая
Последнюю поездку в Кносс Эмиль Жильерон предпринял в пятьдесят лет, когда Артура Эванса сделали почетным гражданином Гераклиона. Десять тысяч человек стояли 15 июня 1935 года вдоль дороги, когда торжественная процессия направлялась из гавани к дворцу царя Миноса. Заместитель министра по делам культов специально приехал из Афин, чтобы на большой площади перед территорией раскопок почтить заслуги Эванса и выразить ему благодарность Греции за дело его жизни. После него с речами выступили посол Соединенного Королевства и бургомистр Гераклиона. А когда солнце поднялось к зениту, православный критский епископ отслужил литургию.
Затем Артуру Эвансу выпало открыть свой бронзовый памятник, установленный на мраморном цоколе, и мемориальную доску. Аплодисменты смолкли, и он взошел на ораторскую трибуну. Говорил, как всегда, с сильным английским акцентом на смеси древне– и новогреческого, которую греки понимали с трудом, а негреки не понимали вообще. Из всех присутствующих один только Эмиль Жильерон с легкостью следил за его речью, потому что за три десятка лет привык к этой тарабарщине.
Сперва Артур Эванс рассказал о тех днях, когда Кносс был еще не царским дворцом, а оливковой рощей. Потом широким жестом обвел дело своей жизни и воскликнул, что дворец, конечно, всего лишь руины руин, но на все времена останется обвеян организаторским духом царя Миноса и свободным артистизмом Дедала.
Стоя во втором ряду, Эмиль Жильерон с грустью смотрел, как его многолетний работодатель, храбро стараясь не согнуть головы под бременем своих восьмидесяти шести лет, уверенно рисует образ минойского царства, каким оно ему представлялось. Жильерону все это было не в новинку, все это он слышал тысячи раз – рассказ о миролюбивой морской державе, фантазию о грамотном матриархате, легенду о внезапной гибели от землетрясения и вулканических извержений. Он искренне радовался почестям, оказанным старику, только сожалел, что они, как бывает почти всегда, достались ему с опозданием на двадцать-тридцать лет.
Будь юбиляру пятьдесят или шестьдесят, он бы, возможно, еще сумел отступиться от своих устаревших представлений и наладить контакт с научными преемниками. Теперь же он безвозвратно увяз в стариковском упрямстве и вызывал лишь вполне естественное раздражение у молодых археологов, которые приехали сюда с твердым намерением почтить знаменитого старца. Они смущенно смотрели в землю, на свои ботинки, меж тем как Эванс рассуждал о духе царя Миноса, а когда он закончил, они, посмеиваясь и подталкивая друг друга, бросали косые взгляды на дворец и шушукались, что под такой массой железобетона и масляной краски выживет разве только дух Артура Эванса.
Тем не менее аплодировали долго и искренне. После торжественной церемонии приглашенные гости отправились на банкет на террасе виллы «Ариадна», а под вечер вернулись в гавань, где ждал пароход до Афин. Прощание было сердечным, но лицемерным; при всем почтении к Артуру Эвансу, который целиком отдал Кноссу свою энергию и свое личное состояние, археологическое общество Крита все же было радо навсегда отделаться от старика, который только мешал своим преемникам и заслонял солнце. И когда пассажиры поднялись на борт и матросы отдали швартовы, Эмиль Жильерон уже знал, что и его время на Крите истекло.
Пароход вышел из гавани, а когда прощальные взмахи рук и приветственные возгласы остались позади, попутчики собрались на чай в маленьком салоне.
Помните наше первое плавание сюда лет тридцать назад? – спросил Артур Эванс. Вы тогда рисовали на скатерти.
Мне было пятнадцать, виновато сказал Жильерон. Отец не одну неделю потешался надо мной из-за этого.
Ах, ваш отец, сказал Эванс. Как долго его уже нет с нами?
Одиннадцать лет, ответил Эмиль. Он умер за четыре дня до четырехлетия моего сына.
Значит, малышу Альфреду теперь уже пятнадцать, верно? Он унаследовал ваш талант, рисует на скатерти?
Чего не знаю, того не знаю, коротко ответил Эмиль.
Немного погодя Эванс откашлялся и огляделся по сторонам, будто что-то искал.
Скажите, Жильерон, не на этом ли самом пароходе мы плыли на Крит тридцать лет назад? Не за этим ли самым столом вы рисовали на скатерти?
Увы, нет, сэр. Мне случайно известно, что тот пароход много лет назад отправили на слом.
Вы уверены?
Вполне.
Как жаль, сказал Эванс и провел обеими руками по кромке стола, словно поглаживая судно. Я бы поклялся… Он огляделся, смущенно и растерянно.
Жильерон сочувствовал старику.
Пароход, конечно, другой, сказал он, но я совершенно с вами согласен. Тот пароход был очень похож на этот.
Правда?
Поразительное сходство. Как две капли воды.
Верно? Артур Эванс довольно кивнул. Суда вообще все выглядят очень похоже, вам не кажется?
Вы совершенно правы, кивнул Жильерон, глядя на серое море. Судно оно и есть судно, ни убавить, ни прибавить.
Разговор иссяк, Артур Эванс, удивленно вскинув брови, разглядывал скатерть, а Эмиль Жильерон досадовал, что сочувствует ему.
День выдался утомительный, и они рано легли спать. На другой день в пирейском порту они попрощались, пожали друг другу руки, обещали вскоре увидеться, и все-таки оба знали, что в этой жизни больше не встретятся. Вполне возможно, что по дороге из Пирея в Афины Эмиль Жильерон всплакнул, так как попрощался не только с Артуром Эвансом и его эпохой, но и с эпохой своего отца да, пожалуй, и со своей собственной.
Ведь в тот день он впервые за тридцать лет вернулся с Крита без единого профессионального успеха, без единого заказа, договора и приглашения. Это не случайность и не останется исключением, тут Жильерон не строил себе иллюзий. В этот торжественный день молодые буквоеды с невысказанной бранью выпихнули на пенсию не только Артура Эванса, но и его. Все правильно, таков ход вещей, Эмиль Жильерон не испытывал горечи, он не считал себя побежденным, а буквоедов – победителями; просто состоялась пересменка. Пусть теперь молодые люди покажут, чего стоит их безапелляционная наука.
Артур Эванс и Эмиль Жильерон как-никак воссоздали дворец царя Миноса – а что могут предъявить буквоеды? Несколько научно достоверных куч камней. Одна сиротливо лежала на окраине городка Палекастро, другая – за пляжем Като-Закрос, кое-что нашли в Фесте итальянцы, а в Малии французы раскопали кучу камней, и все это было тщательно обмеряно, заархивировано и каталогизировано. Но кому эти развалины хоть что-нибудь расскажут? Хоть крошечную историю? И кто захочет посмотреть на них, после того как увидел роскошный кносский дворец?
Артур Эванс и Эмиль Жильерон были творцами кносского дворца, этого уже не изменить, так останется и через сто лет, когда молодые пуристы, педанты и бухгалтеры от археологии давно сгниют в своих могилах и канут в забвение, бок о бок с музейными кураторами, министерскими чиновниками и прочими худосочными, бесстрастными крохоборами, формалистами и трутнями, которые в жизни ничем не увлекались, пыжились за государственный счет и никогда не потратили ни драхмы из собственного кармана ни на что, кроме собственного брюха. Даже через сто лет – в этом Эмиль Жильерон был уверен – коллективная память человечества будет вспоминать древний Крит таким, каким его создали он и Артур Эванс: с тронными залами, и наружными лестницами, и терракотово-красными колоннами, сужающимися книзу, и красотками со складными стульчиками, со сборщиками шафрана и жрицами со змеями.
За десятилетия работы он создал целостное творение, которое независимо от его исторической достоверности заслужило место в крупнейших музеях мира. Конечно, Эмиль Жильерон прекрасно понимал, что за труд своей жизни не удостоится звания почетного доктора, не станет ни рыцарем, ни почетным гражданином, напротив, должен радоваться, что не кончит свои дни за решеткой как фальсификатор или мошенник. Но если мир и не умел оценить его художественные достижения, он, что ни говори, вправе назвать себя величайшим мистификатором всех времен, ведь он не просто скопировал несколько фрагментов живописи, фигурок слоновой кости или денежных купюр, а ни больше ни меньше как придумал портрет древнейшей в Европе высокоразвитой культуры – со всем ее легким оптимизмом и приверженностью к стилям модерн и ар-деко.
И хотя Эмиль Жильерон до сих пор не осуществил главную цель отцовской юности, не построил домик на Женевском озере, он все же мог быть доволен собой, ему не требовалось ничего больше доказывать, признание молодых буквоедов не имело для него значения.
Неприятно только, что ему пока не восемьдесят пять и придется еще долго зарабатывать деньги. В Афинах обстоятельства складывались для него не лучше, чем на Крите, крупные музеи и институты ничего больше у него не покупали. Годом раньше он последний раз взял верх над молодыми археологами и устроил в Государственном музее древностей целый зал минойских древностей собственного производства. Но и это уже в прошлом, новых заказов не ожидалось.
Дорогу из Пирея в Афины залили гудроном, вдобавок провели трамвайную линию. Плотная вереница автомобилей катила по мостовой, конных повозок и осликов почти не видно. Уже несколько лет в городе кишмя кишели машины, летом на улицах не продохнешь от густых туч выхлопных газов. Большинство трамвайных кондукторов говорили по-французски, многие официанты – по-немецки. Дом семейства Жильерон располагался уже не на козьем пастбище, а среди шумного, быстро растущего города.
За полвека отец и сын Жильероны прошли все этапы исторического развития археологии. Вместе со Шлиманом бродили по берегам Эгейского моря как охотники за древностями и собиратели, потом вместе с Эвансом обосновались в Кноссе как земледельцы. Когда пахотной земли стало мало, переключились на специализированное художественное ремесло для платежеспособной элиты, а когда этот маленький феодальный рынок рухнул, расширили круг покупателей, создали мануфактуру и снизили розничные цены. Последний шаг к индустриализации они сделали, когда начали массовое производство копий на заводе в Южной Германии.
Методом гальванопластики Вюртембергский метизный завод в Гайслингене выпускал по Жильероновым моделям минойские бычьи головы и микенские кубки из золота и серебра, в любых желаемых количествах, а кроме того, всевозможные вазы, масляные светильники и бокалы, мечи и кинжалы, монеты и посмертные маски, а также золотые перстни вроде перстня царя Миноса, который привел Артура Эванса к храмовой гробнице. Богато иллюстрированный каталог насчитывал сто сорок четыре артикула, заказы адресовать Эмилю Жильерону, улица Скоуфа, 43, Афины. Во введении мюнхенский профессор Пауль Фольтерс писал, что артефакты не оставлены в погнутом, расплющенном и разбитом состоянии, а возвращены в исходную форму.
Минойские артефакты из Гайслингена обеспечивали Эмилю Жильерону средства к существованию, стоили они недорого и продавались хорошо. Но постепенно спрос упал, рынок, казалось, насытился. К тому же Вюртембергский завод получал все больше заказов от вермахта и теперь редко находил время для факультативных заказов Жильерона.
Чтобы и этот источник доходов не иссяк, Эмилю приходилось постоянно обновлять ассортимент. Дважды в год – большей частью осенью и весной – он ездил в Гайслинген, отвозил новые артефакты и давал инструкции по их воспроизведению. Каждый раз он задерживался на заводе по нескольку дней, следил за изготовлением литейных форм и оценивал первые копии, после чего опять возвращался в Афины.
Поездки морем и по железной дороге год от года становились все обременительнее, он искал возможности отделаться от этой обузы. Когда-нибудь разъезжать будет его сын Альфред, но до его совершеннолетия оставалось еще несколько лет.
Утром 2 сентября 1939 года, собираясь в обычный осенний вояж, Эмиль Жильерон прочитал за завтраком в газете, что между Германией и Польшей грянула война. Он отставил чашку, позвонил в «Триестинский Ллойд» и отложил поездку в Триест на четыре недели. К тому времени, как писали в газете, война закончится, Польша не продержится и двух недель.
Прошел месяц, вновь предстоял отъезд. Накануне вечером, сидя с женой Эрнестой на террасе дома, он ужинал каракатицей под соусом из красного вина. Вечер был по-летнему теплый, на юге пламенел Акрополь, обок всходила луна. После кофе Эрнеста поставила лампу рядом с мольбертом и продолжила работу над очередным пейзажем, представлявшим Акрополь при полной луне; при восходящей луне она набрасывала тени, чтобы решить, какой ракурс самый эффектный.
Эмиль Жильерон, потягивая арманьяк, смотрел, как она работает. Они состояли в браке уже двадцать лет, и двадцать один год он наблюдал за ее работой. Он ценил ее картины, потому что технически они отличались высоким качеством, хотя были слишком аккуратны и лишены художнической дерзости. По-своему трагично, что Эрнестины виды Акрополя были чересчур хороши, чтобы продавать их туристам, и чересчур незначительны, чтобы привлечь интерес галеристов и коллекционеров. Любой пачкун, любой дилетант, любой гений имел своих покупателей на ненасытном афинском художественном рынке, и только работы Эрнесты не продавались, сотнями громоздясь в жильероновском доме. Лишь раз в несколько месяцев какая-нибудь одна уходила в широкий мир, чтобы долгой гостьей пылиться в салоне у друзей или знакомых.
Луна, как всегда, на удивление быстро отделилась от горизонта. Когда она стояла близко к зениту и Акрополь уже почти не отбрасывал теней, Эрнеста убрала кисти и краски и ушла к себе. Эмиль налил себе последнюю рюмку арманьяка, чемодан он уже собрал. На сей раз ехать придется, хотя война пока не кончилась; складские запасы подходили к концу.
Эмиль страшился поездки. Таможенный контроль будет еще утомительнее обычного, переезды по железной дороге – еще длительнее, а сроки прибытия – еще неопределеннее. В таких обстоятельствах не стоит везти в багаже приметные объекты вроде боевого топора Менелая или двуручного меча Тесея. На сей раз он захватит в Германию только минойские золотые перстни и микенские монеты, а все прочее оставит дома.
Когда бутылка опустела, он вошел в дом, вымыл лицо и руки, разделся и завел будильник на половину седьмого. Было чуть за полночь, только-только настало 30 сентября 1939 года. Он тихонько лег в постель рядом с женой и по обыкновению быстро уснул. За пятьдесят четыре года его жизни не было, пожалуй, такой ночи, когда бы он не заснул легко и быстро.
Два часа спустя его жена проснулась, оттого что он перестал похрапывать. Она тронула его за плечо, а он уже остыл.
* * *
Конечно, Лаура д’Ориано часто думала о том, что обязана вернуться в Боттигхофен к дочерям и Эмилю Фраунхольцу. Особенно за прилавком во второй половине дня, когда покупателей в магазине было немного и часы меж дамскими и мужскими шляпами тянулись бесконечно, у нее порой закрадывалось чувство, будто она просыпается от глубокого сна и необъяснимым образом находится не в то время и не на том месте, среди чужих людей, с которыми не имеет ничего общего. Иной раз она готова была сунуть под мышку сумку и пальто и, не прощаясь, уйти прочь, но никогда этого не делала, так как не знала, куда уйти и к кому.
Одно она знала твердо: от ее возвращения в Боттигхофен никто не выиграет – ни дочери, которые под присмотром бабушки подрастают у просторного Боденского озера и станут пухленькими, добродушными и прилежными тургаускими девушками-крестьянками; ни муж, который тем быстрее преодолеет ревность и боль разлуки, чем меньше будет видеть Лауру; ни она сама, ведь ей никогда не хватит духу прозябать тургауской хозяйкой в деревянных башмаках, среди яблонь и бельевых веревок.
И еще одно ей стало ясно: Боттигхофен она бросила не потому, что хотела петь, а совсем наоборот – хотела петь, чтобы держаться подальше от таких мест, как Боттигхофен. Ни к какой великой цели Лаура в своей жизни не стремилась, нет, она просто всегда знала, чего не хочет. Ей не хотелось быть послушным ребенком и очаровательным подростком, не хотелось быть желанной невестой и верной женой, осмотрительной домохозяйкой и заботливой матерью – только поэтому она садилась на вагонную лесенку и пела.
Она отвергла все марионеточные роли, какие заготовила для нее жизнь, тут она проявила непоколебимость и силу. Но когда надо было создавать для себя подходящую роль, сразу впадала в растерянность, как, кстати говоря, и большинство людей, уступала власти обстоятельств, день за днем по мере возможности справляясь с буднями.
Вот так Лаура д’Ориано год за годом оставалась в шляпном магазине Марии Хуарес, продавала шляпы иностранцам, а каждые несколько месяцев пела в каком-нибудь ночном кафе в костюме Свеньи, Кармен или Айши. На фоне амбиций юности это было поражение, хоть и элегантное, ведь, что ни говори, Лаура никому не отчитывалась в расцветке своего нижнего белья и могла в любое время уйти куда угодно. Никто ее не удерживал, никто не затыкал ей рот и не связывал по рукам и ногам – впрочем, в сущности, ей надо бы скорее радоваться, что ее не выгоняют, времена-то были суровые. В ночных кафе почти не осталось платежеспособных клиентов, да и оборот шляпного магазина Марии Хуарес непрерывно падал.
Обстановка резко переменилась летом 1940 года, когда в город внезапно хлынули люди из разных стран. После вторжения вермахта в Северную Францию миллионы французов бежали в так называемую свободную зону, а с ними сотни тысяч беженцев от нацизма, которые ранее нашли убежище в Северной Франции и теперь стремились на юг в поисках судна, которое увезет их от убийц в безопасность за океаном.
С каждым поездом, который приходил с севера на вокзал Сен-Шарль, поток новоприбывших выплескивался по широкой лестнице на улицу Канебьер. Лишь немногие были одеты элегантно, их чемоданы несли до такси униформированные носильщики, большинство же, обутые в стоптанные ботинки, тащили под мышкой помятые, перевязанные веревками фибровые чемоданы; на лицах у всех читались страх, лишения и усталость, и как богачей, так и бедняков занимал вопрос, надолго ли хватит денег, припрятанных где-то под одеждой.
Но в общем и целом новоприбывшие привезли в город много денег. С каждым поездом возрастал спрос на продукты питания, жилье и предметы первой необходимости, а поскольку предложение было невелико, цены взлетели до небес. Магазину Марии Хуарес оказалось весьма на руку, что беженцы в дороге часто теряли шляпы и затем на первой же стоянке искали им замену, чтобы снова мало-мальски почувствовать себя людьми. Дверной колокольчик звонил не переставая. Дела шли блестяще, рабочие пчелки в ателье быстрыми пальцами с утра до вечера мастерили дамские и мужские головные уборы. И поскольку большинство покупателей были иностранцами и говорили на чужих языках, Лаура д’Ориано была, как никогда, востребована за прилавком.
К тому же и ночные кафе опять заполнились народом. Выступлений у Лауры было сколько угодно. В иные вечера она стояла на сцене в трех разных заведениях и в трех разных костюмах – то как Свенья, Копенгагенская Лилия, то как Кармен, Роза Севильи, то как Айша, Триполитанская Царица.
Заработанные деньги утекали у нее между пальцев. Жизнь в Марселе вздорожала, а все, что оставалось, она по обыкновению отсылала в Боттигхофен. С тех пор как Эмиль Фраунхольц отверг ее переводы, она отправляла деньги свекрови, которая в свою очередь каждые несколько месяцев присылала ей фотографии девочек, без всяких комментариев; на снимках дочери сияли в объектив, демонстрируя пухлые щечки и толстые белокурые косы. Лаура ценила этот безмолвный знак женской солидарности, но воспринимала его и как намек, что девочкам живется хорошо и пусть Лаура даже не помышляет возвращаться в Боттигхофен.
Тем летом 1940-го Лауре д’Ориано исполнилось двадцать девять. Она отпраздновала день рождения одна в своей давней девичьей комнате у Вьё-Пор. Отец уже постарел и ни в чем Лауре не перечил, при одном условии: она не должна водить домой мужчин; мать тоже примирилась, что дочь отвергала все марионеточные роли, – если не считать очередной марионеточной ролью, что она постепенно становилась старой девой, по-прежнему жила с родителями, поддерживала бесперспективные знакомства с мужчинами и годами выполняла вспомогательную работу, которая изначально мыслилась как вынужденное временное решение.
В этой роли Лаура чувствовала себя не так уж и плохо. Можно представить себе, что, сложись обстоятельства иначе, она бы играла ее еще долго. Но когда Италия объявила войну Франции и Муссолини приказал своим соотечественникам вернуться на родину, родители Лауры собрали чемоданы, призвали к себе четверых младших детей, продали квартиру и паромом отправились в Рим – не затем что послушались Муссолини, но чтобы не угодить под арест французской полиции, которая больше не выдавала итальянским гражданам вид на жительство.
Во Франции осталась одна Лаура. Сложностей с властями она пока не ожидала, так как благодаря замужеству стала швейцаркой. Но с квартиры у Вьё-Пор пришлось съехать и искать новое жилье. Задача оказалась трудной, потому что ни в одной гостинице, ни в одном пансионе свободных номеров не было, а цены даже на крохотные каморки выросли до абсурда.
Летним утром в июле 1940 года Лаура д’Ориано стояла на улице, все пожитки ей пришлось нести с собой на работу в старом, благородном чемоданчике. Хозяйка состроила суровую мину, рабочие пчелки зашушукались. Когда незадолго до закрытия хозяйка ушла с дневной выручкой в банк, одна из пчелок выпорхнула из ателье, сунула Лауре в ладонь записку и тихонько сказала, что Лаура может пока пожить у нее, в ее мансардной каморке найдется одно спальное местечко.
Лаура с благодарностью приняла предложение. Комнатушка находилась на улице Тапис-Вер, на седьмом этаже, а спальное место представляло собой ветхий ампирный диван у щелястого окна. Посредине комнаты стояла ширма, а за ней – кровать рабочей пчелки. Обе женщины легли рано. А потом долго лежали в темноте, обоюдно защищенные от взглядов, и еще долго вели женские разговоры. Следующий вечер прошел так же. Они подружились и скоро знали друг о дружке все. Когда настало время рассчитаться за неделю с квартирным хозяином, Лаура заплатила половину и впредь поступала таким же образом.
Так минуло полгода.
Во второй половине дня 10 января 1941 года в шляпный магазин вошел невысокий упитанный господин, на лоб ему падала прядь волос, да и вообще он походил на Наполеона Бонапарта. Когда хозяйка поздоровалась с ним, он хмуро ответил по-итальянски и беспомощно огляделся по сторонам, после чего хозяйка округлым жестом указала на Лауру и ушла в ателье.
Лаура с первых же слов услыхала, что невысокий господин говорит по-итальянски с французским акцентом, но поддержала игру и тоже по-итальянски спросила, что ему угодно.
Мне нужна черная фетровая шляпа на холодное время года, сказал невысокий господин. Размер пятьдесят четвертый, пожалуйста.
Лаура достала с полки несколько шляп, положила на прилавок и разъяснила их особенности, меж тем как клиент примерял одну за другой.
Я беру вот эту, наконец сказал он. Нет-нет, прошу вас, упаковывать не надо, я сразу ее надену. Кстати, вы прекрасно говорите по-итальянски.
Мои родители итальянцы, сказала Лаура.
Тогда вы безусловно заметили, что я сам корсиканец, сказал невысокий господин.
Лаура кивнула.
Мой итальянский ужасен, а вот у вас, видимо, талант к языкам. Мне говорили, вы владеете еще и греческим, турецким и русским. Это правда?
Правда.
А как с немецким?
Лаура молчала, с растущим вниманием присматриваясь к собеседнику.
Как с немецким, синьора?
Увы, по-немецки я не говорю.
Ничего страшного, сказал невысокий господин. Мне нужно поговорить с вами, синьора, по очень важному делу.
Слушаю вас.
Не здесь. Жду вас сегодня вечером в девятнадцать часов в баре гостиницы «Селект».
За кого вы меня принимаете, месье, сказала Лаура. Я в бары по вызову не хожу, тем более…
Не так громко, сказал невысокий господин.
…тем более когда меня приглашает фальшивый итальянец, который не назвал своего имени.
Настоятельно советую вам прийти сегодня вечером в «Селект», синьора. Ваш вид на жительство вскоре истекает, вам это известно?
Лаура кивнула.
Не стоит доводить до крайности, вас ведь могут без всякого повода арестовать прямо на улице. Кстати, вы пока так и не сообщили свой новый адрес в швейцарское консульство, исправьте это упущение. А лицензия на сценические выступления у вас есть?
Какая еще лицензия?
На профессиональные публичные выступления. Распоряжение от двенадцатого ноября прошлого года.
Я не знала.
Поторопитесь привести ваши документы в порядок, синьора, и будьте осторожны. Приходите сегодня в девятнадцать часов в «Селект». Я могу вам помочь.
Я все еще не знаю, кто вы такой.
Вам лучше не знать моего имени.
Я с незнакомцами не встречаюсь.
Синьора…
Это мое последнее слово.
Меня зовут Симон Котони, я комиссар Surveillance du Territoire[50] в Ницце. Не говорите никому о моем визите и не упоминайте нигде мое имя. Сколько я должен вам за шляпу?
Четырнадцать франков пятьдесят сантимов, месье.
Коротышка положил на прилавок пятнадцать франков.
Сегодня вечером в девятнадцать часов. Не опаздывайте.
Когда Лаура придвинула ему чек и сдачу, он положил на прилавок пачку купюр.
Это вам, на неотложные расходы. Берите. Ну, скорее. Пора опять платить за квартиру на улице Тапис-Вер. Пошлите немного в Швейцарию, если хотите. И ни слова о моем визите. Никому. Вы меня поняли?
Когда невысокий господин ушел, Лаура д’Ориано пересчитала деньги. Триста франков. На неделю хватит.
* * *
Потом настал год, когда на одном из конгрессов в бостонском Массачусетском технологическом институте Феликс Блох познакомился с молодым физиком Лорой Миш, которая защитилась в Гёттингене по рентгеновским лучам и в 1938-м эмигрировала в Америку. Четырнадцатого марта 1940 года они поженились. На первых порах жили в кампусе, в холостяцком бунгало Феликса, затем переехали в симпатичный домик на Эмерсон-роуд в Пало-Альто. Там 16 января следующего года родились близнецы Джордж и Дэниел. Для молодой матери первый год с двумя младенцами был весьма напряженным, вскоре ей срочно потребовался отдых. И Феликс Блох готовился провести лето 1942 года с семьей на пляже Ла-Карпинтерия к югу от Санта-Барбары.
Но тут ему позвонил Роберт Оппенгеймер и попросил принять участие в его летнем семинаре в Беркли.
На сей раз нет, сказал Блох.
Это важно, сказал Оппенгеймер.
Сожалею, сказал Блох. Мы уже упаковали плавки и пеленки. И внесли плату за пляжный домик.
Распакуйте вещи, сказал Оппенгеймер, и не беспокойтесь о задатке. Привет от меня Лоре. Скажите ей, что я все возмещу.
Но я не могу. Зима у нас выдалась тяжелая.
Сожалею. Дело идет о нейтронах. Блох, вы нужны мне на семинаре. Участие обязательно. Больше я по телефону ничего сказать не могу.
Как это понимать? – спросил Блох.
Послушайте. Семинар так и так состоится, хотим мы с вами или нет. Если не мы, это сделают они. Мы или они, Блох, вы меня понимаете? Вероятно, они уже этим занимаются. Нам нельзя терять время.
Понимаю.
Ваше участие – личное пожелание президента Рузвельта. Начинаем в первых числах июля. Будут еще несколько старых друзей по копенгагенским временам.
Кто?
Ханс Бете и Эдвард Теллер. Ван Флек[51]. Мой ассистент Роберт Сербер[52]. И несколько моих докторантов. Теллер ведь защищался у вас в Лейпциге?
У Гейзенберга. По ионизированным молекулам водорода. У меня он только заваривал чай. В подвале с пинг-понгом.
Вот так и получилось, что лето 1942 года Феликс Блох провел не на пляже Санта-Барбары, а на верхнем этаже Ле-Конт-Холла в Беркли. Перед семинаром стояла задача в свободной общей дискуссии чисто гипотетически обосновать, возможно ли в принципе создать оружие огромной разрушительной силы, высвободив внутриатомную энергию связи.
Участвовало в семинаре девять человек. Из числа ведущих умов в этой области. Встречи были засекречены. И происходили на верхнем этаже в помещении, ключи от которого имел один только Оппенгеймер. Две стеклянные двери вели на балкон, по соображениям безопасности забранный стальной сеткой.
Для создания соответствующей атмосферы Роберт Оппенгеймер утром первого дня сделал сообщение о доселе величайшем вызванном людьми взрыве, случившемся 6 декабря 1917 года в порту Галифакса. После детонации пяти тысяч тонн тринитротолуола на французском артиллерийском транспорте образовался исполинский огненный шар, на территории двух с половиной квадратных миль ударная волна сровняла город с землей и убила две тысячи человек. Когда же над Галифаксом вновь воцарилась тишина, к небу поднялось грибовидное облако дыма.
Разрушительная сила этого взрыва была огромна. Но урановая бомба – к такому мнению участники семинара единодушно пришли в первый же день – произведет по меньшей мере десятикратное воздействие. Дымовой гриб поднимется в десять раз выше, огненный шар будет в десять раз больше, а взрывная волна – в десять раз мощнее, она одним ударом сотрет с лица земли не только небольшой город вроде Галифакса, но и большой вроде Берлина или Гамбурга. Или Рима. И убьет не две тысячи человек, а двадцать тысяч. Или двести тысяч.
Участники семинара очень быстро поняли, что потребуется много технической изобретательности, чтобы построить относительно небольшую и компактную бомбу, которую бомбардировщик В-29 сможет доставить на значительное расстояние к месту назначения. Однако в принципе это казалось возможным. В первой памятной записке Оппенгеймер отметил, что для быстрой цепной реакции хватит наполненного ураном-235 контейнера диаметром в двадцать сантиметров, причем, конечно, добавятся механизм взрывателя и оболочка, а это во много раз больший объем и вес.
Все лето под крышей Ле-Конт-Холла они вдевятером вели расчеты и проектировали свою гипотетическую бомбу. Нужно было в точности определить минимальное количество урана-235, необходимое для запуска надежной цепной реакции. Серьезную проблему представлял механизм взрывателя, который надлежало сконструировать так, чтобы масса как можно скорее стала критической и цепная реакция протекла полностью и не была прервана преждевременной детонацией. Особенно важен был также вопрос, сколько энергии выделится при цепной реакции. Детальные расчеты показали, что взрыв атомной бомбы превзойдет по мощности взрыв в Галифаксе не в десять раз, а как минимум в сто, если не в тысячу раз, и в результате число погибших может составить не две и не двадцать тысяч, а двести тысяч.
Феликсу Блоху предстояло в своей специальной области заняться проблемой диффузии нейтронов, установить, как при цепной реакции поведут себя быстрые нейтроны. Кое-что он мог прояснить, но оставались и открытые вопросы. Правда, принципиальных трудностей теоретического или технического свойства в ходе семинара не возникало. Бомбу сделать можно, в этом все участники семинара были единодушны.
Сомнения охватили всех только один раз, тем июльским утром, когда Эдвард Теллер, прихрамывая, вошел в комнату, попросил у Оппенгеймера слова и высказал опасение, что жар атомного взрыва может инициировать возгорание всей земной атмосферы, которое перекинется на воду Мирового океана и полностью уничтожит жизнь на планете.
Его слова вызвали шок. Оппенгеймер, Блох и Бете бросили свои расчеты и взялись за новую проблему. Все знали, что при высоких температурах водород терял стабильность, как и азот, из которого на три четверти состоит воздух. Вопрос лишь в том, при какой температуре начнется цепная реакция и Земля вспыхнет.
До Эдварда Теллера никому из людей эта мысль в голову не приходила, ответа не знал никто. Оппенгеймер поручил Бете проверить расчеты Теллера. Через несколько дней Бете дал отбой, вероятность глобального возгорания воздуха и воды «сильно стремится к нулю». Даже при самой высокой исходной температуре цепная реакция начаться не может, так как атомные ядра в воде и воздухе далеко отстоят друг от друга и потому потеря энергии слишком велика.
Однако гарантии Бете дать не мог, и кое у кого из участников остались сомнения. Но Роберт Оппенгеймер облегченно вздохнул, так как события последнего времени как никогда укрепили его в уверенности, что бомба необходима, без нее Гитлера на колени не поставить. Несколькими днями ранее в России вермахт на пути к нефтяным промыслам Кавказа начал наступление на Сталинград, а в Атлантике немецкая подводная лодка «У-201» потопила невооруженный британский пассажирский пароход «Алвира Стар».
Семинар продолжился, все вернулись к работе.
Лето шло к концу. Семинар был интересным, дискуссии оставались оживленными. Но однажды в августе, под вечер, когда солнце уже стояло низко и заглядывало в стеклянные двери балкона, произошел инцидент, о котором ассистент Оппенгеймера Роберт Сербер будет вспоминать до конца своих дней. Оппенгеймер прервал дискуссию и сказал:
Господи Иисусе, вы только посмотрите.
По всей комнате протянулась тень стальной сетки, которая для безопасности участников семинара затягивала балкон. Черный клетчатый узор лежал на стенах и на столах, на стульях и кипах бумаг, на руках и лицах физиков-атомщиков – повсюду раскинулась темная тень этой сетки.
Глава двенадцатая
Седьмого июня 1941 года во второй половине дня Лаура д’Ориано ехала в междугородном автобусе из Тулузы в Мон-де-Марсан. Было жарко, автобус катил через виноградники и хлебные поля навстречу солнцу, которое уже склонилось далеко к западу. Все окна стояли настежь, занавески развевались на ветру. Лаура повязала голову платком и читала книгу, в багажной сетке лежала маленькая дорожная сумка, благородный, но приметный чемоданчик она оставила в Марселе.
Шофер изучал ее в зеркале заднего вида. Вполне возможно, он считал ее вдовой военнослужащего из Тулузы, которая едет по наследственным делам к семье мужа, или школьной учительницей, которая собирается проведать родителей и коротает в дороге время, читая Верлена или Стендаля.
Если бы в автобус вошли полицейские для проверки пассажиров, Лаура достала бы из сумочки новое удостоверение личности и представилась гражданкой Франции Луизой Фремон, проживающей в Париже, родившейся 27 сентября 1912 года в Марселе. Гражданское состояние: незамужем. Рост: 1,61 м. Профессия: танцовщица и певица. При этом она бы старалась не смотреть на свою дорожную сумку, в подкладку которой были зашиты семь тысяч франков мелкими купюрами и всевозможные продовольственные карточки.
При отъезде из Тулузы пассажиров было довольно много, потом автобус мало-помалу опустел, и сейчас, вблизи от береговой запретной зоны, последней пассажиркой оставалась Лаура. Шофер больше не смотрел на нее, уже составил себе представление. На третьей остановке не доезжая до демаркационной линии, в виноградарской деревушке под названием Эр-сюр-л’Адур, она вышла и очутилась на узкой главной улице с запертыми мелочными лавками, между которыми направо и налево ответвлялись переулки. Дальше впереди звонили к мессе церковные колокола. Торцовая мостовая была еще горячей от послеполуденного солнца.
Когда автобус уехал, с противоположной стороны улицы ей махнул рукой тощий старик крестьянин с красным носом и седой щетинистой бородой. Он радостно приветствовал ее, громко назвал «ma petite Louise[53]», будто она его любимая племянница или внучка, потом перешел через дорогу, взял Лауру за плечи и крепко расцеловал в обе щеки. Забрав у нее дорожную сумку, он обнял ее за талию и быстро увлек в боковой переулок, в конце которого проселок уводил в виноградник.
В винограднике стоял красный трактор. Крестьянин сел за баранку, Лаура устроилась на маленьком сиденьице над правым задним колесом. Они направились в дальний конец виноградника, откуда другой проселок вел во второй виноградник и дальше, в третий, – вот так Лаура и крестьянин, подскакивая на ухабах, два часа тряслись среди виноградников Аквитании на запад, навстречу закату, пока не оставили позади демаркационную линию и не исчезли в пиниевом редколесье, протянувшемся на десятки песчано-болотистых километров до Атлантического океана и вверх к Жиронде.
Во второй половине следующего дня Лаура одна, с растрепанными волосами, в стоптанных туфлях появилась в Бордо. Для начала прогулялась по центру города, купила новые уличные туфли и сделала у парикмахера прическу, потом выпила кофе в уличном ресторанчике. А когда свечерело, отправилась на Кэ-Буржуа, 4, в пансион некой мадам Блан, адрес которой записала на бумажке. Пансион располагался на берегу Гаронны, недалеко от порта. Свободные комнаты нашлись и стоили недорого. С тех пор как беженцы покинули город, спасаясь от наступающего вермахта, пустого жилья в Бордо было много.
Первое выступление Лауры состоялось в ближайшую субботу в ночном кафе под названием «Танцующая обезьяна». Она опять надела старый казачий костюм, опять показала подвязку и опять пела «баюшки-баю», а матросы в публике опять плакали; единственное отличие от прошлых выступлений заключалось в том, что здесь матросы были в форме итальянского военно-морского флота, так как принадлежали к экипажам тридцати двух подводных лодок, которые под немецким командованием базировались в Бордо и готовились участвовать в битве за Атлантику. Поскольку в полночь им нужно было вернуться на подлодки, никто из них не поджидал Лауру, когда в половине первого она через заднюю дверь вышла на улицу.
Тем не менее ее задача оказалась несложной, сущим кукольным театром. Все было до того просто, что Лаура наверняка бы огорчилась, если б не испытывала огромного облегчения. На другой день ей понадобилось только нанести перед зеркалом намек на славянские скулы да накинуть на плечи казачью курточку, и итальянские матросы тотчас ее узнали, когда в воскресенье она прогуливалась возле гавани.
Лауре даже бедрами покачивать не понадобилось, чтобы взбудоражить молодых парней, вполне достаточно было остановиться на Кэ-дю-Сенегал и сунуть в рот сигарету. Пока она искала в сумочке спички, они толпой ринулись к ней, чтобы поднести огоньку и покрасоваться перед нею, а когда она поблагодарила на безупречном итальянском и, продолжая путь, помахала им через плечо кончиками пальцев, да еще и обронила мимоходом «arrivederci»[54] и сверкнула белозубой улыбкой, восторг уже не ведал пределов.
Все было совершенно предсказуемо, вековечный кукольный театр. Но Лаура участвовала в нем, потому что он служил ее целям. С того воскресного дня она стала у итальянских матросов-подводников знаменитостью. Когда она заказывала в уличном кафе мартини, напиток всегда был уже оплачен. Когда несла сумку с покупками, всегда рядом обнаруживался кавалер, который тащил сумку на Кэ-Буржуа. А когда она в Ботаническом саду садилась на лавочку с томиком Стендаля или Верлена, кто-нибудь непременно спрашивал разрешения немного посидеть рядом.
И Лаура заводила с ними разговор. Снова и снова признавалась, что в реальной жизни она вовсе не казачка, а добропорядочная учительская дочка из Марселя, и что зовут ее на самом деле не Аннушка, а Луиза (для друзей Лулу), и что по-итальянски она говорит так хорошо, потому что мама у нее итальянка. Когда же Лаура затем без всякого перехода спрашивала у матросов-подводников, очень ли трудна и сурова жизнь под водой, каждый из них, глубоко вздохнув, принимался рассказывать.
Рассказывали они о жарище на борту, о спертом воздухе и зловещей тишине после погружения, когда лодка с застопоренными машинами лежала на океанском дне среди столетних остовов затонувших кораблей и неделями поневоле притворялась мертвой, чтобы ее не засекли вражеские гидроакустики. Рассказывали о несказанном блаженстве всплытия, когда наконец-то снова стояли на палубе на свежем воздухе и брызги пены летели в лицо, и о злобном ликовании, когда удавалось прямым попаданием поразить вражеский транспорт и десять тысяч брутто-регистровых тонн со всем грузом и экипажем шли ко дну.
Все оказалось очень просто. Матросы рассказывали сами, и впоследствии никому из них даже в голову не могло прийти, что Лаура их выспрашивала; она ведь и правда почти не задавала вопросов, только временами подбадривала своих кавалеров возгласами удивления, а против этого они, как все мужчины, устоять не могли и продолжали рассказывать. Объясняли Лауре, как лодка погружается и опять всплывает, откуда берется воздух для дыхания и где расположены койки команды. Перечисляли, сколько подлодок стоит в гавани Бордо – сейчас тридцать две, правда, не все в полной боеготовности и только итальянские, а не немецкие, – упоминали названия кораблей, на которых служили раньше.
Раз-другой, когда Лаура сидела со своим кавалером у входа в гавань, случалось так, что именно в это время возвращалась или уходила та или иная подлодка. Тогда ей показывали боевую рубку с входным люком, она примечала балластные цистерны на бортах и зенитные орудия на палубе, запоминала их калибр и с вежливым интересом кивала рассказчику. Но если Лаура предлагала прогуляться по строго охраняемой гавани для подлодок, кавалеры с сожалением качали головой и заученными фразами просили понять их правильно. Строжайшая секретность, враг подслушивает. Самое результативное и самое важное оружие подводной лодки – ее невидимость. Подводная лодка, чьи координаты или курс известны врагу, все равно что погибла.
Лаура все запоминала, а вечером у себя в комнате записывала. Два-три раза в неделю она писала письма тулузскому другу, которого никогда еще не видела. Никаких других обязанностей у нее не было. По субботам она пела казачьи песни в «Танцующей обезьяне». По воскресеньям ездила автобусом к морю, в Лакано или на мыс Ферре, и в одиночестве подолгу гуляла в дюнах. Лето в Аквитании выдалось долгое и мирное. Война была далеко, дни стояли погожие, с океана все время задувал свежий бриз. И когда перед возвращением в Бордо какой-нибудь матрос узнавал Лауру на автобусной остановке, она порой принимала приглашение на тарелочку мидий с картофелем-фри.
А на просторах океана бушевала война, снова повсюду в мире шли ко дну целые флоты, и десятки тысяч молодых моряков погибали в пучине. Можно себе представить, что среди них были и кавалеры Лауры д’Ориано, ведь тем летом 1941 года необычайно много итальянских подлодок не вернулись из походов на базу в Бордо.
«Глауко» вышла в поход 24 июня 1941 года, взяв курс на Средиземное море, через три дня в Гибралтарском проливе была атакована и затонула к западу от Танжера. Восемь членов экипажа утонули, сорок два попали в плен.
Четвертого июля «Микеле Бьянки» вышла в море с секретным заданием, цель которого неизвестна, но прямо в устье Жиронды была потоплена вместе с шестьюдесятью членами экипажа.
«Маджоре Баракка» была потоплена 8 сентября у Гибралтара. Двадцать восемь моряков утонули, тридцать два были взяты в плен.
В начале октября 1941 года в море вышла подлодка «Гульельмо Маркони». По неизвестным причинам она затонула у побережья Португалии вместе со всеми шестьюдесятью членами экипажа.
В октябре в Аквитанию внезапно нагрянула осень со штормами и многонедельными дождями. Лаура закончила выступления в «Танцующей обезьяне» и попрощалась с квартирной хозяйкой. Затем она с дорожной сумкой отправилась на юг, в большой пиниевый лес, на другом конце которого на следующий день ее, наверно, ждал крестьянин с красным трактором.
Базировавшаяся в Бордо итальянская флотилия подводных лодок хотя и не сократила число боевых операций, но потерь в последующие месяцы не понесла.
* * *
Атомная бомба была придумана, теперь предстояло ее построить.
С тех пор как началась война, Феликс Блох не имел контактов с друзьями-физиками в Германии. Но конечно же читал в газетах, что Гейзенберг и фон Вайцзеккер работали в Берлине над урановой машиной, а возможно, узнал и о том, что во время последнего визита к Нильсу Бору в Копенгаген оба говорили о близкой окончательной победе и биологической необходимости войны. Вероятно, он также знал, что фон Вайцзеккер подал в Берлине заявку на патент плутониевой бомбы и что вермахт в своем разбойничьем походе по Европе реквизировал весь наличный уран. Конечно, самое позднее после Перл-Харбора и Сталинграда любому здравомыслящему человеку было ясно, что Германия похожа на шахматиста, на доске у которого на две ладьи меньше, чем у противника; но атомная бомба – и это тоже было ясно – вновь вернет в игру обе эти ладьи. А может, еще и ферзя.
Вот в такой обстановке весенним днем 1943 года Роберт Оппенгеймер приехал в Пало-Альто и попросил Феликса Блоха и в этом году отказаться от каникул на пляже, а вместо этого отправиться с ним в пустыню Нью-Мексико, чтобы в секретном месте, не обозначенном на картах, строить атомную бомбу. Причем отправиться не только на лето, но до конца года и дальше, на неопределенное время.
Каков был первый ответ Блоха, неизвестно. Неизвестно и обратился ли Оппенгеймер к нему с этой просьбой в университете или дома, на Эмерсон-роуд, и состоялась ли их встреча утром, после обеда или вечером. Неизвестно, присутствовала ли при этом жена Феликса Блоха, Лора, и бодрствовали ли близнецы или уже спали. Неизвестно, происходил ли разговор на веранде или в комнатах или же они предприняли прогулку, чтобы оградить себя от чужих ушей.
Неизвестно также, был ли этот разговор коротким или долгим, скупым мужским диалогом или страстной полемикой двух ученых, споривших о глубочайшем смысле своей науки. Об этом разговоре неизвестно ничего, хотя он определенно самый важный и трудный в жизни Феликса Блоха, ведь в тот час он должен был обязательно ответить на вопрос, может ли он – да или нет? – взять на себя ответственность перед своей совестью и во имя свободы, человечности и мира во всем мире не только помыслить страшнейшую в истории человечества машину убийства, но и сконструировать ее на практике и – да или нет? – наделен ли он, европейский еврей, правом, а тем паче обязанностью бороться против нацистского геноцида всеми доступными ему средствами, пусть даже созданием оружия массового уничтожения, которое во много раз превзойдет своей безличной эффективностью отравляющий газ Фрица Габера времен Первой мировой войны.
Об этом неизвестно ничего, так как в наследии Феликса Блоха, насчитывающем многие тысячи страниц, этот вопрос совести не упомянут ни единым словом. Ни в статьях, ни в письмах, ни в записках, которые он тщательно упорядочил и оставил потомкам в библиотеке Стэнфордского университета, об атомной бомбе нет ни слова. Эта тема столь тщательно обойдена молчанием, столь аккуратно – невольно напрашивается такая мысль – удален каждый относящийся сюда клочок бумаги, что не упоминается даже имя Оппенгеймера, который десять лет был его ближайшим другом и научным собратом.
Однако же самое главное касательно этого разговора сомнению не подлежит: во-первых, он действительно имел место, и, во-вторых, Феликс Блох утвердительно ответил на оба вопроса совести. А коль скоро он спрашивал себя, должна ли трехвековая история физических исследований действительно увенчаться созданием атомной бомбы, Оппенгеймер наверняка отмел его опасения решительным замечанием, что по ту сторону всех философских рассуждений в нынешней геостратегической ситуации речь идет лишь об одном, а именно о вопросе, кто первым получит бомбу – Гитлер или Америка.
Словом, этот разговор, по всей видимости, происходил так или примерно так. Ведь фактически летом 1943 года – вероятно, в конце июня, перед началом каникул – Лора и Феликс Блох собрали чемоданы и вместе с близнецами, которым уже сравнялось два с половиной года, отправились в пустыню Нью-Мексико.
По соображениям секретности Оппенгеймер предупредил Блоха, чтобы он не покупал на полустанке Пало-Альто билеты прямо до Санта-Фе, а на каждой пересадке – в Бейкерсфилде, Альбукерке и Лами – брал новые. В совокупности дорога заняла сорок четыре часа. На третий день ближе к полудню Феликс Блох с семьей прибыл в старинную столицу штата Нью-Мексико.
В ту пору Санта-Фе еще оставался тихим испанским городком давно минувших времен. На Плазе росли старые тенистые деревья, под которыми стояли чугунные парковые скамейки, где в любое время дня проводили сиесту мужчины любых возрастов. Небольшие группки молодых женщин, черноволосых, с ярко-алыми губами, в пестрых юбках, прохаживались вокруг обелиска в центре сквера, робко высматривая возможных поклонников. Автомобилей почти не было, возле гостиницы «Ла фонда» стояли на привязи верховые лошади и мулы. На ступенях собора Святого Франциска играли дети, на веранде губернаторского дворца, разноцветными платками привязав младенцев себе за спину, сидели индианки, предлагали на продажу керамику и украшения.
Летом 1943 года в сонный городок прибывало необычно много чужаков. В большинстве это были бледнолицые горожане с севера, испанского почти никто из них не знал, да и по-английски многие говорили с тем или иным европейским акцентом. Некоторые приезжали в одиночку, некоторые – вдвоем, многие – с детьми и помимо чемоданов тащили диковинные вещи вроде метел, ведер, зеркал, комнатных растений или детских колясок.
Каждое утро этих горожан ожидал на Ист-Палас-авеню старый школьный автобус с ярко-красной надписью «US Army»[55]. Крепкий солдат помогал женщинам погрузить домашнюю утварь и добродушно исполнял их приказания. Когда все было надежно уложено в автобус, солдат садился за руль и веревкой привязывал дверную ручку к приборной доске. Потом врубал первую скорость и трогал с места.
Автобус предназначался для гостей Роберта Оппенгеймера, и в начале лета 1943 года больше тысячи человек проделали двухчасовой путь в Лос-Аламос. Прежде всего физики с семьями, но и химики, эксперты по взрывчатым веществам, биологи, специалисты по точной механике, инженеры-электрики, баллистики и металлурги. Щебеночная дорога вела по краснозему мимо лиловых скал и охряных останцов на северо-запад к бывшему лос-аламосскому интернату для мальчиков, расположенному на высоте двух тысяч трехсот метров над уровнем моря, на краю кратера огромного потухшего вулкана. Вдали лавандовой полосой тянулись южные отроги хребта Сангре-де-Кристо, рядом мрачно чернели базальты столовой горы Блэк-Меса. Среди скалистого ландшафта разбросаны индейские поселки-пуэбло. Иные покинутые и разрушенные, иные населенные. Тут и там на глинобитных стенах вялились связки стручков красного перца, во дворах лежала на солнце желтая, голубая, белая и черная кукуруза.
Узкий деревянный мост вел через красно-бурые воды Рио-Гранде, затем дорога устремлялась круто вверх. Цвели кактусы, гремучие змеи прятались в пустынной полыни. Потом за поворотом вдруг возникали в тучах пыли огромные армейские бульдозеры, срезавшие лиловые скалы и охряные останцы, чтобы выровнять дорогу для тяжелого транспорта.
Бесконечно долго автобус карабкался в гору. А когда выползал на край кратера, дорога шла уже прямиком к Лос-Аламосу, который за считаные недели потерял всякое сходство с интернатом для мальчиков и превратился в барачный поселок на тысячу жителей. В окружности шести километров он был обнесен сплошным забором из колючей проволоки, на востоке и на западе – ворота со шлагбаумом. Военные полицейские с автоматами проверяли пропуска, молча заглядывали в автобус. Затем сержант жестом разрешал проезд.
Когда автобус тормозил у бывшей школы, вновь прибывших приветствовал Оппенгеймер. Хлопал мужчин по плечу, спрашивал их жен, как прошла поездка, ронял «да… да-да… да…», пускал по кругу зажигалку, потом делал знак солдатам, которые подхватывали багаж и провожали всех к их жилью.
Феликс и Лора Блох поселились неподалеку от водонапорной башни, в доме под номером Т-124, двухэтажной, наскоро сооруженной и покрашенной в светло-зеленый цвет постройке на четыре квартиры. В кухнях стояли чадящие дровяные плиты из армейских запасов. Жилые комнаты обставлены одинаково по-спартански, в спальнях – походные кровати. На одеялах и простынях черная печать «USED», то есть «United States Engineer Detachment»[56].
В Лос-Аламосе Феликс и Лора Блох не были одиноки. За тонкими стенами соседствовали давние друзья. Рядом, на первом этаже, жил Эдвард Теллер, который в лейпцигском пинг-понговом подвале заваривал Феликсу чай, а потом в Беркли напугал секретный летний семинар идеей космического пожара. Наверху поселился физик Роберт Брод[57], которого Феликс знал еще как гёттингенского студента, а позднее в Беркли как члена «Monday Evening Club». Совсем рядом жили и Роберт Оппенгеймер и Ханс Бете, чуть подальше – цюрихский физик Ханс Штауб и математик Джон фон Нейман[58], с которыми Феликс учился в ВТУ.
Большинство приехали с женами, многие – с детьми, и все отдавали себе отчет, что в Лос-Аламосе подпали под секретность первой степени и останутся здесь до конца войны. Средний возраст составлял около двадцати девяти лет, считаные единицы перешагнули за сорок; всю войну рождаемость в Лос-Аламосе далеко превышала средний показатель по стране. Оппенгеймер и Блох вместе с Сербером и Бете принадлежали к числу самых старших, по крайней мере до приезда Энрико Ферми и Нильса Бора.
Все приехали работать, в Лос-Аламосе не было ни пенсионеров, ни больных, ни праздношатающихся, ни художников, ни спекулянтов, ни шалопаев, ни паразитов, ни карманников, ни симулянтов, ни охотников за наследством, ни лодырей. В семь утра выли сирены, и мужчины спешили в лаборатории, расположенные на окраинах поселка в строго закрытых зонах. Дети ходили в школу или в детский сад, женщины работали в администрации, в столовых, библиотеках или школах. Общий настрой напоминал летний лагерь.
Ежедневно прибывали новые специалисты, ежедневно армейские транспорты доставляли многотонную аппаратуру из самых дальних уголков США; только в июле в Лос-Аламос привезли четыре мощнейших и крупнейших в мире ускорителя и смонтировали на литых бетонных фундаментах в специально сооруженных бараках.
Вместе с Эдвардом Теллером и Джоном фон Нейманом Феликс Блох работал над механизмом взрывателя, при котором радиоактивный изотоп формируется в полый шар и посредством имплозии стремительно и очень высоко герметизируется, чтобы достичь критической массы для полной цепной реакции без преждевременной детонации. В их задачу входило рассчитать теоретически, а затем экспериментально доказать, что это возможно. Расчет направленных со всех сторон внутрь ударных волн оказался математически крайне сложным и продолжался несколько недель, ведь вычислительных машин еще не существовало.
Когда расчеты были завершены, настал черед экспериментального доказательства. Феликс Блох и его коллеги изготовляли маленькие бомбы из полых металлических шаров, окруженных взрывчаткой, относили их в глубокий крутой каньон и клали на массивную плиту из железобетона. Потом укрывались в построенном специально для них блиндаже и затыкали уши.
Когда громовое эхо в каменных стенах утихало и дым рассеивался, они выходили из укрытия, спускались в каньон и собирали обломки металлического шара. Первые опыты ожиданий не оправдали. Детонация не обеспечивала равномерного сжатия шаров, а разрывала их на куски самой невероятной формы.
Тогда они вернулись в лабораторию, отложили шары и занялись проектированием трубчатых бомб, надеясь таким образом уменьшить на одно измерение инверсивность ударных волн.
В восемнадцать часов сирены возвещали конец рабочего дня, и все шли домой. Вечером встречались, пили коктейли в столовой бывшей школы для мальчиков. Большинство жителей Лос-Аламоса учились и работали в университетах и привыкли к светской жизни университетских городов, а поскольку в пустыне Нью-Мексико с развлечениями обстояло плохо, они своими силами без конца организовывали концерты, киносеансы, театральные спектакли и танцевальные вечера, временами устраивали и танцевальные представления индейцев, которые днем работали у ученых истопниками, ремесленниками и посыльными. Как-то раз группа физиков-театралов поставила «Мышьяк и старое кружево»[59], где Оппенгеймер изображал первый труп в сундуке, а Эдвард Теллер – второй. Около полуночи все возвращались по темным, неосвещенным щебеночным улицам домой. Когда светила луна, пинии отбрасывали черные тени.
Ночами в Лос-Аламосе царила тишина, все спали под защитой колючей проволоки, широким кольцом опоясывавшей поселок. Вдоль забора патрулировали молчаливые солдаты, вдали выли койоты. Порой гремел выстрел. В такие ночи Феликс подолгу лежал без сна и поражался, что как мальчишка-школьник взрывает сейчас в отдаленных каньонах маленькие бомбы. С удивлением он констатировал, что, хотя желал посвятить свою жизнь чему-то сугубо миролюбивому и с точки зрения военной техники совершенно бесполезному, теперь все ж таки угодил за колючую проволоку. И порой спрашивал себя, кого, собственно, эта колючая проволока защищает – Лос-Аламос от мира или мир от Лос-Аламоса.
Его сосед Эдвард Теллер тоже частенько бодрствовал допоздна. У него была привычка по ночам играть на стейнвеевском рояле, который его жена купила на аукционе в гостинице и неведомыми путями доставила сюда из Чикаго. Играл он виртуозно и страстно, а осенью 1943-го постоянно играл Венгерскую рапсодию № 12 Листа. Сквозь тонкие стены звуки улетали далеко в ночную тишину, разносились по равнине в холмы и темные каньоны, где покоились древние, покинутые индейские пуэбло.
Глава тринадцатая
Двенадцатого октября 1941 года, вернувшись в свободную зону, Лаура д’Ориано сразу проехала в Ниццу и посетила комиссара Котони в его конторе, расположенной у вокзала на авеню Жоржа Клемансо. С удивлением она отметила, что при ее появлении маленький корсиканец встал, отдал честь и похлопал ее по плечу как солдата, который отличился в бою особой храбростью.
Surveillance du Territoire очень довольна вашей работой, сказал он, вручая ей конверт с семью тысячами франков. Генерал де Голль просил передать вам его личную благодарность.
Это я должна благодарить, сказала Лаура, пряча конверт.
Прошу вас в ближайшее время не отлучаться из города. Возможно, скоро мы поручим вам новое задание.
Она кивнула и повернулась к выходу, но Котони придержал ее за локоть.
Скажите, Лаура, у вас все хорошо?
Да, конечно, спасибо.
Наверно, вы сочтете меня неделикатным, сказал он. Но ваше выражение лица… оно мне знакомо, видел такое у моей жены.
Точно. В этом все дело, сказала Лаура.
Да, сказал Котони. Только у моей жены такое выражение не все время. А у вас оно было и при нашей последней встрече. И при предпоследней, если память мне не изменяет.
Что поделаешь, сказала Лаура. Такова женская участь.
И давно ли?
Год, может быть, полтора. Лаура пожала плечами. То сильнее, то слабее.
Тогда снимайте пальто и садитесь, сказал Котони и взялся за телефон. Это нужно устранить. В таком состоянии я вас использовать не могу.
Девятнадцатого октября он на своей служебной машине отвез Лауру в больницу Святой Орлеанской Девы, и на следующий день ее оперировали. Чем именно она в точности страдала, выяснить невозможно. Но через несколько недель на допросе она сказала, что ей вырезали аппендикс, а поскольку полость живота была вскрыта, заодно удалили и матку. После этого она, кажется, ни на что больше не жаловалась.
Больничный счет на семь тысяч франков оплатил комиссар Котони. После операции Лаура одиннадцать дней провела в больнице, после чего продолжила реабилитацию в гостиничном номере. Котони ежедневно навещал ее, приносил фрукты и свежее молоко. Иногда водил в ресторан и настаивал, чтобы она заказала большой кусок мяса.
В те дни мясо и молоко были редкостью, большую часть сельскохозяйственной продукции забирали немецкие оккупанты. Но в октябре 1941 года немецкие танки в России впервые застряли в грязи. В Средиземноморье Черчилль готовился к походу против Италии, а в Атлантике военные корабли США получили от президента Рузвельта приказ без предупреждения открывать огонь по всем немецким или итальянским кораблям.
Когда Лаура д’Ориано окрепла, комиссар Котони вызвал ее к себе в контору и посвятил в подробности следующей миссии. Под чужим именем ей предстояло выехать в Италию и наведаться в военные порты Генуи и Неаполя. В Генуе произвести лишь короткий учет, а в Неаполе задержаться на шесть недель и постоянно докладывать, что за корабли заходят в порт и выходят в море.
Шестого декабря 1941 года он отвел Лауру к связнику, который назвался Чосичем. На серебристо-сером «панаре» этот Чосич вместе с ней отправился в Бриансон, самый высокогорный город на крайнем востоке французских Альп, всего в десяти километрах от итальянской границы и пятьюстами метрами ниже.
Там они сняли в «Оберж де ла Пэ» два соседних номера и жили как туристы. Ходили гулять по заснеженным лесам, бродили по Старому городу. Он купил ей норвежский свитер, шерстяные лыжные брюки и горные ботинки. В киоске они выбирали видовые открытки, потом пили кофе на освещенных солнцем террасах. Вечерами ужинали в ресторане отеля «Шатобриан», с бутылкой хорошего вина.
Так минуло пять дней. На второй день в городке поднялся переполох, потому что по радио сообщили о нападении японцев на Перл-Харбор. На пятый день – новый переполох, потому что Германия объявила войну Соединенным Штатам.
В тот вечер 11 декабря 1941 года Лаура д’Ориано долго стояла у окна, глядя вниз, на улицу. Она надела новый норвежский свитер и шерстяные лыжные брюки. С Чосичем она уже попрощалась. Тот передал ей фальшивое итальянское удостоверение личности на имя Лауры Фантини, поддельные водительские права и членскую карточку Национальной федерации фашистских союзов домовладельцев, а также пухлый конверт с девятью тысячами итальянских лир, предупредив, что тратить их надо экономно, без нужды привлекать внимание незачем.
Незадолго до полуночи в переулке появился молодой человек в красной шапке с кисточкой, остановился под Лауриным окном и потер руки, будто озяб. Это был сигнал. Лаура зашнуровала горные ботинки, громко топая, спустилась по лестнице и мимоходом кивнула ночному портье, словно шла покататься ночью на санках или поиграть в кёрлинг. Багажа при ней не было.
Молодой человек в шапке с кисточкой не представился и не спросил ее имени, почти ни слова не говоря, провел ее через весь город к дороге на перевал, достал из-за сугроба две пары снегоступов и два альпенштока. Показал, как привязать снегоступы к ногам и как, экономя силы, идти на них по глубокому снегу, после чего первым зашагал в гору к перевалу Монженевр, который уже два месяца был закрыт на зиму.
Ночной переход по глубокому снегу через крутой перевал продолжался, наверно, часов семь-девять и для Лауры д’Ориано, которая за свою жизнь видела мало снега и почти не видела гор, оказался очень утомительным. По данным французского ведомства метеорологии, ночь с 11 на 12 декабря 1941 года была не слишком морозной, но дул сильный северо-западный ветер, и на высотах около 1800 метров выпало примерно тридцать сантиметров снега.
Незадолго до рассвета Лаура и ее проводник добрались до перевала и в метель перешли границу, а на итальянской стороне спустились в приграничную деревню Чезана. Там в пансионе «Кроче бьянка» их ждала хозяйка, которая не задавала лишних вопросов и предоставила Лауре комнату, чтобы она могла несколько часов отдохнуть. Норвежский свитер, лыжные брюки и горные ботинки Лаура отдала проводнику. Он их пока сохранит, ведь через шесть недель она вернется и снова пойдет через перевал, только в обратном направлении.
Снегоступы она оставила в пансионе, вроде как забыла. В полдень вышла на дорогу, ведущую в город, и в 12.20 села на автобус, который отвез ее с гор на равнину, на главный вокзал Турина. Там она села на ближайший скорый поезд до Генуи и, когда он домчал ее до старинного портового города и остановился на вокзале Пьяцца-Принчипе, уже чувствовала себя почти как дома.
Чосич снабдил ее рекомендательным письмом к некой Марии Талии, державшей небольшой пансион неподалеку от гавани, на краю Старого города, на улице Сан-Донато, 2. Когда Лаура приехала туда, в нескольких шагах от пансиона стояли у припаркованной машины двое мужчин, курили сигареты, жестикулировали и рассуждали о футболе. Лаура оставила их без внимания.
Оба они, как Лаура узнает две недели спустя, были сотрудниками итальянской тайной полиции. Они ждали на улице Сан Донато целый день, потому что ниццский агент контрразведки сообщил, что в эту пятницу 12 декабря 1941 года в пансион Марии Талии прибудет французская шпионка из агентурной сети некоего Чосича. После того как Лаура исчезла в пансионе, они сели в машину и стали наблюдать за парадной. Черного хода в пансионе не было, это они проверили во второй половине дня. Когда пошли перекусить в остерии на углу, в окно наблюдали за происходящим на улице. Потом опять сели в машину, закурили. В полночь их сменили другие агенты.
Лаура д’Ориано вышла из дома только следующим утром, без двенадцати девять. Направилась по улице Сан-Донато мимо факультета архитектуры и Национального театра к портовой улице, где заказала в баре «Санта-Лючия» кофе и бриошь. Она часто поглядывала в окно на гавань, но в контакт ни с кем не вступала. С официантом тоже поговорила совсем коротко.
Потом она вернулась в Старый город и – под терпеливым надзором двух агентов тайной полиции – долго ходила по всевозможным специализированным магазинам, начала свой поход в половине десятого и закончила в половине первого, когда магазины закрылись на обед. Первым делом она после тщательного осмотра разных моделей приобрела легкую дамскую дорожную сумку марки «Иль понте», а затем разнообразную одежду и туалетные принадлежности высшего качества, которые сложила в новую сумку. За все три часа в контакт ни с кем не вступала, с продавцами в магазинах опять-таки обменялась лишь обычными учтивостями.
На обратном пути на улицу Сан-Донато она купила в булочной panino al prosciutto crudo[60] и съела у себя в комнате. Оберточную бумагу и шкурку от окорока после ее отъезда изъяли из мусорной корзины. Вторую половину субботнего дня и вечер она провела в пансионе. По словам Марии Талии, посетители к ней не приходили, и с постояльцами пансиона она в контакт не вступала.
Воскресным утром 14 декабря 1941 года в 09.53, когда колокола церкви Сан Донато зазвонили к мессе, она вышла из дома. Зашла в церковь, села на третью от двери скамью слева. И сидела там одна. В богослужении она принимала деятельное участие, видимо, хорошо знала песнопения и молитвы на итальянском языке и, вместе с другими верующими подойдя к алтарю, приняла причастие.
После службы она, как и утром накануне, спустилась к гавани и в баре «Санта-Лючия» выпила кофе с бриошью. Затем прогулялась к воротам военного порта. У шлагбаума стояли двое часовых. Когда д’Ориано обратилась к ним, они ее не пропустили.
После этого она вернулась в пансион «Талия». До вечера никаких происшествий замечено не было. В 22.18 д’Ориано снова вышла из дома, на сей раз с новой дорожной сумкой, и направилась прямо на станцию Пьяцца-Принчипе. На вокзале купила билет второго класса на ночной поезд до Неаполя. Незадолго до отправления она бросила в почтовый ящик зала ожидания письмо, после чего агенты тайной полиции разделились. Один последовал за ней на перрон и в 23.14, когда поезд тронулся, сел к ней в купе, тогда как второй отпер почтовый ящик и изъял письмо. Розовый конверт был адресован некоему Эмилио Брайде в Турин.
Любимый,
с нетерпением жду от тебя новостей, пожалуйста, поскорее дай о себе знать. Ты ведь знаешь меня: иначе я ужасно тревожусь и невольно думаю о самом плохом. Если бы ты знал, какие страхи меня одолевают! Пожалуйста, напиши, что все в порядке и что ты меня не забыл. Я каждый день молюсь за нас Пресвятой Богородице и очень надеюсь, что Она услышит мои молитвы.
Целую тебя множество раз.
Твоя Антония
Агент тайной полиции отнес письмо в комиссариат и нагрел с помощью обыкновенного утюга, который держали там исключительно для такой цели, – когда бумага начала буреть, между строк любовного письма проступило второе, до сих пор невидимое сообщение; написанное соляным раствором и печатными буквами оно по сей день хранится в Итальянском государственном архиве:
Порт Генуи ТЧК
4 торпедных катера ТЧК
Крейсер «Рома», перестроенный в авианосец ТЧК
Рассмотреть все очень трудно ТЧК
Еду дальше в Неаполь ТЧК КОНЕЦ
Ночная поездка по железной дороге в Неаполь прошла без происшествий, в 10.30 утра в понедельник 15 декабря 1941 года поезд прибыл на вокзал Неаполь-Центральный. Когда Лаура д’Ориано высматривала на вокзальной площади такси, с ней заговорил какой-то солдат, пригласил на кофе. Она поблагодарила и отказалась, но спросила солдата, доступен ли порт для гражданских лиц. Он не смог ответить, она подозвала такси и села в машину.
Полиция не замедлила задержать солдата и доставить на допрос в вокзальный комиссариат. Там он сумел вполне убедительно объяснить, что не знаком с этой женщиной и заговорил с ней только оттого, что ему бросились в глаза ее светлые волосы и хорошая одежда.
Такси отправилось напрямик к пансиону «Ломбарди» на улице Анджипорто, где Лаура на неопределенное время сняла комнату и уплатила за месяц вперед. Следующие два дня она неоднократно гуляла по Старому городу и вдоль гавани, не вступая ни с кем в контакт.
Вечером 16 декабря она пошла в кино и разговорилась с неким унтер-офицером в форме. На допросе в полиции он позднее тоже заверил, что никогда раньше не встречал эту женщину и о военных вопросах с нею не говорил.
После киносеанса Лаура д’Ориано в одиночестве вернулась в пансион. В течение ночи никаких происшествий не отмечалось.
Ранним утром 17 декабря она неожиданно покинула пансион еще до рассвета, поспешила на Главный вокзал и купила билет до Рима, на скорый поезд, который отправлялся в 07.30. А незадолго до отхода поезда снова бросила в почтовый ящик письмо.
Дорогой кузен,
пишу тебе несколько строк, чтобы сообщить, что моей жене стало лучше. Из-за ее болезни мы натерпелись жутких страхов, но теперь, слава Богу, все позади, надеюсь, навсегда. В первую очередь мама рада, что больше не надо бояться.
Надеемся скоро увидеть тебя, и тогда я расскажу тебе обо всем подробнее. Как твои дела? Надеюсь, все хорошо. Дай о себе знать, мы всегда очень рады услышать о тебе.
Папа тебя обнимает, все домочадцы шлют сердечный привет. А я крепко жму руку.
До скорой встречи!
Бартоли
Это письмо тоже нагрели и подрумянили утюгом. Между строк было написано:
Порт Неаполя ТЧК
1 эсминец, 2 госпитальных судна ТЧК
Огромные трудности, почти ничего не видно ТЧК
Я должна навестить маму ТЧК КОНЕЦ
Поездка по железной дороге из Неаполя в Рим продолжалась три часа шесть минут. Все это время Лаура д’Ориано, ни о чем не подозревая, сидела напротив агента тайной полиции, который по прибытии на вокзал Рома-Термини передал ее римскому коллеге. Тот последовал за ней до квартиры родителей на Ларго-Бранкаччо, 83. Все десять дней, пока Лаура д’Ориано находилась в квартире, этот дом оставался под наблюдением. Поскольку же она почти не выходила, посетителей не принимала и писем не писала, полицейские донесения были очень кратки и малоинформативны. Что происходило в те дни, так и останется неизвестным.
Можно предположить, что, когда после полутора лет разлуки Лаура вдруг позвонила в дверь, ее встретили с большой радостью и что мать и дочь прямо на пороге сердечно обнялись и, наверно, всплакнули. Далее, можно предположить, что мать провела Лауру в салон, усадила на диван и принялась потчевать чаем или яичным ликером и печеньем. Лаура, наверно, удивилась, что мать одна в большой квартире. А потом мать, наверно, рассказала ей, как вышло, что члены семьи один за другим покинули ее.
Братья Лауры на пути из Марселя в Рим в одночасье заделались пламенными приверженцами фашизма. И едва только сошли в Остии на берег, помчались на ближайший призывной пункт и записались в пехотный полк, который вскоре был переброшен в Восточную Африку. С тех пор они почти одинаковым почерком писали матери письма ничего не говорящего содержания из Массауи, Аддис-Абебы и Адуи.
Обе младшие дочери забыли в Риме про свои мечты о русских царевичах и очень заинтересовались молодцеватыми чернорубашечниками в надраенных сапогах. Одна вышла за бухгалтера из министерства финансов, вторая уехала в Грецию и стала медсестрой на госпитальном судне.
И наконец, несколько месяцев назад отец отправился в Албанию по делам, какими надеялся поправить финансы всего семейства. Он вложил последние деньги в одну из типографий Тираны, которая специализировалась на нотной печати и обеспечивала первоклассное качество по внеконкурентным ценам – могла бы обеспечивать, если бы в декабре 1939 года у нее не закончились бумага и типографская краска, поскольку на пришедшем в упадок мировом рынке поставщиков было уже не найти.
Возможно, рассказ матери занял несколько часов, и Лаура просила повторить то или другое еще два-три раза, чтобы удостовериться, что поняла все правильно. Вполне возможно, что мать и дочь вместе пошли на кухню и приготовили поесть, может быть parmigiana[61] или spaghetti aglio e olio[62], а перед сном вспоминали всякие семейные истории. Может статься, выпив на сон грядущий рюмочку-другую яичного ликера, они спели несколько песен. Не исключено, что на другой день за утренним кофе продолжили разговор и еще раз вспомнили все, что обсуждали накануне, и что потом играли в карты, занимались домашними делами, делали друг другу прически или рассматривали старые фотографии.
Все это можно себе представить, но доподлинно неизвестно ничего, потому что дежурившие на улице агенты все десять дней Лауру почти не видели. Каждое утро мать и дочь делали покупки в лавочке на углу, а потом снова исчезали в квартире. Развлекаться обе никуда не ходили, гости их не навещали – ни в сочельник, ни на Рождество, ни в День святого Стефана.
Через десять дней сыщики уверились, что разведчица Лаура д’Ориано шпионажем в столице не занимается, со связниками встречаться не будет, а в Рим приехала исключительно по семейным причинам.
Но чтобы избавиться от последних сомнений, они беспрепятственно позволили ей утром 27 декабря 1941 года вернуться с дорожной сумкой на Главный вокзал и купить билет второго класса до Неаполя. Поскольку же на сей раз она писем не отсылала, агентам тайной полиции не пришлось разделяться, оба они сели в ее купе, на случай, если она все-таки встретится в поезде со связником.
Однако в половине одиннадцатого, когда поезд тронулся, Лаура д’Ориано по-прежнему была одна и оставалась одна во время получасового перегона до первой промежуточной остановки в Литтории. Когда поезд остановился, она выглянула в окно, рассматривая выходящих пассажиров. На платформе было необычно много карабинеров, которые держали вагоны под прицелом автоматов. Двое мужчин в черных кожаных плащах быстро прошагали мимо окна и сели в поезд.
Через несколько секунд они вошли в купе Лауры д’Ориано. Козырнули, представились как maresciallo[63] Риккардо Паста и maresciallo Джованни Спано и попросили предъявить документы. Затем ее арестовали по подозрению в военном шпионаже против Королевства Италия.
Лауре д’Ориано надели наручники, ближайшим поездом доставили обратно в Рим и поместили в тюрьму Регина-Цели, пропитанный сыростью бывший женский монастырь XVII века. Один из флигелей был зарезервирован для муссолиниевской тайной полиции Овра, которая держала там в одиночках политических заключенных и проводила допросы.
Глава четырнадцатая
В Лос-Аламосе шло время. Дни, недели, месяцы Феликс Блох жил с семьей в городе, который официально не существовал и не был обозначен на карте. Город не имел ни почтового индекса, ни телефонного кода, ни спортивных обществ, и жители его не имели ни избирательного права, так как им не разрешалось фигурировать в избирательных списках, ни телефонных номеров, а свои письма были обязаны перед отправкой предъявлять военной цензуре.
День за днем в одно и то же время показывая на одних и тех же контрольных пунктах служебный пропуск, хотя одни и те же военные полицейские давно знали его в лицо и приветствовали по имени, Феликс Блох пытался рассматривать все это как часть большой скаутской игры. Старался не обращать внимания, что, когда его жена ездила в Санта-Фе за покупками, за каждым ее шагом следили сотрудники секретной службы, которые издалека бросались в глаза, потому что были слишком хорошо одеты – черные костюмы, черные шляпы, серые галстуки, белые, неизменно свежеотутюженные сорочки. Он старался воспринимать с юмором, что ему нельзя говорить с сыновьями на швейцарском немецком, поскольку желторотые военные полицейские из Оклахомы считали его цюрихский диалект венгерским, или эсперанто, или невесть каким тайным языком. А вечером, укладывая детей на раскладушки и укрывая простынями с черными печатями «USED», призывал себя к порядку и твердил, что все это происходит во имя великой цели.
Эксперименты с трубчатыми бомбами в отдаленных каньонах продвигались успешно. Методика имплозивного запала – сложная, но предельно надежная – сформировалась. Оппенгеймер остался доволен, когда в конце октября 1943 года Феликс Блох, Эдвард Теллер и Джон фон Нейман представили ему свои результаты.
Последняя трудность заключалась в получении двадцати – тридцати килограммов урана-235, необходимых для строительства бомбы. Во всем мире еще не существовало такого количества искусственного изотопа, ведь его добывали из природного урана при колоссальных затратах энергии, сырья и рабочей силы. Но военное министерство быстро построило в отдаленных районах Америки огромные заводы и наняло в общей сложности сто пятьдесят тысяч рабочих, которые непрерывно производили уран-235 и плутоний, понятия ни имея об их назначении.
Из теоретической игры ума в тесном кругу друзей бомбовый проект Роберта Оппенгеймера всего за год превратился в самое дорогостоящее научное предприятие в истории человечества. Никаких принципиальных препятствий более не существовало, главные технические проблемы были разрешены. Но технические решения одновременно дали и ответы на важные этические вопросы – или по меньшей мере представили их бесполезными. Например, первый вопрос совести – допустимо ли строить атомную бомбу просто потому, что это возможно, – потерял смысл с тех пор, как для этой цели выросли целые города, были ассигнованы миллиарды долларов и получили работу сто пятьдесят тысяч человек. Закрытие проекта уже по финансовым причинам стало невозможным.
Второй вопрос совести – допустимо ли взорвать атомную бомбу только потому, что имеешь ее, – пока не стоял на повестке дня, но Феликс Блох догадывался, что и на него уже есть ответ. Бомба родилась. Она будет построена и взорвана. Ни он, ни Роберт Оппенгеймер предотвратить это не в силах, даже соединенные силы всех ученых Лос-Аламоса сейчас ничего уже сделать не смогут. Вероятно, бомба была бы построена, даже если б каким-то чудом мировой истории Рузвельт, Черчилль, Гитлер, Сталин и Хирохито собрались на мирную конференцию и все вместе искренне поклялись навеки отказаться от ее применения.
Зато возник новый вопрос: против кого, собственно, Америка применит новое оружие? До недавнего времени обитатели Лос-Аламоса нисколько не сомневались, что бомбардировщик В-29 сбросит ее на Германию, чтобы остановить геноцид и положить конец мировой войне. Осенью 1943 года, однако, такой ясности уже не было. Ведь с каждым днем росла уверенность, что союзники выиграют войну, с атомной бомбой или без нее. Американские и британские войска высадились на Сицилии, Муссолини лишился власти, японский военно-морской флот после сражения при Мидуэе отступал. Бомбардировщики союзников устроили в Гамбурге огненную бурю, советские войска гнали вермахт на запад.
На шахматной доске Гитлера недоставало теперь не только двух ладей, но и обеих пешек, он более не имел шансов силой атома вернуть в игру ферзя. Конечно, Гейзенберг, фон Вайцзеккер и Ган продолжали в Берлине работать над своей урановой машиной, но теперь было очевидно, что измотанная войной Германия не обеспечит себя ни необходимой энергией, ни рабочей силой, ни сырьем, чтобы до конца войны произвести достаточное количество плутония или урана-235.
В такой вот ситуации Феликс Блох закончил работу над имплозивным взрывателем, ради которой Оппенгеймер привез его в Лос-Аламос. Все прочие работы шли полным ходом. Теперь Феликс мог бы взять на себя новую задачу, ведь покуда еще хватало мелких нерешенных теоретических проблем. Впрочем, подобные расчеты способен произвести любой студент-физик. Тут Оппенгеймер обойдется без него.
Со дня на день возрастала вероятность, что война кончится, прежде чем бомба будет готова к применению. По воскресеньям Лора и Феликс уезжали теперь в глухие места, слушали тишину вдали от мировых тревог. Близнецов они оставляли под присмотром соседей, машину брали у Теллеров. Поскольку в горах уже лежал снег, они выезжали через западные ворота, а затем ехали еще восемнадцать километров по Валье-Гранде, где на отложениях древнего вулкана росла густая зеленая трава. У начала Фрихолз-каньона они оставляли машину и вдоль речки шли по узкому ущелью среди орегонских сосен, колючих елей и осин; тамошние белки, еноты и скунсы еще не боялись людей, а орегонские сосны в стремлении к свету поднимались выше, чем где бы то ни было.
В высоченных скальных обрывах тут и там виднелись заброшенные жилые пещеры, за долгие столетия вырытые в мягкой туфовой породе давно вымершими индейскими племенами. Феликс и Лора были совершенно одни. Сюда сотрудники спецслужб их не сопровождали, ведь в каньоне контакт с внешним миром был практически невозможен.
На привале, сидя в тишине, они слышали трещотки по-осеннему усталых гремучников, которые искали укромное место для зимней спячки. А дойдя до конца каньона, где Фрихолз впадала в Рио-Гранде, останавливались и благоговейно рассматривали красно-бурую реку, белые песчаные отмели и по-прежнему цветущие кактусы.
Должно быть, в один из первых ноябрьских дней 1943 года Феликс Блох зашел в кабинет Оппенгеймера и попросил разрешения уехать из Лос-Аламоса. О содержании их разговора ничего не известно, так как Феликс Блох до конца своих дней хранил молчание о времени, проведенном в Лос-Аламосе, – возможно, по соображениям секретности, к которой военное ведомство обязывало его и после войны. Во всей его архивной корреспонденции Лос-Аламос упомянут только один раз: в телеграмме армейского командующего, генерала Лесли Гроувза, который недвусмысленно предупреждал, что секретность и по окончании войны остается в силе. Вероятно, именно по этой причине Блох и в семье был немногословен. Дети и внуки не припоминают, чтобы он когда-нибудь говорил об этом, ну а публично он, как известно, высказался по этому поводу один-единственный раз.
Пятнадцатого августа 1968 года у себя в кабинете в Физическом институте Стэнфорда Блох сказал историку науки Чарльзу Вайнеру, что поехал в Лос-Аламос только из опасения, что немцы разработают бомбу раньше их. Но позднее, когда стало ясно, что, по всей вероятности, этого не случится, он уволился, чем весьма рассердил некоторых своих друзей, особенно Оппенгеймера.
В день отъезда Лоры и Феликса генерал Гроувз посетил их в доме Т-124 и напомнил об обязанности соблюдать секретность. Потом пришел сосед, Эдвард Теллер, и предложил отвезти их на своей машине до вокзала Лами. В минуту прощания, когда все вещи уже лежали в багажнике теллеровского автомобиля, а близнецы сидели на заднем сиденье, Оппенгеймер не появился. Когда же Феликс Блох пошел искать друга, найти его нигде в Лос-Аламосе не удалось.
Дорога до Лами заняла два с половиной часа. Говорили о конине, об Орсоне Уэллсе и о венгерском красном вине. Обсуждать было нечего. На вокзале коротко попрощались. Поезд скоро отправится, а Теллеру предстоял долгий обратный путь. Вечером он договорился сыграть с Оппенгеймером в покер.
* * *
После ареста, уже в тюрьме Регина-Цели, сотрудники тайной полиции Овра подвергли Лауру д’Ориано допросу. Судя по протоколу, она сначала отрицала всякую шпионскую деятельность и твердила, что в Италию приехала исключительно с намерением проведать в Риме мать, которую не видела несколько лет, а тайный переход через перевал Монженевр под чужим именем выбрала потому, что итальянские власти отказали ей во въездной визе.
Но затем, когда полицейские предъявили Лауре д’Ориано написанные ее рукой, проглаженные утюгом письма с тайными донесениями, она полностью созналась.
В начале апреля 1942 года ее перевели в туринскую следственную тюрьму, где снова подвергли допросам, а в декабре привезли обратно в Рим. В заключении она пробыла в общей сложности год и три недели. Как раз в это время державы оси оказались под растущим военным нажимом, поэтому внутри страны режим был вынужден демонстрировать силу.
Уголовный процесс против Лауры д’Ориано в римском трибунале начался в воскресенье 15 января 1943 года, в 08.30 утра, и в тот же день председатель суда Антонино Трингали Казануова огласил обвинительный вердикт. Лауру приговорили к смертной казни через расстрел.
Сразу после этого ее доставили на тюремном автомобиле в крепость Браветта на западной окраине Рима. Следующим утром в 06.15 в камеру пришел священник, которому она исповедалась. Тюремщик принес ей завтрак, накануне вечером она заказала кофе с молоком и бриошь. Потом Лауру д’Ориано вывели на плац. Командир расстрельного взвода огласил приговор. В 07.07 он был приведен в исполнение.
* * *
Внезапная смерть Эмиля Жильерона привела его семью к безденежью. Тетушки и свояченицы съехали, младших детей приютили крестные. На улице Скоуфа остались только первенец Альфред и его мать, которая по-прежнему писала виды Акрополя и пыталась их продать. Когда в конце октября 1940 года итальянские войска вторглись в Северную Грецию, Эрнесте, урожденной итальянке, пришлось уехать из Афин. Они с Альфредом перебрались в Италию и на первых порах устроились у родных в Неаполе; потом оба переехали в Рим, где Альфред выучился на камнереза и скульптора. Маловероятно, хотя и не исключено, что, сам того не зная, он пересекался там с Лаурой д’Ориано, когда на Рождество 1941 года та навещала в Риме свою мать.
В 1945-м, когда Эрнеста и Альфред Жильерон вернулись в Афины, их дом на улице Скоуфа был битком набит разноязыкими военными беженцами; им пришлось постепенно отвоевывать комнаты одну за другой. После войны Альфред продолжил семейную традицию, изготовляя минойские копии для платежеспособных туристов. Но сотрудничество с Вюртембергским метизным заводом он восстановить не смог, так как в войну все формы на заводе пропали. В 1956-м он женился на латышке по фамилии Розентретер, под новый 1959 год родился его единственный сын, которого он в честь отца и деда назвал Эмилем. В середине 1960-х на улице Скоуфа выросли современные железобетонные высотки, вскоре заслонившие красивую панораму Акрополя. Поэтому Альфред Жильерон снес старую виллу и построил современный многоквартирный дом в шесть этажей, а два верхних этажа занял сам со своей семьей. Его сын, Эмиль-третий, стал химиком. Вместе с матерью он по-прежнему живет на улице Скоуфа. Квартира богато украшена работами отца, деда и прадеда, а в салоне висит красивое полотно кисти его бабушки Эрнесты, изображающее Акрополь на утренней заре.
* * *
Феликс Блох после отъезда из Лос-Аламоса занимался радарным проектом Гарвардского университета в Кембридже, и этот проект внес решающий вклад в победу союзников над державами оси. В 1945-м он вернулся в Стэнфорд и снова занялся преподаванием. В исследовательской работе он опять сосредоточился на магнетизме нейтрона. За открытие ядерной индукции, нового способа измерения магнитного момента атомных ядер, он в 1952 году получил Нобелевскую премию по физике. В 1954–1955 годах он руководил Европейским центром ядерных исследований ЦЕРН в Женеве.
Ядерная индукция стала прямым путем к магниторезонансной томографии, которая в последние десятилетия ХХ века совершила переворот в медицинской диагностике. Поэтому без преувеличения можно сказать, что дело жизни Феликса Блоха спасло жизнь куда большему числу людей, чем могла убить атомная бомба.
* * *
В истории Королевства Италия Лаура д’Ориано – единственная женщина, приговоренная к смерти и казненная. Она была похоронена в безымянной могиле, которую ее отец Поликарпо разыскал после войны. Он перезахоронил дочь на римском кладбище Верано, где покоятся также Джузеппе Гарибальди, Наталия Гинзбург[64] и Серджо Леоне[65]. А когда он сам скончался 8 июня 1962 года, его похоронили рядом с Лаурой.
До своей кончины 20 января 1989 года Эмиль Фраунхольц не проронил больше ни слова о жене, с которой официально так и не развелся. Дочерям не разрешалось упоминать ее имя. Младшая, Анна, в пятидесятые годы под именем Лаура выступала как певица, не зная, что ее мать и бабушка тоже пели. Но в 1960-м она разыскала в Риме своего деда Поликарпо. И от него узнала, что ее мать была шпионкой.
Примечания
1
Шлиман Генрих (1822–1890) – немецкий археолог, отыскал местонахождение легендарной Трои и раскопал ее; вел раскопки в Микенах, Орхомене, Тиринфе. (Здесь и далее примеч. переводчика.)
(обратно)2
«Скажите пожалуйста» «вот чертовы римляне», «ну надо же» (фр.).
(обратно)3
Бацен – старинная монета, имевшая хождение в Южной Германии и в Швейцарии.
(обратно)4
Школа изящных искусств (фр.).
(обратно)5
Геллеспонт – древнегреческое название пролива Дарданеллы.
(обратно)6
В кругу семьи и без церемоний (фр.).
(обратно)7
Ныне город Измир (Турция).
(обратно)8
Шрёдингер Эрвин (1887–1961) – австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики; Нобелевская премия 1933 г. (совместно с Полем Дираком).
(обратно)9
Вейль Герман (1885–1955) – немецкий математик.
(обратно)10
Дебай Петер (1884–1966) – физик, по происхождению голландец, учился и работал в Германии, затем в США; Нобелевская премия 1936 г.
(обратно)11
Планк Макс (1858–1947) – немецкий физик, один из основоположников квантовой теории; Нобелевская премия 1918 г.
(обратно)12
Гейзенберг Вернер (1901–1976) – немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики; Нобелевская премия 1932 г.
(обратно)13
Шеррер Пауль (1890–1969) – швейцарский физик.
(обратно)14
Бор Нильс (1885–1962) – датский физик, один из создателей современной физики; Нобелевская премия 1922 г.
(обратно)15
Зоммерфельд Арнольд (1868–1951) – немецкий физик и математик.
(обратно)16
Лондон Фриц (1900–1954) и Гейтлер (Хайтлер) Вальтер (1904–1981) – немецкие физики.
(обратно)17
Ботанический сад (фр.).
(обратно)18
Восточные танцовщицы (фр.).
(обратно)19
Габер Фриц (1868–1934) – немецкий химик-неорганик и технолог; Нобелевская премия 1918 г.; инициатор военного применения отравляющих веществ.
(обратно)20
Ган Отто (1879–1968) – немецкий радиохимик, в частности, открыл ядерную изомерию и деление ядер урана под действием нейтронов; Нобелевская премия 1944 г.
(обратно)21
Теллер Эдвард (1908–2003) – американский физик венгерского происхождения, участник создания американской атомной бомбы, руководитель работ по созданию водородной бомбы.
(обратно)22
Нисина (Нишина) Ёсио (1890–1951) – японский физик; работал в области атомной и ядерной физики, физики космических лучей; под его руководством в 1937 г. построен первый японский циклотрон.
(обратно)23
Паули Вольфганг (1900–1958) – швейцарский физик, один из создателей квантовой механики; Нобелевская премия 1945 г.
(обратно)24
Эренфест Пауль (1880–1933) – физик-теоретик, по происхождению австриец, работал в Нидерландах.
(обратно)25
Борн Макс (1882–1970) – немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики; Нобелевская премия 1954 г.
(обратно)26
Оппенгеймер Роберт (1904–1967) – американский физик; возглавлял Лос-Аламосскую национальную лабораторию, где была создана американская атомная бомба; выступил против создания водородной бомбы, после чего в 1953 г. был обвинен в «нелояльности» и отстранен от секретных работ.
(обратно)27
Вайцзеккер Карл Фридрих фон (1912–2007) – немецкий физик и философ.
(обратно)28
Дельбрюк Макс (1906–1981) – американский физик, генетик, вирусолог, один из основоположников молекулярной биологии, по происхождению немец; Нобелевская премия 1969 г. (совместно с А.Д. Херши и С.Э. Лурия).
(обратно)29
Чедвик Джеймс (1891–1974) – английский физик; Нобелевская премия 1935 г.
(обратно)30
Розенфельд Леон (1904–1974) – бельгийский физик.
(обратно)31
Чудесный год (лат.).
(обратно)32
Дирак Поль (1902–1984) – английский физик, один из создателей квантовой механики; Нобелевская премия 1933 г. (совместно с Э. Шрёдингером).
(обратно)33
Андерсон Карл Дэвид (1905–1991) – американский физик; открыл в космических лучах позитроны (1932) и мюоны (1936); Нобелевская премия 1936 г.
(обратно)34
Эванс Артур Джон (1851–1941) – английский археолог, в 1890–1930 гг. вел (с перерывами) раскопки на о. Крит, открыв минойскую культуру.
(обратно)35
У. Шекспир. Ричард II. Действ. 2, сц. 1. Перевод М. Донского.
(обратно)36
Голубой юноша (англ.).
(обратно)37
Но это же парижанки! (фр.)
(обратно)38
Ферми Энрико (1901–1954) – итальянский физик, один из создателей ядерной и нейтронной физики; Нобелевская премия 1938 г.
(обратно)39
Бете Ханс Альбрехт (1906–2005) – американский физик-теоретик, по происхождению немец; участник создания первой атомной бомбы; Нобелевская премия 1967 г.
(обратно)40
Твердая земля (лат.).
(обратно)41
Золотые самородки (англ.).
(обратно)42
Приморское шоссе (англ.).
(обратно)43
Вечерний понедельничный клуб (англ.).
(обратно)44
Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882) – американский философ, эссеист и поэт; создатель теории трансцендентализма.
(обратно)45
Йейтс Уильям Батлер (1865–1939) – ирландский поэт и драматург; вдохновитель культурного движения 1890-х гг. «Ирландское возрождение»; Рильке Райнер Мария (1875–1926) – австрийский поэт-лирик.
(обратно)46
Прекрасная эпоха (фр.) – начало ХХ века во Франции.
(обратно)47
Нюрнбергские законы – расистские законы, принятые в 1933 г., определяли статус евреев в Третьем рейхе с целью ограничения их прав в политической и общественной жизни Германии.
(обратно)48
Да, мадам (фр.).
(обратно)49
Жильерон-сын (фр.).
(обратно)50
Территориальная охрана (фр.) – одно из подразделений французской полиции; в годы войны занималось контрразведкой против немцев.
(обратно)51
Ван Флек Джон Хазбрук (1899–1980) – американский физик; Нобелевская премия 1977 г. (совместно с Ф. Андерсоном и Н. Моттом).
(обратно)52
Сербер Роберт (1909–1997) – американский физик.
(обратно)53
Малышка Луиза (фр.).
(обратно)54
До свидания (ит.).
(обратно)55
Армия США (англ.).
(обратно)56
Инженерное управление Соединенных Штатов (англ.).
(обратно)57
Брод Роберт (1900–1986) – американский физик, по происхождению немец.
(обратно)58
Нейман Джон фон (1903–1957) – американский математик и физик.
(обратно)59
Черная комедия Дж. Кесселринга, по которой режиссер Фрэнк Капра снял в 1944 г. одноименный фильм.
(обратно)60
Булочка с сырокопченым окороком (ит.).
(обратно)61
Баклажаны с сыром пармезан (ит.).
(обратно)62
Спагетти с чесноком и маслом (ит.).
(обратно)63
Фельдфебель (ит.).
(обратно)64
Гинзбург Наталия (1916–1991) – итальянская писательница.
(обратно)65
Леоне Серджо (1929–1989) – итальянский кинорежиссер и продюсер.
(обратно)


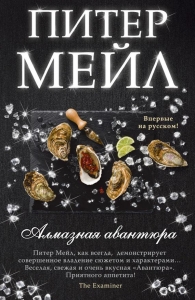
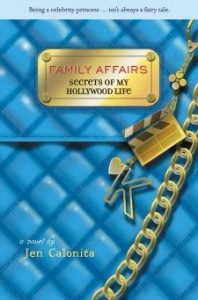
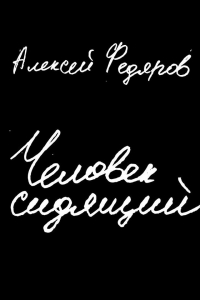






Комментарии к книге «Мистификатор, шпионка и тот, кто делал бомбу», Алекс Капю
Всего 0 комментариев