Василь Ткачев ПОД ГОРОДОМ ГОРЬКИМ
Падрыхтаванае на падставе: Василь Ткачев, Под городом Горьким. Книга прозы, — Минск: Четыре четверти, 2011. — 176 с.
ОН Перевод Натальи Костюк
ПОД ГОРОДОМ ГОРЬКИМ Перевод автора
РАБ ШМЕЛЯ Перевод Михаила Позднякова
ПРО ВОЙНУ Перевод автора
АЙ-Я-ЯЙ!, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГАННА И МАВЗОЛЕЙ, КВАРТИРА В ОМСКЕ, СИНОПТИК, РЭБА, ДУРЕНЬ, ПЕРСОНА Перевод автора
БУБЕН, ДЕНЬ ШАХТЕРА Перевод Татьяны Зарицкой
КОНЬ БАБЫ ДУНИ Перевод автора
СЛЕПОЙ И ЗРЯЧИЙ, ЧЕБОТОК Перевод Михаила Позднякова
ТАК ПЛАЧЕТ ОКНО Перевод автора
КРЕСЛО Перевод Михаила Позднякова
ПАМЯТНИК, СТАЖЕРКА, ДОРОГА Перевод автора
ПРАЗДНИК Перевод Владимира Глушакова
ТРАНЖИРА, СТОЖОК Перевод Татьяны Мартыненко
ВАХТЕР СТЕПАНОВНА, НЕ СЕЛЬСКАЯ БОЛЕЗНЬ, КОСОВИЩЕ Перевод Николая Еленевского
Рэдактар: Л. Ф. Анцух
Copyright © 2015 by Kamunikat.org
ОН
1
Был обычный будний день, и Он, слегка позавтракав, выходил из квартиры, на крыльце оглядывался по сторонам, словно кого хотел увидеть, затем поправлял старенькую шляпу на голове и шаркал по аллее к торговому центру ОМА. Что обозначали эти буквы, Он не знал, ему это, по правде говоря, и не нужно было: важно совсем другое— важно то, что там глаза разбегались от всего увиденного. Есть, есть на что посмотреть. Музей, да и все тут. Как только побывал Он здесь первый раз в конце минувшего года, так и занемог: не проживет и нескольких дней, как снова его тянет сюда точно магнитом. Неважно, что к этому загадочному и полному самых разнообразных вещей торговому центру почти все подруливают на авто, ему и так было хорошо. Каждому, думал, свое. Где ж на то авто было взять денег, коль работал честно всю жизнь, не брал никогда чужого? А как можно было на зарплату обзавестись автомобилем, Он не знал. Разве что ничего не есть, ходить в одной жилетке? Да и что тогда это будет за жизнь, голодному и оборванному? Нет, обойдется Он и без авто, и, слава Богу, ноги пока служат, не подводят, хоть и возраст солидный— под семьдесят.
Он входил в помещение торгового центра так, как прежде на проходную родного завода, а там— и в свой второй механосборочный цех, где работал до последнего трудового дня фрезеровщиком. На пороге торгового зала кивал головой парням, что следили за входом-выходом, те кивали ему— видать, как старому знакомому, потому что, не секрет, примелькался Он тут. Возможно, кто-то из тех парней и подозревал что-то, потому как и впрямь: разве не каждый день появляется тут этот седой и согбенный, словно прутик лозы, мужчина, но с чем входит, с тем и выходит— с пустыми руками. За ним, не секрет, начинали наблюдать… Он же, в свою очередь, подолгу топтался около образцов покрытий для пола и потолка, иной раз не выдерживал, брал их, крутил перед глазами и так, и этак: шикарная вещь, ничего не скажешь!..
Иной раз Он подходил к людям, увлеченным покупками, завидовал им, а чтоб показать, что и он тут ходит не просто так, а с определенным покупательским интересом, заводил беседу:
— И сколько, коль не секрет, надо этого кафеля для моей кухни?..
Или:
— А не прикупить ли и мне такого лимонада?— Он неумышленно произносил «лимонад» вместо «ламинат», просто последнее слово ему действительно не давалось.— Или, может, завтра что-нибудь еще лучше этого придумают? А? Подождать разве что?..
Ему обычно ничего не отвечали, и Он шел дальше вдоль рядов, где на стеллажах чего только не лежало-стояло, присматривался к покупателям. Люди как люди, а вишь ты, какие счастливые!..
А потом, вволю насмотревшись, Он той же дорогой, разгоняя шляпой ветерок перед лицом, возвращался домой…
2
Заболел бригадир полеводческой бригады, и вместо него временно был назначен Он.
— Поздравь меня, жена!— похвалился дома.— Я— бригадир! Ничего, что и на недолгий срок, но назначил сам председатель не кого-нибудь, а меня. Понимаешь? Думать надо!..
Жена понимала, поздравила. Она гордилась своим мужем, и с той поры, как узнала о его повышении, усвоила привычку, не отдавая, впрочем, себе в том отчета, напускать на себя излишнюю строгость и откровенно стыдиться прежней личной непричастности ко всему, что происходило вокруг.
Назавтра Он по случаю повышения по колхозной службе надел выутюженный, хоть и старенький, но чистый и приличный пиджачок, натянул джинсы, ставшие тесными его городскому сыну, а к сорочке в зеленую полосочку выбрал однотонный красный галстук.
— Ну, как?
Жена показала большой палец.
Он удивил всех на правлении колхоза. На него смотрели так, словно впервые увидели. Даже сам председатель, которого, надо признаться, никто никогда при галстуке не видел, разинул рот… Посмотрите, что делается! День при должности человек, а как сразу переменился. Не узнать. А вдруг это совсем и не Он? Так нет же… Он! Посмотрите только, с каким лихорадочным блеском глаза у человека!..
И так получилось, что пока он замещал бригадира, первым приспособил к своей тонкой шее галстук председатель, а потом незаметно и кое-кто еще. Повеселело в помещении конторы, светлее стало. От галстуков, от белых рубах.
…Он возвращался домой усталый, с грязным от пыли и пота лицом, и когда перед ним протарахтел на колесах односельчанин, «тпрукнул» коню, и тот перестал шлепать копытами. Односельчанин подождал, пока Он приблизится к нему.
— Послушай, что я тебе скажу,— задержал односельчанин на и. о. бригадира задиристый взгляд.— А скажу, коли знать хочешь, тебе следующее… Так вот… уйми свою бабу. Угомони. Приструни. Пускай ты временно бригадир, а она— кто? Кто она, позволь спросить? Отставной козы барабанщик? Так?
— Не пойму, что ты хочешь, Петро?
— Командиров, гляжу, развелось, однако. Ну, еду себе… как и всякий раз… Протарахтел возле твоей хаты, значит… А Маруся на всю улицу кричит мне вдогонку:
— Как ты едешь, паразит? Колеса поломаешь!..
Он засмеялся, похлопал по плечу односельчанина, пообещал:
— Езжай дальше, не бери в голову. А с женой своей, бригадиршей, я обязательно разберусь. Не беспокойся. Я ей покажу, как твои личные колеса жалеть.
— Так в том-то и дело! Были б хоть колхозные!..
Но, вернувшись домой, Он ничего жене не сказал, а от души поужинал и лег спать. Засыпая, жалел, что завтра Он уже не бригадир, а жена— не бригадирша.
3
Он жил один в двухкомнатной квартире, на третьем этаже в нашем подъезде. Лично мне не доводилось встречать полковника в отставке, пусть и одинокого, но в менее габаритном жилье. Он жил скромно, с соседями держался на расстоянии, первым никогда не здоровался, а когда кто-нибудь желал ему «доброго дня», лениво кивал головой или отвечал коротко и тихо.
Я вот думаю подчас: а видел ли кто его в военной форме? Я— нет. Откуда же тогда знаю, что Он полковник? Про это мне рассказал земляк, который также живет в нашем городе и как-то столкнулся с ним лицом к лицу.
— Я служил с ним в Средней Азии, Он был моим начальником,— слушал я земляка.— Я— корреспондент дивизионной газеты, Он— начальник политического отдела, молодой полковник, большой любитель художественной литературы. Читал даже на учениях, когда выдавалась свободная минута, а чаще— в своем рабочем кабинете. И делал, заметь, это весьма хитро. Книга всегда лежала в ящике стола, и если кто из подчиненных заглядывал к нему, Он тянул руку навстречу, а животом тем временем закрывал ящик. Шито-крыто. Но ничто не остается незамеченным. Раскусили и начполита. Раскусить раскусили, а что ты ему сделаешь?.. Только не про чтение мне вспомнилось, это все мелочи— чтение книг в рабочее время. Как-то вызывает он меня и приказывает: «Едем через полчаса в Теджен, собирайся и бери с собой фотокорреспондента». Теджен, где стоял учебный танковый полк, был далековато даже по меркам безлюдной пустыни— около двухсот километров. Ну, едем так едем. Я быстренько собрался, на месте был и фотокорреспондент, рядовой Раджепов, туркмен по национальности, очень веселый и общительный парнишка. Приехали на уазике в танковый полк, начполит оставил нас одних (сами знаете, что делать, не первый день в газете) и приказал ждать его около штаба в семнадцать ноль-ноль.
Мы так и сделали: набрали материала, ждем около штаба полка. Час, другой ждем. А потом я не выдерживаю, интересуюсь у дежурного: а где же наш начальник, где полковник? Дежурный хитро усмехается: мол, чудаки вы или что? Он давно уехал… Я удивился: как это— уехал? Однако удивительного тут оказалось мало. И я, наивный в те времена лейтенант, не мог сразу смекнуть, что зачем ему мы, попутчики, свидетели, когда весь багажник был нашпигован дынями и арбузами, виноградом и рыбой, которой тут, в Каракумском канале, тьма-тьмущая! Но, извините, я и Раджепов не выписывали командировок, поэтому мне пришлось купить билет за свои деньги и солдату. Он же сделал на следующий день вид, что ничего не произошло. Ясное дело, несподручно ему было интересоваться и тем, запаслись ли мы материалом для дивизионки…
Почему сегодня Он живет один и как оказался в нашем городе, земляк не знал.
4
Раньше, когда не было компьютеров, Он заваливал своими рукописями машинистку областной газеты. Та всегда, когда непризнанный писатель приносил очередное произведение, морщилась, мычала себе под нос что-то невнятное, но, хоть и была недовольна очередным визитом к ней этого творца, не отказывала ему, бралась за работу: двадцать копеек за страницу в те времена тоже были деньги. А у него страниц набиралось порядочно. Машинистка искренне жалела жену непризнанного писателя: сколько же денег тот выбрасывал на ветер! Кому, кому нужна эта писанина? Она же и рядом не стояла с литературой. Как-то, попервоначалу, машинистка— добрая душа— попыталась отредактировать текст, хоть немного прояснить его, придать привлекательный вид, но лишь нажила себе головную боль. Он не принял ни одной поправки, ни одной, потому что те страницы, в которые она вмешалась, пришлось перепечатать. Разумеется, бесплатно. Хотела сказать тогда непризнанному писателю прямо в глаза: «Да я когда слово Петровичу поправлю, он мне только спасибо говорит. Разве можно сравнить Петровича с тобой?! Его в школах дети проходят. А ты— графоман!..»
А он продолжал писать. Рассылал свои произведения по каким только можно было журналам и издательствам, но ответ получал как под копирку: ваше произведение нас не заинтересовало… А когда появилась возможность издавать книги на собственные деньги, тут и посыпалось— книга за книгой. Он охотно раздавал автографы, приносил свои произведения в библиотеки города, добивался презентаций. Только, познакомившись с написанным, в библиотеках, пряча глаза, отказывали. Он выходил из себя: «Почему другим можно, а мне нет? Что я, хуже их пишу? Буду жаловаться куда надо! Имейте в виду!..»
Ему уже чуть больше за семьдесят, но Он работает. Не пьет, не курит, никому дорогу не переходит, ему и не запрещают. Слесари всегда нужны. Ну, а деньги, заработанные на заводе, по уговору с женой Он тратит на издание своих книг. Жене хватает его пенсии. Он, к удивлению многих, был принят в союз, что придало ему уверенности… Теперь Он мог, прочитав роман известного писателя, в голос заявить: «Разве это роман?!»
Несколько дней назад Он видел такую картину. Около центральной городской библиотеки стоит фургончик и знакомые ему девушки-библиотекарши носят в него тюки книг. Что за акция? Куда их, классиков? Поинтересовался. Ответили не слишком приветливо: на макулатуру, куда же еще!.. Новые книги вытесняют из помещения старые!.. Он удивился: «Таких авторов и на макулатуру? Это же классики». Позже отлегло от сердца: среди классиков Он увидел и свои книги… Когда, наконец, до него дошло, что к чему, Он прослезился.
В тот день добиваться чего-либо от руководства библиотеки у него уже не было ни сил, ни желания. Себе же под нос не уставал повторять одно и то же: «Как это так?..» Он держал на библиотеку затаенную злость.
5
Он был хорошим актером. Был, потому что несколько дней назад в Инете появилась строка с извещением о его смерти… Не верилось, поскольку мужчина еще в самом расцвете. Позвонил знакомому в Минск, решившись поинтересоваться, что же случилось с человеком. Тот сказал коротко, как отрезал: спился. Спился? И что, из-за нее, водки, умер? В это не хотелось верить: он же совсем не брал в рот, насколько я знал, этой отравы. Ни капли. И вдруг… Скончался от водки?
В этом провинциальном театре Он появился в начале нового сезона, сразу влился в коллектив, а вскоре почти весь репертуар висел на нем. Талант есть талант. Злые языки, правда, баяли, что в столице Он вообще не был востребован, потому что там таких мастеров сцены хоть отбавляй, а тут, видите ли, стал звездой первой величины. Не трудно было догадаться сплетникам, почему он приехал в провинцию. Тут большого ума не надо, потому что просто так сюда никто не поедет, значит, что-то не сложилось у него, не иначе, набедокурил. А, так он еще и развелся с женой? Тогда понятно… Сбежал от семьи, сбежал от проблем. Коллеги глубже копать не стали. Да мало ли таких примеров, когда провинция лечила «заблудшие души»?
Актриса Стремкина в театре работала давно, еще с той поры, когда тот был народным коллективом. Потом, когда присвоили театру статус городского, она поступила в художественную академию, училась заочно, а заодно растила вместе с мужем-бизнесменом двоих детей. И… увлеклась актером, который приехал к ним из столицы. Начался роман. Где-где, а в театре такое не утаишь, и вскоре все только и судачили про отношения Стремкиной с Ним. Одни осуждали, мол, и чего ей только надо, дом полная чаша, к тому же дети. Другие понимали Стремкину: ну, полюбила, мало ли с кем такое может быть. Пройдет. Он, к тому же, был и старше Стремкиной лет на пятнадцать. Однако позже, когда отношения между столичным актером и Стремкиной зашли далеко, и тех и других словно бы как кто ужалил. Ей, видите ли, в стольный Минск захотелось, поближе к театральной и киношной богеме.
Театр погрустил-погрустил по двум звездам, да и забыл про них: хватало своих хлопот. Он и Стремкина устроились в один из столичных театров, где также снискали славу. А потом Он запил. Ужасно. Прощай, разумеется, театр. А чуть позже и Стремкина сказала: прощай… Она забрала детей и ушла от мужа на съемную квартиру. Так вот и окончилась их счастливая жизнь. Только мне не понятно одно: как Он мог, зная про свою слабость, от которой его спасало кодирование, не сказать Стремкиной об этом? Почему не предоставил ей выбора? Почему Он, в конце концов, сделал несчастными сразу четырех человек— ее, Стремкину, двоих детей и бывшего мужа? Переоценил себя?
Как бы там ни было, а мне жаль Его. Он был по-настоящему талантливым человеком, ибо не каждому из нас дано делать людей одновременно и счастливыми, и такими несчастными…
Рассказы
ПОД ГОРОДОМ ГОРЬКИМ
На этот раз Новый год Федор Коноплич решил встретить не в уютной городской квартире, как это было в течение последних лет его жизни, а в той хате, где когда-то родился. Начал собираться в неблизкую дорогу спозаранку. В вещевой мешок положил транзисторный радиоприёмник, приличный шмат сала, кольцо копченой колбасы, буханку хлеба, банку шпротов, трехлитровую бутылку воды, поллитровку... Все, кажется? А, может, водки маловато будет? Вдруг еще кто встретится ему в родной деревне, которая, знал, давно умерла: последнего жителя Вересневки провели на погост в начале этого века. Хотя хаты стоят. Почти в каждой - загляни в окно - увидишь заправленные кровати с пышными подушками, застеленные скатерками столы, у шестка стоит ухват, на лавке - ведро, к которому в обязательном порядке прилепилась кружка. Заходи, живи. В эту пору, наверное, они, хаты, заметены снегом, как заметены, наверняка, и все подходы к деревне.
Коноплич поднял вещевой мешок: легок, плечи не оттянет, поэтому решил все же взять еще и бутылку вина - на всякий случай. Для него так и одной стопки хватит, однако где-то в глубине теплилась надежда, что праздник он будет встречать не один, а на его новогодний огонек прибьется еще какая-нибудь душа...
- Все же едешь? - задержала взгляд на муже жена Мария, готовя на кухне праздничный ужин, и от лука, который на то время крошила, у нее были влажные глаза.
- Еду, - ответил кратко, но твердо.
- Ну, смотри сам. Хозяин - барин. Только не замерзни там. А я тогда, видимо, к детям пойду? А, может, и одна встречу Новый год? Будет видно. Первый раз, между прочим, за тридцать пять лет мы новогодний праздник будем встречать порознь. Не кажется тебе, что это плохая примета?
- Все будет хорошо. Не волнуйся. А на следующий день я вернусь, и мы посидим за нашим праздничным столом. И детей пригласим. Прости, Мария, что так получилось. Хата - веришь? - позвала. Хата. Ей, похоже, скучно там одной... У нее, возможно, также что-то болит, как иной раз у человека... Оставили ее все мы, забыли... Когда-то нужна была она нам, очень нужна... Нам всем... Мне, Гришке, Вовке, Сашке... Но то - когда-то... Не держи обиды на меня, Мария. Хата - тоже женщина, и она попросила моего внимания... Даже, показалось, слышал ее голос... А окно... большое, то, что во двор выходит, все время смотрит на меня... Будто мама... Будто дед Яков... Будто баба Поля... Еду, еду, Мария: чувствую, нашей хате неуютно одной под холодным зимним небом... Ее что-то беспокоит, тревожит... Я должен быть сегодня с ней...
Мария понимала своего Коноплича, не задавала больше никаких вопросов, только поинтересовалась, не забыл ли он спички. Человек не курит - мог и не взять. Без спичек вечером в старенькой родительской хате нечего делать. Оказалось, волновалась женщина напрасно: и коробок спичек, и три свечи он аккуратно завернул в полотенце и положил в самый большой карман вещевого мешка. "Видишь?" Она молча кивнула: вижу. В том полотенце были и фотографии родных людей. Чтобы Мария не задавала лишних вопросов, о них Коноплич умолчал.
В автобусе, сколько и ехал, думалось обо всем понемногу, но больше о хате, к которой спешил, словно к человеку, попавшему в беду и ждущему спасения.
На шоссе в Ильиче вышел из автобуса, посмотрел в сторону леса, сразу же нашел в нем прореху: в той давней просеке, к которой сразу прикипел его взгляд, была дорога. Не забыл. Как и предполагал, на ней не имелось следов человека, и Коноплич, не теряя времени, начал торить тропку к родным местам. Здесь было недалеко: от шоссе всего два километра, однако за ночь навалило много снега, что затрудняло ход, но это были мелочи, как считал сам Коноплич, и он шагал и шагал вперед, не обращая больше ни на что внимания.
Пока шел по лесу, было безветренно, а как только оказался на пригорке, с которого его Вересневка словно на ладони, довелось уклоняться от встречного ветра. И хоть ветер обжигал лицо, особенно нос и уши, он радовался всему этому, как малый ребенок.
Он шел к своей хате!
Интересно, есть ли там тот старенький патефон, сохранился он или его проглотило, запрятало в свои схроны время? Конопличу, как только вспомнил про патефон, сразу же всплыла в памяти зима пятьдесят восьмого года прошлого столетия. Был он тогда мальчуганом, жил в соседней деревне с родителями, а на каникулы прибежал на лыжах к деду Якову и бабке Поле, те всегда были рады внуку. Как раз вернулся из армии дядя Мишка, он был десантником, там встретил и полюбил девушку, за которой и собиралась экспедиция в Витебск: Новый год они должны были встретить мужем и женой. В ту экспедицию входил дядя Коля, он шофер, и лучший друг дяди Мишки - также Мишка, но, конечно же, с другой фамилией - Валюшев. Тайком пробраться в экспедицию вознамерился и он, Федька. Не давал ему покоя далекий и загадочный на то время Витебск, да и на машине он так далеко никогда не ездил. А так хотелось! И до чего же додумался? Зарылся в сено, имевшееся в кузове, и на котором должен был ехать Валюшев, также зарывшись в него, чтобы не замерзнуть. Это ж хорошо, тот сразу заметил, что сено - то дышит... На этом поездка Федьки Коноплича и закончилась. В деревню он не шел, а бежал тогда как раз вот по этой дороге, но вечером, вокруг было темно, хоть глаз выколи, однако возвращаться старшие не стали: возвращаться - плохая примета, а впереди дальняя дорога, а что же касаемо Федьки, то он, пострел, знает все здесь тропки, не заплутает, а если глазенки будут искриться от страха, то будет знать на будущее, как позволять себе такие вот штукарства.
Тогда и действительно натерпелся он страха. Каждый куст казался волком. Но вот когда вернулась экспедиция, то Федька был в центре внимания. Собрались посмотреть на Мишкину невесту родственники и соседи, и чтобы что-то говорить, а не молчать, они, особенно когда выпили по стопке дедовой хлебной, время от времени поворачивали головы к мальчугану и высказывались: так ты что это, Федор, и в самом деле на Витебск настроился? Лыжню, так сказать, проторить решил? А кабы замерз? А? Вот и был бы праздник нам всем: не знали бы, радоваться ли нам, что вот девушка появилась в дому, или плакать, если бы что, не дай Бог, отморозил? Дело немудреное. Ну, и хорошо, что так получилось.
Приданое у невесты было невелико, люди тогда жили скромно, а вот патефон имелся. И Федьке разрешила быть главным над ним сама витебская невеста тетя Зина. Сперва показала, что и как делать, сама же опять села за стол, а он ставил пластинки. Самостоятельно! Тогда по накуренной комнате плыла такая красивая - аж дед Яков усы подкручивал, кивая головой в знак одобрения музыки, - песня: "Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет…" Федька слушал песню, был заворожен ею и старался представить тот город Горький и ту девушку, которая там живет в рабочем поселке. Та ему и представлялась - она была, как две капли воды, похожа на невесту, которую привез дядя Мишка вместе с патефоном.
-Повтори, внук, про город Горький, - просил дед Яков.
-Сейчас, только поменяю иголку, а то треск идет сильно.
- Меняй, меняй, внук. Хорошая песня, лихо ее матери! Не зря в тот Витебск съездили парни!..
Патефон - странно ведь сегодня! - открыл Федьке тогда какой-то совсем другой мир, о котором он и не думал раньше. Оказывается, есть где-то далеко город Горький, есть рабочий поселок, есть на земле люди, которые любят друг друга... Есть любовь… Это позже появится радио в каждом доме, появятся телевизоры. Дядя Мишка с тетей Зиной построят свой дом, а Конопличи вернутся назад из соседней деревни в эту хату и будут жить большой семьей. Федьке и его братьям было такое переселение даже очень удобным: не надо бежать за четыре версты, чтобы послушать пластинку. А пластинок становилось все больше и больше - кто был в городе, тот что-то старался привезти. При любом удобном случае разживались и на иголки.
Прошли годы, жизнь пролетела, как один день, и вот теперь, идя по занесенной снегом дороге в деревню, Коноплич никак не может понять, почему все так быстро получилось в ней, в этой жизни? Только, кажется, недавно впервые услышал он про тот город Горький, накурено и весело было тогда в избе, а сегодня он, лысый и грузный, совсем другой человек, который бы ни за какие деньги на сегодняшний ум не поехал зимой в холодном кузове даже в соседнее село, а не то что в Витебск за три сотни километров, будет один встречать Новый год. Разве ж тогда, в том теперь уже далеком пятьдесят восьмом году мог он обо всем этом даже подумать? Ну да и ладно, чего уж там сегодня тревожить раны: прошлое не вернешь!..
Вот, вот и она, хата.
- Здравствуй, родная! - Коноплич снял шапку, склонил голову. - Я пришел. Не ждала? Прости, что поздно. Звонил братьям, те не могут. У них жены такие, что не понимают... Хотя и сами деревенские. А моя, Мария, ты же ее помнишь, красивая такая, с ямочками на щеках, меня понимает, хотя сама и городская. Вот так, родная. Сегодня я буду с тобой. До утра. Разреши войти?
Ключ был в том самом тайнике, о котором знали все Конопличи. На Радуницу они бывают чуть ли не ежегодно в Вересневке, однако не всегда появлялись на подворье - все было некогда: то кто-то пообещал подвезти до города и очень спешил, то еще какая причина. Поэтому ключа почти не касалась рука. Замок на диво открылся сразу, однако дверь напомнила о себе - пропела свою скрипучую мелодию. В сенцах было так, как и прежде. На гвозде висела еще почти новое решето. Клеенку, которой был покрыт стол, во многих местах погрызли мыши. Под потолком болтались пучки лекарственных трав. Ступа. Боже, ступа! Толкач был прислонен к стене. Что ж, пора проходить в переднюю. Печь. Заслонка. Полати. Ведро. Посуда. В комнате все было так, как и тогда, когда жили здесь люди. Когда умерли старики, дети почти ничего не забрали - они собирались жить здесь во время отпусков, привозить детишек летом, чтобы те побегали по травке, однако мечты остались мечтами…
На полу Коноплич вдруг заметил мелкие кусочки фольги, как раз в углу, и тогда он поднял глаза на то место, где у них испокон веков находилась икона. Икона была на месте, однако она мало чем напоминала ее, икону: постарались мыши…
Коноплич сел на табуретку, перед этим смахнул с нее пыль. Он опять поднял глаза на икону... А хате сказал:
- Сейчас я понимаю, почему ты позвала меня. Понимаю, хата. Икону я возьму с собой, в город. Отдам на реставрацию. А потом сразу привезу. Оклад новый сделаем - такой, чтобы никто больше не нашел в нем и щелочки... чтобы никто больше не залез к Божьей Матери. Молодец, молодец ты, хата, что побеспокоила меня. А я сразу почувствовал - что-то здесь не так, стряслось что-то с тобой… Ну, что ж, будем готовить праздничный ужин? Будем! За работу!..
Он вымыл крышку стола, постелил белое полотенце. В граненый стакан поставил свечу. Выложил все, что было в вещевом мешке, поставил две бутылки. Затем Каноплич аккуратненько прислонил к стене фотокарточки самых дорогих ему людей - мамы, отца, деда Якова, бабы Поли, дяди Мишки, тети Зины... Когда держал в руках карточку последней, сразу вспомнил про патефон, долго искал его - заглянул, кажется, куда только можно было. Оставалась последняя надежда - на чердак, однако он не решался туда лезть: высоко, а лестница совсем дряхлая. Однако все ж потом махнул рукой - решился, полез. Нашел! Патефон был тоже, как и икона, весь изгрызен, теперь он не имел прежнего привлекательного вишневого цвета, а напоминал старый обшарпанный чемодан, похожий на тот, с которым вернулся отец с войны. Когда Коноплич поднял крышку, на диске увидел знакомую пластинку. Да, да: это была та самая пластинка, от которой маленький тогда еще Коноплич узнал, что под городом Горьким в рабочем поселке подруга живет...
Вскоре патефон стоял на столе, и Коноплич накрутил пружину. Патефон работал! Хоть и не просто было разобрать слова, но не это главное - ему показалось, что песню внимательно, сосредоточенно слушают самые близкие ему люди, которые глядели на него с фотографий. Как только закончилась песня, Коноплич будто наяву услышал голос деда Якова:
- Повтори, внук, про город Горький...
Свечерело. Коноплич еще при свете дня зажег печку, теперь вот непоседливые языки её пламени суетливо отражались на стене. Горела свеча. Вскоре в хате стало тепло, уютно, как и когда-то раньше. Хата повеселела и похорошела, также приобрела праздничное настроение и вид. Разговаривая с ней, гость наполнил шесть стопок, каждую поставил перед фотографией.
До конца этого года оставалось еще несколько минут, и Федор Коноплич, утомленный за день приятными заботами, вышел во двор. Было холодно, на небе горели звезды. Множество звезд. Уйма. И вдруг он оцепенел, застыл в изумлении: в хатах, что были рядом, на расстоянии его взгляда, брезжили огоньки. Прислушался: голосов не слышно. А только огоньки. Только они...
Он вернулся в хату, сел за стол. Вскоре заиграл гимн, Коноплич поднял наполненную стопку, приготовился сказать новогодний тост, однако растерялся и долго не мог собраться с мыслями: перед его глазами все еще колыхались трепещущие огоньки в окнах соседних хат...
РАБ ШМЕЛЯ
Антон Подканавский попросил своих домашних, чтоб ему перво-наперво принесли в больничную палату пушечку, – она лежит в самом конце выдвижного ящика стола. Там – шмель. «Подержать его хочется, в глаза ему, окаянному, взглянуть». Сперва он, шмель, лежал в белом стареньком мамином платке, сразу впопыхах завязанном на простенький узелок – пусть и поползает там, пока не угомонится. Извини, шмель, у тебя судьба такая... Извини...
Было это еще задолго до войны, когда Подканавский прожил на этом свете всего ничего. Потом, когда он начал курить, вспомнил о шмеле и определил его, сухого, легенького, как пушинка, но все еще по-прежнему красивого – с желтыми подпалинами под крылышками – в спичечный коробок: лежи здесь, почтенный. Еще позже, когда в деревенскую лавку завезли монпансье в жестянках, то, опорожнив их, дети звенели медью и другой мелкой монетой, а взрослые приспособили те жестянки, или, как называли их некоторые, пушечки, под самосад, нитки, иголки и пуговицы. Антон же, тогда уже начинающий колхозник, переложил в одну из них все того шмеля: а теперь полежи здесь… здесь тебе более просторно…
Пока жила мама, шмель всегда лежал в одном месте – в сундуке, где была спрессована вся, можно сказать, одежда и разные простыни-пододеяльники. Мамы давно нет, неизвестно куда задевался и сундук , однако Антон Подканавский, невысокого роста и щуплый старичок, с прямым и чуть заостренным носом, хорошо помнит, как она , загнав шмеля в уголок оконной рамы, радовалась: «Держи его!.. Лови!.. Лови, шкодобу!.. Убежит!.. Ага, попался, тута-а!..» А тогда, завязав шмеля в тот белый старенький платок, счастливо улыбаясь, говорила сыну: «Запомни, Антон: если первого шмеля, что весной залетит, засушить и держать все время в доме, то счастье не обойдет тебя сторонушкой, будешь богатым и счастливым. На, сам спрячь этот узелок. Он твой…»
Тогда же, как только мальчик уснул, ему приснилось: будто попал он в шмелиное царство. Рыжевато-желтые шмели беспрерывно и невыносимо громко жужжали в садах и на подворьях, тяжело, беспорядочно и бесцельно, казалось, летали, словно перегруженные собственным весом , над головами людей и домашних животных, над всей зеленой и пахнущей цветами землей. Держались шмели чрезвычайно гордо и властно, как хозяева, как самые главные: ничего и никого не боялись.
Как раз в то время над деревней появились бомбардировщики: сперва вражеские, потом – наши. Появились – и исчезли. А шмели остались. И кое-кто из сельчан подумал, что шмели эти, чтоб им погано сделалось, накликали беду. Никогда ж раньше столько много этой мелюзги не было, а здесь – как из лукошка кто насыпал, да широко размахнулся – вон их, паразитов, сколько!.. Хоть ты прикажи детворе, чтобы те половили их да уничтожили. Только справятся ли? Уйма их, уйма!..
Один только отец Авгей, нахмурив брови, сказал:
– Не мы прислали к нам шмелей, непрошеные они, потому надо их уничтожить. А то, ишь ты, перевоплотились во вражьи самолеты... Поставить на свое место надо их...
И рванула первая бомба!..
На этом месте и проснулся Антон. Однако он хорошо помнил, что проснулся после того, как угрожающе крикнул в сторону отца: «Своего шмеля я не дам уничтожить!..»
Шмеля, как и просил, Подканавскому принесли. Поставили пушечку на тумбочке, немного поговорили, да и пошли: дел, говорят, дома много. Некогда. А старик лежал на спине, нацелив глаза в потолок и собирался встать, а как сделать это – не совсем знал: в последнее время силы почти целиком оставили его, тело сделалась непослушным, перестал ходить даже в столовую. Еду приносят в палату, санитарка помогает яму приподняться, топчет за спину подушку, и Подканавский кое-как справляется с ней, с едой-то.
А сегодня ему обязательно надо встать. Воскресенье, все легко больные и городские отпросились домой, и он один в палате. К тому же принесли, не забыли, и шмеля. Самое время посудачить с ним, с глазу на глаз. Будет ли еще когда такой подходящий момент? Давай, давай, Подканавский, собери всю свою энергию, всю свою волю и страсть в кулак, стисни зубы – и на ноги, братка!.. Шмель ждет. Ты же хотел поговорить с ним, неслухом, так – пожалуйста!..
И Подканавский приподнимается, приподнимается… морщится от боли… кряхтит... стонет... выругался даже матом, хотя в этом плане он человек сдержанный… и, опершись на локоть, повернулся на бок, свесил ноги… Как ни старался, как ни приспосабливался, однако стать на ноги не стал: удачно, решил, повезло, что и так получилось. Сидеть – не лежать: все же полегче разговаривать будет…
– Ну, где ты, шмель? – дрожащей рукой Подканавский взял пушечку, раскрыл ее, затем дрожащими пальцами развернул бумажку, в которой был сухой – страшно подумать, как только сохранился! – шмель: без бумажки он бы, конечно, рассыпался в пыль, катаясь в своей металлической усыпальнице. – Это я, Антон. Из-под Канавы. Узнал? Не прикидывайся, что нет…Все ты знаешь, все ты помнишь… Потому как – святой… А теперь послушай меня, поговорить с тобой жажду! – Предательский ком, подступивший к горлу, спер дыхание, он никак не мог его проглотить, поэтому образовалась пауза; заодно вытер и влагу на глазах: –Так сказать!.. Что это ты, шмель, не выполнил своего предназначения, роли?.. Юлил, устранялся, а?.. Нет, ты не подумай, что я целиком положился на тебя, доверился… мол, пусть оно горит все синим пламенем, пальцем не пошевелю, ибо мне шмель денег заработает и каши наготовит, примет в партию и теперь вот положит пенсию по случаю возраста, чтобы я мог не только крякнуть-кашлянуть. Если бы так! Старался жить, все соки выжимал из себя, надеясь и на тебя , конечно же, а получился из всего этого круглый пшик, сказать по правде. Ты погляди , погляди на меня, на кого я похож?.. А начиналось же все так хорошо… Видать, там и ты подмог.. А после не больно старался, капризничал. Что факт, то факт. Как бы там ни было, а на тебя я сильно в обиде, шмель. Спасибо-о!.. Не оправдал ты маминых надежд, напрасно она тогда поймала тебя, а я носился с коробочками-пушечками, как с писаной торбой, и всю жизнь, дай памяти, был твоим рабом. Напрасно. И в армию брал, но даже до ефрейтора не дослужился, а вот гауптвахты не избежал. Даже, когда новую открывали, так совпало, что я ленту перерезал... и сразу порог переступил, первым, а ножницы возвратил тут же... Тогда я с командиром поспорил, за казаха Шакира заступился: он его узкоглазым обозвал ... и чем еще – не помню... давно было... А ты говоришь!.. Не возражай, от своих слов я не отрекаюсь, шмель… И уже, пожалуй, никогда не отрекусь: нет на то времени…не осталось…
Кто-то резко открыл дверь в палату и тут же быстренько ее притворил. Тот кто-то наверняка знал, что в комнате должен быть только один человек – больной Подканавский – и вроде ему не с кем разговаривать, а он , гляньте, раззадорился – трещит больно уж чересчур, не умолкая. А когда тот кто-то увидел в палате одного старика, ретировался и притворил дверь: с ним все понятно!.. Сидит и сам с собой ведет беседу – не может, поди, унять все разбушевавшиеся в нем страсти. В его годы бывает. Лучше не задевать!..
Подканавский же, откашлявшись и восстановив дыхание, продолжал исповедь. Далее шмелю небезынтересно было узнать про его жизнь, запутанную и непростую, и подбирал для него из множества эпизодов и фактов, что роились в голове, как раз те , которые не украшали его, тропки-дорожки были пройдены-проеханы совсем не так, как виделось и хотелось, и в тех прорехах, на думку старика, был виноват и шмель. Получай, неслух!.. А может он просто хотел исповедаться перед шмелем, потому что более не было перед кем. А ему так хотелось этого! И, пожалуй, здесь соединились, слились воедино два желания.
– А тогда же, сразу после войны, когда с нее начали приходить сельчане, пили за победу, и мне налили в кружку. Проглотил, и так понравилась, и так полюбил я это дело!.. Если ж бы я знал, что мне совсем пить нельзя… по наследственному. Гены, ити их мать!.. Так, сдается?.. С годами разобрался, что к чему. Но к потому времени много чего потерял из-за нее, холеры...В деда удался, а он тоже сопротивления алкоголю не имел… и у меня такой организм – без педалей на тормоз: попала капля в рот – еще давай, еще… пока ночь не наступит. Это трудно объяснить, как хотелось: спал и видел только водку… Ни баб, как некоторые, а водку… Она и стала моей бедой. Тем временем женился на соседке Ольге , она уже выучилась на учительницу, в Обидовичах детишек учила. Сошлись, значит, начали жить. А когда я деньги у нее украл, чтобы выпить, она обнаружила пропажу и сказала, чтобы убирался… негоже, дескать, учительнице с пьяницей жить. По тем временам – да-а, конечно!.. А уже сынок был у нас, Васька… брат мой на фронте погиб, под Ленинградом, так чтобы помнить его… в честь брата назвали... Вот так, шмель!.. А ты говоришь!.. К бабке в Зимницу меня мать сводила, после ее шушуканья пошла светлая полоса: на шофера выучился, полуторку дали… в основном солому свозил с поля и за хлебом ездил в Журавичи… и Ваську брал иной раз с собой, когда за хлебом… Он больно крошки хлебные любил подбирать, что оставались в кузове на теплой от хлеба-то бляхе. Соберет их в кучку ручонками, и в рот, и в рот... А сам смеется, ты б видел!.. Тут Ольга молодец: и со стариками моими, и со мной хорошо вела себя… как ничего и не произошло… А тогда беда у меня случилась: посадили. На семь лет. Колесо для колхозной полуторки я перекинул в тех же Журавичах, около хлебозавода, из чужой машины в свою…Да хотелось мне, чтоб имелось у меня запасное колесо!.. А что получилось? Посадили… Не пойму и сегодня, кто подтолкнул. Судили в Журавичах. Выездной был. Показательный. Ольга Ваську на суд привела, а когда меня в «воронок» вели, сынок плакал – жалел… родная же кровь, что ни говори. Так умерла последняя надежда снова сойтись с Ольгой, а я любил ее, хоть она была и с конопатым лицом… А для меня самая красивая: глаза горели, как у цыганки. И душа хорошая. Как чувствовал, так и получилось: Ольга замуж вышла – за учителя, его на мою беду прислали в школу. Без руки был, правда, но и у нее же Васька… Баланс. Из тюрьмы вернулся раньше, попал под амнистию, собирался поехать куда-либо в шахты, однако Васька не отпустил: единственное светлое пятно, что у меня имелось на то время – хоть и на расстоянии…Да хоть когда увижу его, на колени посажу… Тяжко мне было тогда, ох и тяжко!.. Завел новую семью – жить не получилось, подала на развод баба, отсудила гумно у отца… Потому я, если и женился, больше не расписывался в сельсовете. А женился, надо сказать, часто. Пока Марусю не встретил, та родила мне двух дочек и сына…Появлялись дети и у Ольги… Здесь такая катавасия, братка шмель, получилась… Ваську записали в школе на Трофимову фамилию, нового, значит, мужа…Учителя же: захотели – и записали… А когда сын школу заканчивал, восемь классов, и ему надо было выписывать свидетельство, то кинулись: он же, Васька, на моей фамилии значится… без моего согласия не могут поменять фамилию… Ему нет шестнадцати… Несмышленыш, дескать, что с него взять-то... И ко мне, значит: напиши, Антон, что не против. Так для Васьки лучше будет – ты же сидел… Проклятая водка, проклятое колесо!.. Ну, если только ради Васьки. Сдался, хоть сперва и топырился: ни за что!.. А Васька потом стал писателем, его часто по радио читают, а когда объявляют, то называют его фамилию, понятное дело, а я-то знаю, какая она у него настоящая…И хоть плачь мне, откровенно скажу… Могла б прославиться наша фамилия, Подканавские мы, а прославилась другая, и когда передают, что Васька родился в нашей деревне, то много кто, в особенности из соседних деревень, ничего не могут понять: там же, в Гуте, таких и фамилий нету будто? Откуда там взялся писатель?.. От кого он там родился?.. В капусте, что ль, нашли?.. Или, в самом деле, аист тот принес?..
Отклонился я. Извини, шмель. О детях. Я начал своих детей называть такими же именами, какими называла своих и Ольга. По ним, правда, она меня переплюнула, хоть я и больше раз женился, а все потому, что она сразу двойню дала. Ну и благодарить Богу!..
Капитала, шмель, как ты понял и знаешь, я не нажил. И как наживешь, с кнутом ходивши за колхозным, а потом и людским стадом? Эх, да что там!..
А Васька приезжал несколько раз. С женой, с сыновьями. Жена у него красивая – откуда-то с Урала, что ли. Шапка у Васьки была, как у Брежнева. Если еще и не лучше. Книгу подписал. Дал денег на вино, это я помню хорошо, такое не забывается, и так бутылку белой привез. К нему в город, правда, я никогда не выбирался: не приглашал, собственно говоря.. Раз у него два отца, то уж тот пусть ездит, фамилию которого он носит. По мне так. Алименты на Ваську, во, чуть не забыл сказать тебе, шмель, с меня не брали. А с чего ж было брать, с чего, шмель, ты вот скажи мне? С трудодней? Они тогда, учителя, хорошо жили. На мое не замахивались. Хоть в одном повезло, ты слышь!.. Так вот у тебя, шмель, и спросить должен, не отлагая: где оно лежало, то богатство? Где оно было спрятано, то счастье, на которое так надеялся? Не скажешь? Молчишь, язык проглотил, да-да!..
Я же, шмель, жил и верил: завтра заживу лучше, вот увидите!.. Наступало завтра, ну и что с того? А ты говоришь!.. Слышу, утешаешь: так Васька же у тебя… на виду все время… Утюг включи – и его увидишь и услышишь… Это, может, и единственная радость… кроме той, что алименты не платил... Но и у меня же, черт побери, должна была быть, если верить матери, своя, личная жизнь!.. Богатая и счастливая!. Тьфу-у!..
Не получилась.
Хотел я упрекнуть тебя, шмель, отчихвостить по первое число, но испустил, как видишь, дух.
И здесь не получилось…
Хотя понимаю, отчего же: был бы у меня не мягкий, не такой доверчивый характер, тогда бы, может, и ты мне подмог, шмель... Ошибаюсь, скажи?.. А ты говоришь!..
* * *
Через неделю Антон Подканавский отошел в мир иной. На деревенском кладбище людей было не густо, похоронили его тихо, без речей. Кое-кто всплакнул. Кто-то полушепотом припомнил, что покойник со всеми, кому был должен, рассчитался. До копейки. Из всех его детей не было только Василия – ему даже не сообщили: посчитали, что отец тот, кто кормил и поил. Не заслужил, дескать, Антон.
Когда деревенские могильщики взяли прислоненную к березе крышку, чтобы закрыть гроб, подала, встрепенувшись, голос соседка Петушиха:
– Подождите! Я ж забыла!.. Вылетело!.. И как же я?!..
И она достала из кармана кофты пушечку, впопыхах засунула ее в карман покойнику, и, стоя у гроба, перекрестила его тремя пальцами:
– Прости, сосед!.. – а потом старушка окинула быстрым взглядом земляков, тихо сказала: – Просил, когда умирал... Может, хоть там ему повезет, Антону Авгеичу?..
ПРО ВОЙНУ
1.
Нет, я тогда даже не ходил еще в школу, когда в нашей Искани сделали братскую могилу – как и надлежит, с памятником солдату, который крепко сжимал в руке автомат. Я, похоже, был еще в то время совсем несмышленышем: не помню вовсе даже того дня. Помню только, что памятник тот появился перед моими глазами как-то сразу, неожиданно, не было не было его, и вдруг – вот он перед тобой: смотри, малыш, это – солдат. Почему он такой большой и суровый – узнаешь позже. Это теперь я понимаю, что в жизни человека настаёт тот момент, когда он что-то всегда познает и запоминает впервые.
Ходил, конечно же, у того памятника я и раньше, когда, наверное, мама водила меня еще за руку, а может я сам держался за ее подол. Хотя памятник и был, но я не видел его – не видел так, как надо было видеть: не дорос. Всему, действительно, свое время. А уже когда был школьником, мы ежегодно приходили к памятнику в День Победы, кто-то из ветеранов обязательно рассказывал про войну, а мы читали стихотворения – также про войну. Доверили и мне однажды прочесть на память стихотворение, однако я сплоховал, не дочитал его до конца: расплакался. Меня успокоила учительница Ольга Кондратьевна и вытерла своим носовым платком мои слёзы. Я дал себе слово никогда не пускать слезу, если буду читать стихотворение на следующий год, но мне не дали его больше ни на следующий год, ни позже. Были у нас чтецы, которые не плакали. Они и декламировали. Пускай. А я тем временем, пока они рассказывали, читал фамилии солдат, выбитые на памятнике, и мне так их было жалко, что я плакал еще крепче, но все смотрели на того, кто читал стихотворение, и меня не замечали. Это и хорошо, что не замечали: нечего выставлять слёзы напоказ.
Памятник хорошо был виден из окна нашего дома, и я иногда подолгу смотрел на солдата. И хотя он отвернулся от меня и я видел только его широкую спину, все равно видел его глаза, и так жалел, что смотрит он вниз, себе под ноги, а мне очень хотелась, чтобы оглянулся он на нашу новую школу, на наш дом, который построили мои родители взамен того, который сгорел в войну. Да много чего мог бы увидеть солдат, если бы повернулся: и ферму, и мельницу, и кузницу...
«Он, сынок, все видит, не переживай, – утешала меня мама, когда я сказал ей о том, что беспокоило.
Хотя я и не понимал, как он видит, если стоит спиной ко всему, но соглашался с мамой: мамы всё знают. Да и не только мамы – папы тоже, а послушав моего, то без него и совсем не было бы братской могилы. Не раз и не два рассказывал он мне, когда немного подрос, как они, сельчане, собирали кости где только можно было и свозили на пригорок, где должна была быть братская могила. За деревню был тяжелый бой, много полегло солдат, и сами же солдаты хоронили тех, кто погиб. У них, оказывается, была своя похоронная команда. Но где там было им тогда глубоко рыть ямы-могилы, и когда прошло время, дожди и весенние воды кое-где размыли захоронения.
– У нас тогда спор вышел, – вспоминал отец,–по такому вопросу. Попадались и лошадиные кости, их свозили вместе... И хотели также зарыть с солдатскими: дескать, и они же, лошади, воевали, как и люди... Пусть рядом спят люди и лошади. Чуть, было, не подрались. Но победили те, кто был только за солдат. Лошадиные кости похоронили отдельно, за деревней. Правильно, конечно же, сделали. А ты как думаешь?
Я тогда, видать, только пожалел, что погибшим лошадкам не ставят памятников…Или, может, они где-то и есть?..
2.
–Ховошка и Наталья идут уже к своим хлопцам, – мама посмотрела в окно и увидела на дороге, тянувшейся под горку, женщин, которые с узелками неторопливо поднимались к памятнику. На свидание. Нешто сегодня раньше, чем всегда? Они каждый год на девятое мая приходят. Утром, перед школьниками...
Я приехал из города, где сегодня живу и работаю, и мама угощает меня картофельными оладьями – дряниками. Уже прошло много времени с того дня, когда я читал первый и последний раз стихотворение у памятника. Памятника из окна уже давно не видать, его укрыли деревья. Умер папа. Про войну он мне ничего так толком и не рассказал, хотя я и просил его: он, похоже, был такой же плакса, как и я, а только как-то признался, что ему, когда вернулся домой, было стыдно ходить по деревне: из всех его одногодков один он остался жив, и поэтому ему казалось, будто матери и вдовы смотрят ему всегда вслед с укоризной, с осуждением: "Как же так?! Наших нет, а он, гляньте, прогуливается! Не иначе, в кустах где-то прятался?" А, может, отец ошибался? Скорее всего, так. Хотя люди, конечно же, завидовали моей маме: без мужчины после войны ой как тяжело, ой как горестно было женщинам в деревне!..
Я также посмотрел в окно, Ховошка (она любила, когда ее так называли; в детстве картавила: я ховошая?) и Наталья были уже у памятника. Так стояли они и тогда, когда я, совсем еще пацан, проскользнул вслед за ними к памятнику, спрятался в кустах сирени, сидел и не дышал: мне хотелось знать, что будут делать там женщины. Они же разложили на платке еду, запомнил только, что были там красные яйца, сели перед платком на траву, налили в стопки понемногу самогона из какой-то, не иначе, трофейной зелёно-синей бутылки: две для себя, две – для своих мужей, которые не пришли с войны. Подняли свои стопки.
–За вас, хлопчики, – сказала Ховошка. – Слышите вы там нас хотя или нет?
–Конечно же, слышат, – более уверенно промолвила Наталья. – Как это не слышат? Слышат, они обязательно слышат нас, девка!..
Ховошка ничего не ответила, а продолжала говорить дальше:
–Пришли вот мы с Натальей вас навестить. Заодно и поговорить, о своей жизнь рассказать.
–А, может, о нашей жизни не надо? Пускай спят они спокойно там... под звездочкой, – нахмурилась Наталья.
Ховошка на этот раз не согласилась:
–А кому же нам еще рассказать, если не им? Да и зачем тогда притопали сюда? Слёзы свои показать разве что?.. Зачем им наши слёзы?..
Наталья ничего не ответила, лишь надкусив губу, отвернулась, а сама, похоже, с трудом сдерживала себя – не расплакаться бы. А потом, вздохнув, прошептала:
–Живём мы хорошо...
–Да-да… – эти слова Натальи понравились Ховошке, она закивала головой, подбив прядку седых волос под черный платок. – Живём мы хорошо. Вот и Наталья подтверждает...
– Подтверждаю. А как же.
– В этом году разжились на кабанчиков, я и Наталья. Без жиров тяжело, одна бульба в рот не лезет. Если б еще коровка была, то и вовсе бы горя не знали. Нам бы хоть одну на двоих...
– Скажи, скажи моему, что Василёк уже прошлым летом трудодни зарабатывал в колхозе… коня водил на окучке…,– попросила Наталья.
Ховошка надулась:
– А сама разве не можешь? "Скажи Хавошка, попроси Ховошка". Я помолчу, говори ты.
Наталья не сразу решилась, но уже когда набралась смелости, решительности, сказала громко и гордо:
– Микола, а Василёк наш коня, коня водит, хлеб зарабатывает!..
И расплакалась. Ховошка начала ее успокаивать, но потом, махнув рукой, продолжала далее:
– Жито в этом году кустится хорошо, стебли должны быть толстые , то найму людей, пускай хату перекроют. Печь еще та, что при тебе сделана была, Петро. А что с ней, печкой, станется? На нее не капает, течет только та крыша, со двора которая. Сыночка нашего назвала Петькой, в честь тебя...
–Ты ему уже об этом говорила сто раз, – заметила, но не с упреком, Наталья.– У меня уже рука закаменела стопку держать. Давай, скажи что-нибудь, да выпить пора. Заждались ведь они, соколики…
– Скажу. Как не сказать? За вас, парни. Чтобы мягкой была вам чужая земелька.
Женщины выпили, помолчали.
–Ты, Наталья, как шилом в одно место…
– Чего-чего?
– Перебила меня, я ж не сказала, что Петька не сопляк какой – учится уже в третьем классе, – тихо промолвила Ховошка. – В третьем… Тот раз говорила, что во втором… Сколь время прошло, а!..
–Ну, если только так... Уточнение серьёзное…
–Не повезло нам, девка: без мужиков остались.
– Да, да. Без них, – вздохнула Наталья и прослезилась.– А так всё хорошо начиналось. Ой, чего ж это мы?! – Вдруг она встрепенулась.– Не говори больше про мужиков – ну их!.. А вдруг услышат… наши, а?..
– Наши не услышат. Э-хе-хе-хе… Ни чужих, ни своих... А надо как-то карабкаться…жить. Хочется жить...
– Иной раз, тебе признаюсь, я Николашкину сорочку нюхаю, она его потом пахнет. Густо так вся пахнет. Терпко. Не постирала тогда, сразу, так и лежит, как будто бы только снял с себя. Хорошо, что не дотронулась до нее тогда, как на войну забирали. Всё руки не доходили. И хорошо.
– Тогда все валилось из рук, – поддержала Наталью Ховошка, огляделась по сторонам. – Ну что, девка, не ли пора нам? А то вон – слышишь?– школьники в горн дуют и барабанят... Скора будут... Убрать надо скатёрку... Да постоим, послушаем школьников... Там и Петька мой...
– И мой Васенька прифрантился в новые штаны и сандалеты... Сам на себя заработал... Давай, давай, девка, прибирать... Заткни бутылку, заткни, чтобы не вылилась смола та. Может, Митрофан с гармонью придет, как тот раз, составит нам компанию. Тогда опять посидим после ребятни, песни попоем для своих соколиков...
Когда подрос, мне было стыдно, что я сидел в кустах и подслушивал солдатских вдов. А тогда я просто радовался, что слышал еще что-то про войну... Слушал и радовался... Ну не постреленок ли!
3.
На школьном дворе было многолюдно. Девочки старших классов рвали цветы на клумбах, делали букеты и вручали их каждому желающему. Желающих нашлось много. Иван Иванович, директор школы, больше занимался тем, что не отпускал от себя руководителя группы пионеров, приехавших на праздник из Эстонии: здесь, в братской могиле, покоится их земляк. Приехали они вчера, засветло, поэтому успели познакомиться с деревней, побывали и у памятника, а ночевали по домам: желающих принять "иностранцев" нашлось немало. Однако на второй день поползли слухи, что эта приезжая малышня ведет себя высокомерно, брезгует едой, фыркает, не нравится им даже постельное белье; хотя белье как белье, еда как еда.
Однако на школьном дворе было не до гостей, каждый занимался своим делом. Учитель истории и создатель музея боевой славы Николай Кириллович показывал место каждому классу, где тот должен стоять, интересовался, все ли, кому надо выступать, готовы. Убедился: все. Чуть в сторонке от школят стоял, ссутулившись, Митрофан с гармонью, ему как раз от дома ближе через школьный двор к памятнику, поэтому задержался, решил понаблюдать за жизнью. А тут и команда: "На пра–ву! Шагом – арш!.." Команду подал историк, он был за главного на прохождении, а директор и гость из Эстонии пошли к братской могиле чуть впереди, неся в руках цветы. За ними – горнист и барабанщик, а там и все.
Николай Кириллович где отставал от колонны, где ускорялся и подбегал,– следил, одним словом, чтобы колонна не растянулась, хотя колонной назвать учеников этой небольшой, умирающей школки, которых собрал в это шествие историк, можно было только с большой натяжкой: в классе осталось по семь-восемь человек, однако все мальчики и девочки шагали к братской могиле с большой гордостью, с ощущением своей значимой причастности к этому празднику, к которому готовились они не один день.
– Поднятуться-я! – попросил голосом ротного старшины историк, и когда дети кое как выполнили эту команду, подобрали ногу, то было видно, что Митрофан со своей неразлучной гармошкой заметно поотстал...
Однако он старался, как мог, топать вслед за всеми в стареньких, разношенных донельзя кирзовых сапогах.
4.
Топот детских ног был далеко слышен. Колонна шла под звуки горна и мелкую дробь барабана.
–Уже близко, – подняла голову в сторону дороги, которая вела от школы, Ховошка. – Где это нам, девка, тут стать так, чтобы никому не мешать? Чтобы не путаться под ногами... Давай выйдем за оградку, а?
–Ага. Давай. Услышим, что будут говорить. Не глухие.
Вскоре колонна была уже около памятника, не заставил себя долго ждать и Митрофан, он стал рядом с Ховошкай и Натальей, поздоровался, а потом, как бы невзначай, одним глазом заглянул в матерчатую сумку, которую держала Наталья: там заметил горлышко бутылки, удовлетворенно крякнул и попросил тех не расходиться после всего. Хотя о том же самом его намеревались попросить и вдовы. Желания совпали, и они, присмирев, начали следить, что делается у памятника. Хорошенько рассмотрели гостя из Эстонии: обычный мужик, разве что белоголовый, имеет даже и белые усы. Таких сильно белых у нас нет. А когда его представили и дали слово, то он начал говорить с большим акцентам.
–Не шевелись, а то не разберешь, что он говорит, – попросила Наталью Ховошка.
–Какая-то мелюзга за ногу укусила... Вон, гадость!.. Вон!..
–Терпи. Не то терпели.
А гость из Эстонии, хотя и с акцентом, говорил трогательно; он похвалил сельчан, что те хорошо, бережно досматривают братскую могилу, в которой нашел вечный покой и их земляк, затем приглашал в гости. В ответ выступил Иван Иванович, поблагодарил, что приехали они из далекой республики, что помнят своего земляка. От местных ветеранов слова держал Михаил Севченко, тот каждый раз, выступаая перед детьми в школе или здесь, у братской могилы, обязательно рассказывает, как он, совсем еще юный солдат, попал в окружение, долго пробирался к своим или, в крайнем случае, к партизанам, а, подчеркивал это он особенно, когда перед самым носом появлялись неожиданно-негаданно фрицы, то приходилось по нескольку часов тогда сидеть в болоте по самое горло, да в рыжей и вонючей воде, а на голове были обычные срезанные лопатками купины: так маскировались. Не шевельнуться. Не кашлянуть…
Иван Иванович посмотрел на людей, а их собралась уже довольно много, отыскал взглядом Митрофана, подал знак рукой, чтобы тот подошел к нему. Гармонист послушался.
–Товарищи! – Иван Иванович выдержал паузу, как бы подбирая слова. – Все вы знаете нашего Митрофана Демьяновича, отличного гармониста, чудесного человека. В войну он был совсем мальчуганом, только -только поехал в город учиться в ремесленное училище... на сварщика... Да, Митрофан Демьянович? На сварщика?
Митрофан кивнул.
– А там его застала война. На фронт не берут – возраст не тот, надо подрасти чуток. И по дороге в свою деревню парня поймали немцы. Так он оказался в концлагере...
–Извините, Иван Иванович, я не в концлагере был, я работал на руднике, – поспешил поправить директора Митрофан.
Стало как-то совсем тихо, даже можно было услышать ту мелюзгу, что гудела - звенела на всю мощь, которая, видать, и причиняла минутами раньше Наталье лишнюю заботу.
– Вы про войну расскажите нам, Митрофан Демьянович, – наконец-то нашелся директор школы.
Митрофан, как показалось, совсем растерялся. Да, да, не ослышался. Ему – про войну? Нет, никогда. Он же не видел войны. О чем же рассказывать, когда не о чем? Зачем же хвастаться тем, чего не было? Наплести, конечно, можно бочку арестантов, как некоторые делали, но где же тогда совесть? Нет, нет, не в его характере такое, и не просите, люди хорошие!..
Набравшись мужества, так и ответил директору:
– Я же не был на войне... Простите... Извините... Если что не так...
Как и минутой раньше Митрофан, растерялся сам директор. Он посмотрел сперва на людей, и те не могли не заметить, что почувствовал себя Иван Иванович неловко, однако потом быстро нашелся и просто попросил Митрофана исполнить для всех фронтовую мелодию. На выбор. Услышав эту просьбу, Митрофан слегка улыбнулся, и вскоре пальцы побежали по пуговицам гармошки... Он играл и пел:
–Ты ждёшь, Лизавета, От друга привета, Ты спишь до рассвета, Всё грустишь обо мне. Одержим победу, К тебе я приеду На горячем боевом коне.И незаметно Митрофану начали подпевать. Сперва директор, потом гость из Эстонии, историк, колхозники, школьники…
Ховошка легонько, словно развлекаясь, ткнула пальцем в Наталью, а когда та глянула на нее, сказала серьезно и требовательно:
–А ты чего? Не отставай!.. На деревней плыла песня: Приеду весною, Ворота открою, Я с тобой, ты со мною Неразлучны навек, В тоске и тревоге Не стой на пороге, Я вернусь, когда растает снег!..То ли от того, что женщины перед этим выпили по капле, то ли по какой другой причине, но их голоса выделялись в этом стихийно образовавшемся людском хоре... Даже Митрофан придержал свой баритон: бежите, бежите вперед, девки, пускай знают все, что вы есть, что живете, что не покорились всем невзгодам и напастям ... Я уже за вами как-нибудь. Так и быть.
5.
У памятника вскоре стало тихо. Праздник покатился в сторону школы. Дети, расчувствовавшись от увиденного и услышанного, расслабились, начали дурачиться: конечно же, им хотелась показать гостям из Эстонии, что они дома герои, а не лишь бы кто. Им никто и не делал замечаний. Пускай позабавятся, пускай побузят. Сегодня можно. Сегодня такой день, когда, говорят, и генералы толкаются. Беспорядочно кто-то стучал палочками по барабану, а в горн также хотелась подуть каждому, поэтому сюда, к памятнику, доносилась какая-то бессмыслица.
Для гостя из Эстонии праздничный стол накрыла жена Ивана Ивановича, их домик на территории школы, туда же пригласили и историка Николая Кирилловича, но он сослался на то, что пока не может, надо проследить, чтобы в школьной столовой дети были накормлены и напоены. "Я быстро! Пока вы тут то да это, и появлюсь. На меня глядите". Иван Иванович удивился: "Разве там некому проследить?" – "А, и правда!"
У памятника остались Ховошка, Наталья и Митрофан. Женщины опять разложили на скатерке еду, поставили в центр початую бутылку водки – это раньше, когда были помоложе, приносили они сюда самогон, сейчас этим не занимаются: есть, слава Богу, за что купить и с заводской этикеткой. Митрофан косо посмотрел на центр скатерки, как бы между прочим спросил:
– И сколько уже лет вы сюда приходите, бабы?
Ховошка и не припоминала:
– А мне кажется, что я тут и живу. Про Наталью не скажу. Наталья, а ты?
– Каждый год приходим. Ты ли не знаешь, Митрофан? – наполняя стопки, ответила и Наталья.
Митрофан вздохнул:
–Вам, бабы, памятник также надо поставить. За верность.
Возникла неловкая пауза, и ее наконец-то постаралась заполнить Ховошка:
–Не надо нам памятник, Митрофан. Господь с тобой. Где на всех памятников тех наберешься? А вот если бы мужчина подвернулся подходящий, и вышла бы. Кривить душой не стану. Хотелось мужика. Всё время хотелось… Только не было за кого уцепиться. Да и ты вот на гармошке одно знай пуговки перебираешь, а более ничего не замечаешь... Да и что уж теперь? Теперь уже поздно. Поезд ушел. Хотя поговорить можно бы, и то веселее. Особенно зимой. С котом всю жизнь и протолковала. С коровкой. Теперь вот с козой... Так и живу.
–Давайте выпьем, – подняла свою стопку Наталья.
Митрофан подал стопку Ховошке, которая как-то поодаль от "стола" устроилась на зеленой траве, затем взял свою стопку, тихо произнес:
–За ваших мужиков, бабы. За всех, кто спит в этой братской могиле. И в других тоже… За всех!..
Выпили. Начали закусывать, и Митрофан вдруг заплакал. Женщины это заметили, удивленно переглянулись. Что это с ним? Мужчина украдкой смахнул слезу, сам, кажется, не замечая того, потом вспомнил свои прямые обязанности и потянулся за бутылкой, наполнил свою стопку, долил женщинам, которые почти не дотронулись до водки, поднял стопку, показывая всем своим видом: давайте, женщины, молча выпьем, хватит слов, сколько их было слов тех, а пользы! Если б же они, слова те, да сбывались!.. Не встанут... Не поднимутся... Не вернутся... Хоть кричи, хоть плачь... Хоть что!..
На глазах Митрофана опять заблестели слёзы.
–Митрофан, с чего бы?.. –Ховошка на этот раз показала удивленным взглядом на его лицо.
Нет, не все, не все женщины всё знают про войну.
6.
Митрофану Неметчина вспоминается как главное событие в его жизни. Особенно часто приходит она в сны, и он радуется, если просыпается среди ночи, что сон наконец-то оборвался, хоть и понимает, что больше до утра не уснет. А сам потом ворочается с боку на бок в кровати, на спине он совсем спать не может: после рудника ослабли легкие, на спине задыхается.
И вот сейчас, у памятника, Ховошка зацепила то, чего он более всего боялся на свете, хотя и догадывался, хотя и понимал, что люди не дураки, все знают, почему он так и не женился, прожил, почитай, век бобылём Тем более гармонист, тем более – высок и широк в плечах, да и на лицо красивый человек.
Лет несколько назад к нему приезжал с соседней деревушки его возраста мужчина, как его звать-величать никто не интересовался, а Митрофан знал его давно – с Неметчины, когда они вместе горбатились на том проклятом руднике. Он также не был женат, и после того, как поделились они тем, что волновало и беспокоило обоих, решили съездить в столицу к врачам, узнать, почему они хуже других мужчин? Съездили, и узнали. Теперь часто Митрофан вспоминает тот высокий стол, за которым он стоял и писал по приказу надзирателей свою автобиографию. Такие автобиографии, говорят, писали и девушки. А за стеной был установлен рентген и его луч убивал тем временам в этих юных людях отцов и матерей...
Очень жалел Митрофан, да и сейчас жалеет, чего уж тут, что ему не хватило какого-то года, чтобы попасть на войну. Выжил бы, он сказал бы тогда свое слово про войну, выполнил бы просьбу Ивана Ивановича. Не выжил – сказали бы тогда о нём что-то другие ...
7.
Как давно и недавно было все это!
Я снова приехал в свою деревню на 9 мая. Положил цветы на погост – папе и маме. Из окна своей хаты, как и раньше, долго глядел на братскую могилу: к ней никто не шёл. Нет уже на этом свете ни Ховошки, ни Натальи, ни Митрофана. Умерли Иван Иванович и Николай Кириллович. Нет и школы. Несколько учеников возят в соседнее село, там средняя школа. Наша восьмилетка сгорела в котельной той, средней.
Будь жива мама, она бы мне обязательно сказала: "Сходи, сынок, к братской могиле... Прибери там... Поклонись… Где-то же и наш дядя Фёдор покоится... Сходи, посмотри, как там..."
Я пошел и на этот раз. Взял метёлку, грабли, и пошел... А потом ко мне подошел мальчик тоже с граблями, молча начал грести в волок прошлогоднее перепревшее листье, а позже появился второй мальчуган, третий, прибежали девочки, притопали также с каким-то рабочим инструментом две старушки, которых я, простите, не знал: может, приезжие будут, «чернобыльцы».
Они, видать, также услышали своих матерей, эти люди.
И живых, и мёртвых…
АЙ-Я-ЯЙ!
Когда еще так волновался сорокалетний механизатор Сергей Хомичка, как было в ту, последнюю, его поездку в столицу, – и сам не вспомнит. Это если бы ехал человек прогуляться, тогда другое дело: смотри-поглядывай себе спокойно в окно из вагона поезда, а в городе, прежде чем пройтись по шумной улице вдоль домов-громадин, на людей посмотреть и себя показать, можно и бокал пива опорожнить. Пиво – вещь такая, что не повредит: от него, холера, и настроение поднимется, как ртуть в градуснике, оно и жажду утолит. Польза определенная есть. Минус только в том, что не долго держится то пиво, что-то больно уж оно быстро наружу хочет, на свободу. А город – не деревня, здесь людно, глаз много: так и следят за каждым твоим шагом – пронзят насквозь, только не то сделай... Бокал – да, можно, один вреда не наделает, быстро затеряется, уймется.
А тогда ехал он не гульбище ладить – в больницу, вез снимки с рентгена и описание болезни к самому профессору на консультацию. И вот надо было думать, куда сначала податься: или по своему делу топать, или отнести сразу поклажу в ту академию, где учится на скульптора сосед Толик. Нормальный человек в первую очередь свои дела решает, а тогда уже – чужие. Но как здесь быть, если мать его, Петровна, напёрла в сумку не иначе как камней: отрывает руку поклажа. Надо все же как-то избавиться от сумки – так решил Сергей Хомичка, иначе она все силы отнимет, с ней много не походишь.
И он спустился в метро. Дорогу знал – не первый раз. Пока ехал, успел порассуждать насчет Петровны: «Говорил же ей, чтобы передала, если уж так жалеет своего студента-басурмана, пачку денег, так не послушалась. Тогда и мне бы хорошо было, и ему, наверное. Пошел в столовку, отвел душу там, когда есть за что. Только ведь самой Петровне не тянуть сумку ту.... Да что говорить: лишь бы с рук, а там будь что будет. Хоть женщина и призналась, что если деньги ему дашь, то прогуляет, а вот если кусок сала будет в сетке за окном, то голодать не придется. Может, и ее правда? Если же разобраться, так поймешь и мать – теперь для молодых соблазнов навыдумывали сверх меры... А сало, как в том анекдоте, и в Африке сало...»
Где занимается сосед Толик, узнал быстро: дежурная, оказывается, хорошо его знает, поэтому сразу сказала, куда надо идти. В мастерскую. Там практические занятия. «Лепят фигуры». Ну, лепят так лепят. Остановился перед дверью, постучал. Тихо. Хотя там, определил, идет жизнь – было слышно, если затаить дыхание, как там переговариваются, шаркают подошвами, слегка постукивают. Опять постучал, а когда не получил разрешение войти, легонько толкнул дверь от себя – та послушалась и открыла ему, Сергею Хомичке, словно на ладони, весь вид той мастерской, где «лепят фигуры». Это позже он встретится лицом к лицу с соседом Толиком, однако сперва гость столицы увидел перед собой голую – в чем мать родила – девушку, которая стояла перед соседом, держа на бедрах руки, широко отставив локти, а голову чуть отбросив назад: лепи фигуру, скульптор! Даже когда Сергей Хомичка воскликнул от удивления: «Ай-я-яй!» – она, та девушка, не обратила на него никакого внимания. Стояла, как каменная, уже готовая скульптура. Но нет, однако – маленько шевельнулась, повела глазами: живая, ити ее мать! Нельзя сказать, чтобы Сергей Хомичка совсем растерялся, но почувствовал себя не в своей тарелке – впервые он попал в такую ситуацию. Сконфузился слегка. Так близко он никогда – а прожил, слава Богу, немало на этом свете – не видел обнаженной женщины. На картинках и по телевизору не считается. Сразу же на месте той представил свою Ольгу, к примеру, в том же предбаннике, и увидел: она испуганно зарделась вся, засуетилась, начала прятать наготу даже от мужа, прикрываясь всем, что попадалось под руки – шайкой, веником и растопыренными пальцами. Обязательно бы набросилась: «Ты что – ослеп? Не видишь, куда прешься?» А эта, городская – хоть бы что: позирует Толику как ни в чем не бывало, а тот и старается, вишь ты его, глиной или чем там шлёпать.
– А, это вы, дядька Сергей, – наконец-то удостоверил его вниманием сосед, шагнул навстречу, вытирая тряпкой руки. – А мы вот... ага... работаем... Лепим!
Сергей Хомичка хотел сказать: «Да вижу, вижу, чем ты здесь занимаешься», но вместо этого опять повторил: «Ай-я-яй!» А сам переметнул взгляд на девушку. Та расслабилась, села, положив нога на ногу, закурила, и что-то говорила весело и озорно другим студентам, которых здесь, в мастерской, было еще несколько.
– Кто это? – когда вышли в коридор, кивнул на двери Сргей Хомичка.
– Натурщица, – спокойно, как ни в чем не бывало, ответил Толик.
– Мать её знает, чем она тут... у вас?..
– Она у нас подрабатывает.
– Что, за это, что топчется перед вами, грудями трясет и всем остальным, ей еще и платят? – не поверил гость.
– Конечно. И неплохо. Каждый зарабатывает хлеб как может.
– Да оно так-то... ага... однако же...– развёл руками Сергей. – Бери вот, что мать передала. Подкрепляйся. Тебе, я вижу, надо есть много: работа тяжелая. А то штаны тут, в своей академии, потеряешь. Да на сало, на сало нажимай, студент!..
Толик улыбнулся уголками губ, но ничего не сказал. Только лишь когда проводил соседа к выходу, поблагодарил и попросил, чтобы мать ничего более ему не передавала, якобы подвернулась на городском кладбище халтурка, и у него должны быть деньги.
Сколько и ехал назад в деревню Сергей Хомичка, из головы не выходила та встреча в мастерской с обнаженной девушкой. Даже про хворь свою забыл – гнали мысли ее прочь, а на первый план выплывало, хочешь того или нет, внезапно увиденное в академии. Он прокручивал ситуацию и так, и этак, но не смог бы, наверное поверить, что такое может быть, если бы от кого услышал, а не увидел все своими глазами. Нет, никогда бы не поверил. Ни за что. Хоть убей. Не поверили ему и мужики возле деревенской лавки, с которыми поделился увиденным, когда те травили там байки.
– Да что ты врешь, Сергей!
– Что-то на тебя не похоже!..
– Не болтун же вроде!..
– Как это, в академии, а не в каком-нибудь борделе, голая девка ходит прямо перед всеми, не стесняясь, а те с нее лепят... Быть не может!
– Да и где можно такую смелую найти, чтобы позировала при всех?
Сергей как мог оправдывался, мол, ничего он не придумал, бил себя в грудь и клялся, а если они, мужики, не верят ему, то пусть дождутся Толика на каникулы, сами у него и спросят. Он им скажет. А куда денется, перед народом не устоит. Перед народом?.. Сергею, правда, не менее было интересно и то, как можно нормальному парню – извините, тьфу-тьфу-тьфу – устоять перед голой красивой девушкой. И будет ли лепиться та глина, холера, когда натурщица перед тобой во всей своей красе, да еще руки на бедрах держит и голову, гляньте вы на нее, откинула назад... и глазами пожирает всех, стрижет...живая ведь... Что делается, люди!
Ай-я-яй!..
Но прошло несколько дней, и Сергею все чаще и чаще вспоминалась не сама поездка в столицу, а та девушка, которая демонстрировала себя перед соседом Толиком в чем мать родила. Натурщица. Стоит и стоит перед глазами. Пора бы уж и забыть. Так нет же – не получается, крутится, юла!.. Хоть ты на нее гаркни: «Кыш с глаз, колдунья! Исчезни!..» И он начинал – а как же! – завидовать соседу Толику, честное слово. И пожалел, что в свое время не любил учить уроки и совсем не знал, что где-то есть академия, в которой учат на скульпторов...
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Когда Егорка хмелел, он резал воздух растопыренными пальцами – справа налево, вниз и вверх – и начинал часто отбивать сапогами, поднимая пыль с земли, а голову держал высоко и гордо, словно на темечке стоял стакан с вином, и он боялся, что расплещет драгоценные капли. Сам же кричал хриплым голосом:
– Танцуй, артель! Не было б мне горько, если бы не звался я Егоркой ! Х-ха-ха-ха-а! Гуляй, и-э-эх!
Мужчины, с которыми Егорка только что опрокинул стопку, насмехались, наблюдая за танцором, а когда их напарник, запыхавшись от изнеможения, беспомощно повисал на прилавке, предлагали ему, перемигиваясь, промочить еще горло, не жалели для него красивых слов. Егорка соглашался, ведь сегодня как раз пенсия, деньги имеются, и он без лишних слов бросал искомканные бумажки на весы, был как никогда щедр:
– Для всех. Ы-ы. Для того и цивилизация, что хоть вот пивка попьем, а? Наливай, Степановна. Как можно полнее. Хватит, что сгубил жизнь, можно сказать, в своей глухой Слободе. Не считая армии. Там, говорить нечего, хоть свет повидал, на людей посмотрел и себя показал. Ногу даже окунул в Тихом океане. Как, а? То-то ж!..
Руки мужчин тянулись к бокалам, Егорка добрел: кто вас угощает, мать вашу!.. Знайте и цените, бестолочь и нищета!..
А потом он, заметно шатаясь, шёл к дому, падал на кровать и храпел. Закончился еще один день. Жена, остроносая и хужощавая, но мягкая и уступчивая Настя, привыкла уже к его пьянкам – в последнее время они обрушились на нее, как проклятие. Одно радовало женщину: когда наберется Егорка, то хоть руку на нее не поднимает. Нет, грешно сказать. Приговаривает лишь: «Только бы тихо, только бы тихо, Настя»,– и кувырк на кровать. Другой раз перед тем, как начать храпеть и высвистывать носом, промямлит: «Лишь бы не было войны...»
Здесь, в Довске, Егорка появился два года назад – как только вышел на пенсию, приехал к сестре погостить. Походил, посмотрел, как та живет, и засветились у колхозного пенсионера глаза: «А чем я хуже? Зачем маяться мне в своей Слободе? На какого беса? Тут же, гляньте, одних магазинов сколько, даже ресторан есть, а внизу – и кульдим. А у нас? Автолавка два раза в неделю, во вторник и пятницу... Дурят народ!..»
Вернувшись в Слободу, выложил свой план Насте. Жена выслушала Егорку, вздохнула – выдумаешь тоже! – и молча вышла в сени. Егорка – следом, за плечо развернул – лицом к лицу:
– Так ты что, на мое предложение чихнула?
– Отвяжись. Мелешь лишь бы что. Из ума, вижу, под старость выжил,– и она решительно повернулась , чтобы идти дальше по своим делам.
Однако Егорка заявил вполне серьезно:
– Поеду один!
– Едь. Скатертью дорога.
– Так там же люди живут! А мы тут?.. Кто мы? Хоть... хоть, понимаешь, последнюю каплю счастья – да на язык, а?
– Вот-вот,– с легким упреком закивала Настя. –Тебе, вижу, та капля и понравилась?
– Да не та капля , не та!– сморщился Егорка и притопнул ногой.–У вас, баб, только одно в голове... Капля счастья! Счастья-я-я! А? Мы же будем жить, как люди. Я ведь там и домик присмотрел. С садом. Сад еще побольше, чем у нас. А рядом – как раз напротив – автостанция. Ведерко яблок или груш продал... там и слив полно... и всегда свежая копейка будет. Живая. А с нашей Слободы не повезешь фрукты в Довск – далеко, не близкий свет, больше денег тех проездишь.
Про яблоки Насте понравилось. Но мужу ничего не сказала, начала доить корову, а тот сел на корч рядышком, свернул самокрутку, затянулся, начал рассуждать:
– Я бы тогда и табак не садил. Милое дело – все, почитай, рядом с твоим домом. А пенсий нам хватит. Еще и детям поможем. Да... да и тем к нам на новое место полегче будет, стало быть, приехать. Из Довска – слышишь меня, Настя?– в любую сторону: хочешь в Одессу, хочешь в Москву, а хочешь... да куда хочешь, туда и катись.
Вдруг Настя спросила:
– А хлев там есть?
Егорка растерялся: вишь ты ее, он ей цивилизацию предлагает, а она не иначе отсталый элемент, хочет тянуть за собой и буренку. Кашлянул в кулак, дипломатично пожурил:
– Хлев есть. Хороший хлев. Блочный. Но зачем он нам? Хватит пенсионерам за соски дергать. Надергались. Поберегите пальцы.
Настя, словно не услышав его слов, тихо произнесла:
– А Звездочку куда поставишь? Под звезды?
– Мать твою, а! – не сдержался все же Егорка, притопнул ногой. –Там же можно купить любую заразу. И кефир, и молоко. На какого черта нам государство пенсии дало? Купим, купим, Настя, все, что надо.
Дом в Слободе Егорка, конечно же, не продал: кому он в глуши нужен, когда их вон сколько, людьми и Богом забытых, рядом стоит? Заходи в любой, хороший человек, и живи. Макар или Свирид, которые невдалеке на кладбище почивают, против не будут. Не выгонят и дети, ведь кто знает, где они, те сыновья и дочери, в каких краях? А, может, те еще и рады будут: пускай хоть так, бесплатно, чужие люди живут, и то хорошо. А начнешь требовать деньги – только спугнешь людей с места. А их уже однажды погнали... Оттуда, где белое солнце оказалось для славян черным. Натерпелись. Хватило. Да и окна в доме должны светиться. На то и дом.
Загрузив вещи в кузов «газончика», Егорка, как ни сдерживался, все же пустил слезу. Жена использовала этот момент, упрекнула:
– Сам же захотел, так не плачь теперь, бобер!..
– Ага, сам,– покорно кивнул головой Егорка, а потом взял подготовленные заранее доски, забил ими крест-накрест окна.–Не обижайся, дом. Думаешь, мне не жалко тебя покидать, однако же и в цивилизации хочется пожить. Сколько там осталось, а?.. А жизнь одна... Вот так-то!..
– Садись уже в машину, плакса, – дернула за рукав жена. – Он с домом прощается. Видели? Да ты не с домом – ты с жизнью, чует мое сердце, прощаешься... Боже, и куда ж ты меня, дурную бабу, тянешь?– и Настя затряслась вся, словно ее пронзило электрическим током, из глаз покатились слёзы. – Ой, не могу, люди мои милые! Ёлупня послушалась своего. Нет бы спросить – зачем, зачем?..
Теперь уже ее торопил Егорка:
– Хватит, хватит, пора. Шофер матерится уже: у него, думаешь, кроме нас, других дел нет?
Вскоре в сторону Егоркиного дома толстой веревкой полыхнул дым из выхлопной трубы, и постороннему человеку могло даже показаться, что он, дом, заслонился от гари досками, что были на окнах, словно человек руками...
Жил в Слободе Егорка скромно. На свои не пил. И смешно было бы – на свои: бригадир как-никак. Да особенно и не налегал на нее, холеру. А зарабатывал копейку неплохую, поэтому Насте было что топтать в чулок. Дом в Довске купили без потуг. И хороший дом, как и говорил Егорка, около автостанции. Вот он, напротив. Сиди на скамейке, наблюдай, как подъезжают и отъезжают автобусы самых разных марок, как выходят-заходят люди. А хочешь, иди в магазин. Колбаса любая, копченая рыба, булки-шмулки. А пиво? И оно, сердечное, имеется!.. Вина нальют, не запрещено. Водочки тоже. Красота! Егорка не раз воспоминал соседа по Слободе Петра, жалел его: « Не живет, а чихает. Глянул бы на меня!» Егорка предлагал Петру также податься вслед за ним, но тот лишь улыбнулся и показал печальным взглядом на кладбище:
– Туда мне уже пора переезжать.
Напрасно, напрасно, сосед. А я поеду, едрена вошь! Там, глядишь, и больше протяну. А ты загибайся тут, на болоте, непослушный!..
Почти ежедневно теперь Егорка налегал на пиво – наверстывал упущенное, как он сам считал. Частенько, подвыпив, швырял деньги на прилавок:
– Еще три бокала, Степановна. Угощу, так и быть, вон тех мужиков. Я, сколько и живу, люблю гостей встречать. А они, вижу, гости. Приезжие. Деревня. Пусть отведают цивилизации, пусть вдохнут ее, мать их так!..
Мужчины пили, что им. Халява всегда сладка. Случалось, что и Егорку угощали. В ответ. Тогда он вспоминал Слободу, Петра, закусывал губу: жалко становилось и деревушки, и соседа, не мог сдержать слёз.
А Петро как-то приехал. Нежданно-негаданно. Утречком. Егорка спал. Постучал в калитку. Настя увидела соседа в окно, стала будить мужа:
– Вставай, ирод. Петро приехал. Слышишь? Поднимайся, говорю!..
Кое-как Егорка дотопал до калитки. Когда протянул Петру руку, та заметно тряслась, как ни старался ее унять. Лицо было похоже на печеное яблоко. Небрит. Поэтому Петру было от чего разинуть рот – как не до ушей. Он крякнул, сказал сухо и холодно:
– Еле узнал я тебя, земляк. То я домой поеду. В Слободу. Подальше, Егор, от твоей цивилизации...
И плюнул.
– Почему же так? – удивился Егорка.– Почему ж?.. Заходи, заходи, сосед. Настя сейчас на стол соберет, а я в магазин... в гастроном... вон они, магазины... на любой вкус... Хочешь – водочки, хочешь – винцо или пиво?.. Я пенсию вчера получил... Ты... ты чего это, Петро-о-о-о? Как не свой все равно?!.. Ты куда, Петро-о-о!?..
Петро, не оглядываясь, заторопился в сторону автостанции. Егорка же никак не мог понять, почему он, непутевый, так поступил. И, стоя у калитки, еще долго ломал голову: за что бы тот мог на него обидеться?..
ГАННА И МАВЗОЛЕЙ
Тетка Ганна женщина была красивая. Высокая, с длинной черной косой, лицо смуглое, будто все время на нем держался крымский загар, и стройная, подвижная. И очень уж на слово остра. Иной раз так отчихвостит кого словечком, что хоть сквозь землю от стыда. А она лишь усмехается: что, правда глаза режет?.. Мужик, говорят, поэтому и сбежал от нее, из-за слов тех. Давно было, люди в лицо даже не помнят того первого и последнего Ганниного мужика. Дети остались от него, одна их и поднимала. А после войны не передать, как трудно было. Голодно и холодно. Еще больше во время оккупации натерпелась- нагоревалась. Сердце, казалось, выше пяток не поднималось. Как рак под корч, пряталась в тот блиндаж, дрожала-трепетала там, ведь наверху и пули летали-свистели, и снаряды разрывались почти на самом огороде, и с неба бросали на поселок бомбы. Выжила как-то. И сама, и дети. А что толку? Ганна не раз думала, отчаявшись, будто бы жизнь свою перелистывала, взвешивала, на ладони держала: ну и скажите вы, люди добрые, какая польза мне от своих детей, чтоб им?!.. Нечего и вспомнить. Хорошего. Пустое место. Дочь еще кое-как, а что про сына говорить? Чужой человек, бывает, тебе встретится лучше во сто крат, чем своя кровинушка. Ганна скрывала, утаивала многое про Кольку, не признавалась людям, как он издевался. Однажды, правда, в доме для престарелых, незадолго до смерти, пожаловалась старушкам, таким же горемычным, как и сама, что куска хлеба жалел для матери. Пропьет деньги, есть нечего, только краюха хлеба лежит на столе. Обычно черствого, ведь когда пьет, то ест мало. А пьет каждый день. Ганна не дотрагивалась, Боже упаси, до того хлеба: ела отдельно, так сын постановил. Отдельно так отдельно, неизвестно еще, кому хуже. Но, выходя из дома похмеляться, злой на мать, что не приберегла денег полечить ему голову, Колька смотрел на тот хлеб и шипел: «Чтобы к хлебу, б... старая, и пальцем не притрагивалась! Мой!»
А когда умерла она, то чужие люди и похоронили. Колька не просыхал, даже на кладбище не растолкали его. Теперь вот зарос бугорок чертополохом, ни памятника на нем, ни надписи никакой на почерневшем от дождей и ветров деревянном кресте. Дочь неблизко живет, где-то в Средней Азии, под Ташкентом, что ли , и приехать ей на радуницу не выпадает теперь. Она и раньше не рвалась к матери, когда та жива была, а сегодня если даже и захочешь, не приедешь – денег больших стоит поездка, а она не миллионерша, по всему видать. А Колька совсем опустился, на человека был мало похож: лохматый, небритый, воняет от него так, что не подходи. Раньше девок с синяками под глазами – и где только он их откапывал, в каких краях? – водил к себе в дом, а теперь пьет только с мужиками – такими же, как и сам, мурзами. А умным же человеком был, в школе учился хорошо, даже поступил в институт, хотя уже там не задержался долго: на картошке накинулся с кулаками на преподавателя, который сделал замечание, чтобы не матерился. Закончилось исключением. Легко отделался еще. Ну, а потом пошло-поехало... Говорят, вроде бы даже к матери приставал: «Давай... ложись... спать будем!»
Ганна и убежала тогда в дом для престарелых. Пенсия у нее по тому времени была хорошая, взяли без лишних слов.
Вот почти и все, что я знал про тетку Ганну. Отдельная страница в ее жизни – это поездка в Москву и посещение мавзолея. Об этом весь поселок знает, даже те, кто никогда не видел Ганну. Случается, кто-то обронит: «Одна у нас в мавзолей ходила... Ганной, вроде бы, звали... Послушайте – обхохочетесь, г-гы!»
А я сам слышал, как рассказывала Ганна и про Москву, и про мавзолей. Не мне – тем, кто постарше был, а я, сморкач, пристраивался где-то в сторонке и развешивал уши. Как теперь вижу тетку Ганну и как теперь слышу ее немного грубоватый, похожий на мужской, голос. Было это в середине шестидесятых прошлого века. Работала тогда Ганна на ферме дояркой, и хорошо, похоже, работала, если ее портреты часто прыгали из газеты в газету. За хорошую работу и наградили тетку Ганну поездкой в Москву. Из района тогда набилось в грузовик передовиков много. На сене ехали – мягко. Это позже автобусы в моде стали, тогда – нет, тогда было так. Царь-пушку и Царь-колокол посмотрела она вместе со всеми, в музей революции сходила, выступил перед ними старый большевик, который хвалился, что видел Ленина. По магазинам побегали – заказов набрала Ганна у соседей и знакомых, что рук не хватит, если все купить, чтобы донести. Хорошо еще, что в школе, где ночевали в спортивном зале на матах, мужчины поочередно стерегли покупки, ничего не пропало. Мужчины, хоть и передовики, больше пили и в карты играли.
Очередь в мавзолей заняли утречком – кто-то из бывалых подсказал так сделать, а то можно и вовсе не попасть к Владимиру Ильичу: желающих много. Натоптались в скверике еще до того, как открыли мавзолей. Но ничего – и людей посмотрели-послушали, и мороженого наелись. Пока стояли, Ганна успела в ЦУМ отскочить с какой-то женщиной. Прибежала счастливая, радостная и с большим сверткам.
А очередь едва двигалась, хоть и не стояла на месте: люди идут, идут...
Перед самым мавзолеем Ганну не обошел вниманием милиционер, посмотрел на нее требовательно и строго, что заставило женщину вспомнить про узел, где она держала только что приобретенные покупки, и она, чуя неладное, спрятала узел за спину.
– Женщина, – не очень строго, но громко и официально обратился к Ганне милиционер. – С вещами в мавзолей нельзя.
– А что ж? А куда ж?..– раскраснелась Ганна, засуетилась, взглядом ища поддержки у земляков.– Столько ж простояла – и нельзя? Что вы это говорите такое? Что моим вещам там сделается, в мавзолее?
Милиционер улыбнулся, подошел ближе к Ганне.
– С вашими вещами, может, ничего и не сделается, я не знаю, – проговорил он спокойно. – Я за них не отвечаю. А в мавзолей нельзя. В камеру сдать надо. Вы же рядом с ними проходили.
– И правда ж! А я и забыла. Прости, товарищ участковый, – встретилась глазами с милиционером Ганна. Она сообразила, что с ним разговаривать надо более нежно, мягко, попробовала даже улыбнуться. – Больше не буду. Ей-богу, не буду. Чтоб я провалилась, где стою, если мне не верите!
– Здесь, женщина, не надо, – чуть заметно улыбнулся милиционер.–Здесь святое место – Красная площадь.
– Тьфу ты, я и забыла! – окинула площадь взглядом Ганна.
– Меньше слов, тетка! Ты не в колхозе! Выйди из очереди с вещами.–Поспешил на выручку коллеге еще один милиционер.
Ганна не знала, что и делать. Вот попалась так попалась! Она лишь растеряно моргала глазами, попробовала еще заручиться поддержкой земляков, однако те молчали, словно воды набрали в рот, а тот дядька из райкома, который был за старшего, скосив глаза на грозного милиционера, испуганно и строго шептал ей на ухо: «Делайте, что говорят...»
– Нет, я тоже в мавзолей хочу!– выпятила грудь Анна перед райкомовским начальником, сдвинула брови. –Я что – побегу камеру ту искать? Пусть она гаром горит! Мужики, отвернитесь! Отвернитесь, говорю, мужики! Ослепнете! Бабы, заслоните меня от них, бесстыжих! Вот, вот так.– И она зашептала в сторону женщин. – Для баб всего поселка трусов набрала, чтобы они задубели, трусы те. Вот, вот, я сейчас их все, трусы, на себя надену. Налезут ли только? Должны. Обязаны. И не будет вещей. Хоть раз в жизни министерским задом потрясу. Что под юбкой, то все мое. А то, вишь ты их, в мавзолей не пускают. Можно подумать, что трусы там вреда наделают, в мавзолее. За кем, может, и надо глаз, только не за Ганной. Ну, бабы, где там милиционер? Расступитесь, земляки! Все, голубчик, нет вещей! Сдала, сдала в камеру. Ага! Так что, можно проходить?
Милиционер все, конечно же, видел, поэтому только улыбнулся и ничего не сказал.
Вот так она, Ганна, неуклюже переставляя ноги, и зашла в мавзолей, посмотрела на Ленина. Потом в той московской школе едва ли не на самой окраине она долго раздевалась, сопела, кряхтела, а трусы аккуратно складывала в стопку и острила:
– Помялись, как будто полгода носила, но этикетки не потерялись. Хорошие этикетки. А то попробуй докажи потом своим бабам, что новые трусы привезла. Скажут, на свалке где-нибудь подобрала.
– Ты, девка, должна взять со своих заказчиков вдвое, а то и втрое за трусы дороже, – то ли серьезно, то ли шутя сказала Ганне доярка из соседней деревни. –Не догадываешься, почему?
– Нет, не догадываюсь! – откровенно призналась Ганна.
– Потому дороже, что они в мавзолее побывали!
– Ай, во, правда ж!– всплеснула руками Ганна, а потом спохватилась.–Тише, тише, бабы. Руководитель наш идет. Прячьте, прячьте трусы!..
... Когда Ганна жила, в то время о Ленине говорили только хорошее. А сегодня, может, она бы рассказала все немножко иначе... Наверное, иначе... Хотя и правду...
КВАРТИРА В ОМСКЕ
Канавщик неожиданно споткнулся перед самым порогом, ткнулся всем лицом в нетронутый вчерашний снег – навалило его, как никогда в декабре, – и почувствовал, что он, снег, становится теплой росой на носу, лбу , щеках. Канавщик стоял некоторое время на четвереньках, боясь шевельнуться, не сразу и заметил, как ноги сами, не подчиняясь ему, разъехались, словно распиленные на две части – посередине вдоль – сани, скользнув полозами. «Неужто умираю? Я ведь... я ведь еще и не жил! Не жил! Меня же ждет квартира в Омске-е-е-е!» На этот бешеный крик прибежал щуплый и сухоребрый – с наперсток – сосед Тимка, одногодок, должно быть, Канавщика (такое прозвище дали Виктору потому, что долгое время ухаживал за канавами, которые оставили мелиораторы на территории колхоза),затащил его, задыхаясь и почему-то поругивая местную власть, в холодный дом, кое-как стянул верхнюю одежду, взволок непослушное тело на кровать , прикрыл одеялом.
– Не умер... дышишь,– облизал губы Тимка и вытер вспотевший лоб.–Сейчас я тебя согрею. Фляжку водки принесу. Попрошу у людей. Скажу, человек умирает... Канавщик, скажу, если не дадите, вам сниться долго будет... На твое спасение пожертвуют, куда они, гады, денутся. Или сперва печку разжечь? Молчишь. Разожгу сперва. Слышишь меня? М-да-а!..
Канавщик не среагировал на расспросы Тимки, и тот, вздохнув, набрал воздуха и потопал за дровами. Вернулся с охапкой дров. Вскоре в печи загудело, зашумело, а из дырочек, что там-сям образовались среди кирпичей, выпорхнули веселые зайчики, которым было чуть-чуть, казалось, тесновато в этом большом, как гумно, доме.
– Слышишь меня, Виктор? – опять повернулся к неподвижному Канавщику Тимка и, не получив ответа, сразу заскучал. –Не слышишь, вижу. Дожил, бедняга. Докатился. Пусть я... пьяница... а ты же был нормальным человеком. – Он вдруг испугался, услышав в промерзшем доме свои слова, поправился. – И есть! Почему... почему был? И есть! Ты будешь жить, Витька-а! Я говорю! Тебе что, мало этого? Будешь!..
С этими словами Тимка выскочил на улицу, быстро засеменил к Машке, которая втихую от участкового продает самогон, забарабанил сморщенным, похожим на прошлогоднюю свеклу, кулаком в ворота. –Дрыхнешь, а Канава умирает! Открывай! Открывай, приказываю! Не для себя буду просить! Для Канавщика! Ведь умирает!..
Машка, худая, с черными злыми глазами, загремела запором, потянула на себя дверь:
– Кто... кто умирает?
– Канавщик. «Кто-кто?» Не веришь – проверь! Ему внутренности продезинфицировать надлежит. А то хана!.. Может, с утра лежал на дворе. Кишки, может, к горбу примерзли? А? Если не дашь – я тогда скажу всем, что это ты его загнала на тот свет! Ты! Твоя жадность...
– Так я же его только что видела... – не поверила услышанному Машка.
– Человек всегда так: сперва его кто-то видит, а тогда и нету... и сочиняй некролог в газету. Хы? Ты думаешь спасать Канавщика, или нет, мымра-а?!..
– Бегу, бегу, бегу!– Машка засуетилась, а потом скрылась в сенях.
А Тимка опять облизал обветренные губы, выругался:
– Мать твою!.. Не доверяет. Не доверяет, коза кривоногая. Ее не проведешь. Побежал, побежал дальше искать... Должен же кто-то клюнуть.
Однако никто не клюнул. Тимку хорошо знали. И когда он вернулся к Канавщику, того уже расталкивала Машка, а заодно костерила и его, Тимку.
– На беде и то стопку хочешь выпить, ирод,– бросала она колючий взгляд на того. – Какие внутренности? Кому? А я и не подумала сперва, прихватила бутылку. Он что, разве выпивоха, Канавщик? Плохо стало? Может, сердце, а может, и еще какая зараза... А он на чужой беде нахлебаться захотел. Нажиться. Тьфу!
– Ой! Ой! Надоело слушать. С тебя выжмешь каплю ту. Смолы получишь. Молчала бы!
– Хватит нам, бабам, рот затыкать.
– Если кто и нажился, так на Чернобыле! – выставил вперед грудь Тимка.
– Много ты знаешь!
– Люди говорили... А я, может, за здоровье Канавщика шлепнул бы поллитровку, и доброе, полезное дело сделал бы, ему, глядишь, и полегчало б... и кризис, глядишь, ликвидировался бы . А?
– Тебе не дам!– сказала Машка белозубым и испачканным сажей ртом. –Звонить надо!..
– В дымоход?– без нужды спросил Тимка.
– Сбегай в Искань. Там телефон. Позвони.
– «Сбегай». Пацана нашла...
– На, гад, бутылку! На! – И женщина ткнула в руки Тимке желаемое.–Беги и пей, пей и беги, чтоб ты сдох! Только в Витькину канаву не упади. А то копать некому ямку. Одни бабы. Слышишь, горе?
Тимка улыбался, гладил бутылку:
– Упасть – не упаду. Ты скупая на градус. И, в общем, я не потому взял твой самогон, что тебе что-то делать буду... а чтобы хватило силенки и мужества добежать до той Искани. Три кэмэ будет. С гаком. Карауль Канавщика. Я побежал,– он опрокинул бутылку вверх дном, хлебнул , а потом спрятал самогон в карман облезлого кожушка. – Гляди ж, чтобы не умер тут... в мое отсутствие.
– Беги уже, шугалей!– махнула рукой на Тимку Машка.
– Да дровишек в печку подкинь. Там должно гореть.
– Горит, как у тебя в штанах,– хмыкнула Машка.
– Горючее есть, то не волнуйся,– сказал Тимка и сразу исчез.
Машка раздула угольки в печке, те не сразу занялись синим пламенем. Села на маленькую табуретку. Тикали часы, висевшие на стене, гиря свисла почти до самого пола. Она встала, подтянула гирю, и в этот момент Канавщик раскрыл глаза и прошептал сухими губами:
– Напишите... брату Федору... что не приеду в Омск... Пусть квартиру для меня не держит... Меня квартира ждет в конце огорода...
– Нешто ты, Витька?– задержала на Канавщике взгляд Машка, утешила. – Рано тебе думать про погост, рано... Жить надо... жить...
– Это ты, Машка?
– Я, я, Дмитриевич. Сейчас, сейчас я тебе водички подам. Сейчас.–Женщина зачерпнула кружкой в ведре, подошла к Канавщику, тот приподнял голову, пил с Машкиных рук.
– Спасибо,– сказал и опустил голову на прежнее место .–Посиди около меня. Поговори. Вечер уже?
– Вечер.
– Ничего не помню... как провалился куда. И мог бы навсегда провалиться – вот тебе и смерть. А иной раз думаешь, что она собой представляет, смерть-то? Все просто. Очень.
–Тимка побежал звонить в район: «скорую» вызывать,– стоя перед Канавщиком, затрясла головой Машка.– Приедут если, то, может, какой укол сделают. Если шприц не забудут. Тяжело тебе, вижу?
– Не могу понять... Будто кто обхватил меня, как бочку обручем, и давит. А внутри, кажется, всё песком забито... аж скрипит тот песок...
–Сердце, у моего так было,– Машка подкинула дров в печку. – И живет. И ты будешь жить.
– Проживешь столько, сколько Бог даст.
– Тебя Бог не должен обидеть. Честно живешь. Даже слишком уж, мог бы и о себе больше позаботиться...
– Так получилось...
Машка согласилась:
– Как уже получилось, так и хорошо.
Она села на табуретку, вздохнула. Потом долго смотрела на Канавщика, и на ее глазах заблестели слёзы. Машка застеснялась их, украдкой смахнула пальцами, поднялась, тихо прошептала:
– Я пойду. Хату ж кинула... кормить надо... а потом забегу... в печку дров еще подкину. Полежи... тебе покой нужен... тишина...
Канавщик ничего не ответил. Он слышал, как заскрипели двери, как за ними пропали где-то в темноте двора шаги женщины. Закрыл глаза... Боже! Боже! Не так, не так хотелось дожить свой век. Совсем не так. Но что поделаешь теперь? Поздно что-то менять – в особенности то, что зависит совсем не от тебя самого.
Канавщик заплакал. Слезы, соленые и теплые, катились по щекам. Заплачешь: один остался. Ни жены, ни детей, ни... брата. Да-да, и брата, считай, нет. Ну что он там, Федор, в том Омске, в котором Канавщик ни разу даже не бывал? Отрезанный ломоть. Потерянный, считай, навсегда. Не приезжал даже, когда умерли мать и сестра Роза, отбивал, правда, короткие телеграммы: не могу, учения... А учения у него там или что-то еще – один он, Федор, и знал. Последний раз виделись лет двадцать назад, когда парализовало мать, тогда они в Лосевку приехали оба – по вызову сестры, она с ней жила. Виктор еще не был канавщиком, он работал в Могилеве на «Строммашине», имел хорошую квартиру, красивую жену и годовалую дочь. А потом – надо же такому несчастью случиться – не стала ходить и Роза. Что делать? Как жить дальше? Вот тогда брат и написал: поскольку человек он армейский, то о возвращении в деревню не может быть и речи. Давай, дескать, ты, Виктор, берись... живешь же рядом, а я в долгу не останусь. Он и уволился. Раз в неделю приезжал к семье в Могилев, приезжала иногда к нему и жена. А потом он не поехал, она не приехала... Была семья, одним словом. Давно. Дочь, правда, не забывала отца. Это позже Канавщик сообразил, почему приезжала она к нему: деньги нужны были малышке, только они.
Как бы в знак компенсации, что брат потерял все, что имел в городе, Федор зафрахтовал за Виктором квартиру в Омске. Однокомнатную. А может, и соврал. Писал, однако, писал, что ждет дожидается его жилье... Канавщику не было даже возможности съездить в тот Омск и хоть одним глазом глянуть на квартиру, если и впрямь она есть: хватало забот в деревне, как только выдюжил – одному Богу известно.
И вот он один. Сестра умерла в этом году, летом, почти пятнадцать лет пролежала в кровати. Канавщик заметно сдал: поседел, сгорбился, и, когда-то красивый парень, похожий на Алена Делона, стал незаметным стариком.
... В сенях послышались шаги, и вскоре в дом ворвалось облако холодного воздуха. Это вернулась Машка.
– Ну, как ты тут?– поинтересовалась она и сразу же направилась к печке. –Погорело все. Сухие дрова. Как порох.
– Прошлогодние,– подал голос Канавщик.
– Оно и видно. К этим дровам да брикету бы.
– Нету. Все деньги на похороны истратил...
– Может, съел бы чего? Я поставила ужин готовиться, то и тебе принесу. Мой в Могилев поехал к дочери. Жду, должен на ночь вернуться. Посижу возле тебя. Я бабам сказала, придут и они... управятся только...
– Не надо было бы...– подтянул одеяло, которое одним краем сползло на пол, Канавщик.– Наделал я вам забот...
– С каждым может быть...
– Видать, уже не умру... буду жить, видать... А испугался... Вру, однако: не успел испугаться. Жить захотелось еще более... Жить!..
– А в тот Омск поедешь?
– Не-а, поздно... Раньше если бы...
– Я бы поехала,– с нескрываемой грустью в голосе сказала Машка.–Мне, сколько и живу, в город хочется. Как есть голодному... А город ко мне почему-то задом повернулся.
– Надо было тебе сразу после школы передом к Мишке не поворачиваться,– с укоризной произнес Канавщик и сразу сообразил, что ляпнул не то, не нужно было бы.
Однако Машке его слова понравились, она ухватилась за них, как утопающий за соломинку:
– А к кому мне было повернуться? К кому? Приспичило, зачесалось, а никого поблизости... один Мишка, лапсарь. Вот к нему и кинулась в объятия. А если бы ты был, то я и к тебе бы... охотно бы... не задумываясь!..
– Ты, Машка, просто человек хороший... как своя ты... с тобой бы я не смог... я в этом разборчивый... лишь бы с кем не способен был...– промямлил Канавщик.
У Машки зарделись щеки:
– А что, хороших – не надо любить?.. Только шваль разную? Где она, твоя хорошенькая, твоя красавица? Краля та городская, с ногтями накрашенными? Только что-то я сижу здесь, с которой ты бы не смог, а не она. А?
– Прости, Маша.
– Все красивых выбираете. А я бы, Витя, с тобой в Омск поехала.
Канавщик повернул голову, встретился глазами с Машкой:
– Шутишь?
– Я? Я что, не могу маникюр тот чертов сделать? Я...я...я... – и Канавщик видел, как женщина спрятала лицо в ладонях, а плечи ее часто начали вздрагивать.– Прости и ты меня, Витя... Что это со мной? Затмение нашло никак... Не знаю, как получилось. Нагородила лишь бы чего.
– Поехали, Машка. Поехали в Омск. Пожила с Мишкой, поживи со мной, если хочешь. Жить можно, видать, с человеком, которого и не любишь особо?..
– Хватит, что я тебя люблю!– вырвалось у Машки. – А где ты видел такое, чтобы со стороны обоих любовь была одинаковая?
– А чего же ты раньше мне не сказала ничего? Когда я здоров был, помоложе немного?
– Не решилась, дуреха!
– А мне как раз женщина и нужна была... важнее, чем та квартира в Омске.
Машка прильнула к Канавщику, погладила его белый, как снег, чуб, чмокнула в щеку.
В дверь кто-то начал ломиться.
– Тимка,– сказал Канавщик.
– Не пущу!– Машка отвернулась от Канавщика, набросила защелку на двери. – Никого не пущу! Я бы, Витька, в Омск не поехала... Это я так сказала... больно далеко он, тот город... Больно чужой он... Дрова догорят, еще подкину... – и вот он, твой Омск, глупый! Это я про себя так сказала... Вишь, ожил... Глаза красивые у тебя... голубые... а завяли... погасли... Я не только печку, я и тебя, Канавщик ты мой, разожгу... Были бы дрова... А Тимка ломится, паразит! Не пущу-у!
Позже Канавщик все же написал брату Федору в Омск: дождался конца всех, досмотрел старых и беспомощных, готов приехать на постоянное место жительства в Омск. Написал просто так, от нечего делать.
Брат не ответил.
СИНОПТИК
Если и обращаются другой раз сельчане к Егору Цыбульке, то всегда с одной просьбой – какая, уважаемый, там у нас погода на горизонте? Что день завтрашний готовит? Не поленись – объясни. Нет, Егор не смотрит на небо, не приставляет козырьком руку ко лбу, а определенное время молчит –собирается, конечно же, с мыслями. Затем неторопливо начнет мастерить самокрутку, набьёт в ножку крепкого табаку, глубоко и смачно затянется, крякнет от удовольствия.
– А что нас ждет? – посмотрит на того, кто интересовался.– Много чего ждет. Хочешь знать? И ты, гляжу, как все... Ну-ну. Что с вами поделаешь!.. Обещал не заниматься больше прогнозами. А то, чувствую, по шапке дадут... Но – слушай. Так и быть. Земляку не могу отказать. Только – ша! По секрету скажу...
И начнет рассказывать Егор не о том, будет ли завтра снег или дождь, гроза или солнце, а станет рассуждать про жизнь, будет вгрызаться в нее, как тот шахтёр в слой породы, и обязательно про политику сыпанёт: давать прогнозы, так давать не жалея! Разве ж мало их, тех прогнозов, в его голове, на которой когда-то были густые, как смоль, волосы, а сегодня надежно – словно приклеилась – сидит на лысой сверкающей площадке кепка-восьмиклинка: в ней выдавал он еще, помнится, прогноз, долго ли продержится у нас сухой закон. На тот счет он заявил тогда убедительно, твердо: «Долго у нас ничего не бывает». Прогноз состоялся, авторитет Егора вырос, ему дали прозвище: «Синоптик». Закрепиться на этой общественной должности помог опять же Горбачев, ведь на удивление точный прогноз выдал он и о нём: «Говорит много. Натолчет лишнего. Больно близко к народу стоит, липнет аж к ним, не держит расстояние. Руководителю так нельзя. Люди на голову сядут, дай только послабление». Как в воду глядел Егор. Не ошибся, когда и у нас выбирали первого президента: «... Ведь я буду за него голосовать».
Проголосовал – и угадал. А это – опять же!– не лишь бы какие баллы к прежним.
– Ты б, Егор, за свои прогнозы погоды на жизненном фронте плату брал, – посоветовал ему как-то сосед Тимка.– Глядишь, и мне бы перепало кое-что. На сто граммов. А?
На такое предложение Егор только сморщился:
– Сам не пью и тебе не советую. Синоптик должен вести трезвый образ жизни, а то облажаюсь... Чего не наговоришь, хлебнув? Много кто, хлебнув, становится синоптиком. А проспится – и пшик... Вот так.
Тимке, или еще кому, ничего не оставалось, как поджать хвост и оставаться при своих интересах.
На той неделе не повезло Синоптику – простыл. И где, казалось бы, тот вирус ухитрился застать его врасплох? На ровном месте, можно сказать, поскользнулся. Солнечно, тепло на улице. А, вишь ты, подкралась болезнь, подстерегла.
– Это тебя Бог наказал, что говоришь много,– накинулась в очередной раз на старика жена , Лизавета: она, как заметили сельчане, ревновала Егора к той славе, что досталась ему одному, хотелось ее, той славы, хотя бы чуток, и ей. Однако, не фарт.
Егор молчал, только втянул – до конца, насколько смог–голову в плечи – не любил он слушать хулу на себя от жены, а спрятаться от нее не спрячешься, достанет своим ворчанием где угодно, она такая.
А Лизавета сыпала, не жалея слов:
– Кто тебя, осёл старый, просил прогнозировать про нашего председателя? А его и выперли. Теперь он дуется: это все дед твой своим языком напакостил... Отрезать бы язык ему. Вырвать. Нет, говорит, если грамотный такой, если уж и впрямь знал про меня, так пришел бы и рассказал, предупредил бы. Недалеко живу. Или в кабинет. Я бы, может, подготовился, вел себя более осторожно... осмотрелся бы по сторонам. А то как колом по спине. Внезапно. Средь белого дня. На людном месте. А?
– Так что, я к нему, к председателю, должен был переться, что ли?– шевельнулся на табуретке Егор.–Я? Мне надо то кресло или ему? За всеми не находишься. Я и так истоптался. Их, таких, кто не сегодня так завтра полетит с должностей, по моим скромным прикидкам, и в масштабе колхоза, и в масштабе государства, – ого сколько! За всеми не уследишь.
– Ты хоть государство не задевай, развратник!
–У меня что—«мерседесы» те есть , чтобы за всеми ими шастать, голову задрав? Или мне кто презентовал их? У меня даже телефона нету. А был бы!...
– Дай еще тебе телефон! – облизала губы Лизавета. –Вот тебе!
Она показала Егору то, что, по ее меркам, старик и заслужил,– фигу.
А днём Егор, надев чистую сорочку, потопал в направлении фельдшерско - акушерского пункта – решил показаться Матузку: что, интересно, скажет тот про его хворь? Учили же человека – пускай и лечит. Нечего. Может, пропишет таблетки какие, а может, и серьёзное что выявит и направит тогда дальше – сперва в участковую, а там, возможно, и в районную или даже в областную больницу.
Матузок был в своей маленькой, но уютной, чисто убранной ординаторской один. Сидел, отрешенный, казалось, от мира сего, за столом и торопливо что-то строчил ручкой на бумаге, время от времени поправляя очки, которые не держатся на ушах и скользят, словно полозья саней по льду, по его облупившемуся от загара носу.
– Заболел чего-то, кажись,– топтался в пороге Егор.
– Садитесь,– мельком взглянув на пациента, показал глазами на табурет Матузок.– Подождите немного. Занят. Запутался в цифрах. Говорила же учительница, Ольга Кондратьевна: учи, Матузок, арифметику, пригодится. Помни, Матузок: положишь перед собой – сзади возьмешь. Не слушался. Напрасно.– А потом, победно бросив ручку перед собой, поднял глаза на Егора.—Ну, что там у вас, дед?
– Если бы знал что.
– Держи градусник.
Потом, опять покопавшись в бумагах, попросил градусник назад. Посмотрел, сдвинул брови:
– Выпишу таблеток. Попей. Только сперва помогите и вы мне. Слушаете?
–А что мне еще делать остается, как не тебя слушать?
–Прогноз ваш нужен, дед, – Матузок положил руку на плечо пациенту.–Срочный.
–Больше синоптиком не нанимаюсь, – тихо и с нескрываемой грустью выдохнул Егор.–Извини.
Матузок насторожился:
– Почему же так?
– Почему, почему? Теперь все люди грамотные, могут мозгами поворошить и сами. Зачем мне за всех, братка, микитить? Зачем за всех отвечать?
Фельдшер повел подбородком и некоторое время молчал. Думал. А потом по-дружески мягко прислонил свою голову к голове Егора, прошептал:
– А и правда ! Правда, дед. Это так. Но! Но ошибаетесь все же в одном: все мы не можем одинаково думать. Не получится. И когда вот мне думать? О себе, о своих личных проблемах? Голова забита всякой всячиной... Я думаю, где и каким способом достать лекарства... и для тебя , да-да... Как привезти на ФАП на зиму топливо. У директора школы хватает своего думанья... У председателя сельсовета – своего... Эх, да что там!..
–Так...–хотел запротестовать Егор, но Матузок не дал ему вставить слова.
– Так что, дед, не «такайте» , а делайте людям и впредь приятное – работайте, служите синоптиком. Если получается у вас. Если верят земляки...
– Так болею...– малость, кажется, растерялся Егор.
– Вылечу, дедушка!– повеселел Матузок, заулыбался.–Поставлю на ноги. Так и быть. Не будете болеть. Обещаю.
– Это когда, наверное, правильный прогноз выдам,– с хитрецой сверкнул глазами Егор,– тогда не буду болеть. А ошибусь, поди, так и захвораю –наказывает, видать, Бог, как думаешь?
– А было разве, чтобы какой ваш прогноз лопнул, как мыльный пузырь, не сбылся?
– Вроде бы нет.
– Тогда не волнуйтесь и послушайте, что мне надо точно знать, чтобы потом не ошибиться, чтобы раз и навсегда...
– Слушаю, – веселее стало и Егору, ведь и правда же, наплетет лишь бы чего Лизавета.– Слушаю, Павел.
Матузок же, к удивлению старика, молчал. Он даже отвернулся от него, покачиваясь с пятки на носок, смотрел через оконное стекло на улицу, закрыв его своей широкой спиной. Синоптик напомнил о себе:
– К-хе... к-хе... Ага, значит... Ну, так что там у тебя, Павел? Жениться никак решил?
Матузок повернул к Егору счастливое лицо:
– А вы, дед, как догадались? Хотя ... правильно... да-да... Кто же еще догадается, если не вы?
– Этот прогноз шибко легкий – тебе уж, брат, лет много. Пора. Пора, Павел.
– Было не было! Попробую сам разобраться до конца...Правда, а зачем у самого голова? Каждый сам на себя в первую очередь должен надеяться. И только. Не получится, начну колебаться, тогда и позову вас, дед, на подмогу. Идет?
– Гляди,– кратко ответил Егор, крепко зажав в кулаке таблетки, насыпанные фельдшером.– Гляди. Если что – выручу. Как и ты вот меня. Ага. Ну, бывай. – Он помолчал, потоптался в пороге, как и перед тем, когда вошел, а потом поднял все же глаза на фельдшера.—Но... Ага, значит... Было не было... Не хорошо мне, синоптику, об этом... не мужицкое дело будто... Но ты сам гляди, парень, не ошибись... Может, ты мою бабу лучше бы послушал? Лизавету? Жениться ведь надо раз и навсегда... а люди они, Космоченки, не очень чтобы... злые... вреднюги, одним словом. Это пока ты не вошел в их дом, то улыбаются, поклоны отбивают тебе... Я с чего делаю свой прогноз? Перед этим с Космоченковой Танькой сын дачника женихался... Мягко стлали, ох и мягко! А на второй день – свадьбу же у нас делали –городским по сто граммов даже утром не дали поправить здоровье... те вынуждены были в лавку бежать... Веришь? Нету, говорят, все подмели дочиста. И надо же такое придумать? Хоть поровну на свадьбу сбрасывались... от невесты и жениха... А потом Космоченки той водкой огород сеяли-копали-убирали несколько лет... Люди же все видят. И более скажу: они зятьев своих совсем за людей не считают... Лишь бы вытолкнуть девок... Чтобы могли по закону детей приносить, а не в подоле... Потому у них все зятья были не наши – чужие... Свои парни не дураки – не брали... Я тебе, фельдшер, признаюсь, так и быть: это люди наши попросили сказать тебе про Космоченков... Уговорили меня. Уломали. Мать их так!.. Это не мой прогноз. Жалеют тебя... Ведь ты хороший, видно же... На «вы» с каждым... А хороших жалко... Не хотел я браться за этот грязный прогноз... нелегко было мне... Веришь? Еле решился... Но что правда, то правда: если не послушаешься моих земляков, будешь ты и пьяницей, и лентяем, и еще много кем. Но – будешь. Извини, если что не так... А захочешь убежать – не убежишь: приворожат, это они умеют... прости за прогноз... Поскольку это был бабский прогноз... женского рода... на сплетни похожий... Однако же попросили... при случае... поэтому, видать, и прихворнул... как специально, чтобы с тобой встретиться... Сказал вот тебе сегодня... и всё, баста: больше прогнозов давать не стану. Ну их! Ни за какие пряники. Неблагодарное это, гляжу, дело... Все равно как в луже выкачался ... в чем был. Тьфу!.. Мать их!..
Домой Егор топал все же в хорошем настроении. Будто и голова уже не болела. Будто и дышалось полегче. Он забыл о таблетках, что были в крепко сжатом кулаке, а когда расслабил его, те скользнули на землю – под самые ноги.
А фельдшер так ничего и не сказал Егору. Только ещё долго и как-то отрешенно, могло показаться со стороны, смотрел и смотрел ему вслед– даже когда уже не было видать Синоптика на деревенской улице.
РЭБА
Едва проснувшись, Рэба глянул на мать, которая топталась у печи, и с угрозой в голосе потребовал:
– Похмеляй, иначе сожгу хату!
– Поджигай, будешь в сараюшке жить, если ещё и его огонь помилует, – безразлично ответила мать, задвигая ухватом в печь чугунок. –Мне уже и жить... Может и не перелетаю. Поджигай, поджигай, сынок, хату. Спички дать?
Рэба рычал, словно раненый медведь, подпрыгивал, пиная ногами все, что попадалось на пути, рассыпал маты, словно просеивал между пальцами комки сухой земли:– Похмеляй, сказал!
– А скорей бы ты сдох,– тихо, не услышал бы сын, прошептала старуха и перекрестилась. – Поплакала бы раз, да и забыла. Сколько живу, столько и мучаюсь. Это немец проклятый, ирод!.. Это он, гад лупоглазый! Лучше бы убил тогда его!.. Я бы и не знала, что может быть на одного человека столько мучений...
Старуха выходила в сени, вскоре возвращалась с начатой бутылкой, наливала маленько в кубок,– чтобы отвязался Рэба, не трепал нервы, – и опять прятала самогон. Рэба же, проглотив одним махом зелье, тянулся на улицу, некоторое время осматриваясь по сторонам. И так как никого из нужных ему людей замечено не было, брал ориентир на магазин, хоть тот был еще и закрыт, однако он знал, что на крыльце всегда есть место: можно присесть, подождать. Он и сидел. Иной раз к нему подходил Стёпка, он живет как раз напротив магазина, окна в окна, и тогда они сидели вдвоем, курили и поджидали, кого можно было бы зацепить, чтобы сорвать на выпивку. Если не откроется магазин, так есть в деревне точки, где продают не только самогон, но и водку. Деньги, деньги нужны!..
Сегодня Рэба сидит один, Стёпки чего-то не видать. Хоть крикни – вон его окна, совсем близко. Однако Рэба не решается, боится, что высунет голову из окна Степкина жена, и тогда не ищи добра: шуму будет на всю окрестность. «Спит, гад!»–думает Рэба и жалеет, что сегодня Стёпка, похоже, еще не поссорился с женой, а то был бы тут как тут.
Рэба прислонился спиной к дверям и как-то незаметно для самого себя провалился в сон. Ему приснилось, будто он собирал грибы, и было их столько, словно картошки после «трусилки» на колхозном поле. Долго он дремал или нет – сказать не может, но сон про грибы ему понравился, и он пожалел, что его растолкал Стёпка.
– Ничего нет?– висела его лохматая голова над лысой Рэбовой.
– Нету, – обречённо ответил Рэба.
– И у меня,– вздохнул Стёпка и сел рядом. –А пенсию твою мать что, всю отбирает?
– Пусть берет,– трезво рассуждал Рэба. –Я же пропью с тобой, а жрать тогда что? Но она меня похмеляет. Припугну, что хату подожгу,– так и нальет.
Стёпка закрыл глаза, а потом произнес осторожно, как бы между делом:
–Перед тобой, Рэба, немцы в большом долгу. Потому что ты долго не мог научиться говорить слово «рыба». Он же тебя, немец, звезданул по макушке прикладом.
– Сдох тот немец давно. Если не убили в войну наши...
– А за того немца должен ответить тот, который сегодня живет. Я не прав, скажешь? Его сын, брат, а?
– Может,– Рэба зевнул.– Только ты не вспоминай... это... войну. Не надо.
– Я бы, может, и не вспомнил, но они же, немцы, сами про себя напомнили. Сегодня в нашу деревню приезжают германцы.
– Так те ж без оружия...– втянул голову в плечи Рэба. –То хорошие немцы. Их любить надо.
– Люби. Твое дело. Но они же могут раскошелиться хоть раз перед тобой? На марки? Хотя – зачем нам марки? За них у нас не возьмешь... Пускай хоть пару бутылок шнапсу дадут – и никаких фокусов. Вон, вон автобус... и легковые. Едут, едут немцы. Легки на слове. – Стёпка подхватился, подтянулся аж на носках сапог, чтобы видеть, куда подалась немецкая делегация. –В контору. Но ничего, ничего, граждане! Найдем и там! Найдем! Пошли, пошли, Рэба, за компенсацией!
Рэба молчал. Он даже не смотрел на Стёпку. Он вспомнил войну. Из всей той войны, правда, запомнил одно – как ударил его немец. Для него война началась и закончилась этим эпизодом. А уже позже, когда надо было ходить в школу, то наука у него не пошла, зато принимали, как своего, в больницах.
– Так ты идешь или не? – надулся Стёпка.
Рэба проворчал что-то невнятное себе под нос, но всё же встал, стряхнул пыль со штанов, и часто затряс головой:
– Нет, нет, нет! Я боюсь немца...
– Так это же хороший, сам говорил, немец.
– Все равно –боюсь.
– Эх, ты!– вздохнул Стёпка , махнул рукой и сел на то место, которое освободил Рэба. – А я думал, ты смелый... Думал, что можешь у него, фрица, компенсацию потребовать. А ты?!. Думай тогда, где разбогатеть на бутылку.
– Мне никто не даст,– сморщился Рэба.– Матка предупредила людей, чтоб не давали. Злой я, говорит, когда напьюсь. Вредный. А разве ж злой я, Стёпка?
– Злой не злой, а никому плохого, сколь и помню, ничего не сделал,– сказал Стёпка и икнул.–Во, кто-то вспоминает. Зинка, кто ж еще. Сейчас выставит голову из окна да гаркнет, что...
Стёпка не договорил – из-за угла магазина показался Пахомчик, старый холостяк, человек неопределенного возраста. Он разинул рот, будто удивился, заметив на крыльце Рэбу и Стёпку.
– А загрызть есть чем?– наконец нашелся Пахомчик и показал бутылку.–Как знал, что вы тут. Сегодня я вас угощаю, завтра – вы меня.
– О чем может быть речь?– засветилось лицо у Стёпки.
Рэба же стоял все еще по-прежнему хмурый, словно день поздней осени.
– Айда за угол! –приказал Пахомчик.
За ним охотно потопали. Там, меж кирпичей, была припрятана стопка, в полиэтиленовом пакетике лежал кусочек хлеба. Выпили. Хлеб высох, не ломался, поэтому Стёпка подбежал к дикой яблоне, раздобыл несколько паданцев. Они еще лучше, чем этот черствый хлеб. Когда самогон зажег внутри лампочки, Стёпка пожаловался Пахомчику на Рэбу, который не хочет сорвать с немцев, приехавших к ним в село, компенсацию за того фрица, что в войну выбил из головы у Рэбы часть ума.
– И правильно делает,– не поддержал Стёпку Пахомчик.– Как это– пойти к чужим людям и стоять с протянутой рукой? Это у соседа можно попросить. Пусть и фигу другой раз покажет. Так то наша фига, местная. А если немец ткнёт, то она, та импортная фига, будет слишком долго вонять. Не иди, Рэба. Не слушай.
– Не пойду, – повеселел Рэба. – Не пойду. Матка ругаться будет, когда услышит... Ну его, немца!..
Стёпка нервно плюнул, а Пахомчик отошел чуть в сторонку, засунул руку в бурьян и вытащил вторую бутылку.
... Рэба лежал на обочине дороги, подложив ладонь под голову. Жарило солнце. Шапка лежала в метре от него. Что-то не видать Рэбовой матери: наказал старухе сам председатель колхоза, чтобы заволокла пьяницу домой, чтобы не позорил колхоз и сельчан перед немецкими гостями. А они, немцы, ходят по деревне, знакомятся с жизнью людей. Весело им, хорошо. Незаметно как-то и на Рэбу напоролись. Один из гостей засмеялся, ткнул пальцем:
– Пьян, да?
Председатель растерялся, покраснел. Выручила его Семениха, не по годам резвая и находчивая старушка, она примазалась каким-то образом к гостям и ходила с ними по заасфальтированным деревенским улицам, где ей было все знакомо - перезнакомо, но по хозяйству нечего было делать, поэтому и шаталась. Она, смело взглянув на немца, который ткнул пальцем на Рэбу, сказала громко и с каким-то нескрываемым упреком в голосе:
– Он же на своей земельке лежит, панок!..
ДУРЕНЬ
Скороход лежал с закрытыми глазами, но из-под век, словно откуда-то из-под камня-кругляка, выкатилась большая – с горошину, наверное, – слеза. Она задержалась на мгновение в уголке глаза, затем теплым ручейком скатилась, тая, к уху больного. И растворилась...
Он, сбитый в плечах, коренастый и в общем-то крепкий с виду человек лежал под капельницей. Его спасал преднизолон – гормон, печально-радостно известный каждому астматику. Скороход, когда первый раз попал с бронхами в пульмонологию, долго не мог запомнить название этого лекарства: больно мудреным, заграничным казалось слово. Зато теперь, разбуди среди ночи, – скажет: «Преднизолон!» Смешно вспомнить, но тогда сосед по палате, вернувшись из столовой, сразу начинал рыться в тумбочке, доставал оттуда принесенную женой еду – сало, куриную ножку, вареные яйца. И уплетал за обе щеки. Когда же на него косил глазами Скороход, удивляясь аппетиту, тот, работая челюстями, оправдывался:
– Подожди, подожди, начнет преднизолон делать свое дело – тогда я на тебя погляжу, орёл!..
Скороход сверкнул глазами и, не обронив ни слова, отвернулся. А позже, когда, как и обещал сосед по палате, тот загадочный преднизолон крепко подмял его под себя, он срочно велел своим, чтобы обеспечили продуктами. «От больничных сосет под ложечкой!» Преднизолон и разнёс его, бедолагу, – такой аппетит вызвал, что он вынужден был среди ночи подкрепляться. Знакомые, встретившись на улице, оглядывались: Скороход это или я ошибаюсь? Будто бы – он... Будто – нет...
Преднизолон Скороход принимает каждый день – без гормонов он уже не жилец. Чего добился, когда осведомился, что это за холера такая, так это одного – сполз, постепенно сокращая дозу, с нескольких таблеток до одной. Ведь сам почувствовал: надо избавляться от преднизолона, а то не получается шнурки завязать – живот мешает. Опять же – сердце... Правду говорят: одно лечишь – другое гробишь.
Лежа под капельницей, Скороход вспоминал Узбекистан, где жил некоторое время после армии и откуда успел уехать незадолго до распада СССР. Чем гордился, хвалил себя за дальновидность: пока смотрю вперед – не пропаду и сам, не дам пропасть и своим скороходикам.
Сегодня они, кстати, должны приехать к нему. Светка и Павлик. Верка не сможет – у нее на первом плане молодой муж, а не отец. Медовый месяц. Светка учится в техникуме, сейчас у нее каникулы. Павлик, поскрёбыш, в четвертом классе. «Хорошо, что дети приедут»,– рассуждает Скороход, открывает глаза, глядя на дверь. Тихо. Пока нет. Только сосед Петрович, как раньше и он, пять лет назад, чавкает ртом: преднизолон, холера!
Ага, вот и дети. Они здороваются с отцом, Скороход едва заметно улыбается: доволен. Не забывают. Молодцы.
– Садитесь, – предлагает он.
– Сядем, – весело отвечает Светка, а сама суетится: набивает продуктами тумбочку, а сверху, на крышку , положила несколько «систем», свежие газеты.
И потом только садится рядом с Павликом на подставленную им табуретку.
– Как там, дома? – выдержав паузу, смотрит на детей Скороход.
– Нормально, – кивает Павлик.
– Дома хорошо, – улыбается Светка.
Молчат. Скороход, видимо, вспомнил дом, который стоит почти в самом центре райгородка; от Гомеля, где он теперь лежит в пульманологии, полчаса езды на автобусе.
– Сено затащили на чердак? – Скороход посмотрел на капельницу, на детей.
– Ага. Затянули. И сразу к тебе, – ответила Светка.
– Одни? Или Верка со своим помогли?
– Одни...– опять ответила Светка.
Скороход недовольно хмыкает:
–А они, вишь, запанели. Только деньжат дай, батька. А фигу! Хватит! Всему когда-нибудь бывает конец!.. Свадьбу им сделай, еще какую-либо ерунду придумают. Я это им вспомню. Спать они будут мне в обнимку! А... а торфокрошку в хлев они хоть занесли? У ворот лежала куча. Я их просил, прежде чем в больницу уехать.
– Не видела я, – неуверенно шевельнула плечом дочь.
– И я не видел, – соврал Павлик, поскольку торфокрошка как лежала, так и лежит на том же месте.
– Ослепли, вижу, все,– ворчливо выговорил Скороход. – Лечиться надо. Очки покупать.
– Папа, – постаралась улыбнуться Светка, – тебе же нельзя волноваться. У тебя же сердце больное.
Вроде бы внял совету дочери. Но через минуту поинтересовался:
– Липу на дрова попилили? Или так и лежит?– Ясно, – опять скривился весь, вроде от зубной боли. Как день ясно. Вам бы только всем тянуть из меня последние жилы. Только бы есть да пить. Чувствую, без меня там и кролики подохнут. Павел, кролов кормишь?
– Кормлю...– Павлик потупился.
– «Кормлю...» , видать, кинешь одну на всех свеклину – и гулять. Смотри у меня, за каждого ответишь!.. За каждого!.. Спрошу!.. Тачанку, мать вчера говорила, сломали. Кто сломал? Молчите. А что тут скажешь? Ломать не строить, мать вашу!.. Вы хоть печь не развалите, пока я в больнице. Света!
– Ну, чего? – на глазах дочери показались слёзы.
– Ты не плачь, не плачь. Москва слезам не верит, а я что – должен верить? Не плачь. Помогай матери. Хватит баклуши бить, хватит!..
– Помогаю... – дочь вытерла носовым платком слёзы.
– Знаю, как ты помогаешь. В отличие от вас, я не слепой. Знаю-ю... Р...работнички, мать вашу!..
Светка и Павлик сидели перед отцом и плакали. Не стесняясь даже усатого дядьку, Петровича, который сперва ковырялся в свертках с едой, а тогда, увлекшись, разинул рот и следил, краснея, за Скороходом.
Дети молча поднялись. Молча подались к дверям. Скороход вытащил из вены иглу, придавил кровь кусочком ваты. Хотел было догнать их, но не смог: закружилась голова, стало тяжёлым, непослушным тело.
– Со... сосед... Петрович, – слабым голосом позвал он.
Но Скороход не заметил, как Петрович выскользнул из палаты вслед за его детьми и, задержав тех в коридоре, будто оправдывался за отца:
– Вы ему простите. Это болезнь всё... Да и вы же... и вы же немного умнейшими будьте. «Попилили липу на дрова?» – «Так точно!» – «Крошку занесли?» – «А как же!» Умнейшими, ага, будьте. А пока отец вернется – попилите и занесёте. Его преднизолон тут надолго задержит. Тем более после вашего посещения...
Вернувшись в палату, Петрович, глянув на койку, где лежал его сосед, всё понял... И уже мёртвому Скороходу сказал :
– Дурень!
ПЕРСОНА
Для многих жителей Лосевки московская олимпиада 1980 года была обычным, рядовым событием. Понятное дело: живут в этой красивой лесной деревеньке одни старики, а им некогда было привыкать поклоняться спорту, они все время, сколько помнят себя, поклонялись родной земельке. Поэтому появление в Лосевке Мишули, который, знали, давно живет в Москве, никак не связывали с олимпийскими играми. Приехал да и приехал земляк, мало ли кто приезжает. Пускай отдохнет, по знакомым тропкам походит, родным воздухом подышит, басурман этакий. Только вот что-то больно долго Мишуля дышит – истек август, потом сентябрь, октябрь незаметно нагрянул... А он, гляньте вы, и не возвращается назад в белокаменную. «Жена вытурила!» – единогласно решили сельчане, но напрямую у Мишули спросить – так или не так – не отважились: живет себе человек в отцовском доме, никому не мешает, пускай и дальше живет. Его дело. А когда Мишуля начал искать хоть какую-то работу, ведь одной картофелиной сыт не будешь, да и на выпивку тратит много человек, то все сомнения сельчан отпали сами по себе: ну, а мы что говорили? Вытурила жена, кто бы спорил!..
Жена? Может, и она приложила здесь свои руки, кто знает, но факт остается фактом: в родной Лосевке Мишуля оказался на время олимпиады – всех пьющих , чтобы те, видать, не попадались гостям на глаза, отправляли подальше от столицы . Мишуле, кроме как в свою Лосевку, и ехать было некуда, а за сто первый километр, куда высылали большинство таких, как он, отправляться, наверное, не пожелал: испугался, возможно, что это будет что -то вроде зоны...
Так вот он и появился здесь. Седой, с морщинистым лицом, в искомканном костюме, с маленьким обшарпанным чемоданчиком в руке. Запомнилось еще сельчанам, что был он на хорошем подпитии, и, прежде чем идти к отцовскому дому, на дверях которого давно висел огромный ржавый амбарный замок, завернул в сельмаг и опрокинул бутылку вина – не отходя от прилавка, жадно, одним махом, а потом сказал разинувшим от удивления рот землякам:
– Душно сегодня. Фу-у-у! Жарко. После обеда , похоже, дождец будет. Фу-у-у!..
На что кто-то из сельчан заметил:
– Тебе лучше знать, будет дождь или нет, ведь живешь рядом с синоптиками. А мы – далеко. Хотя он, дождь, и нужен: засушливо на дворе, погорит урожай. Ты, Мишуля, если раньше поедешь, то шепни там предсказателям погоды, пускай пообещают. Заглянь в их конторку, не поленись. Далеко они там от тебя или нет сидят?
– Для земляков сделаю,– пообещал Мишуля.–Я их заставлю говорить то, что надо вам. Д... даю слово: будет дождь. Готовьтесь. Ждите. А сейчас пошел отдыхать с дороги. Москва, между прочим, не за Репищем, от нее до нашей Лосевки неблизкий свет, устал ... И-у!.. Отосплюсь, тогда и поговорим. Будет про что. – Он еще раза два икнул, подхватил, по всему видать, полупустой чемоданчик, и, заметно пошатываясь, пошаркал из сельмага.
А люди, проводив его взглядами, постояли еще чуток молча, а тогда вспомнили-припомнили Мишулю в молодые годы, его отца, Степана, который не вернулся с войны, мать, Настю, что так и не вышла больше замуж, так одна и вырастила четверых детей, а век доживала, как это часто бывает, в одиночестве.
Как и все дети, Мишуля рос на глазах земляков. Почти все они отметили тягу Мишули к технике – он постоянно пропадал на мехдворе: сперва прицепщиком работал во время летних каникул, а когда подрос немного, то уже не оторвать было от автомашины, так и крутился около Ивана Авдеева, подмазывался, чтобы тот дал посидеть за баранкой. Старший и самый опытный колхозный шофер уступал парню, а потом – ну и смелым же человеком был этот Иван Поликарпович!– нередко оставлял в кабинке одного Мишулю, а сам шел домой и что-то делал по хозяйству. «Да что за ним следить? Он, братки, ездит лучше, чем некоторые наши шофера!.. »
Закончил Мишуля школу или нет, никто толком не помнит. Бегал с полотняной торбой, как и все, а в какой класс –так кому ж сегодня за давностью про это знать? А только в один летний день Мишуля исчез из деревни – поехал, говорили, в Москву. Не удивились, ведь там давно и оседло жили многие его родственники – тетки и дядьки. Они пообещали, наверное, помочь с пропиской и крышей над головой. В деревне жизнь шла своим путем, другой раз ухабистым, с выбоинами, а иногда – и с песней и стопкой, и вскоре про Мишулю люди и вовсе забыли. Иногда, правда, его вспоминали парни-ровесники, а то и помоложе кто, которые когда-то завидовали ему, когда видели за рулем автомашины. «Повезло же, а ! Мне бы так!..»
Мало кто сомневался, что Мишуля не станет шофером. Он и выучился на него, колесил по Москве на грузовиках, а потом все чаще и чаще стал выпивать после работы, несколько раз похмелялся на следующий день в кабине, попался – перевели в слесари. Вот там он и совсем сошел, как говорят, с рельс. С автопредприятия потянулся на стройку, со стройки еще куда-то. Разладилась и семейная жизнь. Жена несколько раз обещала подать на развод, но не решалась, и тут – олимпиада. Хоть и жалко было Мишулю, но она обрадовалась: «Хоть месяц поживу, как белый человек. Надоел ведь». Собрала чемодан. Половину вещей Мишуля отгрузил.
– Натолкала в чемодан, будто навсегда меня отправляешь,– агрессивно посмотрел на женщину.–Хватит пары сорочек и одни брюки. Носки также возьму... А туфли вторые зачем? Оторвется подошва – прибью. Не сломок.
С теми сорочками в чемодане он и приехал в родную деревню. Жил тихо, незаметно, иногда как-то проскальзывали в его голосе нотки обиды на всех и вся. А однажды, подвыпив, ударил кулаком по прилавку в сельмаге:
– А чего это вы все меня гоните в Москву? А мне, может, и здесь хорошо, в родном гнезде. Что, Москва – сахар? Едали, знаем! Может, за полгода я и вовсе отвык от столицы. А семья? Нету у меня семьи! Нету-у! Жена есть, не возражаю, дети тоже: дочь и сын. А семьи нету. Что, они не могли прислать мне денег на дорогу? Знали же, что надо мне на дорогу... не пешком же топать. Я ведь оставил ей, своей кастрюле, деньжата с наказом: как разгребут все комплекты медалей, перелапают всех наших баб, сразу и высылай. Через месяц где-то. А где они, деньжата? Уж сколько времени прошло? Нет, вы подумайте : и это я, Мишуля, им нужен был в той грязной Москве? Отмыли, наверное, благодаря олимпиаде, отдраили. Падать на колени не буду. Не бу-ду-у! Я, может,– персона!.. Звучит? То-то ж! Пер-со-на-а!..
С этой «персоной» он насмешил людей. Долго они смаковали впервые услышанное слово, резанувшее слух. «Персона! Видели? Хвастун какой! Шишкой назвался!.. Штаны на коленях протерлись, весь самосад покурил у соседа, на билет денег нет, чтобы домой вернуться. Персона...» А потом разобрались люди с этой персоной – помог сам Мишуля, он просто добавил еще два слова – нон грата– и объяснил тем, что все это означает. «За двадцать четыре часа – как дипломата! – и выперли из Москвы. А вы: Москва, Москва!.. Чихать я на нее хотел, чтобы знали!..»
Учитель Кириллович принес Мишуле двадцать рублей. Подал и спросил:
– Хватит?
– Что... это? – удивился Мишуля.
– Деньги. На билет. К семье.
– Хва...хва... тит, – часто затряс лохматой головой Мишуля.– Спасибо тебе, учитель. Ты человек. Верну, как только приеду. Там мне одолжат. Корешки. Можно, я тебя расцелую, учитель?
– Не надо, Мишуля,– Кириллович повернулся, чтобы идти, но задержал шаг. – Не возвращай деньги, не надо. При встрече как-нибудь разберемся. Не последний день, надеюсь. Живем.
– Как жалко, что ты меня не учил!..
Но Мишуля доехал тогда лишь до сельмага. Он еще несколько раз добывал деньги на билет, но снова пропивал. «Совсем, ой, Божухны, пропал человек,– горевали сельчане, а как помочь ему, не знали. – И зачем Москва его вышвырнула, зачем под зад дала?.. На нас, старых и беспомощных, переложила. А там же разве не видели, каким стал Мишуля? Это где же его еще можно было поставить на ноги, если не там, при академиках и профессорах разных? Так нет же – столкнули, и руки вытерли. А мы ведь вам такого Мишулю не давали. Верните того, которого брали. И жена хороша! Тьфу!»
Как-то однажды к Мишуле подрулил председатель колхоза Дергачев. Мишуля завтракал – макал картофелину в соль и запивал рассолом. Поздоровались. Председатель строго посмотрев на хозяина убогого жилища, внимательно пробежался глазами по углам, приказал:
– Собирайся!
– Куда ?– Мишуля, услышав такой приказ, аж поперхнулся.
– Иван Поликарпович Авдеев умирает... не для кого не секрет. Был у него. Просил, чтобы тебя привез... поговорить хочет. Есть, говорит, у меня последняя просьба к тебе, председатель. Я должен выполнить ее, просьбу. Поехали, поехали!
По дороге, ловко управляя «Уазиком», председатель поинтересовался:
– Давно был у него?
– Давно...
– И у него, извини, деньги одалживал на дорогу в Москву?
– Одалживал...
– Эх, Мишуля, Мишуля!– председатель уперся спиной в сидение, стукнул одновременно двумя ладонями по «баранке».– Один я, получается, тебе еще не одалживал денег. Да? Молчишь. Не одалживал. И не буду. Я тебе, Мишуля, если что, билет куплю. Билет не пропьешь. Правильно? Или можно?
Мишуля неуверенно пожал плечами:
– Не знаю.
А затем, помолчав, добавил:
– Пропить можно все. Даже Москву.
Поговорить со своим любимчиком Мишулей Иван Поликарпович не успел – умер старик. А ему очень хотелось. Хотелось по-отечески откровенно попросить его, чтобы не пил так бестолково, жадно, взялся наконец-то за ум и показал себя перед земляками не «персоной», а тем Мишулей, каким был когда-то. И еще хотел старый человек, чтобы Мишуля сел на его «газончик». Он видел только его в кабине, на своем месте.
Про все это Мишуле рассказал председатель. Выдержав паузу, поинтересовался:
– Ну, так как, Михаил Степаныч?
Мишуля стоял на подворье Ивана Поликарповича, глотал слёзы и часто крутил своей лохматой головой:
– Не смогу я... не смогу... не смогу-у! Прости, Иван Поликарпович!.. Прости!.. А в бригаду пойду, председатель... или на ферму... Жить ведь надо... надо... ага... жить... и в самом деле-то,а ?.. А за руль – не смогу... Пропил я и руль... Прости, батя...
Председатель поехал, а Мишуля остался сидеть у гроба. Хотя был сегодня он и трезв, однако слёзы предательски катились из его глаз, словно дождь из густой темно-серой тучи. Другим могло показаться, что в гробу лежал самый близкий ему человек – не иначе, отец... Почему – показаться?.. Так оно, пожалуй, и было...
БУБЕН
Своего бубна у Аркашки не было, да и какой бубен мог быть у этого больного человека, если Ганна, его мать, лишь изредка покупала сыну печенье и конфеты в сельмаге, а кое-что из одежды привозила из города. Жили бедно, на две маленькие пенсии – Ганны и Аркашки. Аркашка, видать, никогда и не просил купить бубен. Ясное дело – нет. Он молча принимал от матери всё, что она давала ему. Ел, пил, носил… И тем был счастлив. Нет, не похоже, чтобы он даже заикался про бубен. Да она, Ганна и пообещать бы не пообещала, и купить бы его сыну не купила, каждая копейка на счету – на хлеб, на селёдку – не больно разгонишься. Да и где их купишь, бубны эти? Да и продаются ли они? Их же, наверное, мастера делают – в деревнях, в городах. Для себя… Вроде как решето, дугу, плуг. Но на любую гулянку в Искани – свадьба ли, крестины, новоселье – местный музыкант вместе с гармошкой беспременно прихватывал бубен. Бубен – для Аркашки, который вечно являлся на такие мероприятия без приглашения; его ждали, усаживали на краешек лавки, наливали рюмку-другую. Он выпивал и закусывал, не проронив ни слова. Лишь сопел и поглядывал на гармониста. Тот, поев, шёл на своё место, Аркашка за ним, садился по правую руку, из-за голенища – почему-то и зимой, и летом Ганна, а может, и он тоже, признавали только сапоги – выуживал палочку, самолично выструганную, потому чуток кривоватую, шершавую, и под его пухлой рукой заводил свою песню бубен. Сначала дрожал-звенел крохотными бубенчиками у Аркашкиного уха, заливался, чисто жаворонок в поднебесье, а потом его туго натянутой кожи касалась палочка, а музыкант, склонив голову, выбивал-выстукивал мелодии на любой вкус, и никто не упомнит, чтобы хоть раз гармонист попрекнул его за фальш. Аркашка был маэстро. Правда, случалось, кто-нибудь, здорово подвыпив, тянулся за бубном. Да что с него, осоловелого, взять? Интересно – Аркашка отдавал бубен молча, покорно, отодвигался от гармониста или стоял сбоку, поблизости и, казалось, равнодушно наблюдал за танцующими. Но без дела он оставался недолго, уж кто-нибудь да крикнет:
– Отдай бубен Аркашке!– И добавит: – Портач!
Аркашка тут же молча возвращался на своё законное место, перехватывал чужую руку с палочкой, забирал палочку, забирал бубен. «Люди сказали: отдай…» И снова, склонив голову, в такт музыке прицокивал языком, притопывал сапогом и, до капелек на раскрасневшемся лице, выбивал-выстукивал из этого немудрящего инструмента нечто живое, весёлое, трепетное – отчаянно нужное человеку после рюмки.
Бить в бубен берёзовой палочкой и постукивать по нему сжатыми пальцами или ладонью, чередуя одно с другим, – вот и всё, что умел Аркашка в этой жизни. Опять-таки воды принести, дров, а затопить печь или голландку – нет, это для него труд непосильный; сложить принесённые дрова в печи и то не удавалось, и спичкой чиркнуть не получалось. Бог отчего-то лишил Аркашку того, чем наделил остальных. Спросить бы, за что покарал? Отец с войны не вернулся – погиб. Ганна с евангелием спать ложилась, с ним вставала, все похороны-отпевания в Искани были на ней: никому не отказывала, больная не больная, а идёт с божьим словом проводить в последний путь односельчанина. Аркашка же, ещё грудным, застудился, прицепился к нему полиомиелит и жестоко обошёлся – на всю жизнь оставил парня хворым, несчастным. В школу походил-то всего, поди, с месяц, и учитель вывел своё заключение: ничего из мальчугана не выйдет, не осилить ему грамоты, пусть уж лучше дома сидит. Да знала Ганна, знала, как не знать, на что гож её сын, не слепая. Вон и доктора ещё раньше сказали – деликатно – то же самое. Но как втолковать ребёнку, чтобы не переживал понапрасну накануне первого сентября, не готовился к школе? Соседские дети собираются, и он возле них крутится, хвастает, что и ему мамка букварь купила, тетрадки и ручку. Первоклашки в своих тетрадках уже вовсю буквы писали, а её Аркашка всё какие-то волны да цепочки выводил – словно море рисовал. Этими цепочками учёба и кончилась. Позже, когда пришло время и пареньков, его одногодков, взяли на учёт в сельсовете как допризывников, туда один-единственный раз вызвали Аркашку, сделали какую-то запись и больше не беспокоили. Он, однако, повадился ходить за хлопцами на разные медицинские комиссии. Прослышит, что те идут, выследит – и домой не дозваться, очень уж в армию хотел… Чтобы не обижать парня, врачи и его просили раздеться, а раздевался он долго, потом измеряли рост, взвешивали, выслушивали лёгкие – словом, делали вид, что он такой, как все. Но никаких пометок, само собой, не фиксировали.
Кое-кто советовал сдать Аркашку в психушку. Но Ганна про это и слышать не хотела: «Это при живой-то матери? Что вы говорите, люди добрые!» Не советовал определять его туда и старший сын, Миколай. Он в той больнице работал на легковушке, вози главного врача. Миколай частенько, и не с пустыми руками, наведывался в Искань, копался с матерью в огороде – Аркашка кур на улице пас – и нещадно, до красноты, драл уши деревенской ребятне, которая нашла себе игрушку – больного, убого. То ущипнут Аркашку, то толкнут, а то и за нос или одёжку дёрнут. Бывало, хлопчика доводили до того, что он в гневе бегал-гонялся за юркими сорванцами; поймать никого не мог и бушевал ещё пуще: хватал всё что ни попадя, целился в обидчиков, но камень или обломок кирпича падали чуть ли не под Аркашкиным носом. Разъярённый, он являлся домой, срывая зло на матери. Случалось, пыхтя, требовал:
– Жени меня!..
Хоть и крутил Миколай уши детворе, родителям жаловался, да разве озорству положишь конец! Ребята и после – уже новые стайки бережковских малолеток – когда Аркашка вырос в парня, не оставляли его в покое. Толкнут, ущипнут, а то и словом заведут с пол-оборота. И Аркашка опять гонялся-догонял, хватал-швырял. Но ни в кого так и не попал. Да он-то и вреда за свою жизнь никому не причинил. Нет, не припомнят в деревне, чтобы Аркашка набедокурил.
А тут беда за бедой: умер от неизлечимой болезни Миколай, вскоре привезли из Карелии – там скончался средний сын Ганны, Митя, старый холостяк. Это горе тяжким камнем легло на сердце людям, и взрослым, и детям. Сильно жалели Ганну и Аркашку. Что хорошо – малышню вроде как подменили, совсем по-иному стала относиться к Аркашке ребятня, не как к больному и жалкому, а как к обыкновенному человеку, с которым хочется поговорить «за жизнь», рассказать анекдот, чем-то помочь, а случалось, что помощь требовалась: то Аркашка поскользнётся в гололедицу и никак не встанет на ноги, – дети поднимут, то ведро с водой пособят принести. Аркашка промолчит, лишь покраснеет, стыдясь своей немощи, махнёт рукой, а ну её, гололёдицу, а ну её, воду! – и побредёт домой…
В то лето гуляли свадьбу в Гончаровке, по соседству с Ганниной хатой. На гармошке играл Мишка Шурмелёв – музыкант, каких поискать, а бубен звенел-заливался в Аркашкиных руках. На свадьбу понаехало немало городских, в основном со стороны жениха: брал он местную деваху, и хлопцы, сами, сразу видать, вчерашние сельчане, ходили по двору гоголями, петушились, всем своим видом показывая, мол, расступись, дзярэвня, город приехал! Один из них и вырвал у Аркашки бубен.
– Дай сюда! – он грубо оттолкнул Аркашку и принялся дубасить в бубен кулаком.
Отмолотил танец, второй. Кто-то не выдержал, закричал:
– Верни бубен Аркашке!
Аркашка подошёл к хлопцу, перехватил его руку, но остановить не смог, тот, не уступая, огрызнулся:
– Сиди, дядя!
– Люди говорят… ето… бубен… – силился отвоевать своё место с гармонистом Аркашка.
– Чего там люди сказали – нам наплевать! Давай-ка, дядя, попляши!
– Верни бубен Аркашке, фраер! – снова послышалось из толпы, что под музыку топталась на лысом дворе.
А там и дети, которые век вертятся на свадьбах, защищая Аркашку, окружили городского нахала.
– Дядька, это Аркашкино место!
– Отдайте ему бубен!
– У него лучше получается!
– Кыш, мелюзга! – словно назойливых оводней, отгонял их приезжий. – Кыш, я кому сказал, малявки! Вы мне ещё тут… Брысь!
– Верните бубен!
– Не верните, а верни! – раздвинув хлопчиков, как неприкреплённые доски забора, перед непрошеным барабанщиком возник Перстенек, так по-деревенски звали Рыгора Гришковца; но на его руке-оглобле повисла жена Манька. Заскулила-затараторила, и удар сорвался. Гостю повезло, кулак у Перстенка что кувалда. – Мань, погоди! Погоди, Мань! Дай я за него возьмусь, мало не покажется. Бить не стану, а бубен… отниму… Да пустите вы…
Зная Перстенка, на него разом навалились мужики, прижали руку к телу – так-то понадёжнее будет, не порти людям праздник! Городской же парень – нет чтобы утихомириться, отдать бубен по-хорошему, чего уж там – оказался человеком с гонором, с которым, как говорится, на одном поле не сядешь – разошёлся не на шутку, особенно, когда высыпали из-за стола дружбаны. Прибыла поддержка, теперь и я герой!
– Бубен вам? Глянь, чего захотели! Да вы, слепаки, ни в жизнь его не увидите, если на то пошло! Нате! Берите! Подавитесь! – и он с размаху надел бубен на кол, будто кусок мяса на шампур. – Съели?
Стало тихо. Все замерли. Аркашка же, раскрыв рот и помахивая рукой, чуть выждав, подошёл и снял бубен…
– Отстаньте, я ему, гаду, всю харю расквашу! – вырывался из крепких рук Пертенек. – Бубен порвал! Он же нам, люди добрые, в морду плюнул! Всем! Нам! Вы хоть это понять можете?! Пустите-е!
До конца свадьбы городского никто не видел – женщины спрятали подальше от греха.
Гости снова уселись за столы. Двор опустел. На лавке сиротливо лежала гармошка, а рядом с ней сидел Аркашка, держа в дрожащих руках напрочь изуродованный бубен. Сидел и плакал, размазывая по щекам слёзы.
– Бубен… бубен… бубен… – шептал он.
– Аркашка, давай-ка за стол, – позвала его Перстенькова Манька. – Идём, Аркашка! Будет тебе убиваться. Принесут новый. Вон у Ежечки попросят.
– Бубен… бубен… бубен…
– Пошли, Аркашка! – она, словно тяжелобольного, взяла его под руки, потащила в хату.
Ежечка своего бубна не дал: «Один загубили, а у меня они в огороде не растут. От приезжих только и жди неприятностей…» Больше ни у кого спрашивать не стали, сойдёт и так, под гармошку.
Аркашка всю свадьбу просидел около гармониста. Насупленный, какой-то отрешённый. Ганна потом рассказывала, что во сне он часто бредил бубном.
…Нету Аркашки… После той свадьбы прожил совсем ничего. Ганна, чтобы самой спокойно отойти, дождалась, когда, не став обузой чужим людям, сляжет в землю её больной сын, и тоже распрощалась с этим светом.
А в Искани и сегодня гуляют свадьбы, крестины, новоселья, кто-то, как водится, звенит бубном, и кто-то, бывает, грустно вздохнёт-выдохнет:
– Эх, этот бы бубен да Аркашке!
С бубном в руках его и запомнили.
ДЕНЬ ШАХТЕРА
Чуть слышно пискнул цыплёнок – последний из выводка, что уцелел-спасся от мелких домашних хищников и пережил голод, – и Митук, вздрогнув всем своим онемелым телом, словно трогающий с места паровоз, проснулся.
– Ё-моё, так уже ж!.. – он продрал кулаком глаза, глянул на грязные ходики. По ним ползали-топтались мухи. – Ё-моё! Кыш с дороги, стерва! Раздавлю-ю!
Цыплёнок порхнул под трёхногую табуретку, на которой стояла литровая банка с водой. Хозяин, прогремев кирзачами, прежде чем отворить дверь, задержал виноватый взгляд на цыплёнке.
– Сегодня накормлю до отвала. Крупы куплю. Пшена. Слышь? Потерпи. Столько терпел – меньше осталось. Вырастешь – яйцами отдашь. Ясно, шмакодявка? А теперь сиди тут и не высовывайся, а то вдруг какая сволочь слопает… Погоди. Сегодня мне на почту пенсию привезут. Кучу денег. Я им сразу праздник и устрою! Запомнят они Митука! Сдохну, а слава про меня пойдёт: во нам Митук праздник наладил! И облизнутся. А то лишь языками мелют: «Алкаш!» Сам знаю, чего напоминать. Ну, сиди и не пищи! Я побег. За деньгами.
Митук жил на Кривой Берёзе, самой дальней улице, до почты было немногим более километра, и он рванул напрямки – через колхозную рожь. Колосья стегали по голенищам, путались под ногами, мешали, но припоздниться нельзя: навесит Люба замок на двери, тогда хоть кусай его.
Этой дорогой Митук когда-то бегал в школу – что росло на делянке, по тому и торил стежку. Кое-как вымучил семилетку и однажды, от нечего делать лежа с хлопцами на горушке за школой, прикрыл лицо жесткой, как фольга, газетой, чтоб не сильно припекало. Мечтали хлопцы, решали, куда в белый свет податься. А в газете той – объявление, что в Горловку, на шахту, требуются парни. Заинтересовало. Прочёл ещё раз, передал газету дружкам. Собрались второпях, не обращая внимания на возражения родителей. Только и видели ребят – поехали! Рубали уголёк. Как-то незаметно Митук остался в Горловке один, попробовали этого хлеба хлопцы-земляки да и дали тягу: деньги деньгами, их все не загребёшь, но нависла угроза – спиться можно, как дважды два. Каждый день, после подъёма на поверхность, по традиции «полоскали горло» от пыли вином и водкой. Земляки разъехались, а Митук «полоскал горло» ещё лет пятнадцать, здоровый был – надолго хватило, вот руки стали сдавать, дрожали, не слушались. Никаких существенных перемен в его личной жизни не произошло, семьёй не обзавёлся, приобрёл, правда, кое-что из одежды. Да ещё дали отдельную однокомнатную квартиру. Поредели во рту зубы, чтобы лечить, надо бросить пить, да где ж тут выкроишь время для зубов? Не получилось. Он и в Искань вернулся беззубым, но с хорошим настроением – улыбка не сходила с морщинистого худого лица. Приняли его земляки так, как и принимают возвращенцев: вилы в руки и – вперёд. В колхозную колею он ступил без разбега, твёрдо. Характер у Митука отзывчивый, покладистый, каждого приветит, каждому посочувствует, за рюмку готов в блин распластаться, услужить односельчанину чем только может. Безотказен Митук. Вот и с выпивкой тоже. Пил, как и работал, до победного конца. Поэтому бригадир Шалабод точил на него зуб. Известное дело – прогульщик. Обычно, постучав в раму Митуковой хаты, Шалабод козырьком приставлял ко лбу ладонь, всматривался: не видать ли хозяина, а Митук, лёгок на подъем, уже торчит перед окном, трёт глаза на немытом лице.
– Чего?
Шалабод мгновенно вспыхивал, сыпал соль на раны – у Митука же, после вчерашнего, голова, как бочка.
– Спишь? Дрыхнешь, лодырь? Да? Значит, запомни…
– Или говори громче, или заходи, а только выпивки у меня нету, – заявлял Митук, дыша на стекло и оставляя на нём капли. Бригадир кивал на них, мол, можно соскрести и опохмелиться…
– Слушай сюда. Значит, так, коня больше не дам…
– А на хрена он мне? Хватит, что с отбойным молотком натаскался!
– На горбу своём дрова носить станешь? На горбу!
– Да я на зиму прибьюсь к какой-нибудь Марье!
– Как ты колхозу, так и он тебе! Сотки по самые окна обрежем!
– Право не имеешь! Ты в шахте был?.. Тебя, тетерю, там бы сразу удавили!..
– Он же ещё и костерит меня! – раздосадованный бригадир, крутя круглой, как арбуз, головой, поглядывал по сторонам, видать, надеялся, что кто-нибудь да слышит, какой трудный разговор у него с лоботрясом и чего это стоит бригадирову здоровью. Жаль, жаль, поблизости никого нет. – Нехай бы послухали, как и куда ты посылаешь исполнительную власть!
– У тебя всё? – выкатывал глаза Митук, нахально вперившись в лицо Шалабода.
– Иди на работу-у! Бросай всё – и давай!.. Сегодня с вилами! Шуруй! Приедут забирать, чтоб лечить от пьянки, – я их на тебя первого натравлю. А ты как думал? Хаханьки ему!
– Да пошёл ты!.. – Митук задёргивал занавеску, чёрную, что комбинезон тракториста, валился на койку и закрывал глаза: спать, спать, спать!
А бригадир, забрасывая своё жирное тело на подводу, ворчал:
– Это ж надо!.. Здоровый бугай, а годовой минимум и близко не вырабатывает, гад. И совести нет у человека. Пропил всю совесть начисто! Вот вернётся из отпуска участковый, он его в ЛТП зафугует. Сил моих больше нет. Хватит. Баста. Такие люди слов не понимают! А если про Веру мою подтвердится, голову оторву!
Митук, когда бригадир пугал его принудительным лечением в ЛТП, тут же поджимал хвост, прикладывал руку к сердцу, растягивал рот в кислой улыбке и клялся завтра же, с первыми петухами, быть там, где прикажут. ЛТП он боялся. Сидишь, как в тюрьме, больше месяца. А насильно – что за лечение? Никакой пользы. Пшик. Остаётся лишь мстить тому, кто туда загнал. А сидят в ЛТП сплошь наркоманы, и, чтобы не потерять клиентуру, подозрительные личности ухитряются передавать прямо «на лечение» и коноплю, и мак, и ещё всякие зелья. К этому все привыкли, об этом все знают, но никто и палец о палец не ударит. Закрывают глаза. Пытались угостить и Митука. Как отвертелся – и сам не поймёт. Но гордится, ставит себе в заслугу, что не соблазнился.
Своё возвращение оттуда Митук отметил довольно широко – накачался в местном магазинчике и долго шатался по улицам, цепляясь к прохожим и хвастаясь, как здорово вылечили его от водки бригадир и участковый!
Ещё пока жил в Горловке, к Митуку приехал младший брат Колька – вырвался из деревни без документов; в те годы паспорт в колхозе мог получить только отпрыск какого нибудь начальника. Больно хотелось и ему, Кольке, отведать шахтёрского хлеба. Хвалился же Митук, что вкусный. Старший брат помог Кольке определиться на шахту, всеми правдами и неправдами добился своего. Существовал приказ – не брать. Сам Хрущёв подписал. Но Митук уже привык глубоко копать, и никакая порода, даже самая твёрдая, не выдерживала его натиска. Колька рубал уголёк в одной с ним бригаде, а раз Митук ежедневно сильно закладывал за воротник, то хлопец собирал торбочку-ссобойку на двоих, сам и нёс её. Митук, встречая знакомых, кивал:
– Брат, Колька. Меньшой. Не пьёт. Можно не предлагать.
Когда мужчины и парни чуть постарше Кольки выпивали, тот, всем на удивление, лишь «переводил закусь», как иной раз бросал кто-нибудь из выпивох, и слушал, о чём ведётся беседа. Но говорилось это так, в шутку.
Вскоре Колька отбился от брата. Встал на ноги, осмотрелся и понял, что, если не исчезнет из Митукова поля зрения, тот рано или поздно доконает его своим: «Тяпни!» Колька вечно отнекивался. Митук, махнув рукой и крякнув, пил один, набирался, как собака блох, и прямо из-за стола брёл, сметая всё по пути, к кровати, падал на неё, как подкошенный, храпел. Спал всегда в том, в чём ходил.
Колька же выбился в начальники. Окончил вечерний институт, помаленьку-полегоньку пошёл в гору и уже сидел в собственном кабинете. А когда Митука выгоняли с шахты, развёл руками:
– Прости, братан. Ничем помочь не могу. Могу только сказать, что тебе следует полечиться от пьянства. Это твой последний шанс. Думай.
– Да иди ты… – стиснув зубы, в сердцах выдавил из себя Митук, сгрёб свои вещички и взял билет до Быхова.
Да кабы не Колька, его и сегодня донимал бы бригадир Шалабод: «Давай минимум, лодырь!» Приехал как-то Колька в отпуск, увидал Митука на телеге с вилами, а дома за ужином, словно невзначай, поинтересовался: «Разве тебе пенсии мало, что в колхозе на работу ходишь?» – «К-какой… такой… пенсии?!» – «Ведь ты, считай, на шахте двадцать лет отпахал… под землёй… в забоё. А нужно – пятнадцать». – «Ё-моё! Ё-мм… моё! Ну, погоди, Шалабод! Минимум ему, упырю, подавай, когда я давным-давно на пенсии! Ну, спасибо, брат, что надоумил, а то до шестидесяти бы маялся… Ну, спасибо… Дак, слышь, я уж пять лет как законный пенсионер?» – «Само собой!» – «Ё-моё!..»
И вот сейчас Митук спешит на почту получать пенсию – за последние шесть месяцев, говорят, дадут. Хорошо, хоть так. А гроши за четыре года с хвостиком нехай государству останутся. Ему тоже надо. Митуку хватит. Митук на седьмом небе от счастья. Это ж какая уйма деньжищ! Он отродясь не держал в руках такую пачку тех самых бумажек, без которых ты… Ну кто ты?! Может, телеграфный столб, уж ему-то ничего не нужно! А Митуку нужно, ой нужно! У кого по утрам трещит голова после вчерашнего – тот поймёт. Попробуй, займи «на лечение», фигу кто даст. Отвернутся, скривятся: «Нету». Вот такая, значит, репутация. Эх вы, люди! Теперь-то крыть нечем. Перед вами не абы какой пенсионер, а шахтерский! Интересно, что на это скажете?
Митук ещё издали заприметил возле почты грузовик «Связь», и сердце ёкнуло: а вдруг денег не привезли? А если ему не хватит? Всё может статься, времена ненадёжные. Митук тогда дуба даст, кончится. Решил ведь устроить праздник для земляков, уважающих выпить, сам помышлял хорошенько горло промочить… Чем поворачивать назад, хоть на день откладывать важное мероприятие – лучше помереть!
Фу-у ты, вот и почта. У крыльца никого, почтовая машина уехала, и Митук, сплюнув в сторону, потянул на себя дверь с таким видом, будто она вела на тот свет. Правда, едва переступив порог, повеселел.
– Привет-салют, Любаша! – поздоровался Митук, улыбаясь во весь беззубый рот. Но начальница отделения никак не отреагировала – разбирала ящики и какие-то свёртки. – Привет, говорю!
– Привет, – нехотя ответила Люба.
– Ну… и как там? Кхе-эк-хе…
– Привезли. Полный мешок денег. Тебе. Привезли.
Если бы кто видел, как, ликуя, подпрыгну этот высокий сутулый, иссохший в щепку человек, диву бы дался, ведь не ребёнок же! А он ещё и кричал, подпрыгивая:
– Ура-а-а! Ура-а! Спасибочки, шахта! Спасиба-а-а-а! Не дала мне загнуться-я-а-а!
– Затихни! – цыкнула на него Люба.
– Дай я тебя поцелую, золотко! Дай! Заместо шахты! – Митук перебрался через груду посылочных ящиков и пакетов, обхватил заведующую и уж намерился было чмокнуть в рябую щеку, как дверь распахнулась и вошёл Любин муж Петька, деревенский электрик.
Петька глянул на Митука бычьим глазом:
– Отставить!
– А-а! Не успел, – тут же отступил Митук. – Хотел, честно скажу тебе, Петро, радость свою на твою женку вылить…
– Выливай свою радость на любую другую бабу, – угрюмо пробормотал Петька, замахиваясь на Митука, но жена цыкнула и на него, и кулак остался там, где и положено – возле кармана.
Петька, видимо, вспомнил, что Митук вот-вот должен получить кучу денег, потому и сказал, стараясь улыбнуться:
– Да я так… Всерьёз, что ли? Что ли, маленькие мы? Нам, что, денег не хватает? Да, Митук?..
– Ага. Я и говорю – радость! Давай-давай, Любаша, шевелись. Газеты твои подождут. Я вот пять лет ждал… или сколько там… Мне в первую очередь. Я её давненько занимал. Погодь, Петька, никуда не отлучайся. Мы сейчас кое-что сварганим!
– Я ему попью! Я ему!.. Пусть только попробует… – завелась Люба. – Посинел, что подосиновик. И тебя, Митук, предупреждаю: угостишь – получишь у меня пенсию, как же! Держи карман шире!..
– Да не буду, не буду я, – не на шутку испугался Митук. – Я, что, не понимаю? Зачем мне-то грех на душу брать? Х-ха-ха-ха! Сказала: не пои – не буду. Перебьётся. Ты, Петро, не обижайся, – Митук заговорщицки подмигнул, чтобы тот понапрасну не волновался. – Такое, брат, дело. Не имею права. Твоя женка для меня большой начальник. не даст грошей – что тогда? Не-не. Пять годков… или сколько там… ждал… И на тебе!..
Настал торжественный момент. Люба, словно картошку, вывалила на стол – подняв мешок за два угла, – кучу денег.
– И это всё… мне? – поперхнувшись и остолбенев, Митук глядел на горку пережатых шпагатом и опечатанных тугих пачек. – Это всё… мне?
– А то кому ж! – спокойно сказала Люба. – Разве у нас есть ещё дурень, которому давно пора на пенсию, а он всё никак проспаться не может, света белого из-за горелки не видит?
– Не, нету, – поддакнул Митук, по-доброму широко улыбаясь. – Но, Люба, заметь: если бы я когда надо пенсию оформил, я бы ни в жизнь не собрал столько капиталу, чтобы День шахтёра для земляков организовать. Соображаешь?
– Ну, разве что…
– Поскорей, золотко. Поскорей считай!
– А чего єто говорят, бытто бригадирова Верка к тебе зачастила? – склонив голову, осмелела Люба. – Что, людям делать нечего?
– Слухай поменьше. Обидют только хорошую бабу. Считай-считай, а то во рту пересохло… Кхы.
– По такому случаю купишь мне коробку конфет, – Люба поплевала на пальцы и, бросив короткий взгляд на Митука, затем задержала его на муже. – А ты иди-иди, не мылься. Учуял, паразит, запах денег. Кот шкодливый!
– Да ладно тебе, – миролюбиво ответил Петька. – Никто на чужое не зарится. Отпускай человека побыстрее.
– Я тебе, Любаша, самолучших конфет куплю, какие ни на есть в нашем магазине, – закивал лохматой головой Митук, – и вина принесу. В придачу. Принести?
– Принеси, – благодушно согласилась заведующая почтой.
– Будет! Будет! Шахтёры, сама понимаешь, слов на ветер не кидают. А… это… Петру можно капнуть граммульку, чтоб у нас с тобой после никаких свар не было? Ну? -- Митук нетерпеливо смотрел на Любу, которая всё считала деньги, и ждал, что она скажет.
– Только при мне, – наконец разрешила она.
– При тебе так при тебе, – засиял Митук. Он покосился на Петьку. Тот ухмыльнулся, облизывая языком сухие губы.
Митук рассовал деньги по карманам, часть запихал под рубашку, а что не влезло, держал в руке.
– Погоди. Один момент.
Магазин и почта рядом, поэтому Митук мигом обернулся. Принёс, как обещал заведующей, коробку конфет и большую бутылку вина. Тут же откупорил её и налил пододвинутый Петькой стакан.
Люба поморщилась.
– Вы что, сдурели? Я столько выпью?
– Пей, девка, сколько хочешь, – Митук даже слегка смутился. – Дело твоё. А конфетки домой неси. Деткам. Карапузам своим. Нам закусить и так сойдёт. Правда, Петька?
– А то ж!.. – крякнул Петька и опрокинул жидкость в рот. – Хмы! Ей чуток плесни. После на голову болеет.
– Ага! – Митук наполнил стакан, подал Любе.
Люба молча выпила.
– А я таким макаром… – Митук, задрав бутылку кверху дном, забулькал, словно в прорву. Было видно как лицо его светлело, добрело, разглаживалось от благости.
– Ты б, Митя, часть денег у меня оставил, а то потеряешь, когда напьешься, – посоветовала Люба. – Смотри. Моё дело предложить.
– Она правду говорит, – подтвердил Петька.
Митук задумался, посмотрел на деньги в руках, похлопал себя по карманам.
– Дома спрячу, ни одна падла не найдёт!
– Он-то никогда нигде не валяется, – снова вставил Петька. – Землю носом пашет, а до хаты доползёт.
– Нехай сам смотрит.
В магазине Митук был первым человеком. Угощал всякого, кто туда ни заглядывал.
– За День шахтёра! За мой день, Михеевич! Тётка Лёкса, прими грамм шахтёрского зелья! Не дома – тут выпей! Выпей и ты, дядька Ахрем! Не пьёт только хворый! Угощайтеся-я-я!
Народ, осушив стаканы, веселел и уходить из магазина не спешил. Люди стояли группками, беседовали. Про политику, про нового председателя колхоза, а то всё больше хвалили Митука. Глянь ты, этот антихрист – пенсионер на шахте! А то привыкли насмехаться: пьяница да пьяница. Какой пьяница такую деньгу зашибёт? Где? А Митук наш – человек заслужоны, если ему эдакую пенсию и так рано дали. Не лишь бы кто Митук. Знать надо…
Откуда в магазине взялась гармошка, мало кто припомнит, но с ней стало ещё веселей – Митук плясал с разными выкрутасами, подскакивал, брыкался, тащил в круг любого, кто попадался под руку. Да и односельчане, подогретые угощением, отплясывали лихо, с жаром.
– Танцуй, братва-а! – неслось Митуково. – Сегодня День шахтёра! Сегодня я выдаю на-гора! Я! Митук! Чего там не добросил, доброшу тута-а! Га? Смелее, смелее шевелите батонами, бабоньки! Мужики, а вы что пригорюнились? Мало выпили? Давайте добавим! Гроши есть! Копал глубоко! Не думайте! Есть, мать их за ногу!..
Митук, еле переводя дух, топал к прилавку, из-за которого на него таращил осоловелые глаза безногий продавец Змитер, швырял деньги:
– Две. И конфет свешай. Открывай и консерву.
– Понял-понял, Митька. А мне ещё капнешь?
– И тебе. Гуляй, деревня-я!
Когда свечерело, Митук, шатаясь, побрёл к хате Шалабода. Он только сейчас опомнился, что бригадира не было на празднике, и расценил это как непорядок, почти оскорбление. Ворота были уже на запоре. Митук забарабанил кулаком.
– Кто там? – послышался мрачный голос Шалабода.
– Свои, открывай!
– Чего тебе? – недовольно буркнул бригадир. – Чего по ночам шляешься? Иди проспись. Пьяный же!
– Трезвый бы к тебе не пришел! – заявил Митук. – Под дулом не заставили б! Ты хамло! Я немедля отдам твой минимум, принёс вот. Принёс тебе, Шалабод, минимум. Дак откроешь или нет? Отворяй, кому сказал! Ну-у! Где ж тут хоть какой завалящий отбойный молоток?
Бригадир из-за ворот угрожающе выговаривал напрошенному гостю:
– По-хорошему, Митя, шёл бы ты спать! Будешь ерепениться – позову участкового.
– Кого-кого? – хмыкнув, переспросил Митук. – Участкового? Того недокурка? Того облезлого? Да я на шахте уже пенсию себе заимел, а его и в проекте ещё не было! И ты меня этим недоделком стращаешь?
– Иди, Митя, иди домой.
– Сам иди! Дак что, минимум не возьмёшь? Отворяй! Ставь закуску на стол, и мы оприходуем этот минимум, будь он не ладен!
К удивлению Митука, ворота заскрипели, и Шалабод тепло задышал ему в лицо.
– Добро, проходи, от тебя не отвяжешься…
Митук неверной рукой налил бригадиру полный, до краёв, стакан, дыхни – расплескается, а себе самую малость, уже, по всему видно, и не соображал, что творил.
– Глуши минимум! – велел Митук.
Выпили. Закурили. Шалабод прикончил бутылку, можно сказать, один. Он сидел на скамейке, громко попрекая себя за то, что грозился обрезать Митуку участок и не дать лошадь.
– Кто ж знал, Митька! Кто ж думал! – приговаривал бригадир, качая лысой головой. – А ты… вот кто ты… Аж меня обскакал!
– Обскакал. Как нечего делать. А мог бы тебе… мироед… мог бы и умывальник тебе сегодня начистить. Сколько ты назолял мне этих минимумов, сколько страшил ЛТП. Да не буду. Ни-ни. Не хочу мараться. Прощаю.
– Кто ж знал-ведал? – скамейка казалась Шалабоду слишком твёрдой, он ёрзал. – А и хорошо, что так всё кончилось. Теперь у меня к тебе никаких претензий.
– Ещё бы!
– Ты вот что, Митук, к Вере моей больше не приставай. Больная она. Снова в больницу отвёз.
– Передавай привет.
– Не приставай, Митук! Оставь нас в покое! У нас уже внуки…
Митук поднялся, взял со стола ломать хлеба, сунул в карман.
– Курёнку. Всех накормил-напоил, а про него чуть не забыл.
– Чуешь, Митук? Или нет? – Шалабод тронул его за рукав.
– Слухай, бригадир! – икая и шатаясь, Митук погрозил собеседнику трясущимся пальцем. – Ей нравится, тебе нет… Да разберитесь вы в своей семье. Сами. С глазу на глаз. Что у вас за семья? Вроде интеллигентная. Ей, глянь ты, нравится, если Митук прижмёт-притиснет. А ему, стало быть, нет! Разберитесь. А я – пошёл. Меня, Шалабод, будить ни свет ни заря права такого не имеешь. Шахтёрский пенсионер я…Понял?!
Стоял тёплый звёздный вечер, где-то далеко играла гармошка. Больше Митук ничего не помнит, словно провалился куда-то. Проснулся наутро и никак не мог понять, где он. А денег не было. Даже мелочи. Зверски разламывалась голова, ныло, болело всё тело. Он поднёс ко рту банку с водой и долго пил, не ощущая её вкуса.
КОНЬ БАБЫ ДУНИ
Вон она, баба Дуня, вон. За щербатой калиткой мелькнула маленькая, сухонькая фигурка. Но она ли это? А, может, кто другой топчется по двору? Если прислушаться, слышны ее шаги, чьи ж еще, а также–перебранка. Ворчит старая, разговаривает с котом, поди. Живая, значит, а люди, ишь ты на них, точили языками лишь бы что... Выходит все-таки со двора? Да-да, наконец-то. Давно не было видать старухи, давно. Сперва показывается конь бабы Дуни – тонкая ореховая клюка, – ею она долго нащупывает землю, будто ищет что-то,– и такое впечатление, что она, клюка та, игрушка какая-то, и ею управляют не иначе как по радиосвязи, спрятавшись за углом, – долго и придирчиво выбирает, где воткнуть-приземлиться, а немного позже появляется и нога старухи в красном ботике, не сразу – вторая. Старуха кряхтит, ахает и охает, а затем, перевалившись кое-как за порожек калитки, облегченно вздыхает: все, выбралась, благодарить Бога надо, «на люди». Оглядывается по сторонам. Видит мало что: глаза только для слёз. И слышит совсем плохо – но лучше, чем видит.
– О, баба Дуня, ты опять с конем?!– около дома старухи колодец, и Митрофан, переливая воду из бадьи, накрепко взятой на цепь, в ведро, веселыми, оживленными глазами смотрит на нее: он, по всему видать, рад видеть соседку.
– С конем, с конем,– выдыхает воздух из груди баба Дуня.
– И куда ж едешь?
– А во постою, подумаю... Я такой ездок, что куда хочешь могу заехать.
– Заезжай и к нам...
– Там видно будет...
Митрофан понес ведро с водой, его двор напротив, а старуха стоит на одном месте, словно приросла. Маленького расточка, сухонькая, сгорбленная, баба Дуня и в самом деле решает, куда ей сходить. Лавка еще закрыта, ведь рано: заведующая и продавщица – она в одном лице – живет в соседней деревне, приезжает на велосипеде позже. А то ж обычно там, у прилавка, собираются женщины, как на собрание, и толкуют о жизни, а заодно ждут машину с хлебом. Пока хлеб тот да селедку подвезут, вот уж наговорятся вволю они!..
Давно не была в лавке баба Дуня, давно. Сегодня можно сходить: Танька, ее невестка, поехала в город, видеть не будет... И клюка появилась у старухи, теперь, пока опять не отнимет ее Танька, жить можно. Так вот и бывает: когда не имелось клюки, то хотелось старухе навестить и сестру, она в конце улицы живет и еще более больна и беспомощна, чем сама баба Дуня, и к соседке заглянуть, не говоря уже о лавке, а как появилась возможность, то вот стоит на одном месте, будто и в самом деле к земле приросла, и не знает, куда пойти. И тогда баба Дуня, оставляя перед собой следы-кружочки от клюки, шаркает ботиками к бывшему деревенскому клубу – в нем живут молдаване, муж и жена – а прямо к нему, к клубу-то, приткнулась узенькой полоской заросшая травой дорога, по которой сельчане возят в последний путь земляков. Людей в Плоском живет мало, потому и заросла дорога – некого хоронить, а хоть и случается такое, то редко.
Кое-как доползла старуха до погоста, отдышалась, откашлялась, а тогда похвасталась Митьке, он спит под аккуратным бугорком:
– Пришла, пришла, сыночек...
Ей, наверно, и действительно кажется, что Митька слышит ее, только ответить не может, и баба Дуня усаживается, как на кроватку бывало, к сыну на бугорок, гладит дрожащей узловатой рукой земельку, и рассказывает ему о своей жизни. В лавке всего не скажешь – там слово какое лишнее выпустишь и не рад будешь: люди додумают, перекрутят-перевернут и сразу же Таньке донесут, хоть каждый осуждает ее, упрекает, что не смотрит надлежащим образом за бабой Дуней, а пенсию до копейки прибирает к рукам да еще опекунство оформила в сельсовете, бесстыдница. Оно так и есть. Чистая правда. Но зачем же Таньке пересказывать? Разве же она и сама не знает, что нехорошо так делать? Знает. Но уж человек такой: ей хоть плюй в глаза, а она будет говорить, что дождь идет. Недолго разговаривая тогда со старухой, Танька хватает клюку, которую та обычно не выпускает из рук даже дома, ломает на мелкие части и с неописуемой злостью швыряет на загнетку или еще дальше – в печь. Видеть надо!..
– Сиди дома! Не будешь ползать и плакаться в жилетку, ведьма старая! Досматриваю ее, видите, не так! А кто ты мне? Кто? Это когда Митька жил, то родней была. А теперь я б и не смотрела в твою сторону , карга ты старая, если бы не деньги те. Но отец же спит, а детишек мне, пьяница беспробудный, оставил: расти- воспитывай, Татьяна! Так ты что, меня упрекать за деньги те будешь? Услышу еще раз, то вот тебе принесу и молока, и супа!–Танька тычет бабе Дуне под нос – будто норовит продырявить его – фигу и выбегает из хаты свекрови на улицу, берет направление к своей избе: они рядом, одна к одной, их хаты...
Что она ей ответит, баба Дуня? Пока одно слово подберет и то выговорить не успеет, у Таньки их сто вылетает, и тогда хоть ведро какое, что ли, от них на голову надевай, чтобы не слышать. Вишь ты, Митьку винит, что умер, а детишек оставил. А разве ж не ты сама виновата, что сына земля упрятала? Молчишь, Танька! А ты скажи, скажи! Чтобы все услышали. В лавке. Выйди на центр и скажи: «Это, люди, я сама послала Митьку на смерть... Пьяный он был. Чересчур. Пошатывался аж. Он, по-видимому, не знает, что и умер, поди. Да к нам же в тот вечер прибежала Манька из Букановки, пили вместе, втроем. И я попросила, поскольку сильная пурга была, провести Маньку, ведь могла заплутать и пропасть. Митька и повел. Когда возвращался назад, то уснул на рельсах, товарняк его и переехал». А теперь, негодница, пьяницей его обзывает. Митька не слышит, конечно, говорить можно что угодно, однако баба Дуня верит, будь Митька живой, то за такие слова Таньке ох и досталось бы!
– С конем, сынок, то и приехала,– старуха показывает клюку. –Видишь? А без него я – как без ног... У меня и еще два коня есть. Спрятала. Далеко спрятала. Чтобы Танька не увидела. Раздробит. Она коня моего покусать готова – столько злобы у человека. «Сиди дома, старая тетеря, не ползай!» А разве же мне одной дома сидеть хорошо? Хоть удавись... Ни радио, ни живой души... Одна. С котом разве поговоришь? Дети же твои взрослые, у них свои семьи. В Гомеле живут, когда в тюрьме не сидят... Они меня и жалеют, вижу, заходят, но мать ж не разрешает, цыкает. Тайком, бывает, заходят. Когда ж Танька тому, кто ко мне забежит, меньше в сумку гостинцев кладет. А есть же хочется детишкам. Попадает и людям, которые мне, бывает, посочувствуют... Не дает даже и смотреть им в мою сторону. Запретила. А людям что? Не надо – так не надо. Боже упаси, если разговор затею с кем! Сразу на Танькины окна поглядывают: не видит ли хоть она, а то будет беды. Правда ж. Она же, Митька,– это ж ты знаешь или нет? – к тебе никогда не приходит и детишек не приучила. Даже на радуницу. Те приезжают другой раз на радуницу, а на погост не идут... в доме потолкаются- потолкаются и поедут. Она, Танька, кроме как себя, кого больше любила? Детей же тогда сразу в детские дома определила, сама по курортам шастала, а там из них бандитов поделали. Вот так-то!..
А помнишь ли ты, Митька, как я говорила тебе, чтобы выгнал ты ее, Таньку, когда она сама к тебе прибежала? Помнишь. Ей в школу надо, а она к тебе. Не хватило у меня тогда смелости ее вытурить. Хорошо было б, ох и хорошо!..
Баба Дуня некоторое время молчит. Не больно любит и сама она шевелить старое, ведь старое-то не всегда приятно для нее. Если бы, рассуждает, не выгнала Катю с первым своим внуком, когда Митьку в армию забрали, то и Таньки не было б... Выгнала ж. А тогда, когда сын вернулся со службы, не пустила и на порог невестку. Вина здесь ее, что так получилось. Может , и Митька был бы жив. Да и жил бы, Манька же не Катькина подружка и ее не надо было проводить в пургу...
Миновав этот штришок в своей жизни, баба Дуня дальше жалуется сыну на Таньку, опять плачется, что была война и не вернулся Платон, а то б и детишек у нее имелось более, а не один Митька, и было б тогда кому заступиться за нее... Поплакала. Погоревала. А потом тяжело поднялась, сказала тихо и отрешенно:
– Это чтобы можно было открыть двери и прийти к тебе, Митька, я б пришла... ей-богу... с каждым часом мне все тяжелее топать до своей избушки... чтобы не идти мне уже домой... то и хорошо было б...
Баба Дуня шаркала ботиками по заросшей травой дороге и в этот момент услышала, что к лавке подъехала автомашина. Узнала: хлебная. Та всегда так тарахтит. В лавку сегодня она опоздала, явится на шапочный разбор. Женщины наберут сейчас хлеба и разойдутся, только и увидишь их.
А ей, между прочим, и не надо сегодня туда – с сыночком, с единственным своим, наговорилась. Забыла, правда, похвалиться ему, что сразу три клюки сделал ей правнук Колька и сказал, пострел, передавая их: «На одного коня садись, бабушка, а двух спрячь, чтобы та бабушка не видела. Запряжешь, когда надо будет».
На правнуковом коне она сейчас и едет...
СЛЕПОЙ И ЗРЯЧИЙ
Футляр для гармони шил сам Якут. Из меха. Ничего более достойного под руку не подвернулось, а время не ждало: хватит, поклевали носами на скамейке, сложив руки, пора и деньги зарабатывать, не смылки. Тем более, ситуация такова: каждый, кто хоть немного шевельнется, смотришь, – что-то и поимеет. В кармане. «Куй железо, пока Горбачев!»
– Так что, Митрофан, готовься! – похлопал по плечу гораздо старшего и еще более несчастного, чем сам, земляка, пьяница и лежебока Якут, который привез из далекого севера не капитал, а прозвище. – Ты слепой – тебе и карты, как говорят, в руки. Будем зарабатывать. Деньги! Завтра первым автобусом в город, Рихтер!.. Около базара, где самая толкотня, я тебя и посажу, а шапку, как и положено... Есть шапка? Имеется? Самая затертая? Еще лучше, чтобы ее мыши поточили.
–Найду,– покорно кивал Митрофан, а потом опять нацеливал свои незрячие глаза мимо Якута, и, кажется, мимо жизни...
– Помогу найти, – обещал Якут. – Помогу. Для такого дела и новую можно шапку изуродовать, погрызть... Как в театре. Сам же буду я поодаль стоять, стеречь, чтобы кто тебя не объегорил... не смахнул, как та корова языком, приобретенное. Худо-бедно, а выпить за что будет. Наскребем. Не может быть, чтобы не накидали. Дураков на наш век хватит. Это я не громко говорю? Не подслушает меня какая падла? – Якут покрутил по сторонам головой, лохматой, похожей на пук старого льна, который где-то валялся на чердаке до лучших времен. – На твои глаза, ты уж извини меня, Митрофан, глянешь – и сам бросил бы в шапку, если бы было что. Извини, нету. Но будут, будут госзнаки, по почкам им!.. Футляр, хоть и не из кожи, из мешковины, но гармонь из него не вывалится. Крепок. Пуговица вот... Жалко, ты не видишь... Красивая пуговица. И большая. Как старый буфет – с росписью. С пальто у матери снял и по центру футляра пришпандорил. Зашпиливается. Давай, давай руку... Пошарь. Как, а? Понравилась пуговица? А бечевки, или ремни, чтобы за спиной висела музыка и не болталась, а то и растрястись может, чего доброго, с колхозной сбруи сварганил... Подтяжки, или как их... Хочешь пощупать?
– Бабу чтоб – пощупал бы, – тонко фыркнул Митрофан, проглотил слюну и заболтал босой, с потрескавшейся пяткой, ногой. – Ты, Якут, должен тебе сказать, много говоришь. Меньше говори. Я что, бревно, что меня надо тесать и тесать? Так нет же!..
Якут выдержал незапланированную паузу:
– Да ты, корешь, не волнуйся: я тебя, как важную птицу, буду за руку вести, и гармонь понесу, только перед самым концом, около дерева, на тебя надену... Чтобы не догадались, что на пару работаем. Для большей гарантии. Конспирация.
Митрофан, чуть встряхнувшись, прошептал:
– Мне бы, как на фронте перед боем, свою законную порцуху – для храбрости, а? Сотку чтобы. Трясет всего...
–Ну, ты и даешь! Ну ты!.. На билет хоть бы наскрести. Тебе хорошо – бесплатно, а я голяк – без единого зайца в кармане. Пойду просить... Клянчить пойду... Хоть, чувствую заранее, никто не отстегнет. Рискну. Пускай еще раз плюнут мне в харю. А что делать? Другого выхода нет. Когда заработаем, создадим свой фонд... И тебе будем оставлять на утро каплю какую. Как закон!..
– Ты оставишь,– пробубнил Митрофан, медленно поднялся, нащупал защелку на двери, и по его голосу, и по рукам не трудно было определить, что слепой музыкант не шибко стремится в тот город с немного авантюрной для него миссией.
– Так я ровно в шесть буду! – дохнул из-за спины на Митрофана Якут. – Разбужу. Гляди ж!..
Митрофан бросил на крыльцо футляр, сел. Якута слышно не было, и он ощутил себя чрезвычайно легко, счастливо, будто только что отвадил надоедливого комара, который, паразит, все жаждал напиться его крови. А для себя, хоть и непросто было, решил: хорошо, съезжу в тот город, посмотрю, что получится. Может, и правда есть возможность заработать сколь какую копейку? Деньги надо. Не секрет. На хлеб не хватает, не говоря, что и выпить жажда есть, другой раз и крепко хочется. Одно настораживало Митрофана, что Якут, бродяга, обхитрит его , если что и появится в той шапке, выгребет с мусором. «Не дам!» – твердо решил слепой музыкант и, нащупав футляр, двинул с ним в дом.
Утром Якут выполнил обещание: был тут как тут.
– Готов, Рихтер? – нацелил он глаза на окно, за стеклом которого старался рассмотреть Митрофана.
Увидев, что тот уже одет и сидит на табуретке, вроссыпь положив пальцы правой руки на гармонь, нырнул в дверь, подхватил Митрофана за рукав:
–Давай, братка, давай. Главное, не волноваться, главное – первый шаг... Он всегда тяжелый, холера, но без него, первого шага, не бывает второго, третьего... сотого! Ну, шевелись, шевелись, Митруха!.. Нас ждут грандиозные дела! Здесь наша Тюмень! Здесь наша Якутия! По алмазам ходим, едрена вошь!..
В автобус втиснулись легко – ехало в город не больно много сельчан. Митрофан с гармошкой сел сразу, около мотора, а Якут, пока устраивал его, остался без плацкарты: плюхнулась подле, не поведя и бровью, Верка Конопелька, а больше и мест свободных не имелось. Ну и хорошо. Не барин, постоит. Тем более – без денег едет. Поочередно переводя взгляд с Митрофана на гармонь, которая прикипела к его коленям, на земляков, сонных, как прошлогодние мухи, он понимал, что те начинали догадываться, куда они с инструментом намылились. Вишь ты, зрячий слепого тянет, как рак добычу под корч. Неспроста же та Верка Конопелька, пряча ухмылку в рукав, крякнула-брякнула:
– Вы никак в город, Митрофан с Якутом, свадьбу играть? В ресторане, а?
Когда галдеж утих, Якут сказал убедительно и гордо:
– Хватит пустую бульбу трескать! И колбаски хочется!..
– Так и меня с собой возьмите, – нашлась женщина.
– Без кассира обойдемся, – тихо промолвил Якут. – Баба на корабле – ерундовое предзнаменование. Сойди и не рыпайся!..
Место Митрофану Якут определил под высоким и толстым – не обхватить,– тополем . Хорошее место: людное и затененное. Шапка лежала перед самой гармонью, почти между ног, а Якут держался чуть поодаль, чтобы не примелькаться, и только изредка поглядывал, как воздействует музыка на прохожих. Воздействует. Пленит. Опускают, опускают в шапку искомканные госзнаки. Значит, порядок. Якут, словно между прочим, прошелся около Митрофана, скосил глаза в шапку: мелочь пока там, однако же и Москва не сразу строилась. Выбрав момент, он шепнул Митрофану:
–Режь, режь с таким же азартом!.. Выжимай слезу!.. Есть капуста!.. Цветет!.. В кочан прессуется!..
И пошаркал дальше, подчеркивая всем своим видом, что он с этим бедным слепым музыкантом и близко не знаком.
Пока Митрофан с каким-то мужчиной здоровался за руку, некоторое время разговаривал с ним, то музыка, конечно же, молчала. Тогда Якут нервничал, изображал Митрофану кулак, который держал в кармане: ковырять, ковырять копейку, а не антимонию разводить!.. А когда Митрофан начинал играть , лицо у Якута принимало довольный вид: вот так и давай, неуч, только еще более энергично! Не повредит!.. Карман не оттянет!..
День вскоре склонился на вторую половину. Из шапки торчали, словно сухие листья, деньги. «Пора заканчивать!»–принял решение Якут и подал голос около Митрофана.
– Выручку я себе положу,– задержал пальцы на пуговицах гармошки музыкант.– А тогда разберемся. Отойдем только, не тут же... Не на рабочем же месте...
Якут успокоился, дружелюбно ответил:
– Не бойся ты, не кину... Нам же с тобой работать. Что я, козлом буду? Да мне в Якутии алмазы доверяли!
Дошли до скамейки, стоящей на самом солнцепеке около автовокзала. Сели. Подсчитали навар: получилось, что можно хорошо выпить и закусить. И маленько еще отложить можно – на консерву - другую Митрофану, а, заодно , и на билет Якуту. Якут скалил зубы, разглаживая на своем колене помятые, как правило, бумажки, сопел и плевался:
– Я же говорил, а! Мы, значит, с тобой бутылочку раздавим, закусим и поедем в свои Абакумы – как победители, как солдаты-освободители!.. Гордо поедем, едрена вошь, а не как голодные волки!..
За бутылкой побежал Якут, конечно же. Купил на «пятачке» у частных торговцев, а Митрофану сказал, что брал в торговой точке: сэкономил, таким образом, несколько тысяч. Понадобятся. Кто на деньгах, рассуждал, сидит, тот завсегда и отщипнет себе. Обязательно.
Выпили. Закусили яблоком, к закуси Якут даже не приценивался: все дорого, не для простого люда. Выпить дешевле. Не расточать же деньги, не переводить же попусту!
Посидели.
–Хорошо ты сегодня играл, – похвалил, пыхтя дымком, Якут.–Я, пошто у меня на севере глаза повымерзли, и то заплакал. Особенно про войну когда наяривал... Про землянку... Саднила душа... Может, Митрофан, для меня врежешь, специально? Прими заявку!..
– Пальцы болят. Давно так много не играл, – не согласился Митрофан.
Якут особо не настаивал, только кивал лохматой головой, и, казалось, на тротуар осыпалась с волос пыль:
– Понимаю. И хвалю. Береги, береги пальцы, дядя. Твоими пальцами мы еще долго будем ковырять копейки. Да что копейки! Тысячи! Хоть нам много и не надо. Правда? Выпить, съесть чего... Носки вот тебе купить надо. Прохудились, пальцы выглядывают... Или, может, нет? Когда нога голая, то, по-жалуй, быстрее бросят в шапку?
– Много не надо... нам, – в раздумье выдохнул Митрофан.
Через несколько мгновений Якут опять попросил:
– А, может, сыграешь? Для меня? Когда еще будет!..
– А... а у тебя деньги есть? – серьезно посмотрел незрячими глазами на Якута Митрофан. – Без денег я больше не играю. Я хоть и не вижу их, но ощущаю запах. Хорошо пахнут, хорошо!..
Якут поперхнулся. Митрофан говорил дальше, поглаживая гармонь:
– А за футляр и за то, что посоветовал, как можно зарабатывать, тебе большое спасибо. Дальше я уже сам. Как-либо. Я, хоть и слепой, но дорогу к куску хлеба, кажется, сам вижу. Да и заведешь ты меня, чувствую, старого человека, не туда, куда надо... Не всегда надо зрячего держаться. Не всегда...
Якут, к удивлению многих, кто оказался рядом, заревел, как медведь, сжал до боли кулаки, вскинув их над Митрофаном, но согнал порыв злобы на дереве, к которому примкнула спинкой скамейка, застонал от боли и начал сосать сладкую кровь на вчистую разбитой правой руке. И поносил Митрофана:
– Мать твою!.. Так что, вытер о меня ноги, падла? И ты такой, как все? Как Якутия? Как Север? Так когда я уже за свое могу получить, что мне положено-о-о?! За мою голову?.. За идею?.. А идеи теперь на вес золота... Знаешь, сколько мне надо отстегнуть? Молчишь, гад, предатель, сволочь? Да ты год будешь играть только на меня! Я тебя заставлю!..
– Год я, Якут, не проживу, наверно, – спокойно произнес Митрофан. –Хватит мою музыку уже слушать людям, хватит...
Митрофан свернул гармонь, вскинул ее на плечо, и, нащупывая дорогу тросточкой, тихонечко, осторожненько пошаркал в сторону шумного автовокзала. Якут некоторое время стоял возле скамейки и порожней бутылки с недоеденным яблоком, ноги не слушались его: он не знал, что ему делать – догонять слепого музыканта, или, может, уже не надо?..
Но побежал...
ЧЕБОТОК
Давным-давно, когда еще Чеботок не был Чеботком, а был известен каждому как Колька, сын Митрофана Крупеньки, отец купил ему на ярмарке в Журавичах истоптанные донельзя, можно сказать и так, чеботы. Колька гордо вышагивал в тех чеботах, хоть и тянул ноги по земле , будто к ним были привязаны грузила, а подыми ногу, дай ей хоть маленько послабление – она и выковырнется из голенища. И тогда Колька сделается обычным мальчуганом, как и все,– бесчеботовым. Шурча или Костик тут как тут: дай поносить! А фигу не видели! Они, чеботы, в одно мгновение опять оказывались на босых Колькиных ногах. Чего захотели – поносить! Знаем таких: натянут на свои грязные, хоть репу сей, ноги, тогда допросись, чтоб вернули назад. Шурча так и совсем присвоить может, он что ни прихватит чужое, тогда крепко держит, словно свое, возвращать обратно ему всегда тяжело, будет выдумывать разные басни о том, что у него на войне все погибли, пали смертью героев... и даже на пальцах перечислит – кто. Да хоть и погибли – что ж теперь кормить и поить тебя? Куском хлеба, бывает, и поделятся пацаны. Но чеботы – не трогать, прочь руки ! Это самая величайшая ценность, какую имел на то время рыжий, как подсолнух, Колька.
С легкой руки кого-то Колька и стал Чеботком. Оно ж и правда, коли посмотреть на него в тех чеботах – смех давит, потому как обувка чуть меньше самого, а ноги болтаются в голенищах, наверно, как чайная ложка в граненом стакане.
– Подрастешь – самый раз будут,– другой раз, видя, как охает- ахает и сопит, шаркая ногами по улице, сын, утешал отец. –Только береги. А то без удовольствия сносишь. Тогда надолго хватит. А новых не наберешься... Не те времена, брат!..
Чеботы те послужили Кольке недолго: вскоре они были похожи на ощеренную пасть щуки, и в чем он ходил потом – не так и важно. Важно другое – на всю жизнь остался Колька Чеботком. Люди, кажется, и совсем забыли, что он – Колька, Николай Митрофаныч. Чеботок да Чеботок. И жена так звала.
Чеботок мечтал быть много кем, даже окончил Буйновичскую «академию», стал трактористом- машинистом широкого профиля, однако не сложилось: завалил забор у старухи Понтихи, покромсал грядки. Та заявила, куда следует. Получай, Чеботок, что заслужил: вот тебе вилы в руки, давай, браток, на солому двигай. Там ждут тебя!..
Кое-как добрался Чеботок до пенсии. Но пить меньше не стал. И когда одни дерутся с женами, хорошо приняв на грудь, другие похваляются своим геройством на стройках коммунизма или в армии, то Чеботок нередко опускается в колодец; он, как на то лихо, всего через дорогу от его подворья. И тогда деревенская ребятня не натешится – громко и счастливо рассыпает окрест:
– Опять Чеботок в колодце! Опять Чеботок в бадье! Босой!.. Ура-а-а!
Кое-кто из сельчан подходит к колодцу, глядит вниз, где, обхватив «клюв» журавля, сверкает щелочками масляных глаз Чеботок, а потом стреляет вверх правой рукой:
– Мой ультиматум вам, толкни его в корень! Только предупреждаю: я не террорист, а справедливый, честный мужик! Слышали? Или нет? Если нет, тогда прочистите уши! Считаю до трех! Р... раз! – Он вдруг спохватился, вспомнив, что не выложил свой ультиматум.– От... бой! Про ультиматум, толкни его в корень! Значит, так. Самолеты и доллары мне не нужны!.. Ни тем, ни другим пользоваться не умею!.. Закопаюсь!.. И Турция также. Председателя сюда, в корень!.. Слышите? Председателя-я-я!..
Председатель же, будто услышал голос Чеботка, тут как тут: проезжая как раз мимо на своем «Уазике», увидел кучку людей у колодца. Подошел, поздоровался.
Дед Семка, сдернув с головы картуз, подал туловище вперед:
– Вас просит, Савельич.
– Кто? – сразу поинтересовался председатель и, похоже, сам догадался скорее, чем ему ответили.– Если Чеботок просит, то я уже здесь.
– Он, он, – дед Семка натянул кепку.
Председатель оперся руками на сруб, свесив голову, встретился взглядом с немного растерявшимся Чеботком:
– Ты чего хотел, циркач?
Жена Чеботка, скрестив руки на груди, слезно вздохнула-выдохнула:
– И когда уже в лавке перестанут водку продавать?
Мужчины дружно зашумели на женщину, и та не рада была, что заикнулась про водку.
– Лавка тут ни при чем, – высказал свою точку зрения председатель.–Злоупотреблял твой хозяин и при сухом законе – все равно как из-под земли доставал выпивку. Не умеет пить–пускай сосет через тряпку... сами знаете, что.
–А когда и в лавке не будет, то найдутся у нас бабы, которые любую лавку переплюнут, – трезво заметил кто-то из мужчин.– Самогона наварят столько, сколько в Чеботковом колодце воды не наберется. Они и теперь не спят в шапку. Шевелятся. Так что, молодица, гляди за своим Чеботком сама, а нам кислород не перекрывай, на сухую пайку, значит, не сади. Ясно?
Стало тише. Председатель все еще не сводил глаз с Чеботка, тот по-прежнему был в оцепенении.
– Вылезай, дядька, из колодца, вылезай, не порти воду,– попросил председатель.—Не стыдно? Дети взрослые уже. Сын начальником в городе, дочь в нашей школе учительницей работает, а отец совесть потерял – в колодец забрался. Как она вот, дочь твоя, детишкам в глаза посмотрит? Ты подумал об этом, Митрофаныч?
Чеботок набрал воздуха в легкие и решительно напомнил о себе:
–Мой колодец!
Дед Семка от услышанного разинул рот:
–Антихрист! А? Слыхали? Видали? Его колодец! А бадью как менять, так ко мне сразу: Семка, сделай, смастери. И журавль привести в порядок – также я . Да и когда мы этот колодец рыли, тебя и близко не было, стервец. На другом конце деревни жил тогда. Присвоил колодец, паразит, и глазом не моргнул. Вот как бывает. Наш, наш колодец!..
– То, что ты делал, дед , все правильно,– послышались из колодца слова Чеботка.– Не возражаю. Не имею права. Но я здесь живу. Потому и мой. Залезь хоть раз сюда, тогда ворочай, как коромыслом, языком. Залезь! А, язык проглотил? То-то и оно! А там, наверху, языком стебать, будто кнутом, все мастера большие. Один ученый в бочке сидел... телевизор иногда смотреть надо... А я в колодце себе место облюбовал. Пусть бы тот ученый в колодец залез!.. Хоть и ученый, и с образованием, а не додумался!.. Да и куда ему, тому ученому, до Чеботка?!
– Во и поговори с ним,– сдался дед Семка , махнув рукой.
– Оставьте его одного, – посоветовал председатель.– Пускай сидит. Посмотрим, сколько выдержит. Герой! Пошли, пошли отсюда!..
Люди послушались председателя, подались от колодца, но их остановил глухой и требовательный голос Чеботка:
– Стоять! Стоять, я сказал!
Люди задержали шаг, все, как один, глянули на председателя: как вести себя – идти, стоять?
А Чеботок продолжал:
– Не для того в колодец залез, чтобы просто так дал вам разойтись, толкни его в корень!.. И председателя не для того заказывал. Председатель, ты не ускользай. Ты наберись мужества, побольше воздуха втяни, терпения и прими мой ультиматум.
И все опять вернулись к колодцу.
– Давай свой ультиматум, а то у меня нет больше времени наблюдать за твоей дуротой, – свесил, как и раньше, голову в колодец председатель.
– Не вылезу, пока не дашь мне твердое слово руководителя... Мне и всем пенсионерам, в особенности одиноким бабам. Бабы, за вас заступаюсь, толкни его в корень!.. Это те разы я в колодце пел, горло драл. Хватит быть соловьем. Хватит! Не вылезу, пока не дашь слово. А ультиматум, его в корень, такой. Запоминай. Или как хошь. Хватит с нас, пенсионеров, больных и бессильных, по три кожи драть. Я про что? А я про то, что как председатель ты говно, самое настоящее. Что есть, что нет тебя... одна холера!..
Земляки почувствовали себя неловко перед председателем, застыдились Чеботковых слов, покраснел и сам председатель, а ему, видите ли, хоть бы что – тарахтит и тарахтит:
– Квитанцию на трактор, чтобы привезти навоз из фермы, я выписал. Даже, простите, две квитанции. Одну – что заплатил за трактор, вторую, числом попозже которая, – за погрузчик. Ты мне, Савельевич, твою в корень, не дури: сам подмахивал на тех квитанциях... Было? Или не было? Молчишь? А что ты можешь сказать, когда чистая правда? То- то ж! Деньги внес в колхозную кассу, как и положено. А трактористы заявляют: то, что ты в контору отдал деньги, нас не колышет. Плати и им. Купюрами или водку давай. И называют – сколько и чего. Так где мы живем? В каком обществе? Почему фиговыми листками не прикрываемся?.. И зачем нам тогда такой никудышный председатель, который не может навести порядок? Да если б же я хоть один такой был!.. Нас же уйма, в корень, таких. Давай слово, что наведешь порядок, что не разрешишь из нас тянуть, как сено из стога. Иначе утоплюсь. Вполне серьезно...
Люди глядели на председателя. Чаботок сказал ему то, что хотели сказать и многие из их, однако не хватал смелости, решительности. Не было, конечно же, всех этих качеств и у Чеботка – водка подтолкнула. Она, обольстительница!..
– Он утопится, пойдет на дно, антихрист! – с хитринкой и неопределенностью глянул на председателя дед Семка.–Жалко человека. Хоть, бывает, и не знает меры. И досок, примите к сведению, в колхозе нету сухих. На гроб. Сырые не удержим, того гляди, и следом пойдем...
– Прими его ультиматум, председатель, – попросила и жена Чеботка.– Какой ни мужик, а мужик. Он когда не пьет, то хороший: мухи не обидит.
Председатель сказал, не глядя на жену Чеботка::
– А когда он не пьет ?
Женщина развела руками, зашамкала ртом, однако никто от нее никаких слов больше не услышал. Да и что ей было говорить, когда черное оно и есть черное, как ты его не называй. Пьет. И чересчур. Хоть из колодца и подал будто бы правильные, трезвые мысли. Нет, нет в колхозе порядка. Обижают этих старух, выработанных людей, те, которые помладше. Вот показать бы им, окаянным, тот колхоз с одной ручной соломорезкой и с одним слабеньким трактором «Фордзоном», когда на трудодень давали по пять копеек, по горсти зерна и картошки. А заработай еще тот трудодень! А сегодня они – вишь ты, дельцы!– требуют: гони, старуха, деньги на бутылку, тряси свой чулок. Наглецы!
Как-то зимой Чеботок возвращался на санях из соседней деревни , с Подгорья. Было холодно, морозно и ветрено. Надвигался длинный, холодный зимний вечер. Впереди бежал Жук, собака выносливый и верный, и указывал лошадке дорогу. И вдруг он бешено залаял, лошадь сразу же заупрямилась. «Что такое?»– заволновался Чеботок, и увидел на дороге человека: он лежал прямо перед лошадью, широко раскинув руки. Чеботок трусцой бросился к нему, узнал: тракторист Бублик. Кое-как взволок уже почти бездыханное тело на сани и, пока ехали в село, растирал тому руки, щеки, нос. Дышит, значит, будет жить. А если и отморозил что, то не его, Чеботка, забота. Прямым ходом к дому Бублика, позвал жену, вдвоем едва дотащили до кровати. Спас, считай, человека от верной гибели. Так вот тот самый Бублик весной привез Чеботку доски из пилорамы, вытряс их из прицепа, Чеботок поблагодарил, а тот топчется перед хозяином, как все равно медведь, когда хочет по нужде. Чеботок еще раз поблагодарил, на что услышал в ответ то, чего никак не ожидал услышать от него:
– « Спасибо» не булькает...
Рассердился тогда не на шутку Чеботок, ух и нацеплял он на Бублика всяких острых словечек!... А дома жене за обедом говорил взволнованным голосом:
– Есть ли у людей совесть, баба?
– Мало у кого,– соглашалась жена.
– Но ты же помни, гад, что тебя от верной погибели избавил, Бублик засохший!. Когда б я маленько позже выехал... то я бы у него, гада, толкни его в корень, сидел за столом на поминках. А он: «спасибо» не булькает. Паразит. Кровопийца. Ну, видели? Всю оставшуюся жизнь благодарить меня должен... не так разве, баба?
– Так, так.
– И я говорю: да, так. И не иначе. Век благодарить должен, а он и не помнит ничего. Память у него дырявая, как решето. Хоть не память у него дырявая, а совести нету ни на грамм. Вот и построй с таким жизнь. Не, я тоже не сахар, однако!...Не рафинад!.. Но за свои пью... в основном. Могу тяпнуть и на холяву. Но чтоб меня кто подобрал на морозе, я б на его огороде за бесплатно всю жизнь рыл!. .Пока мои пальцы слушались бы, пока гнулись!..
– Ешь уже, а то борщ остынет, – кивнула жена на стол. –Да пойдем те доски сложим. Пускай сохнут.
Но Чеботок со злостью швырнул на стол ложку, встал:
– Пошли, в корень их!.. А бутылку куплю... сам не выпью, а ему отнесу. Отнесу-у, толкай его!..
Бублик и взял бутылку водки. Даже глазом не моргнул. Еще и напомнил:
– Когда опять что надо будет, Чеботок, то обращайся. Кого-кого, а тебя выручу. Как же, помню!..
Однако больше к нему Чеботок не обращался, и почему-то очень даже хотел, чтобы тот опять попался ему зимой на той же дороге, чтобы лежал, как тогда, с широко раскинутыми руками и белым носом... Но, подумав про это, Чеботок сразу же плевался и жалел себя за временную слабость: он все равно бы так сделать не смог, чтобы не подобрать. Никогда. Подобрал бы. И не только Бублика – любое живое существо, окажись оно в беде.
Теперь вот, сидя в колодце, Чеботок слышит голос Бублика:
– Да чего, председатель, с ним цацкаться? За шкирку да в кутузку! На казенные харчи! И метлу в руки! А то в городе захламлено, как в нашем лесу.
На Бублика, кажется, зашикали? Так и есть. Чеботок обрадовался.
– Нет, я вылезу, вылезу, падла! – начал карабкаться вверх Чеботок, однако сорвался – известное дело, руки натрудил, не слушаются, и плеснулся в холодную воду.– Вот теперь я вылезу. Только держите того гада, Бублика засохшего! Держите.!.. Это тогда ему я нежно нос тер!.. Сейчас не так потру!.. Председатель, и ты не убегай. Ультиматум все равно заставлю тебя принять. Хоть на море, хоть на суше. Эй вы, тяните меня! Я в бадью ногой залез. Давайте!
Что его было тянуть? Несколько крепких мужских рук подхватили журавль, и Чеботок выпорхнул из колодца, будто из катапульты, и у людей, глядевших на него, казалось, отняло речь... Он стоял, мокрый и смиренный, даже и не думал бросаться на Бублика, не глянул и на председателя. Он смотрел на всех сразу, маленькие глазки бегали, суетились, а в вытянутой руке держал утопившегося черного кота. Строго спросил:
– Чей?
Женщины, которые берут воду в этом колодце, отвернулись, начали икать, закрывая ладонями рот, а Чеботок повторил вопрос. Хотя что сейчас выяснять, чей кот? Людей волновало другое – как же они пили воду из колодца, в котором лежал... и, наверно же, не один день, этот неуклюжий кот? И как он ввалился туда? Оступился, гоняясь за птицей, что ли? Хорошо, ой как хорошо, что набрался сегодня Чеботок! А то сколько бы еще пили они ту воду!..
На следующий день чистили колодец. Поскольку Чеботок большой специалист опускаться на дно, то его посадили в бадью – все той же одной ногой – и журавль осторожно начал опускать книзу свой «клюв»...
Первый раз в колодец Чеботок отправился трезвым...
ТАК ПЛАЧЕТ ОКНО
Галя еще раз дернула руку – напрасно, одно что обожгло болью кожу. «Гад!–зажмурив глаза, промолвила женщина, совсем, казалось, отчаявшись, махнула головой и не могла сдержать слёз: здесь не каждый бы и мужчина выдержал, а что уж говорить о ней, хрупкой, двадцатилетней.–Завтра же отнесу документы на развод. Хватит. Натерпелась. И какой дьявол вынудил меня выходить замуж за мента поганого?! Мама, извини... Но это ты, мама: выходи, дочь, не пожалеешь, деньги хорошие будет приносить. Наприносил! А теперь вот и наручниками пристегнул к батарее... А сам храпит, гад!.. Пьянь в погонах!»
Пьянь, а по паспорту Цедрик, милиционер с тремя лычками на погонах, шевельнулся, продрал один глаз, долго сверлил им жену, наконец-то изрек:
– Самое лучшее – жену на цепь, и все дети будут только на тебя похожи.
– Идиот!– вырвалось у Гали. – Как ты можешь? Что ты плетешь? Я ж... я же, кроме работы, нигде не бываю!..
Цедрик отвернулся:
– Не препятствуй спать. А профилактика бабам нужна. В любом случае. Как земле дождь в зной. Сплю-ю!..– Он глубоко зевнул и унялся.
Галя, вздрагивая худенькими плечиками, попросила:
– Миша, отстегни. Руки болят. Хватит глумиться. Я же не виноватая. Ну, Мишка-а-а!..
Даже не глядя на жену, Цедрик, проглотив слюну, заметил:
– Посиди, посиди... на цепи. И спасибо скажи, что я пристегнул тебя около окна. Кругозор. Не скучно. Что видишь, а, женушка?
– Га-а-ад! – затряслась еще больше Галя, а глаза затуманили слёзы.– Чтоб ты сдох!
– Будешь оскорблять милицию, накажу более строго,– промолвил Цедрик и захрапел.
Галя же смотрела на окно, и ей казалось, что не она плачет, а – оно. На оконных стеклах были слёзы. Разные – и огромные, словно ранние зеленые вишни, и маленькие, как недозрелые ягоды смородины. Они, те слёзы-вишни-ягоды, иной раз суетились хаотично, беспорядочно, потом стекали вниз, вниз... Если присмотреться более внимательно к оконному стеклу – а Галя это заметила сразу,– то можно увидеть в нем и себя, и его, негодяя Цедрика. Он, конечно же, нагло ржет, потом засучивает рукава, плюет на ладони: остерегайся, бойся, жена! А вон и сама она... В самом уголке оконного стекла... Вся сжавшаяся, запуганная... Она видит себя на удивление отчетливо... Сжалась вся еще больше, сердце колотится – того и гляди, выскочит из груди. Сейчас будет драка. Назревает. Сейчас начнется. И Галя, будто вернувшись из оцепенения после недолгого молчания, плюет на окно и повторяет – только не вслух, а сама себе: « Гад!» Виноват он, Цедрик, а досталось стеклу. Не живое – у него не попросишь извинения. Но что-то делать надо. Женщина подтянулась все же – едва не разорвалась – к оконному стеклу, стерла пальцем слюну.
Хочется спать. Подбородок незаметно коснулся груди, закрылись глаза. Сама себе приказала: «Спать, спать, спать!» Хоть так, не по-человечески. Устала за день на работе. А больше – дома... Только же сон не слушается ее, не берет. Было же одно желание – провалиться в забытье, а проснувшись, увидеть наконец трезвого Цедрика и, возможно, плюнуть ему уже в глаза. Трезвый он ниже травы, тише воды, а выпьет – дурак дураком.
«Хоть бы мама, что ли, пришла? – думает Галя. – Как нет особой нужды –десять раз прибежит на дню. А когда глумится муж – не слышит ее сердце беды, не спешит на подмогу».
С Цедриком Галя познакомилась в троллейбусе. Был он в штатском, длинный, тощий и белозубый, с густыми бровями, черными, как смоль, но на удивление редкими волосами на голове. Говорить умел. Убаюкал, одним словом. Вскоре она познакомила Цедрика со своими родителями – на этот раз жених надел милицейскую форму, она ему отлично шла , и мать, с завистью бросив кроткий взгляд на отца, показала всем своим видом: кажется, то, что надо нашей Галке! А когда дочь осталась одна, поцеловала ее в щеку:
– Выходи. И не думай. Видный и при погонах. А в милиции лишь бы кого не держат.
Отец, как всегда, больше молчал. «Сами разбирайтесь».
Цедрик проснулся первый. Растерянно посмотрел на окно, на жену, которая, положив голову на маленькие кулачки и, подтянув ноги к животу, спала. До него наконец дошло: это ж, наверное, я?.. Подхватился. Снял наручники – и Галя легла спиной на пол, положив отекшие руки на живот: он уже заметно округлился – в семье Цедриков ожидался первенец.
– Извини, Галя!– муж склонился над женой, упал на колено, приподнял ее за плечи.– Посмотри на меня. Посмотри. И прости.
– Ни-ко-гда, – не открывая глаз, прошептала Галя.– Иди. Иди, Миша. Я одна ... я сама выращу ребенка. Пока родители живы – не дадут пропасть. А с твоих денег толку мало. Пропиваешь все равно. Да и недолго ты продержишься... Разберутся... Поймут, что за птица ты.... Не сегодня, так завтра. Такими, разве, милиционеры должны быть, как ты?..
Цедрик, кусая губы, молчал. Он только иногда нервно сжимал кулаки, возносил их над собой, и, казалось, не знал, что делать с ними дальше. Все же попросил еще раз:
– Прости. Я больше не буду пить.
– Слыхала уже. И первое, и второе...
– Обещаю!– Цедрик приложил ладонь к груди.
– Кто что-то хочет делать, тот не обещает, а делает.
– Вот увидишь! Слово!..
Галя сказала о разводе. Срочном. Пообещала завтра-послезавтра – как только соберет все необходимые бумаги – отнести заявление в суд. Цедрик молча ее выслушал, вздохнул, также молча закрыл за собой дверь и застучал каблуками по лестнице ...
В тот вечер он домой не вернулся. Но позвонил и обещал опять пристегнуть Галю к батарее. Жена покачала головой, с грустью вздохнула:
– Все ясно... Только –запомни!– больше не получится. Не подойдешь ни ко мне, ни к батарее!..
Вдруг Галя залилась смехом, веселым, озорным, что, видать, ошарашило Цедрика, вынудило приостановить дыхание и разинуть рот: вишь, ожила и глумится!.. Отчего, интересно, не получится? Просто, весьма просто: более я тебя не пущу и на порог. Жалуйся куда хочешь. Или, может, все же мне первой?..
Цедрик, показалось Гале, вмиг протрезвел:
– Нет-нет! И я не буду! И я!.. Никогда!.. А там... А там разберемся. Мне надо побыть одному. И в самом деле... Слышишь?
Галя первой положила трубку.
Теперь часто сидит она на табуретке перед окном, а руки держит на животе, где напоминает о себе живое существо, и Галя разговаривает со своим ребенком – нежно, тепло, с материнским умилением, словно ребенок тот сидит у нее на коленях, она качает его, а малыш сосет соску и слушает ее:
–А знаешь, маленький мой, окно, кажется, более не плачет. Видишь, чистенькое оно, блестит, сияет. А вон и папка твой пошел. Пьяный. Пошатывается. Не в форме... с бородой... Стоит, смотрит на нас с тобой. Давай отвернемся? Вот так. Ага. Вот и правильно. Так лучше. Нам обоим...
Галя и вовсе задернула окно занавесками и села подальше от него: не хочет снова увидеть, как оно плачет... Боится...
КРЕСЛО
Кто выносил кресло из кабинета директора, теперь попробуй разберись. Говорят: все. Вроде бы и так. Потом многие припоминали, как все было, и получалось, что оно, кресло, чуть ли не само плыло-колыхалось над толпой, которая гудела, неслась, будто селевой поток с гор, на широкий двор училища, и вдруг –бац!– оно всеми четырьмя ножками воткнулось со всего размаху в лысую площадь. И люди, встревоженные, счастливые смотрели один на одного, весело разговаривали, если бы еще немного, казалось, им свободы, то начали бы толкаться, как дети. Хотя все они достаточно взрослые и солидные, как один с высшим образованием и немаленьким педагогическим стажем. Но ничего не поделаешь: говорят, когда генералы собираются вместе, то начинают щипаться. А что же тогда возьмешь с них, преподавателей музыкального училища? Да еще в те редкие счастливые минуты, которые долгожданным каракумским дождем вылились на всех!..
– Спички! – протянул руку к коллегам бородатый Пырх.
Его остановил Моресанов:
– Так, а керосин где? Сперва керосин! Был же! Кто нес керосин? Сам видел! Без него же кресло не подожжем! Где бутылка с керосином? А?..
Так спешили сжечь кресло, на котором еще вчера сидел директор училища Мельник, что керосин где-то потеряли. Никто, кроме Моресанава, даже не видел, чтобы кто-то с той бутылкой бежал во двор. Пошла в ход прошлогодняя подшивка районной газеты. Ее растерзали в пух и прах, и получилась круглая гора бумаги.
– Поджигай! – приказал Моресанов Пырху, который наконец-то раздобыл спички. – Не тяни. Чем быстрее не будет этого кресла, в котором восседал паскуда Мельник, тем быстрее мы забудем, что он, мерзавец, пил почти пять лет нашу кровь!.. Не будет более шалить! Поджигай, Пырх! И запомните: мы сжигаем не просто кресло, мы сжигаем стиль руководителя, его методу, его наглость и жестокость! Ура-а!
«Ура-а!» подхватили, и вскоре гора бумаги занялась веселым пламенем, которое начало лизать острыми язычками ножки кресла...Оно вот- вот готово было вспыхнуть... Все только и ждали этого момента. Однако чуть было не испортил всю мистерию заместитель директора по хозяйственной части Плюшкин, как звали Гавриловца за глаза в училище, он нежданно-негаданно прибежал откуда-то и поднял такой гвалт, что было далеко слышно:
– Оно же на мне висит! Я же за него отвечаю! Самое дорогое кресло-о! Пустите-е-е!..
Плюшкина никто и не держал, но он молодец: все же понял, что прибежал поздно, хоть и выхватишь из пламени кресло, но оно уже все равно пропало, никуда не денешься, следы от огня ничем не убрать, поэтому только часто затряс головой, проглотил какую-то таблетку, и пошаркал от людей в сторону двери, что вела со двора в основной корпус училища. А люди, казалось, и не замечали его, они весело и шумно разговаривали, иногда, припомнив что-то, смеялись, и видели, как кресло на их глазах превращалось в клубок яркого пламени.
– Хорошо горит как!..
– Х-ха, еще б!..
– И вымыть, и вымыть кабинет!..
– Чтоб и духом его не пахло!..
Уборщица Титовна как раз стояла недалеко, молча наблюдали за происходящим, потому отреагировала сразу же, для чего даже вытянулась в струнку и подала вперед туловище:
– Да знамо уж!..– сказала она.– Свое дело не испортим! За меня не беспокойтесь! – Она помолчала, потерла глаза кулачком, хлюпнула носом и кивнула:– А кресло жалко. Сгорело. Оно-то только тут причем, кресло-то? Хорошее, хорошее кресло было. Я все завидовала на него. Думала: если бы мне такое в квартире, то я б сидела в нем, как королева та!...
Кто-то захохотал:
–Хватит, что король посидел! Ишь, и Титовна разогналась! Куда, куда тебе!.. Ты, хорошая душа, посидишь и на табуретке!..
– Нет, ну вот вы все ученые , здравые, а пусть я глупая, забитая баба: когда человек поганый, то кресло за что порешили? – словно оправдывалась уборщица Титовна, и, не дождавшись какого-либо вразумительного ответа, ушла также, как и Плюшкин, со двора.
Ей, похоже, было все равно, кто управляет училищем – или тот пакостник и кровопийца Мельник, как говорят теперь о нем, или кто другой. Не большой начальник Титовна – в подчинении только метла да тряпка, из этого никакой корысти она иметь, конечно же, не могла, а свое дело знает и хорошо делает, потому упреков никогда не слышала. А кресло ей действительно жалко. «А ежели еще дерьмо какое попадется, так что тогда, ага, диван сжигать, на котором он, может, будет лежать?» С этим Титовна смириться не могла. Она искренне жалела общественное имущество, еще, может, и сильнее, чем свое личное, а далее никуда носа не сунула: страсти, бушевавшие последнее время в училище, ее не касались. «Сами разберутся. При мне их было, директоров-то, ого-о!..»
У нее, Титовны, была, одним словом, своя логика.
Вскоре двор опустел, и только около горки пепла, оставшейся от кресла, задержались двое – бородатый Пырх и Моресанов, который первому годился в отцы и считался лучшим преподавателем и даже неплохим композитором: некоторые песни, созданные им, исполнялись в пределах области, однако далее пробиться не могли. Виноват в том был, по версии самого Моресанова, во многом Мельник; это он прижимал всяко, как только мог, одаренных преподавателей – не любил, когда кто - либо старался поднять голову выше его самого. Будто даже заявлял: «Учите, учите детей, а песню напишут и в Минске. Лученков хватает сегодня...хоть пруд пруди... а преподавателей – нету. Хороших преподавателей, я имею ввиду...» Намек, как говорится, многозначительный. А совсем недавно, уже тогда, когда наверху был подписан приказ о его переводе в другой город, не пустил в столицу на конкурс вокалистов учащуюся Воротынскую, как только узнал, что она повезет туда песню Моресанава. Кровопийца так кровопийца! И кто же после всего этого, если не сам Моресанов, должен был тянуть, надрываясь, но считая это за честь, кресло из кабинета Мельника, заботиться про керосин и спички?! Было и еще несколько таких, кому Мельник навредил более, чем надо. Что же до бородатого Пырха, то с Мельником он и познакомиться как следует не успел, похоже, ведь работает в училище совсем мало, только недавно закончил он институт культуры, а кресло подхватил одним из первых и поджигал только лишь потому, как признался сам, что в Минске любил по первому зову выходить на площадь Независимости и потому считал себя мэтром в этом деле. Надо так надо!..
– Пепел, видимо, надлежит убрать,– закурил Моресанов и посмотрел на бородатого Пырха, который ворочал веткой клена, росшего поблизости, последние угольки.– А то ветер разнесет по двору – Титовна обругает. Чем бы только убрать?
Пырх нахмурился:
– Нагадили вместе, а следы заметать – нам?
– А что здесь такого? Кому-то же надо...
– Ничего! Вот подверну немного, водой зальем, да и пускай лежит. Чтобы все видели, что от кресла осталось. Можно, а чего, и дощечку воткнуть в землю, на которой написать, чтоб все знали: «На этом месте было сожжено кресло гада Мельника!»
Моресанов не успел ответить – представил только бывшего директора в этом сгоревшем кресле, из которого он, почитай, редко когда выбирался, как вдруг услышал гул автомашины и, повернув голову на этот звук, увидел милицейскую легковушку. Жизнелюб до мозга костей и в какой-то мере не состоявшийся композитор сразу сообразил: они с Пырхом попались. Все вовремя разбежались, а зачем они здесь торчали, спросить бы? Дураки! Этот же Пырх должен иметь опыт, хвалился же, что брали когда-то за ворот на площади в столице, так был бы, паразит, умнее и сам, и поучил бы его, старого разгильдяя. Так нет же! А теперь, что он скажет милиционерам? Что? Смелые мы, братцы, бываем, когда не видим людей в форме, а только следует заметить тех, подрагивают икры...
Легковушка застыла, взвизгнув, перед самой кучей черно-серой золы, из нее вылезли два милиционера – капитан и старшина. Капитан строго спросил:
– Что вы здесь делаете?
Пырх погладил свою густую бороду и ответил:
– Костер... дети, наверное, разложили, это небезопасно... Следим, чтобы искры не разлетелись...
На это капитан спокойно заметил:
– Или ты больно умен, или я дурак.–И, показав рукой на легковую, приказал:– В машину! Побыстрее!..
Моресанов послушался, а Пырх начал забираться в легковушку, только получив резкий толчок в плечо. Огрызнулся:
– Поутихни, не таких видали!..
– Поговори, поговори мне, поджигатель!..
Откуда-то взялась здесь Титовна, заступилась, хоть и жалко было ей кресла, однако старуха быстренько смекнула, что надо спасать преподавателей:
– Так вы что, не надрали уши тем нехристям? – серьезно смотрела Титовна на Моресанова и Пырха, настолько серьезно, что те, наверное, и сами не сразу догадались, что задумала старуха, а она продолжала: – Вижу в окно: костер! И малышня прыгает около него. Прыг-скок, прыг-скок!.. Ну, думаю, не хватало нам еще сегодня только пожара... всего было в этом году... и наводнения, и заморозки... А здесь перед выборами в президенты – еще и пожар.... Так разогнали, говорите? Товарищи преподаватели! Вам что, заложило? Уши надобно почистить! Эй, вы!..
– Не верят,– из салона легковушки послышался голос Пырха.
Моресанов промолчал.
– Я, я же вас попросила разогнать!– наступала на легковушку Титовна.–Так что ж получается: хотела как лучше, а получилась, как тогда... И еще выходит, что я, карга старая, подтолкнула вас к тому, что милиция забирает? Да? Товарищ начальник! Тогда и меня в машину, потому что если кто и виноват, то только я. Слышишь, начальник?
– Все места заняты, – ответил капитан и посоветовал старухе шаркать метлой там, где надо, а не молоть языком лишь бы что, а когда залез, тяжело занося жирное тело на переднее сидение, приказал сержанту-водителю.–Поехали!
Куда поехали, Моресанов догадался сразу. По дороге гадал-думал, чем все это обернется, советовал Пырху молчать, не хорохориться, ведь тот хвалился-выкрикивал, что не таких видал и не там бывал, и сейчас, понятное дело, перед ним снимают шапки многие, чем вызывал лишь гнев у милиционеров. Те обещали, что они перед ним никогда шапок снимать не станут, а когда что и сделают, то хорошенько намнут ему бока и советовали держать язык за зубами. Когда, хоть ты что, не держится он у Пырха за зубами, язык тот! Ну и получил под дыхалку кулаком: уймись ты, бля!..
Там, куда их привезли, было многолюдно, но тихо. Провели мимо дежурного на второй этаж, и Моресанов догадался, что сейчас попадет он к своему старому знакомому. Так и есть.
– Они,– кратко доложил подполковнику Стремоусову капитан и сел , не спросив на то разрешения у начальника, на стул.
Стремоусов же распорядился иначе:
– По одному... Давай!..
– Есть!– по-армейски легко вскочил капитан и махнул рукой Пырху, чтобы вышел и подождал в коридоре.
Вслед за Пырхом исчез и сам капитан.
Такого поворота не ожидал Моресанов, но держался спокойно, чему и сам, признаться, был удивлен. Когда за Пырхом и капитаном закрылись двери, Стремоусов закурил, важно откинулся в кресле, и Моресанов недвусмысленно заметил, что у этого милиционера кресло еще более роскошное, чем у Мельника, и почему-то представил, как оно горит... Фейерверк был бы посолиднее!..
– Вот и встретились,– надо было видеть наглую улыбку на лоснившемся, гладко выбритом лице начальника городского отдела милиции.–Я понимаю, товарищ Моресанов: самого Мельника вам было никак не достать, а кресло и школьник может уничтожить, дай только ему волю. Ну, так что теперь будем с вами делать? Пятнадцать суток, или тридцать на двоих, для вас будет достаточно. А потом кресло купите. И вернете училищу, да-да!.. Оно теперь стоит несколько ваших заработных плат. Ощутите. А то иной раз мы бываем горделивыми, надменными... Ну, ну! Но, как показывает жизнь, от себя не убежишь. Вот и ты попал в силок. Ну, скажи, скажи что-нибудь, Моресанов! А Мельник, между прочим, был хорошим человеком...
– Отчего – был?– насторожился Моресанов.
– Правильно, правильно: и есть,– поправился Стремоусов.
–Тогда смотря для кого он хороший,– промолвил преподаватель.–Для вас хороший, не возражаю... В городе одно более-менее престижное училище – это наше, и здесь учились, учатся и, надеюсь, больше не будут учиться ваши далекие и близкие родственники, дети друзей и знакомых...
– Чем я вам так не угодил?
– Я же вам как-то раньше все объяснил... В нашем училище должны учиться одаренные дети. Неважно, кто у них отец, мать... Я всегда был против блата. И взятки не беру. Лучше в одном костюме ходить, чем запятнать совесть...
– Простите, а как же вы кормите семью?– выпучил глаза на Моресанова подполковник.– Поделитесь опытом, если не секрет.
Моресанов ответил не сразу:
– Тяжеловато. Не спорю.
– А Мельник купил зятю новую иномарку. И сам уедет на «мазде» . А почему? А потому, уважаемый, что умный человек, голову на плечах имеет. Вот так надо и жить...
– Не учите меня, будьте добры,– запротестовал Моресанов.
– Да вас, смотрю, поздно учить,– смирился подполковник.–Ну, что ж... Будем считать, что разговор окончен. Посидите пока. А там уж что прокуратура скажет...
За дверью послышался голос Пырха, тот, никак, поднял бедлам: по-видимому, припомнил, что в столице он и не такое сознательно вытворял и ничего, а здесь и слово им не скажи!.. Надоело. Сколько можно терпеть? «Пустите меня-я-я!» Пырх, конечно же, припомнил еще, что у него срываются занятия, но кому это интересно? Капитану? Подполковнику? Чтобы вел он себя более достойно в милиции, кто-то ткнул ему в бок кулаком, а, может, стукнул и по голове – здесь, в кабинете начальника, Моресанову не было видать всего этого, но когда Пырх завопил не своим голосом «уй-й-й-й-й!», он был уверен, что все так и было.
Стремоусов нажал на кнопку и приказал капитану, который просунул голову в дверь:
– Уведите. И того вместе с ним...
Выходя из кабинета, Моресанов повернулся к подполковнику, улыбнулся:
– А тот «кусок золота»... помните свою племянницу, которая училась у нас по вашей протекции... так и не научился играть ни на одном музыкальном инструменте. Не заблестело золото... Встретил на днях ... работает тот «кусок золота» на базаре в торговом ряду...
– Выйдите!– Стремоусов грохнул кулаком по столу.
Пырх уже более не напоминал о столице, молча ковылял впереди Моресанова и прикидывал в уме, на кого раскинут его уроки. И – нисколько не укорял себя, что оставался возле догоравшего кресла до последнего... Хоть, может, и не надо было надеяться на Степана Викторовича, а дергать? А что, когда его уже и вовсе нет в городе?..
Как только за Моресановым закрылась дверь, бывший директор местного музыкального училища Мельник выглянул из небольшой комнатки, предназначенной для отдыха, что была сразу же за спиной Стремоусова. Они обменялись взглядами. Улыбнулись.
– Ты все слышал. Это кресло им долго будет помниться, – пообещал подполковник и взял в сейфе початую бутылку коньяка.–Потому что жить не умеют. И самое главное – не хотят, идиоты, учиться. Вот в чем беда. Вот в чем их изъян. Подсаживайся, Степан Викторович, к столу. Волновался, вижу...
Мельник подтвердил:
– Да не железный...
– Руки трясутся. А волновался напрасно. Напрасно волновался, почтенный. Мы друзей в беде не бросаем. Ну, сожгли стул...
– Кресло, – поправил Мельник.
– Ну, сожгли кресло...Если бы ты раньше нам сообщил, то мы б их всех и замели. Всех!..
– Всех не надо,– замахал руками Мельник.– Нет, нет! Там и хорошие люди есть!..
– Но ведь они же жгли кресло, так бы сказать – тебя!..
– За компанию. За компанию,– Мельник проглотил подкатившийся к горлу комок, потянулся за бокалом с коньяком, поднял его трясущейся рукой. – Не будем о кресле... Забудем. Раз и навсегда. Пускай они думают, что я ничего не знаю. А мне, между прочим, сам Пырх... тот, что с бородкой, и сообщил, что будут сжигать кресло... и что он будет также сжигать... вместе со всеми. Чтобы я, дескать, знал. Предупредил. Молодчина. Свой человек. Если бы он даже и отказался, сделал Пырх и на это упор , то сожгут другие. Так что все равно... конец один. Попросил заранее извинения. Это же я его пригласил в училище. Друг мой институтский словечко замолвил за Пырха...
Услышав про Пырха, подполковник сразу же проглотил крепкий напиток, крякнул и механически нажал кнопку в крышке стола, и в дверях появился лейтенант, которому Стремоусов приказал отпустить «на все четыре стороны» поджигателей кресла. А Мельнику , не скрывая разочарования, громко заметил:
– Мать вашу!.. Предупреждать надо!..
И плюхнулся в свое кресло, в то самое, о котором Моресанов подумал, что оно б горело еще ярче, чем горело кресло их бывшего директора!..
ПАМЯТНИК
Тимчиха последний раз шаркнула метлой по холодным, покрытым утренней росой плитам, которыми плотненько выложена вся территория вокруг памятника Ленину, задрала голову вверх, с хрипотцой вздохнула и проговорила раздраженно и с нескрываемой печалью:
– Есть хочу, Ильич. Нету силы метлу таскать. В глазах темно – как ночью. Что, не веришь? А ты верь, верь, родимый. Сегодня что это я проглотила? Сухарь погрызла. Точно: сухарь, чтоб ему!.. Прошлогодний, видать. От соленого огурца уже внутри зудит. Мету, мету, мету... Второй месяц при должности, а за какие шиши? Тебе, Ильич, хорошо стоять – есть не хочешь. Каменный. А я – живая... И сухая, видишь? А сухие хорошие грызуны. Во, во... начальник мой подъехал. На иносранном тарантасе. Надо орудовать метлой. А то отнимет. Он злющим бывает. Только б не упасть перед ним... только б не оплошать... а то ж стыдно будет... если баба и перед тобой, Ильич, возьмет да распластается... чего доброго... и будет лежать, как неживая. Стыдоба-то, Господи!... Ко мне, ко мне идет начальник. Видишь? С папкой. Это он. Что-то, видать, сказать надумал... Может, зарплату пообещает?
Начальник, смерив Тимчиху строгим, но безразличным взглядом, заранее зажмурил глаз и ткнул вверх пальцем, который на самом кончике был заклеен пластырем:
– Видите?
–Что? Где? – Тимчиха также попробовала задрать голову, однако едва удержавшись на ногах, почувствовала, что ее повело, и все вокруг – и голова Ленина, и серый угол здания райисполкома, и бесцветное небо – в один миг покачнулись, поплыли перед ее глазами, и женщина не смогла больше ничего сказать, обхватила двумя руками метлу и только попыталась кивнуть, не веря, что ей это удастся.
– Кучу видите?
Она опять кивнула.
– На голове у Ленина? Убрать!
– Так она ж... давно там... куча... и до меня лежала. Принимала с кучей... Старая куча... Ей-богу!..
– Будьте добры, отрабатывайте деньги. Это ваша обязанность. Чтобы не было!..
– Хорошо... хорошо... – кивнула Тимчиха начальнику, но тот уже повернулся лицом к четырехэтажному зданию райисполкома, уверенной походкой, широко и размашисто, зашагал к крыльцу, испытывая, видать, гордость, что Ильич обратил на него внимание...
Не сразу и Тимчиха подняла голову на Ленина:
– А про жалованье ни слова. Слыхал, Ильич? Приказал твою плешь помыть. А как я взберусь? Просто сказать. Ты же высоко, под самым небом. А я тут, на земле, как букашка какая. Лестницу надо где-то брать. А голубям тем дырки не заткнёшь. Да и вороны мимо не пронесут, падлы. И метят же, холеры, аккурат на голову. Туалет нашли. Пойду лестницу искать. Потерпи. Больше терпел, Ильич. Смою. Птичье дерьмо легко смыть, но тебя же, Ильич, и люди обляпали всего... с ног до головы. Ты такой и сякой... Ой, чего только не говаривали! Ты весь в дерьме. Вот то, людское, тряпкой не сотрёшь... никак не сотрёшь то тряпкой, Ильич. Постой. За лестницей я...
Она приставила метлу к памятнику и пошла, наклонив вперед туловище, в направлении своей избушки, рассчитывая там, в сараюшке, раздобыть какую-нибудь лестницу, а потом принести ее на площадь и лезть-карабкаться, прижимаясь щекой к лестнице к загрязненной птичьим пометом голове вождя. Есть в ее сараюшке та лестница, нет ли – Тимчиха не знала, ведь живет в этом городке она совсем мало, столько же и в избушке. Вон их, этих избушек, сколько здесь гуляет! Выбирай любую свободную и живи. Она и выбрала эту, в которой обосновалась как-то сразу, с первого дня, не признавая другого жилья, которое было рядом, хотя поаккуратнее на вид. Ее же хатка не шибко привлекательная – маленькая, на одну комнатушку, и сени. Через двор – и тот сараюшко, еще более невзрачный.. Как только рванул Чернобыль, а до него и сотни километров не наберется, городок постепенно опустел, глядел-дивился на всех, кто появлялся в нем, глазницами вымерших хат и зиял пустыми окнами многоэтажек нового микрорайона. Но не все уехали. Некоторые люди и прибились сюда – большинство белорусы со Средней Азии, которым там, под чужим белым солнцем, стало непросто жить: по их словам, начались притеснения со стороны коренных жителей. Но парадокс – из той же Средней Азии, равно как и с Кавказа, потянулись сюда и сами аборигены. Не говоря о бомжах– это больше русские, украинцы. Рядом же. Соседи. Заходи, живи!..
Приехала в городок и Тимчиха. Из Гомеля. Бросила там одного мужа-пьяницу в двухкомнатной квартире, пускай он хоть посинеет от водки, прихватила кое-какие нехитрие пожитки, и сюда. Подметает. Метлу дали в первый же день, когда спросила, где бы пристроиться. «Как та рация – еще не больно известно, – рассуждала женщина, – а Тимка точно прибьет, к этому идет».
Ей еще хотелось чуток пожить.
В сараюшке стояла лестница, однако на Тимчиху та не произвела впечатления – низкая, на четыре перекладины, и слишком какая-то комлистая, тяжелая. Не поднять. Вернулась ни с чем. Задрав голову на Ленина, сказала:
– Нету лестницы. Нету. Стой пока так. Были бы деньги у меня, вопрос решился бы сам собой – поставила бы бутылочку местным бомжам, их здесь море, они за водку тебя помыли бы всего, не то что б!.. И зубы почистили бы. А без денег не возьмутся. Хотя и должны бы так, бесплатно, ты же им ничего плохого не сделал. Было хорошо, когда тебе верили, когда ты вечно жил... Пили и ели. Хоть и кильками закусывали... бычками тоже... «Долой революцию!» Слыхал, Ильич? Дураки и кричат. А пусть и революция будет иногда... так веселее жить. Когда б не было ее, революции, кто б из вас, горлопанов, жил-был сегодня? Другие бы топтали, поди, эту землю... Если бы ты их не развернул, Ильич, все шли бы другой дорогой и как встретились бы тогда? А никак! Таких, Ильич, ты сам и наплодил. Твои! А они, вишь, тебя за это как благодарят? Хотя чего уж тут удивляться – отца родного, бывает, сын за глоток водки порешит...
Всего обляпали... Ели, пили... А когда началась перестройка та, каждый начал на себя одеяло натягивать, кто пошустрее да понахрапистей, тот и укрылся... они с нас сорвали, одеяла те... и заблестели почти все подряд голыми половинками... На всех углах кричат... агитируют... А я и растерялась – не смогла прибиться к кому-нибудь. Одна осталась. Без партии. С метлой. Муж спился где-то... Послушаешь президента – он вроде бы правду говорит, изредка когда неформал какой прорвётся в радиво – этот на свою сторону перетягивает. Так и мету: туда-сюда, сюда- туда... Слаба я, слаба... Совсем запуталась в этой жизни. Лучше бы никого не слушать. Лучше бы жить где на хуторе, подальше от людей, иметь здорового и непьющего мужика, свой надел земли... свои жернова... и ни радива, ни телевизора чтоб... А чего ж это я? Можно подумать, что у меня все это есть. Нету. Пусть, пусть сами решают политики, как нам, простому люду, жить лучше. Ты, Ильич, им не подскажешь. Дышать-то вольно. Дышите. Дышите! Но и есть же хочется. Иной раз – сильно. Как вот сегодня. Пойду... наберусь смелости, картошки попрошу в магазине. Под запись. На вексель. Слово-то какое придумали... Хулиганье! До зарплаты. Может, картошки и дадут. Невелика же ценность, а без нее никак. И щепотку соли вымолю. Не водку же буду просить. Должны понять, проникнуться должны. Свои же люди. Славяне. Чужих кормили когда-то. Неужели своей пожалеют? Хотя не то время, что раньше было. Не то. Могут и фигу ткнуть под нос... Как и тебе, Ильич. Поди сосчитай, сколько их, фиг тех, тебе ткнули уже под нос... Но как я понимаю, тебе все равно – ты памятник. Каменный. Крепкий. Переживёшь. Мне бы твоё!..
Тимчиха не сразу увидела, что рядом с ней стоит мужчина неопределенного возраста с помятым лицом и таким же видом.
– Что, Ленину жалуешься? – кашлянул в кулак мужчина.
– Ему.
– Лишь бы что! – махнул костлявой, давно не мытой рукой возле самого носа мужчина. – Кто тебя, как и меня заодно, услышит? Кому мы нужны? Лишь бы что!..
– Пить меньше надо! – почему-то грубо ответила этому неизвестному мужчине Тимчиха. – Пить! А то распились!..
Мужчина едва заметно ухмыльнулся:
– Когда пьешь, тогда не так жрать хочется. А жратва сегодня дорогая. Выгоднее пить. Хохлятскую. Послушай, баба... Как тебя звать-то? А?
– Никак. Я замужем.
– А-а-а!.. А то хотел сказать: давай вместе жить будем?
– Давай,– вырвалось у Тимчихи.
– А ты сговорчивая, – спокойно, слегка улыбшувшись, сказал мужчина. – Люблю таких баб. Давай или ты ко мне, или я к тебе. Я наблюдал за тобой. Давно. Не решался подойти сразу. Метлы твоей боялся. Звезданешь, думал. А ты – хорошая, по всему видать. Характерная.
– А у тебя что есть? – подняла и сразу опустила глаза Тимчиха.
– Дом. Целиком. И кровать. И на ней все есть. Даже одеяло.
– А еда?
– Этого нет.
– Тогда живи один, – заявила Тимчиха, и тон ее голоса был тверд и решителен. – Мне нужен мужик не для утехи. Да еще такой, как ты. Дрожишь весь – как пузырь... Морда – что печеное яблоко. Подыхать сюда приехал, или как?..
– Ат! Так что, расходимся, значит?
– Давай, давай, выметайся! – Тимчиха агрессивно замахнулась на мужчину метлой, но, вспомнив, что нужна лестница, враз опустила метлу, дружелюбно поинтересовалась. – А ты, жених, лестницу для меня не можешь раздобыть?
– Могу. Зачем тебе?
Женщина кивнула на чумазую голову Ленина. Мужчина брызнул смехом.
– Приволоку. У меня есть. Только сам я не полезу – боюсь, что не взберусь. Шестой месяц пью. Как и приехал. Ежедневно.
– Неси, я сама.
– Жди, – и он, волоча правую ногу, поковылял с площади, пройдя немного, остановился, оглянулся на Тимчиху, задрал голову на памятник, где топталась на том же месте, что и не раз до этого, большая, будто вылепленная из воска, ворона. И ткнул в нее крючковатым пальцем:
– Падла, а!..
Тимчиха же не обращала на него внимания, мела и мела себе дальше, не приглядывалась она и к тем воронам. Ну их, барабашек этаких! И так погано на душе. Оботру, решила, Ленина и пойду просить в лавку картошки. А в мае посажу свою. Пусть растет. Когда есть картошка – уже не страшно. Она умереть не даст. А на деньги эти надежды нету... мало веры им, деньгам. Могут дать – могут не дать. Как вздумается им. А картошка она и есть картошка. Хлеб.
Мужчина, как и обещал, принес лестницу, легкую и длинную, «надетую» на себя, спросил:
– Куда ее?
– К памятнику. Со спины поставь. Спина также в подтеках... в серо-белых с темным оттенком. И подержи, чтобы не брякнуться мне. Я сама полезу, раз ты пугливый такой.
– Трясет.
– Ставь. Так, так. Ага. Держи ее!..
Она держала в одной, левой, руке мокрую тряпку, а правой хваталась за перекладины и лезла аккурат так, как и представляла, – щекой прижимаясь к лестнице, и чем выше поднималась, тем сильнее прошибала тело предательская дрожь, переводила дыхание, и вдруг тряпка выпала из руки, шлепнулась на лысину мужчине, он шарахнулся в сторону, отпустив лестницу, ухватился обеими руками за тряпку и видел, почти обомлев от неожиданности, как лестница сверху отошла от спины Ленина, резко начала заваливаться назад, и Тимчиха, схватившись за нее, как за турник, летела вместе с ней на площадь. Вороны же дружно, как могло показаться, испугавшись всего, что произошло, в одно мгновение всполошились на всех ближайших деревьях, услышав отчаянный нечеловеческий крик Тимчихи:
– А-а-а-а-а-а!
Было слышно, как она упала спиной на площадь, сразу успокоилась, так и лежала, сжав – до белизны в пальцах – лестницу. Мужчина, выругавшись громко и хлестко, крутнулся на истоптанных каблуках, будто попал в вихрь, и побежал в сторону вороньего крика, бежал и сопел:
– Убилась!.. Убилась!.. Убилась!..
Собрались люди. Подъехала «скорая». Тимчиха еще едва заметно дышала, а в глазах тускло плавал край неба с испачканной головой Ильича. Потом все это ушло в небытие...
Подошел начальник.
– Разбилась, – доложил ему врач.
– Глупая баба, – затряс головой, будто сочувствуя, начальник. – Зачем лезла? Кто посылал? Разве же здесь, на земле, нечего подметать, мыть, чистить? Так нет – полезла..
И он задрал свою голову на голову Ленина. Высоко. Больно высоко. Где-то под самим небом она, та голова... А еще повыше он представил бабу с метлой, которую даже не знал, как звали.
СТАЖЕРКА
Маршрут автобуса изменили только вчера: раньше «двенадцатка» ходила с автовокзала в конец Новобелицы, на улицу Зайцева, а позже посчитали, похоже, что оттуда и так много транспорта ходит в разных направлениях и соединили засожье с сельмашевским микрорайоном. Удобно стало многим пассажирам – едь себе прямиком, без пересадки – через весь город. Дешевле и быстрее. А сегодня это важно – рабочих мест рядом с жильем не всегда хватает, поэтому люди колесят взад-вперед по всему областному центру.
Вот на этот двенадцатый автобусный маршрут и назначили стажеркой Клавдию Степановну. «Поучитесь пару дней». Поучиться надо, ведь раньше она с автотранспортом дел никаких не имела, если не считать, что пользовалась им, как любой пассажир. Кто же не пользовался? В отделе кадров не шибко интересовались, где и как жила она раньше, больше, по всему было видать, смотрели на ее лицо – не испито ли? Чтобы не ошибиться и на этот раз, а то встречались женщины, которые после первой дневной выручки исчезали напрочь, никак в канализацию проваливались: ни дома, ни у родственников никаких следов. Тогда ищи их. А Клавдия Степановна, по правде говоря, серьезно готовилась к визиту в отдел кадров, представляла даже, что там поинтересуются, как жила она в том далеком солнечном Душанбе, почему, не дождавшись каких пару лет до пенсии, вернулась на родину. И должность ведь там занимала хорошую – была заучем в средней школе, что на улице Путовскага, в ней учились в основном дети творческой интеллигенции – писателей, композиторов, артистов... А не поинтересовались. Хотя что бы она сказала нового, кроме того, о чем все люди слышали-видели уже и сами по телевидению и читали в газетах? Америки не откроешь. А про ностальгию тем, кто никогда далеко от мест, где родился, не жил, рассказывать не имеет смысла: не поймут. Через это надо пройти. Домой вернуться всегда, сколько и жила там Клавдия Степановна, хотелось и ей. А здесь – развал в бывшем Союзе, как раз сложились благоприятные обстоятельства, когда стало не жалко ни школы, в которой в общем-то неплохо ей работалось, ни соседей, ни тех красивых городских затененных от зноя улиц, где было все знакомо-перезнакомо. Ринулись, слово горный поток, славяне из Таджикистана, а со всеми вместе как-то было легче бросать нажитое и ей, Клавдии Степановне. Решилась. И вот теперь, в отделе кадров, думает, почему же это люди не поинтересовались, как жилось ей там, на чужбине? Похоже, хватает и у них, этих людей, своих забот – не до нее. Даже потом и порадовалась, что не ворошили прошлое, а сразу же назначили стажоркой.
На той остановке, куда Клавдии Степановне велели подойти, она и села в автобус. Была как раз пересменка, поменялись прямо на ее глазах водитель и кондуктор.
– Я стажерка,– представилась, немного смущаясь своего возраста, Клавдия Степановна молодой еще женщине с рыжим, словно метелка, пучком волос, которые туго обхватила модная разноцветная резинка.
Как, видать, и положено в таких случаях – при первом знакомстве –кондукторша быстренько окинула любопытным взглядом Клавдию Степановну, словно сфотографировала ее, и, чуть улыбнувшись, сказала:
– Вот и хорошо. Веселее мне будет. Садитесь вот сюда, присматривайтесь... А потом покажу, как билеты отрывать, куда денюжку складывать. Сумочка, кстати, какая-либо есть? Желательно, чтобы на плечо повесить – так удобнее. Или к ремешку пришпилить. Как вот у меня.
– Нет.
– Надо купить. Ее не дадут – раздобудьте сами. Вот такую безрукавку, как у меня, выделят. Еще не дали? Ее выдадут обязательно – наштамповали, имеются на складе. Фирменные. Синие в основном. Есть и голубые. Я Тамара, а водитель – Саша.
Клавдия Степановна также назвала себя. Вскоре автобус тронулся и стажерка села на то место, на которое и кивнула ей Тамара, – впереди. Но почему – там, впереди? Салон оказался за ее спиной, перед глазами,– одна лишь перегородка с водителем, на ней – аж режет зрение – портрет известной кинозвезды. Тупик. Клавдия Степановна пересела. Вот, теперь другое дело, удобнее, можно видеть, что делается в салоне. А что там делается? Тамара отрывает билеты, берет деньги, дает сдачу и проверяет удостоверения у льготников – как правило, это ликвидаторы, инвалиды, а людей преклонного возраста, заметила стажорка, чаще всего она не замечала: едьте спокойно, по вас и так, уважаемые, хорошо видать, кто вы на самом деле, все равно не станете моложе, хотя бы вам этого очень и хотелось.
За всем этим внимательно следила стажерка. Иногда на месте Тамары она видела себя, и почему-то сразу же пугалась, что из нее, похоже, не получится кондуктора – такого, каким тот и должен быть: строгим, требовательным и в тоже время мягким, добрым. «А смогу ли я так гаркнуть на человека, как Тамара, когда вон тот лохматый парень отказался платить за проезд? Нет, говорит, денег. Может, и правда, нет. Но ведь порядок такой: платить надо. Транспорт не бесплатный. Тамара молодец: не отстает. Не уступает и парень. Интересно, чем все это закончится?» Клавдия Степановна начинает понимать, догадываться, что это он, тот хлопчина, просто выкаблучивается, чтобы обратить на себя внимание, демонстрирует свое геройство, деньги же у него, безусловно, есть. Тамару также не проведешь, как воробья на мякине – встречала, наверное, и не таких наглецов. Не первый день работает контролерам.
– На остановке покинете автобус, если не хотите больших неприятностей!– строго предупреждает она парня.
– Буду ехать столько, сколько мне и надо,– парень еще крепче, показалось, держался за поручни, и на его правой руке оскалилась широко раскрытой пастью звера-хищника татуировка: смотри, королева автобуса, с кем имеешь дело!..
Тамара громко, чтобы слышали и другие, предупредила водителя Сашу:
– Пока вон тот тип расписанный не выйдет – не трогайся и с места! Учить надо некоторых! Учить! Хватит дармоедов возить! Развелось!..
Саша послушался, а настырный пассажир и бровью не повел – даже тогда, когда все начали возмущаться его поведением. Что удивило Клавдию Степановну – возмущались женщины, они шипели, как те гуси, а из мужчин хоть бы кто голос подал. Как все равно ничего не видели и не слышали. «Эх вы, защитники наши, заступники!» – чуть было не вырвалась у стажерки.
Автобус все же тронулся с места – победил тот лохматый наглец. На следующей остановке он, сверкнув в сторону Тамары уничтожающим и победоносным взглядом, легко соскочил на тротуар из автобуса сам – приехал, похоже.
Еще заметила, что к рыжей, но миловидной Тамаре иногда подкатываются молодые парни и особенно подвыпившие мужчины, откровенно назначают свидания. «Во сколько заканчиваешь? Где живешь? О, так мы почти соседи! А муж ревнивый? Кольцо это, говоришь, так, для виду? Могу встретить...А?» Ну, это знакомо: все они, грамм глотнув, цепляются к женщинам. Смелые. Орлы. А проспятся, и куда что девается. Остывают так, как и загораются – будто кровля с жести за ночь.
Проехали как раз дом, в котором и живет пока что Клавдия Степановна с мужем Виктором и внуком Максимом. Дочь осталась в Душанбе, она замужем за майором-пограничником, и все их переезды зависят не от самих: служба. Приютил же, спасибо ему , младший брат Степан, а больше хороших слов надо сказать его жене, Ольге. Другая бы так и послушалась мужа, а она встретила родственников-переселенцев хотя и не с распростертыми объятиями, но с пониманием, тепло: «Живите у нас, как-нибудь разместимся. В тесноте не в обиде. Мы же свои». Степан помог шурину с работой, Максим ходит в третий класс, а она, Клавдия Степановна, пока вот только стажорка. В школах до лета, говорят, вакансий не ожидается, и будут ли они вообще – тоже еще неизвестно: преподавателей русской филологии хватает будто. Ну хватает так хватает. Если по правде, так и устала женщина от школы, хотелось ей чьего-то другого...
Как-то муж, когда они сидели на кухне одни и обедали, заикнулся:
– А, может, в деревушку куда махнём, Клава? Там домишко купим. Они совсем, говорят, дешевые. Да и бесплатно много где дают – живите только, работайте. Руки же у меня будто бы есть. Да и тебе с работой полегче будет...
В деревню переехать? Легко сказать, просто. Если бы раньше, когда помоложе были, тогда другое дело, но теперь же, прожив, считай, всю жизнь в городе, не авантюрным ли шагом будет такой поступок с их стороны? Это хорошо смотреть на село по телевизору... Куры, кабанчики, коровы, коттеджи, палисады, благоухающие разноцветьем, счастливые лица у людей... Красиво. А в жизни все не так, все гораздо сложнее. Надо, и Клавдия Степановна понимает это, крутиться там, как той белке в колесе. Не досыпать, трудиться ежедневно физически, а с нее ли здоровьем? Нет, нет, деревня не тот вариант. Поздно! Если бы раньше... Но раньше им хорошо было и в хлебном, хотя и душном, жарком Душанбе. Пока не началась стрельба на улице, под самыми окнами. Это – страшно. Это – жутко. Да и умирать она, если откровенно, собиралась все же дома, не там, на чужбине... Как только начинала думать, что навсегда ляжет в этот горячий песок – делалось не по себе... Стрельба та – еще не все, кстати. Кое-кто из заинтересованных местных аборигенов старался запугать приезжих Нурекской ГЭС – если ее взорвать, она смоет Душанбе с лица земли, такой поток воды полыхнет, что – о-е-ей! Правда в этом, наверное, есть. Однако же додуматься до такого!
Первые дни, что она провела в этом красивом, уютном и тихом городе на берегу реки Сож, показались женщине раем. Не стреляют. Нет того испопеляющего зноя, в овощных магазинах полно всего, особенно дешевая картошка, а это тем, кто жил в Средней Азии, сразу бросается в глаза. Бульба-картошка!.. Она и там есть, привозят, но здесь ее – просто много, и очень дешевая.
Вскоре автобус завершил после пересменки первый круг. Тамара подсела к стажорке.
– Не уснули?– поинтересовалась она и глубоко зевнула.– Фу-у, спать хочется. И ночью вроде бы ничего такого не делала...
– Нет, не уснула,– просто ответила Клавдия Степановна.–Не было когда ...
– Тут и действительно не уснешь. Хоть к концу смены ног не чувствуешь – где стоишь, кажется, там и упала бы. Я уже мужа и не подпускаю к себя в такие дни. Они не меньше критические... Он, негодяй, злится, спрашивает, может ты там с шофером шуры-муры крутишь, потому и не хочешь?.. Ревнует, а когда ревнует, значит, любит. Пусть. А что, Саша ничего парень. Если уже и изменять, то вот с такими, как он: чтобы приятно было...–Тамара вздохнула, раскраснелась, томно потянулась и, показалось, испугалась своей прямоты, прикрыла рот узенькой ладошкой, как-то испуганно глянула в ту сторону, где ковырялся в кабине водитель Саша, прошептала. – Еще услышит...
«Счастливая»,– почему-то так подумалось о Тамаре Клавдии Степановне.
Тамара же успела еще сообщить на самое ухо стажорке:
– У нас тут, считай, все по парам разбиты. Только квазимоды да старухи не в ходу... Ага. Хочешь того или нет, а это стало уже какой-то традицией, что ли... Кто где пристроится... А я боюсь... у Толика моего рука крепкая... тяжелая... А?
И она нажала на кнопку-пуговицу: подала знак, чтобы автобус трогался. Клавдии Степановне же подумалось: «Зачем, чудачка, она мне обо всем этом рассказывает? С чего бы? Разве, может, думает, что если жила я среди таджиков, то допускала себе вольность? Откуда у них такое?.. Скорее –наоборот: там, в далеком далеке, еще больше ценишь своего мужа, бережешь свою семью, ведь там мы – гости, а в гостях надо всегда вести себя достойно. Хотя за всех женщин не скажу... Есть, есть... Но где же их нет? Только там, наверное, где совсем люди не живут... Ну, Тамара!..»
Автобус двигался по маршруту довольно медленно – время «пик», поэтому людей набивалось на каждой остановке уйма, столько же, пыхтя, выбиралось на волю. Толкотня. Штурмовщина. Оскорбления. Стоны- крики. Только одна женщина повеселила немножко людей, внесла какое-то оживление. Когда ее зажали сразу же, словно клещами, в проходе, она запричитала:
– Что же вы делаете, люди хорошие?! Испортите всю мою хвигуру, тогда совсем меня дед мой любить не станет. Пожалейте. Слышишь ли ты меня, Коля? Посмотри, посмотри, что они с твоей бабой делают? Если бы хотя обнял, я молчала бы... Коля!.. Мнут, как и ты меня в молодые годы! Во дают, во топчут, окаянные! Ты, Коля, где там? Живой хотя, а?
Пассажиры, что стояли поближе к женщине, начали оглядывать ее... и откровенно улыбались: тебе, тетка, уже все равно, какую иметь фигуру и Коля твой никуда не денется, если он не моложе. А Коля все же отозвался:
– Тута я. Тута...
Хотя и пришлось ему чуток покраснеть – за всю свою долгую жизнь с этой женщиной так и не привык он, показалось людям, к ее шуткам. А она молодец! С такой женой, по всему чувствуется, не пропадешь, хоть и горя иной раз хватить можно. Или не так? Лучше об этом расспросить бы самого Колю...
Тамара же выбивалась из последних сил, но, орудуя локтями и толстым, широким своим задом, как-то продиралась через джунгли пассажиров, чаще всего напрасно: никто почти не стремился платить за проезд. Здесь, правду говоря, и не добраться к карманам и барсеткам: зажаты люди со всех сторон, парализованы. А кое-кто и рад был такому, вовремя оценил ситуацию: это же надо быть контролерам большими глупцами, чтобы переться в такой ад. Поэтому они молча посапывали, наблюдая за всем, что творилось в автобусе.
Клавдия Степановна пожалела Тамару: как она там, бедненькая? От этой мысли избавила ее одна крикливая старушка, которой кто-то из мужчин наступил на ногу. Поднялся бедлам. Досталось бедному мужчине – не дай Господь. О себе он узнал много того, чего раньше, наверняка же, и не слышал. Клавдию Степановну эта сценка тронула больше, чем другие, а их за время стажировки было предостаточно, все и не вспомнишь. « В том же Душанбе женщины на мужчину таких помоев никогда не плеснут. Никогда. Стерпят. Там мужчина – хозяин. Везде: и дома, и на улице. Там он в почете. Неделю будет где-то бродить, как мартовский кот, и жена упрекнуть его не смеет. А когда гостей-мужчин приводит хозяин в свой дом, жена молча приготовит выпить и закусить, и сразу же исчезнет, более ее никто не увидит ... Это мы, славянки, сидим перед мужчинами, в рот им заглядываем, больно умными прикидываемся. Там – не так. А где лучше, где хуже – попробуй разберись в этой сложной, непростой жизни». Она припомнила того лохматого парня, который не пожелал плачивать за проезд, как на него шипели одни лишь женщины, и немного успокоила себя: «Хотя какие же у нас здесь мужчины? Может, они того и заслуживают?..»
Город разукрасили огни. Как-то незаметно подкрался вечер, меньше стало и пассажиров в автобусе, и Тамара, выкроив свободную минуту, подсаживалась время от времени к стажорке, рассказывала ей, как делать это, как – то... Клавдия Степановна кивала головой, благодарила.
– С первой получки с вас причитается,– не то чтобы серьезно, не то в шутку сказала Тамара и поспешила обилечивать очередного пассажира.
Клавдии Степановне захотелось почему-то побыстрее попасть домой, забраться в ванную и смыть всю тут грязь, которой, чувствовала, много налипло- пристало к ней сегодня на этой вот первой и , наверное, последней стажировке.
Надо было подумать, как жить дальше.
ДОРОГА
Домишко деда Макара на краю села. Стоит он на песчаном взгорке , неказист на вид, старый и уставший, как сам хозяин, и первый венец обнялся с землею – целуются. Два окна смотрят на улицу, остальные – три – следят, что делается на большом, несколько захламленном дворе, не упустят момента заглянуть и в садок, который, правду говоря, и садком назвать нельзя: в самом закутке огорода склонила на бок голову яблоня – единственное дерево осталось, да и то стоит, будто забытый людьми и Богом – вон через дорогу – телеграфный столб. На Макаровом огороде в войну разорвался снаряд, ударил ночью, а как только начало светать, хозяин повытаскивал из яблони осколки, сложил в кучку и прикопал потом в конце огорода, у самого плетня, а дерево залечил. Сколько лет оно уже умирает, даже цвета не бывает на редких зеленых сучках, можно было давно выкорчевать яблоню, однако Макару жалко: калека, натерпелась, страдалица, пускай живет помалу, пускай держится на земле, пока сама не упадет.
Сразу же за домом начинается кривая и ухабистая дорога. На глаза брать ее тяжело, ведь она ныряет с горки в лощинку, карабкается под гору, а потом и вовсе, после сотлевшего от времени мостика, врезается в кустистые деревья, и как она там бежит, как там живет, – Макару не ведомо: давно не выбирается он дальше своего жилья, но, говорят люди, будто председатель соседнего колхоза тот участок дороги, что на его территории, довел до ладу: подравнял, положил асфальт. «Вы, борчане, сами о себе заботьтесь».
Вот и получилось, что дорога всего в несколько километров разделена на две – ту, кривую и ухабистую, с глубокими колеями, колдобинами, и новую, где и наши шоферы, думает Макар, отводят душу.
Старик часто – лето ль на дворе, дождливая, холодная осень или снежная зима – приходит к дороге, стоит на обочине, опершись на клюку, вглядывается куда-то, и не знакомый с ним человек может даже подумать, что он кого-то поджидает. Если бы так. Детей у Макара нет – пережил и двух сыновей, и дочь. Михал погиб на войне, Иван, младший, хоть и вернулся с нее контуженный и без руки, но мог бы еще пожить, только не повезло ему: заболел тяжело, не спасли и врачи. Дочь Груня жила все время на Сахалине, в замужестве там была, там ее и могилка. Она прожила неполных семьдесят лет. И Макар считает, что могла б продержаться на этом свете и дольше, если бы не съехала, куда он даже телят не гонял пасти. Человеку там хорошо и счастливо, где его родное гнездо. В Борках, значит. Дома. А то сколько ж там у него здоровья, а надо, видите ли, еще и на тоску по Макару, по дому, по родственникам тратить, вот и не хватило Груни, чтобы дотянуть хотя б до материных годков – Макариха, веселунья Авгинья, умерла всего несколько лет назад, и старик остался совсем один. Как та яблоня в садочке... Где-то, правда, живут внуки и правнуки, но им до него ли, деда-прадеда?
Люди знают: Макар никого не ждет, это он от нечего делать выходит на дорогу, стоит, пока не занемеет тело, а потом тяжело возвращается во двор или сразу – прямым ходом – в избу, сидит на лавке, а то и приляжет на кровати. Но все это ненадолго. Не сидится. Не лежится... И тогда он опять идет на дорогу, опять вглядывается...
Не знали только люди-соседи, что дорога эта связывает старика последней нитью с жизнью. Для него она не проста земля, укатанная колесами грузовиков, с двумя канавами по сторонам, заросшими летом густой травой, а зимой заметенными снегом; со столбиком-указателем, в который малышня, при случае, не прочь покидать камушки – на точность, чтоб им... Жестяная вывеска вся, почитай, испоганена, живого места на ней не осталось, и слово «Борки» сможет прочесть сегодня только человек, который знает, что это Борки.
Подолгу стоит Макар на дороге. Бывает, ему кивнут из машины, поприветствуют. Кто-то приподнимет над головой кепку. Пройдет пешеход –тоже поздоровается, а то и задержит шаг, уважит старика словом-другим. Потеплеет тогда у него на душе. Многих он не узнает сперва, а потом все же спохватится: «Иди ты, а!» Увидит, определит в парне или девушке Макар Петраковых или Марьиных детей. Похожи. Немного от отца, а то и от деда или бабки взяли. Струя родовой крови бьет. Она крепка, эта струя!...
Когда Макар стоит один, никого не видать поблизости, тогда он разговаривает с дорогой, как живой с живым.
– Здравствуй, дорога. Это я, Макар. Узнала? Постарела и ты, постарела. Я же, радость моя, тебя давно помню... И ты меня... Ходил я по тебе и босиком, и в лаптях, и в сапогах кирзовых. Ага. Ну. На войну меня покликали... при царе еще ... давно-о... вот этим местечком шел - ближе к деревьям старался. Их нету сегодня, а тогда были. Высокие. Толстые. Помнишь? Ага. Ну. Назад с войны бежал. Бежа-а-ал. Какая-то сила толкала меня в спину, подгоняла. А в маленьком сундучке подарки нес Авгинье своей... и Груне, дочке. Думал, опоздаю, не успею. Гм, чудак я, а правда ж - было... И ты помогала мне, в пятки камушками метила: беги, солдат, беги, заскучала по тебе молодая жена... А потом я и в заработки ходил, на торфяники... Хватило лиха... всего хватило... Пила, пила ты мои слезы, дитятко. Немец напал, чтоб ему всю жизнь штаны наизнанку носить. А у меня же сыны были - богатыри. Жалко было мне их на смертушку посылать, а надо, надо... Кто ж меня, Авгинью, Груньку, всех борчан наших защитит? Провел я своих хлопцев с врагом биться, ты же помнишь, а потом почти каждый день к тебе не терпелось – весточки от них ждал, перехватывал почтальона, не верил ему, когда говорил, что ничего от Михаила и Ваньки нету, сам перетряхивал сумку... Не находил, нет, почтальон не врал. А когда был треугольник солдатский – значит, был.
Всех солдат, что с войны возвращались, я встретил. И сына своего. Вот на этом самом месте, где стою. Здесь встретил. Ага. Ну. Ваню. А Михаила – нет. И сейчас вот не идет. Столько времени прошло, а его нету... Что-то не идет. Не жди, говоришь? Нет, дитятко мое, нет... Буду ждать. Э-хе-хе! Нагляделась и ты на своем веку всего. Хватило и горя тебе, и почестей. Трактор первый сначала, а как же, по тебе прошел, а потом уже на поле подался... Все они... и трактора, и машины... много техники благодаря тебе, голуба, нашли наши Борки...
Слышишь, куры гвалт подняли? Проголодались. Не хозяин я стал... Кур только вот и держу подле себя. На кабанчика уже не хватает Макара. А так все в магазин да в магазин. И сахар там, и селедочку подвезут, и хлебушек – все, благодарить Бога, есть. Здоровья только нету. Да и так живу уже много... Очень много... Всех ровесников своих давно перегнал... Ну, так я пойду? Отпускаешь? Не скучай. Вот управлюсь, отдохну немножко, а тогда снова к тебе вернусь проведать. И тогда мы опять поговорим. И тогда нам с тобой веселее будет. Быстренько я. Ты жди меня, жди, дитятко...
Макар рассыпал по двору просо своей костлявой пригоршней, куры наперегонки кинулись к зернам, клевали, аж хохолки ходили, а когда нахватались зернышек, поутихли, молча и с ленцой расхаживали вокруг хозяина.
– Хватит, хватит,– шептал старик, высыпал из ковшика остатки проса обратно в маленькое ведерко.– И завтра день будет...
За околицей заревели машины. Макар насторожился, повернулся лицом в сторону дороги. Он только слышал – не видел: далековато были еще те, а глаза отглядели, можно сказать, свое. Поставил ведерко на стол, он был придвинут к стене избы, миновал калитку, притворил ее, чтобы держались двора хохлатки. Гул нарастал... Теперь старик мог уже видеть, что едва ли не на него накатываются машины. Много их. «Целая артель,– подумал Макар.–Куда это их столько?» Впереди колонны крутился юркий председательский «уазик» , он вдруг остановился рядом с Макаром, а из кабины вылез сам Жмайлик, не обращая внимания на Макара давал знаки рукой машинам, чтобы ехали дальше, не притормаживали, глядя на него, а когда убедился, что все идет так, как и надо, подошел к старику, поздоровался.
– Неужели в колхоз пополнение?– поинтересовался Макар.
Жмайлик с хитринкой в глазах улыбнулся, потрогал пальцами свои жиденькие усики, сказал, словно печать поставил:
– Дорогу, дед, будем делать!
– Дорогу?– переспросил старик, повел головою.–Так она же будто и есть... Или под соседей будем подстраиваться, а, председатель?
– Ну! А чем мы хуже?– у Жмайлика светилось лицо, он радовался, по всему было видать, что свое председательство в Борках начинает не с какой-либо там мелочи, а берет повыше, с перспективой. – И сделаем! Хватит машины ломать! Дед... извини, не знаю, как тебя звать-величать?
Макар назвался.
– Будем знакомы. Жмайлик Степан Петрович.
– Что Степаном тебя звать, я уже знаю. Такое у нас быстро передается... Ага. Ну.
– Тогда хорошо. Ближе к делу. Спешу, а то заедут не туда, куда надо. А дело такое, Макар. У тебя не могут дорожники угол найти? Жить им где-то же надо. Ну, что молчишь?
– Так это... один я, председатель, в избе. Авгиньи нет уже. Кто ж приготовит, накормит? Если только сам? Печь, правда, имеется...
– Накормим в столовке, Макар. Им крыша над головой нужна. Угол.
– Ну, коли так, то пусть идут.
– Спать есть где?
– Человека три приму,– тихо промолвил старик, а потом насторожился.–Только, председатель, подбери непьющих...
– За это не волнуйся. Вот и хорошо... Ты троих возьмешь, другой кто-то... Я пришлю их к тебе. Не отлучайся из дома. Как раз им тут удобно будет–дорога близко...
Жмайлик забрался в машину.
– Подожди-ка, председатель! – вскинул руку Макар. – Спросить хочу...
– Слушаю, дед,– высунул голову из кабины председатель.– Слушаю, слушаю...
Старик поначалу замялся, затем подошел поближе, посмотрел печальными глазами на Жмайлика, не решаясь говорить.
– Нет времени, Макар!– крикнул председатель.
– Асфальт – хорошо это.... Ага. Ну. Мы, борчане, также давно уже в лаптях не ходим. Правда. Ага. Ну. Ты, хоть и новый у нас человек, а на свои глаза видишь. Только боюсь я, что дорога вреда наделает...
– Вот как! – вскинул подбородок Жмайлик. – Что-то я тебя, извини, не понимаю?..
– Глянь на окна – через хату, считай , забиты досками крест-накрест. Не- кому в тех хатах жить. И оставшиеся, боюсь, убегут в город.
– А дорога здесь при чем?
– Как же... Отчего не бежать по асфальту? Только беги...
Жмайлик рассмеялся, притворил дверку, и , отъезжая, крикнул Макару:
– Поживем – увидим!
«Уазик» тронулся с места, выбрался на дорогу, а потом быстро помчался за колонной.
Парни у Макара жили веселые. Послушать их, так герои: где только не были и что ни делали. Сергей, который пообещал старику, хоть Макар на его слова и рукой махнул, не придал значения, выкопать прямо во дворе колодец, перед крыльцом, своим тем загребущим ковшом, чтобы не ходить ему далеко за водой, на язык был легкий и все разносил в пух и прах прежнего председателя:
– Его давно надо было б турнуть! За кого вы, дед, на собраниях руки поднимали? Хоть ты и не виноват... Ну! Что он у вас после себя оставил? Окна забитые? Так это я вижу. А еще? Даже дорогу не мог сделать! Лентяй! Нет, вы подумайте только: сам же чаще, чем другие,гонял по ней, а ленился. Так у него что, и в самом деле семья в городе так и жила?
Макар кивнул.
– Куда в районе смотрели? – Сергей весь был в движении, выдавливал сапогами тонкий скрип из половых досок. – Давно б ему по шапке угрели! Сони! Поздно глаза протерли... Соседи вон уборные в домах имеют! А теперь вот Жмайлика возьми. Зеленый, я здесь не возражаю, но пронырливый, холера! Дальновидный! Не успел стол обжить в кабинете, а уже за дорогу взялся. Хозяин, одним словом!.. Такого б раньше, так у вас здесь детский сад надо было б строить. Он у вас здесь всех выпивох прижмет. Будь уверен. Нас тоже, для полной ясности сказано пусть будет, предупредил: «Парни, смотрите у меня: если во время работы который стопку ухватит – на себя жалуйтесь». Во!..
Макар слушал Сергея внимательно, крутил головой – соглашался. Хоть и новый человек в деревне, этот Сергей, а много знает, правду говорит.
– Значит, будет городская дорога? – поднимал глаза на экскаваторщика старик.
– Будет, дед! В этом году. Мы воду в ступе не толчем! Нам тоже кормить детей надо!
– Помолодеет, значит, она... Что ж, ей жить еще долго... Ей жить... – кивал белой, как иней, головой Макар.
Старик обычно провожал квартиранта до калитки, иногда потихоньку плелся следом за ним, молча наблюдал, как экскаватор засыпает канавы желтым песком, который возят, едва успевая, откуда-то издалека самосвалы, как бульдозер равняет дорогу, слышал писклявый, будто птичий крик, скрежет железа о камни. Камни блестели на солнце оскобленными белыми пятнами, и казалось ему, что дорога сопротивляется людям, показывает зубы. «А все же жалко тебя, дитятко, – шептал Макар, – хоть и украшают тебя, наряжают в новую рубаху. Я к такой привык, какая ты есть. Только пусть уж будет и так, как хочет председатель... Как делают парни. Узнаешь меня, одетая в асфальт, а? Должна, должна узнать...»
Парни слов на ветер не бросили – вот она, дорога!
Блестит на солнце асфальт. Макар стоит на своем привычном месте, вглядывается вдаль. Старик узнает председательский «уазик», мчит он по широкой полоске дороги, а на подъезде к Макару замедляет бег, слегка визжит тормозами, останавливается:
– Чья правда, Макар! Не убегают люди – назад возвращаются. Видишь, везу! И отчего не возвращаться, когда такую дорогу отгрохали!..
Председатель, не скрывая радости, едет дальше, а Макар стоит напротив дома на своей дороге. Ошибся он. Первый раз за многие годы. И был весьма счастлив, что ошибся...
Он стоял на дороге и тихо говорил:
– Ну, и как тебе живется теперь, дитятко, в новой одежде? Не давит она? Нет, говоришь. Вот и хорошо. Живи. Ага. Ну. Тебе долго на этом свете пребывать... Мне б только глянуть, кто будет ездить и ходить по тебе... Видать, не гляну... Спасибо Богу, и так прожил много... Еще с того века дышу... А ты будь... Все время будь... Пускай по тебе только хорошая, легкая нога ходит и наши машины ездят... Пойду... А ты – будь... Здоровья желаю тебе... счастья земного ... На все века...
... Над Макаром и дорогой висит теплое, вечное солнце.
ПРАЗДНИК
Весть о том, что Искань пополнилась еще одним жителем, да не абы-каким – три килограмма семьсот граммов! – разлетелась по деревне с такой скоростью, что и представить трудно: ведь только уехал в Искань дед Макар, только шепнул какой-то там Егорихе: «Сын у Дуни...», а на вопрос «У какой Дуни?» даже не успел ответить – не останавливать же коня, когда тот ходко, задрав голову, копытит пыльный проселок... Егориха, похоже, мгновенно припомнила, сколько Дунь в деревне. По ее прикидкам, только одна Дуня, Хустина, могла родить. Неужто ж Шарипова? Нет, что вы! У нее уже внуки – женихи. Нет-нет... Да и от кого же ей родить-то, если мужик, Хведос, давным-давно заговел – квёлый был человек, хворовитый... И годков Шариповой слава богу... Остается одна Дуня – Хустина. Но от кого же и она могла родить? Егориха опять перебрала всех мужиков, кто бы мог польститься на перестарку, приладить ей, если верить Макару, дитя. И как ни изощрялась в догадках старуха, точного попадания не получалось. Да и как угадать, если Дуня сама ходит в штанах и с мужиками наравне держится – то щелчок влепит кому из них, то за ухо крутнет, а то и рубль в складчину бросит. Не повезло с замужеством девке... Однако ж трудно было поверить Егорихе, что она, Дуня, может родить. Трудно поверить. Ладно б другая, та же Шарипиха, только не Хустина: Егориха ничего не видела в ней женского – ни на теле, ни в голове. «Ой, люди! Да что ж это получается? Дуня родила дитя! Дуня-я! Все равно, если б сказали, что Хведор мой...»
И покатилась новость. Макар у конюшни не успел хомут снять с коня, а уже спрашивают: «Дак правда ето, Макар, что Дуня мальца в капусте нашла?»
Смык интересуется – он живет на другом конце Искани, на Кривой Березе, а, вишь, и до него уже докатилось.– Народила. Почему ж не может, коли она баба, коли на то Богом отписано...
–Бытто и так. А все ж мне сдается, что у нее грудей нема, не-а. Чем станет малого кормить?
Макару такой поворот в разговоре не нравится, он на стороне Дуни:
– Козу купит.
Смык морщится:
–Может... Только что коза? Коза и есть коза. Коровенку пускай просит в колхозе. Сама молока на хверме насосется, а сыну во рту не принесет.
С конюшни Макар возвращался под вечер. Солнце зависло над Журавич-ским большаком, большое, багряное. Старик вернулся в мыслях к Дуне, по-чему-то представил ее в лучах заходящего солнца. Будто сидит соседка на крылечке, усталая, а глаза грустные и счастливые. У нее за спиной – дверь в родильный дом. Малыш спит где-то там, в палате, а ей, матери, захотелось побыть одной и, может, за долгие годы своей нелегкой жизни поверить, на-конец, в то, что она, Дуня Хустина, тоже теперь полноправная мать. И пускай только кто цыкнет теперь на нее! Макар заступится. «Теперь ты, девка, будешь и дитятко свое кормить, и ждать, когда оно первое слово на свет выпустит, и заступаться будешь, когда ему нос на улице поцарапают... Все будешь. А там и в армию проводим твоего парня. Растут дети, как грибы. Особенно чужие. Ты, говоришь, одна? А ничего! Люди ж – они разные бывают. Разные... Одни порадуются, от всей души порадуются, а кто и позавидует твоему счастью...»
Макар мерил шагами деревенскую улицу, широкую и тихую, и внимательно глядел под ноги, будто рулил на велосипеде и опасался, что может влететь передним колесом в ямку или колдобину.
Дуня уже, наверное, надышалась свежим воздухом на крылечке, поднялась, поглядела в ту сторону, где бежит, петляет меж полей дорога в Искань, вздохнула и направилась в палату. Старик даже приказал ей: «Иди, девка, иди. Малого одного кинула... Может, плачет там? Кто ж досмотрит за ним, как не родная матка...»
И когда поднял Макар голову от земли – в глазах сделалось серо и пасмурно, заметил, как выходили навстречу женщины, видать, давно поджидали. Стоят, будто в праздник: руки на груди, глаза, как одна, вперили в него.
–Дык правда ето?..
–Правда, правда!
–А не врешь?
–Вру, вру!
–Она ж вроде и не тяжелая ходила?..
Макар замедлил шаг, его проворно обступили бабы, насели с гагаканьем, будто гуси на выгоне.
–Как бывает и что, не мне вам, бабы, рассказывать,– серьезно начал старик.– Сами должны знать. От. Но подтвердить обязан: когда доктор самолично передавал мне коня, то сказал: «Отважная ваша Дуня, дед. Сама на повозку – и в роддом. Где б ето видано? Неужто в деревне вашей людей не нашлось, машины, а, дед? Еще б маленько и получилось бы... ой-ёй-ёй!» А вы, бабы, куда глядели? Куда, ето у вас я, Макар, спрашиваю? Ну а ежели б в дороге началось? Вы только о себе думаете! Сами вона по куче понаплодили, а ей и в одном не смогли помочь... Чтоб по-людски, значит...
Макар оставил бабам свой недовольный взгляд, повернулся и ровно, словно поплыл, зашагал улицей – к дому.
Бабы какое-то время пребывали под впечатлением обличительной речи Макара, потом переглянулись, вновь зашумели:
–Ну, и кто ей, Дуне, виноват?
–И правда! Зачем же таиться было?
–А может, правильно делала, бабы: могли б вы своими разговорами, ежели б дознались, что она тяжелая, сглазить... О-ох, ваши язычки!
–Типун тебе на язык, Клава! Тьфу на тебя!..
–И ето ж надо, ай-яй-яй! До последнего на ферму ходила, молодняк за ней был закреплен, так она фуфайки не снимала... Где ты там углядишь – дитё она ждет или што...
–Трудное у нее счастье, бабы...
«Дурень старый! Ну разве не дурень? – думал Макар на ходу.– Нашел, чем баб укорять? И за каким, спрашивается, чертом меня вынесло на них? Отчего было Дуне самой не признаться? И кто ето будет приглядываться к тебе, Дуня, если в голове у тебя мякина? Э-э, хоть и прожила ты, девка, немало, а ума не много припасла. Был бы я твоим отцом, ей-богу, высек бы – вот тебе через ноги, раз недостает в голове. У нас, сколько их ни перебери, ежели надумает которая рожать, то год дома сидит, мужик перед ней на цыпочках ходит, а потом еще за месяц до схваток в роддоме лежит. А ты?..»
Жила Дуня одна. Родители ее – Платон с Платонихой – давно сошли с этого света, тихо, незаметно. Были – и нет... Деревня, может, и не заметила, что поубавилась еще на два человека. Старые люди – они и есть старые: доживают деньки, голоса дальше двора не подают. Поэтому, когда их не станет по закруглении века человеческого, найдется еще и такой, кто удивленно поморгает: «А что, я ж их вроде недавно видел еще?..» Проводят в последний путь, быстро забудут. Обволокут людей, как тиной, другие заботы, они, эти заботы, и мысли их причешут в нужную сторону. Чужие люди. Свои же – помнят, и помнят долго, вечно.
Не раз и не два вспомнила старых, беспомощных родителей и Дуня, та-ких, какими остались в памяти в последние дни своей жизни. Стояли Платон с Платонихой перед глазами, с ними и разговаривала Дуня, советовалась: «Одна я, таточка и мамочка, теперь, одна... И в хатке моей сумно, холодно, тепла не хватает... Как мне дальше жить, а?» Если б кто из деревенских мог услышать эти слова, подивился бы: неужто она, Дуня, может быть такой несчастной, со слезами на глазах? И не поверил бы, потому что каждый знал ее иной – подвижной, неунывающей, слегка грубоватой, по-мужски цепкой в работе и как будто счастливой... Хотя откуда было взяться тому счастью? Непросто, нелегко было заглянуть в душу этой некрасивой с лица молодицы. Высокая, всегда с натруженными руками – вот и вся Дуня. Внешне. Что там, глубже, – загадка, полная таинственность, и заглянуть туда пока никому не удавалось. А с годами и вовсе утратили на это надежду деревенские, потому что она, Дуня, чем дольше жила, тем молчаливее становилась, а женщин вовсе перестала замечать – как и не было вообще их в деревне. Позднее в Искани даже опасаться стали: пропадет девка, пропадет, люди добрые. Когда ни увидишь ее – среди мужчин отирается. Выпивать начала. Может, потому, что перестала верить в свое бабье счастье... А мужчины – те и рады: «Давай, Дуня, рубль » – «Нате...» Ну что ты им скажешь? Бессовестные, одно слово... Если ж по работе брать, то она любого из них могла обставить. Даже конь за ней закреплен в постоянное пользование, в сарае ночует, но куда это годится, чтоб женщина так вросла в мужскую компанию. Да ни в какие ворота! Нет, к своим ее не ревновали деревенские молодицы. Так уже получилось, что все были уверены: она для такого дела, как затащить на вечер или просто днем Ивана или там Петра к себе в постель, не рождена. Были уверены... Да ошибались бабы.
Нет, не одна осталась на белом свете Дуня. Младшая Ульяна съехала после школы куда-то на Север, и бывала она у сестры все реже, а потом и совсем забыла дорогу в родительский дом, отчего Дуне перед людьми было неловко и стыдно. Писала ей: «Пускай бы хоть ты, девка, иногда наведалась, посидели б, про жизнь поговорили? С кем же мне еще поговорить, по-советоваться?» А Ульяна не ехала...
В последний раз она наведалась в деревню, когда выходила замуж. Тогда женщины и приметили – тоже в последний раз – слезы на глазах у Дуни. Свадьбу Ульяна – стежка к отцовской усадьбе еще не казалась ей длинной, пахла родным крупнозернистым песком и ромашковыми лепестками – надумала справлять дома, на своих людях. А может, решила показать деревенским нареченного? Парень был видный, красивый, где б в своей деревне она такого отхватила, а там, на Севере, выпало девке счастье. Да как бы там ни было, а все заботы со свадьбой легли на плечи Дуни. Она и рада стараться! Подавала па стол закуски – сама даже на минуту не подсела к гостям! – и без умолку говорила:
– Ешьте, ешьте на здоровьечко... А я еще поднесу. Еще подам. Нехай Ульянке моей живется хорошо, нехай любится...
Вот тогда и видели люди на ее глазах слезы, и жалели ее, Дуню. А она не стыдилась слез, только смахивала их раз за разом носовым платком, выхватывая его из рукава цветастой блузы – подарка сестры, привезенного издалека, таких тут и не увидишь, – и плакала, плакала. Сдается, тогда, на свадьбе сестры, и выплакала все слезы...
Не скажешь, чтобы и ей не попадались женихи. Сватались. Но это уже позже, когда кавалеры эти успели пожить со своими бывшими женами, кто с одной, кто с двумя, поэтому она не очень чтоб вешалась им на шею. Скоренько выпроваживала за дверь – что первого, что второго, далеко за порог не пуская. Если не выпало счастье, то и с такими охотниками его не наживешь.
И вот – Дуня родила ребенка... От кого? В деревне эта новость подняла всех – от малого до старого – на ноги. Но разве ж грех одинокой женщине заиметь ребенка – пусть бы он наполнил одноголосую хату своим щебетом, смехом, плачем, пусть бы льнул к ней, шептал на ушко нежно и ласково: «Мама... мама...» Не все женщины – тут Макар не ошибся – порадовались услышанной новости, некоторые с ходу начали, правда, не показывая вида, чтобы тем самым не выдать себя, ревновать Дуню к своим мужьям.
Этого, по правде говоря, и следовало ждать...
На следующее утро в сторону местечка направились, держа в руках узелки с гостинцами, две бабули – Макариха и Матруна; последняя, как выяснилось, доводилась дальней родней Дуне по отцовской линии. Макар проводил женщин за деревню, постоял, глядя им вслед с большака. Убедившись, что все идет как надо, повернул назад. Куда ж податься? Дома все досмотрено, прибрано. Тоскливо одному в хате. Да и не время теперь сидеть на печке. Дни бегут, не успеешь оглянуться, как надо будет опять ехать в роддом... А как же люди? Что они думают?.. «Забирать, конечно, поеду сам, – рассуждал старик. – Никаких машин. Раз туда поехала па коне, то и домой доставлю тем же порядком. Василек и без пуги побежит, потому что конь хоть и животина, но разумное существо: затосковал, наверно, по Дуне. А что, хозяйка она заботливая. Без сена, чтоб коня подкормить, никуда не поедет. Ну, а дальше...– Старик представлял, как он привезет Дуню, возьмет у нее из рук дитенка, чтобы первому войти с ним в хату, если, конечно, бабы не перехватят. И все? Нет, не дело, чтобы на этом все и кончилось. Нужно ладить крестины. Может, шум поднимать и не стоит, лучше тихонько собрать людей, посоветоваться: «Пускай Дунина радость станет радостью для всех. Люди должны понять... Не все, известно, но найдутся, кто и поймет. И крестины малому справим на все сто!»
Первая поддержала Макара Егориха:
–Светлая голова у тебя, Макарка, ой и светлая! Добрый ты человек. Его ж правильно, ето ж так вумненько придумал! И я в сторонке не остануся. Прибегу, прибегу. И готовить помогу, и бутылку винца прихвачу. Только где ж мы будем управляться – у Дуни?
– А где же еще? 3намо, у нее. Моя еще утром отправилась с Матруной в родильню, должна принесть ключ. Кому-то ж нужно похозяйничать, пока она там. Ты вот что, Егориха, давай: накажи бабам, кто хочет принять участие в родинах, нехай сбегаются. И мужикам то же самое. Только пьяниц обминай, не нужно их, а то всю компанию испортят. Ясно?
– Ясненько, голубок. Ясненько.
– Спасибо тебе, Егориха.
– За что ж спасибовать, Макарка? Такое дело, такое дело... Дуня ж народила, а не кто другой. Нужно, тут всем нужно...
Макар – хитер! Была ему нужда ходить по всей деревне, про крестины разговоры заводить? Скажи одной Егорихе – и все станет ясно-понятно каждому. А там уж сами пускай решают. Силком тут не заставишь. Но он был убежден, что найдутся люди, которые его поддержат, непременно поддержат, и тогда оживет, загомонит Дунина хата, далеко будут слышны гармонь, песни, топот-грукот.
Забирать Дуню Макар поехал в воскресенье. «Аккурат родины справлять». Денек выдался на славу: солнечно, тепло, тихо. Василек будто знал, ради чего тащит по песку повозку и деда на ней, рысцой бежал. Подустанет – замедлит бег, отдышится и дальше поспешает. Обратно тоже не надо было нокать и показывать кнут – копытил легко, с настроением.
–Тыр-р-р! – Макар натянул вожжи, хотя конь и сам бы остановился во дворе, куда доставил нового жителя Искани.– Тыр-р-р! Стой, Василь.
Макар нарочно говорил громко и тыркал умышленно, чтобы женщины, которые парили-жарили в хате, услышали и выбежали встречать Дуню с ди- тем. Не просчитался. Призыв его был услышан, и бабы уже спешили на- встречу, но подходили несмело, вытирая руки о фартуки, а когда Матруна первая поцеловала молодую мать, то и остальные за ней – чмок да чмок в щеку, Дуня аж растерялась, а Макар, бережно прижимая к груди дитя, сбоку нашептывал ей: «Ну, чего ж ты? Не стесняйся. Наклонися, девка, а то тетка Ганна не дотянется».
Макар так и вошел с малым в хату, покачал, убаюкал и осторожненько положил драгоценную ношу на кровать, отступил в сторонку, с улыбкой кивнул: ишь, угомонился. Ну-ну. А когда дитя спит, то и пусть. У него те-перь одна забота – спать. Нехай спит... Не мешайте. За спиной старика стояли женщины, тоже глядели во все глаза на белый сверток, из которого выглядывало розовое беззаботное личико.
–Вот и все, бабы. Вот мы и приехали,– вымолвил Макар.– А ты, Дуня, отдохни. Тебе не помешает. Сегодня твой день. Мы тут как-нибудь сами. Чуешь?
–Не нужно было етого, люди, – развела руками Дуня.– Ой, и бутылки вон стоят! Да сколько ж всего! Вы что это, соседи? Нет-нет, что вы! Разве ж у меня денег нет? Разве ж я б сама не купила?
–Ты вот что, молодица.– Макар взял Дуню под руку, повел в другую комнату.– Ты вот что... Отдохни пока тут. Ну? Накупляешься еще и ты. Когда в армию будем провожать твоего парня или женить. Чуешь?
–Чую, дед, чую...– Дуня опустилась на краешек дивана, и на ее гла зах заблестели слезы, а потом покатились, покатились по щекам, по губам, солью отложились на языке. Бабы – двери ж настежь в другую комнату – видели, как плакала Дуня... Они молча переглянулись, кивнули одна другой, что примерно могло означать: «Вот так, бабы, вот так...» – и опять за работу, которую никто, кроме них, не мог закончить. Через минуту-другую к ним вышел Макар, шепнул:
–Доглядите за мальцом. Я пойду мужиков созывать. Будем столы ставить да начинать. А то что-то невесело в хате. Сумно...
Смыка никто не приглашал. Сам притащился в разгар застолья, долго царапался в дверь – в хате сперва подумали, что дети чьи-то забрели. Его-риха кинулась открывать, а вместо детей на пороге вырос Смык. В поклоне свесил на грудь голову, долго держал ее так, словно ждал, когда заиграет музыка и тогда он притопнет по половице, пустится в пляс. Для того, похо-же, и руку с кепкой отвел в сторону. Смык стоял в таком положении и стоял, наконец, выпрямился, показал глазами на стол:
–Крестины у вас, что ли? То-то я иду мимо и слышу голоса. Дай, ду маю, загляну. Можно?
Женщины были уже в подпитии – по рюмке взяли, а много ли им надо, поэтому встретили Смыка так, словно бы давно ждали его и если бы тот не заглянул, то что это было бы за торжество...
–Проходи, Смычок, проходи, родненький,– первая подбежала к нему Егориха. Она подавала-относила, поэтому сидела с краю, хотя какое там
«сидела», если хочешь, чтоб на столе не пустовала посуда.
–Смык, ну у тебя и нос – за километр чует!
–Проходи, садись,– потеснил женщин Макар.
–Дай, думаю, загляну,– устраивался на краю лавки гость.
–И не прогадал. Молодчина. Вот что значит нос на ветру держать!
–Ну, будет, будет вам, бабы,– буркнул Макар, потянулся к бутылке, забулькал в граненый стакан, кивнул Смыку: – Тебя ждет. За мальца... За Дуниного...
–Ах да-а! – Смык поставил стакан, из которого уже пригубил, вспомнил, что чешет напрямик, а надо бы свернуть в сторонку, поздравить, как и водится, виновницу веселья, поэтому поднялся, протянул через весь стол обшарпанную руку, крепко пожал ее ладонь.–Позволь, Евдокия, с мальцом тебя... Нехай здоровый растет, послушный, и все такое...
–Ты на нас не ровняйся, – послышался голос Егорихи.– Опоздал?
Опоздал. Штрафную тебе налили...
«Кому б плохо было, если б и вовсе не пришел?» – подумал, наверное, Смык, но для людей нашел другие слова:
–Штрафную так штрафную. Ну, за мальца твоего, Дуня.
Дуня молча кивнула, и все наблюдали теперь за Смыком. Сделалось так тихо, что было слышно, как в горле у Смыка булькало вино. Три раза: юк-юк-юк!
–Закусывай, закусывай. Смычок.
–Дай, думаю, загляну.– Настрой у Смыка постепенно подымался, заблестели глаза, словно вино зажгло в них крохотные лампочки, и он спер ва потянулся вилкой к ломтику сала, но передумал и вместо него подцепил на соседней тарелке дольку огурца, кивнул Дуне.– Это ж ты порадовала меня, Евдокия... Молодчина. Что значит – решиться. Смелость... Тут, брат, стратегия и тактика.
–Закусывай, закусывай.– Смыку не дать разговориться – самое главное, а то он заодно и глупостей столько наворотит, сколько от всего села за год не услышишь, поэтому Егориха взяла его под свою опеку, показывала, что брать, чем закусывать,– после первой чарки важно закусить, а не занюхать, особенно ему, Смыку.– Сало цепляй. Или мясо хотя... Наверх – огурчик малосольный.
– Ем, ем, кума. Все я ем. Дай, думаю...
– Ты вот что, Смык, – положил ему руку на плечо Макар, и тот тотчас умолк, перестал и жевать, повернулся к старику.– Пока мы тут гуляем, то и решим давай: кто, как не мы, мужчины, обязаны помочь Дуне?
–Ясно, мы. Ну.
–То-то! Теперь у нее хвост. Понимаешь? Дитя. Догляд и все такое, а девке надо и сотки скосить, и дрова привезть...
–Сделаем, дед, ты не сумлевайся! Все сделаем!
–Правильно. Хто, как не мы. Бабы, а вы чего головы поопускали? Песню затяните, что ли... В самый раз. Давайте песню! А может, еще по грамму да тогда?
–Давай еще по грамму,– выдохнул прямо в лицо старику Смык, загорелся.– А тогда можно не то что спеть – хоть и гопака врезать!
Но женщины уже затянули:
Послухайте, девки, где голубка гудёт, Там молодая Дуня девичество сдает:– Нате вам, девчата, девичество мое...
Макар тоже подключился, и хотя голоса не имел, как мог, так и подтягивал:
Я пойду подсяду к женскому ряду, К женскому ряду – все будет до ладу.Он пел, а заодно наполнил стакан Смыку, и тот, крякнув, молча выпил. Сидел, слушал. Петь Смык не мастак, но послушать – охотник. Задумчиво, серьезно слушает. Может, песня его и растрогала, раз так наморщил лицо Смык – вот-вот, кажется, брызнут из глаз слезы. Песня неожиданно опадает, новую женщины не заводят, и Смык пытается завладеть общим вниманием:
–Душу раздирает песня. На лоскуты. Дай, думаю, загляну... От и добре, от и посижу в хорошей компании.– Язык у него потяжелел, лампочки в глазах начали помаленьку гаснуть.– Ето ж, Евдокия, ты моя ровесница. Или нет?
–Я твоя ровесница! – громко отозвалась Егориха, и женщины рассмеялись.
–На случай войны ежели только,– постарался улыбнуться Смык.– Хех, ровесница. Я серьезно. Я у Евдокии спрашиваю: ровесница, а, Евдокия?
–А то забыл! – Дуня наконец почувствовала, что она не где-нибудь в гостях, а у себя дома, подняла глаза на Смыка.– Мы ж в школу разом бегали. Ты еще записочки писал на колене милиционеру, на Карликовой горке, когда тебя обижали. Что, скажешь, не было такого?
–Ето я вас догнал или вы меня?
–Тебя все догоняли.
–Ага. Ну. Все. Ловкие были, холера, вы... А я буксовал. Буксовал я.
Кондратьевна на лето работу даст, а я в колхоз иду, а не в школу. Алфавит из головы за лето вылетит до буковки, и тогда бытто снова в первый класс
ступаешь. И так вкруговую.
Смык поглядел на Макара, на женщин. Те отчего-то опять загрустили, носы повесили, только он пялился на них осоловелыми глазами и не мог до конца уразуметь, какие у них лица – веселые или нет, а поскольку не было слышно ихних голосов, распорядился:
–Подвесели их, Макар, а то сидят, как на поминках.
–Чегой-то мы на поминках, Смык? – забирая воздух открытым ртом, с придыханием вымолвила Егориха.– Вот посидим маленько да музыку заведем. Мишка, инструмент с тобой?
Мишка-гармонист – человек не молодой и не старый, сколько и помнят его деревенские, всегда он с гармонью на коленях: какая б гулянка в Искани ни затевалась, там и он, этот штатный деревенский музыкант. Мишка зашился в угол, сидит тихонько, о чем-то думает. Не окликни его Егориха, так и уснул бы в тепле. Он часто моргает круглыми васильковыми глазками, отвечает:
–Тут, на диване. А что, растянуть меха? Пора?
–Давайте, бабоньки, вспомним молодость,– говорит Матруна, оки дывает подруг задорным взглядом.
–Родины дак родины! – вскинул брови Макар и начал выбираться из-за стола, но его попридержал Смык.
–Погоди-ка, дед,–дернул за подол рубашки.–Не торопись. Пускай бабы разгон возьмут, тогда и мы заявимся. Дай, думаю, загляну...
–Чего ты хотел?
–Пускай бабы разгон возьмут...
Женщины, и правда, вскоре пустились в пляс в соседней комнате, не умолкала там гармонь, и только тогда Смык подлез к старику, обхватил его за голову руками, как щипцами, притулил к себе. Макар не упирался: чего только не придумает этот Смык, Бог с ним.
–Ну, слухаю, слухаю...
–Дед, что слухать... У меня нутро разболелось, как узнал, что Дуня, ето самое, родила... Будто что-то оборвалось там,– ткнул себя в грудь.– А я тебе секрет открою... Хочешь? Нет, ты хочешь?
– Ну. Открывай.
–Что «ну»! Э-э, ничего ты не понимаешь. Я ж ее любил, ага, любил. Вот,– и на глазах у Смыка старик увидел слезы.– То-то... Один раз даже из клуба провожал... Летом... Еще и целоваться полез, так она мне по гла зу – хрясь! С размаху. А за что? За что, дед? Матка спрашивает: кто ето тебе, сынок, печать под глазом поставил? Дуня, отвечаю. Какая Дуня? – спрашивает. Когда сказал, что Хустина, она едва оземь не грохнулась: тебе что, девок мало? И в слезы. Вот. Э-э, много чего ты, дед, не знаешь. А она, Дуня, и на тебе... Мальца. А моя ж Нина одних девок гонит, одну за другой. Когда уже тот сын появится – и сам не знаю. Все обещает: будет, будет сын. А где он, я у тебя спрашиваю, дед?
–Ваше дело. Откуда ж мне знать? Будет, раз говорит Нинка,– пожи мал плечами старик, не совсем понимая, чего от него добивается Смык.
–Пора прикрывать... Пора... А что, я так скоро без штанов останусь, в одних трусах буду на народ показываться. Э-э, дед!..
–Сколько ж ето их у тебя?
–Пять...
–Нехай здоровые растут. Пригожие девки у тебя, Смык. Разгребут хлопцы.
–А про хвамилию подумал, дед? Про род наш? Разве они продолжат? Дудки. А Дуня – на тебе... Мальца... Ы-ы... Вот. Я б с ней, с Дуней, мил лионером сделался. Так нет же, по морде – хрясь! Ага. Вот так.– Смык отвел в сторону руку, долго прицеливался, а затем хлестнул себя по лицу.– А матка: кто тебя так, сынок? И в слезы... Утоплюсь, говорит, ежели с Хусти ной важдаться будешь... А ты мне, старый, сказки рассказываешь... Я ж лю бил ее... И теперь – ух! – душа болит, в кулак сжимается,– Смык пока зал Макару кулак, с короткого взмаха приложился к краю стола, аж посу да подскочила.
–Тише, тише... Пойдем-ка лучше к бабам, тоже спляшем. А?
Смык вперил взгляд в дверь, которая вела в другую комнату, однако идти туда не решался, не отпускал от себя и старика – придерживал того за рубашку.
–Э-ге... А ты подумал, подумал, дед, откуда у Дуни хлопец?
–Ее дело, только ее.–Макар, наверное, и сам только теперь вспом нил, что где-то ж и правда ходит по земле тот человек, что-то ж делает он в эти минуты, когда правят родины без него добрые люди. А может, он вовсе не знает, что родила Дуня от него сына, что осчастливил он эту жен щину. Может, и не знает...
–Не дури, дед. Дело не только ее, но и мое...
–Не лезь, куда тебя не просят.
–Не лезть? – Смык завис над столом, что-то бормоча себе под нос, затем обернулся к Макару: – Нет, я полезу. Я полезу! Батька должен быть тут! – ткнул он пальцем в тарелку с винегретом.– Я привезу его. Хочешь?
–Не делай глупостей. Не делай, – насторожился Макар.
–Привезу, дед! Прямо сейчас. Где там конь? На дворе?
Теперь уже Макар держал Смыка, вцепившись в его пиджачок, но тот не обращал внимания на Макаровы просьбы-уговоры, лез к двери напролом, словно кто его укусил, орал:
–Его место тут! Я знаю, кто ето! Пусти-и! – и выскользнул из Ма каровых объятий, устремился на подворье.
Старик не отставал:
–Коня не трожь! Замордуешь коня. Не дам!
–На черта сдался мне твой Базыль! Найду коня, дед...
И он, миновав дворище, исчез за углом пуньки, которая упиралась обшарпанным боком в улицу.
–Черт, а не Смык! – плюнул Макар и повернул в хату, из окон кото рой вырывалась музыка, доносился топот.
Старик не удержался, покачал головой и тоже пустился в пляс. Усердно сыпал дробь ногами, но не забывал и за Дуней насматривать. Она сидела на диване с маленьким. «Счастливая,– подумал Макар.– И расцвела, видели вы ее, как вишня. Вся аж светится. Сияет. Да и лицом, не иначе, сделалась пригожее? Конечно, попригожела. Не такая и худая... А то все с жердью сравнивали, сукины дети. Нехай теперь мне кто скажет! Голову откручу»,– храбрился сам перед собой старик.
Дуня качала дитя, улыбалась, а женщины – кто в паре, кто сами по себе – кружились под Мишкину гармонь. Кружились не спеша – не успевали за музыкантом, а Мишка наяривал, как всегда, быстро, до конца растягивая меха, почти положив на них лысоватую голову, широко раскрывши рот – в нем пошевеливался язык, словно тоже отбивал танец в такт гармони.
Мишка, распалившись, играл, как играл бы для зеленой молодежи.
–Гуляйте, соседи, гуляйте...– дрожали губы у Дуни, и она покачивала малыша, который давно спал...
Незаметно поразбредались женщины к своим подворьям, лежала наготове, застегнутая на пуговку, гармонь, занимая табуретку, на которой оттиснулся ободок от ведра с водой. Поутихло в хате. Макар с Мишкой решили взять напоследок еще по чарке, и вот тогда заявился Смык. Он бесцеремонно подсел к ним, выругался, и, когда опрокидывал стакан, высоко задрав голову, мужчины увидели у него под глазом огромный синяк. Смык закусывал, уставив глаза в стол, и молчал, лишь сердито посапывал. А потом покачал головой, словно выговаривая себе:
– Ну, и чего ты добился, Смык?
ТРАНЖИРА
Человек он был, можно сказать, трезвый, а вот показывал себя всегда словно пьяный. Характер у него, что ли, несерьезный, чудаковатый. А потому роль беззаботного и веселого дачника Тихончик исполнял без натяжки и напряжения, все у него шло как бы само собой. Вот и в тот день он устроил в Бережках небольшой спектакль. Автором и исполнителем главной роли был он сам...
Тихончик сказал себе: «Зачем мне эти два радиоприемника? И одного хватит – гродненского «Вереса». Спасибо друзьям – подарили, когда уходил на пенсию. А этот старенький, еще вполне исправный «Меридиан» отдам людям: пусть пользуются на здоровье».
Он протер «Меридиан» тряпочкой, полюбовался им еще раз и, убедившись, что приемник работает, натянул на лысину кепку, вышел на крыльцо. Вдохнул свежий воздух, окинул взглядом дворик. Солнечно, тихо. После городской суеты он, Тихончик, отдыхал здесь душой и телом. Не раз благодарил своего старого знакомого Даниловича, который надоумил обзавестись на старости лет избой в деревне. Согласился. И не жалеет. И в самом деле: не лучше ли вместо строительства халупы купить готовое жилье где-нибудь в деревеньке. С пристройками. С садиком и с сотками. Опять же – приятно быть среди людей, которые постоянно живут на земле и крепко держатся за нее. А это тоже много значит. Для Тихончика. И прежде всего потому, что не чужой он здесь...
–Пойду-ка я к Кольке, пастуху, – вспомнил он своего знакомого, бывшего городского жителя, пузатого и доброго выпивоху.– Ему приемник в самый раз. Пусть раскошелится на батарейки, будет пасти коров и слушать радио. Еще спасибо скажет.
Х-ха! Колька! В свое время он работал на заводе стройматериалов. Выгнали. Послонялся по другим предприятиям – тоже никакого толку: где будут терпеть тебя, сегодня таких, кто пристрастен к ней, горькой, держать долго не станут. Не то время. А есть – хочется. Вот тогда пенсионер Данилович, у которого уже была в Бережках хата, подсказал Кольке: за четыреста рублей продается домик 1924 года рождения. Действительно, не врал. Люди построили все хаты в один год – в год смерти Ленина; и это всем запомнилось.
–А что, и поеду! – загорелся Колька. Плюнул на бесхлебный город, квартиру разменял с женой и детьми; ему досталась малосемейка. – А кем я там буду... в колхозе?
–Да найдут тебе работу, – заверил Данилович. – Там на ферме людей не хватает.
Вначале Колька устроился механизатором. Пугал кур, гоняя по широкой деревенской улице на стареньком тракторе «Беларусь», за которым болталась огромная бочка: возил от башни в поле воду. Но если бы только кур пугал! Наводил страх и на людей. Вскоре отняли у него трактор. Ну, а кнут Колька сделал сам –длинный, из ремешка. Позже приехала к нему и жена – у нее была «горячая сетка», рано получила пенсию. Готовила она Кольке еду, стирала белье, а когда заслуживал – устраивала головомойку. Питались они хорошо. Поскольку деньги в колхозной кассе не всегда были, то вместо них можно было взять мясо-сало на ферме, а бывало, давали колхозу – по бартеру – ходовые продукты: подсолнечное масло, сахар, тушенку. Не пустовал и свой погреб – в нем было все, что должно быть у сельских жителей. Колька же, когда ссорился с Лариской, обещал все бросить и снова вернуться в город,
–Ждут тебя там, – спокойно, но колко говорила Лариска.
–И ждут! Я, можно сказать, исправился в сельской местности! А если ты будешь квакать, – отправишься на болото к своим!..
Утром, известно, Колька никуда не ехал, брал кнут, «ссобойку» и топал на ферму.
Вспоминая все это, Тихончик едва не прошел мимо Колькиной хаты. Ткнулся в ворота – на задвижке, с улицы рукой не достать. Позвал:
–Коль-ка-а! Земляч-о-о-к!
Показался Колька, заспанный, вскудлаченный.
–Чем занимаешься, землячок? – спросил его Тихончик и кивком приветствовал: – Доброго здоровьечка!
Колька, кряхтя, ответил:
– Да с Лариской за печкой боролись.
Тихончик укоризненно покачал головой:
–Об этом нельзя говорить другим... Это дело интимное... Святое, личное, так сказать.
–А врать я не умею! – буркнул Колька. – Чего хотел, профессор?
Тихончик сразу изменился в лице – оно запылало, словно лампочка; поднял на уровне головы руку с радиоприемником, причмокнул:
–Как,а? Хоть Лондон, хоть Париж, не говоря уже о Москве и Минске. Все берет! Все!
–Ты зайдешь или так и будешь стоять на улице, – сдвинул брови Колька, поморщился.
–Зайду! Зайду!
Во дворе сели на лавку. Колька закурил. Тихончик отгонял от себя дым то одной, то другой рукой, ерзал, кривился.
–Что, противно, невкусно? – кашлянул Колька. – А я же ем...
–Брось курить, Микола, брось! – посоветовал Тихончик. – Как земляку, как гомельчанин гомельчанину тебе говорю. Бросай! Да и деньги, что тоже немаловажно, целее будут, и пирхать не будешь. Так вот, я к тебе, землячок. Хочу обрадовать...
–Поллитровку, что ли, принес? – приободрился, явно заинтересовавшись, Колька.
–Нет, не ее – приемник.
–А мне он зачем?
–Коров пасти будешь и радио слушать. Да. Хоть Париж, хоть...
Колька встал с лавки, притворно скривился:
–Все у тебя?
–Да я же так отдаю, – встал и Тихончик, – не подумай плохого. Ничего мне не надо. Я хочу, чтобы тебе веселее жилось. А приемник тебе в этом поможет, поверь мне, старому человеку. Ты же от жизни отстал. Не знаешь, что в мире делается. Возьми, Колька, «Меридиан»! Возьми!
–Погоди! – неожиданно громко и бодро сказал Колька и исчез в хате.
–Подожду, – Тюхончнк поставил радиоприемник на лавку, сел рядом.
Вскоре краем уха он уловил – Кольку ругала Лариска: «Да и он, оказывается, такой же пьяница, этот дачник! А еще очки нацепил! Приемник он продает! Пусть только приедет его молодица, я все расскажу. А ты, шалапут, сиди дома. Не пущу на улицу-у!»
И дверь, которую оставил Колька открытой, с шумом захлопнулась. Чувствовалась рука Лариски.
–Я же бесплатно! – сказал громко, словно оправдываясь, Тихончик.
Однако Лариска его не услышала.
Не сказать, чтобы настроение у Тихончика испортилось. Но обидно стало на душе. Да ладно, разве он виноват, что Колька – под предлогом приобретения радиоприемника – решил выцыганить у жены на бутылку? Это их личные дела. А то, что бросила камень и в его огород, не беда: сколько их, камней, летело за жизнь в Тихончика? О-го-го! И клевали, и долбили. Но – выжил. Переживет и этот упрек Колькиной жены. Если бы действительно пил, взорвался бы наверняка. Ибо пьяницы не любят, когда им правду в глаза говорят, когда называют вещи своими именами.
«Колька, конечно, человек потерянный. Не читает. Не слушает радио. Одна мысль в голове: где бы раздобыть ее, горькую... – горестно подумал о пастухе Тихончик. – Чего доброго, и до пенсии не дотянет, если будет так пить... Ну, и куда же мне с этим приемником теперь? Володьке, что ли, отдать? А если и он не возьмет? Что, скажет, набиваешься? Нет, Володька, должен взять. На пенсии первый год. Тоскливо, наверное, в хате сидеть. Правда, у него телевизор есть. Но телевизор круглые сутки работать не будет. А радио, особенно когда бессонница мучает, всегда под рукой. Пойду к Володьке».
Володька был во дворе, рубил березовые круглячки на дрова.
–Заходи, заходи, дачник, – приветливо усмехнулся хозяин, воткнув острие топора в колоду, полез рукой в карман – за самосадом. И пока Тихончик входил, пока здоровались, он достал коробочку, насылал на газетную бумагу щепотку табаку. – С чем, уважаемый, пожаловал? Может, в хату зайдешь?
–Нет, нет! – запротестовал Тихончик. – Здесь поговорим, во дворе. Воздух-то какой, а? Пил бы и пил.
Володька согласился.
–Что правда, то правда. Я когда в городе бываю, долго выдержать не могу – скорее домой! Здесь и дышится легче, и на аппетит не пожалуешься. Хорошо дома! – Он кивнул на «Меридиан», зализывая слюной шов на самокрутке. – Радио слушаешь?
–Нет, – Тихончик поглядел на радиоприемник, – этот не слушаю. У меня новый есть. А «Меридиан» тебе принес. Возьмешь?
–Мне? – удивленно заморгал Володька. – А мне зачем?
– Слушать будешь.
Володька возмутился:
–Когда мне слушать, браток дачник? Когда? Здесь за день так намаешься, что едва до кровати доползаешь. Забываю, что баба рядом, жена. Да и мотор притомился... Правду говорю.
–Так это его... так... и действительно... – растерялся Тихончик, глянул на приемник и пожалел, что приволокся с ним к человеку занятому. – А, может, не каждый день так устаешь? Есть же дни, когда можно и послушать. Легкие дни.
–Есть, бывают, – Володька затянулся густым и едким дымом, закашлялся, даже вены на шее напряглись. – Так я тогда прирастаю к телевизору, как собака к кости. Вот если бы раньше мне этот аппарат, когда сторожем на коровнике работал, – вот здорово было бы! А он, видать, давно у тебя?
–Давно.
–А что раньше не дал?
–Тогда у меня нового не было.
–А-а-а! А теперь, спасибо, не надо. Хочешь, я тебе стаканчик налью?
Тихончик решительно запротестовал:
–Нет, нет, нет! Я же не пью, можно сказать. По праздникам только. А приемник я так отдаю. Бесплатно.
–Так? Бесплатно? – глаза у Володьки округлились. Он выдержал паузу и сказал: – А если бесплатно, тем более не возьму. Не такие мы бедные. Да и попрекнешь при случае. Попросишь что-нибудь у меня, а я не дам. И ты скажешь: «Я ему приемник бесплатно отдал, а он, скупердяй, мне пожалел...» Может быть такое?..
–Да нет, наверное.
Володька придавил каблуком окурок, поплевал на ладони, взял топор.
–Дрова кончились, – выдохнул он. – В лесу живем, а дров, едри твою, нет. Непорядок это. Перекос. Я правильно говорю, дачник?
–Без дров плохо, – настроение у Тихончнка совсем испортилось, и он еще больше пожалел, что связался с этим «Меридианом». – Пойду я.
– Заходи, если что, – не глядя на Тихончика, сказал Володька и вскинул над головой топор. Кругляк прыснул белыми чурками.
Куда податься с этим приемником? Домой, что ли? Тихончик потоптался около осокоря, росшего под окнами добротной Володькиной хаты, и зашагал к своему жилищу. «Не берут – и не надо. Пусть стоит, пылится... Есть не просит».
У Качкиной хаты – возле палисадника – стояли несколько женщин, и Тихончик обратился к ним. Поздоровался. Женщины ответили. Тихончик показал на приемник:
–Работает, как новый. Может, кому надо? Бесплатно отдам.
Качкина вскинула брови, показала пальнем на «Меридиан»:
–Этот?
–Этот.
–А почему бесплатно? Вот если бы за деньги – взяла бы. А бесплатно – нет, неудобно... Давай, добрый человек, за деньги. А?
–Не могу я за деньги, – пряча глаза, не соглашался Тихончик.– Принцип у меня такой – никогда ничего не продавать. А если что лишнее, ненужное мне – так отдаю.
–А жена тебе уши не надерет? – съязвила толстенькая, кругленькая, как мячик, женщина, которую Тихончик раньше не видел.
Тихончик мог бы сказать: какой хозяйке понравится, если муж такой транжира, как он, но соврал:
– Мы с женой заодно.
Помолчали.
–Да оно, радио, не помешало бы, – сказала Качкина. – И все же... Не продашь?
–Не продаю.
А кругленькая вяло потянулась, скрестила на голове руки, зажмурилась:
– Мне бы такой приемник, как ты, дед... Вот на ком бы пуговки покрутила! Особенно хорошо, наверное, ночью работает – без помех. А?.. А этот... – она указала на «Меридиан», как ненужную вещь, – мы бы под кровать спрятали.
Женщины дружно захохотали.
–Извините, – Тихончик поправил очки и зашагал в сторону своей хаты.
На следующий день в дверь кто-то постучал. Тихончик поднял глаза от газеты, подал голос:
–Открыто. Заходите.
На пороге вырос Колька и широко улыбался:
–День добрый, земляк!
–Привет, – ответил Тихончик, встав с табуретки. – Заходи.
–Можно и зайти, но я хочу вернуться ко вчерашнему разговору. – Колька топтался у порога. – Насчет приемника. Отказался, а потом пожалел. Ты прав. Пас бы коров и слушал радио, глядишь, и поумнел бы. Ну, так что? Не передумал? Отдаешь? Я насчет приемника. Ты что, не заболел, часом, земляк?
Тихончик загадочно усмехнулся:
– И не думаю болеть. А что касается приемника... Бери. Вот он
стоит. На столе. Пользуйся. Только батарейки купить надо.
–Ну, это не проблема, – Колька взял приемник. – Купим. Было бы куда вставлять. Гнездо было бы. А гнездо есть. Значит, положим яйца. Бесплатно отдаешь?
–Бесплатно.
–Дай я тебе хоть руку пожму. – Колька спрятал в своем кулаке ладонь Тихончика, долго тряс руку. – Спасибо, есть же, оказывается, люди на белом свете. Есть. Не перевелись. Не всех моль сожрала. И в городе живут, вот что интересно. Ты ж городской, ты ж мой земляк и по деревне, и по городскому микрорайону. Со всех сторон земляк. Круглый.
Тихончик только теперь заметил, что Колька «под мухой». Предупредил:
–Не потеряй «Меридиан». Он еще долго послужит...
–Да, послужит... – Колька прокашлялся, потом поцеловал приемник и, ничего больше не сказав, исчез в сенях.
В окно Тихончик видел, как он прямиком пошел к магазину. Тут же передал радиоприемник какому-то незнакомому дядьке. Тот отсчитал ему деньги, которые Колька даже в карман не спрятал, а сразу направился в магазин, неся их перед собой на вытянутой руке...
–Паразит! – вырвалось у Тихончика.
Жена приехала утром следующего дня первым дизелем – в пооловине девятого. Тихончик, как всегда, встречал ее. Обычно, увидев мужа, Поля приветливо улыбалась, а тут не узнать: надутая, строгая, колючая.
–Что с тобой, Поля? – растерялся Тихончик. – Случилось что?
–А то нет! – обрушилась жена. – Докатился! Дальше некуда. Тебя же люди не поймут... Говорил, клялся, что завязал, что больше ничего никогда раздавать не будешь. Транжира ты! Транжира! Время не то, чтобы так разбрасываться. «Меридиан» – и тот отдал. И кому? Пьянтосу этому, Кольке? А он пропил.
Тихончик слушал жену, молча улыбаясь, и никак понять не мог: как это она так быстро узнала? Кто сообщил? Ну и люди! А потом взял жену под руку, зашептал на ухо:
– Послушай, что твой транжира скажет. Не жалей ты этот старенький приемник. Жизнь, дорогая моя, не остановится оттого, что я отдал «Меридиан». Обидно, конечно, что Колька его пропил. Да ладно, ладно... У нас есть другое радио – то, которое никто не видит, которое не подержишь в руках, которое даже Колька не пропьет, а оно говорит, говорит... все новости передает... и не только на правительственном уровне, оказывается, но и из таких глухих уголков, как наши Бережки...
–Прости, – заулыбалась жена. – Погорячилась. Тебя все равно не переделаешь. Транжира – он и есть транжира!.. Таким уж ты уродился...
Молва и дальше покатилась по деревне. Люди шептали жене Тихончика: твой вчера, ты послушай только, пропил радиоприемник. Да с кем? С Колькой!
–Я знаю, – уступчиво-мягко отвечала Полина. – На здоровье!
СТОЖОК
Стожок сена – не так чтобы большой, но и копной его не назовешь, стожок, одним словом, – Микита сложил в полдень, чтобы сено хорошо проветрилось, было сухим и пахучим. Да что стожок! Кого этим удивишь. Держит человек корову, а худобу кормить надо. Но односельчан удивило иное: стожок тот поставил хозяйственный Микита не на огороде рядом с сараем, как обычно, а на улице, вплотную к забору.
–Ты что это, Микита? – не понял сосед Панкрат, разглядывая стожок. – Что будет с твоим сеном здесь, на улице? Бесплатный корм. Каждая корова не преминет лизнуть хотя бы разок. Быстро похудеет твой стожок, ей-богу, на меня станет похожим. Не понимаю я тебя, братка. И человек ты вроде серьезный...
И многие другие сельчане удивлялись: сдурел человек, не иначе, стожок поставил на улице – коров сельских дразнить... Найдутся и такие, что приберут сено к рукам: что стоит забросить его на телегу?
А Микита знай себе хихикал в конопляные усы, почесывал затылок и, будто вспомнив, что болеет, морщился, ойкал и пояснял любопытным:
–Лечиться буду. Спину ломит, а сено, да еще луговое – лучший доктор. А что касается коров, дорогие мои, то они у Микиты кукиш отведают – как бежали мимо моего двора, так и пробегут. Не отщипнут. Не волнуйтесь.
На следующий день, едва начало светать, Микита сделал в стожке нору, а сено, которое надергал, положил перед лазом. Затем, опершись на этот бугорок руками, стал на четвереньки и задом, поставив в нору сначала одну ногу, затем другую, кряхтя, забрался в нее. Вскоре оттуда торчала лишь голова старика, и похож он был на черепаху в панцире.
–Забрался все-таки? – укоризненно покачивая головой, проворчала жена, Варька. – И что у тебя, у пня старого, в голове? Клепок, что ли, не хватает? Да над тобой люди смеяться будут.
Микита махнул рукой в сторону Варьки:
–Иди и не стрекочи. У меня сеанс начался, понимаешь, а ты можешь настроение испортить и навредишь – все лечение тогда коту под хвост...
–Да где ты видел, чтобы сено лечило? – не дала досказать ему Варька. – Кабы лечило оно, то не давали бы таблеток, а каждому по стогу сена... все сидели бы в стогах.
–Ишь, размахнулась! На всех, молодица, стожков не хватит, – устраиваясь поудобнее в норе, заворочался Микита. – Если все будут сидеть в сене, то лошади и коровы отощают. От голода. А стожок, я тебе скажу, – для избранных: таких, как я. Иди в хату!
Варька плюнула и скрылась во дворе.
На что рассчитывал Микита, то и получилось: вся деревня была поднята на ноги.
–Слыхали, Микита сдурел? В стожке зашился, только голова, словно тыква, торчит.
–И руки!
–Да, да, и руки. Ими он газету держит. Районку. Вверх ногами. Сам видел.
–Да нет, это с твоей стороны вверх ногами. А газету он правильно держит.
–Может, и так. В очках сидит, как профессор.
–Заболеешь – всякую дрянь глотать будешь, а засунуть зад в стог – это не трудно.
–Да разве он, Микита, болеет? Ну, артист!
Когда день покатился на другую половинку, Микита, распаренный и расслабленный, спал в стогу. Сквозь сон он услышал: «Пусть себе спит, не будем беспокоить. Да и лечится человек... Значит, пить ему нельзя». Микита приказал себе: проснуться, проснуться, проснуться. Получилось. Он заморгал, смахивая рукой сено с лица:
–А, это вы, гвардейцы?
–Мы, – коротко ответил сухоребрый Тимка.
–Хотели предложить тебе выпить, да видим, нельзя – ты на процедурах, – развел руками Смык. – Самый разгар у тебя...
–Потею, землячок, потею. А мокрая спина вытягивает лекар-
ства из сухой травы с небывалой силой, – просвещал соседей Микита и не сводил глаз с оттопыренной штанины Тимки. –Магнитом. Да-а.
–Ну, лечись. – Смык собрался уходить и глянул на Тимку. – Пошли, братан?
Микита замахал руками, не на шутку встревожившись:
–Да ты что? Мне как раз можно!.. Когда сеном лечишься, оно, холера, полезней, если глотнешь немножко. Потеешь лучше! А ведь смысл лечения – в потении. Так что – можно.
Тимка набулькал в стакан и подал Миките:
–Это тебе. Когда профсоюз посылал проведать больного, то пять рублей выделял. На бутылку хватало и на закусь. Жили-и! А мы тебя, Микита, решили так навестить. Сами. Пей, пей. Стакан нужен.
–Ну, давай! – Микита поднес питье ко рту, но выпить ему было не так-то просто, пришлось повернуться на бок. Однако не пролил – все, что было в стакане, попало по назначению. До капли.
Навестить старика приходили и другие односельчане – его ровесники и люди помоложе, даже кое-что приносили. То яблоки, то сливы, а Макар купил в магазине бутылку минералки, открыл ее – подал больному.
–Пей, лечебная. На этикетке много чего написано...
От детей тоже отбоя не было: старались, нехристи, пощекотать травинкой около носа деда. Микита фыркал, да так, что слюна во все стороны летела, а дети хохотали на всю улицу.
Микиту отбила от детей Варька. Она женщина хоть и крикливая, но мягкая и уступчивая, принесла ему ужин, потому что старик не собирался вылезать из стожка на ночь глядя: лечиться, так лечиться, сеанс не должен прерываться. «Больше эффекта будет».
– Кыш! – замахала руками на детей Варька, поставив еду перед Микитой. – Кыш отсюда! Человек лечится, а они словно гуси гогочут. И не стыдно? Под окнами больницы не гогочете. А здесь – можно? Кыш!
Их и след простыл.
Варька кормила старика из ложки. Подавала в рот картофельное пюре, потом совала огурец. Микита откусывал, жевал и проглатывал, то же самое он делал и с хлебом.
Вдруг Варька, глянув на мужа, насупилась. Спросила:
– Ты что, пьян, Микита?
Старик возмутился:
–Откуда ты взяла? Приснилось, что ли?
–Пахнет же!
–Эх, молодица, – облизывая губы, уверенно говорил Микита. – В том и цимус, что сено, когда его на мокрую спину, пахнет чем угодно – и водкой тоже. Сено же! Луг!..
–Нет, от тебя больше водкой пахнет, чем другим... – сказала Варька, но неуверенно.
–Да кинь ты! Ну где я здесь, в стогу, найду выпить?
–Ты найдешь. Ешь давай, а то кабанчику твой ужин выверну!
Микита смотрел, как жена присаживалась рядом со стожком на сено, и рассуждал о жизни:
–Ты видела, кто сегодня был в центре внимания? Я! Не удивлюсь, если корреспондента пришлют. Я давно, молодица, заметил: чтобы обратить на себя внимание, человеку надо сделать какую-то дурость. Жириновский, например, плеснул соком из стакана Немцову в лицо – и его показывают по телевизору. А я стожок поставил. На виду у всех. И обо мне заговорили. А то и забыли бы все, что где-то живет Микита Юрьевич Сомов.
Варька вздохнула, махнула рукой и потопала во двор.
Спустя какое-то время Микита перебросил стожок на огород, и деревня словно чего-то лишилась: земляки привыкли уже видеть голову старика, которая, высунувшись из сена, почти три дня отвечала им на приветствия. Однако время шло, и постепенно люди стали забывать и о стожке, и о Миките.
У каждого хватало своих забот.
ВАХТЁР СТЕПАНОВНА
Степановне столько лет, сколько и надо, чтобы можно было давным-давно уйти на пенсию. Но она и сегодня несет свою вахту зорко-аккуратно, даже кот не прошмыгнет через пост, где старая чувствует себе цену и держится очень даже уверенно. На главной проходной завода она – главный человек.
– Проходите, проходите побыстрее, товарищи! Не задерживайтесь!.. – посматривает в пропуска – больше для приличия, естественно, и чтобы не нарушать инструкцию, ведь Степановна каждого проходящего знает в лицо. – Шевелись! Не задерживайсь! Желаю вам хорошего настроения!
Новое утро. Перед началом смены. Длинным шнурком тянутся и тянутся мимо Степановной люди...
–Стоп! – вдруг слышится ее требовательный окрик. – Ваш пропуск, товарищ полковник!
Полковник слегка покраснел, тихо проговорил:
– У меня договоренность с директором. Он ждет ровно в восемь.
– И знать ничего не желаю! Пропуск покажите – и проходите. Что мне директор? Пошли, быстрее пошли, люди,! Пошли! А вы, товарищ полковник, станьте-ка в стороночку. Не задерживайте. Желаю хорошего настроения!
... Тяжелая жизнь за спиной Марии Степановной. Сама с маленькой полесской деревушки, где сразу после войны вышла замуж за Тимку, родила ему двоих детей – дочку Соньку и хлопчика Яшу, а он, Тимка, взял да и умер. Нежданно-негаданно. Веселый был парень, неровня Маруси – строгой, придирчивой к каждому пустяку, но прилежной – не отнять! – в труде, аккуратной. Что же, ничего не сделаешь, если так случилось. Необходимо было одной кормить-поить детей. Кормила и поила, как могла, чем могла. Председатель колхоза, спасибочко ему, с горем Степановной посчитался и дал команду, чтобы нашли для вдовы постоянную работу, более-менее надежный заработок: не умирать же детям с голода. И как только освободилось место на свиноводческой ферме, его и заняла Степановна. Там прошли хорошую жизненную академию и дети. После школы они не пожелали оставаться в деревне: все едут, а мы чем хуже? Не держала Степановна: езжайте. Пошутила даже: «А устроитесь, на ноги встанете, тогда и меня может возьмете?» Оно, видите ли, так и получилось: встали на ноги – и взяли мать в город. Живет Степановна с Сонькой, но и Яшка рядышком – через квартал, поэтому и видятся в этом самом городе не меньше, чем до того в деревне.
Позвонили. Степановна дохнула в трубку:
– Слушаю, товарищ директор. Понятно. Но всё равно, пусть он хотя бы и сам генерал... Выписывайте своим полковникам пропуск. Закон для всех один. Есть! Сегодня, хорошо, пропущу. – И к полковнику. – Проходите. Директор ожидает.
Обратно, на проходную, директор и полковник пришли вместе, пожали руки: распрощались. Полковник исчез за дверями, а директор посмотрел на вахтершу, улыбнулся:
– Молодец, Степановна, молодец!
– Служу, как могу.
– Знаешь, еле от полковника, Виктора Алексеевича, отбился. Давай, говорит, мне свою Степановну. Я, говорит, всех прапорщиков уволю, она одна порядок наведет.
– Годами раньше, то и послужила бы, – всерьез проговорила Степановна.
НЕ СЕЛЬСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Хведос часто попадает в пульманологию: астма.
Научен: как только притиснет немного, перестают делать свое дело пилюльки и ингаляторы, старик собирает сумочку и шаркает на автобусную остановку. В отделении дедка знают, он здесь свой человек, поэтому иной раз закрывают глаза на то, что не имеет на руках направления с участковой больницы, лишь предупредят: «В следующий раз, Хведос Сергеевич, чтоб... Берите направление. Обязательно. Запрещено нам без него принимать больных. Рискуем».
Хведос обещает, что больше подобное не повторится, добудет, прежде чем ехать, гори она синим пламенем, эту бумажку. Лишь, правда, оговорится:
– Заранее брать это направление, что ли. Если здоровый. Пусть всегда в хате будет. Как соль. Прихватило – ты за него и на автобус. Когда же, доктор, прижмет, то белый свет нелюб... жить не желаю. До больницы три километра. А какой же я ходок с астмой? Пшик, а не человек. Только бы до автобуса доковылять...
После капельницы Хведос поправляется. Будет часто развязывать свой узелочек с едой. Разложит на тумбочке сало, яйца, помидоры... и сам себе улыбнется: а жить, оказывается, и хорошо! Соседям по палате иной раз пожалуется:
– Бронхиальная астма, едрит ее в корень, – несельская болезнь. И косить надо, и картошку копать, и порсюка кормить... а вдохнуть никак. Хоть плачь. Городским, видимо, проще.
Кому проще, кому сложнее – над этим вопросом ещё несколько дней мыслит на больничной койке старик. Пусть к нему и привязалась эта несельская болезнь, в городе жить не согласился бы. Он в этом убежден, и все чаще вспоминает свою Марфу, огород, на котором много заботы рукам, корову Лыску, собаку Шурина... И считает дни, поторапливает их: шевелитесь, не медлите, мне опять пора в боевой строй.
А те дни, лихо их матери, тянутся тогда ох как мешкотно.
Кнутом бы их!
КОСОВИЩЕ
Не с пустыми руками всякий раз едет в город Егорка. Вот и сейчас две торбы еле поднять: ведь каждому из родичей надо подарок привезти. А здесь еще и косовище. Написал брат Степан, попросил: привези, Егорка, если не тяжело тебе, косовище, выбери в лесу березку попрямее, остругай, а я тебе сто грамм поставлю. «Поставишь, поставишь», – зная, какой скупердяй брат, покачал головой Егорка. Но косовище сделал. Прямехонькое. Легонькое.
До города Егорка доехал хорошо – в дизеле ехать не проблема: мест всем хватает. Все страдания, а этого очень боялся, начались на вокзале. Там, сколько и помнит, очень много народа слоняется туда-сюда, и как только подадут автобус, так хлынут во все двери, словно горный поток. Этот поток и внес Егорку в салон. Покуда ехал, людей стало поменьше, посвободнело. Егорка пристроил около ног свои торбы, а косовище на полный рост зажал в руке – его немного не хватало, чтобы уперлось в автобусную крышу.
На очередной остановке вскочил в салон худощавый паренек в кожанке, кому-то кивнул головой, взялся за косовище и держится. Егорка хотел упредить, мол, это не поручень, но передумал: пусть, не жалко. Немного попозже парень и сам это заметил, улыбнулся Егорке белозубой приятной улыбкой, шепнул:
– Простите. Я как-то сразу, дяденька, и не понял.
Улыбнулся ему в ответ и Егорка, подмигнул: ничего, бывает....
После очередной остановки двое – парень и девушка, влюбленные, сразу видно, – ухватились за косовище. И воркуют себе, улыбаются-обнимаются. Даже не заметили, как подтянули косовище вместе с Егоркой к себе – им, видите ли, так удобнее. Егорке пришлось вступиться за себя:
– Осторожнее, молодые люди.
Молодые люди переглянулись и под доброжелательный смех пассажиров оставили косовище в покое. Посмеялись и себе сами. Конфуз получился, ничего не скажешь. А Егорка с косовищем был уже в центре внимания почти всех, кто ехал в автобусе. На каждой остановке люди нетерпеливо и заинтересованно посматривали на косовище – кто на этот раз примет его за поручень? И если кто хватался, прыскали смехом. Егорка же, широко открывши рот, водил круглой, как мяч, головой по сторонам, покачивал и не понимал, чего это они все, люди добрые, до этого косовища липнут, как оводы на кобылий круп? А сам ведь – не спрячешь! – был доволен, что косовище подняло людям настроение. «Где бы еще так посмеялись в этом городе? Насупленные все, словно сычи!».
Затем за косовище взялся пьяный мужчина. Он, на удивление всем, сразу заметил, что рука потянулась к косовищу, задержал на Егорке долгий взгляд, попросил разрешения:
– Земляк, позволь-ка ухватиться? Позволяешь?
– Ухватись, – засмеялся Егорка и посмотрел по сторонам.
– За дерево, понимашь, приятней держаться, чем за скользкую железку. А косовище, я тебе скажу, получилось хорошее. Сам делал?
– Ну а кто же?
– Молоток! –похвалил пьяный. – Сам, говорит, делал. Сразу видишь, что деловой ты, батя, человек. На селе кантуешься?
– А где же.
– А я, понимашь, в городе. На «Сельмаше» стою на пиле. Выпить хочешь? Мужик, ты вижу, хороший. Мне нравишься. У меня есть.
– Пей сам, – коротко и понятно ответил Егорка.
– Нет, подожди, подожди, ты что сказал: чтобы я пил сам? Та-а-ак. А если я от души, от сердца. Что, и за это мне в морду можно плюнуть?
– Никто в тебя плевать не собирается, – вдруг начал оправдываться Егорка, потому как понял, что незнакомый пьяный человек так просто не отвяжется, встречал таких на жизненном пути. – У тебя с кармана, вижу, магазинная бутылка торчит. А я пью свою, самодельную.
– Самогон?
– Да.
– Дома – пей. А если есть, угости и меня. Есть?
– Нет, – тихо проговорил Егорка.
– Ладно, едем дальше. Вот что я тебе скажу, мужик: меня, понимашь, нечего пугаться, – и вдруг обернулся к соседу, хлопнул того по плечу. – Он, видишь ли, не уважает магазинную. Э-э-т! Запановали там, в деревне, все, смотрю! Паны-ы! Конечно, понимашь!.. Я когда зарплату получал? А у них бульбец всегда есть.
– Так съезди к матери, возьми, – посоветовал Егорка.
– Мать не трогай, понимашь!.. Я, может, городской! С Балбесовки!
– Так вижу, какой ты городской..., – улыбнулся Егорка. – Если знаешь, что это – косовище, значит не городской.
– Ну даешь! Ну мочишь! Откуда такой умный, а, дяденька? Нет, заелся, заелся окончательно!.. Придется, понимашь, тебя просветить, лекциху выдать, темнота. Ведь меня каждый на Балбесовке знает. Каждый! Лёньку Бурбалку спроси! Я! Я это!.. Вот, и косовище ты привез в город. Продавать! А как же! Наплодилось этих спекулянтов – плюнуть некуда. Безобразие! Понимашь!..
– Брату везу, – почему-то начал оправдываться Егорка и почувствовал, что нужно было лучше промолчать.
– Заливай, заливай! Знаю! А тогда еще веники перед баней предлагать будешь.
Кто-то с пассажиров сделал ему замечание:
– Мужик! Ты чего прилип? Едешь – едь! А то вылетишь!..
Пьяный Ленька задержал на мгновение голову на одном месте, а затем немного втянул ее в плечи, так, словно ему за ворот попала холодная капля, проговорил без обиды:
– Так ведь от души я! От сердца!.. Мне дядька понравился, понимашь! И косовище вот! А? Сам, говорит, сделал. Молоток! Молоток!..
Егорка даже немного и пожалел, что вез это косовище. Одни приключения с ним. «И зачем оно брату? Где он здесь, в городе, косить-то будет?».
Автобус как-то очень долго полз до очередной остановки. Наконец, пискнув, замер. Егорка подхватил сумки, косовище ткнул в чью-то руку: «Подай, детка». И выскользнул на свежий воздух, хоть ехать было еще две остановки.
«А ну его, пьяницу! Лучше пройдусь...». Он повесил на косовище торбы, забросил все это на плечо и понес. Тяжеловато, но теперь никто не хватался за косовище, не липнул с различными вопросами, не дышал в лицо перегаром... Люди, правда, недоумевали с Егорки: и зачем он такую длинную палку взял, чтобы нести на ней сумки? Хватило бы и короче.
И хорошо, не надо было им пояснять, что это вовсе не палка, а – косовище.




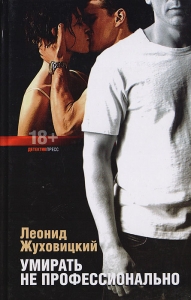





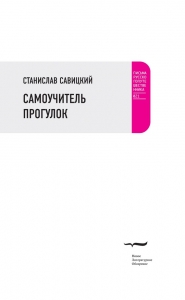
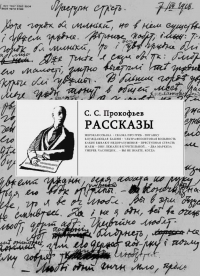
Комментарии к книге «Под городом Горьким», Василь Ткачев
Всего 0 комментариев