Тарновицкий Алексей Владимирович Киллер с пропеллером на мотороллере
1
В пятницу я не пошла в лабораторию. Потому что наплевать. Состояние равнодушия означает, что твоей душе все равно. Только вот это «все равно» бывает разным. Бывает веселым и бесстрашным, когда делаешь сумасшедшие вещи и всё тебе по фигу. Бежишь по лезвию ножа, слева и справа пропасть, впереди туман, а назад и вовсе хода нет — но ты все равно бежишь, и босым ступням не больно, и душа ровнехонька и спокойна, как поверхность пруда в летний безветренный полдень. А бывает — никуда не бежишь. Бывает, висишь в ватной пустоте, где нет ничего, даже эха, так что и собственного крика не слыхать. Это уже совсем другое «все равно». Это уже не равнодушие, а пустодушие какое-то, иначе и не скажешь. И наплевательство в такие моменты тоже совсем другое — пустое, без восторга, без удовольствия и даже без отчаяния.
Утром, когда мама зашла в мою комнату и присела на краешек кровати, я не стала притворяться спящей. Потому что наплевать.
— Ну, что ты, Сашенька, — сказала мама. — Ну, нельзя же так переживать.
— Я не переживаю, — ответила я, ничуть не покривив при этом душой. Своей ровной пустой душой.
Мама погладила меня по голове.
— Если хочешь знать, я всегда думала, что Костя тебе не подходит. Понятия не имею, что ты в нем нашла. Малахольный какой-то. А его мамаша… — это ведь просто кошмар.
— Ага, — подтвердила я.
Что есть, то есть. Лоськина мамаша и в самом деле была редкостным экземпляром. Да и сынок ее тоже. Действительно, что я в нем нашла? Сейчас это и вовсе казалось непонятным. Непонятным и стыдным. Это ж надо: споткнуться о такое ничтожество! И не просто споткнуться, но еще и выстроить на этом прыще целый дворец. И не просто выстроить, но еще и поселиться в нем, а потом с маниакальным упорством уговаривать себя, что живешь на прочном фундаменте, строить планы на будущее, изображать счастливую невесту…
Любила ли я его когда-нибудь? Сейчас уже казалось, что нет, никогда. Просто составила себе жизненный план, этакую стройку пятилетки, этакий личный БАМ, Байкало-Амурскую… — или Байдово-Амурную?.. — магистраль к счастью, и — бам-бам по темечку… — ударно его реализовывала, время от времени вручая самой себе почетные грамоты за опережение графика. Дура, натуральная дура-дураиня. Ду-раиня Социалистического Труда.
Мама снова погладила меня по голове.
— Ну вот, — сказала она, — значит, и печалиться не о чем.
Ах, мама, мама, ну какая печаль? Нет ни печали, ни галош всмятку. Есть дураиня соцтруда, внезапно оставшаяся без плана. А поскольку раньше этот план заполнял всю ее дурацкую жизнь, то вот вам и результат — пустота. Все правильно, все логично. Но было бы еще хуже, если бы этот козел, мой несостоявшийся жених, вдруг возник сейчас в углу комнаты — коленопреклоненный, с обручальным кольцом на копыте и брачным свидетельством в зубах. Так что не в нем дело, не в Лоське…
— Почему ты не встаешь? Сегодня тебе можно прийти попозже? — осторожно осведомилась мама.
— Сегодня свободный день, — соврала я. — Не беспокойся, мамуля, все в порядке. Ты сама-то не опоздай.
— Может, мне остаться? Сварю тебе куриный бульончик… хочешь?., остаться?..
Я отрицательно помотала головой, хотя мамин куриный бульончик был несомненной ценностью даже в самые пустодушные моменты. Вот только на одном этом горючем далеко не уедешь. Нужен бензин иного рода. Нужен новый план, новая цель, новая жизнь. Конец эпохи.
Мама ушла на работу, и охамевшая собака Бима, безошибочно определив минуту хозяйкиной слабости, немедленно забралась ко мне на кровать и улеглась рядом — поначалу на краешке, якобы робко, остерегаясь пускать слюни на подушку, но уже явно планируя дальнейший захват жизненного пространства. Я слегка побарабанила пальцами по теплому собачьему лбу.
— Конец эпохи, Бимуля. Нужен новый план. Что скажешь?
Бима глубоко вздохнула.
— Слушай, кончай валять дурака, — говорил этот вздох. — Я ли тебя не предупреждала: кобель — дело недолговечное. Рассчитывать на верность кобеля — все равно что делать отметку на морском песке. Волна набежала, и даже запаха не осталось. А что касается новой эпохи, так это и вовсе чепуха. Выйдем на улицу, обнюхаем столбик-другой… ты даже не представляешь, сколько там заявок и объявлений! Кстати, когда ты собираешься вывести меня на прогулку?
— Ты вот что, собаченция, — строго сказала я. — Ты на меня не дави своим откормленным короткошерстным боком. И вообще не дави никоим боком. Дай мне очухаться, слышишь? Поимей уважение. Конец-то эпохи не только у меня лично. Конец эпохи во всей стране или даже во всем мире. И кто его устроил, этот конец? Я и устроила, вот этими вот ручками. Я ведь убийца, Бимуля… Убийца… убийца…
Я несколько раз повторила это слово, внимательно вслушиваясь в звук. Выходило плохо, некрасиво. «У» как-то теряется, так что непонятно, зачем оно там вообще. «Бий» похоже на «Вий», а при чем тут Вий? Как у Гоголя: «Поднимите мне ве-е-екиии…» Чушь, короче говоря. Ну, а последний слог вовсе ни к селу ни к городу. «Ца»! Похоже на «цацу» какую-нибудь, а то и на ламцадрица-цацу. Несерьезно. Да и ассоциации — опять это ца-ца-ца! — не бог весть какие. Убийца — это мрачный дядька с бородой и окровавленным топором. Или с топором и окровавленной бородой — так еще круче. Ну какая из меня убийца — ни бороды, ни топора… Нет, так не пойдет.
— Знаешь, Бимуля, никакая я не убийца. Слышишь?
Собака согласно заурчала и заерзала, подталкивая меня к стене, чтобы поудобней развалиться на моей же кровати.
— Я киллер! Это намного точнее. Ну-ка, попробуем на слух… Киллер… киллер… киллер…
Да, это звучало куда приятней. Что-то такое стильное. Киллер с пропеллером на мотороллере… Прямо как в заграничном детективе. Может, мне заделаться киллером-профессионалом?
— Как ты думаешь, Бимуля? Будем получать заказы. Ты выслеживаешь, я исполняю. Что, не веришь? Ну и зря. Ты просто не видела, как я замочила тех троих алкашей в доме 7а по улице Партизана Кузькина. Или 76?.. Короче, партизан Кузькин мною бы точно гордился. А оперуполномоченный Знаменский? Даже пикнуть не успел. Только глазками поморгал. А Миронов из стройотряда? Этого вообще — на расстоянии! А эпоха? Замочить целую эпоху — каково? Это тебе не столбики обнюхивать!.. Слушай, кончай толкаться, сучка ты этакая! Вообще уже к стенке прижала! Бима! А ну, брысь с кровати!
Я столкнула зарвавшееся животное на пол, и в отместку собаченция тут же принялась ходить кругами, с хрустом потягиваться, пронзительно повизгивать, оглушительно зевать и всячески давить мне на психику, требуя прогулки. Пришлось встать, одеться и так, немытой-нечесаной, вести Биму на улицу, где эта зараза, конечно же, крепилась и терпела со своей нуждой до последнего, чтобы максимально оттянуть наше возвращение домой, к умывальнику, зубной щетке и чашке кофе.
Потом я снова завалилась спать и проснулась от восхитительного запаха — вернувшаяся с работы мама варила обещанный бульон. Мы поели и уселись на диван смотреть старые фильмы про Максима, которые шли подряд по случаю кончины эпохи. Так, незаметно, от Чиркова к Кадочникову и Крючкову пролетели выходные.
Брежнева хоронили в понедельник, и все сидели у телевизоров, так что в лабораторию я ехала в совершенно пустом трамвае. Киллеры не знают угрызений совести, но, глядя на траурные портреты с бровастым лицом, я не могла отделаться от чувства вины. Ведь я не собиралась убивать этого старика: лично он не сделал лично мне ничего плохого. Когда я выкрикнула это свое смертоносное «Сдохни!», оно было адресовано не ему, а гадостной эпохе, которая перебила всех настоящих мужчин, а уцелевших превратила в ничтожества. Возможно, что и сам он был всего лишь жертвой, как мой никчемный Лоська. Возможно, он был добрым человеком и желал другим только счастья. Я хотела убить эпоху, а убила его. Наверно, она только на нем и держалась, эта жуткая тварь — на этом трясущемся, шамкающем, недалеком старикане. Тоже мне, опора… А с другой стороны, на чем же еще ей было держаться — ведь лучших она давно уже истребила.
В лаборатории работал телевизор и было непривычно много народу. Редкий случай: пришли почти все, хотя не выдавалось ни аванса, ни получки.
— Сашенька, ну где же вы ходите? — приветствовал меня Троепольский. — Давайте к нам! Тут такое представление! Коллективный просмотр по всем рабочим подразделениям. Руководство специально телевизоры выделило, представляете?
— А чего не выделить? — мрачно проговорил Ди-мушка. — Генсеков-то нечасто хоронят. С предыдущего, считай, почти тридцать лет прошло.
— Тогда телевизоров еще не было, — заметила Зиночка, самая старшая в лаборатории.
— Были, но не у всех, — возразил Троеполь-ский. — У деда, к примеру…
— Троепольский, хватит, — необычно грубо перебил его завлаб Грачев. — Надоело слушать про твоего деда-посла. Тут конец эпохи, а вы…
Грачев был заметно пьян и бледен, жидкие волосы встрепаны, галстук сдвинут набок, Троепольский сочувственно причмокнул губами и не стал возражать. На экране под траурную музыку плыл хорошо знакомый профиль невинно убиенного мною генсека. Отчетливо чернели знаменитые брови. Отделанный кокетливыми рюшечками гроб тащили шестеро совершенно одинаковых полковников в красных повязках. Полковники прижимались к гробу щекой, уставив под одинаковым углом околыши низко надвинутых фуражек. Втиснувшись между ними и наверняка сильно при этом мешая, семенили старшие члены Политбюро. Первым шел Андропов.
— А вы мне не верили! — торжествующе проговорил Димушка. — Я сразу на него подумал.
— Да какая разница? — отмахнулся Троепольский и, понизив голос, добавил: — Ka-Гэ-Было, так и будет. Во несут-то, вы только гляньте… И как они друг другу на ноги не наступают? Бурлаки на Волге…
— Тише… — прошипел завлав.
— Ну что ты на меня тянешь, Грачев? — возмутился Троепольский. — Что такое случилось? Ну умер он, так что? Как говаривала моя бабушка, умер-шмумер, главное, шоб был здоров!
— Тише… — шикнул кто-то.
Димушка привстал и окинул взглядом собравшихся.
— Успокойтесь, — сказал он, снова садясь, — Вера Пална далеко. Рыдает в своей каморке.
Грачев икнул.
— Все равно, тише! — упрямо выговорил он и икнул снова.
Троепольский подошел и ласково приобнял его за плечи.
— Пойдем, Слава, пойдем…
Это был первый на моей памяти случай, когда кто-то называл Грачева по имени. Конец эпохи, не иначе. Я наклонилась к Зиночкиному уху и шепотом поинтересовалась, при чем тут Вера Пална и почему она рыдает в каморке.
— Вера Пална работает на товарища Андропова, — так же шепотом отвечала мне Зиночка. — Стучит, проще говоря. Призналась Троепольскому в момент интимной близости. А рыдает по впечатлительности натуры. Молодая еще.
— Тяжело он принял, — сообщил вернувшийся Троепольский.
Димушка кивнул:
— Тяжело и много. Сначала портвейн, а потом шило.
— Циник вы, Димушка, — вздохнула Зиночка. — Грачев и в самом деле переживает. Неизвестно ведь, как теперь всё повернется. Лаборатория и так на волоске висит. Раньше хоть стабильность была: пусть и на волоске, а висит. А теперь поди знай…
Троепольский снова махнул рукой:
— Ерунда. Ka-Гэ-Было…
— Говорят, он обоссался во время речи, — тихо сказал Димушка.
— Грачев? — не поверил Троепольский. — Да он в жизни речей не произносил…
— Да не Грачев…
— А, этот… Ну что, вполне возможно. Несчастный мужик, — Троепольский слегка пригнул голову и прошептал: — Мне верные люди рассказывали: ему сыворотку кололи. Выжимку из обезьяньих яиц.
— Троепольский, не говорите глупостей! — фыркнула Зиночка. — Обезьяны не несут яиц. Это млекопитающие. А то, что носят между ног самцы обезьян, называется яичками.
— Это смотря какого размера, — возразил Троепольский. — Яички — это у мартышек… или у нас с Димушкой. А генсеку, небось, выжимали из горилльих. А у гориллы там — ого-го!..
Я вышла в коридор. Дверь в каморку секретарши была приоткрыта. Вера Пал на сидела с заплаканным лицом. Глаза, обычно густо накрашенные, были на сей раз промыты слезами, как майские окна, что сразу лишало Веру Палну ее привычного сходства с участницей выпускного бала ПТУ штукатурщиц третьего разряда. Впрочем, едва прикрывающая лобок мини-юбка и охотничьи — на мужика — сапоги по-прежнему оставались неотъемлемой частью ее облика, пусть и глубоко скорбящего. Увидев меня, Вера Пална всхлипнула, и по щекам ее вновь покатились крупные слезы. Я попыталась припомнить, что говорят в таких безутешных случаях, но на ум шли только самые банальные фразы типа «все там будем» и «бог дал, бог взял».
— Посидеть с тобой, Вера Пална?
Она благодарно кивнула и попыталась что-то сказать, но не смогла вымолвить ни слова. Я примостилась рядом на пачках бланков — не то зарплатных ведомостей, не то профсоюзных взносов, — взяла Веру Пал ну за руку и стала ждать, когда она успокоится.
— Спасибо, Сашенька, — выговорила она наконец и добавила, скривив лицо в страдальческой гримасе: — Бог дал, бог взял…
— Все там будем, — подтвердила я.
Мне вдруг тоже захотелось поплакать. Слезы — очень заразительная штука. Стоит вот так залезть в каморку, и всё — не остановиться.
— Пойдем к людям, Вера Пална, — скорбно предложила я. — Помянем покойника. По русскому обычаю.
Секретарша закивала и достала зеркальце.
— Боже, какое страшилище… Спасибо, Сашенька… Ты иди, я сейчас подкрашусь и тоже приду.
Личный состав лаборатории по-прежнему смотрел церемонию похорон. Закрытый гроб уже стоял возле ямы; два могильщика в меховых шапках подтягивали длинные белые полотенца.
— Вовремя вернулась, — сказал Троепольский. — Сейчас опускать будут.
— Вдвоем? — поднял брови Димушка. — Не удержат.
— А чего не удержат-то? Гроб ведь обычный, не железный, — возразила Зиночка. — Железный только у Кащея.
Троепольский усмехнулся:
— Вот и узнаем. Удержат — обычный. Не удержат — желез…
В этот момент гроб вдруг резко накренился: раскорячившийся над ямой могильщик дрогнул плечами, и полотенце заскользило в его руках. Послышался явственный глухой стук — то ли упавшего гроба, то ли кремлевских курантов, то ли первого залпа траурного салюта.
— Не удержали! — удивленно вымолвила Зиночка. — Неужто и впрямь железный?
Димушка торжествующе воздел вверх руки, как будто праздновал забитый «Зенитом» гол:
— Уронили! Уронили! А вы мне не верили! Я ж говорил — не удержат!
Странный полузадушенный писк заставил нас обернуться. За нашими спинами, прижав кулачки к перехваченному спазмом горлу, стояла несчастная Вера Пална — стояла и пищала, как, возможно, пищал бы хомяк, жестоко насилуемый медведем.
— Что с тобой, Вера Пална?! — вскочил Трое-польский.
Секретарша сглотнула и указала на экран телевизора, где руководители партии и правительства под торжественные звуки гимна поочередно бросали в яму горсти плодородной кремлевской земли. Т£>ое-польский схватил Веру Палну за плечи и сильно встряхнул.
— Что?! Да говори же ты что-нибудь!
— Уро-нили… — выдавила из себя секретарша. — Горе-то какое…
— Да ничего страшного, — успокоил ее Димушка. — Уронили-то не в пучину морскую. Куда надо, туда и уронили.
Вера Пална посмотрела на Димушку и мотнула головой из стороны в сторону. Ее безумные глаза были полны слез.
— Нет… — горестно пробормотала она. — Нет… Вы ничего не понимаете. Это ж дурная примета. Хуже не бывает. Теперь покойники косяком пойдут…
И тут же, словно в подтверждение ее слов, содрогнулась под ногами земля, и в окна нашего полуподвала ударил мощный гул, перемежаемый громом артиллерийских залпов.
— Что это? — испугалась Зиночка.
— Заводы гудят, — как-то очень буднично ответил Троепольский, потирая ладони. — Пора бы и нам погудеть, как вы думаете? Сегодня во все лабазы хорошую бормотуху завезли, я проверял. Не скинуться ли по рублику на помин души? С практиканток полтинничек.
И мы скинулись — все по рублику, а я полтинником, хотя по справедливости могла бы не скидываться вовсе. Ведь, что ни говори, а мой личный вклад в убийство эпохи был решающим и без этих жалких пятидесяти копеек
А впрочем, действительно ли она издохла, эта эпоха, вместе с невинно убиенным генсеком? Поначалу так не казалось. На город накатывался декабрь — самый страшный питерский месяц, время промозглой слякоти и темноты в природе и в душах. Неба в тот год не было вовсе — лишь дрожащая мокрая взвесь, именуемая воздухом и предположительно годная для дыхания. По тротуарам, пряча лица от ветра и прихватив на груди лацканы пальтишек, торопливо семенили полуавтоматы, именуемые людьми и предположительно годные для жизни.
Я и сама чувствовала себя такой же.
Автоматически поднималась с постели в утреннюю темь, которая не отличалась от вечерней теми ничем, даже положением стрелок на часах: те же шесть, те же семь, те же восемь… Автоматически исполняла ритуал санузла, кухни, одежного шкафа, вешалки. Автоматически выходила наружу и вливалась в поток полуавтоматов… — почему «полу», а не полных? — потому, что в мелочах они все-таки были непредсказуемы: например, наступив на ногу, могли извиниться, а могли и обматерить.
Ведомый полуавтоматом трамвай доставлял меня в лабораторию, где завлаб Грачев автоматически опохмелялся после вчерашнего, а грядущая пенсионерка Зиночка и недавняя пионерка Вера Пална автоматически заполняли каждая свой список Первая — каталог назначенных к ежедневному розыску продуктов, вторая — перечень нежелательных высказываний сотрудников. Оба списка удручающе напоминали предыдущие, и предпредыдущие, и предпред-предыдущие, и, вероятно, будущие. Затем приходили Троепольский и Димушка, автоматически расставляли шахматы и начиналась всегдашняя баталия, сопровождаемая одними и теми же присказками.
— Мы не бздим с Трезоркой на границе… — бормотал один.
— Половцы, мно-о-ого половцев… — отзывался второй.
Я мало что понимала в шахматах, но отчего-то была совершенно уверена, что и партии разыгрывались постоянные, с одними и теми же автоматическими ходами и весьма небольшой вариативностью… — последнее доказывало, что речь идет все же о полуавтоматах с некоторой, хотя и весьма ограниченной, свободой воли.
Когда моя практика закончилась — конечно же, пьянкой, потому что Троепольский принципиально не упускал ни одного повода «погудеть», — завлаб Грачев позвал меня в кабинет и, многозначительно подняв белесые бровки, сообщил о наличии в штате свободной единицы.
— Подумайте, Сашенька, — сказал он. — Мы тут абы кого не приглашаем, только своих. А вы — своя, это вам любой подтвердит, от Веры Палны до Зиночки. Так что, если хотите, я организую персональную заявку в ваш институт. Защитите диплом, вернетесь сюда мэнээсом.
— Кем?
— Младшим научным сотрудником. Начнете со ста двадцати, а там пойдет…
Я не хотела быть мэнээсом, полуавтоматом со списками и половецким Трезоркой. Я была свободным киллером, киллером с пропеллером на мотороллере. Но что-то в моем горле щелкнуло, и я с ужасом услышала, что отвечаю завлабу нечто вполне автоматическое:
— Большое спасибо, Грачев. Да, я хочу. Организуйте вашу заявку. Буду очень благодарна.
А потом, автоматически возвращаясь домой на трамвае того же номера, я автоматически успокаивала себя одним из стандартно-автоматических соображений: не беда, ничего не случилось, до распределения еще далеко, всегда есть время передумать. Но в глубине своей программы робот женского рода Александра Романова, то есть я, прекрасно осознавала, что ни хрена этот робот, то есть я, не передумает. Да и зачем передумывать? Свободный режим, нормальная зарплата, приличные сотрудники, невредный начальник… Начну со ста двадцати, а там пойдет. Буду приходить к половине двенадцатого, а ближе к вечеру бухать вместе со всеми. И какой-нибудь Трезорка-Троепольский по пьяни нагнет меня на стол в каморке Веры Палны, и я буду вполне довольна этим обстоятельством. А затем, или даже параллельно тому, я найду себе какого-нибудь муженька, хотя не откажусь и от развлечений в каморке под Трезоркой.
Со временем приставка «младший» сменится на «старший», и я стану этакой Зиночкой с внуками, авоськами и все тем же трамваем. А потом во мне неисправимо проржавеет какой-нибудь важный агрегат, и я перестану совершать совокупность автоматических действий, обозначаемую словом «жизнь». И два могильных полуавтомата, раскорячившись над ямой, опустят туда ящик с не подлежащим починке роботом, то есть мной. И если мой ящик громыхнет, ударившись о дно по причине соскользнувшего полотенца, то кто-нибудь наверняка автоматически припомнит: «Плохая примета!.. Теперь пойдут косяком!..»
А так? А так они что — не идут косяком?!
Потом выпал обильный снег, и сразу стало полегче, стало чище. А может, это я мало-помалу оклемалась.
В начале февраля неожиданно позвонила Вера Пална.
— Сашенька, как дела? Мы тут по тебе скучаем. Грачев совсем пожелтел.
— Пусть печень лечит, — посоветовала я.
Секретарша рассмеялась.
— Нельзя лечить то, чего нет. Слушай, Саша, тут на тебя персональную заявку готовят, надо какое-то собеседование пройти. Ящик-то у нас режимный, сама понимаешь. Ты как насчет следующего вторника в десять? Мы, если что, справку для института дадим.
Я с удивлением обнаружила, что рада звонку. Рада возвращению туда, в лабораторию, в уютный полуподвал в Мариинском проезде.
— Не надо справки, Вера Пална, я сейчас на дипломе. Свободна, как птица. Во вторник, так во вторник
За четверть часа до назначенного времени я спустилась по стоптанным в полукруглые лунки ступенькам. Грачев встретил меня, как родную. Мы еще обменивались последними новостями, когда в кабинет заглянула Вера Пална, накрашенная пуще прежнего.
— Сашенька, ты уже здесь? Пришел этот… мужик из отдела кадров.
Кадровик оказался аккуратным молодым мужчиной лет тридцати в модной спортивной куртке, вязаной шапочке-гребешке с надписью «Адидас» и легких, не по сезону, туфлях. Улыбка у него была самая располагающая — жаль только, глаза в ней совсем не участвовали. Есть такое определение — «рыбий глаз» — светлый до водянистости, невыразительный до прозрачности.
— Александра Родионовна? — Он протянул мне сухую крепкую руку. — Очень приятно. Сергей Владимирович. Можно просто Сергей. Сережа.
— Можно просто Саша, — в тон ответила я.
— Ну и славно… — Он окинул взглядом пустое рабочее помещение. — Как-то тут не слишком многолюдно.
— Сотрудники в командировках, — важно пояснила я. — Если вам нужен кто-то конкретно, можно справиться у Веры Пал…
— Не нужен, не нужен… — прервал меня кадровик — Это я так ляпнул, не подумавши.
Он снова улыбнулся и подмигнул понимающе: мол, не забивайте мне баки, Александра Родионовна, знаю я эти ваши командировки…
— Зато никто не помешает, — сказала я. — Сделать вам кофе? Туг есть растворимый. Или чай.
Но кадровик вдруг поднял вверх палец, словно осененный внезапной идеей.
— Знаете что, Саша? Я предпочел бы поговорить в неформальной обстановке… — Он еще раз скользнул взглядом по комнате. — У меня такое впечатление, что мы будем смущать тех немногих… э-э… работников, которые… э-э… не пребывают в командировке. Все-таки я из отдела кадров, сами понимаете. Не хотелось бы мешать здоровому производственному процессу.
— В неформальной обстановке? — переспросила я. — Это как?
Кадровик заговорщицки качнул головой.
— А вот пойдемте, сами все увидите… Пойдемте, пойдемте.
Мы вышли на улицу, и февраль немедленно отхлестал нас по щекам зарядом колкой снежной крупы. Мороз был нешуточный, за двадцать градусов. Я покосилась на тонкие штиблеты кадровика: пожалуй, неформальность начиналась именно с них — по крайней мере, неформальность отношения к зимней погоде.
— Вам не холодно, Сергей? В таких туфельках…
Он улыбнулся:
— Это не страшно, Саша. Мы ведь не пешком пойдем… — Кадровик шагнул в сторону и распахнул передо мной заднюю дверцу стоявшей у тротуара черной «Волги». — Садитесь, не бойтесь. Садитесь, садитесь…
Я попятилась от неожиданности. Что за дела такие? Мужчина вытащил из-за пазухи удостоверение в красненьких корочках, помахал им и сунул назад в карман:
— Вот. Садитесь.
Это становилось интересным. Подобного вывиха моя автоматическая программа явно не предусматривала, но я не чувствовала ни капельки страха. Наоборот — в моей жизни наконец-то происходило что-то непредсказуемое. По крайней мере, пока. Пока. Покойный оперуполномоченный капитан Знаменский очень любил это слово.
— Чем это вы у меня перед носом помахали, Сережа? — поинтересовалась я, делая еще один шаг назад. — Сейчас вроде не лето, веера ни к чему. Дайте-ка посмотреть, кто вы да что вы. Я ведь, знаете, к незнакомым мужчинам в машину не сажусь. Мама не велит.
Кадровик переступил с ноги на ногу: по-видимому, мое поведение выходило за рамки стандартной реакции обычной гражданки-полуавтомата. Поколебавшись секунду-другую, он снова вынул удостоверение, раскрыл и протянул мне. Слева на краснокирпичном фоне красовалась фотография моего нового знакомца, круглая печать и большой остроконечный щит с гербом и тремя крупными буквами КГБ. Справа…
— Старший лейтенант Свиблов Сергей Владимирович, — прочитала я вслух. — Оперуполномоченный Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Владельцу удостоверения разрешено хранение и ношение огнестрельного оружия… Вы ведь не застрелите меня, Сережа?
— Там видно будет, — пошутил он и стукнул ногой о ногу. — Саша, прошу вас, садитесь. Так и простудиться недолго.
— А я вас предупреждала, — заметила я, влезая в теплое «волжское» нутро. — В таких туфельках да на оперативную работу…
Сидевший впереди шофер саркастически хмыкнул. Свиблов захлопнул дверцу, обошел машину и плюхнулся на заднее сиденье рядом со мной.
— Поехали, Коля. В контору.
Ехали молча. Я не задавала вопросов. Как говорил чех Сатек, мой любимый Святой Сатурнин, люди думают, что всякое знание умножает печаль, но это не так Печаль умножается только преждевременным знанием. Вряд ли он додумался до этого сам. Хотя кто знает: он явно большой умник, мой Сатурнин… Я вдруг вспомнила о нескольких днях, проведенных нами вдвоем в пустом здании школы в Минеральных Водах. Вспомнила брошенные на пол матрасы и кислое вино, которым мы запивали поцелуи — чтобы не было слишком сладко, говорил Сатек… Вспомнила абрикосы, которыми мы заедали вкус нашего близкого и неизбежного расставания — чтобы не было слишком горько, говорил Сатек… Он вообще много говорил и не всегда по делу. «Ты моя императорка, — говорил он, — императорка Александра Романова…» Я вспомнила это все, и у меня защемило в животе. Вот Сатека-то я, наверно, любила по-настоящему, если до сих пор щемит…
Раскрылись ворота, «Волга» въехала во двор, мы вышли и поднялись на лифте. Потом я какое-то время ждала в комнате с двумя стульями, одним столом и одной дверью. Примерно также меня выдерживал в июне прошлого года оперуполномоченный Знаменский, ныне покойный. Видимо, такая у них манера, у оперуполномоченных. Наконец, вернулся старший лейтенант Свиблов, он же Сережа, он же «кадровик».
— Извините, что заставил вас ждать, — сказал он, кладя на стол две пухлые канцелярские папки. — Пока получишь из архива, пока распишешься, пока принесешь… Бюрократия.
— Это ваша неформальная обстановка, Сережа?
Старлей развел руками:
— Приказ начальства. Чтобы сразу настроить на серьезный лад. А то ведь знаете, часто человеку хочется сначала поиграть, походить вокруг да около. А зачем? Лучше уж прямо к делу. Для всех лучше. Вы согласны?
Я пожала плечами. Наверно, он ждал вопросов, но я не собиралась с этим торопиться. Преждевременное знание умножает печаль. Сами расскажут, когда придет пора.
— Итак, прямо к делу… — Свиблов открыл папку и взял из нее верхний лист. — Мне приказано для начала ознакомить вас с той картиной, которая, так сказать, сложилась в нашем понимании. Туг конспективно. Те ваши подвиги, о которых стало известно. Что не исключает наличия других. Пункт первый…
Он поднял на меня выжидающий рыбий взгляд. Так, наверно, смотрит судак, застыв у края мелководья, где резвится малый карасик. Смотри, смотри, рыбина… мне на твоей глубине делать нечего, мне и здесь, на солнышке хорошо. Старлей вздохнул и снова обратился к своей бумажке.
— Резня на улице Партизана Кузькина, дом 7а, квартира 31, по месту жительства Плоткина Александра Ивановича.
— Плотникова, — поправила я.
— Что, простите?
— Насколько я помню, фамилия убийцы была Плотников.
Рыбий глаз метнулся к бумажке.
— Да, вы правы, — смущенно признал Свиблов. — Действительно, Плотников. Три трупа, включая его самого… Интересно, что вы это помните.
Еще бы не помнить. С нее-то все и началось, с этой квартиры. Я попала туда совершенно случайно, перепутав номера домов. Вернее, даже не номера, а буквы. Катька Расторгуева, к которой я приехала заканчивать курсовик по деталям машин, проживала в хрущобе под номером 7б, а я сдуру сунулась в 7а. Они там все одинаковые, эти чертовы пятиэтажки. Квартира на первом этаже и три пьяных алкаша, обрадовавшиеся легкой добыче. Как сказал один из них, «есть кого насадить на шашлык». И насадили бы, если бы не мое так внезапно и вовремя открывшееся умение убивать. Убивать не руками, не ногами, не мечом и не пулей, а всего лишь ненавистью и одним только словом: «Сдохни!». А дальше уже всё произошло само собой. Я тогда здорово перепугалась — не от смерти и крови, а от этой своей способности…
— Так что? — поторопил меня старлей.
— Что «что»?
— Откуда такая хорошая память о тех убийствах, в которых вы вроде как и не были замешаны?
Я усмехнулась.
— Сережа, вы ведь мне обещали, что не будете вокруг да около. Думаете, я не узнала эту папку? Да-да, вот эту, серенькую с грязными тесемками. Она мне запомнилась еще по следователю Знаменскому. По-моему, его звали Павлом Петровичем, но разыгрывал он из себя прямо-таки Порфирия Петровича… Знаете, по Достоевскому.
— Как же не знать, — почти обиженно заметил Свиблов, — в школе проходили.
— Ну вот. Дважды меня допрашивал, как Раскольникова: а почто вы, Родион Романыч, старушонку кокнули? Даже в бывший Съезжий дом таскал — знаете, с каланчой, на углу Садовой…
— …и Большой Подьяческой, — кивнул старлей. — Да, мы в курсе.
— Ну вот… — улыбнулась я. — Так и запомнила. Он ведь мне этот вопрос раз двадцать задал — что я делала в квартире Плотникова.
На том втором допросе Знаменский вырвал у меня признание, что я была свидетельницей убийств. Так получилось, по моей же глупости. С другой стороны, тогда он ничего не писал, а потом просто не успел по причине безвременной кончины. Значит, признания в деле нет. Признания нет, но свидетельства моего пребывания в квартире наверняка есть: показания бабок на скамейке, забытый тубус с чертежами, следы обуви под окном…
Свиблов вздохнул:
— Спрашивать-то он спрашивал, но ответов ваших не записал. Непростительная небрежность, что и говорить. Сначала ведь вы показали, что к дому 7а и близко не подходили.
Я скорчила покаянную мину:
— Да, верно. Испугалась. Но потом-то я все ему рассказала как на духу.
— И что же вы рассказали? — приветливо поинтересовался старлей. — Это не для протокола, Саша. Понимаете, дело-то давно закрыто. И никто к нему возвращаться не собирается. Так что говорите смело.
— Да что там говорить… — Я махнула рукой. — Дура я, товарищ старший лейтенант. Ехала к подруге, перепутала дома и пришла не туда. Ну вот. Пока поняла, что к чему, дверь захлопнулась. А в квартире три алкаша бормотуху глушат. Хорошо, первый этаж, лето, окна открыты. Ну я в окно и сиганула. Вот и весь рассказ.
Свиблов несколько раз моргнул прозрачными судачьими глазами.
— Понятно. Наверно, вам будет интересно узнать, что милицейское следствие пришло примерно к такому же выводу.
— Ну и замечательно, — с энтузиазмом откликнулась я. — Моя милиция меня бережет. Если кто-то кое-где у нас порой…
— Ах, если бы так… — вздохнул старлей. — К сожалению, кадров не хватает, раскрываемость не так высока, как хотелось бы. В общем, можно понять угрозыск. Люди с ног падают, так что если дело более-менее ясное, то отчего бы его не закрыть, правда? Зачем копать дальше, когда картина преступления налицо? Вот вам трупы, вот вам орудие, вот вам отпечатки, вот вам заключение патологоанатома. Так?
Я пожала плечами. Свиблов утвердительно кивнул.
— Так, Саша, так. Поэтому-то вашего Порфирия Петровича в отделе и не любили. Странный он был.
Дело-то закрыто, премия получена, казалось бы — радуйся. А он все копает и копает… Его за самоуправство несколько раз едва не уволили. Так что, когда его самосвал сбил, многие даже обрадовались. Штатная единица освободилась.
— Вы что, меня на работу приглашаете? — удивилась я. — Что вы, Сережа, я не подхожу. Зачем угрозыску такой следователь, который не может 7а от 7б отличить?
Свиблов широко улыбнулся.
— В юморе вам не откажешь. И в иронии тоже. Взять хоть такую иронию судьбы: капитан Знаменский Павел Петрович погиб сразу после учиненного вам допроса. Кому-то это совпадение показалось бы странным.
— Странным? — Я снова пожала плечами. — Ничего странного. Судя по тому, что вы рассказали, Сережа, капитан жил в мире фантазий. Да и его беседы со мной это подтверждают. И вот, представьте, выходит такой человек на улицу и продолжает витать в облаках, строить воздушные замки своих фантастических теорий. Удивительно ли, что он не заметил самосвала? А при столкновении фантазии с самосвалом побеждает сами знаете кто.
В рыбьих глазах вспыхнула крошечная искорка — вспыхнула и погасла.
— С самосвалом, говорите? Видимо, так. Видимо, на этот раз Павел Петрович и впрямь столкнулся с самосвалом. А то и с чем-то посерьезней…
— С трактором «Кировец»? — предположила я.
— Зачем спрашивать? — снова улыбнулся он. — Вы ведь там были, на перекрестке. Были и все видели. Не так ли?
Я не стала отпираться. Мало ли каких показаний они там накопали.
— Так. Я подошла к перекрестку сразу после того, как… как это случилось.
Свиблов открыл вторую папку и минуту-другую справлялся с ее содержимым.
— Ну да, — сказал он наконец, — вот и свидетели подтверждают. Первой к погибшему подошла девушка, похожая по описанию на вас. Жаль, что вы не задержались до прихода милиционера.
Еще бы не подошла! Как же иначе я вытащила бы тогда из кармана Знаменского свой паспорт? Но этого, по-видимому, никто не заметил: все смотрели на раздавленную грудную клетку и на пузыри, выдуваемые ртом умирающего.
— Да, это так… — произнесла я по возможности скорбно. — Он был еще жив, вот я и наклонилась поближе. Знаете, в кинофильмах люди всегда говорят в такие моменты что-то самое важное. Для грядущих поколений. Ну вот, я и решила предоставить ему такую возможность. Все-таки не чужой человек умирает, хотя и фантазер.
Я замолчала, давая судаку возможность заглотить наживку.
— И что же он сказал?
— Буль… буль… буль… — раздельно ответила я, глядя прямо в серые рыбьи глаза и с наслаждением узнавая в них тень того же самого страха, который переполнял умирающего капитана Знаменского.
Вот так, парень. Поосторожней на поворотах. Знай, с кем имеешь. Это сейчас ты оперуполномоченный, а уже в следующую минуту булькаешь окровавленными губами свое последнее послание грядущим поколениям. Свиблов отвел взгляд и откашлялся. Видно было, что ему стоило некоторого труда вернуть себе необходимую уверенность.
— Вы так и не спросили… — проговорил он, поперхнулся и начал сызнова. — Вы почему-то даже не поинтересовались, зачем мы привезли вас сюда…
— А надо интересоваться? Разве вы сами не скажете?
Старлей снова взялся за папку. Я ждала, благожелательно улыбаясь.
— Потом был Миронов, — вдруг выпалил он. — Комиссар интернационального строительного отряда. Ему вы просто отрезали голову!
— Отрезала голову? — изумленно переспросила я. — Ну, знаете… Мне удивительно везет на любителей русской литературы. Прежний следователь чесал прямо по Достоевскому, а вы, похоже, увлекаетесь Булгаковым. Просто черт знает что, Сережа. Это, в конце концов, опасно! Вспомните, куда подобные фантазии завели капитана Знаменского. Вы ведь, по-моему, тоже оперуполномоченный.
Свиблов поднял от бумаг побледневшее лицо.
— Вы что, мне угрожаете?
Я всплеснула руками.
— Да что с вами, Сережа?! Как я могу вам угрожать? И чем? Кто я и кто вы…
Он открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент в углу комнаты послышался писк зуммера. Мигнула лампочка на стене. Старлей сделал глотательное движение, встал со стула и принялся собирать папки.
— Ждите здесь.
Я снова осталась одна, но ненадолго. Спустя минуту дверь комнаты отворилась, и вошел седовласый человек в форме с погонами полковника. Он поставил на стол небольшой кассетник, сел и, не здороваясь, стал смотреть на меня. Я отвечала ему честным пионерским взглядом, отчетливо при этом сознавая, что шутки, как видно, кончились. Теперь передо мной был уже не заполошный судачок Сережа. Подобной хищной рыбины испугался бы и сам Хемингуэй.
— А вы та еще штучка, Александра Родионовна, — сказал полковник и предостерегающе поднял палец, когда я собралась ответить.
— Не надо, не отвечайте… Вы, наверно, думаете: все равно они ничего не докажут. Потому что суды не принимают к рассмотрению соображений о сверхъестественных явлениях… — он почесал себя по гладко выбритой щеке. — И хорошо, что не принимают, если хотите знать мое личное мнение. Так что у капитана Знаменского не было ни единого шанса посадить вас на скамью подсудимых за тройное убийство. Нет его и у нас, хотя к этому моменту число ваших жертв выросло вдвое. Ведь вдвое, так?
Я промолчала — он ведь сам велел мне не отвечать. Полковник вздохнул и слегка наклонился вперед. Глаза у него были карие, усталые.
— Только мы ведь не капитан Знаменский. Мы вас сажать не собираемся, а потому и доказывать нам ничего не нужно. Все уголовные дела, по которым вас можно было бы обвинить, закрыты раз и навсегда. Вам здесь ничего не угрожает. Я попросил Сергея Владимировича привезти вас сюда с единственной целью: чтобы вы поняли — о вас знают. Знают и более того — предлагают сотрудничество. Повторяю: сотрудничество. Работу и, возможно, должность, звание. Естественно, пока все это придется держать в секрете. А в будущем — кто знает… Вот и всё. Теперь можете говорить.
Он откинулся на спинку стула и спокойно смотрел на меня в ожидании ответа. Сотрудничество? С КГБ? Вот так поворот! Я была готова к чему угодно, только не к этому. Что теперь делать? Как отвечать? Прикинуться дурочкой, уйти в несознанку — мол, знать не знаю, о чем вы…
— Товарищ полковник, я не понимаю…
— Стоп! — скомандовал седовласый. — Послушайте.
Он нажал на кнопку кассетника. Сначала я услышала поразительно знакомый скрип. Затем — столь же знакомое урчание. Бимуля! — поняла я и в следующую секунду послышался уже мой собственный голос: «Конец эпохи, Бимуля. Нужен новый план. Что скажешь?»
Далее прозвучал глубокий вздох моей собаченции. Качество записи было просто превосходным. «Поимей уважение, — говорила я. — Конец-то эпохи не только у меня лично. Конец эпохи во всей стране или даже во всем мире. И кто его устроил, этот конец? Я и устроила, вот этими вот ручками. Я ведь убийца, Бимуля… Убийца… убийца…»
Полковник остановил запись.
— Еще?
Наверно, у меня был слишком ошарашенный вид, потому что он вздохнул, пожал плечами и снова нажал на воспроизведение.
«Ты просто не видела, как я замочила тех трех алкашей в доме 7а по улице Партизана Кузькина. Или 7б?.. Короче, партизан Кузькин мною бы точно гордился. А оперуполномоченный Знаменский? Даже пикнуть не успел. Только глазками поморгал. А Миронов из стройотряда? Этого вообще — на расстоянии! А эпоха? Замочить целую эпоху — каково? Это тебе не столбики обнюхивать!.. Слушай, кончай толкаться, сучка ты этакая! Вообще уже к стенке прижала! Бима! А ну, брысь с кровати!»
— Хватит, — попросила я. — Достаточно.
Мы немного помолчали.
— Как вас зовут? — Не знаю почему, но мне хотелось обратиться к нему по имени-отчеству.
Полковник отрицательно покачал головой.
— Вам это незачем. А мне тем более. Уж больно вы опасный партнер, Александра Родионовна. Хватает того, что вы знаете Сергея Владимировича. Так уж повелось в военной иерархии: лейтенантам приходится рисковать за полковников. Вот через него и будем общаться. Во всяком случае, на первых порах. Договорились?
— Как вы это… записали?..
— Ах, это… — Седовласый грустно улыбнулся. — Представьте себе, это даже не наша работа. «Жучка» вам поставил еще этот несчастный мент, капитан Знаменский. Мечтал найти доказательства… Вот так, чисто случайно, по межведомственным каналам… впрочем, детали вам знать ни к чему. Наша скучная внутренняя кухня, неинтересно.
Мы снова немного помолчали. Вот ведь как — говоришь вроде бы с собакой, бессловесным существом, а получается…
— Что будет теперь? — спросила я.
Полковник развел руками.
— Ну, судя по записи, вы сами мечтаете о карьере киллера с пропеллером на мотороллере. Чтобы ваша собака вынюхивала, а вы исполняли. Что вам сказать… в этом плане много слабых мест, но есть и некое рациональное зерно. Конкретней пока не могу, уж извините… — Он взял со стола кассетник и, кряхтя, поднялся на ноги. — Будьте здоровы, Александра Родионовна. Сережа отвезет вас куда прикажете. И это… будьте с ним немного поласковей. Совсем запугали парня, а вам ведь вместе работать.
«Волга» ждала во дворе. Я приказала везти меня домой, что и было исполнено. Правда, выходить из машины пришлось в соседней подворотне. Чтоб лишний раз не светиться, как выразился мой связной, оперуполномоченный КГБ по Ленинграду и области старший лейтенант Свиблов. На прощанье он попросил у меня записную книжку и вписал туда телефонный номер на имя «Сережа».
— Вот, Саша. Будет надобность — звоните.
«Только этого мне не хватало», — подумала я, но поблагодарила.
2
Защиту диплома назначили на среду, второго марта, а в понедельник я отправилась пересдавать свою единственную тройку, полученную в предыдущей сессии на фоне тогдашнего душевного раздрая. Какими далекими казались сейчас те проблемы и переживания! Белые ночи, набережные, заполненные юными выпускниками, роскошная двуспальная кровать в квартире Лоськиного друга, и сам Лоська, которого можно было принять в те дни за мужчину, а не за жвачное парнокопытное, коим он на самом деле являлся. Конечно, я и тогда знала, что это не более чем иллюзия. Знала, но изо всех сил обманывала и себя, и его. А может, и не обманывала — просто тешила себя надеждой, что у меня хватит характера на двоих. Ага, как же… в случае Лоськи не помогла бы и знаменитая выжимка из обезьяньих яиц…
Так или иначе, но я заявилась на последний перед стройотрядом экзамен, даже не заглянув до этого в конспект и рассчитывая исключительно на шпаргалку системы «крокодил», которой не умела пользоваться. У Тимченко были все основания влепить мне двойку, но он не стал этого делать. Наверно, почувствовал мое состояние. Как он сказал тогда? А, вот: «Вам, должно быть, очень нужен этот экзамен, если вы пошли на такой позор».
И я, проглотив унижение, кивнула.
«Тогда выбирайте, — сказал он. — Либо тройка с позором, либо честная двойка. Точка, конец сообщения».
Это было его любимое присловье: «Точка, конец сообщения».
Что я могла ответить? Тогда мне казалось, что вся моя жизнь зависит от поездки на Кавказ, а поездка, в свою очередь, зависела от успешно сданной сессии. Успешно — это без двоек. Конечно, я выбрала позор.
Потом, уже осенью, я неожиданно наткнулась на Тимченко в рюмочной недалеко от института. Не знаю, кто из нас удивился больше. Заведение располагалось в районе Сенной — самое достоевское место. Наверно, тут был кабак и во времена Федора Михайловича. Я как раз думала об этом, когда увидела Тимченко за соседним столиком, и, чтобы как-то заполнить неловкую паузу, задала первый пришедший в голову дурацкий вопрос. Что-то про чиновника, который здесь «пресмыкался втуне». Это казалось мне очень созвучным моему тогдашнему настроению — пресмыкаться втуне.
Вопрос был ни к селу ни к городу, но Тимченко сразу понял, о чем я. «Вы тоже вспоминаете Мармеладова? — сказал он. — Как же, как же… кого еще и вспоминать в таком месте». Помню, меня поразило это «тоже»: вот уж кого никак нельзя было вообразить пресмыкающимся втуне. Кого угодно, но только не Анатолия Анатольевича Тимченко, похожего на Челентано, делавшего аспирантуру в Японии и читавшего лекции в джинсах «ливайс» и умопомрачительных светлых пиджаках… Если уж Мармеладова вспоминал в таком месте такой человек, значит, и впрямь этот мир съехал набекрень.
Нечего и говорить, что к переэкзаменовке я подготовилась хорошо. Тимченко не стал доставать билетов. Просто спросил:
— Знаете?
Я кивнула.
— На пять?
Я снова кивнула, еще тверже прежнего.
— Давайте зачетку.
Тимченко поставил «отлично», расписался в ведомости и откинулся на спинку стула. В кремовом пиджаке, темной атласной рубашке и модном галстуке в тон он смотрелся просто как кадр из франко-итальянского фильма. Такие мужчины выходят из сияющих лимузинов на красные дорожки отелей Лазурного Берега. Рюмочная у Сенной? Титулярный советник Мармеладов? О чем вы, милочка? Потрясенная этим заграничным блеском, я даже не расслышала следующего вопроса.
— Вы что-то спросили, Анатолий Анатольевич?
Он понимающе улыбнулся:
— Да. Я спросил, получится ли у вас диплом с отличием?
— Теперь получится. У меня за все годы набралось только две четверки. А троек и вовсе была всего одна — ваша.
— Ну, положим, не моя, — запротестовал Тимченко. — Вы заслужили ее самостоятельно. Точка, конец сообщения.
— Вот уж нет, — возразила я, пряча зачетку. — Я заслужила двойку. Так что тройка именно ваша.
Он рассмеялся.
— Ладно, не будем спорить… — Тимченко качнулся взад-вперед вместе со стулом и добавил: — Знаете, Романова, я вам завидую.
— Мне?
— Вам — в смысле вашему поколению. Помните, мы встретились с вами в одном… гм… заведении не вполне общеобразовательного характера?
— Конечно.
— Даже «конечно»… — покачал головой Тимченко. — Честно говоря, я бы предпочел, чтобы это воспоминание растаяло, так сказать, в дымке ваших более поздних впечатлений. Но не в этом суть. Суть в том, что мы тогда говорили о… ну, вы помните.
— Помню, — кивнула я. — О пресмыкательстве.
— Вот-вот. Что ж, тогда имелись некоторые основания для подобных настроений. Некоторые проблемы… гм… с дыханием, что ли. Понимаете?
Я снова кивнула, хотя понимала весьма и весьма приблизительно. А то и вовсе не понимала ни черта. Зачем он говорит это все? Как будто хочет извиниться. Но за что? За ту случайную встречу в рюмочной? За то свое «тоже»? Как-то не в стиле Челентано вести подобные беседы…
— Зато теперь все изменится, — продолжал Тимченко. — Вы даже не представляете, какие предстоят перемены. Теперь, наконец, наведут порядок. Ведь от чего у нас проблемы? От бардака. От воровства. От низкой дисциплины. Люди просто не хотят работать. А почему не хотят? Потому что не видят движения. Все как будто застыло и… пресмыкается втуне.
Но стоит начаться движению, и вы сразу увидите, как все изменится. Пришло время молодых, инициативных, умных людей, с характером и способностями. Таких, как вы. Верьте мне, Романова, я знаю, о чем говорю. Вы позволите дать вам совет?
Что ж, гулять так гулять. Я тряхнула сумочкой с зачеткой:
— После такого легкого экзамена я готова позволить вам намного больше.
Тимченко усмехнулся и погрозил пальцем:
— А вы проказница, Александра. Учту вашу щедрость на будущее. Но сейчас, пожалуй, ограничусь советом. Вы скоро защитите диплом и поступите на работу. Так вот: не ныряйте в болото. Сейчас много всяких контор, где не делают ничего. Играют в шахматы, забивают козла, имитируют бурную деятельность, бухают по-черному и не делают ничего. Пресмыкаются втуне. Понимаю, на первых порах это соблазнительно: уйма свободного времени, не нужно надрываться, рано вставать, поздно ложиться… Но это болото, а сейчас не время для болота. Сейчас время для взлетно-посадочной полосы. Понимаете? Забудьте про болото и ищите своих людей.
— Своих людей?
— Ну да. Тех, кто тоже думает о взлете. А не найдете — приходите ко мне, помогу по старой памяти. Вот так. Точка, конец сообщения.
Я вышла из аудитории, не зная что и думать. Ай да Тимченко, ай да сукин сын! В этого институтского Адриано Челентано были тайно или явно влюблены почти все студентки с нашего потока. Меня же как-то бог миловал: наши отношения с Анатолием Анатольевичем никогда не выходили за рамки ровного взаимного уважения. И вот на тебе — ухитрился напоследок не на шутку взволновать мою невинную девичью душу. «Не ныряйте в болото»… Легко сказать! Согласно распределению, мне было назначено уже с первого апреля приступить к работе в почтовом ящике № 758 — иными словами, в лаборатории Грачева. То есть в болоте, где, пользуясь весьма точным описанием Тимченко, играют в шахматы, забивают козла, бухают по-черному и не делают ничего полезного, пресмыкаются втуне.
А сейчас, видите ли, не время для болота. Сейчас время искать своих людей. Допустим. Но кто они, эти «свои люди»? Сам Тимченко? И кто тогда «свои» для него самого? Если уж откровенно, то как может обычный советский аспирант получить направление в Японию? Да никак — вот как. Для такого хитрого выверта судьбы он непременно должен быть необычным советским аспирантом. То есть либо сынком кого-то очень важного, либо каким-нибудь штирлицем. Какой из этих двух вариантов верен для нашего героя-доцента? Уж никак не первый: будь Анатолий Анатольевич сыном какого-нибудь Анатолия Председателевича Политбюровина, об этом точно стало бы известно. Остается штирлиц. Вывод: «свои люди» Анатолия Анатольевича Тимченко гнездуются в большом сером доме в начале Литейного, то есть там, куда меня саму совсем недавно с понтом привезли на черной-пречерной «Волге». А то и в московском аналоге этого дома на Лубянке.
Этим, собственно, и объясняются его «ливайсы», пиджаки, галстуки и иронические усмешки, а также общая атмосфера заграничной либеральной вальяжности, которая дозволена в институте только ему и никому более. «Теперь все изменилось», — сказал Тимченко. Понятное дело — к власти пришли наконец «свои люди»…
Что ж, если искать следует именно их, то совет Анатолия Анатольевича запоздал: они нашли меня сами. Вот только зачем?
Первым и, видимо, главным следствием разговора с безымянным седовласым полковником и его помощником Сережей стала для меня потеря ощущения дома. Дома как уютного убежища, где можно закрыться, запереться, задернуть шторы, прижаться к маме под пледом и чувствовать себя защищенной от каких бы то ни было внешних безобразий. Ясно, что это представляло собой не более чем иллюзию. Ясно, что и тогда, до прослушанной в Большом доме записи, я теоретически сознавала, что внешние безобразия могут в любой момент стать внутренними. Что они могут позвонить в дверь, а если не откроешь — высадить ее топором. Что они могут по-хозяйски войти, встать грязными сапогами на ковер, на диван, на скатерть. Могут заорать, оскорбить, ударить, забрать, убить. Могут сделать с тобой все что угодно.
Но, как выяснилось, никакое теоретическое знание не в состоянии подготовить тебя к практическому опыту. Теория — это то, что возможно только в принципе, причем со всеми и с каждым. А там, где речь идет о всех и каждом, уже не так и страшно. Потому что если со всеми, то и поделать ничего нельзя, а значит, надо просто зевнуть, поплотнее закутаться в плед и думать о чем-нибудь другом, более веселом. Но попробуй-ка отнесись с таким же равнодушием к тому, что происходит конкретно с тобой!
Попробуй зевни, когда ты точно знаешь, что чьи-то чужие уши вслушиваются в этот зевок! И не только в зевок — в каждое слово, в каждый шаг, в звон тарелок на кухне, в чавканье рта, в скрип кровати, в рев сливного бачка… К этому трудно привыкнуть. Жить с оглядкой вне дома еще куда ни шло — но дома?., дома?.. — на то они и существуют, твои личные четыре стены, чтобы перестать оглядываться. Теперь я была лишена этой возможности.
Конечно, я сразу же предприняла целый ряд дурацких действий — больше для собственного успокоения. Выбросила два наших телефона и купила новые. Тщательно осмотрела люстры, мебель и плинтусы. Переклеила обои у себя в комнате. И, конечно, ничего не нашла. Возможно, жучки были в выброшенных телефонах. Возможно, их уже демонтировали. Что не подлежало никакому сомнению, так это способность соответствующих людей возобновить прослушку в любой удобный для них момент. В любой. Я чувствовала себя совершенно беспомощной перед лицом этой всеобъемлющей вездесущей силы, насмешливо наблюдающей за моими глупыми попытками предотвратить неотвратимое.
А может, это и было их целью: выбить меня из колеи, лишить душевного равновесия? После того разговора они оставили меня в покое, как будто ничего не было. Впрочем, а что, собственно, было? Предложение полковника о сотрудничестве так и осталось устным: я ничего не подписывала, ни с чем не соглашалась, не принимала на себя никаких обязательств. Да и что они могли мне поручить? Я и сама-то понятия не имела о природе своей способности убивать. Откуда она берется? Как работает? Где гарантия, что она не пропадет так же внезапно, как появилась? Допустим, полковнику кровь из носу нужно с кем-то расправиться. Неужели он возложит эту задачу на столь ненадежного киллера? Вряд ли. Куда спокойней положиться на проверенные методы и проверенных людей. Вполне вероятно, что они рассматривают меня как самую последнюю возможность, когда все прочие способы уже опробованы и отвергнуты…
Этот вариант понравился мне настолько, что я постепенно убедила себя в его истинности. В самом деле, так ведь можно всю жизнь просидеть на скамье запасных. А если, паче чаяния, вдруг вызовут и скомандуют выходить на поле, то всегда можно отвертеться, сказать, что не получилось. Сверхъестественной силе не прикажешь, товарищ полковник Она или есть, или нет. Сегодня — нет, извините. Я и сама ничего не понимаю…
Решив это для себя, я вздохнула свободней. А потом подтвердилось, что человек привыкает ко всему — даже к мысли о невидимых «жучках» у себя под боком. Где-то я слышала рассказ оператора-документалиста о том, что сначала люди стесняются, а потом вдруг перестают замечать камеру и тогда уже ведут себя совершенно естественно. Вот и я так же: сначала стеснялась, а потом перестала думать об этих микрофонах. Потому что иначе с ума сойти можно. Черт с ними, пусть слушают. Наплевать.
Защита диплома прошла без приключений, и первого апреля я вернулась в знакомый полуподвал в Мариинском проезде — уже в качестве младшего научного сотрудника грачевской лаборатории.
Дело было в пятницу. По дороге я вышла купить торт в «Метрополе» и потому немного задержалась. Впрочем, по моему прошлому лабораторному опыту, даже около половины десятого в полуподвале присутствовали лишь двое: секретарша Вера Пална и завлаб Грачев, опохмеляющийся в запертом кабинете. Остальные обычно подтягивались ближе к полудню.
Тем удивительней было обнаружить там рабочий коллектив почтового ящика № 758 в его полном боевом составе! Вера Пална, завидев меня, всплеснула руками:
— Сашенька! Я и забыла, что ты сегодня начинаешь! — Она бросила взгляд на часы. — Опоздала, конечно, но первый день не в счет, ерунда. Давай торт, в холодильник поставлю…
— Что случилось, Вера Пална? — поинтересовалась я. — Откуда столько народу? Зарплату дают? Премию?
Секретарша округлила глаза и прошипела свистящим шепотом:
— Суд! Товарищеский! Явка обязательна!
Судили старшего научного сотрудника Беровина Дмитрия Григорьевича — а проще говоря, нашего Димушку. Как успел поведать мне Троепольский, две недели тому назад Димушка ездил в командировку в город Владимир в какой-то тамошний НИИ. Реальных производственных причин для командировки не было и быть не могло: владимирский институт занимался точно тем же, что и наша лаборатория, то есть ничем. Пресмыкался втуне. Возможно, именно эта схожесть и подразумевала общность интересов: владимирцы интенсивно ездили в командировки к нам, а мы, соответственно, к ним.
— Таких рабочих партнеров у нас — по всей стране, — подмигнул Троепольский. — Самые ценные — в Закавказье. Тбилиси… Ереван… Ах, Сашенька…
Глаза его затуманились, и я была вынуждена дернуть коллегу за рукав, чтобы услышать продолжение.
— Да-да, вот я и говорю… — возбужденно шептал он, склоняясь над девственно чистым рабочим столом. — Нормальные люди ездят в Закавказье за винами, в Кишинев за фруктами, в Ташкент — поесть шашлыков и лагмана. А этому, видишь ли, подавай древнерусскую архитектуру. Еврей, ничего не поделаешь. Советского еврея-интеллигента хлебом не корми, а дай приобщиться к великой русской духовности…
— Погоди-погоди, — перебила я. — Какой же Димушка еврей? У него ведь крестик на шее. Я сама видела.
— Ну вот! — подхватил Троепольский. — А я что говорю? Хлебом не корми, а дай приобщиться…
Из дальнейшего рассказа следовало, что Димушка, чин чинарем вселившись в гостиницу и отметив в отделе кадров командировку, со спокойным сердцем отправился фотографировать памятники древней культуры. В процессе приобщения к архитектурному облику одноименного Димитриевского собора к Димушке подвалили два отнюдь не древнерусских дружинника — без кованых шлемов и мечей, зато с красными повязками и милицейскими свистками. И, подвалив, попросили предъявить документы.
Удивленный Димушка достал командировочное предписание, отмеченное, как уже сказано, чин чинарем.
— Ага, — сказали дружинники, изучив предписание, — стало быть, вам, гражданин, положено в настоящий момент находиться по месту прохождения командировки. В то время как вы находитесь по месту отдыха туристов, горожан и гостей нашего города. Пройдемте, гражданин.
С этими словами Димушку отвели в отделение милиции, где продержали до вечера и отпустили, составив протокол о злостном прогуле с занесением в летопись владимирского УВД.
Сочтя происшедшее досадным недоразумением, Димушка продолжил знакомство с памятниками. Вдоволь приобщившись к Владимиру, он съездил на автобусе в Боголюбово, Суздаль и гусь-Хрустальный, а неделю спустя, усталый, но обогащенный новым духовным опытом, выписался из гостиницы и сел на поезд, идущий в Питер. К тому времени он и думать забыл о странных владимирских дружинниках. А зря. Немедленно по возвращении его срочно вызвали к начальнику отдела кадров нашего головного НИИ. На столе у начальника лежала копия злосчастного протокола.
— Будь вы менее ценным сотрудником, вас уволили бы немедленно, — с оттенком сожаления сказал кадровик. — Но почти двадцать лет безупречной службы что-нибудь да значат. Тем не менее, Дмитрий Григорьевич, мы не вправе не отреагировать на сигнал. Ваша командировка аннулируется. Затраты на нее будут вычтены из вашей заработной платы, включая деньги за билеты, проживание в гостинице, а также суточные и другие расходы. Вся неделя, таким образом, засчитывается как прогул. Вы лишаетесь прогрессивки, квартальной премии и тринадцатой зарплаты. По-видимому, будет и товарищеский суд, но это уже не мне решать…
Все это Троепольский рассказывал в лицах. Каменел физиономией, изображая начальника, злорадствовал в роли владимирских дружинников, но лучше всего у него получался вид горестного недоумения несчастного Димушки.
— Представляешь? — шептал он. — Мы с Димушкой прикинули, на сколько он влетел. Триста пятьдесят минимум. Это ж как на юг семью послать, на все лето! Как тебе это нравится?
Я пожала плечами. Как такое может понравиться?
— Говорят, такое теперь повсюду, — продолжал Троепольский. — Не только с командированными. Новые указания по наведению дисциплины. Другие люди, другие порядки.
«Не другие, — подумала я, — свои. Свои люди, о которых говорил Тимченко».
— Вот видите, — сказала я вслух. — А вы говорили, Ка-Гэ-Было, так и будет…
Троепольский сморщился:
— Ой, Сашенька, давай на «ты». Мы ведь теперь коллеги, свои люди. А что до Ка-Гэ-Было, то действительно так и будет. Все эти нововведения временны, вот увидишь. Это ж только говорится, что новая метла по-новому метет. Мести-то она метет, но только пока не истрепалась. А истрепаться об нас — раз плюнуть…
Товарищеский суд над Димушкой проходил в самом большом помещении полуподвала. Столы сдвинули соответствующим образом: в торце комнаты — президиум, слева — место для секретаря, справа — для подсудимого. В принципе, Димушке можно было бы просто поставить стул, но какой же суд без «скамьи подсудимых»? Поскольку скамьи у нас не нашлось, ее составили из трех стульев; бедный Димушка примостился на краешке среднего. Вести протокол поручили Вере Палне. Из трех человек, заседавших в президиуме, я знала только одного: техника нашей лаборатории Степаныча. В полуподвале ему был выделен особый угол с верстаком и станочками, где Степаныч время от времени что-то мастерил — по всей видимости, налево. Троепольский именовал его лучом пролетарского света в темном царстве гнилой интеллигенции. Как выяснилось, помимо этой осветительной функции, Степаныч исполнял роль секретаря лабораторной партячейки.
Вторым заседателем, как объяснила мне Зиночка, была женщина из институтского профкома, а руководил судебной тройкой и вовсе кто-то пришлый — «из района»: моложавый человек в спортивной куртке, чем-то неуловимо напоминавший оперуполномоченного Сережу. Когда все расселись, он кивнул профкомовской тете, и та открыла заседание:
— Просьба к секретарю доложить соответствие наличного состава списочному.
Не уверена, что многие здесь могли бы понять смысл этой удивительной фразы, но Вера Пална не оплошала:
— Состав соответствует списочному. Двадцать шесть сотрудников, двое на больничном, один в декрете.
— Одна… — робко поправил кто-то.
— Вам, товарищ, слова не давали, — оборвала его профкомовская тетя и покосилась на Из-района. Тот кивнул, и тетя снова повернулась к Вере Палне. — Значит, в декрете двое?
— Нет, один, — стояла на своем секретарша. — Один сотрудник согласно списочному составу. Вот, пожалуйста: Сергеева Валентина.
Вера Пална ткнула пальчиком в лист бумаги. Димушка подавил страдальческий вздох, а Из-района улыбнулся вполне человеческой улыбкой и шевельнул пальцем. Движение было едва заметным, но профкомовская уловила и, видимо, безошибочно истолковала этот знак
— Есть предложение заслушать характеристику по качеству производственных показателей, — проговорила она, оборотившись к завлабу Грачеву.
Грачев, сидевший в первом ряду, встал и принялся излагать характеристику производственных показателей нашего Димушки. Из речи завлаба выходило, что если прогрессивное человечество пока еще живо, то исключительно благодаря неустанным усилиям Дмитрия Григорьевича Беровина. Зал одобрительными кивками подтверждал слова руководителя.
— Под конец скажу, что все мы люди, а людям свойственно ошибаться, — Грачев жалобно скривил пергаментно-желтое лицо. — Дмитрий Григорьевич ошибся, и ошибся сильно. Но он полностью признал свою вину и понес тяжелое наказание по административной линии. Предлагаю ограничиться выговором с предупреждением.
Все посмотрели на тройку. Степаныч сидел с абсолютно непроницаемым лицом. Его неподвижный, устремленный поверх голов взгляд заставлял предположить, что пролетарская совесть нашего коллектива ни в коем случае не намерена высказываться по пустякам. Профкомовская женщина искоса следила за реакцией товарища Из-района. Последний лучезарно улыбался. Пауза затягивалась. Наконец профкомовская не выдержала.
— Послушать руководителя среднего звена, так речь идет об ангеле во плоти, — язвительно проговорила она. — Непонятно только, как такие выдающиеся качества привели гражданина Беровина на скамью подсудимых!
Троепольский поднял руку.
— Можно я скажу? На правах, так сказать, коллеги по работе. Известно, что наши недостатки — продолжение наших достоинств. Именно этим можно объяснить проступок Дмитрия Григорьевича. Он отметил командировку, но, насколько я понимаю, рабочие встречи с владимирскими коллегами должны были начаться только вечером. Все тут знают, что Дмитрий Григорьевич — большой любитель и знаток древней русской культуры. Это, конечно, его достоинство как культурного человека. Да, я согласен, что это достоинство перешло в недостаток, ибо проявило себя в рабочее время, что, конечно, непростительно. Но, как неопровержимо свидетельствуют наши владимирские коллеги, Дмитрий Григорьевич постарался искупить содеянное ударной работой во все остальные дни командировки. Учитывая это, я всемерно поддерживаю предложение заведующего лабораторией и лично беру товарища Беровина на поруки.
— На поруки! — возмущенно фыркнула профкомовская, но тут же осеклась, увидев шевельнувшийся палец товарища Из-района.
— А что, на поруки — это мысль, — негромко сказал Из-района. — Как ваша фамилия, товарищ?
— Троепольский.
— Троепольский. Так вот, товарищ Троепольский, ваше предложение означает именно поруку. То есть в случае повторения подобных инцидентов наказаны будете непосредственно вы. А также весь коллектив, я так понимаю? — Из-района повернулся Степанычу. — Так, Василий Степанович?
Степаныч молчал, не отводя взгляда от неведомой точки на линии слияния потолка и дальней стены.
— Василий Степанович? — не отставал председатель. — Вы меня слышали?
Степаныч разжал крепко стиснутые челюсти и веско отчеканил:
— Я поддерживаю в связи со следованием.
В комнате наступила тишина: все были крайне впечатлены многозначностью этого заявления, а товарищ Из-района даже причмокнул.
— Умеет, черт! — восхищенно выдохнула рядом со мной Зиночка. — Вот что значит опыт…
— Ладно, — сказал Из-района, — давайте закругляться. Мы ведь зачем здесь собрались, товарищи? Кто-то, может быть, думает, что цель этого собрания — осудить товарища Беровина. Но это не так. Цель этого собрания — предупредить вас всех. Потому что дальше так продолжаться не может. И я искренне рассчитываю, что вы меня хорошо услышали. Товарищ Беровин наказан, и наказан сильно. Но в случае повторения подобных нарушений дисциплины мы будем вынуждены принять еще более крутые меры. В рабочее время надо работать — только и всего. Просто, не правда ли? И те, кто нарушает это простое и понятное правило, будут увольняться. С соответствующими записями в трудовой книжке.
Он взглянул на профкомовскую тетю.
— А вам, Татьяна Валерьяновна, на будущее: проводить собрания в рабочее время непозволительно. Хотите что-то донести до сотрудников — нет вопросов: соберите их после работы. Понятно?
Татьяна Валерьяновна сглотнула и закивала. Товарищ Из-района встал. Суд закончился.
— Так что писать в решении? — влезла недоумевающая Вера Пална.
— Вы же слышали: выговор… — бросил на ходу Из-района. — И про поруку не забудьте. Про поруку!
Как же… попробуй забудь про такое. Мы молча принялись расставлять по местам столы и стулья.
— Не знаю, как кого, но меня поражает легкость, с которой рабочее помещение превращается в зал суда и обратно, — пошутил Троепольский.
Димушка сидел с подавленным видом и даже не предлагал сыграть в шахматы.
— Веселей глядите, коллега, — подбодрила его Зиночка. — Все могло закончиться намного хуже. И вообще — последний выговор был даже не вам, а нашей профкомовской даме… как ее… Татьяне Валерьяновне. Не зря она так быстро ретировалась.
— Наверно, пьет сейчас валерьянку! — подхватил Троепольский. — Что ты, Димушка, в самом деле… выше нос! Зиночка права: как говорил Штирлиц, запоминается всегда последнее.
Димушка уныло покивал головой.
— Легко вам говорить… Выговор-то черт с ним. А вот прогрессивка… премии… тринадцатая зарплата… А мы с Катей думали диван-кровать купить. «Наташу»…
— Подумаешь, беда! — не унимался Троепольский. — Полежишь пока на Кате, Наташа всегда успеется. Какие наши годы?! Эй, Димушка! Знаешь что? Мы тут в комнате, как взявшие на поруки, берем социалистическое обязательство бесплатно поить тебя до конца пятилетки!
— Эй, эй! Обязательства должны быть реалистическими, — возразил кто-то из дальнего угла. — Хватит ему и до конца года.
— Пусть будет до конца! Единогласно! — Троепольский подмигнул и добавил шепотом: — А там посмотрим… Ну, чувак, улыбнись!
Димушка слабо улыбнулся.
— Ну, слава богу, черту и святым угодникам! — Троепольский подхватил портфель. — Начинаем прямо сейчас! Айда в гастроном! Вместе! Сам выберешь, что тебе по вкусу…
— Подождите, мальчики, — сказала Зиночка, сильно понизив голос. — Мне тут с утра позвонили. К половине двенадцатого должны выбросить сосиски. Дают всего кило в одни руки, а мне чем больше, тем лучше. Если вы все равно туда идете, то, может… Если, конечно, вам не трудно. Сашенька, а вам не надо?
Зиночка, интеллигентная, со вкусом одетая женщина, была в лаборатории старшей по возрасту — ей оставалось совсем немного до пенсии. Судя по объему авосек и пакетов, которые я помогала ей грузить в трамвай в конце каждого рабочего дня, Зиночка обеспечивала продуктами довольно большую семью. За годы службы в Мариинском проезде она выстроила себе в окрестных магазинах настоящую агентурную систему, которая регулярно поддерживалась подарками к праздникам, взаимными услугами, а то и просто хорошим отношением.
И вот теперь: нужны ли мне сосиски… А почему бы и нет? Это был мой первый рабочий день, начало длинного этапа взрослой жизни — этапа, который когда-нибудь завершится вот таким же обликом интеллигентной, со вкусом одетой старшей научной сотрудницы с морщинистым лицом и крашеными волосами, матери детей и бабушки внуков, обвешанной гроздьями сумок, авосек и пакетов. От Сашеньки до Зиночки — какие-то жалкие тридцать лет, оглянуться не успеешь. Так что давай, Саша, впрягайся с первого дня. Скоро старшая подруга и предшественница уйдет на пенсию — надо успеть перенять знакомства, адреса и явки. Сейчас из гастронома звонят ей — через годик-другой будут звонить тебе. «Алло, Александра Родионовна? Сосиски завезли, в полдвенадцатого выкинут. Кило в одни руки, так что приведите подмогу…»
Боже, какая тоска… какая во всем этом тоска-тощища! Господи!
Мы вышли из полуподвала вчетвером: Зиночка, я и Троепольский с пока еще унылым Димушкой. В гастрономе пришлось разделиться на две очереди: портвейн «Акстафа» в винном давали тоже по одной бутылке в руки. Минут через сорок мы вывалились из магазина — изрядно помятые и растрепанные, зато с четырьмя бомбами винища и четырьмя килограммами сосисок в целлофане. Троепольский сиял, как набор медалей на винной этикетке.
— Я горжусь нами, коллеги! Портвейн высшего качества! Димушка, ты хоть понимаешь, чем тебя взяли на поруки? Бормотухой высшего качества и сосисками в целлофане!
— Сосиски не отдам, — твердо сказала Зиночка. — Сосиски детям. А мы и печеньем закусим, не впервой.
— Фу, Зиночка… — начал было Троепольский, но тут же осекся.
Мы и моргнуть не успели, как были окружены группой людей с красными повязками на рукавах.
— Ваши документы, граждане.
Димушка смертельно побледнел и покачнулся.
— Вы что, пьяны, гражданин? — сказал один из подошедших к нам парней, подхватывая Димушку под локоть.
— Я… я… — лепетал тот. — Я… нет…
— Точно, пьян в драбадан, — констатировал другой дружинник, в кроличьей шапке-ушанке. — Лыка не вяжет. А еще интеллигент.
— Да что вы, ребята, — с фальшивой улыбкой произнес Троепольский. — Мы с утра ни капли. Димушка, дыхни! Нехорошо стало человеку, вот и все. Душно в магазине, давка, вот и сморило. Мы пойдем, а?
— Конечно, пойдете, — ухмыльнулся мужик в кроличьей шапке. — По этапу. Дзынь-дзынь. Шаг влево, шаг вправо — конвой стреляет без предупреждения. Документы давайте.
— Мужчина, документы у нас на работе, — с достоинством ответила за всех Зиночка. — У меня в сумочке, у него вот… в ящике стола. И зачем вам документы? Вы в чем-то нас подозреваете?
— Да, в ящике стола! — подтвердил Троепольский, перекладывая из руки в руку тяжелый портфель, отчего тот предательски звякнул портвейном высшего качества.
— Чего ж так — в ящике оставил? — поинтересовался первый парень. — В портфеле не поместились? А ты в следующий раз на бутылку меньше бери. Значит, нет документов. Придется пройти в отделение.
— Но это форменное безобразие! — возмутилась Зиночка. — За что вы нас задерживаете? Мы ничего не нарушали.
Мужик в кроличьей шапке крепко взял ее за рукав.
— Не нарушали, говоришь? Документы на работе, говоришь? А сама ты почему не на работе? По гастрономам шастаете, портвешок закупаете? А время-то рабочее, оплаченное государством… Что молчите? А? Кто-нибудь еще хочет выступить, на безобразия пожаловаться? А? Не слышу…
Мы молчали, подавленные внезапной напастью, свалившейся на нас неизвестно откуда и неведомо за что. Зиночка смотрела изумленно: по-моему, она ждала, что это нелепое представление вот-вот кончится, что окружившие нас люди рассмеются, снимут красные повязки и всё обернется шуткой — дурацкой, обидной, но шуткой. Сегодня же Первое апреля, День дурака, праздник розыгрышей. Не может быть, чтобы такая из ряда вон выходящая чушь происходила всерьез. Но нас и в самом деле волокли в ближайший милицейский участок!
Лицо несчастного Димушки выражало отчаяние и безысходную покорность судьбе. Он уже проходил подобное приключение во время командировки во Владимир, но, видимо, и представить себе не мог, что это может повториться дома, в окрестностях родного, исхоженного вдоль и поперек Таврического сада. Даже обычно словоохотливому фоеполь-скому было нечего сказать. А я так и просто не знала, что подумать. Ничего себе первый рабочий день, начало самостоятельной жизни! Товарищеский суд в качестве пролога, следующий акт — ментовка… Это ж какой тогда будет развязка?! Расстрел? Изгнание?
Я вдруг вспомнила рассказ Троепольского — адресованные Димушке слова начальника отдела кадров: «Будь вы менее ценным сотрудником, вас уволили бы немедленно…» Значит, меня теперь уволят — ведь я всего лишь молодой специалист, ни стажа, ни заслуг? Наверно, это будет самая короткая рабочая карьера в истории. Смех, да и только. Еще и торт в «Метрополе» купила, дура. А впрочем, почему дура? Наоборот, очень кстати: всего один торт и на поступление, и на первую получку, и на все последующие поводы, включая дни рождения, повышения и отвальную в связи с выходом на пенсию. Еще ни одному сотруднику в мире не удавалось отделаться так дешево…
Наша торжественная процессия двигалась по улице Красной Конницы — слава богу, пешком, хотя в соответствии с названием пленников могли бы и привязать к хвостам лошадей Конармии Буденного. Встречные, пока еще свободные прохожие, провожали нас осуждающими взглядами: как же, преступников ведут! Какая-то бабушка с кошелкой остановилась, спросила:
— Кого поймали-то, ребяты?
— Тунеядцев! — гордо отвечал дружинник в кроличьей шапке. — Интеллигенты паршивые. Их народ кормит-поит-учит, а они, вишь, на шее сидят, кровососы. Бездельники.
— Ну и верно! — закивала бабка. — Сталина на них нету. При Сталине-то, небось, не бездельничали…
— Давай-давай, шагай! — прикрикнул дружинник, подталкивая Троепольского в спину. — Ишь ты… еле идет. Как по лабазам шастать, так шустрые, а как отвечать, то ноги заплетаются.
— А ты его в шею, в шею! — посоветовала вслед добрая бабушка. — Когда в шею, они сразу понимают…
— Сколько злобы… — пробормотала идущая рядом Зиночка. — Откуда? За что?
И в самом деле — чему они так радовались, эти люди в красных повязках, эти прохожие? Еще минуту назад мы были точно такими же, как они: шли рядом с ними по тому же тротуару, стояли нос в спину в той же очереди в том же гастрономе, плечом к плечу в том же трамвае… Почему же они с такой легкостью перевели нас в категорию врагов, чью беду нужно праздновать, как свою победу? Что мы им сделали плохого? Наступили на ногу в очереди? Отхватили лишнее кило сосисок в целлофане? Заняли свободное место в трамвайном вагоне? За что?
В участке нас завели в «обезьянник» — помещение со скамьями, привинченными к полу вдоль трех его стен; четвертую занимало большое зарешеченное окно. В комнате уже находились десятка полтора женщин и мужчин.
— О! Тунеядцев привели! — приветствовал нас ханыжного вида мужичок, устроившийся в углу. — Садитесь, господа хорошие, к народу поближе. Закурить не найдется?
— Куда садиться-то? — растерянно проговорил Троепольский, оглядывая «обезьянник».
Все сидячие места действительно были заняты, причем мужичок сидел с удобствами, взгромоздив на скамью ноги в черных потрепанных ботах. Вопрос тунеядца доставил ему немало удовольствия.
— А на пол чего не сесть? Садись на пол, милок, не брезгуй. А что наплевано, так то ж народ наплевал. Народом не брезгуют… Так что там с куревом?
Мы вчетвером сбились в кучку возле решетки.
— Черт знает что… — тихо проговорила Зиночка. — Нужно срочно позвонить… кому-нибудь.
— Кому? — печально усмехнулся Димушка.
— Ну, не знаю… Грачеву.
— И что мы ему скажем? — спросил Димушка. Что нас час спустя после товарищеского суда задержали за тунеядство? С сосисками и четырьмя бомбами бормотени?
— «Акстафа» — не бормотень, — запротестовал Троепольский. — Портвейн высшего…
— Заткнись… без тебя тошно… — перебил его Димушка и стал раскачиваться, зажав голову в ладонях. — Боже, как это не вовремя, как не вовремя…
Теперь он действительно стал ужасно похож на еврея — и неважно, сколько при этом на нем было навешено крестов. Зиночка осторожно тронула Димушку за плечо:
— Ну что уж вы так убиваетесь, Дима? Что нам за это могут сделать? Максимум — запишут прогул. Неприятно, но переживем. А скорее всего, просто выпустят без каких-либо последствий. Разберутся и выпустят. Ведь мы ни в чем не виноваты…
— Давайте так… — возбужденно зашептал Троепольский. — Давайте договоримся. Нужно говорить одно и то же, чтоб без путаницы. Нас командировали…
— Какое «командировали»… — простонал Димушка. — Не городи чепухи. У тебя есть командировочное предписание в винный отдел?
— Ладно, не командировали. Скажем: послали. Рабочий коллектив послал нас…
— Эх, сказал бы я, куда нас послал и, главное, пошлет рабочий коллектив, — злобно прошипел Димушка. — Сказал бы, но при женщинах не могу…
Троепольский нетерпеливо фыркнул:
— Слушай, не цепляйся к словам. Главное — говорить одно и то же, чтоб не заподозрили.
— Заподозрили? — испугалась Зиночка. — В чем нас могут заподозрить?
— Да в том-то и дело, что ни в чем! — Троепольский зачем-то оглянулся на мужичка в ботах. — Скажем так: сегодня у нашего рабочего коллектива праздник. Приход новой сотрудницы. Вот она, Сашенька, налицо. Скажем дальше: профсоюзный комитет лаборатории командиро… послал… черт, Димушка, ты меня совсем запугал!., а, вот: поручил! Поручил! Поручил нам обеспечить материальную базу. Для праздника по окончании рабочего дня. Причем закупка продуктов производилась в счет законного обеденного перерыва. Вот и все. Запомнили?
— А что, звучит логично, — поддержала его Зиночка. — Умница Троепольский.
Димушка снова испустил приглушенный стон.
— Вы что, еще ничего не поняли? — Он обвел нас взглядом, полным отчаяния и боли. — Ничего-ничегошеньки? Мы все пропали. Все четверо. Меня уволят с гарантией — после владимирской истории, протоколов, санкций и судов это совершенно неизбежно. А поскольку нас поймали сразу после суда, то припишут еще и особый цинизм. А особый цинизм — это уже пахнет антисоветчиной. Да-да, Троепольский, антисоветчиной! И вас притянут ко мне как к рецидивисту. Без меня вас бы еще могли пожалеть, со мной — никогда. Со мной — это уже группо-вуха, организованная преступность. Они там любят раскрывать организации. Вот мы вчетвером и организация. Банда «Черная кошка»…
— Ну, ты напридумывал, — неуверенно проговорил Троепольский и смолк
Молчала и Зиночка.
— Теперь дошло? — Димушка крутанул головой. — Вижу, дошло. Вот к этому и готовьтесь. К увольнению, к волчьей записи в трудовой книжке. Зиночка, сколько вам осталось до пенсии?
— Два года.
— Не страшно. А вот тебе… — Он перевел взгляд на Троепольского. — Прости, чувак. Подвел я тебя с этой командировкой…
— Так что с куревом, интеллигенты? — крикнул сзади мужичок в ботах. — Давайте лучше сейчас скурим. В камере один хрен отнимут. Жалко, пропадет.
— Ну что вы мелете, в какой камере? — упрекнула его Зиночка. — Нас скоро выпустят.
— Хе-хе… выпустят… — захихикал мужичок — На кирпичный заводик тебя выпустят, барыня, территорию убирать. Пятнадцать суточек, как одна копеечка. Я уж таких знаешь сколько навидался?
К решетке подошел мент с блокнотом и авторучкой.
— Кто тут новенькие тунеядцы? Вы, что ли? Давайте оформляться… — Он ткнул концом авторучки в сторону Троепольского. — Ты, с портфелем, выходи. Посмотрим, что там у тебя звякает.
Троепольский вернулся спустя четверть часа. Глаза его блуждали, лицо пошло красными пятнами.
— Что такое?
— Обыскали… — тихо выдавил он. — Как зека какого-нибудь. Все из карманов забрали. И портфель… портфель тоже… Сказали — на пятнадцать суток оформлять будут. Новый порядок.
— Я ж говорил! — торжествующе заметил мужичок в ботах. — Хоть курево-то оставили? Курево тебе по закону положено. Надо скурить, слышь, интеллигент. Отнимут ведь в камере, жалко.
Меня повели третьей, после Зиночки. В маленькой комнате сидел за столом усталый молодой лейтенант.
— Фиу, фиу… — присвистнул он, не поднимая головы.
Я оторопела: они что тут, по-птичьи объясняются?
— Как вы сказали?
— Фио, — повторил он, занеся ручку над разграфленным листом протокола. — Фамилия, имя, отчество.
— Ах, это…
Я послушно ответила на вопросы. Затем лейтенант отложил ручку и посмотрел на меня.
— Совсем молоденькая, а туда же.
— Куда же? — жалобно спросила я. — У меня сегодня первый рабочий день. Я торт в «Метрополе» купила.
— Торт с собой? — оживился мент.
— Нет, в лаборатории, в холодильнике.
— Жаль, — сказал он. — Съели бы здесь. А теперь пропадет. Зачерствеет за полмесяца.
— Какие полмесяца?
Лейтенант сочувственно вздохнул:
— Новый порядок, подруга. Тунеядцев оформляем на пятнашку. Извини. Приказ начальства… — Он ткнул ручкой в потолок и неодобрительно покрутил головой. — Ладно, давай, выкладывай. Что там у тебя в карманах.
Я стала выворачивать карманы. Происходящее было настолько нелепо и неправдоподобно, что мне даже показалось, будто перед столом лейтенанта стоит какая-то другая Саша Романова. Она стоит и выворачивает карманы, а я смотрю со стороны и) недоверчиво цокаю языком: быть, мол, такого не может. Вот она достает кошелек, перчатки, платочек, несколько медных монет, записную книжку… Записную книжку!
— Товарищ лейтенант, позвольте мне позвонить. Ну пожалуйста, очень прошу. У меня ж дома с ума сойдут, пожалуйста…
Я канючила так, что чуть и впрямь не заплакала. Лейтенант снова вздохнул и подвинул ко мне телефон.
— Ладно, давай, только быстро. Три минуты. Номер оперуполномоченного Сергея Свиблова был записан где и положено, на букве «С».
— Ты что, домашний телефон на память не знаешь?
— Это мамин, рабочий. Недавно сменился… — успокоила я лейтенанта.
Только бы он был на месте… только бы он был на месте…
— Алло.
— Сережа? Это Саша Романова, — выпалила я.
— Я звоню из отделения милиции, и мне нужна ваша помощь. Срочно.
— Где именно? — спросил он после секундной задержки.
— На улице Красной Конницы.
— Буду через четверть часа, — сказал Свиблов и разъединился.
Я осторожно положила трубку на рычаг.
— Спасибо, товарищ лейтенант. Видите, даже трех минут не понадобилось…
Мой рыбьеглазый опер прибыл в отделение даже немного раньше, чем обещал. Он сунул под нос дежурному свою красную книжечку и, едва скользнув взглядом по решетке «обезьянника», проследовал прямиком в кабинет начальника. А еще три минуты спустя туда же привели меня. В большой комнате рядом с большим столом стоял навытяжку капитан милиции; чуть дальше, возле окна, виновато переминался усталый лейтенант. Сидел только Сережа, зато сидел основательно, со вкусом, положив ногу на ногу и покачивая знакомым ботинком. Увидев меня, он тоже поднялся со стула.
— Я ее забираю. Где протокол?
Лейтенант протянул Свиблову листок, который Сережа немедленно скомкал и сунул в карман.
— Пойдемте, Романова.
— Сергей Владимирович, — сказала я, — можно вас на минуточку?
Мы отошли в угол комнаты.
— Сережа, со мной еще трое.
Он вытаращил на меня свои судачьи глаза.
— Какие трое? Вы что, все отделение намерены отсюда вытащить?
— Сережа, так не пойдет, — прошептала я по возможности твердо. — Эти трое тоже из лаборатории. Нас взяли вместе. Вы понимаете, как это будет выглядеть, если выпустят только меня? По-моему, ваш же начальник особо просил соблюдать секретность. Или я ошибаюсь?
Свиблов подумал и повернулся к ментам.
— Придется выпустить и остальных.
— Всех? — с готовностью вскинулся капитан. — Сколько их там, Костин?
— Девятнадцать, — отозвался лейтенант.
В его устремленном на меня взгляде уже не было прежнего сочувствия. Скорее брезгливость.
— Девятнадцать ни к чему, — с царственным великодушием ответил Сережа. — Хватит тех троих, которые были с нею. Романова, фамилии.
— Смирнова, Троепольский, Беровин.
— Вот их, — подтвердил Свиблов.
— И протоколы, — напомнила я.
— Протоколы принесете мне. Всё, Романова?
— Всё. Я пойду назад в камеру?
Сережа кивнул.
— Верните ее пока в камеру. Выпустите всех четверых через десять минут после моего ухода. Скажете, что на первый раз милиция ограничивается предупреждением. Исполняйте.
Нас отпустили полчаса спустя. Причина задержки обнаружилась позже, когда стали открывать бутылки «портвейна высшего качества»: в одной из них, вскрытой и потом на скорую руку закупоренной, оказалась вода. Зато четыре кило Зиночкиных сосисок в целлофане остались нетронутыми — как и наши четыре научно-производственные карьеры.
3
Он позвонил в июне. Уже несколько месяцев после беседы с седовласым полковником я брала телефонную трубку с опасением: а вдруг вызовут и потребуют что-нибудь этакое…
— Алло, — осторожно сказала я.
— Алло, императорка?
Мое сердце рухнуло в пятки, а затем подпрыгнуло вверх и заколотилось где-то у горла, мешая дыханию. Я и думать не думала, что так жду этого звонка.
— Алло, императорка? Александра? — повторил Сатек.
Я судорожно сглотнула и попробовала ответить, но вышло что-то нечленораздельное.
— Наверно, плохо со связью, — предположил он. — Я перезвоню.
— Алло! Алло! — завопила я, до смерти перепугавшись, что он сейчас повесит трубку.
— Ты меня слышишь? — спросил он. — Алло! Алло! Нечеловеческим усилием воли я оттолкнула сердце от горла и прохрипела:
— Алло… алло…
Он немного помолчал.
— Алло, — повторила я.
— Эй, императорка, — голос Сатека звучал с оттенком нетерпения. — Даже если допустим, что ты забыла другие слова, кроме «алло», я все равно готов слушать тебя всю вечность.
— Привет, Святой Сатурнин.
— Ну, слава богу, — обрадовался он. — Уже какая-то беседа. Привет.
— Почему ты так долго не звонил?
Сатек озадаченно хмыкнул.
— Почему я не звонил? Ты на серьезе задаешь этот вопрос? Если я правильно помню, ты хотела выйти замуж за этого твоего Лыску.
— Лоську.
— Неважно. Важно, что не за меня.
— Ты не предлагал.
— Ты не разрешала мне таких возможностей.
— Не давала.
— Ну, а я что говорю?
— Ты сказал: «Не разрешала возможностей». По-русски говорят: «Не давала мне такой возможности».
Он ответил сердитым молчанием.
— Не злись, милый, — сказала я. — Я не собиралась учить тебя русскому языку. Просто я так рада тебя слышать, что плохо соображаю. Извини.
— Скажи это еще раз, — попросил он.
— Я плохо соображаю, извини.
— Нет, не это! Скажи то, как ты меня назвала.
— Милый.
— Еще!
— Милый…
— Еще!
— Хватит с тебя.
— Не хватит, — возразил Сатек — Мне тебя никогда не хватит. Я не звонил, потому что ждал. Мне думалось так: ты поженишься где-то в декабре. Звонить до свадьбы без смысла. После свадьбы тоже. Надо поздравлять, а как я могу поздравлять такое? Потом ты должна была понять, что этот Лыска не для тебя. Вернее, ты не для Лыски. Это еще месяц. Получается январь. Потом ты должна была бороть свое упрямство. Ты жутко упрямая императорка. Это еще половина года. Получилось, до июля звонить без смысла. Вот я и не звонил. А сейчас позвонил.
— Сейчас июнь, — напомнила я.
— Хоть февраль! — закричал он. — Хоть март! Я больше не могу ждать. Я позвонил спросить. Ты уже поняла, что Лыска не годен? Если да, то…
— Сатек, — перебила его я, — я не выходила замуж.
— Что?!
— Что слышал. Я не выходила замуж ни за Лыску, ни за Лоську. Я, как последняя дура, ждала твоего звонка. А ты не звонил и не звонил. Кто тут должен сердиться — ты или я?
Святой Сатурнин потрясенно молчал.
— Эй, — позвала я, — ты еще жив?
— Не знаю, — ответил он. — Ты можешь приехать?
— Куда, в Прагу? — рассмеялась я. — Ты что, забыл, где я живу? У нас это называется выезд за границу. Дозволено только ударникам. А я тунеядка.
— Что это — тунеядка?
— Неважно. Пресмыкаюсь втуне. Мне до Праги, как до неба. Приезжай ты.
— Куда, в Ленинград? — грустно спросил Сатек — Ты что, забыла, где я живу? У нас это тоже называется выезд за границу…
Мы немного помолчали.
— Ладно, — сказала я. — Давай прощаться. Этак ты разоришься на международном тарифе. Целую тебя, милый. Позвонишь еще?
— Я люблю тебя, — сказал он. — Слышала?
— Нет, — ответила я. — Такие слова нельзя услышать по телефону. Они не пролезают в кабель…
Что-то щелкнуло, разговор прервался. Сжав трубку обеими руками, я стояла возле тумбочки в коридоре, и колени мои дрожали, а из телефона слышались ритмичные частые гудки… — нет, не гудки — гудит паровоз… — слышались стуки, крики, вопли моего защемленного сердца, как из аппарата реанимации.
«Нужно сесть на стул», — подумала я и села.
«Он все-таки позвонил», — подумала я затем и вдруг поняла, что на самом деле думаю только о последних его словах. Они не только пролезли в кабель. Они затопили весь окружающий мир. Они были теперь повсюду, куда ни глянь, куда ни повернись. «Я. Люблю. Тебя. Слышишь?» Ага. Попробуй, не услышь. Как с ними жить дальше, с этими словами?
И тут меня обожгло: возможно, разговор разъединился случайно! Возможно, как раз в этот момент Сатек пытается прозвониться заново! А я, как последняя дура, сижу, держа в руках трубку реанимационного телефонного аппарата! Верни ее на рычаг, идиотка! И действительно, телефон зазвонил сразу же, как только я положила трубку. Меня будто подбросило.
— Алло! — крикнула я в микрофон. — Алло, Сатек! Алло! Алло!
— Какой затык? — недоуменно произнес незнакомый голос. — При чем тут затык? Алло! Это Саша? Можно Сашу?
Я снова села. Это не Сатек. Колени уже не дрожали, зато навалилась какая-то невиданная необоримая усталость. Усталость и зевота.
— Можно Сашу. Саша у телефона. С кем я говорю?
— Ну знаете, Александра Родионовна… Это просто некрасиво с вашей стороны, — обиженно сказали на другом конце провода. — Когда нужно было выручать вас из участка, вы узнали меня по первому слову…
— А, Сережа… — Я подавила зевоту. — Извините, я думала это кто-то другой. Вы что-то хотели?
— Надо встретиться. Прямо сейчас. В мороженице на Садовой. Понимаю что сейчас вечер, и вы устали, но дело не терпит отлагательств.
— Хорошо, — ответила я. — Это называется «с вещами на выход». Сейчас возьму вещи и выйду.
— Не городите чепухи. Я жду.
Он повесил трубку, а я поднялась со стула и вяло переоделась. Странно: я так боялась этого звонка, а когда он последовал, не чувствовала ничего, Кроме усталости и равнодушия. Кого волнуют такие незначительные мелочи? Мир теперь делился для меня на две неравные части. Одна — крошечная, едва заметная, но тем не менее обладающая досадной способностью постоянно путаться под ногами, включала повседневную жизнь, работу в лаборатории, квартиру, улицу, город и прочую ерунду. Другая — огромная и сияющая, как широкоформатный экран, когда смотришь на него из первого ряда, состояла из четырех всеобъемлющих слов: «Я-Люблю-Тебя-Слышишь».
Когда я застегивала босоножки под пристальным взглядом собаки Бимы, из гостиной выглянула мама:
— Сашенька, уходишь? Когда вернешься?
— Скоро, мамуля. Это тут, недалеко, в мороженице. Нужно повидать кое-кого.
— В мороженице? Зачем? Если это мальчик и он стесняется, я могу закрыться и не выходить…
После разрыва с Лоськой мама сильно переживала мое затянувшееся одиночество. Я подошла и поцеловала ее в лоб.
— Мамуленька, ты живешь в прошлом. Те мальчики, которые сейчас подходят мне по возрасту, давно уже не стесняются мам своих подружек Честно говоря, они уже вообще ничего не стесняются…
— Ладно, — вздохнула мама. — Может, заодно выведешь собаку? В эту мороженицу пускают, там буфетчица моя клиентка. Вернее, ее пуделек
Бимуля, конечно, тут же вскочила и, урча, принялась носиться по коридору из конца в конец. «И в самом деле, — подумала я, — отчего бы не взять с собой собаченцию? Я ведь ей обещала сотрудничество в области киллерского ремесла: она вынюхивает, я исполняю… А слово надо держать — особенно если оно зафиксировано на милицейской прослушке».
Сережу я увидела еще на подходе к мороженице, в окно. Шел десятый час вечера, и в помещении, кроме Свиблова, сидела только одна случайная парочка влюбленных школьников, неизвестно почему застрявшая именно здесь, и именно в то время, когда весь город гуляет по набережным. Когда мы с Биму-лей ввалились внутрь и, кивнув знакомой буфетчице, гордо проследовали к угловому столику, оперуполномоченный не смог скрыть своего изумления.
— Вы полны неожиданностей, Александра Родионовна. Вот так, с собакой…
— Что это вы перешли на имя-отчество, Сережа? — поинтересовалась я. — Можно по-прежнему — Саша. Или мы теперь в ссоре? Ну, не узнала вас по телефону, извините. А надо узнавать? Мы ведь пока не дроля с дролечкой, правда?
— Пока нет, — усмехнулся он. — Но зачем вы привели с собой пса?
Я погрозила оперуполномоченному пальцем.
— Во-первых, это не пес, а честная сучка. А во-вторых, специальных указаний о неприводе собак не было. Вот я и привела. Считайте ее моей помощницей. Доктором Ватсоном. Бимуля, ты ведь не откажешься быть доктором Ватсоном? Зарплата — сосиска в неделю.
Бима, уже устроившаяся под столом, протестующе стукнула хвостом об пол. Размер оклада ее явно не устраивал.
— Какое мороженое предпочитаете? — спросил Свиблов.
— Предпочитаю клубничное. Но тут у Антонины Васильевны только сливочное и крем-брюле… А впрочем, гулять так гулять! Если уж мы играем в барышню и кавалера, то возьмите мне, Сережа, сто граммов рислинга. И полпачки печенья «Дружба» для доктора Ватсона. Эта дружба вам жизненно необходима, поверьте… — Я заговорщицки наклонилась над столом. — Кто-кто, но мы-то с вами хорошо знаем, насколько информативными бывают мои беседы с этой, извините за выражение, сукой.
Бима снова протестующе стукнула хвостом. Свиблов отошел к буфету, а я наклонилась к собаке и потрепала ее за ухом.
— Слушай, Бимуля, кончай возражать хозяйке. Мы должны выступать единым фронтом. В ответ на мои слова ты можешь только восхищенно повизгивать. Зато когда говорит он, позволяется время от времени порычать — негромко, но внушительно. Поняла?
Собаченция ответила грустным взором.
— Куда ты меня притащила? — упрекали ее глаза. — Почему я лежу на этом грязном полу, вместо того чтобы гулять вдоль канала, обнюхивая тамошние столбики и деревья? Тебе не стыдно?
Хорошо, что вернулся опер со стаканами и печеньем, которое я тут же скормила Бимуле. Мы отпили по глотку и немного помолчали.
— Дело серьезное, Саша… — начал Свиблов. — Не знаю, слышали ли вы о случаях в парке Сосновка. В прессу это не попадает, но слухи-то ходят.
Я пожала плечами.
— Понятия не имею, о чем вы. Сосновка — это на Гражданке? Я там даже не бываю. Наверно, поэтому и слухи не дошли. А что такое?
Он замялся.
— Да вот… Знаете, я лучше покажу, чем рассказывать… — Оперуполномоченный раскрыл портфель и достал оттуда конверт. — Саша, я могу вас попросить пересесть? Вот сюда, лицом к залу, чтобы никто не увидел…
Снова пожав плечами, я пересела, как он просил, и открыла конверт. Там были фотографии. Мертвые лица — по-видимому, женские, искаженные жуткими гримасами. Голые тела в синяках и ранах. Страшная, мучительная смерть вопила с каждого снимка. Я не смогла досмотреть до конца.
— Что это, Сережа? Зачем вы показываете мне этот кошмар?
Он вложил снимки в конверт и убрал в портфель. Бима деликатно заурчала, намекая на желательность нового подношения. Но мне было не до печенья.
— Это длится уже три года, — сказал Свиблов. — Двадцать три изнасилованных и убитых девушки. Почерк везде один и тот же, то есть речь идет об одном и том же маньяке. Действует и вечером, и при свете дня. Сначала он, видимо, оглушает жертву ударом сзади. Затем раздевает и заворачивает в полиэтиленовую пленку. Потом насилует, душит и выбрасывает там же, в парке. Следов никаких. Свидетелей тоже. Полный тупик.
— Надеюсь, вы рассказали об этом не потому, что подозреваете меня?
— Саша… — Свиблов устало потер глаза. — Я ведь просил вас подойти серьезно. Неужели вам хочется шутить даже после этих фотографий?
— Я не шутила. Какая еще может быть причина? Я ведь не милицейский постовой, не следователь, не оперативник Чем я могу тут помочь? Ничем.
Оперуполномоченный поднял на меня свой рыбий взгляд:
— Так-таки и ничем?
Мы помолчали.
— Мне еще вот что непонятно, — сказала я, чтобы хоть чем-то заполнить паузу. — Почему этим делом занимаетесь вы, а не милиция? Есть же этот… как его… угрозыск
Он пожал плечами.
— Ну… как вам это получше объяснить… Сейчас у нас с милицией не лучшие отношения. Там многое… э-э… не в порядке. Многое требует… э-э… перетряски. Поэтому есть приказ забирать у них самые тяжелые дела. Как будто нам больше нечего делать… — Свиблов уныло покрутил головой. — А наши ресурсы, откровенно говоря, не слишком подходят для уголовки. И опыта соответствующего меньше, и информаторов нет. В общем, шансов не так уж и много.
Он залпом допил вино.
— Хотите еще? Нет? А я возьму…
Свиблов снова сходил к буфету и вернулся с бутылкой. Влюбленная пара ушла, теперь в мороженице оставались только мы. Оперуполномоченный налил себе полный стакан, плеснул мне и стал пить, мерно двигая кадыком.
— Уф, какая кислятина… — он снова наполнил стакан.
— Сережа, вы намерены напиться?
— Как же, этим напьешься… — мрачно хмыкнул Свиблов. — Слушайте, Саша, я хочу быть с вами совершенно откровенным. Мой начальник привлек вас так, на крайний случай. Потому что кто вы и что вы — непонятно. Даже вам самой непонятно. Я прав?
— Стопроцентно.
— Ну вот. Он так и сказал: на самый крайний. Когда полный тупик, в ход идет что угодно, хоть нечистая сила, хоть марсиане, хоть еврейская каббала.
— И по какому же разряду из этих трех прохожу я?
Он отмахнулся от вопроса, как от надоедливой мухи:
— Да какая разница, Саша? Вам самой-то не все равно? Важно, что у вас что-то получается. Может, и здесь получится? — Свиблов наклонился над столом и прошептал, уставившись в меня своими судачьими глазами: — Убейте этого гада, Саша. Просто убейте. Вы же видели, как он девочек этих изуродовал… Я вам еще заключение патологов не показывал — там вообще мрак. Разве такая мразь имеет право жить? Он ведь дальше продолжит… эти маньяки не останавливаются, пока им голову не свернешь. Вот и сверните ему голову. Пожалуйста. Пейте!
Мы выпили, и опер разлил по стаканам то, что осталось.
— Я обещаю попробовать, — сказала я. — Но не знаю, получится ли. Понимаете, Сережа, все те случаи… Во всех тех случаях я хорошо представляла, кого… ну…
— Кого убиваете, — подсказал Свиблов.
— Ну да. А тут… тут же о нем ничего не известно. Мне его даже не вообразить. Чудище какое-то мерзкое, склизкое, с клыками. Но он ведь, наверно, выглядит совершенно иначе. Если бы вы подсказали — как? Хоть какие-нибудь детали, минимальные. Потому что иначе… иначе я не смогу.
Оперуполномоченный покрутил головой:
— Эх, Саша, если бы мы знали детали, нам не понадобилась бы ваша помощь… — Он снова раскрыл портфель и достал оттуда конверт с фотографиями. — Вот примерно все детали. Я вам оставлю.
— Не надо.
— Надо, — твердо проговорил он. — Чтобы вы помнили, что будет происходить, если у вас не получится. Может быть, прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, он кладет под куст двадцать четвертую девушку. Вернее, ее мертвое тело. Вы понимаете?
Свиблов застегнул портфель, допил вино и вышел не прощаясь. Я толкнула ногой задремавшую Бимулю и тоже поднялась.
— Так и ушел? — ахнула из-за прилавка знакомая буфетчица Антонина Васильевна. — Даже не проводил?! Ну и мужики теперь… Не везет тебе, Сашка.
— Не везет, Антонина Васильевна, — подтвердила я. — Он хоть заплатил?
— А как же! — подмигнула она. — Передавай маме привет — от меня и от Жоржика!
Мы с Бимой брели вдоль канала, и конверт со страшными снимками обжигал мне бок и подмышку. Я ни капельки не сомневалась, что у меня ничего не выйдет. Тех, предыдущих, убивала моя ненависть. Я просто шипела им: «Сдохни! Сдохни!», и они исполняли приказ. Но здесь… допустим, я даже произнесу эту мистическую формулу… А зачем допускать-то? Вот возьми и произнеси! Хуже-то все равно не будет…
Я остановилась, взялась за конверт обеими руками и выпалила:
— Сдохни!.. Сдохни!.. Сдохни!..
Не замеченный мной встречный парень шарахнулся в сторону, отбежал на безопасное расстояние, оглянулся:
— Совсем сбрендила?!
Бимуля угрожающе зарычала, и парень, качая головой, пошел себе дальше. Честно говоря, я понимала его чувства: что-то похожее на церемонию вуду на Крюковом канале в белую ночь — это и в самом деле нечто…
— Сдохни!.. Сдохни!.. Сдохни!.. — еще несколько раз проговорила я и прислушалась.
В мире все оставалось по-прежнему. На улицах и набережных сгущались молочные сумерки — до одиннадцати еще немного стемнеет, а потом снова начнет светлеть. Белая питерская ночь, томительный морок, потерянная душа, отжатая в рыхлую творожную массу… Где-то там, глубоко в животе этой ночи, ворочается сейчас страшный склизкий урод с клыками и скрюченными пальцами. Или уже не ворочается? Возможно, его настиг удар моей ненависти… Возможно, он испускает свой мерзкий дух в эту самую минуту…
— Сдохни!.. Сдохни!.. Сдохни!..
Бима ткнулась лбом мне под колено. Что ж, можно понять и ее. Собака устала от странных выкрутасов хозяйки. Собаке хочется домой — слопать вечернюю миску каши и залечь на коврик. Всех их можно понять: и шарахнувшегося парня, и собаку Биму, и опера Сережу Свиблова, и его седовласого полковника, и даже неведомого урода из Сосновки. Не понять только саму себя, Сашу Романову. Получилось? Не получилось? Получится? Не получится? Откуда взялась во мне эта странная способность? Сохранилась ли она сейчас? И даже если сохранилась, сработает ли завтра, через неделю, через год?
Мы шагали домой, Бима нетерпеливо натягивала поводок, а я безуспешно пыталась припомнить что-то очень важное или казавшееся таковым — что-то, случившееся со мной еще до встречи с опером. До. Было ведь что-то такое и до конверта с этими жуткими фотками. Но что? Что?
Ах, да: звонок Сатека. Звонок Сатека и «Я-Люблю-Тебя-Слышишь»… Это произошло всего полтора часа тому назад. Полтора часа… — или полтора года? Сейчас уже и не поймешь…
Свиблов позвонил через день:
— Ну что, Саша? Получилось?
— Это вы мне скажите, получилось или нет! — психанула я. — Мне-то откуда знать? Вы что, думаете, ангел смерти мне докладывает? Да даже если и доложит, откуда мне знать, кто из десятков умерших ваш маньяк? Я делаю все что могу, и перестаньте задавать идиотские вопросы!
Он молчал так долго, что я подумала — разговор прервался.
— Сережа, вы еще на линии?
— Да, я здесь, — тихо ответил опер. — Не надо кричать, Саша. Вижу, вы приняли эту историю близко к сердцу. Что понятно. Но подумайте, каково мне. Дело-то висит на моей шее. Или даже на моей совести. Так что сделайте скидку, не корите за идиотские вопросы. По-человечески, да?
Мне стало стыдно.
— Извините.
— Ничего, — сказал он. — Я буду держать вас в курсе.
Июнь катился в лето — первый июнь в моей взрослой жизни, первый июнь без экзаменационной сессии, без годовых контрольных работ, без мыслей о каникулах — студенческих или школьных — месяц как месяц, мало чем отличающийся от прочих. На работе все сидели тихо, как бобики на привязи у магазина, — сидели и ждали. Чего ждали? А чего ждут бобики? Выхода хозяина, который отвяжет поводок и скажет — или не скажет, — что будет с ними, бобиками, дальше. И что бы он ни сказал, что бы ни сделал — бобики примут всё. Примут с визгом, трепетом, стоном или даже протестующим лаем — но примут. Все это было исчерпывающе верно и в отношении нас.
Нечего и говорить, что прежний свободный режим остался в прошлом. Теперь все старались приходить на работу вовремя: отдел кадров то и дело устраивал внезапные проверки. Вылазки наружу превратились в настоящую операцию, что-то вроде разведки боем. И хотя вскоре Грачев выбил для всех сотрудников особые пропуска, утверждающие, что «податель сего» пребывает в статусе перемещения из лаборатории на головную площадку института — или обратно, — это мало помогало. Пропуск еще мог сработать на улице или в транспорте, но не в случае, когда облава захватывала тебя в магазине, в зале кинотеатра или, еще того хуже, в пивнушке.
Чем мы занимались? Кто чем. Читали, вязали, расписывали преферанс, забивали козла, играли в «монопольку», в шахматы, в покер. Устав, выходили под окна перекурить и трепались, трепались, трепались. Временами кто-то, одурев от скуки и ничегонеделания, заводил речь о работе — вернее, о том, что именовалось работой в наших квартальных, годовых, пятилетних планах, но почти сразу же умолкал под удивленными и осуждающими взглядами коллег. Ведь планы заведомо составлялись на идеальной полуфантастической основе — как, впрочем, и последующий отчет об их выполнении, — так что внесение любой реальной практической детали немедленно разрушало эту воздушную конструкцию.
— Понимаешь, Сашуня, это как мир и антимир, — объяснял мне Троепольский. — Они не могут существовать вместе. Так вот, наши планы и отчеты — это мир, а реальная работа — антимир. Малейший практический опыт немедленно продемонстрирует полную нежизнеспособность всего проекта и таким образом уничтожит его. Ты хочешь, чтобы лабораторию закрыли? Нет? Тогда даже не заикайся о работе. Мы работаем раз в квартал — составляем отчет о предыдущем и пишем план на следующий.
Ха! «Мы работаем!» Честно говоря, «мы» не делали и этого: планами и отчетами в лаборатории занималась одна только Зиночка.
— Отдуваюсь за весь коллектив… — смеялась она.
Впрочем, Зиночка тоже не перетруждалась — внесение мелких изменений в прошлогодние версии документов занимало у нее не более часа…
«Ты хочешь, чтобы лабораторию закрыли?»
Я молчала, потому что Троепольскому вряд ли понравился бы мой ответ на этот вопрос. Конечно, мне не хотелось, чтобы их выкинули на улицу: как-то так получилось, что все институтские связи распались, и теперь грачевцы были моими единственными друзьями. Но еще меньше мне хотелось бы оказаться в положении самого Троепольского, для которого не существовало более страшной угрозы, чем перспектива закрытия лаборатории… Построить на этом жизнь? Продолжать и дальше это безрадостное пресмыкательство втуне? Бр-р… Я была совершенно уверена, что уйду оттуда при первой возможности — например, через три года, когда закончится обязательный стаж молодого специалиста. Вот только останусь ли я такой же через три года? Лаборатория затягивала, как болотная трясина. Тимченко знал, что говорил, когда предупреждал меня об подобном варианте…
Маньяк из Сосновки на какое-то время отвлек меня от этих безрадостных раздумий. В первые дни после разговора со Свибловым я вообще не могла думать ни о чем другом. Были моменты, когда мне казалось, что дело сделано и можно наконец выбросить конверт с фотографиями… Хотя нет, как можно выбросить такое — вдруг попадется кому-нибудь на глаза?.. Тогда сжечь. Да-да, сжечь. Или вернуть Свиблову. Да, это лучше всего — вернуть Свиблову. Вернуть со словами:
— Готово, товарищ старший лейтенант. Мерзавец уничтожен и уже не навредит никому. Сдох, откинулся, сыграл в ящик Его переехал автобус. Он поскользнулся на банановой кожуре и упал виском на удачно торчащий штырь. С ним случился обширный инсульт. У него в квартире взорвался газ. В ванну упала электробритва, подонок потерял сознание и утонул. Или того лучше: убийцу прирезали малолетние хулиганы — хотели попугать, приставили ножик к артерии, а он возьми да и дернись…
Я изобретала десятки самых разнообразных способов: что-то упадет сверху, кто-то толкнет на платформе, где-то…
— Саша! Саша!
— А?! Что?
— Где ты витаешь? — удивленно говорила Зиночка. — Я уже пять минут не могу до тебя докричаться. Подержи мне шерсть… Ага, вот так
Я послушно распяливала руки с шерстяным мотком. Так, на чем мы остановились? А! Где-то ударит током, куда-то провалится нога…
— Саша! Саша!
— А?! Что?
— Я уже смотала, можешь опустить руки… — Зиночка озабоченно заглядывала мне в лицо. — Ты здорова ли, мать? Все в порядке?
— Ага, в порядке… — рассеянно отвечала я.
Ага, в порядке? Какой «порядок» и какое «ага»… Уже час спустя я вдруг проникалась уверенностью, что у меня ничего не вышло. Тогда я хватала сумочку и, запершись в туалетной кабинке, доставала проклятые фотографии, чтобы в сотый, двухсотый, пятисотый раз впитав в себя заряд ужаса и ненависти, прошипеть в адрес неизвестного душегуба свою убойную формулу:
— Сдохни!.. Сдохни!.. Сдохни!..
Свиблов, как назло, не звонил: наверно, обиделся. И поделом мне — нечего рычать на людей. Уж если меня так корячит, то каково ему, ведущему это дело? С другой стороны, если нет звонка, то ничего не произошло. А если ничего не произошло, то есть надежда, что у меня действительно получилось! Получилось! Ну конечно, получилось! Мерзавец уничтожен и уже не навредит никому. Сдох, откинулся, сыграл в ящик. Его переехал автобус. Он поскользнулся на банановой кожуре и упал виском…
— Саша! Саша!
— А?! Что?..
Через две недели я не выдержала и сама набрала номер Свиблова.
— Боюсь сглазить, потому и не звоню, — ответил он на мой вопрос. — Пока всё вроде тип-топ. Уже третья неделя идет, как все тихо. Раньше-то выходил на охоту в среднем раз в пять дней. Так что, похоже, тьфу-тьфу-тьфу, сработало. Постучите по деревяшке, Саша. Или вы, как нечистая сила, по деревяшке не стучите и в черных кошек не верите?
— Очень смешно, — сказала я. — Значит, фотографии больше не нужны? Вы можете их забрать?
— Заберу недельки через три, если так и продолжится, — пообещал он. — И не только заберу. Тут уже вам положена награда посущественней, чем сто грамм рислинга в мороженице. Вплоть до ордена. Шутка ли — такое дело закрыть!
— Служу Советскому Союзу! — отрапортовала я. — Только орден мне ни к чему, Сережа. Мне бы в Прагу съездить. Поможете? В качестве награды посущественней.
— К этому вашему чеху? — спросил Свиблов после непродолжительного молчания. — Хорошо, попробую поговорить с начальством.
— Спасибо!
— Подождите, подождите, — остановил меня он. — Еще рано праздновать. Возможно, мы торопимся с выводами. Возможно, ему просто мешает большое количество постовых. Я ведь туда нагнал уйму людей: милиция, дружинники, местные добровольцы. Дежурят на каждой аллее.
— Вот пусть и дежурят! — весело откликнулась я. — Порядку больше, природа целее… Эх, Сережа, знали бы вы, как мне сейчас полегчало! А с Прагой так и вовсе именины сердца.
— Вам же сказано: подождите радоваться. А дежурных придется рано или поздно снимать. Никто не даст мне долго держать такое количество народу на одном объекте. В общем, созвонимся через три недели. Пока!
Я повесила трубку в превосходнейшем расположении духа, предвкушая, как расскажу Сатеку о нашей предстоящей встрече. Что ни говори, а бывают в профессии киллера и чрезвычайно приятные моменты.
Мы перезванивались со Святым Сатурнином каждую неделю. Разговоры были длинными, большей частью ни о чем: повседневные новости, обычная болтовня, смешки, междометия, нам одним понятные шутки и просто дыхание в трубке. Но главное содержание находилось между всем этим — не выразимое в словах, но исполненное того напряженного, наэлектризованного томления, какое возможно лишь между двумя отчаянно тянущимися друг к другу человеческими телами. По-моему, это одинаково удивляло нас обоих: как-никак, прошел почти год с момента нашего расставания. Неужели заряд тех двух сумасшедших дней в пустом здании городской школы способен сохраняться так долго, ничуть не теряя энергии, а, кажется, лишь накапливая дополнительные мегаватты? Существуют ли в мире другие такие аккумуляторы?
— Мне отказали в путевке, — грустно сообщал Сатек, — но я тут же подал новое заваление…
— Заявление, милый, — поправляла я. — Завалением оно станет, когда получишь ответ.
— Если они снова откажут, я перейду границу нелегалом, — говорил он.
— Ты что! — пугалась я. — Перестань так шутить. А то товарищи, которые сейчас слушают наш разговор, могут неправильно понять…
— Товарищи слушатели! — подхватывал Сатек — Пожалуйста, поймите меня правильно: я не могу жить без этой девушки. Пустите меня к ней, товарищи!
Так или примерно так мы с ним и общались, заметно пополняя доходную статью телефонных служб по обе стороны советско-чехословацкой границы. После разговора со Свибловым я сказала Сатеку, что, вполне возможно, меня скоро премируют поездкой в Прагу.
— С чего это вдруг? — удивился он. — Ты ведь всего четвертый месяц работаешь…
— Да так, есть один проект… — уклончиво ответила я. — Не спрашивай, это секрет. Но есть и плохая новость: я не смогу звонить тебе так часто, как прежде, — нужно подкопить денег на путевку…
Недели тянулись медленно, как будто вмещали теперь не семь дней, а все двадцать. В конце июля Грачев попросил всех задержаться после работы и устроил собрание.
— Вы, конечно, слышали о новом постановлении? — завлаб взял газету и прочитал вслух: — «Об усилении работы по укреплению социалистической дисциплины труда».
— Слышали, слышали, — откликнулся Троепольский. — Завязывай, Грачев, у людей тут дети по лавкам сидят, плачут, кашки просят. Рабочее время уже пять минут как закончилось. Дзынь-дзынь!
— Слышали, но не читали, — с нажимом продолжил Грачев. — Иначе не последовало бы такого вопроса. Потому что здесь прямо говорится о необходимости проводить различные собрания в нерабочее время. А кроме того… кроме того, есть тут слова, относящиеся непосредственно ко мне, заведующему этой лабораторией. Вот, я зачитаю: «Неспособность руководителя обеспечить надлежащую дисциплину труда на полученном участке работы должна расцениваться как несоответствие занимаемой должности». Всем понятно, что это значит?
Сотрудники молчали. Грачев вздохнул и отложил газету.
— Ладно, тогда объясню своими словами. Если раньше за опоздания, прогулы и прочие нарушения вы отвечали только своей дубленой шкурой, то отныне наказывать будут меня. То есть вас тоже, но сначала меня. А у меня шкура нежная, истончившаяся от многолетних сражений за наше с вами существование…
— Зато хорошо проспиртованная… — пошутил Троепольский.
Завлаба передернуло. Он уставился в полуподвальное окошко и молчал так долго, что мы испугались.
— Да чего ты, Слава… — смущенно проговорил Троепольский. — Я же в шутку. Ну хочешь, извинюсь? Извини, пожалуйста.
Грачев обвел комнату ничего не выражающим взглядом. По-моему, завлаб был трезв, что уже само по себе являлось из ряда вон выходящим событием.
— Собрание закончено, — тихо произнес он. — Советую всем хорошо запомнить: больше я не намерен вас покрывать. Друзья или не друзья — неважно. Вплоть до увольнения. Все свободны.
На трамвай мы с Зиночкой шли в подавленном настроении. Потом она махнула рукой:
— Да ну, еще расстраиваться из-за таких пустяков! Поверьте, Сашенька, это скоро пройдет. Когда-нибудь они там поймут, что одними постановлениями дела не поправишь, и всё вернется на круги своя. Как говорит Троепольский, Ка-Гэ-Было…
— …так и будет, — закончила я в тон старшей подруге. — Ваш трамвай, Зиночка!
Я помогла ей погрузить в вагон сумки и пакеты. Вот и еще один день прошел, а там, глядишь, и неделя проползет. Третья неделя. Третья — из трех недель ожидания, назначенных Свибловым для полной уверенности. А потом — пусть только попробуют не дать мне мою Прагу. Прагу — и Сатека, милого моего Святого Сатурнина…
— Девушка, это не вам гудят? — сказал кто-то рядом.
Мне и в голову не приходило, что автомобильные гудки приткнувшегося к тротуару «жигуленка» могут относиться к моей скромной персоне. Я присмотрелась: Свиблов! Свиблов приглашающе помахивал мне рукой из машины — сюда, мол, сюда!
— Что такое, Сережа?
— Садись!
Я подчинилась, и он резко рванул с места.
— Что случилось?
— Что случилось… — гримасничая, повторил он, и тут только я поняла, что оперуполномоченный мертвецки пьян.
— Сережа, остановите, я лучше выйду. Вы не в состоянии вести машину.
— Ах, это я не в состоянии… — передразнил меня Свиблов. — Сиди, где сидишь!
Он еле-еле ворочал языком, хотя руль держал относительно твердо.
— Мы что, перешли на «ты»?
— Перешли, перешли… на вот, смотри! — Опер выдернул из дверного кармашка конверт и бросил его мне на колени. — Совсем свеженькие, сегодняшние. Что скажешь?
Что я могла сказать? Еще одна девушка, еще одна жертва. Еще один вываленный наружу язык, выпученные безумные глаза, распухшее лицо, грудь в отметинах синяков, глубокие царапины на спине… Маньяк жил и здравствовал, невзирая на все мои дурацкие заклинания. Жил и мучил, здравствовал и убивал.
— Куда ты везешь меня?
— К тебе домой, куда же еще…
Снаружи мелькали облупленные фасады домов на набережной Фонтанки. Город как-то вдруг потемнел и насупился. Мы ехали и молчали. Вот тебе, девушка, и Прага…
— Что теперь будет?
— С кем, с тобой? — он пожал плечами. — Мне-то откуда знать? Не я решаю.
— А кто решает?
— Кто-кто… полковник.
— Сережа, я честно старалась.
— Старалась она… — снова передразнил опер. — Полковник говорит, что тут одно из двух. Либо ты не можешь — тогда ты на хрен нам не нужна. Либо ты не хочешь — тогда ты тоже на хрен нам не нужна. Получается, что, как ни посмотри…
— ..я на хрен вам не нужна! — закончила я. — Ну, так это же здорово. Разойдемся, как в море корабли…
— Ты что, совсем дура? — Свиблов крутанул руль, и «жигуленок» с визгом взлетел на Египетский мост. — В этой флотилии корабли не расходятся. В этой флотилии корабли тонут. Усекла?
Он повернул на Крюков и резко затормозил возле моей подворотни.
— Отпусти меня, Сережа, — сказала я. — Ты ничего не решаешь, да? Тогда просто передай своему полковнику…
Свиблов повернул ко мне свои рыбьи глаза. Сейчас, под градусом, они совсем побелели и казались в полумраке салона бельмами. На меня смотрел какой-то слепой разъяренный судак.
— Слушай сюда, Романова. У тебя есть еще ровно две недели. Да и то потому лишь, что я за тебя просил, чуть ли не в ногах у него валялся… — Он скорчил жалостливую гримасу и плаксиво изобразил свое заступничество: — Ну дайте ей еще время, ну пожалуйста, она девка хорошая… Короче, две недели. А потом пеняй на себя. Потом разговор будет другой. Выходи.
Я вышла. «Жигуленок» рванулся от тротуара, свернул на Садовую и пропал из виду. Просто поразительно, как быстро всё может обрушиться. Еще полчаса тому назад я строила планы на будущее, на Прагу, на Сатека. И вот — не осталось ни будущего, ни Сатека — только фотографии задушенной девушки с пятнистой от щипков грудью и спиной, исцарапанной когтями чудовища. Только неприятное ноющее чувство угрозы, только растерянность, только страх — страх и полнейшая неизвестность впереди.
Что это значит, потом разговор будет другой? Какой другой? Неужели этот седой полковник думает, что я намеренно уклоняюсь от выполнения задачи? Но зачем мне уклоняться? Какой тут может быть расчет? Да я готова на всё, лишь бы поймать этого гада! На всё! Тогда к чему эти угрозы? Возможно, он думает, что я подошла к делу недостаточно серьезно? Что нужно надавить на меня еще сильней, а если не выйдет — давить дальше, снова и снова, пока не получится. И если при этом инструмент сломается, то тоже не беда: как сказал Сережа, «на хрена ты нам такая нужна…».
Наверно, так.
Я поднялась в квартиру, надела ошейник на Бимулю и вышла с ней во двор, на нашу заветную скамейку. Собака безошибочно почувствовала мое состояние: побегала совсем немножко и уселась рядом, привалившись ко мне теплым боком и деликатно глядя в сторону. Весь ее вид словно говорил:
— Ну, что с тобой? Давай, рассказывай…
— Знаешь, Бимуля, — сказала я, закуривая сигаретку, — если уж быть до конца честной, то в чем-то полковник прав. Давай разберемся: что я такого сделала для успеха дела? Изображала идиотский ритуал перед фотками, как глупая старшеклассница, начитавшаяся брошюрок про колдунов вуду? Для полноты картины не хватало только потыкать иголкой в тряпичную куклу. И это все? По-твоему, это серьезный подход?
Бима мельком взглянула на меня, шевельнула хвостом и отвернулась.
— Вижу, и ты так думаешь, — кивнула я. — В самом деле: я ведь там в жизни не была, в этой Сосновке. Казалось бы, съезди, осмотрись на месте, авось что-нибудь почувствуешь, что-нибудь разнюхаешь…
Собака с сомнением фыркнула.
— Ладно, — согласилась я, — по части разнюхивания мне с тобой не сравниться. Но почувствовать-то я могла!
— Что? — ответил мне вопросом презрительный собачий взгляд. — Что ты там могла почувствовать? Что вы, люди, вообще умеете чувствовать?..
Это была чистая правда. Чистая, но обидная.
— Знаешь что, сука-собака? — сказала я. — А чего бы тебе не съездить туда со мной, если ты такая умная? Поехали и посмотрим, чего ты стоишь. Что, слабо? Ну конечно, понимаю! Намного легче дрыхнуть весь день на коврике, пока твоя хозяйка загибается в поисках выхода из безвыходного положения!
Бима снова фыркнула, соскочила со скамейки и уверенно направилась к мусорным бакам. Она бежала легкой танцующей походкой, немного бочком, левое плечо вперед, и высоко задранный хвост торчал вверх, как отставленный средний палец, самым красноречивым образом свидетельствуя о том, что эта сучка думает обо мне и моих проблемах.
4
β субботу мы отправились в Сосновку — Бима и я. Путешествовать с собакой в городском транспорте хлопотно даже в выходной. Автобусы, троллейбусы и метро заранее выписывают тебе волчий билет — и поди объясни, что никакая это не волчица, а самая обыкновенная дворняга, добрейшее существо, которое кусает только кобелей, да и то не кусает, а покусывает с целью стимуляции близкого знакомства. Остаются трамваи — на задней площадке и непременно в наморднике. Последнее особенно мучительно для моей свободолюбивой псины, которая и ошейник-то переносит лишь постольку-поскольку. В общем, к тому моменту, когда мы наконец сошли на Тихорецком, Бимуля изображала из себя лоскутную тряпку, скроенную из всех великомучениц, какие только известны многовековой истории. Я подвела ее к входу в парк, присела на корточки и сняла намордник. Бима немедленно лизнула меня в нос и пустила слезу для пущего эффекта. На собачьем языке это означало, что, во-первых, она меня никогда не простит, что, во-вторых, она меня уже простила и что, в-третьих, она вот-вот отдаст концы и завещает похоронить себя прямо здесь, вон под той симпатичной березкой.
— Бимуля, кончай разыгрывать страдалицу, — сказала я, глядя в печальные карие глаза. — Подумаешь, на двух трамваях проехалась. Некоторые здесь это каждый день проделывают, причем в час пик. А что до намордника, то это тоже не диво дивное. Это ведь только кажется, что люди без намордников ходят. Если присмотреться, то на каждом из нас намордник, и даже не один. В общем, хватит плакать, давай радоваться. Ты только глянь, какие тут просторы. Вот сейчас спущу тебя с поводка, гуляй — не хочу!
Гулять Бима хотела: немедленно улизнула в кусты и нагнала меня уже на аллее, вприпрыжку, весело помахивая хвостом и призывно припадая на передние лапы — воплощенное счастье бытия и коловращения жизни. Вот бы и мне научиться так же быстро забывать текущие неприятности…
Мы добирались в общей сложности не меньше двух часов, так что было уже около полудня. Погода стояла замечательная: начало августа, почти чистое небо, солнышко, легкая необременительная жара. Учитывая обстоятельства, я не ожидала увидеть в парке так много народа, но, по-видимому, люди предпочитали не верить слухам — или эти слухи не дошли до них вовсе. По аллеям прогуливались мамаши с колясками, носились наперегонки дети. Здесь же крутили педали велосипедисты, сосредоточенно наматывали километры потные бегуны, в то время как другие граждане, уже сбегав куда надо, расслаблялись под кустиком, поправляя здоровье бормотухой.
Необычным выглядело только большое количество милиционеров и дружинников: они стояли на каждом перекрестке аллей, прогуливались по дорожкам; казалось, не было ни одного участка, который не просматривался бы как минимум одной парой внимательных глаз. Тут и там желтели сквозь зелень бока патрульных «уазиков». Остаться незамеченным в этой мелкоячеистой цепи мог разве что невидимка. Но даже если предположить, что неизвестный маньяк невидим, этого никак нельзя было сказать о его жертвах — обычных девчонках и молодых женщинах от пятнадцати до тридцати пяти лет. Кроме того, он ведь не убивал их сразу, а истязал достаточно долго, причем в ряде случаев нападения происходили буквально здесь, в этих вот аллеях, в это самое время, рядом с этими вот гуляющими мамашами, пыхтящими бегунами и культурно отдыхающими алкашами… Да возможно ли подобное в принципе?
Мы с Бимулей обогнули два небольших пруда рядом с Тихорецким и двинулись в глубь парка. Я шла по наитию, куда глаза глядят, и успокаивала себя мыслью, что заблудиться в этом зажатом между четырьмя проспектами лесу попросту невозможно. Слева должен быть Светлановский, прямо — Мориса Тореза…
— Куда-нибудь выйдем так или иначе, правда, Бимуля?
Собака согласно вильнула хвостом. В этом районе Сосновки людей было заметно меньше, и я сразу ощутила неуютное чувство тревоги. Какой же это парк, в самом-то деле? Справа и слева от аллеи высился настоящий лес — высокие стройные сосны, густой березняк, чаща… Мимо, шурша шинами, промчался велосипедист, свернул в боковую аллею и исчез. Я огляделась и вдруг осознала, что мы с Би-мой остались одни — совсем одни, если не считать непрошеного спутника — страха. Собаченция, видимо, почувствовав мое состояние, уже не отходила далеко, жалась к ногам, вопросительно поглядывала на меня. Когда собаки смотрят вот так, снизу вверх, у них какой-то удивительно беззащитный, униженно-оскорбленный вид. Поэтому я присела, чтобы быть наравне со своим доктором Ватсоном. Бима благодарно моргнула и облизнулась.
— Что скажешь, Бимуля? — поинтересовалась я. — Молчишь, а? Ну, и кто ты после этого? Мы ведь как договаривались: ты вынюхиваешь, я исполняю. Значит, давай, вынюхивай!
Бима отступила на шаг и тщательно отряхнулась, начиная с ушей и кончая кончиком хвоста. Это означало, что собака пребывает в состоянии серьезного недоумения. Она явно не понимала, чего я от нее хочу. Честно говоря, я и сама-то имела весьма смутное представление о том, что мы здесь делаем. Бима вдруг насторожила уши и заворчала. Собака смотрела поверх моего плеча на что-то, находившееся прямо у меня за спиной, смотрела и тихо-тихо рычала, как будто в горле у нее включился маленький электромоторчик. Я похолодела от страха. Нужно было бы обернуться, но я смертельно боялась это сделать.
— Что там такое, Бимуля? — спросила я одними губами. — Это человек?
Собака, понятное дело, молчала, но я уже знала ответ. Это, конечно, был Он, убийца. Ведь ради этого я и пришла сюда — чтобы встретить Его. Не почувствовать, не осмотреться — встретить. И надо ли удивляться тому, что вот в эту самую минуту Он стоит у меня за спиной, этот поганый оборотень-невидимка во всеоружии своих клыков и когтей, стоит и готовится к прыжку.
«Встань, дура! — скомандовала себе я. — Встань и обернись! Ну, давай… на счет три: раз… два…»
— Тфи-и-и! — завопила я и прыгнула вперед.
Наверно, для пользы дела было бы очень кстати, чтобы это движение напоминало прыжок пантеры или, на худой конец, рыси. Но получилось что-то очень похожее на скачок лягушки — с корточек в противоположную канаву. Я прыгнула, упала на бок и обернулась.
Сзади не было никого — то есть вообще никого, если не считать этого поганца страха, который сотворил со мной такую издевательскую шутку. Лишь высокие сосны, и березняк, и нутро леса, светлое у дорожки и темнеющее там, в глубине.
— Бима, ну ты и сука! — с чувством воскликнула я. — Нельзя же так пугать хозяйку! Что ты там узрела — белку? Птицу?
Но Бимуля уже, как ни в чем не бывало, вынюхивала что-то у края аллеи. Тоже мне, помощница, нечего сказать… С таким доктором Ватсоном Шерлок Холмс сразу окочурился бы от раннего инсульта. Не успела я успокоиться, как из боковой аллеи вышел человек и быстро направился в нашу сторону. Мент! Видит бог, еще никогда в жизни я так не радовалась появлению милиционера — пожилого дядьки с густыми усами и добрым лицом.
— Это вы кричали, девушка? — спросил он еще издали.
— Ага, товарищ сержант, — виновато кивнула я. — С собакой играла.
— А, ну если с собакой… — Мент снял фуражку и вытер ладонью вспотевшую лысину. — Жарко сегодня.
— Очень! — с чувством подтвердила я. — Очень жарко! А вы что, тут дежурите?
Сержант вздохнул:
— Приказ есть приказ, дочка. Выполняем охрану мест отдыха трудящихся. Вот так-то… — Он водрузил на место фуражку и покосился на Биму. — А на собаку надо бы намордник. Как положено по закону.
— У меня всё с собой — и намордник, и поводок. — Я показала милиционеру упомянутые предметы. — Как к трудящимся выйдем, так сразу и надену. Обещаю. Пока-то ведь тут все равно никого, правда?
Мент с сомнением покрутил головой:
— Никого-то никого, да вот, понимаешь ли… — Было видно, что ему очень хочется сказать мне намного больше, но приказ не позволяет. — Все равно, дочка, ты тут это… осторожней ходи, ладно? И лучше бы не одна, а с подружками. А еще лучше с парнем. Парень-то есть?
— Есть, но не здесь, — с сожалением ответила я.
Из глубины аллеи нарисовался давешний велосипедист и проскочил мимо. Мент неодобрительно посмотрел ему вслед:
— Во как гоняют… Ладно, если все в порядке, то продолжайте отдыхать… — Он повернулся уходить. — Но если что, дочка, то мы тут, недалече. У памятника летчикам. Просто крикни, мы услышим. Если что.
— Если что, крикну, — улыбнулась я. — Спасибо, товарищ сержант.
Милиционер поправил усы и неторопливо пошел назад к боковой аллее. Я смотрела ему вслед и вспоминала слова Свиблова о том, что сюда согнали едва ли не все наличные силы. Даже таких вот пожилых усачей. Этот мент смотрелся так уютно, по-домашнему, что моего страха как не бывало. Я позвала собаку, которая, почувствовав перемену хозяйкиного настроения, уже не жалась к ногам, а отважно шастала по окрестным зарослям — ни дать ни взять доктор Ватсон.
— Пойдем, Бимуля! На сегодня закончено. Угрызения совести подавлены если не навсегда, то надолго.
Мы вернулись на Тихорецкий проспект и сели в трамвай «двадцатку». Домой, домой! Есть предел всякому сумасшествию. Должна ли я испытывать чувство вины от невозможности совершить волшебство?! С таким же успехом Свиблов и полковник могли бы потребовать достать луну с неба. Ну не выходит у меня, не выходит — хоть на части режьте…
Вечером позвонил Сатек.
— Милый, хорошие новости, — сказала я. — Теперь можно перезваниваться по-прежнему. Необходимость экономить на поездку временно отпала.
— Покрылся проект? — спросил он.
— Накрылся, — грустно поправила я. — Не беда, придумаем что-нибудь другое…
Но что? Что я могла придумать? Что поделаешь, когда ничего не поделаешь?
Следующая неделя, в отличие от предыдущих, пролетела стремительно — я и вздохнуть не успела. Еще в субботу мы с Бимулей вынюхивали неведомо что в Сосновке, и вот уже пятница. Срок, отведенный мне полковником, истекал через пять суток, в среду. В конце дня, когда мы с Зиночкой собирали сумки, подошел Троепольский.
— Дамы, имею честь пригласить вас на пир во время чумы по случаю дачного постановления. Будут только свои, самые близкие, хотя и не самые зачумленные. В должности чумного председателя — завлаб Грачев.
— О чем вы, Троепольский? — осведомилась Зиночка. — Какая чума и какое постановление? Неужели отныне запрещены эпидемии? Если так, то это просто замечательно! Теперь осталось принять постановление о запрете несправедливости, и тогда уже точно наступит всеобщее счастье.
Троепольский горько покачал головой:
— Все шутите, Зиночка? Ну конечно. Далеки от вас, босяков, страдания мировой буржуазии и ее отечественных прихвостней в лице дачного сектора.
— Дачного сектора? — переспросила я.
— Дачное постановление, Сашенька… — сказал Троепольский. — Ты-то, понятное дело, не обратила внимания, потому как бездачная. А вот меня оно очень даже касается. Там, представь себе, площадь ограничена двадцатью пятью метрами, не считая веранды, которая не больше десяти, а высота потолка…
— Коллега, не утомляйте дам цифрами, — посоветовала Зиночка. — Рабочее время закончилось, так что давайте ближе к делу. Вы упоминали какое-то приглашение…
— Ну да, — оживился Троепольский. — Пока у меня не отняли дедовскую дачу, где общая площадь одних веранд приближается к шестидесяти метрам, а потолки…
— Троепольский! — протестующе взвыла Зиночка.
— Ладно, ладно. В общем, приезжайте ко мне завтра часам к двенадцати. Сбацаем шашлычки, посидим как люди напоследок. Везите только выпивку, закусь на мне…
«Дедовская дача», доставшаяся Троепольскому в наследство от сановитого родственника, дипломата довоенных времен, находилась в Репино и действительно занимала площадь, сравнимую по величине с небольшим пионерлагерем. В огромной гостиной висели по стенам старые фотографии в рамках.
— Это все дед, — пояснил нам хозяин. — Вот он с Литвиновым… с Ворошиловым… А вот — с самим Сталиным и его трубкой. А это — узнаете? Нет? Ну что вы, ребята, это ведь Черчилль! Правда, без сигары.
Дед-дипломат был удивительно похож на нашего Троепольского — такой же низенький, бородатый, с круглым лицом и циничными глазками неисправимого ловеласа. Казалось, он вот-вот скажет прямо с фотографии: «Кончайте мандражировать, чуваки. Ка-Гэ-Было, так и будет…»
Шашлыки пришлось жарить на открытой веранде, потому что накрапывало.
— Скоро грибы пойдут, — грустно сказал Троепольский, указывая вилкой в глубь своего необъятного имения. — У меня там грибница под сосенками. Каждую осень белые, два ведра минимум.
— Ох, раскулачат тебя, брат, — без какого-либо оттенка сожаления отозвался Грачев. — Отнять не отнимут, но уплотнят, это точно. Давай-ка выпьем за мировую революцию!
Все быстро напились, перестали замечать дождь и разбрелись по участку. В город тоже возвращались порознь, уже в темноте. Мы с Димушкой едва успели на последнюю электричку. Вагон был пуст: лето, поздний субботний вечер. Мы молчали, уставившись в темное окно и думая каждый о своем. В Белоострове вошел пассажир — судя по нетвердым шагам, пьяный. Он бухнулся на скамью где-то у нас за спиной, поерзал-поерзал и затих. В таких случаях лучше избегать зрительного контакта, но черт меня дернул обернуться: в десяти метрах от нас сидел оперуполномоченный Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области старший лейтенант Сергей Владимирович Свиблов. Он дремал, но по той же чертовой прихоти приоткрыл свои рыбьи глаза точно в тот же самый момент — как будто специально, чтобы встретиться взглядом со мной. Конечно, я тут же отвернулась, но было уже поздно.
Свиблов встал и двинулся к нам, цепляясь по пути за алюминиевые петли на спинках сидений. Эти десять метров дались ему нелегко: электричка неслась на большой скорости, вагоны мотало из стороны в сторону, да и заплетающиеся по пьяни ноги делу не помогали. Наконец опер добрался до цели. Он почти упал на противоположное сиденье, снял с плеча лямку туго набитой сумки и облегченно перевел дух.
— Фу-у-у… и чего это в жизни всё так., э-э… нетвердо…
Мы с Димушкой молчали, не отводя глаз от окна. Свиблов хмыкнул разок-другой и вдруг рассмеялся высоким дребезжащим смехом. Он и в самом деле лыка не вязал.
— Девушка, а девушка… вам не кажется, что мы где-то встречались? — Опер погрозил мне согнутым пальцем. — Нехорошо. Нехорошо это — не узнавать старых знакомых…
Я неохотно оторвала взгляд от оконного стекла и посмотрела на «старого знакомого». Картина была, прямо скажем, малопрезентабельная: бледное лицо, оловянные глаза, горько скривившийся рот…
— Да что ж вы так напились, Сережа? Как вы теперь до дому доберетесь?
Свиблов снова рассмеялся.
— Почему напился… Это даже интересно, что подобный вопрос задаете именно вы, Александра Родионовна. Именно вы! Потому что кому же еще и спрашивать, как не вам? Это ж сам бог велел!.. Ох!.. — Он вдруг вскинул указательный палец к губам и замотал головой. — Тс-с… тс-с… Молчу, молчу… Что это я, в самом деле, бога поминаю перед нечистой силой? Вы ведь у нас нечистая сила, не так ли?
— Перестаньте паясничать.
— А скажите… — Опер сделал безуспешную попытку наклониться поближе. — Да что это так мотает? Безобразие… Скажите, Александра Родионовна, что будет, если вас перекрестить? А? Испаритесь? С резким запахом серы? Давайте попробуем…
Он воздел правую руку и осенил меня троекратным крестным знамением.
— Сережа, — вздохнула я, — вам прямая дорога в вытрезвитель.
— О! Не испарилась! — удивленно констатировал Свиблов. — А может, вы никакая не ведьма? Может, вы просто мошенница? Я и Константину Викентьевичу говорю: оставьте ее в покое, Константин Викентьевич, она просто мошенница…
Я покосилась на Димушку, который усиленно смотрел в сторону и пока, слава богу, не вмешивался.
— Довольно, Сережа, я вас очень прошу… Ну, выпили, с кем не случается. Но шуметь-то зачем?
— И выпил! — гордо подтвердил опер. — Не отрицаю! Может, у меня причина имеется, вы об этом не думали? Юбилей, если можно так выразиться. Двадцать пять! Это, конечно, еще не сто и даже не пятьдесят, но тоже серьезная… э-э… веха. Двадцать пять!
— Двадцать пять чего… — начала было я и осеклась.
Наверно, они нашли очередную жертву, двадцать пятую по счету! Так вот почему он так надрался… Бедный парень. Не хотела бы я оказаться на его месте…
— А! Поняла! — почти торжествующе воскликнул Свиблов. — Поняла, о чем я! Ну, а как же… вы ведь, Александра Родионовна тоже, как-никак, отношение имеете. Юбилей, круглая дата… Знаете что? Давайте прямо сейчас и отметим… — Он дернул молнию на сумке. — Мне тут… это… как раз набор выдали. Хе-хе… хороший наборчик, не всем такие дают…
— Сережа, не надо, — взмолилась я.
Но он уже выкладывал на лавку продукты — действительно, весьма дефицитные.
— Вот… и вот… смотрите, какая консерва… вку-ус-ная. Горбуша. Икорка красная, икорка черная. Баклажанной, как в кино, нету, хе-хе… зато вот колбаска. Сервелат. Балычок., любите балычок? Ну и, конечно, коньяк… какой же юбилей без коньяка?
Я бросила взгляд в окно: электричка подлетала к Удельной. Теперь из станций оставалась только Ланская, а там уже и вокзал… скорее бы! Вот ведь какой прилипчивый опер, черт бы его побрал! Самое неприятное, что все это происходило перед коллегой по работе…
Двери в дальнем конце вагона разъехались. Вошли двое в черной железнодорожной форме — по-видимому, контролеры. За ними следовали два мента в сдвинутых на затылок фуражках.
— Приготовили билетики! — прокричал один из контролеров, быстро проходя мимо нас к противоположным дверям.
Мы с Димушкой стали копаться в карманах в поисках билетов.
— Так-так… — произнес чей-то голос. — Празднуете, стало быть? С такой-то закусью чего ж не попраздновать…
Я наконец нащупала билетик и подняла голову. Контролеры и менты тесной кучкой стояли в проходе и удивленно разглядывали груду дефицитных продуктов, которая высилась на скамье рядом со Свибловым.
— Вот билет, — сказала я.
— А это мой, — протянул свою картонку Димушка.
Контролер мельком глянул, щелкнул компостером и выжидающе взглянул на Свиблова.
— Ваш билетик, гражданин.
— Какой я тебе гражданин? — фыркнул опер и махнул рукой. — Давай, давай, двигай!
— Что-о?! Двигай?! — радостно переспросил один из ментов, высокий угловатый парень с далеко выдающимся вперед кадыком.
Он отодвинул в сторону контролеров и встал в проходе, широко расставив ноги. Второй мент тоже подобрался поближе.
— Паа-прашу документики!
Димушка достал паспорт. Когда кадыкастый наклонился, чтобы взять документ, я почувствовала сильный запах сивухи. Похоже, пьяными были тут все действующие лица — и менты, и контролеры, и мы с Димушкой, и особенно Свиблов. Мент раскрыл документ, сверил фотографию с оригиналом и перевел взгляд на меня.
— Беровин, значит… почти Боровин. А вы, девушка?
Я пожала плечами.
— У меня с собой нет. Не думала, что понадобится.
— Не думали? — Мент покачал кадыком. — Нарушаете, распивая в общественном месте, а документа не носите?
— Мы не распиваем, товарищ старший сержант, — вступился за меня Димушка. — Мы к этому гражданину вообще никакого отношения не имеем. Едем с дачи, из Репино. А он сел в Белоострове. Совершенно чужой человек.
Кадыкастый снова повернулся ко мне:
— Это так? Чужой?
— Чужой, — подтвердила я после секундной заминки.
Свиблов молчал, обиженно глядя на меня с противоположной скамейки, и я почувствовала что-то вроде угрызений совести, как будто бросила в беде человека — пусть и рыбьеглазого опера, но все же знакомого. Что, конечно, было полнейшей ерундой: я точно знала, что стоит ему только достать свою красную книжечку, как вся ментура немедленно выстроится по стойке смирно. Если кто тут и имел основания беспокоиться, так это мы с Димушкой, но уж никак не оперуполномоченный КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.
— Глянь-ка, чего тут только нет… — изумленно проговорил второй, белобрысый мент, присаживаясь на краешек сиденья и осторожно трогая сервелат. — Ё-моё… живут же люди… А это чего? Ик-ра зернистая ло-со-севая…
Он читал по складам, жмуря глаза с белесыми ресницами и причмокивая губами, будто смакуя произносимые слова. Электричка замедляла ход, втягиваясь в паутину железнодорожных путей перед Финляндским вокзалом.
— А ну, положь взад! — прикрикнул на белобрысого Свиблов и полез в боковой карман своей модной светлой куртки. — На вот, гляди!
Опер сунул под нос кадыкастому свое удостоверение.
— Доволен? А теперь брысь отсюда! Пошли вон!
Красная книжечка и впрямь произвела впечатление, но не совсем то, на какое рассчитывал Свиблов. Высокий мент продолжал стоять в проходе, без всякого подобострастия наблюдая, как оперуполномоченный складывает в сумку свой набор невиданного «дефицита». Его белобрысый товарищ и контролеры тоже провожали каждую консервную банку завороженными взглядами. Поезд подошел к платформе и остановился.
— Слава, а Слава… — Один из контролеров осторожно тронул кадыкастого мента за локоть. — А с этими что делать? Отпустить? Билеты вроде в порядке…
— Отпусти, — процедил мент, не отрывая взгляда от Свиблова. — Пусть жидуют отседа.
— Ну, ты скажешь, Славик… жидуют… — Контролер ухмыльнулся и повернулся к нам с Димушкой. — Эй вы, чего сидите? Не слышали? Дуйте отседова, пока милиция не передумала!
Мы вышли на пустынную платформу и молча зашагали к вокзалу.
— Саша, подождите, — сказал Димушка, когда мы уже вошли в здание. — Давайте сядем. Вон и скамейка.
— Что случилось?
— Сядем, сядем…
Мы сели на каменную скамью.
— Что такое, Дима?
Димушка улыбнулся неловкой вымученной улыбкой.
— Вы не подумайте, Саша, я никому не скажу. Можете на меня положиться. Вообще никому, клянусь.
— Не скажете? — переспросила я в полном изумлении. — Не скажете что?
— Ну, как это что… — Он понизил голос до шепота. — Что вы сотрудничаете… с ними… с Конторой.
— Боже, вы об этом… — Я наконец поняла, что он имеет в виду. — Поверьте, Дима, это не так. Нет никакого сотрудничества, нет и не было. Они просто просили… черт!., это трудно объяснить…
— И не надо объяснять! — замахал руками Димушка. — Никто и не просит объяснять. Знаете, как говорится: меньше знаешь — крепче спишь. Но вам все-таки надо как-то поосторожней. Я ведь его сразу узнал.
— Узнали? Кого?
— Ну, этого вашего Сережу… — Димушка заговорщицки подмигнул. — Это ведь он приходил тогда в отделение, так? Нет-нет, не отвечайте, мне и так все понятно. Меня тогда из «обезьянника» сразу после вас дернули, так что я, можно сказать, непосредственно присутствовал.
— Присутствовали? При чем?
— При том, как он зашел в кабинет вместе с начальником отделения…
Димушка состроил начальственную мину и выдал целое представление в лицах:
— Костин, Романова у вас?
— У меня, товарищ капитан.
— Немедленно ко мне!
— Романову?
— Тебя!
— А этого куда?
— Ты что, Костин, совсем с глузду съехал? Этого назад, в обезьянник!..
Разыграв эту сценку, Димушка уставился на меня в ожидании ответа. Но что я могла ему ответить? Как объяснишь необъяснимое? Я вдруг ощутила жуткую усталость — усталость, смешанную с тревогой. Еще не хватало прослыть на работе сексотом, стукачом, второй Верой Палной… Нужно было как-то выходить из положения. Но как?
— Дима, в вас определенно зарыт театральный талант, — сказала я. — Что дальше?
— Дальше? — удивился он. — А дальше нас отпустили. Я как-то не сразу понял, не сразу связал… Сами посудите: чтобы так быстро примчались и чтобы потом так быстро отпустили, нужно быть довольно важной персоной. А вы ведь совсем не похожи на важную персону.
— Знаете, почему не похожа? Потому что я и в самом деле не важная персона. Димушка, я вас очень прошу…
Он снова замахал руками:
— Саша, ни слова больше! Ни слова! Я ведь уже вам пообещал, даже поклялся: могила! Никто не узнает! Никто!
— Господи-боже-мой… — только и осталось пробормотать мне.
Я была на сто процентов уверена, что Димушка так или иначе разнесет весть о «важной персоне» если не через месяц, то через два. Но как я могла этому воспрепятствовать? Да никак. Разве что отправить его на тот свет… Что? Я просто похолодела от этой мысли — даже не от самой мысли, а от того, что она в принципе могла прийти мне в голову.
— Но сегодня… сегодня мне все стало ясно… — бормотал у меня над ухом мой бедный коллега, даже примерно не подозревающий о том, какая страшная опасность может исходить от существа, сидящего рядом с ним на одной скамейке. — Сегодня, когда я увидел этого человека из Конторы… Вы думаете, я смотрел в окно? Нет! Я смотрел на его отражение, смотрел не отрываясь. Он был сильно пьян, говорил всякие глупости, обвинял вас, называл ведьмой и мошенницей, но это всё неспроста. Это всё от страха, Сашенька. Он вас смертельно боится. Чтобы человек из Конторы так боялся — у нас и сегодня, — должны быть действительно серьезные причины. Вы не просто важная персона, Саша, вы очень важная персона!
«Хватит, — подумала я, — это уже слишком».
Всему есть предел. Первый час ночи, вокзал, жуткая усталость, идиотская сцена в поезде, живой и здравствующий маньяк в Сосновке, его двадцать пятая жертва и никакой надежды увидеть Сатека в обозримом будущем. И, будто всего этого мало, я должна еще сидеть на этой вот каменной скамье и выслушивать лихорадочный шепот Димушки.
— Довольно, Дима, — сказала я, вставая. — Я больше не могу это выслушивать. Сегодня просто какой-то фестиваль дичайших фантазий. Сначала Сережа, теперь вы. Да, он действительно работает в КГБ, мы познакомились этим летом на юге. Обычные отношения между парнем и девушкой. Теперь он хочет встречаться, а я — нет. Тогда в милиции я ему позвонила, чтобы помог, и он в самом деле примчался и помог, как принц на белом коне. Да и какой парень в такой ситуации не примчался бы? Вот и все, и никакого сотрудничества. Вы говорите, что он странно на меня смотрел и нес всякую чепуху? Он влюблен, Димушка, вот вам и вся странность. Влюблен и пьян. И вы, честно говоря, тоже сильно подшофе, что в какой-то степени объясняет ту чушь, которую вы мне наговорили. Давайте на этом и закончим. Я устала, метро вот-вот закроется, до свидания.
Я махнула рукой и, не дожидаясь ответа, пошла к ступенькам метро. Конечно, Димушка смотрел мне вслед. Конечно, он не поверил моей наскоро состряпанной легенде. Конечно, в самом ближайшем будущем я превращусь для своих нынешних друзей по лаборатории в скрытого стукача или, того хуже, в таинственную «важную персону» с большими связями в Конторе. А это уже клеймо, от которого не отмоешься, — оно будет потом сопровождать меня всю жизнь, куда ни сунься… Слухи — не радиоволны, их не заглушишь никакой глушилкой, они с легкостью просачиваются и сквозь годы, и сквозь расстояния. Черт бы его побрал, этого Димушку!
В течение всего воскресенья я размышляла о том, как справиться с этой внезапно возникшей неприятностью. Не то чтобы она представляла самую большую из нависших надо мной угроз — конечно, нет. Мне просто очень нужно было хоть чем-то занять голову, чтобы не думать о ближайшей среде, об истекающем двухнедельном сроке. В итоге я пришла к выводу, что придуманная на вокзальной скамье легенда не так уж плоха — нужно только усовершенствовать ее, обогатив реальными деталями, которые помогут создать достаточно правдоподобный антураж
Детали пришлось брать из жизни; финальный вариант истории включал в себя рассказ о строительном отряде в Минеральных Водах, трагической гибели комиссара Миронова и комиссии по проверке, которая прибыла по этому поводу из Объединенного штаба стройотрядов. И первое, и второе, и третье выглядело невероятно, но было между тем сущей правдой, легко проверяемой и надежной. Наш отряд действительно базировался не в Коми и не на Севере, как обычно, а на южном курорте. Комиссару Миронову действительно отрезало голову лопнувшим стальным тросом, и к нам действительно приезжала комиссия из Москвы. В это весьма экзотическое, но правдивое обрамление я вклинила весьма обыденную, но выдуманную деталь: согласно легенде, Свиблов был одним из проверяющих. Так мы якобы и познакомились — ну а потом, уже на вечерних танцульках, он пал, сраженный моими неотразимыми чарами. А что такого? Почему бы и нет? Влюбился же в меня такой фантастический красавец, как Са-тек… — что уж тогда говорить о заштатном оперлейтенантике с рыбьими глазами…
Для верности я отрепетировала свой рассказ на Биме. Собака слушала, поглядывая по сторонам, и время от времени так откровенно зевала, что я не выдержала:
— Бимуля, и не стыдно? Могла хотя бы сделать вид, что тебе интересно…
Вместо ответа собаченция зевнула еще громче, с таким подвыванием и хрустом, что я от греха подальше прекратила свои опыты: еще не хватало, чтобы их результатом стала вывернутая собачья челюсть.
Так или иначе, но в понедельник, спускаясь в полуподвал грачевской лаборатории, я чувствовала себя на сто процентов готовой к решительной схватке. К моему разочарованию, Димушка не вышел на работу. Вера Пална в ответ на мой вопрос пожала плечами:
— Пока не звонил, но, наверно, заболел. Или отлеживается — мы все хорошо приняли.
— Приняли позавчера, — напомнила я. — За воскресенье мог бы и отлежаться.
— Это кто как, — ухмыльнулась секретарша. — Мы вот с тобой молоденькие, а головка, небось, до сих пор бо-бо. Что уж говорить об этих стариканах…
«Ничего, — подумала я, — больничный всего три дня. Поговорю с Димушкой в четверг. Если, конечно, в среду меня не арестуют…»
Ага, в среду…
В дверь позвонили уже на следующий день, когда я допивала свой утренний кофе. Я поставила чашку и пошла открывать в полной уверенности, что это мама: вернулась, чтобы забрать что-то забытое. Ее работа начиналась раньше, так что мама обычно выходила из дому за полчаса до меня.
— Что забыла? — промычала я, одной рукой запихивая в рот бутерброд, а другой откручивая защелку замка.
Дверь открылась, и хлеб комом застрял в моем горле. Понятия не имею, как у меня получилось не задохнуться или не подавиться насмерть. На пороге стоял седовласый полковник собственной персоной. Он отодвинул меня рукой, прошел в кухню и сел там на табурет. Бимуля, насторожив уши, внимательно поглядывала то на него, то на меня, пытаясь понять, что следует делать в этом случае верной сторожевой собаке: просить у гостя угощения или сразу спасаться бегством. Но мне было не до псины — я судорожно пыталась дожевать и проглотить проклятый бутерброд. Полковник терпеливо ждал, пока я обрету дар речи.
— Но сегодня еще вторник! — это жалобное восклицание слетело с моих губ вместе с последними крошками.
Полковник недоуменно поднял брови:
— Вторник. Ну и что? По вторникам вы не принимаете?
— Товарищ полковник, — уже спокойней произнесла я, опускаясь на стул. — Если я не ошибаюсь, мне был дан двухнедельный срок. И эти две недели истекают в среду. А сегодня вторник У меня есть еще…
— Какой срок? Какие две недели? Какая среда? — перебил меня он. — Что вы мне голову морочите?
Я смотрела на него во все глаза: полковник явно не имел ни малейшего представления, о чем идет речь. Неужели Свиблов все придумал? Ах, Сережа, Сережа… получается, не я одна сочиняю легенды о наших с тобой отношениях…
— Погодите-погодите… — Он хлопнул ладонью по столу, как будто внезапно осознал что-то. — Кажется, я начинаю понимать… Свиблов назначил вам крайний срок для исполнения задания?
— Свиблов назначил? — переспросила я. — Нет, Свиблов говорил от вашего имени. Что вы, мол, даете мне две недели, до завтрашней среды. А потом, мол, со мной будут говорить по-другому.
Последнее слово я выделила особо значительной интонацией: не просто «по-другому», а «ПО-ДРУГОМУ»!
— Понятно. Он вам угрожал… — Полковник покачал головой. — Вот дурачок… Вы не могли бы налить мне кофе… или чаю…
— Ой, извините! — вскочила я. — Конечно, конечно! Вам растворимый? С сахаром?
— С сахаром…
Теперь он сидел, опустив плечи и глядя в одну точку, — пожилой, усталый, совсем не страшный человек. Я зажгла газ под чайником и достала из буфета чашку.
— В какой-то мере это объясняет… — задумчиво сказал полковник у меня за спиной. — Но вы тоже могли бы его понять, Александра Родионовна…
— Можно просто Саша.
— Саша… — повторил он. — Он так вас и называл — Саша.
Я отметила про себя это «называл» — в прошедшем времени. Похоже, моего опера сняли-таки с дела. Не зря он переживал.
— Так вот… о чем это я? — снова заговорил полковник. — Ах, да. Вы тоже могли бы его понять, Саша. Он очень сильно переживал эти неудачи с Сосновкой. Очень. Видите ли, мы ведь не угрозыск. Нет привычки к подобным ужасам. Ни привычки, ни навыков. От этого всё…
Я поставила перед ним чашку и вазочку с маминым вареньем.
— Вот, вишневое.
— Спасибо… — Полковник задумчиво помешал в чашке ложечкой. — Да, от этого всё и идет — от чрезмерного рвения. Он ведь мне намекал, что намерен на вас надавить. Так он выразился, Саша, — «надавить». Я уже тогда ему сказал, что это опасно.
— Опасно? — переспросила я. — Опасно для кого?
Он поднял на меня глаза, и я тут же распознала в них знакомое выражение. Выражение панического страха, какое бывает в глазах ребенка, только-только очнувшегося от ночного кошмара. Так смотрел на меня дед в квартире на Партизана Кузькина, а потом — следователь Знаменский, а потом комиссар Миронов…
— Как это для кого… — тихо произнес мой гость. — Для него, конечно. За это вы его и убили.
Я онемела. Я ожидала чего угодно, только не этого. Руки мои затряслись, чашка с остатками кофе покатилась по столу. В голове вихрем проносились обрывочные мысли — от «он лжет!» и «этого не может быть!» до «почему этот кошмар происходит именно со мной?». Полковник, сидя напротив, грустно смотрел, как я буквально разваливаюсь на части, подобно какой-нибудь чертовой снегурочке над каким-нибудь чертовым костром.
— Я не… убивала… Сережу… — прохрипела я. — Клянусь вам… чем угодно…
Он грустно кивнул.
— Вчера он не вышел на работу, а сегодня на рассвете его нашли грибники. В лесу под Белоостровом с полиэтиленовым пакетом на голове. Избит так, что по лицу не опознать.
— Я не могла… так..
— Так избить? — продолжил за меня полковник — Конечно, нет. Да у вас и надобности такой нет. Вам достаточно только пожелать. За вас всё делают другие. Делают, даже не зная о вашем существовании. Как водитель того грузовика, который сбил капитана Знаменского. Как неизвестные пока хулиганы, убившие оперуполномоченного Свиблова.
Я встала со стула и несколько раз прошлась по кухне из конца в конец и обратно. Полковник молча пил кофе. Наконец мне удалось взять себя в руки.
— Константин Викентьевич… — начала я. — Вы можете мне не верить, но…
Полковника как подбросило:
— Вы знаете мое имя-отчество?! Откуда?!
— От Сережи. Он случайно обмолвился…
Я чуть было не добавила: «Не ругайте его за это…»
— Обмолвился?! Как он мог обмолвиться? У нас так не бывает! Вы что, заставили его? Час от часу не легче…
— Никто его не заставлял, Константин Викентьевич. Выслушайте меня, пожалуйста. В субботу поздно вечером я возвращалась с коллегой по работе из Репино, с дачи другого коллеги. В Белоострове в вагон вошел Сережа. Он был очень сильно пьян, с трудом стоял на ногах. Увидел меня, сел напротив и стал нести всякую чепуху. О том, что никакая я не ведьма, а обычная мошенница — что-то в этом роде. Тогда-то и обмолвился. А потом стал вытаскивать из сумки разные деликатесы — мол, давайте отпразднуем юбилей…
Полковник внимательно слушал.
— Юбилей?
— Так он назвал жертву маньяка из Сосновки. Типа, двадцать пятая, юбилейная. Наверно, потому и напился. Вы же сами сказали, что он принимал эту историю очень близко к сердцу. Я тоже видела, что он ужасно переживает. Ужасно. Настолько, что стал зачем-то заводиться с контролерами.
— С контролерами?
— Ну да. Где-то в районе Шувалово или Озерков в вагон вошли контролеры. По-моему, они тоже были пьяны, но не так сильно. Мы все там были на кочерге, но Сережа особенно.
— Вы сказали, что это происходило поздно вечером. А точнее?
— Около полуночи.
— Так, дальше.
— Мы с Димой…
— Фамилия Димы?
— Беровин. Мы показали билеты, а Сережа стал кричать ментам, чтобы проваливали…
— Ментам? Вы упоминали только контролеров.
— Два контролера и два милиционера. Один такой высокий, угловатый, с большим кадыком. Другой помладше, белобрысый. Когда Сережа завелся, они потребовали документы. Дима достал паспорт. У меня с собой ничего не было, но это как-то проскочило. По-моему, под конец их интересовал только Сережа. Он тоже достал свою красную книжечку…
— Дальше.
— Дальше мы приехали на вокзал, и этот, с кадыком, приказал нам с Димой выметаться. И мы вымелись. Константин Викентьевич, я готова поклясться вам чем угодно: у меня и в мыслях не было ему навредить. Наоборот, жалела. Он действительно очень сильно переживал…
— Подождите… — остановил меня полковник — Дайте подумать… Где тут у вас телефон?
Он прошел в коридор и набрал номер. Бимуля, лежавшая как раз под телефонной полочкой, обнюхала полковничьи туфли и приветственно шевельнула хвостом.
— Записывай, — сказал полковник в трубку. — Свиблова видели в субботу около полуночи в электричке. Сел в Белоострове, имел при себе продовольственный набор, был сильно пьян. По прибытии на Финляндский вокзал, пока еще находясь внутри вагона, вступил в конфликт с нарядом железнодорожной милиции. Дальнейшее свидетелям неизвестно. Установи мне состав бригады контролеров и милицейского наряда. Всех четверых задержать и допросить. Выполнять немедленно.
Закончив разговор, он вернулся на кухню, сел и долго молчал, поставив локти на стол и уперев подбородок в сплетенные пальцы.
— Еще кофе, Константин Викентьевич?
— Что? — переспросил полковник, словно очнувшись. — Нет, не надо. Спасибо за информацию, Саша. Надеюсь, она поможет найти этих подонков. Но вы ведь понимаете, что они могут быть только орудием. Впрочем, это я уже говорил.
— Я не…
— Понятно, понятно… — отмахнулся он. — Вы не хотели. Допустим, я вам даже поверю. Хотя зачем допускать? Я вам просто верю, без всякого «допустим». Вы кажетесь мне искренним и правдивым человеком. А я редко ошибаюсь в людях. Но дело-то в другом… Вы сами, Саша… можете ли вы поручиться, что эта ваша убийственная сила не действует помимо вашего желания? Ведь когда Свиблов начал на вас давить, вам было неприятно? Ведь было?
— Было, — признала я.
— Ну вот…
Мы еще немного помолчали.
— Откровенно говоря, — вздохнул полковник, — вы настолько опасны для окружающих, что я сомневаюсь, удастся ли мне сейчас вернуться на работу живым. Но я ведь не давил на вас, правда? Не угрожал?
— Не давили. Не угрожали. Меня убьют?
Он усмехнулся:
— Очень правильный вопрос. Если б я был уверен, что дело только и именно в вас, то, конечно… Но такой уверенности у меня нет, вот в чем проблема. Более того. Возможно, случай со Свибловым показывает, что эта сила действует помимо вашей воли. Что она не связана конкретно с вашими осознанными желаниями. Тут ведь вот еще какой момент: когда вас не станет, эта сила может просто перекинуться куда-нибудь в другое место. Скажем, к кому-нибудь другому. Вас я, по крайней мере, знаю, а этого другого — нет. Вы, Саша, хотя и смертельно опасны, но представляете собой мой единственный контакт с этим… э-э… явлением. И не просто контакт, но контакт искренний, честный и совестливый. Спрашивается, какой мне смысл вас убивать? Логично?
— Логично, — кивнула я.
— Что ж, — грустно улыбнулся полковник, — если вы действительно так считаете, то мои шансы остаться в живых не так уж и малы. Подбросить вас до работы? Вы уже безнадежно опаздываете…
Черная «Волга» домчала меня до Мариинского проезда меньше чем за пятнадцать минут, так что мне даже не пришлось объясняться с Верой Палной по поводу опоздания.
— Димушки, конечно, нет?
Секретарша помотала головой.
— Вчера не позвонил, представляешь? Непохоже на него. Хорошо, что ты напомнила, — пойду, сама звякну.
Результат этого звонка я услышала уже от своего стола, когда здоровалась с Зиночкой. На крик Веры Палны сбежалась вся лаборатория. Секретарша стояла в своей каморке, прижав к груди телефонную трубку, и ревела в три ручья, размазывая по лицу слезы и сопли вперемежку с потекшей косметикой. Димушка погиб вчера утром по дороге в лабораторию: упал под поезд метро. Жена забеспокоилась вечером; из милиции позвонили только часов в девять, когда она уже начала обзванивать морги.
5
Остаток недели я провела дома: просто лежала на кровати лицом к стене и молчала. К телефону тоже не подходила — даже когда звонил Сатек. Знакомый мамин врач пришел выписать мне бюллетень, чтобы не было проблем на работе. Ему пришлось общаться с моей спиной — маме так и не удалось уговорить меня повернуться.
— Сашенька, это ведь невежливо, в конце концов…
Невежливо! Соображения вежливости и приличий казались мне бесконечно далекими, принадлежащими какому-то другому миру. Слова полковника о том, что я представляю опасность для окружающих, по-настоящему настигли меня лишь после известия о гибели Димушки. Крик Веры Палны словно пробил дыру в моем персональном озоновом слое, и теперь самые дикие страхи и фантазии беспрепятственно жгли мою беззащитную душу.
Неужели Константин Викентьевич прав и эти два ни в чем не повинных человека умерли из-за моей прихоти? Я вновь и вновь припоминала обстоятельства проклятого субботнего вечера, когда в последний раз видела этих людей живыми. Вновь и вновь перебирала в памяти свои тогдашние мысли и чувства — даже самые мелкие, самые незначительные. Ведь если вселившаяся в меня сила действует помимо высказанного желания, то Димушку и Сережу мог убить какой-нибудь второстепенный импульс, неосторожное слово, секундный перепад моего настроения.
И, конечно, сцены в поезде и на вокзале содержали в себе множество таких потенциально губительных мелочей. Пьяный Сережа с его дурацкими нападками был попросту неприятен, и я в тот момент, без сомнения, была готова на многое, лишь бы поскорее завершить общение с ним. Не исключено, что мне на ум пришло и какое-нибудь соответствующее случаю выражение, что-то типа «чтоб ты провалился!» или «черт бы тебя побрал!» или еще что-нибудь в этом духе.
То же касалось и последующего разговора с Ди-мушкой на вокзале. Я абсолютно точно помнила свое состояние в те минуты: уставшая, напряженная, загнанная в угол угрозами оперуполномоченного Свиблова. В такой ситуации Димушкины «разоблачения» вполне могли стать той соломинкой, которая ломает спину верблюда. Впрочем, подобные вещи трудно назвать «соломинкой»: меньше всего мне хотелось прослыть стукачом среди людей, которых я считала своими самыми близкими друзьями. Какие мысли и желания проносились тогда в моей голове? Что-то вроде «не убивать же его»… Иными словами, возможность убийства рассматривалась моим сознанием — или подсознанием? — в качестве одного из вариантов. Рассматривалась и, само собой, была решительно отвергнута как нелепая, невозможная, чудовищная. Но ведь рассматривалась! Рассматривалась! Что, если в итоге сработал именно этот подспудный отвратительный червяк? Не зря ведь говорят, что людским поведением руководят преимущественно темные, зачастую неосознанные импульсы, а «светлый» разум служит лишь прикрытием для страшной змеиной ямы, чернеющей в глубине человеческой души?
Возможно, думала я, все случайные смерти только кажутся случайными. Вряд ли такая убийственная сила полагается на одну лишь Сашу Романову; насколько я помнила, полковник был в этом более-менее уверен. Возможно, нас много… или даже очень много… Возможно, все мы такие и просто не осознаем этого. Свалившаяся на голову сосулька, внезапный инсульт, бандитский нож в подворотне — все это может быть прямым результатом чьего-то желания — нашего желания. Любая смерть — даже в бою, даже от старости…
Разве не думает человек, глядя на дряхлого родственника, что тот зажился на этом свете? Думает, конечно, думает — пусть только краешком сознания, ускользающим хвостиком потаенного чувства… Думает, всем сердцем ужасаясь наличию этой мысли, — но ведь думает! Думает! Разве мало генералов, измеряющих степень успеха количеством убитых солдат? Разве не надеется перед атакой каждый боец, что в неизбежной статистике погибших окажется не он, а сидящий рядом товарищ? Да, эта надежда не проговаривается вслух и даже про себя; ее подленький отсвет гасится пристыженным сознанием — но без нее никто не поднялся бы из окопа-
Почему тогда я чувствую себя так плохо?
В пятницу вечером мама тронула меня за плечо:
— Сашенька, к тебе пришли.
— Не хочу никого видеть.
— Неудобно, Саша. Это твой коллега с работы, Константин Викентьевич. Такой солидный, доброжелательный мужчина. Почему ты мне о нем ничего не рассказывала?
Я села на кровати.
— Он не из лаборатории, а из головного института. Пусть подождет, пока я умоюсь. Налей ему пока чаю.
— Как-нибудь сама догадаюсь, — радостно отвечала мама.
Когда, кое-как приведя себя в порядок, я вышла на кухню, чаепитие было в разгаре. Мама оживленно излагала полковнику историю нашей семьи, а Бима скромно сидела рядышком, самым очевидным образом ожидая очередного кусочка печенья, хотя и не настаивая на этом. Увидев меня, Константин Викентьевич галантно поднялся с места и поклонился.
— Сашенька, добрый вечер. Уж не чаял вас увидеть. Изабелла Борисовна утверждает, что вы ни с кем не общаетесь…
— Вольно, господа офицеры, садитесь, — разрешила я в тон полковничьей галантности, — Что ж вы не позвонили, Константин Викентьевич? Мне ужасно неудобно, что вам пришлось тащиться сюда на метро и двух трамваях.
Ту распухшую физиономию, которую я только что наблюдала в зеркале, можно было компенсировать лишь лошадиными дозами иронии. Мама укоризненно покачала головой и попыталась смягчить мою грубость:
— Вы так далеко живете?
Полковник улыбнулся:
— Александра Родионовна шутит. Я приехал на машине. А звонить я, кстати, пытался. Но вы ведь, Саша, к телефону с некоторых пор не подходите.
— Ну да, — отозвалась я. — С некоторых пор.
— Да и разговор не совсем телефонный… — Полковник повернулся к маме и развел руками. — Понимаете, Изабелла Борисовна, у нас в институте закрытая тематика. Почтовый ящик и всё такое. Извините, ради бога, но…
— Да-да, конечно… — заторопилась мама. — Я вас, пожалуй, оставлю, так что секретничайте тут сколько душе угодно. Бимочка, пойдем смотреть телевизор.
— Ну, Бима-то как раз может остаться, — подмигнул мне полковник. — Она, как я понимаю, и не в такие тайны посвящена.
— Что есть, то есть, — мрачно кивнула я.
— Ну и видок у вас, — сказал Константин Викентьевич, когда мы остались одни. — Нельзя же так, Саша.
— А как можно? — поинтересовалась я. — Сами же наговорили мне черт знает что, а теперь «нельзя же таю. Вы слышали про Димушку Беровина?
— Конечно.
Я уныло вздохнула.
— Ну вот… Сначала Сережа, потом Димушка. Да и вы пришли, наверно, не просто так Давайте, Константин Викентьевич, выкладывайте — прямо на стол.
— Что выкладывать? — не понял он.
— Ну как что… Что у нас на стол кладут? Трупы, конечно. Кого там я еще погубила?
Полковник побарабанил пальцами по столу.
— Зря вы в истерику ударяетесь, Александра Родионовна. И зря грех на душу берете. Не ваш он.
— Не мой? Но разве не вы, сидя вот на этом табурете…
— Я ошибался, — перебил меня полковник. — Скорее всего. И цель моего нынешнего визита — сообщить вам об этом. Признать ошибку. Повторяю: вы не виновны в этих смертях.
— Что-то случилось?
Он кивнул.
— Мы арестовали тех двоих милиционеров.
— И контролеров?
Полковник усмехнулся:
— Контролеров не успели. Они оба попали под поезд вечером в воскресенье. Предположительно были мертвы еще до того, как их положили на рельсы. Собственно, их смерть и доказывает вашу непричастность: уж контролеров-то губить не было вовсе никакого смысла. Они не причинили вам лично никаких неприятностей — напротив, отпустили.
— Погодите, — остановила его я. — Вы сказали, что их положили на рельсы. Значит, это не было несчастным случаем?
— Железнодорожная полиция составила акт о несчастном случае в результате сильного алкогольного опьянения. Но это было убийство. Как и в случае с Беровиным.
— Диму убили? Но за что?
Константин Викентьевич помолчал, прежде чем ответить.
— Давайте начнем с начала, Саша. Отношения между Комитетом и МВД сейчас очень напряженные. В милиции большая коррупция, связи с преступными структурами, взяточничество, приписки, обман, закрытие реальных дел и фабрикация несуществующих… — Он значительно ткнул пальцем вверх. — Юрий Владимирович поручил Комитету расчистить эти авгиевы конюшни. О бывшем министре Щелокове вы уже, конечно, слышали. В общем, имеет место напряженность… или, точнее сказать, ненависть.
— Да, но как связан Щелоков с Димушкой…
Полковник скривился:
— Ах, Саша, ну как вы не понимаете. Сейчас перетряхивают всю милицию. Сверху донизу. Там ведь преступными доходами кормилась вся цепочка — кто больше, кто меньше. Вот вся цепочка и задета. А теперь представьте себе эту картину в вагоне. Два милиционера — пьяных и злых. Перед ними — офицер Комитета, который лыка не вяжет. На скамье — целая куча деликатесов, которых эти менты годами в глаза не видят, не то что пробуют. Какая тут будет реакция с их стороны?
— Злобная. Но отсюда до убийства…
Он покачал головой:
— Так они и не думали его убивать. Хотели только унизить, ну и, конечно, отобрать продукты. Он ведь был настолько пьян, что назавтра мог ничего не помнить или помнить, но очень смутно. В общем, приволокли Свиблова в участок. А в участке тоже все поголовно пьяны: суббота, сами понимаете. Сережа продолжал выпендриваться, угрожать. Его ударили — раз, другой… ну, и пошло. Так и забили до смерти. Пьяная свинья удержу не знает.
— Ужас…
— Ужас. Свиблов был хороший парень. С неба звезд не хватал, но порядочный, честный. В наше время это уже немало.
— Вы сказали, что его нашли в Белоострове.
— Верно, — кивнул полковник. — Когда в участке поняли, что убили офицера из Комитета, стали заметать следы. Погрузили труп на машину, отвезли в Белоостров, чтобы создать впечатление, будто он убит там. А затем стали убирать свидетелей. Сначала убили контролеров, потом вашего Диму. Он ведь не упал под поезд — столкнули.
— А как они его так быстро… — начала было я и сама же себе ответила: — Паспорт! Он тогда предъявил им свой паспорт. Тот кадыкастый мент даже отпустил шуточку по поводу фамилии: Беровин, почти Боровин…
— Вот-вот… — вздохнул Константин Викентьевич. — Это его и сгубило — паспорт и редкая фамилия. К счастью, вас им быстро найти не удалось, а то бы мы тут с вами не разговаривали.
— Ну вообще-то найти меня не так уж и трудно, — возразила я. — Они ведь знают, что мы с Димой коллеги по работе. Были коллегами…
Полковник пожал плечами:
— Вы правы, Саша, но сейчас вам вряд ли что-то угрожает. Свидетеля имеет смысл убирать, пока он не рассказал то, что видел. А вы уже все рассказали. Кроме того, оба милиционера дали признательные показания. Так что теперь уже поздно искать спутницу Беровина. Поздно и ни к чему…
— Какая страшная история.
Мы помолчали. В коридоре громко зевнула Бимуля, повернулась с боку на бок и снова затихла. Из гостиной слышался голос телевизионного диктора — программа «Время».
— Мне пора, — сказал полковник. — Передайте мой прощальный привет вашей маме. Не хочу ее беспокоить.
— Спасибо, Константин Викентьевич.
— За что, Саша? За страшную историю на ночь?
— За то, что сняли камень с души. А то я совсем загрустила…
Он немного помедлил.
— Дайте-ка вашу записную книжку… Вот мой рабочий телефон. Если что, звоните. Новоявленский Константин Викентьевич.
Уже закрыв за полковником дверь, я подумала, что, в сущности, почти ничего не изменилось. Я по-прежнему не могла быть уверенной в том, что не представляю смертельной опасности для окружающих — всех, включая самых близких мне людей. И все же, все же… По крайней мере, этот Новоявленский Константин Викентьевич не обвинял меня в гибели Свиблова и Димушки, и это уже казалось немалым шагом вперед по сравнению с положением, которое существовало во вторник.
С другой стороны, были и неприятные НОВОСТИ: теперь я превратилась в потенциальный объект милицейской охоты. Да, моя роль как свидетельницы действительно оказалась отыграна — но только на стадии следствия. Поди знай — не захотят ли в будущем менты позаботиться о моем неучастии в предполагаемом суде. Если, конечно, суд будет назначен: подобные дела у нас редко вытаскивались на свет. И тем не менее война между МВД и Комитетом, о которой говорил полковник, вполне могла перерасти и в стадию громких открытых процессов. В этом случае угроза превращалась в более чем реальную.
Но будущее не слишком волновало меня: текущие проблемы выглядели сейчас куда важнее. После разговора с Константином Викентьевичем моя депрессия странным образом переросла совсем в иное состояние. Наверно, правильней всего было бы определить его как ярость. Да-да, ярость. Что-то похожее я переживала в стройотряде в Минеральных Водах при взгляде на комиссара Миронова. Если раньше, думая о маньяке из Сосновки, я испытывала в основном страх и отвращение, то теперь к этим чувствам присоединились гнев и ненависть. Ведь все последние несчастья произошли именно из-за этого чудовища. Не будь его, Свиблов не запил бы горькую и тогда, безусловно, остался бы жив. Не было бы субботней сцены в вагоне электрички, не было бы скандала с железнодорожными ментами, а значит, не погиб бы и ни в чем не повинный Димушка Беровин. И главное, не было бы того отчаянного всепоглощающего чувства вины, которое мучило меня в результате этих бессмысленных и страшных смертей.
— Знаешь, что, Бимуля? — сказала я собаке, когда мы сидели с ней рядышком на нашей любимой скамейке. — Если приходится выбирать между тупым лежанием лицом к стене и ненавистью к этому подонку, то я выбираю второе. По крайней мере, так я чувствую себя живым человеческим существом, а не дерьмовым посредником смерти. А где лучше всего ненавидеть сосновского маньяка? Конечно, в Сосновке.
Бимуля беспокойно задвигалась и заскулила: как видно, бедняжке вовсе не улыбалось снова тащиться через весь город в наморднике и в двух трамваях.
— Не дергайся, подруга, — успокоила я собачен-цию. — Мне, конечно, очень льстит твое желание помочь хозяйке, но на этот раз я поеду одна. И никаких возражений!
Возражений, понятное дело, не последовало.
Воскресенье выдалось пасмурным; вероятно, следовало взять зонтик, но какой же охотник отправляется в лес с зонтом? Я доехала на метро до «Площади Мужества», намереваясь сесть там на троллейбус в сторону Сосновки. Путешествовать без собаки было втрое быстрей, хотя и не так весело. «Ничего-ничего, — подбодрила я себя, — мысленно Бимуля всегда со мной». Я представила, как она лежит сейчас в коридоре, подергивая лапами во сне, и на сердце сразу стало легче. Лапы-то подергиваются неспроста: наверняка собаченции снится, что она бежит сейчас рядом со мной.
Первый троллейбус я пропустила. Забавно, что мужество покинуло меня как раз на площади, названной его, мужества, именем. Мне вдруг остро захотелось вернуться в метро, домой, к маме и Бимочке. Что я себе, в самом деле, навоображала? Ну какой из меня охотник? Максимум — приманка, да и та не бог весть какая примечательная. Трусость развернула меня спиной к остановке и даже заставила сделать несколько шагов в направлении, противоположном Сосновке. Но тут я припомнила кое-что и вернулась.
Я вспомнила Димушку — пожилого уже человека, сорок с хвостиком, причем, как говорил по этому поводу Троепольский, «хвостиком длинным и роскошным, как у павлина». Вспомнила его увлечение древнерусской культурой; вспомнила, как он постоянно пасся на Литейном рядом с «Букинистом» и «Академкнигой», а потом любовно демонстрировал нам добычу: тома Карамзина и Ключевского, дорогу-щие альбомы с луковками старых церквей и темными ликами икон. Вспомнила его любимую шахматную присказку: «Половцы, много половцев…» Вспомнила его крестик — предмет частых насмешек Троеполь-ского — и грубое кадыкастое «жидуйте отсюда!».
— Жидуйте? — бормотала я, идя к троллейбусной остановке. — Сейчас я устрою вам «жидуйте»… сейчас вы у меня попляшете, сволочи…
Не знаю, к кому я обращалась, кого имела в виду, да это и неважно. Важно, что ко мне мало-помалу возвращались и прежняя ненависть, и прежний гнев.
Уже поднявшись в троллейбус, я подумала про Сережу Свиблова. Он вряд ли мне когда-нибудь нравился — опер и опер, фигура угрожающая уже в силу своего места работы. Таких людей сторонятся, а отношения с ними стараются скрыть. Да и внешне он выглядел никак не Аленом Делоном. Эти редкие волосы, эти судачьи глаза, странно белеющие от спиртного… бр-р… Но, что называется, по факту я не видела от него ничего дурного. Напротив — он выручил меня и моих друзей из ментовки, спас от серьезных неприятностей. Полковник утверждал, что Сережа был порядочным, честным парнем; мне тоже казалось, что Свиблов переживал свою неспособность поймать маньяка вовсе не из опасений за личную карьеру… по крайней мере, не только из таких опасений. Похоже, он совершенно искренне казнил себя за каждую убитую девушку — казнил и глушил чувство вины при помощи алкоголя. Его родители живут в Белоострове, жена с ребенком — на Петроградской. Можно ли измерить их горе? Кто теперь отомстит за Свиблова, за Димушку, за два с половиной десятка замученных, изнасилованных, задушенных молодых женщин? Кто?
Я вошла в лес со стороны проспекта Мориса Тореза. Моросило. Наверно, поэтому аллеи были пусты: ни прогуливающихся с колясками мамаш, ни играющей детворы, ни алкашей с бутылочкой под кусточком — лишь бегуны-джоггеры и велосипедисты, с маниакальным упорством наматывающие километры на спидометры своего несокрушимого здоровья. Кстати, если человек маниакален в чем-то одном, то отчего бы ему не проявить такую же склонность и в других направлениях?
На велосипеде легко перемещаться по тропинкам парка, а значит, велосипедист может очень быстро покинуть место преступления. Когда эти наглухо застегнутые кентавры, опустив голову, проносятся мимо, никто не успевает рассмотреть ни лица, ни особых примет. Да никто их особо и не разглядывает: эти люди катаются здесь в любую погоду и давно уже представляют собой неотъемлемую часть пейзажа, как трава или деревья. Руки у них обычно в перчатках, что, конечно же, помогает не оставлять следов… Не крутился ли вокруг меня один такой спортсмен, когда мы прогуливались тут с Бимулей две недели тому назад? Крутился, еще как крутился! Несколько раз проехал туда-сюда, а потом вернулся снова, причем в довольно пустынном месте. Если это и в самом деле был убийца, то напасть на меня ему помешал лишь не вовремя вышедший из боковой аллеи милиционер…
То и дело оглядываясь и с трудом удерживаясь от того, чтобы делать это еще чаще, я брела по пустой дорожке. Дождь то прекращался, то налетал опять, как тот чертов маньяк-велосипедист. Ну вот, я уже окрестила его маньяком, а ведь человек, наверно, непричастен ни ухом ни рылом… Или причастен? Эх, жаль, нет рядом Бимы — она сейчас непременно обернулась бы на меня с таким видом, будто хочет сказать: «Маньяк, маньяк! Даже не сомневайся! Кто еще может заявиться в парк в такую гадкую погоду — только маньяки и менты!»
А охотники, Бимуля? Есть ведь, кроме ментов и маньяков, еще и охотники. Или даже охотники-приманки, как, например, я… Мои волосы намокли и липли ко лбу. В принципе, можно было бы накинуть капюшон, но он сильно ограничил бы поле зрения. Кроме того, я боялась не услышать шагов или шелеста шин. Без солнца лес казался мрачным. Стволы сосен потемнели от влаги, березы стояли, печально опустив плечи, как безутешные вдовы. Как вдова Сережи Свиблова или Димушки Беровина. В сплетении ветвей, в придорожных кустах мерещились чьи-то тени, руки, лица… иногда мне казалось, что кто-то перебегает там от дерева к дереву, прячась всякий раз, когда я поворачиваю в ту сторону лицо.
Чем глубже я уходила в лес, тем страшнее мне становилось. Я вспомнила пожилого милиционера с седыми усами, который предположительно спас меня от велосипедного маньяка: он тогда посоветовал мне кричать в случае… в случае… — нет, он так и не сказал, в случае чего. Как видно, им приказали не разглашать истинную причину усиленного патрулирования Сосновки. Может, крикнуть прямо сейчас? Но как потом объяснить этот крик, когда сбегутся менты и дружинники? Две недели назад я сказала, что играла с собакой, а сейчас Бимули нет, и спихнуть не на кого…
Может, не кричать, а просто подойти? Помнится, усатый мент что-то говорил о памятнике летчикам. Да-да, он так и сказал: мы, мол, тут недалеко, у памятника летчикам… Вот только где он, этот памятник? И тут, словно услышав мою мольбу, Сосновка откликнулась указателем на пересечении двух аллей. На стрелке было крупными буквами написано: «Мемориал». И ниже, помельче: «Защитникам Ленинградского неба». Благословив удачу, я свернула по указателю налево.
Мемориал представлял собой высокую стелу, а по бокам от нее — две большущие бетонные глыбы, символизирующие, по всей видимости, крылья. К стеле была прикреплена массивная черная голова в шлеме и сдвинутых на лоб защитных очках. Нечего и говорить, что я еще издали обрадовалась памятнику, как родному. Под крылом глыб можно было худо-бедно спрятаться от дождя, а голова летчика сулила хоть какое-то, пусть даже и совершенно одностороннее человеческое общение — уже что-то в тоскливом одиночестве этих пустых парковых аллей. А уж когда я разглядела на краю площадки желто-синюю милицейскую машину, то и вовсе расслабилась. Как видно, здесь, в сердце парка, держали постоянный патруль.
У подножия стелы лежали цветы. Я подошла и уставилась на мужественное лицо защитника ленинградского неба. Летчик, в свою очередь, начисто меня игнорировал — он упорно смотрел поверх моей головы и деревьев — в небо и только в небо. Наверно, ему обещали подвезти оттуда туловище, руки-ноги и все остальное. Но это — в случае летной погоды, а сегодняшние атмосферные условия к полетам, прямо скажем, не располагали.
— Что, дочка, одна гуляешь?
Я обернулась и расплылась в улыбке: из окна машины на меня смотрел давешний усатый милиционер, гроза аллейных маньяков-велосипедистов.
— А я вас помню, товарищ сержант.
— Да? Откуда же?
Он грузно спрыгнул на землю и встал рядом, разминая папиросу.
— Мы с вами тут уже встречались, вон там, в аллее.
Усатый всмотрелся и тоже заулыбался:
— Как же, как же… с собакой, правильно? Без намордника.
— Верно! — кивнула я.
Мент щелкнул зажигалкой.
— Где ж собака?
— Дома осталась… — Я наклонилась посмотреть на букеты. — Это кто ж сюда цветы носит, да еще в дождь?
— Носят… — неопределенно отвечал усатый, выпуская облако табачного дыма. — Школ вокруг много, шефствуют. Когда учебный год, так и вовсе по десять раз на день. А сейчас меньше… лето, каникулы…
В машине щелкнула, захрипела-заговорила рация.
— Семеныч, вызывают! — позвал из кабины напарник сержанта.
— Ну так ответь! Доложи обстановку… — с досадой откликнулся тот и подмигнул мне: — Молодые, всему учить надо.
Я ответила мудрой сочувственной усмешкой: мол, кому, как не мне, старику, понять другого старика…
— А вы что, тут каждый день стоите?
— Почти каждый. — Усатый еще разок затянулся и тщательно затоптал окурок — Приказ есть приказ, дочка.
— Ловите кого-нибудь? — невинно осведомилась я.
Он усмехнулся.
— Уже поймали.
«Ничего себе! — подумала я. — Так-таки и поймали?»
Это становилось интересным. Неужели сосновский маньяк действительно пойман? Почему тогда полковник ничего не сказал мне об этом? Может, просто не успел? Может, убийцу поймали вчера или даже сегодня утром?
— Значит, поймали… — произнесла я вслух. — И кого же?
— Тебя, — спокойно ответил мент.
В следующее мгновение он взмахнул рукой, мир крутанулся перед моими глазами, небо слилось с землей, мелькнули верхушки деревьев, и наступила темнота.
Очнулась я в полном параличе — в жутком чувстве, будто от меня остался один только мозг, а тело не действует вообще. Сильно болела голова; я попробовала повернуть ее — мышцы шеи работали, а вот затылок немедленно отозвался пульсирующей болью — по-видимому, там набухала здоровенная шишка. Но почему я не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой? И где я нахожусь?
— Семеныч, мяско-то ожило, — сказал кто-то невидимый мне. — Можно приступать.
— Долго она что-то отдыхала, — ответил знакомый голос усатого мента.
Сбоку послышался смешок — это был кто-то третий. Я скосила глаза: на меня, умильно улыбаясь, смотрел круглолицый парень в милицейской форме с погонами рядового.
— Долго ли, коротко, а ожила. Ты, Семеныч, вдарить умеешь.
— Ну так, — теперь усмехнулся усатый. — Нам ведь дохлая ни к чему. Дохлая нам без интересу. Мяско хорошо, когда свежее.
— И шустрое, — подхватил первый. — Когда начнем-то?
— Слышь, Петюня, не терпится ему, — благодушным тоном проговорил пожилой мент. — Ох, молодежь, молодежь…
— А чего терпеть-то? — возразил первый. — И так больше недели голодаем. У меня уже первотоксикос начался.
— Чего? — переспросил Семеныч.
— Первотоксикос. Когда яйца ломить начинает.
Семеныч рассмеялся:
— Ну, ты скажешь, Копцов. Слышал звон, да не знаешь, где он. Спермотоксикоз это, понял? От слов «сперма» и «токсикоз». А ты — «перво»… ну при чем тут «перво»?
— При чем, при чем… — сердито отвечал первый. — Больно умный ты, Семеныч, начитанный. При том, что сперва яйца ломит, а потом на стену лезешь, вот при чем. Ты что, меня специально заводишь? Давай уже натянем ее по разику, а разговоры будем потом разговаривать…
Я слушала эту содержательную беседу, и постепенно до меня доходила жуткая серьезность моего положения. По-видимому, я находилась внутри милицейской машины. Я лежала на скамье, прижатая к ней как минимум тремя ремнями и обернутая несколькими слоями полиэтиленовой пленки. За то время, пока я пребывала в отключке, эти свиньи сорвали с меня всю одежду и голой завернули в какой-то прозрачный кокон. Меня едва не стошнило от мысли, что эти твари касались моего тела своими мерзкими лапами. Но это наверняка выглядело райскими утехами по сравнению с тем, что предстояло мне в самом ближайшем будущем согласно их садистскому ритуалу. Я ведь видела фотографии жертв этой развеселой компании…
— Больно начитанный, говоришь? Больно умный, говоришь? — переспросил усатый мент, сидевший на месте водителя. — Дурак ты, Копцов. Тебе лишь бы засунуть, а там хоть трава не расти…
Третий, примостившийся на боковой скамье рядом со мной, вдруг хлопнул в ладоши и громко заржал.
— Ты чего, Петюня?
— Так это… — выдавил он, заходясь от смеха. — Если Копцов куда засунет, там точно трава не вырастет…
Двое других поддержали Петюню ответным ржанием.
— Ох, молодежь, молодежь, — с отеческой интонацией проговорил Семеныч. — Где б вы без меня были…
— Где-где… Жарили бы ее сейчас, как положено, вот где, — отозвался Копцов.
— Я ж говорю, дурак. Сегодня цветы сколько раз приносили?
— Один, — ответил Петюня.
— Вот то-то и оно, что один, — подтвердил усатый. — Значит, должны еще раз принести. А теперь сами подумайте: заявляется сюда целая делегация, а мы тут с мясцом развлекаемся. А мясцо, как вы знаете, молча не лежит. Ну, и хорошо ли получится?
Два младших мента молчали, обдумывая сказанное. Я снова безуспешно попробовала шевельнуться — ремни и пленка не позволяли двинуть и пальцем. Нет сомнений, здесь отработано все, до самых последних мелочей. Вот вам и объяснение, почему никакие патрули не могут поймать этих сволочей: они сами по себе — патруль! Туг ведь еще вот что: если бы маньяком был просто один из ментов, то его товарищи рано или поздно заподозрили бы неладное. Но когда единой бандой выступает целая группа, отдельный патруль, заметить что-либо практически невозможно… Кто бы мог предположить, что роль маньяка-одиночки возьмут на себя сразу трое?! Они исполняют свой садистский ритуал внутри глухо запертой машины посреди дневного парка, и людям вокруг даже в голову не приходит, какие ужасы совершаются в сотне метров от играющих детей и мамаш с колясками.
А потом… потом они отъезжают в какое-нибудь удобное, не обязательно безлюдное место и в подходящее время сбрасывают там бездыханное тело своей жертвы. Когда убийц трое, легко выбрать безопасный момент, когда никто не смотрит. Да и кто станет следить за милицейской машиной? Вот она-то действительно часть пейзажа — она, а не безвинные велосипедисты, на которых я возвела такую жуткую напраслину… А эта чертова пленка… — видимо, она для того, чтобы не пришлось потом отмывать машину. Хотя вряд ли кому-то придет в голову проверить эту ПМГ по-настоящему, тщательно — зачем? Это ведь машина милиции…
— Ладно, Семеныч, — сказал наконец Копцов. — Что ты теперь предлагаешь? Ждать? А если они вообще не придут?
— Придут…
— А если нет? Так и будем стоять? Я тебе серьезно говорю: мочи нет уже на нее смотреть, так хочется. Да у тебя и самого небось свербит. Давай отъедем куда-нибудь в сторонку.
— Тьфу ты! — сплюнул усатый. — Вот ведь пристал… Ну, черт с тобой, поехали. На позапрошлое место. Там сейчас никого.
Он завел двигатель.
— Вот это дело! — радостно воскликнул Копцов. — Петюня! Ножик у тебя? Прорежь там дырки.
— Прямо сейчас? — с готовностью вскинулся Петюня, доставая выкидную финку.
— Ну ты что, совсем дурак? — ответил за Копцова усатый. — Как ты будешь на ходу резать-то? Вот как приедем, тогда… Эх, молодежь…
Машина качнулась, трогаясь с места, и этот толчок вывел меня из состояния ступора. «Прорежь там дырки…» Я покосилась на круглолицего мента, который, жизнерадостно улыбаясь, поигрывал ножиком в полуметре от моего живота. Если я не собиралась детально выяснять, где именно они прорезают дырки и что именно делают потом, то нужно было действовать прямо сейчас. «Позапрошлое место», о котором говорил усатый убийца, наверняка находится где-то недалеко, в пределах Сосновки. Значит, в лучшем случае, у меня есть всего несколько минут — может, десять, может, пять.
Я вывернула шею, чтобы лучше видеть профиль Семеныча.
— О! Мяско головкой крутит! — возвестил наблюдательный Петюня.
— Пускай крутит, тренируется… — мрачно откликнулся невидимый Копцов. — Мы потом тоже подмогнем, открутим до упора.
— Точно, открутим! — поддержал круглолицый. — А она из этих, из молчаливых. Которые, пока не прижмешь, звука не проронят.
— Шок у нее, — солидно проговорил усатый. — Ничего, еще запищит. Шок шоком выбивают.
— Шок шоком выбивают! — восторженно повторил Петюня. — Ну, ты скажешь, Семеныч! Шок шоком…
— Сдохни! — прошипела я, уставив взгляд в правый ус вожака. — Сдохни! Сдохни!
Я произнесла это трижды, но, к моему ужасу, без каких-либо видимых результатов. Милицейский автомобиль, проклятая пыточная коробка на колесах, выехал на аллею с площадки мемориала защитникам ленинградского неба и продолжал набирать скорость. Сердце мое рухнуло в пятки. Неужели эта чертова способность покинула меня? В такой момент! А кто обещал мне, что она сохранится? Никто! Появилась неизвестно как и неизвестно когда — значит, может так же и уйти! Вот она и ушла!.. Пожалуйста, ну пожалуйста, только не сейчас! Уйди завтра, уйди через час, но только не сейчас! Не сейчас!
Машина ускорилась по прямой, как стрела, аллее. Насколько я могла видеть, усатый по-прежнему крепко сжимал руль.
— Сдохни-сдохни-сдохни… — скороговоркой повторяла я свою некогда спасительную мантру.
— Что-то очень быстро… — поделился свежими наблюдениями Петюня. — Притормози, Семеныч.
— Куда гонишь-то? — поддержал напарника Копцов. — Слышь, Семеныч… Семеныч! Семеныч!
Голова водителя качнулась вправо. Я успела увидеть его выпученный удивленный глаз — глаз человека, разбитого внезапным параличом, успела увидеть руку Копцова, который сбоку схватился за руль, надеясь удержать на аллее вихляющую машину. Но, видимо, уже никакая сила не могла оторвать ногу издохшего Семеныча от вдавленной в пол педали газа. Мотор взревел на предельных оборотах. Дорога кончилась; автомобиль пересек поперечную аллею и взлетел в ленинградское небо на манер его защитников четырьмя десятилетиями раньше. В лобовом стекле мелькнули верхушки деревьев, я почувствовала удар и закрыла глаза.
Потом сразу была тишина. Тишина, нарушенная лишь шелестом полиэтилена, когда я попробовала пошевелить рукой. Машина лежала на боку, переднюю часть кабины пересекал толстый сильно ободранный березовый ствол. Между ним и полом виднелось неприятное месиво из ментовских фуражек, окровавленной ткани, волос и торчащих в разные стороны обломков того, что некогда именовалось человеческими руками и ногами. Если, конечно, обладатели этих конечностей могли называться людьми.
Задний кузов тоже помяло, но не настолько. Меня, без сомнения, спасли ремни, крепко прижимавшие мое тело к скамье во время катастрофы. Одним концом они были прикручены к правой стенке, которую вмяло в результате удара. Это позволяло мне теперь относительно свободно двигать руками, чем я немедленно воспользовалась. Говорят, в таких случаях может загореться бензобак — значит, нужно как можно скорее выбраться наружу. Разодрав полиэтилен, я расстегнула ремни. Задняя дверца наполовину отлетела и болталась на одной петле. Я уже почти выпрыгнула из машины, но вовремя вспомнила, что подонки раздели меня догола. Одежда… где одежда?.. Эти убийцы всегда оставляли одежду рядом с жертвами, значит, она должна быть где-то здесь, в кузове.
Так и есть! Я почти сразу заметила полу своей куртки: она торчала из пластикового пакета, застрявшего между спинкой водительского сиденья и телом третьего мента… как его?.. — Петюни. Упершись спиной в скамью, а ногами в Петюню, я кое-как подвинула его, чтобы высвободить мешок.
— Больно…
— Что? — Я застыла с пакетом в руках.
Петюня был жив! Его сильно побило-поломало, но подлец все еще дышал, его круглая рожа страдальчески морщилась, а невинные поросячьи глазки взывали к жалости и милосердию.
— Сдохни! — скомандовала я.
Он моргнул своими гляделками и повторил:
— Больно…
И тут я словно увидела себя со стороны. Я увидела, как наклоняюсь и поднимаю нож — тот самый, предназначенный для прорезывания дырок. Я увидела, как сажусь на Петюню верхом и наклоняюсь к его круглой роже. Я услышала, как спрашиваю его:
— Хочешь мяска, Петюня? Вот оно, смотри. Нравится?
— Не надо… — попросил он и мотнул головой из стороны в сторону.
— О! Мяско головкой крутит! — жизнерадостно отметила я. — А кстати, что у нас насчет дырок, Петюня? Где вы эти дырки резали? А? Ну, чего мол-чишь-то? Ты что, из этих, из молчаливых? Которые, пока не прижмешь, звука не проронят?
— Пож… пожалуйста… — пролепетал он. — Мне надо в больницу…
— В морг тебе надо, Петюня, в морг. Так где дырки-то были? Ты мне так и не рассказал. Здесь? — Я всадила в него нож по самую рукоятку. — Или здесь? Или здесь?
Сначала он вздрагивал от каждого удара, а потом перестал. А я… я словно смотрела со стороны, как другая «я» убивает беспомощного человека. И мне было удивительно хорошо — той «мне», которая убивала. Каждый удар освобождал меня от зла, освобождал от ненависти, так что под конец я уже чувствовала себя совершенно спокойной и уравновешенной. Да что там — я чувствовала себя счастливой, как после ночи с Сатеком в пустой школе в Минеральных Водах. Я не считала, сколько раз пырнула его — надеюсь, что не меньше двадцати пяти — за каждую убитую ими женщину. Вернее, двадцать семь, если вспомнить Димушку и Свиблова. Или даже двадцать девять, чтоб почтить еще и контролеров из электрички. Да что там мелочиться — пусть будет для круглого счета тридцать — включая меня саму…
— Шок шоком выбивают, Петюня. Передай Семенычу, что я с ним согласна.
Я встала с мертвого тела и осмотрелась в поисках канистры. Дело в том, что у нас, убийц, обязательно должна быть канистра, чтобы смыть излишние последствия. И канистра, конечно, нашлась — здесь же, в кузове. Я смыла кровь, оделась и выбралась наружу. С ленинградского неба сыпался меленький приятный дождик. Нелетная погода.
На проспекте Мориса Тореза я нашла телефонную будку и позвонила полковнику Новоявленскому.
— Саша? — удивился он. — Что-то случилось?
— Случилось, — сказала я. — Я звоню вам от Сосновки. Высылайте своих людей, есть на что посмотреть.
— Еще одна женщина?
— Наоборот.
— Даже так… — после долгой паузы проговорил он. — Значит, у вас получилось? Получилось?
— Получилось. С вас причитается.
— Где он? — быстро спросил полковник. — Кто он?
— Не он, — поправила я, — они. Трое, в машине, в лесу, на продолжении аллеи, которая идет от памятника летчикам. И, Константин Викентьевич…
— Да?
— Будет лучше, если вы успеете туда раньше милиции, — сказала я и повесила трубку.
Он перезвонил вечером:
— Саша, вы уже выгуляли свою собаку?
— Нет, только собираюсь.
— Можно к вам присоединиться?
— Если Бима не возражает… — нерешительно ответила я.
— После того количества печенья, которое я ей уже скормил? — возмутился полковник. — Конечно, не возражает.
Новоявленский оказался прав — Бима не имела ничего против его нового явления.
— Почему вы так уверены, что убийства совершали они? — спросил он, когда мы шли по набережной Фонтанки.
Я пожала плечами:
— Как можно доказать, что щука жрет плотвичек? Очень просто: поймать ее на живца.
— Живцом были, конечно, вы сами?
— Конечно.
— Мне вот что интересно, Саша: неужели вы были настолько уверены в себе, что пошли на такое?
— Я? Уверена в себе? — Я покачала головой. — Нет, Константин Викентьевич, эта фраза не про Сашу Романову. Честно говоря, был момент, когда я по-настоящему струхнула.
— Как вы уцелели во время автокатастрофы? Машина перевернулась минимум дважды.
— Как уцелела… была хорошо привязана, вот как. Можно использовать этот случай в качестве рекламы пристяжных ремней. Правда, в дополнение к этому они раздели меня догола и завернули в полиэтилен. Не уверена, что последние две детали должны стать частью рекламного ролика.
— А что они… — Полковник замялся. — Что они еще успели с вами сделать?
— Вы спрашиваете, не изнасиловали ли меня? — уточнила я. — Нет, бог миловал. Оглушили, раздели, завернули, привязали. А потом я уже пришла в сознание.
— Знаете, — сказал он, — мы сверили график их дежурств с датами убийств. Совпадает в точности. Кто бы мог подумать…
— А их сменщики? Или на этой машине ездили только они?
— В основном они. Но знаете, Саша, эти машины редко кто внимательно осматривает на предмет подобных улик, туда ведь кого только не сажают: и алкашей, и проституток, и драчунов. Там даже лужа крови на полу никого не удивит. Так что проблемы такого плана их не волновали.
— У них всем командовал старший, — сказала я. — Усатый такой, пожилой. Они называли его Семенычем. Второго я не разглядела. А третий совсем сосунок. Петюня.
— Сейчас многое стало ясным, — задумчиво проговорил Новоявленский. — Я имею в виду — в смысле распределения ролей. Разные патологоанатомические странности. Не знаю, посвятил ли вас Свиблов…
— Не посвятил, — остановила его я. — И вы не посвящайте, ладно? Не хочу об этом знать.
— Хорошо.
Подбежала, вопросительно насторожив уши, Бимуля, убедилась в отсутствии проблем и снова потрусила вперед вдоль чугунной решетки. Судя по флагообразному положению хвоста, собака пребывала в превосходном расположении духа. Еще бы: на этой прогулке ее сопровождала не просто хозяйка, но еще и весьма солидный человек в нехилом звании полковника КГБ; а замыкала процессию черная «Волга», следовавшая в некотором отдалении. Что и говорить, столь значительный эскорт выпадает чрезвычайно редко и далеко не на каждую собачью душу.
— Константин Викентьевич, есть шанс, что это дело попадет в газеты?
— Конечно, нет, Саша… — Новоявленский даже приостановился, пораженный нелепостью моего предположения. — Официально маньяка из Сосновки никогда не существовало. Впрочем, как мы знаем сейчас, его не существовало и реально. Была преступная группа в мундирах. Что, как вы понимаете, еще более непечатно.
— Понимаю. Действительно, непечатно.
Полковник смущенно кашлянул.
— Будет официальная версия для милиции: автокатастрофа. Дождь, скользкая дорога, общая усталость, вызванная внеплановыми дежурствами. Три милиционера, погибшие на боевом посту. Это устроит и милицейское начальство, и семьи погибших.
— Понимаю, — снова кивнула я. — На боевом посту. Но своему-то начальству вы должны рассказать что-то другое? Или начальство тоже получает только печатную версию?
Он метнул на меня быстрый взгляд.
— Саша, по-моему, вы взяли слишком агрессивный тон.
— Дорогой Константин Викентьевич, — вздохнула я. — Честное слово, этот вопрос интересует меня лишь применительно к моей скромной персоне. Типа, что вы доложите обо мне лично. А что касается других деталей и других дел, которых у вас, конечно, хватает, то до них мне как до лампочки, уверяю вас.
Новоявленский помолчал.
— Что ж, пожалуй, вы правы… — сказал он. — В конце концов, с этими мерзавцами покончили именно вы. Причем покончили с риском для жизни. Значит, кому как не вам требовать ответа… гм… на кое-какие вопросы.
— Спасибо, — раскланялась я.
— Саша, пожалуйста, не паясничайте, — поморщился полковник. — Проблема действительно непростая. Вы спросили, какая картина будет представлена в моем докладе. Извольте. На преступную группу мы вышли благодаря счастливому стечению обстоятельств. Они захватили свою двадцать шестую жертву, личность которой пока не установлена. Уже после похищения произошла автокатастрофа, приведшая к гибели всех троих преступников. Их жертве удалось высвободиться и скрыться. При осмотре места катастрофы были обнаружены неопровержимые улики, привязывающие группу к серии убийств, которая проходит под названием «Дело маньяка из Сосновки». Описанная версия полностью подтверждается данными патологоанатомической экспертизы предыдущих жертв. Складно?
— Складно, — признала я.
Мы немного помолчали.
— Знаете, сколько раз вы его пырнули ножом? — вдруг спросил он.
Я пожала плечами.
— Тридцать?
— Девятнадцать.
— Жаль, — усмехнулась я. — Он много недополучил.
Полковник вздохнул:
— Знаете, чего я не понимаю, Александра Родионовна? Две вещи. Во-первых, зачем было убивать этого милиционера таким зверским образом?
Я снова усмехнулась:
— А этого вы и не поймете, Константин Викентьевич. Для того, чтобы это понять, нужно полежать голышом в полиэтиленовом коконе на скамье, где до тебя истязали других женщин. Нужно послушать, как они называют тебя «мяском», нужно посмотреть, как они поигрывают ножичком над твоим животом. Нужно…
Мой голос прервался. Новоявленский поспешно положил мне руку на плечо.
— Не надо продолжать, Саша. Я понял, извините. Честно говоря, такой ответ я и предполагал, но все же мне нужно было его услышать. Извините еще раз. Но есть еще и второй вопрос.
— Я слушаю.
— Почему вы так уверены, что я стану вас покрывать?
— А почему вы думаете, что я в этом уверена?
— Ну как же… — Полковник развел руками. — Вы даже не позаботились о том, чтобы выбросить нож, — так и оставили его в груди у этого борова. Вы не стерли отпечатков ни с рукоятки, ни с полиэтилена, ни с пакета. То же относится и к следам вашей обуви — они там повсюду.
— По-вашему, я должна была этим заниматься? Заметать следы?
— Почему бы и нет? К примеру, вы могли с легкостью имитировать самовозгорание автомобиля, что уничтожило бы отпечатки. Могли обернуть ноги тряпками или хоть тем же полиэтиленом, а кроссовки надеть в другом месте, подальше. Я не верю, что эти простые возможности не пришли вам в голову. Вы ведь не пребывали в состоянии аффекта. Хладнокровно умылись, оделись, спокойно вышли из парка и спокойно позвонили мне. Вывод? Вы были уверены, что вам не угрожает расследование. Иными словами, вы были уверены, что полковник Новоявленский вас прикроет. Так?
— Так.
— Почему?
Я рассмеялась.
— Константин Викентьевич, пожалуйста, не держите меня за дурочку. Я слишком ценный ресурс, чтобы вы согласились отказаться от моих услуг. Особенно сейчас, когда их действенность и полезность доказана на практике. Это раз. И два: мое задание было сформулировано предельно ясно: убить маньяка из Сосновки. Не арестовать, не пожурить, не запустить в космос… — убить. При том что, как именно я это сделаю, не было известно ни вам, ни мне. Мог бы — чисто гипотетически — случиться такой вариант, что он рухнул бы с крыши Большого Дома на Литейном прямиком на голову вашего генерала. Отчего бы и нет?.. Я имею в виду чисто гипотетически. Повторяю: вы понятия не имели, как это произойдет, но, тем не менее, отважились дать мне такое задание. Иными словами, вы заранее взяли на себя ответственность за результат. Подчеркну еще раз: любой результат. И вот он, результат. Я свое дело сделала — убила. Теперь ваша очередь — разгребайте последствия. Я не права?
Новоявленский не ответил. Мы молча шагали по набережной — впереди гордым буревестником реял Бимулин хвост, сзади плелась несчастная черная «Волга». Наконец полковник нарушил молчание:
— Саша, когда мы говорили по телефону, вы сказали что-то вроде того, что с меня причитается. Что вы имели в виду?
— Прагу, — просто ответила я. — Я имела в виду Прагу и свою поездку к любимому человеку. Не может быть, чтобы Сережа вам не докладывал.
— Понятно.
Он снова надолго замолчал, но тут уже не выдержала Я:
— Что вам понятно, Константин Викентьевич? Неужели я не заслужила этой небольшой поблажки? Я ведь не прошу ни денег, ни орденов. Визу на месяц, не более того. Что, много? Ну дайте хоть на три недели.
— Вы же сами говорили про ценный ресурс, — заметил Новоявленский. — А ценные ресурсы по заграницам не больно-то разъезжают. В любом случае я должен обговорить это с начальством.
— Знаете что? — выпалила я, останавливаясь. — Перестаньте морочить мне голову, товарищ полковник. Думаете, я не понимаю, что ваше начальство не знает обо мне ровным счетом ничего? Ноль целых, ноль десятых! Я не только ваш ценный ресурс, Константин Викентьевич, я еще и ваш личный ресурс. Личный! Особенно сейчас, после трагической гибели Свиблова… Я практически уверена, что о нашем маленьком секрете знаем только мы с вами и более никто. Нет? Посмотрите мне в глаза и скажите, что это не так. Давайте, давайте…
— Почему? — очень тихо спросил он и оглянулся на «Волгу». — Почему вы так решили — про личный ресурс и про маленький секрет?
— Потому что это ежу понятно, — так же тихо ответила я, глядя ему прямо в глаза. — Потому что вы умный человек, а умные люди начальству о подобных ресурсах не докладывают. А те, кто докладывает, к вечеру оказываются в дурдоме. Потому что, как хорошо известно начальству, с ведьмами, чертями и прочей нечистой силой общаются именно там, в отделении белой горячки. Я ведь уже просила: не держите меня за дурочку…
Новоявленский остановил меня жестом.
— Хорошо, Александра Родионовна, — произнес он официальным тоном, — я подумаю, как вам можно помочь. Передавайте привет вашей замечательной маме. Доброй ночи. Вы сделали сегодня огромное дело, но наговорили еще больше.
Полковник подозвал машину. Вернувшаяся из авангарда Бимуля разочарованно смотрела, как самая впечатляющая часть ее свиты растворяется в темноте вечера. «Ну вот. Теперь никто не поверит, — было написано на ее морде. — Ну хоть бы один кобелина попался навстречу, чтобы потом подтвердить…»
Я потрепала собаку по загривку.
— Не плачь, подруга. Они смотрели на тебя сверху, из окон. Смотрели и скулили от зависти. Это был настоящий триумф!
Бимуля благодарно вильнула хвостом и отошла понюхать соседнее дерево. На что, спрашивается, нужны друзья, если они не умеют вовремя подсовывать нам конфетки благостной лжи?
6
Набежал сентябрь — неожиданно солнечный, желто-синий, как милицейский «газик». Набежал и принес с собой то же странное чувство, какое было у меня в июне: отныне жизнь уже не измерялась учебными годами, как раньше. Теперь, девушка, это всего лишь один из двенадцати месяцев, привыкай. Сколько себя помнила, я постоянно куда-то переходила: из младшей группы в старшую, из класса в класс, с курса на курс. Куда осталось переходить сейчас — на пенсию? Было отчего взгрустнуть — даже мне, киллеру с пропеллером на мотороллере…
Конечно, эти три слова, непонятно откуда пришедшие мне на ум и произносимые на манер веселого заклинания, представляли собой совершенно бессмысленную мантру. Ну какой из меня киллер… — чушь, да и только. И при чем тут пропеллер?., не говоря уже о мотороллере, на котором я в жизни не сидела и, более того, садиться не собиралась. Хотя, если вдуматься, то кое-какие объяснения все же находились. Взять, к примеру, пропеллер — неотъемлемый атрибут Карлсона-который-живет-на-крыше, Карлсона — спасителя от всепоглощающей обыденной скуки… Наверно, чем-то подобным была и для меня эта открывшаяся во мне таинственная и необъяснимая способность. Но главное, моя мантра очень красиво перекатывалась на языке — крр-р-руглые шарр-р-рики «р», прыгающие по длл-л-лин-нющим лл-л-линиям «л»: киллер с пропеллером на мотороллере! Это звучит гордо!
Гибель Димушки сильно повлияла на настроение в грачевской лаборатории. Там и прежде пили неслабо, но несколько недель, прошедшие после похорон, превратились в непрерывные нескончаемые поминки. Этому способствовало и постепенное ослабление кампании по насаждению социалистической дисциплины: мало-помалу исчезли патрули, отлавливавшие прогульщиков на улицах и в кинотеатрах, куда-то испарились проверяющие из отдела кадров, остались в прошлом зубодробительные собрания и товарищеские суды.
— Я же говорил! Ка-Гэ-Было, так и будет! — торжествовал Троепольский и грустно добавлял: — Жаль, Димушка не дожил… Помянем душу раба божьего, да будет ему пухом древнерусская земля!
Поминать, между тем, стало легче не только в дисциплинарном, но и в денежном смысле, как будто власть тоже решила скинуться на увековечение памяти нашего невинно убиенного коллеги. С сентября в магазинах выбросили новую водку, которая стоила всего четыре семьдесят — то есть на целый полтинник дешевле. Ее тут же окрестили «андроповкой», и не только: однажды я сама, стоя в очереди в гастрономе, слышала, как кто-то сказал кассирше:
— Выбей мне две «первоклассницы»…
И кассирша поняла, не переспросила. Как видно, не я одна была ушиблена этим особым значением обычного месяца под названием «сентябрь»: из группы в группу, из класса в класс, с курса на курс…
Знакомя нас с новым напитком, Троепольский поставил бутылку «первоклассницы» на стол, развернул так, чтобы всем была видна ее бело-зеленая этикетка, и расшифровал, водя пальцем по буквам:
— «В-О-Д-К-А»… Что, дети мои, означает: «Вот Он Добрый Какой Андропов». Давайте же помянем вместе с ним нашего незабвенного Димушку!
И мы, конечно, помянули — кто по граммулечке, а кто и по стакану…
Уже в конце месяца, утром, в неурочное время, когда я в халате поверх ночной рубашки стояла у плиты, готовясь подхватить джезву с закипевшим кофе, раздался телефонный звонок. Мама уже ушла, так что кроме меня и Бимы подойти было некому. К сожалению, я так и не научила собаченцию снимать трубку: ленивая хитрюга упорно притворялась неспособной к дрессировке. В общем, выбора не было. Проклиная неизвестного звонаря, я прервала святую кофейную церемонию, выскочила в коридор и довольно неприветливо рявкнула в трубку:
— Да! Алло!!
— Императорка?
Это был Сатек! Прежде он никогда не звонил утром — только вечерами.
— Сатек? Что случилось? — перепугалась я. — С тобой все в порядке?
— Пока да. А зачем ты спрашиваешь?
— Зачем-зачем… Просто ты никогда еще не звонил утром, вот почему. Поэтому я испугалась.
Он рассмеялся.
— Понял. Не надо пугаться. У меня есть причина звонить в это утро. Я прислал тебе присылку.
— Ты имеешь в виду посылку? Спасибо, милый. Ты послал мне посылку и решил сразу известить об этом, невзирая на двойной утренний тариф. Но вряд ли стоило так торопиться: эта новость вполне могла подождать до вечера. Международные посылки идут несколько недель, если не месяцев.
— Нет, — сказал Сатек. — Эта посылка уже у тебя.
— У меня? Ты уверен? К нам ничего не приходило — ни посылки, ни почтового извещения. Когда ты ее посылал?
— Посылка ждет тебя на улице, — таинственным полушепотом проговорил он. — Выйди и увидишь.
Я помолчала, стараясь понять, в чем тут дело. Посылка ждет меня на улице? Что за ерунда? Вообще-то Сатек достаточно хорошо знал русский, чтобы исключить возможность подобных недоразумений, но вдруг он имеет в виду что-то совсем другое? Возможно, он пропустил несколько важных слов в середине предложения? Например: «Посылка ждет тебя в почтовом отделении номер пятьсот пятьдесят пять на улице Кафки…»
— Императорка? — ласково позвал он из своего телефонного далека. — Ты упала в обморок?
— Сам ты обморок! — сердито сказала я. — Девушка только-только проснулась, еще кофе не пила, а тут такие загадки. Ты что, действительно хочешь, чтобы я выскочила сейчас на улицу за какой-то посылкой? У нас, между прочим, сентябрь, и на улице дождь, а я еще в ночной рубашке…
— В ночной рубашке… — мечтательно повторил он. — М-м… Я бы с удовольствием посмотрел на твою ночную рубашку. А потом поднял бы ее высоко-высоко. А потом снял бы ее совсем. А потом…
— Прекрати, — попросила я.
— Что такое? Ты бы возразила?
— Нет. Я бы не возражала.
— Ну тогда в чем дело? Зачем ты сердита?
— Ты знаешь почему, — тихо ответила я. — Я сердита, потому что ты далеко и некому высоко-высоко задрать мою ночную рубашку. Вернее, есть кому, но я предпочла бы, чтобы это сделал именно ты.
— Я это запомню, эти твои слова, — сказал он. — И ты их тоже запомни.
— Ладно, запомнили, — согласилась я. — А сейчас целую тебя, милый. Мне пора собираться на работу.
— Погоди-погоди! — закричал Сатек. — А посылка?! Ты что, не выйдешь за посылкой?
Я почувствовала, что начинаю терять терпение. Всякой шутке, знаете ли, есть предел. Особенно после разговоров о задирании ночной рубашки.
— Опять посылка? Что за посылка? Где она, эта посылка? Кто ее принес? Твой знакомый?
— И твой тоже… — пообещал Сатек. — Выходи прямо сейчас и увидишь. Направо от твоего дома. Пока, императорка!
Он повесил трубку. Черт знает что… Хотя, конечно, любопытно, что он там прислал. Я сунула босые ноги в резиновые сапожки и стала натягивать куртку поверх халата. Бимуля вопросительно смотрела на меня с коврика и на всякий случай тихонечко подскуливала. В принципе, ей было понятно, что в такой дурацкой форме одежды с собакой не гуляют, но чем черт не шутит…
— Не сейчас, Бимуля! — Я отрицательно мотнула головой, одним ударом обрубая робкие собачьи надежды. — Я всего на минутку, выскочу и тут же вернусь. Понятия не имею зачем. Кобели, сама знаешь: у них вечно всякие сюрпризы и фантазии…
Бима понимающе вздохнула и положила голову на пол. По выражению ее морды было ясно, что она тоже могла бы немало порассказать о немыслимых кобелиных странностях.
Снаружи моросило. Я накинула на голову капюшон, огибая лужи, пересекла двор и через подворотню вышла на улицу. Никого. Никакой посылки. Ни справа, ни слева. Тротуар и набережная Крюкова канала были пусты. Ничего себе шуточки… Я уже собиралась повернуть назад, когда от телефонной будки на углу отделилась и двинулась в мою сторону чья-то фигура. Я сделала шаг-другой навстречу, всмотрелась и остолбенела: ко мне быстро приближался мой Сатек! Сатек собственной персоной! На нем была зеленая форменная стройотрядовская куртка с нашивками и значками, джинсы и до боли знакомая клетчатая рубашка — та самая, в которую я больше года назад уткнулась лицом, после того как мы в первый раз поцеловались. Он был ослепительно, невообразимо красив.
Осознав это, я представила себе свой нынешний облик голые ноги, нелепо торчащие из старых резиновых сапожек, серую ночную рубашку, торчащую из-под застиранного халата, который, в свою очередь, торчал из-под драной куртки, надеваемой только и исключительно для гуляния с собакой, и, наконец, нечесаные лохмы, кое-как торчащие из-под капюшона. И все это «торчащее из-под» было настолько уродливо, глупо и жалко, что я заплакала.
Я стояла напротив своего ослепительно красивого любимого и плакала, размазывая по щекам слезы и капли дождя.
— Что ты, императорка… — пробормотал Сатек, сбрасывая с плеча рюкзак и обхватывая меня обеими руками. — Ну что ты… не надо плакать… не надо… я хотел, чтобы сюрприз…
— Сюрприз… — лепетала я, снова утыкаясь лицом в клетчатую рубашку и радуясь хотя бы тому, что теперь он меня не видит, а только чувствует. — Убить бы тебя за такие сюрпризы… Ой, что это я говорю, дура… зачем это я такое сказала? Поцелуй меня скорее, пожалуйста…
— А ты действительно в ночной рубашке… — прошептал он, оторвавшись от моих губ. — Надеюсь, ты еще помнишь, что обещала мне десять минут назад? Или мы так и будем стоять под дождем?..
Нет, конечно, мы очень недолго стояли там под дождем. Мы вообще нигде не стояли и не сидели. Мы поднялись в квартиру и сразу легли, едва успев раздеться. Разговоров тоже почти не было: мы по горло наговорились за месяцы сугубо телефонного общения, так что теперь хватало междометий, улыбок, касаний, взглядов, вздохов, движений — всего того, что зовется языком любви.
Когда чуть больше года назад мы остались вдвоем в пустой школе и в течение двух суток почти не вставали с брошенных на пол матрасов, все казалось совершенно иным. Тогда, в Минводах, мы еще понятия не имели, как относиться к подхватившему нас урагану. Нас просто ужасно тянуло друг к другу, и не было времени на раздумья: мы жили минутой, часом, загадывая максимум на послезавтра, потому что уже через три дня наступало неминуемое расставание.
Оно казалось настолько естественным, настолько неизбежным, что мысль о существовании какой-либо другой возможности в принципе не приходила нам в голову.
Нас разделяли не только запертые на замок границы, но намного большее: разный образ жизни, воспитание, образование, язык… По сути, мы принадлежали к двум разным мирам и не забывали об этом ни на минуту… исключая, разве что, те моменты, когда одновременная судорога пронзала наши слипшиеся от любовного пота животы. Соединяясь, вцепляясь, впиваясь друг в друга, мы точно знали, что через несколько дней расстанемся навсегда. Объятие в преддверии разлуки всегда особенно крепко: ведь помимо сладкого меда любви в нем плещется еще и горький яд отчаяния.
Собственно, этим горько-сладким стечением обстоятельств мы и объясняли себе внезапную мощь происходившего с нами. Это был просто-напросто разовый ядерный взрыв — сильнейший, но очень короткий, случившийся с нами далеко на обочине, в десятке-другом метров от случайного пересечения наших строго индивидуальных, строго перпендикулярных друг дружке дорог. Случилось — и кончилось. Было — и прошло. По окончании тех двух сумасшедших суток мы просто поднялись с матрасов и уже порознь вернулись на дорогу — каждый на свою. Сатек улетел в недоступную для меня Прагу, а я осталась в недоступной для него России — налаживать отношения с Лоськой, выходить замуж, защищать диплом, поступать на работу, пресмыкаться втуне.
Помню, когда чехи садились в автобус, я даже не удосужилась проводить его… — да что там!.. — я даже не подошла к окну, дабы пустить девичью слезу и взмахнуть платочком. Олька Костырева тогда удивлялась: мол, сильна ты, подруга, — прямо Железный Феликс, а не человек… Но удивляться-то было нечему. Все эти прощальные поцелуи и обещания, проводы-платочки и прочие церемонии не так уж и безобидны. Ведь это не что иное, как выкрутасы обманщицы-надежды. Это не мы прощаемся, и плачем, и обмениваемся адресами — это она, надежда на новую встречу, задает корму своим безумным коням. Ну и пусть задает: тогда, в Минводах, у меня и в мыслях не было воспользоваться услугами этого неверного кучера.
Что же вдруг изменилось? Как вышло, что теперь тот же самый, казалось бы, безвозвратно потерянный Сатек лежит рядом со мной в квартире на Крюковом канале, а собака Бима стыдливо закрывает лапами уши, чтобы не слышать, как ее хозяйка взлетает на орбиты, выше которых нет ни в собачьем, ни в человечьем космосе? Не знаю…
Одно ясно: не будь разлуки, не будь этой безвозвратности, безнадежности, невозможности, не было бы и нашей нынешней встречи. Мы честно попробовали идти прежними дорогами — каждый своей — и не смогли. Мы не питали никаких надежд; каждый вечер, засыпая, мы напоминали себе о том минводовском отчаянии, которым были заражены и заряжены наши тогдашние горько-сладкие поцелуи. Нам казалось, что так легче, что отчаяние означает «никогда» — но мы ошиблись. Отчаяние оказалось ростком, тихо зреющим в темных уголках наших душ, пускающим корни в сердцах, медленно, но верно пробивающимся в мысли и желания. Это оно зарядило наше воображение, заставило поверить в невероятное, возжелать невозможного.
Факт: сейчас мы любили друг друга в тысячу раз сильней, чем тогда. Мы любили друг друга иначе, не ощущая ни чуждости, ни запретности. Месяцы тоски по близости сблизили нас больше, чем самое крепкое объятие. Теперь мы чувствовали себя не случайными партнерами, а женой и мужем, которые наконец-то встретились после мучительной для обоих разлуки. Мы набрасывались друг на друга так, будто хотели наверстать месяцы, украденные у нашего прошлого счастья, — при том, что прошлого счастья никто не крал — его попросту не существовало… или существовало, но исключительно в нашем воображении…
Около полудня в мою спину ткнулся мокрый Бимулин нос. Собака смущенно сообщила мне, что все, конечно, понимает, но больше терпеть не в силах, — тут только я и вспомнила, что так и не выгуляла ее утром. Мы с Сатеком оделись и вывели страдалицу во двор.
— А ты что, так и не переодевался все эти месяцы? — спросила я, дергая его за рукав стройотрядовской куртки.
Он рассмеялся:
— Это я специально надел. Боялся, вдруг ты меня забыла очень сильно. Так, что не узнаешь, если увидишь…
Мы вернулись в квартиру, наскоро перекусили и снова легли. В половине пятого пришла с работы мама, я накинула халат и выбралась в коридор. Она взглянула на меня, на забытый в прихожей рюкзак Сатека и улыбнулась:
— Вижу, свет можно не включать.
— Почему?
— Ты так светишься, что глазам больно. Нельзя ли заодно подключить холодильник и телевизор?
— Обижаешь, мамуля… — сказала я. — Сегодня меня хватит как минимум на весь город. А может, и на страну. Он немного поживет у нас, ладно?
— С такой экономией электричества — хоть всю жизнь, — ответила мама. — Я приготовлю вам поесть…
Вечером мы сидели вчетвером на кухне — я, Сатек, мама и Бимуля — и занимались преимущественно тем, что активно нравились друг другу. Если, конечно, глагол «нравиться» можно отнести к глаголам действия, как скажем, «бодаться», «собирать» или «складывать». А, впрочем, почему бы и нет? Когда кто-то нам нравится или не нравится, разве не заняты мы тем, что крошка за крошкой, деталь за деталью собираем разные мелкие особенности и относим в ту клетушку нашей памяти, где отныне живет его образ? Разве не складываем туда вот эту улыбку, вот это смущение, вот эту манеру тянуться за чашкой, вот этот взгляд исподлобья, вот этот смех? Собираем, относим, складываем — то есть совершаем действия… Мог ли такой замечательный Сатек не понравиться моей маме? Могла ли такая замечательная мама не понравиться ему? Его безоговорочно приняла за своего даже крайне подозрительная к кобелям собака Бима — а уж это, доложу вам, действительно экзамен из числа самых труднопроходимых!
Но, честно говоря, в тот момент мы с Сатеком понравились бы кому угодно — даже злейшим врагам. Уж больно счастливы мы были — а настоящее счастье, как известно, обезоруживает любого стороннего наблюдателя — во всяком случае, поначалу. Это потом уже могут включиться и зависть, и злоба, и тяга к разрушению — но в самый первый, начальный момент человек испытывает что-то вроде шока, вроде изумленной растерянности, как будто вдруг увидел порхающего розового слона: он ведь точно знал, что такого не бывает и быть не может, и вдруг — на тебе! — вот он, прямо перед тобой — розовый и порхает! Поневоле выронишь и ружье, и топор…
Там же за ужином я впервые услышала, каким образом мой любимый оказался у телефонной будки на углу, там, где славный Крюков канал вливается в не менее славную речку Фонтанку. Не то чтобы это не интересовало меня раньше — просто как-то не было времени спросить.
Сатек получил степень магистра в январе и с тех пор искал работу по своей неходовой филологической специальности. Увы, безуспешно: по-видимому, он до сих пор считался неблагонадежным после студенческих волнений 1973 года. Тогда Сатека вытурили со второго курса за участие в петиции против перезахоронения Яна Палаха. Восстановиться удалось лишь пять лет спустя, да и то не на философский, а на лингвистику. И вот теперь выяснилось, что восстановиться — еще полдела…
— Но я не боялся, — весело сказал Сатек — Я много что умею. Вожу грузовик, умею складывать кирпичную стену, умею чинить авто. Кроме того, меня обещали взять в школу учителем русского языка. С сентября — только не этого, а следующего. Там уходили на пенсию.
В общем, он положил диплом на полку и устроился в автомастерскую, ждать выхода на пенсию учительницы русского языка в средней школе своего родного городка Литомержице. Но неделю назад его внезапно вызвали в университет и спросили, не хочет ли Сатек поступить в аспирантуру.
— Что это вдруг? — поинтересовался он. — Когда я вас упрашивал, не брали, а теперь сами предлагаете.
Ему объяснили, что пришел специальный запрос по тематике западно-славянских мотивов в русской религиозной мысли конца XIX века.
— Мы перебрали возможных кандидатов… — сказал заведующий отделом международных связей. — Не стану тебя обманывать, желающих ехать в Россию не так уж и много. Это тебе не Франция, не Италия и не Австрия.
— Погодите, — остановил его Сатек, — вы сказали «Россия»?
— Ну да, — кивнул заведующий. — К тому же не Москва, а Ленинград. Да и в Ленинграде… в общем, это даже не университет. Запрос пришел из тамошнего Института культуры…
— Вы сказали: «Ленинград»… — повторил Сатек, не веря своим ушам.
Заведующий развел руками:
— Честно говоря, я впервые слышу о существовании такого учебного заведения. Так что, если ты тоже откажешься, мы поймем. Хотя запрос очень подходит тебе по профилю. Ты ведь хорошо знаешь русский и, кроме того, когда-то учился на философском…
Но после того, как прозвучало заветное слово «Ленинград», Сатек уже просто не слышал ничего. Его главной заботой было не пуститься в пляс прямо там, в кабинете заведующего.
— Понимаете, Изабелла Борисовна, — говорил он, блестя глазами и машинально Биму почесывая за ухом, — этот заведующий известен как человек из госбезопасности. Если уж это предложил он, то дело было решенное. То есть никто уже не помешает.
В общем, Сатек согласился тут же, на месте. Документы тоже оформили за считаные дни. Ему даже не пришлось платить за билет — его принесли в конверте прямо на дом!
— Чудо, просто чудо! — восклицал Сатек, и Бимуля согласно урчала в подтверждение его слов. — Завтра мне нужно прибыть в этот Институт культуры к профессору Михеевой. Там расскажут режим работы и остальные детали. На какие сроки я буду здесь работать, где буду жить…
— Жить вы можете здесь, — твердо сказала мама. — Если, конечно, вам будет удобно.
— Угм… — согласилась Бима.
Сатек улыбнулся и покосился на меня. Я пожала плечами с подчеркнутым сомнением:
— Посмотрим…
В конце концов, хотя бы одна из трех жительниц этой квартиры должна была продемонстрировать этому чешскому чудотворцу, что сила его обаяния отнюдь не так безгранична, как, возможно, кажется ему самому.
Чудо? Честно говоря, я слабо верила в подобные чудеса. В конце концов, речь тут шла не о нечистой силе и не об ангеле смерти — так уж получилось, что обе эти якобы сказочные субстанции казались мне куда более реальными, чем внезапное благоволение заведующего отделом международных связей Пражского университета. Поэтому я ничуть не удивилась звонку Новоявленского, который последовал тем же вечером.
— Ну-с, как настроение, Александра Родионовна? — поинтересовался он тоном Деда Мороза, только что вручившего подарки.
— Спасибо, хорошее.
— Мне кажется, теперь мы квиты. Или, по-вашему, с меня по-прежнему причитается?
— Теперь квиты, — согласилась я. — Еще раз спасибо.
— Ну что вы все благодарите? Это вам спасибо, Саша, — галантно возразил полковник — Всё, прощаюсь. Не буду мешать долгожданному соединению двух любящих сердец. До свидания, Александра Родионовна.
— Минутку, Константин Викентьевич… — Я помолчала и продолжила, сильно понизив ГОЛОС: — Что в этой истории реально? Она вообще существует, эта профессор Михеева? Не хотелось бы…
— Что вы, Саша, — обиженно перебил меня Новоявленский. — Конечно, существует. Имейте в виду на будущее: основные элементы любой легенды обязаны быть правдивы на сто процентов. А вот что касается темы, то она… как бы это сказать… не совсем утверждена. Но мы ведь с вами вроде как не договаривались на постоянное… гм… решение вашей проблемы. Мы ведь говорили только о поездке. Даже не о поездках, а о поездке, в единственном числе. Или я неправильно помню?
— Правильно, — ответила я. — Вы помните совершенно правильно. И все же…
— А вот насчет «все же» мы поговорим отдельно, — снова перебил меня он. — Я не утверждаю, что «все же» вовсе невозможно, но… помните, как у Ильфа и Петрова: «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон…»
Полковник рассмеялся на своем конце провода. Смех был хороший, в меру громкий и в меру продолжительный — здоровый смех вполне уверенного в себе человека.
— Так я и не против, — тихо сказала я.
— Вот и посмотрим, — подвел итог он. — Будьте здоровы, Александра Родионовна.
Назавтра была пятница. Я отзвонила Вере Пал-не — известить ее, что беру отгулы на вчерашний, сегодняшний и все обозримые в ближайшем будущем дни.
— А какое будущее для тебя ближайшее, оно же обозримое? — осведомилась Вера Пална. — Потому что отгулов за тобой числится всего четыре. Если ты, конечно, не успела сдать вчера пол-литра крови.
Сдача крови была у нас основным способом зарабатывания дополнительных свободных дней к отпуску.
— Не будь занудой, Вера Пална, — ответила я. Уж ты-то можешь войти в мое девичье положение. Ко мне человек приехал. Такой человек, что я за него хоть пять литров отдам.
— У тебя столько нет, — хмыкнула секретарша. — Ладно, гуляй со своим человеком. Прикроем в случае чего.
Мы с Сатеком позавтракали, выгуляли собаку и поехали на трамвае в сторону Марсова поля, где, как я помнила, находился Институт культуры. Мой любимый заметно волновался. Еще неделю назад внезапное предложение аспирантуры в неизвестном ленинградском институте было для него не более чем возможностью встретиться со мной, но затем он, видимо, принялся фантазировать и к пятничному утру успел навоображать себе бог знает что.
— Понимаешь, императорка, это может быть очень интересно, — возбужденно тараторил он, прижимая меня к трамвайному окну. — Работа с местными архивами — туда ведь каждого не пускают. Значит, можно много найти из неизвестных вещей. Тут ведь есть Императорская библиотека, правда?
— Правда, — кивала я. — Мы только что мимо нее проехали.
— Где? Вот эта?
Сатек выворачивал шею, высматривая угол Публички, и в глазах его светился детский восторг.
— Туда ведь пускают аспирантов? В архивы?
— Пускают, пускают… — смеялась я. — Да и попробовали бы не пустить. Ведь у тебя есть высочайшее дозволение от самой императорки Александры Романовой.
Когда мы вышли на углу Марсова поля, мой Сатурнин и вовсе оробел. Уж не знаю, каким рисовался ему Институт культуры им. Крупской после беседы с заведующим отделом международных связей Пражского университета — ведь этот заведующий говорил о заштатном вузе, от которого единодушно отказались все прочие кандидаты. Соответственно, и ожидания Сатека пребывали где-то между дощатым бараком на курьих ножках и облезлой железобетонной коробкой, сплошь увешанной портретами членов Политбюро. Тем сильнее было его потрясение, когда я указала на бывший дворец принца Ольденбургского, величавый даже в своем нынешнем, давно не крашенном виде.
— Вот твоя аспирантура, Святой Сатурнин…
— Это?! Ты шутишь!
Справа от нас пламенел красками осени великолепный Летний сад. Налево маршировал в сторону Зимнего дворца кавалергардский строй роскошнейших дворцов и особняков улицы Халтурина. Сзади невообразимым сочетанием свободного российского полета и расчерченного по прусской линейке пространства расстилалось бескрайнее Марсово поле. Впереди, за площадью с изящным памятником и рогатыми фонарями Кировского моста, медленно шевелилась в своей гранитной загородке огромная серая река.
— Что, нравится? — небрежно поинтересовалась я. — Как видишь, бывает и такое. Нам туда, Сатек…
Переговоры с вахтершей, толстенной скифской бабой породы сторожевых, я взяла на себя, дабы не травмировать раньше времени нежную европейскую душу. Не зря ведь поэт Блок предупреждал о хрупкости тамошних скелетов в лапах таких вот скифов. За прошедшие сутки я имела возможность неоднократно убедиться в неоспоримой полезности позвоночника Святого Сатурнина и теперь не хотела подвергать его ценные кости даже малейшему потенциальному риску.
— Нам к профессору Михеевой.
— Куда-куда? — сощурилась вахтерша.
— К профессору Михеевой Валентине Петровне, — твердо повторила я.
Вахтерша засопела и стала водить пальцем по застекленному списку. Мы с Сатеком ждали, вытянувшись во фрунт, как павловские солдаты на близлежащем плацу.
— Нет такой.
Сердце у меня екнуло. Я вдруг ощутила себя матерью, которая привела ребенка на долгожданную елку и получила от ворот поворот.
— Не может быть. Проверьте еще раз.
— Проверяла уже, — презрительно процедила скифская баба. — Отойдите, дамочка, не мешайте проходу.
— Что случилось? — заволновался Сатек
— Все в порядке, милый, не беспокойся. Дай-ка твое письмо… — Я сунула бумагу с печатью под нос вахтерше. — Вот, смотрите. Тут ясно написано: прибыть 23 сентября к профессору Михеевой.
— Это по-иностранному, — определила вахтерша.
Служба в проходной Института культуры благотворно сказалась на ее общекультурном уровне.
— Слова по-иностранному, зато число по-русски, — парировала я. — Вот видите: 23. Это ведь по-русски?
— Число по-русски… — признала вахтерша.
Немного поразмыслив, она сняла трубку внутреннего телефона.
— Лексеич? Тут какую-то Михееву спрашивают. Профессоршу какую-то. Иностранец какой-то с переводчицей. Пропустить? — Вахтерша повернулась ко мне: — Как звать-то?
— Романова Александра Родионовна, — отрапортовала я.
— Да не тебя! Иностранца!
— Краус Сатурнин.
— Алло, Лексеич? Сапрунин его фамилие, — с непередаваемой брезгливостью выговорила вахтерша, перенося ударение с последнего слога на средний. — А звать Клаусом. Клаус Сапрунин. Ага… ага… понятно, Лексеич. Понятно.
Она положила трубку и облегченно вздохнула:
— Что ж вы сразу-то не сказали? Вам в комиссию по интернациональным связям, к товарищу Скворцову. А то — Михеева, Михеева…
— У нас тут написано… — попробовала было оправдаться я, но баба замахала руками:
— Идите, идите! Не задерживайте! Так и переведи своему Клаусу! Второй этаж налево, к товарищу Скворцову.
Товарищ Скворцов, кругленький молодой человек с умильной улыбкой, встретил нас чрезвычайно приветливо. Он внимательно прочитал письмо из Пражского университета, откинулся на спинку кресла и сложил на груди пухленькие ручки.
— Злата Прага! — с чувством произнес товарищ Скворцов. — Карлов университет! Как же, как же…
Произнеся эту тираду, он замолчал, как будто ожидая от нас продолжения разговора. Мы с Сатурнином переглянулись.
— Товарищ Скворцов, — начала я.
— Михаил! — воскликнул он. — Зовите меня просто Михаил. А вы, девушка, какую, так сказать, роль… гм…
Я пожала плечами и стала мысленно формулировать ответ. Выходило довольно длинно: «знакомая товарища Крауса по стройотряду, которая оказывает на первых порах помощь приезжему человеку». Наверно, из-за этой неудобоваримой длины Сатеку удалось опередить меня.
— Это моя невеста!
Я на несколько секунд оглохла и потому не расслышала обращенного ко мне вопроса товарища Скворцова. Меня никто еще никогда не называл этим словом. Лоська ухитрился практически довести меня до дверей ЗАГСа, так и не употребив его ни разу. Звучало между тем офигенно. Невеста! Я несколько раз повторила про себя этот чудесный титул.
Между тем хозяин кабинета по-прежнему выжидающе взирал на меня. По-моему, это было его любимое состояние.
— Простите, Михаил, я не расслышала вашего вопроса.
— Вы, значит, оказываете помощь товарищу Краусу, так сказать, на первых порах?
— Да, — коротко ответила я.
Честно говоря, меня неприятно поразила схожесть формулировок — своей и Скворцова. Неужели этот умильный кот подслушал мои мысли? А может, мы просто думаем с ним одинаково — что, если разобраться, еще хуже.
— Похвально, похвально! — с энтузиазмом воскликнул Скворцов и вдруг резко сменил выражение лица с умильного на кислое. — Но мы ведь тут собрались, так сказать, по рабочему вопросу. Не могли бы вы…
Он сделал неопределенный знак лапой. Почему, ну почему у этого котяры фамилия Скворцов, а не Котов? Возможно, потому, что он пожирает птенцов из скворечников? И отчего он снова застыл в ожидании?
— Простите, Михаил, я не понимаю…
— Не могли бы вы подождать пока в коридоре? Уверяю вас, я не съем вашего жени…
— Саша останется здесь, — резко прервал его Сатек — Давайте переходить к делу, если нет возражения.
Круглое лицо хозяина кабинета на секунду сморщилось, как у кота, долго карабкавшегося на дерево только для того, чтобы обнаружить, что гнездо пусто. К чести Скворцова, он моментально вернул себе прежнюю умильность.
— Конечно-конечно! — воскликнул он. — С большим удовольствием. Давайте сюда ваш командировочный лист. Я немедленно его подпишу, включая отметку о выезде. Вы когда отъезжаете?
Он снова откинулся на спинку, с наслаждением взирая на наши изумленные лица. Сатек помотал головой.
— Простите, товарищ Скворцов…
Мы зашли в этот чертов кабинет всего пять минут тому назад, но уже успели трижды извиниться!
— Михаил! — поправил котяра. — Михаил!
— Простите, Михаил…
Четырежды!
— …в письме указано, — продолжал между тем Сатек, — что я должен прибыть к профессору..
— Михеевой! — подхватил Скворцов. — Совершенно верно!
Мы снова немного помолчали. С улицы Халтурина доносился уютный перезвон трамваев.
— Значит, я смогу? — нарушил тишину Сатек.
— Сможете что? — с искренней заинтересованностью переспросил Скворцов.
— Поговорить с профессором Михеевой.
Хозяин кабинета всплеснул руками.
— Конечно, сможете! Конечно! Ведь речь идет об аспирантуре под ее научным руководством.
Я не смогла скрыть вздоха облегчения. Похоже, профессор Михеева все-таки действительно существовала. Сатек поднялся со стула.
— Спасибо, товарищ… Михаил. Когда она сможет меня принять?
— Сядьте, товарищ Краус, сядьте! — умоляюще возопил Скворцов. — Я вас очень прошу!
Сатек сел.
— Когда она сможет вас принять… — Скворцов нагнулся к перекидному настольному календарю и принялся озабоченно его перелистывать. — Думаю, что… думаю, что… в феврале! Да-да, это скорее всего. Но вполне возможно, что даже немного пораньше. После старого Нового года. Вот отпразднуем, и…
Он оживленно потер пухлые ладошки. Мы с Сатеком потрясенно молчали.
— Простите, Михаил, — в пятый раз испросила прощения я. — Не могли бы вы объяснить эту странную ситуацию. Приезжает человек не просто издалека, но из другой страны.
— Братской страны! — умильно кивая, напомнил Скворцов.
— …из другой, братской страны. Приезжает по направлению университета… э-э… братского?
Скворцов одобрительно кивнул.
— …братского университета, — продолжила я. — Приезжает работать под руководством профессора Михеевой. Спрашивается, почему профессор Михеева согласна принять его только четыре месяца спустя?
В кабинете снова повисло молчание.
— Должен признаться, что это звучит немного неожиданно для меня, — проговорил наконец Скворцов. — Товарищ Краус действительно рассчитывал на немедленную встречу с профессором Михеевой? Но это решительно невозможно по чисто физическим причинам. Вам разве не говорили? Профессор Михеева находится за границей. Читает курс лекций в Сорбонне и вернется только в конце декабря.
— Тогда зачем… — вырвалось у меня.
Зачем… Уж кто бы спрашивал, только не я. Из нас троих, сидящих в этом кабинете, лишь мне и была известна истинная подоплека событий. Бедный Сатек! Ну надо же такому случиться: раскатал губу с этой дурацкой аспирантурой… Но я скорее умерла бы, чем рассказала ему о своем «проекте». Или, если уж называть вещи своими именами, о своей работе на КГБ… или на отдельного полковника КГБ?.. А, впрочем, какая разница? Для Сатека и то и другое — порождение сатаны. Страшно подумать, что случится с нашими отношениями, если он когда-нибудь узнает… Я посмотрела на своего Святого Сатурнина: как и следовало ожидать, он сидел мрачнее тучи.
— Зачем было приезжать? — продолжил за меня Скворцов. — Ну как… разве такие серьезные вопросы можно решать с бухты-барахты? Необходимо осмотреться, познакомиться с местом работы, с обстановкой, с городом. С общежитием, наконец. Вы ведь намереваетесь проживать в общежитии, товарищ Краус? Ну вот. У нас превосходное общежитие, но записываться туда нужно заранее… В общем, с вашей стороны этот этап рассматривается как подготовительный. Как, собственно, и с нашей.
— Простите? — переспросил Сатек. — Подготовительный и с вашей? Вы говорите, что решение о моей аспирантуре не окончательное?
Скворцов умильно покачал головой:
— Ах, товарищ Краус, товарищ Краус… Вы ведь поступаете на кафедру философии. Вот и смотрите по-философски: что может быть окончательным в этом мире? Разве что смерть… Ваша тема пока находится на утверждении в Главученсовете. Я ж говорю: этот этап сугубо под-го-то-ви-тель-ный. Давайте ваш командировочный лист…
Еще раз миновав скифскую бабу, мы вышли на улицу.
— Пойдем, покажу тебе Летний сад, — сказала я.
Сатек молчал, его мысли наверняка были далеко от Летнего сада, Невы и прочих питерских красот. На набережной я сделала новую попытку:
— Смотри, какая красивая решетка…
— Решетка, а? — хмыкнул он. — Как можно гордиться решеткой?
Но внутри сада мой любимый мало-помалу оттаял. День был солнечным, насколько может быть солнечной питерская погода во второй половине сентября. По небу бродил сильный западный ветер, порывистый и нетвердый, как городской ханыга, загулявший на пустыре в районе пивных ларьков. Он то падал, то вскакивал снова, расталкивая смущенные тучи и в клочья раздирая на груди серую облачную рубаху. В столь цивильное место, как Летний сад, ханыгу, понятное дело, не пускали: с ментами у ворот он еще как-нибудь справился бы, но поди-ка преодолей такой плотный строй старых деревьев…
Мы медленно брели мимо бледных озябших статуй — по дорожкам, по шуршащим желто-коричневым листьям, по пятнистому неряшливому ковру осени.
— Не знаю, почему я так огорчился, — задумчиво сказал Сатек. — Вряд ли могло быть иначе.
— Почему, милый?
Он пожал плечами:
— То, что идет от них, не может быть хорошим.
— От них?
— От тайной полиции. От вашего КГБ, от нашего СТБ… Я должен был догадаться еще в Праге.
— Почему ты думаешь, что Скворцов…
— …КГБ? — продолжил за меня Сатек. — А кто же он еще? Кто еще может быть в отделе международных связей? Верь мне, императорка, я этих крыс нюхаю за километр.
— Чую, — поправила я. — Говорят: «чую за километр». Или даже за версту.
— За версту — это дальше, чем километр?
— Дальше.
— Ну, тогда за версту, — улыбнулся он.
— Ну, слава богу, наконец-то улыбнулся! — обрадовалась я. — Давай-ка сядем на скамейку. Мы с тобой влюбленные или нет? Влюбленные должны сидеть на скамейках и целоваться.
Мы уселись на скамью возле пруда.
— Я знаю, почему нужно было приехать мне, — сказал Сатек. — Я приезжал к тебе, вот почему. Но почему это нужно им? Почему они меня притащили? Не могли же они это делать по той же цели, чтобы встретить меня с тобой!
«Именно так, милый, — подумала я. — Ты даже не представляешь, насколько близок сейчас к истине…»
К сожалению, я никак не могла произнести этого вслух. Вслух я изобразила женщину, страдающую от недостатка внимания к собственной персоне.
— Слушай, Святой Сатурнин, это, в конце концов, невежливо! — сердито заявила я. — Сколько раз напоминать тебе, что ты находишься на свидании! Мне надоело слушать про КГБ и про… как ее там зовут, твою чешскую контору — ДЛТ?.. ДДТ?..
— СТБ, — отозвался он, — Статни Безпечность… государственная безопасность.
— Нет-нет, пусть остается «беспечность», — запротестовала я. — Беспечность — это мне нравится. Беспечность по-русски — это когда не заморачиваются по пустякам. Вот и не заморачивайся, ладно?
Сатек пожал плечами.
— Как ты не понимаешь? — с горечью проговорил он. — Это ведь о свободе. Человек не может без свободы. Человек не должен гордиться решетками. Если человек гордится решеткой, то он раб, а не человек…
Я поняла, что переборщила. Мужчины склонны впадать в состояние, когда важные вещи вдруг кажутся им незначительными, а незначительные — важными. Это состояние опасно, как трясина, и в такие моменты, как в трясине, нельзя делать резких движений, иначе затянет и его, и тебя. В такие моменты лучше не спорить и трепыхаться, а медленно и экономно выбираться наружу. Для начала я просто прижалась к его плечу.
— Милый, но не всё же так мрачно. Все вокруг говорят про конец эпохи, по крайней мере, у нас. Брежнев уж на что казался вечным — и где он сейчас? Помер. Вот и твой… как его?.. Кадер?
— Гусак. Кадар у венгров.
— Ну вот! — оптимистично заключила я. — гуси долго не живут, заболеют и умрут.
— Гусак — никто, — возразил Сатек — Всё решается в Кремле. А в Кремле сделалось только хуже. Андропов — это конец свободе. Прежде он задавит Польшу, Валенсу и Солидарность, а потом возьмется за остальных. Ты что, не видишь?
Честно говоря, я ничего такого не видела. Если уж быть совсем точной, то политика всегда пролетала мимо моих ушей даже не со свистом, а вовсе беззвучно. Я как-то ухитрялась вовремя отключать мозг; мама говорила, что это у меня такое чисто эволюционное умение, присущее новому биологическому виду под названием «советский человек». Я никогда не думала об этом умении в понятиях «плохо» или «хорошо» — оно просто было. У воробья — крылья, у кошки шерсть, а у меня — ряд эволюционных умений. Ну и что? Все, что естественно, не безобразно. Кто-то родился выхухолью, кто-то тушканчиком, а кто-то — советским человеком. Точка, конец сообщения.
Но я не стала возражать Сатеку. Выбираться из трясины этого разговора можно было только медленно и осторожно, экономя на словах. Поэтому я ограничилась тем, что еще крепче прижалась к его плечу.
— Андропов! — тихо, но внятно говорил Сатек. — Да это же специалист по подавлению свободы. Таких палачей больше нет. Смотри. Восстание в Венгрии в пятьдесят шестом году. Кто там был в это время советским послом? Андропов! Дальше он командовал отделом ЦК по социалистическим странам. Полил кровью Венгрию и стал следить за всеми другими. Потом у нас в Чехословакии появился Дуб-чек. Социализм с человеческим лицом. Ты ведь помнишь Дубчека?
Боже, какого Дупчика? Я понятия не имела ни о Дупчике, ни о Пупчике…
— Конечно, милый, конечно…
— Ну вот! Кого назначают командовать вашим КГБ? Опять его, Андропова! И какой тому результат? Оккупация моей страны! Танки в Праге! По-твоему, это случайно? А что происходит сейчас? Афганистан! Кто был за эту войну? Опять Андропов! Андропов и Устинов, ваш военный министр! Ты понимаешь, что получается? Там, где этот палач, там всегда кровь, всегда война, всегда танки! Сейчас у него на цели ружья Польша. Сначала Польша, потом мы… Понимаешь?
— Конечно, милый, конечно…
Я прижималась к Сатеку, хотя вернее было бы сказать, что я прижимала его к себе, как прижимают обиженного ребенка. Пусть выговорится. В какой-то момент мне даже захотелось тихонько напеть ему что-нибудь успокаивающее: «А-а-а… а-а-а…» Мы долго молчали, пока я наконец не почувствовала, что настало время выбираться на свет.
— Милый, — тихо позвала я. — Ты здесь?
— Здесь, конечно.
— Там в кабинете у этого пухлого котяры…
Я немножко выждала, прежде чем продолжить. Медленно и осторожно…
— Да? — наклонился ко мне Сатек.
— Ты назвал меня одним словом… — совсем уже тихо прошептала я. — Помнишь?
Сатек улыбнулся. В уголках его глаз еще прятались остатки обиды, остатки трясины, но в общем и целом он уже был мой — снова мой.
— Не помню… — прошептал он, включаясь в игру.
— Ну как же… — Я изобразила обиду. — Когда он спросил, кто я.
— Ага, вспомнил. Ты сказала — переводчица.
— Да нет. Про переводчицу говорила вахтерша. И я согласилась. А Скворцову ответил уже ты сам. И назвал меня… ну?..
Сатек сокрушенно пожал плечами, изображая полнейшее недоумение.
— Сашей? — предположил он. — Александрой? «Черт… — подумала я. — Вдруг он и в самом деле не помнит? Ляпнул, не подумав, а я тут изгаляюсь…»
— Точно, Сашей, — проговорила я, отворачиваясь, чтобы скрыть разочарование. — Пойдем, а то я уже задубела.
Он взял мое лицо в ладони и развернул к себе.
— Ты моя невеста. Жаль, что ты впервые услышала это слово перед крысой из госбезопасности, но тут уже ничего не поделать. Так получилось. Я хотел иначе. Смотри.
Сатек полез в карман и вынул коробочку.
— Держи… — Он помедлил, глядя на меня с выражением растущего недоумения. — Ну, почему ты ее держишь?
— Ты сам сказал «держи», — напомнила я.
— Открой, глупая!
Я открыла. В коробочке было колечко. Замечательное, лучшее в мире невестино колечко.
7
Сатек уехал через неделю — именно такой срок поставил ему Скворцов в командировочном предписании. Аудиенцию у профессора Михеевой назначили на седьмое февраля. Седьмое приходилось на вторник, а в пятницу мы планировали расписаться в ЗАГСе — вернее, во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота. Меня устроила бы и обычная контора, без всех этих раззолоченных интерьеров, белокаменных колонн и венков похоронного типа, но Сатек настоял на дворцовом варианте.
— Во-первых, ты императорка Александра Романова, а императорам положен дворец, — сказал он. — А во-вторых, если уж нам приходится ждать так долго, то пусть будет тому объяснение, что из-за очереди.
Очередь на церемонию во Дворце и в самом деле была длинной — три месяца минимум. Зато заявление у нас приняли с куда меньшим скрипом, чем я предполагала.
— Иностранец? — спросила тетенька с многослойной прической, открывая паспорт жениха. — А это что?
В паспорте Сатека лежала «забытая» стодолларовая бумажка.
— Закладка, — не моргнув глазом, ответил мой любимый. — Сувенир из Праги. Возьмите на память об этом праздничном дне. Пожалуйста.
Тетенька не стала ломаться. Все последующие объяснения о Сатековой аспирантуре и нашем грядущем совместном проживании в городе-герое Ленинграде были встречены ею более чем благосклонно. Она даже согласилась принять у нас документы без должным образом заверенной справки о том, что гражданин Чехословацкой Республики Краус Сатурнин пребывает в статусе свободного неженатого мужчины.
— Принесете в течение месяца… — Тетенька захлопнула папку и напутственно качнула своим золотистым шиньоном: — Желаю удачи!
Мы с Сатеком уже уходили, когда она попросила меня задержаться и, перегнувшись через стол, прошептала:
— Ты уверена, что он не женат? Я бы на твоем месте поостереглась: такие видные парни редко бывают свободными. И справки, опять же, нету. Заделает тебе брюхо и улизнет — попробуй-ка потом достань его из-за границы. Знаешь, сколько таких случаев уже было? И каждая дурочка думает: это всё происходит с другими, а уж меня-то он действительно любит. Вот я всех и предупреждаю: осторожней, девочки, осторожней!
Я еще раз поблагодарила сердобольную тетеньку и вышла к Сатеку, поджидавшему в приемной. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять: меня действительно любят, и абсолютно неважно, что там происходит с другими дурочками. Впрочем, по словам узницы шиньона, эти «другие» думали точно так же… К тому же далеко не всё зависело от нашего желания: мы с Сатеком понятия не имели, получится ли у него получить визу в феврале. Единственным легальным поводом для приезда была все та же аспирантура — пока еще не утвержденная, непонятно от чего зависящая.
Сатек еще надеялся, что таинственная профессор Михеева действительно заинтересована в этой научной теме, и, значит, есть реальный шанс на продолжение контактов, на интересную работу в прекрасном дворце принца Ольденбургского, в комнате с видом на Неву и Летний сад. И пусть на входе там восседала скифская баба, а сверху салтыково-щед-ринским «шпионом» маячил умильный кагэбэшный котофей — работа, Нева и Летний сад, несомненно, перевешивали эти относительно мелкие неприятности. Теперь он очень хотел получить именно эту аспирантуру, казавшуюся на первый взгляд из Праги такой малопривлекательной и непрестижной.
Я поддакивала своему любимому, не желая разочаровывать его раньше времени, хотя мне была более-менее известна истинная подоплека событий. Более-менее… — всего я точно не знала. Понятно, что «легенда» аспирантуры была использована полковником Новоявленским, чтобы привезти Сатека в Питер и таким образом заплатить мне за ликвидацию сосновских убийц. Но ведь полковник сам говорил, что в любой «легенде» есть доля правды — велика ли она в данном случае? Если выдумкой является сама «научная тема», то возвращение профессора Михеевой делу не поможет: скорее всего, она и не узнает о сентябрьском визите самозванного аспиранта. А Сатека просто вызовут в отдел международных связей Пражского университета и скажут, что, к сожалению, тема не утверждена российским ученым советом — до свидания, молодой человек.
Но если полковник воспользовался реально существующей темой — допустим, взял ее из списка заявок той же Михеевой, то у истории может появиться вполне практическое продолжение. Профессор вернется в январе, и ее будет поджидать приятное известие о том, что тема не только утверждена, но и найден под нее достойный кандидат — Сатурнин Краус, выпускник Карлова университета, лингвист со знанием философии и русского языка. В этом случае мечты Сатека немедленно превратились бы в реальность.
Выяснить это всё я могла только у самого Новоявленского, и в этом заключалось мало хорошего. В настоящий момент мы были с ним квиты. Организовав одноразовый приезд Сатека, полковник с лихвой расплатился за все мои прошлые подвиги, и теперь я уже не могла рассчитывать на бескорыстное «продолжение банкета» с его стороны. Конечно, он потребует ответных услуг… вот только каких? Каких? Пока Сатек находился рядом, я усиленно гнала от себя эти мысли, но они сразу налетели на меня черной вороньей стаей, как только мой любимый скрылся за глухой загородкой Пулковского аэропорта.
На этот раз наше расставание мало походило на прошлое, минводовское. Тогда я даже не подошла к окну? Ого… Сейчас я цеплялась за своего Сатека почище мифологической Андромахи, провожающей мужа на поединок с записным душегубом Ахиллом. Тогда я не проронила ни слезинки? Ну-ну… Сейчас мои слезные железы могли поспорить по продуктивности с плаксивыми октябрьскими небесами. Тогда я говорила себе: «Забудь, выкинь его из головы, было и прошло»? Ай-я-яй… Сейчас я точно знала, что вся моя жизнь целиком сосредоточена в нем; если я и могла выкинуть его из головы, то только вместе с мозгом. Вот ведь какая перемена! Поразительно, если учесть, что прошло чуть больше года, вернее, тринадцать месяцев с хвостиком, пятьдесят семь недель, из которых мы провели вместе всего лишь одну. Вот и пойми после этого женскую душу…
Сатек уехал, оставив мне кольцо и ожидание февраля, когда он должен был вернуться. Он должен был вернуться, а я должна была сделать все, чтобы это действительно произошло. Я позвонила Новоявленскому прямо из аэропорта. Зачем откладывать то, что не терпит отлагательств?
— Ах, это вы, Александра Родионовна? — приветствовал меня полковник. — Едва проводили и уже звоните? Похвальная оперативность. Если я что и ценю в сотрудниках, так именно это качество.
— Константин Викентьевич, можно без подтрунивания? — попросила я. — Как-то это не по-джентльменски. У меня сейчас нет ни сил, ни настроения, чтобы вам отвечать.
— Ну-ну, Саша, перестаньте. Чтобы у вас да вдруг силы кончились? Не верю, как говаривал мой тезка Станиславский. Таких сильных людей, как вы, редко встретишь, даже среди сильного пола. Я имею в виду женщин. Чем я могу вам помочь?
— Расскажите мне про эту чертову аспирантуру.
— Про чертову аспирантуру… — повторил он с явным удовольствием. — Что именно вас интересует?
Этот проклятый Новоявленский держал на руках все козыри и в придачу полный комплект старших карт, в то время как я сидела против него с одними шестерками. Есть от чего получать удовольствие!
— Что меня интересует… Меня интересует примерно всё. Насколько реальна заявленная научная тема? Стоит ли она в рабочем плане профессора Михеевой? Каковы шансы на то, что Сатеку позволят получить эту аспирантуру? И если позволят, то когда?
— Ох, как много вопросов… — пожаловался полковник. — Сдается мне, что эта аспирантура действительно чертова…
— Константин Викентьевич, прошу вас.
— Понимаю, понимаю: без подтрунивания, — спохватился он. — Одно непонятно: почему вы решили, что я стану отвечать на все эти вопросы? Насколько мне известно, мы с вами не связаны никакими отношениями. Да, были кое-какие контакты, но они завершены к нашему взаимному удовлетворению. Или вы полагаете, что я вам все еще должен?
— Нет, не полагаю.
— Ну вот. Тогда в чем же дело?
Мы помолчали. Сукин сын просто-напросто держал меня за горло и откровенно наслаждался моментом полного превосходства.
— Константин Викентьевич, — сказала я. — В отличие от меня вы не нуждаетесь в ответе на свой вопрос. Давайте сделаем так. Когда вам надоест расхаживать передо мной, гордо распушив хвост, позвоните. И я охотно выслушаю ваше конкретное предложение. Баш на баш. А пока будьте здоровы.
И я повесила трубку. Всему есть предел. Нельзя позволять никому унижать тебя подобным образом — даже если речь идет о полковнике КГБ, от которого зависит в этот момент примерно всё твое будущее.
Он не перезвонил — ни в тот день, ни назавтра, ни через неделю. Но я понимала, что рано или поздно понадоблюсь. Уж если я собралась продавать душу дьяволу, важно было начать переговоры в роли партнера, а не просителя. Баш на баш — не иначе. Ты мне — мою жизнь; я тебе — чужие смерти. Вот так, просто и страшно.
Заново Новоявленский проявился только в ноябре, когда я уже начала беспокоиться всерьез. К тому времени мой любимый успел оформить и прислать справку о своем холостом статусе, и я понесла ее к сердобольной тетеньке в шиньоне. Сатек долго уговаривал меня приложить к документу несколько радужных бумажек, и я наконец согласилась. Вложила четыре двадцатипятирублевки в конверт, но не смогла вынуть его из сумки. Вот ведь какая странность: можно, оказывается, быть хладнокровным убийцей, но стесняться дать взятку. А может, и не странность: наверно, я отношусь к типу людей, которым легче воткнуть в человека нож, чем плюнуть ему в лицо.
— Вот справка, приобщите, пожалуйста, — сказала я. — Как видно, он и в самом деле неженат.
Тетенька округлила красиво намазанные глаза:
— Еще ни о чем не говорит, девочка. У них там такие справки рисуют — ай да люли… Осторожней, мой тебе совет. Хотя чехи вроде как наши, славяне. Вот когда чучмек какой-нибудь из Конго — это действительно атас…
— Нет, мой не из Конго… — Я помялась, тиская сумочку обеими руками. — Ладно, я пошла. Спасибо вам огромное.
Чиновница смерила меня сочувственным взглядом и вдруг вздохнула:
— Ну, что ты мнешься, глупая? Давай уже… что там у тебя в сумке?
Покраснев до корней волос, я положила на стол чертов конверт и выскочила из кабинета. Как она поняла? По запаху? По каким-то мельчайшим признакам — подобно Бимуле, которая задолго и безошибочно распознает мое намерение выйти с ней погулять? Или в шиньоне у нее смонтирована какая-то хитрая рентгеновская аппаратура? А может, она заключила свою секретную сделку с нечистой силой — я вот киллер-с-пропеллером-на-мотороллере, а она, скажем, беруша-мохнатые-уши… Хотя нет: беруши — это не те, кто взятки берет, это всего лишь затычки для ушей, причем не только мохнатых.
Рассуждая таким образом, я брела по площади Труда к трамвайной остановке, когда впереди вдруг затормозила черная «Волга» и шустро выскочивший водитель открыл передо мной дверцу:
— Садитесь!
Моя первая, естественная в таких обстоятельствах, мысль была крайне неутешительной: меня арестовали за дачу взятки! Какой позор! Мама сойдет с ума от стыда: нечего сказать, воспитала дочку… Поэтому я почти запела от радости, когда разглядела на заднем сиденье массивную фигуру полковника Новоявленского.
Машина рванула с места в карьер. За Театральной мы повернули вдоль Крюкова канала в направлении моего дома, но проскочили мимо на набережную Фонтанки.
— Если ко мне, то проехали, — известила я полковника.
— Не к вам, Александра Родионовна, — успокоил меня он.
«Волга» уже неслась по Московскому проспекту.
— А куда? — поинтересовалась я после продолжительной паузы. — Мама ждет меня к ужину.
Новоявленский пожал плечами:
— К сегодняшнему ужину вряд ли успеем. Но к завтрашнему завтраку — точно. Придется придумать для вашей мамы подходящее объяснение. Я уверен, что вы справитесь с этой задачей.
Я не ответила. На выезде из города Новоявленский поднял стекло, отделяющее нас от водителя.
— Ну что, Саша, поговорим?
— Говорите, Константин Викентьевич, я слушаю.
— Как я понимаю, вы подали заявление в ЗАГС.
— Правильно. Свадьба в феврале.
— При том, что нет никакой уверенности в практической осуществимости этого мероприятия.
— Отчего же? — отозвалась я, изображая крайнее изумление. — У моего жениха как раз начинается аспирантура. Он приедет, и мы поженимся.
Полковник хмыкнул.
— Аспирантура еще не утверждена, Александра Родионовна.
— Так утвердите.
— Это не так просто.
— Даже для вас? — опять изумилась я. — В жизни не поверю.
Мы немного помолчали. «Волга», обгоняя ветер, неслась по Московскому шоссе в сторону одноименной реки.
— Ладно, что мы все ходим вокруг да около, — проговорил наконец Новоявленский. — Давайте в открытую.
— Наконец-то! — откликнулась я. — Я уж думала, вы никогда этого не скажете. Что вам нужно от меня? Говорите, Константин Викентьевич, говорите.
— Вы должны дать согласие на совместную работу, — сказал он. — Я заказываю, вы исполняете. Только вы и я, никого посередке. Вам не понадобится ничего подписывать, не понадобится нигде светиться. Вы не будете числиться ни в каких списках, не будете упоминаться ни в каких отчетах. Вы никто и звать никак, человек без имени. С оперативной точки зрения вас как бы не существует. Согласны?
— Только вы и я? — повторила я, игнорируя его последний вопрос. — По-моему, нас уже сейчас трое в этой машине.
Я кивнула на водителя. Новоявленский пренебрежительно отмахнулся.
— Это ерунда. Понятно, что я буду привлекать помощников — как же без этого? Но вы для них именно что никто. Они понятия не будут иметь о вашей роли. Можно представлять вас информатором, свидетелем, секретаршей, помощницей… — да кем угодно, в зависимости от ситуации. Кстати, вы не ответили на мой вопрос.
— Конечно, не ответила! — фыркнула я. — Вы ведь не думали, что я соглашусь, не выяснив условий?
— Хорошо, выясняйте, — вздохнул полковник.
— Во-первых, кого вы собираетесь мне заказывать?
— Кого угодно, — твердо ответил он. — Вы должны заранее согласиться на любой мой выбор. Я не могу оставить решение такого важного вопроса на ваше усмотрение. Я решаю, вы исполняете. Это условие не обсуждается.
Я обдумала его слова. Похоже, в этом Новоявленский действительно не собирался уступать. С другой стороны, ничто не мешало мне согласиться сейчас и оспорить какой-нибудь конкретный выбор потом. Не заставит же он меня убивать маленьких детей?
— Хорошо, — кивнула я. — С первым условием разобрались. Во-вторых, на какой срок мы заключаем наше… э-э… соглашение?
— Вам непременно нужен срок? — удивился он. — Я-то полагал нашу договоренность бессрочной.
— Так не бывает, Константин Викентьевич, — возразила я. — У каждого договора есть срок действия.
— Десять лет? — предложил он.
Я рассмеялась:
— Вы шутите? Киллеры так долго не живут. А я намерена умереть в глубокой старости в окружении скорбящих праправнуков.
— Тогда сколько вы хотите? Пять лет?
— Три месяца.
Новоявленский восхищенно покрутил головой:
— Вам бы на рынке торговать, Александра Родионовна…
— Вам тоже, Константин Викентьевич, — любезно улыбнулась я.
Он помолчал и искоса взглянул на меня:
— Сойдемся на одном годе?
— Полгода с опцией продления еще на столько же, по взаимному согласию… По рукам? — Я протянула ему ладонь для рукопожатия.
— С опцией продления… — ворчливо передразнил полковник, пожимая мне руку. — Ну и переговоры у нас… прямо как об ограничении стратегических вооружений. Просто не верится…
— А я и есть ваше стратегическое оружие, Константин Викентьевич, — заметила я. — Разве не так?
Он пожал плечами:
— Допустим.
— Ну вот, — кивнула я. — А теперь вернемся к тому, с чего мы начали нашу содержательную беседу. То есть к моей свадьбе.
— К вашей свадьбе? А я тут при чем? Или вы хотите назначить меня посаженым отцом?
— Посаженым? — испугалась я. — Господь с вами! За что ж вас сажать, товарищ полковник?
— Сажать не за что, — усмехнулся он. — Не хочу вас пугать, Александра Родионовна… да вас особо и не испугаешь, как я погляжу…
Новоявленский умолк на полуслове.
— Да? — подстегнула его я.
— На отсидку не надейтесь, Саша… — мрачно изрек полковник. — Поймают — убьют. И вас, и меня. Имейте это в виду. Так что вы там говорили о свадьбе?
— Аспирантура Сатека, — напомнила я. — Вернее, Сатурнина Крауса, моего жениха. Он должен приехать сюда в феврале и получить эту чертову аспирантуру у профессора Михеевой. Не понарошку, не как бы, а на полном серьезе, как положено. Только поймите меня правильно: я не прошу, чтобы вы не мешали этому. Я хочу, чтобы вы сделали для этого все, что необходимо.
— Без проблем, — улыбнулся Новоявленский. — Считайте, что его диссертация уже пишется. И, если уж мы заговорили об аспирантуре… Отчего бы вам, Саша, тоже не поступить? Надо ведь как-то объяснять ваши будущие отлучки с места работы, из вашего уютного полуподвальчика.
— Поступить куда?
— Я ж говорю — в заочную аспирантуру. Не на полном серьезе, а именно, как вы выразились, понарошку. В каком-нибудь подмосковном номерном НИИ. Тему, понятно, объявим секретной, чтобы вам не пришлось много врать коллегам, а также маме и будущему мужу. Это хороший предлог, чтобы время от времени уезжать из города на пару-тройку дней. Организационную сторону я обеспечу. Как вам такой вариант?
Что ж, предложение полковника выглядело и в самом деле неплохо.
— У вас прямо пунктик с этими аспирантурами, Константин Викентьевич, — съязвила я. — Почему так? Детская мечта о профессуре в области… дайте подумать, что вам больше подходит… — ботаники?
— Вам бы все шутки шутить, Александра Родионовна, — с некоторым смущением ответил он. — Объяснение, между тем, простое: старые связи и знакомства. Я, видите ли, долго курировал именно эту область.
За окном машины тянулись пустые ноябрьские поля, мелькали черные от дождя деревья и домики с крытыми шифером крышами. Меня вдруг стало клонить в сон — эти чертовы переговоры стоили немалого напряжения сил. Новоявленский откашлялся и достал из внутреннего кармана фотографию.
— Саша, остался один небольшой момент…
— Да? — Я с трудом подавила зевоту.
— Видите ли… — полковник явно чувствовал себя очень неловко. — Не подумайте, что я вам настолько не доверяю… и тем не менее… без страховки в таком деле нельзя.
— О чем вы, Константин Викентьевич? Какая страховка? Вы хотите еще и застраховать мою жизнь?
— Не вашу. Свою. Вот, взгляните… — Он протянул мне снимок.
На фотографии был прозрачный пластиковый пакет, а в пакете — заляпанный грязью нож. Я недоуменно взглянула на Новоявленского.
— Что это?
— Не узнаете? Это нож, которым был убит милиционер в Сосновке. С отпечатками пальцев, разумеется.
Сон слетел с меня в мгновение ока.
— Ну и? Зачем вы мне это показываете?
Полковник пожал плечами:
— Я ж говорю — страховка. Хочу быть уверенным, что вам не придет в голову завершить наш договор устранением одной из договаривающихся сторон.
— То есть вас? Вы боитесь, что я вас убью?
— То есть меня, — подтвердил он. — Нет, сейчас я ничего не боюсь. Но поди знай, какие идеи могут прийти в вашу голову в будущем. И если это действительно произойдет, вам будет полезно знать, что вот этот пакет лежит в моем личном сейфе. Лежит вместе с протоколом допроса железнодорожного мента, который подтверждает ваше присутствие в вагоне электрички в день гибели Свиблова, и некоторыми другими документами. Так что тому, кто откроет сейф в случае моей внезапной гибели, не придется долго гадать, чьи пальчики нужно сравнить с теми, что на рукоятке ножа. Я понятно выражаюсь?
— Куда уж понятнее, — пробормотала я.
— Ну и прекрасно… Вот теперь действительно всё.
Он спрятал фотографию в карман и отвернулся к окну.
— Погодите, Константин Викентьевич, — сказала я. — Но вы ведь можете погибнуть и не по моей вине…
— Что ж, — усмехнулся Новоявленский, — тогда считайте, что вам очень сильно не повезло. Вы теперь кровно заинтересованы в моем драгоценном здоровье.
Какое-то время мы сидели молча, уставившись каждый в свое окно. «Волга» неслась в ночь, минуя неотличимые друг от друга придорожные поселки. Похоже, мой седовласый «партнер по договору» действительно обезопасил себя насколько мог. Вот только много ли она меняла, эта улика в сейфе? Я и так принадлежала полковнику — безраздельно, со всеми потрохами. Ведь в его власти было вернуть или не вернуть мне моего любимого. Вот и всё.
А значит, и переживать пока не о чем. Я повернулась к Новоявленскому.
— Куда мы так мчимся, Константин Викентьевич? Переговоры, как я понимаю, закончены, можно возвращаться.
Он удивленно взглянул на меня:
— Возвращаться? Но вы еще не выполнили задания.
— Какого задания?
— Как какого? Вашего, Александра Родионовна… — Полковник смотрел на меня как на идиотку, которая не в состоянии врубиться в самые элементарные вещи. — Вы что, еще не поняли? Наш договор вступил в действие четверть часа тому назад. Помните его главное условие? Я решаю, вы выполняете. В настоящий момент мы едем на место вашего первого задания.
— Так быстро? — вырвалось у меня.
Новоявленский не ответил. Вопрос и в самом деле не требовал ответа. Назвалась груздем — полезай в кузов. И все же действительно: так быстро?! Выдернули из нормальной жизни — на полушаге, на полувздохе, — запихнули на заднее сиденье черного автомобиля, повезли неведомо куда убивать неведомо кого… Неужели отныне так оно и будет? Не Карлсон с пропеллером на мотороллере — не киллер, который живет на крыше, а что-то по-настоящему серьезное, страшное, чужое, непонятно кому и зачем нужное…
Я сжала руки, чтобы унять дрожь. Боже, во что я ввязалась? Может, вовсе не обязательно было заключать этот договор с дьяволом? Может, еще не поздно отказаться?
— Все будет хорошо, Саша, — проговорил полковник, каким-то образом почувствовав мое состояние. — Не паникуйте. Я уверен, что вы прекрасно справитесь.
Шоссе взлетело на мост. Мы перемахнули через широкую реку.
— Волхов, — пояснил Новоявленский. — Отсюда начинаются волшебные места. Новгород Великий — княжество вашего тезки, Александра Родионовна. Священный Ильмень, заповедная речка Мета, озера Валдая… Бывали тут когда-нибудь?
Я молча мотнула головой из стороны в сторону. Меньше всего меня сейчас тянуло на обмен краеведческими впечатлениями.
— А зря… — как ни в чем не бывало продолжал полковник. — Это ведь не Кавказ и не Крым, сюда лететь не надо — три часа на машине. Зато какая природа! Какие дома отдыха! Хотя в чем-то ваше невежество простительно: не для всех эти дома предназначены. Элитная публика, извините за выражение…
— Константин Викентьевич, — перебила его я, — не могли бы вы подробнее описать, что мне сейчас предстоит? Куда мы направляемся? Кого мне предстоит убить? И чем этот кто-то провинился перед родом человеческим? И каким образом я его встречу? И…
— Хватит, хватит! — отмахнулся полковник. — Довольно вопросов, Саша. Вы думаете, я случайно держу вас в неведении? Это делается для вашей же пользы. Чем меньше вы будете знать, тем лучше для вас. Поверьте опытному человеку…
Дальше я не слушала. Он еще продолжал говорить что-то — как видно, твердо вознамерившись насмерть уболтать мою панику, — но у меня нашелся другой, куда более действенный рецепт. Я просто отключила слух и стала думать о Сатеке. Ведь все это сумасшествие было затеяно мною только ради нас с ним, ради нашего будущего счастья. Это помогло: руки перестали дрожать, а затем и дыхание мало-помалу пришло в норму.
Машина тем временем свернула с автострады и, почти не снижая скорости, неслась по какому-то второстепенному, но на удивление ровному шоссе. Справа в просветах между деревьями мелькало открытое пространство — по-видимому, речная пойма. Четверть часа спустя мы подъехали к ярко освещенному блокпосту с караульной будкой. Справа и слева в лес уходила высокая изгородь из проволочной сетки. Вооруженный охранник поговорил с водителем и поднял шлагбаум. Еще несколько минут по лесной дороге — и мы оказались у въезда на довольно большую поляну, с трех сторон окруженную новыми четырехэтажными корпусами гостиничного типа, с просторными лоджиями, уставленными одинаковой садовой мебелью. Четвертой своей стороной поляна выходила на берег реки.
Минуя центральную дорожку, «Волга» обогнула залитый светом фасад крайнего здания и подкатила к нему сзади, туда, где за батареей мусорных баков виднелась едва освещенная дверь — как видно, служебного назначения.
— Приехали, — сказал полковник. — Прошу вас, Александра Родионовна.
Водитель остался в машине. Дверь оказалась заперта, но у Новоявленского был ключ. По глухому коридору мы дошли до лифта и поднялись на третий этаж. Дверцы кабины раскрылись в просторный пустой холл с мягкой мебелью и журнальными столиками под торшерами. Полы были устланы коврами. Здесь же за высокой конторкой сидела дежурная. Новоявленский кивнул ей, и девушка немедленно потянулась к телефону. Пройдя по короткому коридору, полковник отпер дверь одной из комнат и сделал приглашающий жест. Я подчинилась.
Номер был двухкомнатным, с большой гостиной, спальней и ванной. На огромной двуспальной кровати лежало платье.
— Вам туда, Саша. — Новоявленский показал в сторону спальни. — Сейчас придет сотрудница, она вам поможет.
— Поможет? В чем? Что это значит, Константин Викентьевич?
Вместо ответа полковник вынул из буфета бутылку коньяка, налил в два бокала и бухнулся в кресло.
— Уф… устал… — пожаловался он и сделал большой глоток. — Знаете, Александра Родионовна, с вами разговаривать хуже, чем вагоны разгружать.
Я фыркнула:
— Знаете, Константин Викентьевич, разговаривать с вами — тоже не лучшее развлечение.
Он слабо махнул рукой.
— Ладно, ладно, хватит воевать. Вам помогут переодеться и… гм… слегка поменять внешний вид. Не сильно, не бойтесь. Потом мы за пять минут вернем вас в первоначальный облик.
— А чем вас не устраивает мой первоначальный облик?
— Меня — всем, — улыбнулся Новоявленский. — Но в ресторане, куда вы спуститесь через полчаса, вы будете выглядеть даже не белой вороной, а фиолетово-желтым клювобородым птеродактилем. В то время как при вашем задании категорически противопоказано выделяться из массы… Глотните пока коньячку, Саша. Вам не вредно расслабиться.
В дверь постучали.
— Открыто! — крикнул полковник.
Вошла женщина с саквояжем и, как мне показалось, военной выправкой. Она промаршировала к столу, раскрыла саквояж и принялась извлекать оттуда пузырьки, бутылочки и коробки.
— В душе была? — Голос у «сотрудницы» был под стать походке — отрывистый, командирский.
— Простите? — робко переспросила я.
Сотрудница смерила меня донельзя удивленным взглядом. Видимо, так смотрели бы в магазине готовой одежды на манекен, вздумай тот заговорить.
— Душ! Халат! Спальня! — пролаяла женщина, сосредоточенно переставляя по столу свои пузырьки.
Я вопросительно взглянула на полковника, но тот только пожал плечами: мол, делай, что приказано. «Да и черт-то с вами! — подумала я. — Душ, красивое белье, платье и косметика — далеко не самое страшное испытание в жизни. Расслабься и получай удовольствие! И если уж на то пошло, то зачем ограничиваться душем? Устроим себе хорошую ванну…»
Когда сотрудница, устав ждать клиентку, просунула нос в дверь, я возлежала в ванне в облаке душистой пены и с бокалом коньяка в руке — ни дать ни взять шпионская Афродита. Киллер с пропеллером на мотороллере.
— На выход! Время! — гавкнула сотрудница.
— Пошла вон, сука, — с невообразимым наслаждением ответила я. — Не видишь: человек балдеет…
Не знаю, почему, но я была стопроцентно уверена, что имею полное право на такой ответ. Сотрудница и в самом деле испуганно ретировалась. Истинная профессионалка, она не стала отыгрываться на мне и позже, когда я наконец отдала себя в ее чрезвычайно умелые руки. Полчаса спустя я уже стояла перед Новоявленским во всеоружии боевой раскраски, слегка покачиваясь от коньяка и непривычно высоких каблуков. Простенькое аж до роскоши вечернее платье как влитое сидело на кружевном французском белье — и то и другое я видела доселе лишь на картинках в заграничных журналах. Ногти на руках алели зарей востока, накладные ресницы порхали, как крылья махаона, а венчал все это великолепие натуральный парик — сотрудница решила сделать меня длинноволосой блондинкой. К моему удивлению, полковник, завидев меня, не разинул рот, а лишь деловито спросил: «Готово?» и, получив положительный ответ сотрудницы, немедленно выпроводил ее за дверь.
— Что-то вы долго возились, — произнес он, взглянув на часы.
— Константин Викентьевич, я все-таки женщина, — обиженно напомнила я. — Могли бы и сказать хотя бы пару слов по поводу моего нового облика…
— Нового облика? — рассеянно повторил Новоявленский. — Знаете, Александра Родионовна, как говорят американцы? Можно вывезти девушку с Крюкова канала, но нельзя вывести Крюков канал из девушки. До нового облика вам еще пахать и пахать. Впрочем, этим мы займемся позднее. А тут место хоть и элитное, но не слишком требовательное, сойдет и так.
Он протянул мне фотографию:
— Вот, взгляните. Ваша цель.
Я взглянула и поразилась: со снимка на меня смотрела симпатичная женщина лет пятидесяти с темными задорными глазами и хорошей улыбкой.
— Но это… женщина…
— Да что вы все заладили — «женщина, женщина»… — раздраженно проговорил полковник. — Ну, женщина, так что? По договору вы работаете только с мужчинами? По договору вы работаете с тем, на кого указываю я! Понятно?
— Понятно… Но что она такого плохого сделала?
— Вам-то что за дело? Саша, сколько раз повторять: чем меньше вы знаете, тем лучше для вас же. Вы просто делаете то, что вам говорю я. Понятно?
— Понятно… — подавленно повторила я.
В этом чужом облачении и чингачгуковой раскраске я чувствовала себя ужасно неуверенно, как простая лошадка в сбруе парадного жеребца. Правильно сказал Новоявленский про девушку с Крюкова канала… Полковник уловил мое настроение и сбавил тон.
— Ничего, Саша, не волнуйтесь, все будет в порядке… — Он покачал головой и продолжил уже спокойней: — Сейчас вы выйдете из номера. В холле два лифта: один рядом с дежурной, на котором мы поднялись сюда, другой немного подальше. Вы воспользуетесь вторым. Спуститесь на первый этаж. Справа будет вход в ресторан. Сейчас там ужин. Вы сядете у стойки бара и закажете пепси. Платить не надо, просто назовите номер комнаты: тридцать восьмая. Ваша цель — за столиком в глубине зала. Постарайтесь, чтобы все выглядело как можно естественней.
— Я никогда не знаю заранее, как это будет выглядеть…
— Да, я в курсе… — Полковник вздохнул, взял меня за плечи, подержал и развернул к двери. — Идите. Ни пуха, ни пера…
Я не ответила.
Стильные туфли вязли в высоком ворсе ковра, как в луговой траве. Под профессионально невыразительным взглядом дежурной я доковыляла до лифта и спустилась в холл первого этажа. Здесь уже были люди. Стараясь ни на кого не смотреть, я свернула направо, в ресторан. Два официанта у входа не шелохнулись, когда я проходила мимо. «С поднятой лапой, как живые…» — почему-то вспомнилось мне. Хотя нет, это ведь про львов…
У барной стойки всё было занято, и я остановилась в растерянности. К счастью, кто-то как раз уходил, освобождая для меня высокий табурет. Я взобралась на этот куриный насест и перевела дух. Все, пора кудахтать. Теперь нужно поднять голову и осмотреться.
— Что будете пить?
— А?
— Что будете пить? — На меня выжидающе смотрел гладко причесанный молодой бармен в жилетке с блестками.
— Ах, да… пепси, — вспомнила я. — Запишите на тридцать восьмую.
Звук собственного голоса придал мне уверенности. Зал ресторана был невелик, столиков на двадцать. Но что это меняло для меня, знакомой с подобным антуражем разве что по французским фильмам? За двадцать четыре года жизни я ни разу не бывала в гостинице; само это слово ассоциировалось для меня либо с живописными стайками интуристов возле «Астории» и «Европейской», либо с покойным Димушкой, который любил рассказывать о том, в каких жутких дырах приходится ночевать советскому командированному. Моя мама работала в скромной ветеринарной клинике, далеко от профсоюзных столоначальников, распределявших путевки в санатории и дома отдыха, так что меня обычно отправляли в пионерлагерь на все лето. Денег, которые раз в несколько лет удавалось подкопить на юг или Прибалтику, едва хватало на комнатушку в одно окно, если не на скворечник с удобствами во дворе. Таков, если вкратце, был опыт «красивой жизни» у девушки с Крюкова канала: удобства во дворе, пионерлагерь и кино про Бельмондо и Фантомаса.
Неудивительно, что, сидя у этой барной стойки, я ощущала себя персонажем французского фильма. Этакой Анни Жирардо… нет, скорее Фанни Ардан… — да, на нее я похожа намного больше. Хотя, какая Фанни Ардан?.. — я ведь сейчас блондинка! Гм… пусть тогда будет Бриджит Бардо? Нет, ну ее на фиг — пусть все-таки будет Фанни Ардан. Фанни Ардан в парике!
В дальнем конце зала на крошечной эстраде играли живую музыку три настоящих музыканта в длинных белых пиджаках: пианист, скрипач и контрабасист. Рядом на танцевальной площадке топтались несколько пар. Почти все столики были заняты — люди ужинали, разговаривали, смеялись — всё как в кино. Полковник был совершенно прав, переодев меня: трудно вообразить, как смотрелись бы рядом с этими модными платьями, туфлями и костюмами мои потертые джинсы, свитер с растянутым воротом и сапоги в прошлогодних разводах питерской соли…
Женщину-цель я разглядела сразу: она сидела с двумя подругами за столиком у окна, метрах в пятнадцати от меня. Вживую она казалась еще симпатичней, чем на снимке. Подруги оживленно переговаривались, смеялись; моя цель тоже участвовала в разговоре, но как-то более сдержанно, вполне искренне, но на полтона ниже, что тоже не могло не импонировать. Черт возьми… я должна была уничтожить человека, который мне определенно нравился…
— Эй… ты откуда тут такая?
Я обернулась. Передо мной стоял совсем молоденький парень — лет восемнадцати, если не меньше, одетый, как и все тут, по последней моде, но с подчеркнутой небрежностью, которая, по-видимому, должна была символизировать бунт подрастающего поколения французских кинозвезд: ворот дорогущей рубашки расстегнут, рукава завернуты вверх, а галстук сбит набок. Пацан был заметно пьян и с некоторым трудом фокусировал взгляд на мне… вернее даже, не на мне вообще, а в частности — на моей груди.
— Что случилось, сынок? — ласково поинтересовалась я. — Ты принял меня за маму? Или за старшую сестренку?
Парень изумленно вскинул брови и впервые посмотрел мне в лицо.
— Борзая, да? Я сразу понял, что ты не отсюда…
Он поставил стакан на стойку и взобрался на табурет рядом со мной. Тут только я обратила внимание, что бар опустел. Когда я вошла, у стойки сидели в основном девушки; теперь все они переминались на танцплощадке в обнимку со своими кавалерами.
— Может, пойдем ко мне? — не отставал молодой. — Не пожалеешь…
Но я не слушала его, пораженная внезапным открытием: Новоявленский не случайно велел мне сесть именно у стойки. По-видимому, здесь было место для девиц вполне определенной профессии, предназначенных для развлечения одиноких гостей мужского пола. Я присмотрелась к своим недавним соседкам. Так и есть — в обертке дорогих платьев здесь подавалось откровенно вульгарное содержание: двусмысленные улыбочки, чрезмерно накрашенные рты, вызывающая походка, поведение на грани непристойности. Впрочем, и мой боевой раскрас — заботами сотрудницы-специалистки — не слишком отличался от принятого у стойки! Стоит ли тогда удивляться грубости, с которой клеится ко мне этот разгоряченный щенок?
Щенок тем временем перешел к практическим действиям.
— Кончай ломаться, телушка, — капризно протянул он, беря меня за руку. — Полтинник, если пойдешь сейчас. А потом придет папа и даст еще четвертной… Ну? Двинули?
Я посмотрела на его бледную рожу: голубенькие бесцветные глазки, узенький потный лобик, нос картошкой… Урод уродом, ничего человеческого. Такой вырастет — будет лишь хуже. Вот кому жить — только мир пачкать. Я выдернула руку.
— Что ж тебя папа одного-то оставил?
Пацан осклабился:
— А он еще с охоты не вернулся. За утками поехал… гы… Знаешь, как в частушке… — Он наклонился ко мне и шепотом пропел: — На болоте уток бьют, только утки крякают. Мою милку так гребут, только серьги брякают… Слышь, пойдем, побрякаем твоими серьгами. Вон у тебя какие больши-и-е…
Малолетний подонок потянулся к моей груди, но я вовремя ударила его по руке.
— Уйди, погань! Отстань, а то хуже будет!
Он отшатнулся, но тут же снова осклабился.
— Фу-ты, ну-ты… какая недотрога! Ничего, ничего — все вы поначалу такие. А потом как миленькие… только вставь… — Он глотнул из стакана и ткнул пальцем в сторону танцплощадки. — Я их всех оприходовал… гы… с папой на пару. И тебя оприходуем. Вот приедет папа — папа нас рассудит! Гы…
Малолетка подхватил стакан, сполз с табурета и, пошатываясь, двинулся к своему столику. Я посмотрела ему вслед и вдруг осознала, что едва не упустила свою цель! Симпатичная женщина с короткой прической и задорными глазами явно собиралась уходить. Она уже не сидела, а стояла возле столика и, наклонившись, разыскивала что-то в своей сумочке. Подруги поджидали ее у входа.
— Раиса! — с оттенком нетерпения позвала одна из них. — Раиса Максимовна! Опоздаем!
— Да-да, сейчас, девочки! — отозвалась женщина. — Очки где-то забыла… Да что это я… вот же они!
Она щелкнула замочком и выпрямилась. Сейчас уйдет! Между нами, как назло, покачивалась спина проклятого малолетки. Мало того, что этот подлец отвлек меня от объекта своими идиотскими приставаниями, так теперь еще мешает разглядеть… Я изо всех сил вытянула шею и пробормотала убойную формулу:
— Сдохни-сдохни-сдохни…
— Вы что-то сказали?
— А? — Я обернулась к не в меру чуткому и услужливому бармену.
— Вы что-то хотели?
— Пепси… еще пепси… — выпалила я, снова поворачиваясь к залу, для того лишь, чтобы мельком увидеть спину уходящей Раисы Максимовны.
Ушла! Не сработало! Чертов щенок!
— Сдохни-сдохни-сдохни… — больше для успокоения совести повторила я.
Не сработало — значит, не сработало, повторяй — не повторяй… Грохот помешал мне додумать до конца эту чрезвычайно содержательную мысль: мой назойливый юнец так и не добрался до своей цели. Уж не знаю, за что там зацепились его заплетающиеся ноги, только парень вдруг вскрикнул, отчаянно взмахнул руками, хватаясь за воздух, и рухнул плашмя в проход между столиками. Его бросились поднимать; я пробиралась к выходу в общей суматохе. Уже у лифта я услышала, как кто-то крикнул:
— Не дышит! Вызывайте врача! И «скорую»! «Скорую»!
Я шла по ковру босиком, скинув наконец эти чертовы туфли. Комната номер тридцать восемь, запишите. Нет, Фанни Ардан из девушки не получится, девушка возвращается на Крюков канал.
— Ну как? — встретил меня Новоявленский. — Получилось?
Бросив в угол туфли, я подошла к буфету. Коньяк В бокал. Залпом. Вот так Полковник смотрел во все глаза, безуспешно стараясь угадать, что к чему.
— Саша, Сашенька, не переживайте вы так, — осторожно проговорил он. — Ну, еще одна смерть, подумаешь… Да их таких каждый день миллионы в мировом масштабе. Одной больше, одной меньше… Но она ведь произошла, эта смерть, не так ли? Произошла? Да не молчите вы, черт вас побери!
— Произошла, — кивнула я, проходя мимо него в спальню.
— Ну и отлично!
— Только не та, — добавила я. — Извините, мне надо переодеться.
Я закрыла дверь перед самым его носом.
— Что значит «не та»? — оторопело спросил он из-за двери. — Что значит «не та»?
Сдирая с себя проститутскую сбрую, я слышала, как он говорит с кем-то по телефону. Потом вроде бы кто приходил, уходил, приходил снова и опять уходил. Прямо проходной двор какой-то, а не номер в люксовом отеле. Да мне-то что… Плевать я хотела на ваши люксовые отели. Я воспитывалась в пионерлагерях, мне и удобств во дворе хватит. Я сбросила с себя всё чужое, а затем встала под душ, чтобы смыть то, что осталось. Я тщательно вытерлась и натянула свое немудрящее белье, старые добрые джинсы, свитер и сапоги. Бонжур, девушка с Крюкова канала. Как, поиграла в Золушку?
Когда я вышла из спальни, Новоявленский сидел в кресле перед пустой бутылкой коньяка.
— А мне даже глотка не оставили? — обиженно спросила я. — Нехорошо, Константин Викентьевич.
Полковник покрутил головой.
— Вы понимаете, что наделали? Парня увезли в коматозном состоянии. Упал виском на угол стола. Если не умрет, то останется инвали…
— Умрет, — прервала его я. — Если уже не умер. Насчет этого не сомневайтесь. Углы моих столов бьют без промаха.
— Но почему? Почему? — Новоявленский в отчаянии потряс кулаками. — И как вы ее отпустили? Знаете ли вы, что другого такого случая не будет? Какой провал! Какой провал!
Я бухнулась на диван.
— Вы сами виноваты, Константин Викентьевич.
— Я?! — Он вытаращил на меня глаза. — Я виноват?!
— Дайте объяснить, — устало сказала я. — И, ради бога, не спрашивайте, почему я рассказываю вам об этом только сейчас. Мне и самой только сейчас открылось. Вспомните, Константин Викентьевич, в кого эта молния била. В тех, я кого боялась, кого ненавидела. В тех, кто угрожал мне, моей жизни, моему будущему. Иными словами, каждый раз было включено мое личное чувство. Наверно, без этого никак.
— То есть?
— То есть эта моя нечистая сила работает только в том случае, когда человек мне сильно неприятен. И не работает, когда он мне симпатичен, как эта ваша Раиса… Кстати, кто она?
— Неважно, — отмахнулся полковник. — Я ведь уже говорил: чем меньше вы знаете…
— …тем меньше шансов на успех, — закончила за него я. — Вы что, не поняли? У вас нет выбора. Вам придется заранее заряжать меня ненавистью к объекту. Иначе просто ничего не получится, как сегодня.
Новоявленский помолчал, обдумывая мои слова.
— Ладно, допустим, — сказал он наконец. — Но за что вы прикончили этого… сосунка? Ему ведь еще двадцати не исполнилось. Вы хоть знаете, чей это сын?
Я равнодушно пожала плечами. Вот уж по кому мой колокол не звонил, так это по малолетнему мерзавцу с уверенной перспективой превращения в еще большую сволочь.
— А зачем мне знать, Константин Викентьевич? Вы ведь сами говорите: чем меньше я знаю, тем лучше. Крепче спать буду. И кстати о сне: не пора ли нам домой?
Полковник вздохнул, посмотрел на часы и поднялся с кресла.
— Вы правы, пора. Позвоните маме. Скажите, что будете дома в первом часу. Что задержались на даче у… — Он раздраженно махнул рукой. — В общем, придумайте что-нибудь.
Всю обратную дорогу я спала как убитая.
8
Следующие недели напоминали дурной заграничный фильм про шпионов. Спустя всего несколько дней после неудачного покушения на Раису завлабу Грачеву позвонили из отдела кадров: пришло направление в аспирантуру для Романовой Александры Родионовны.
— Понятия не имею, что это за аспирантура и что это за НИИ, настолько всё секретно, — проворчал Грачев. — Но ты-то, наверно, знаешь…
Я сделала загадочное лицо и со значением пожала плечами: мол, конечно, знаю, но рассказать, увы, не могу. Эту же ужимку мне пришлось потом повторить бессчетное количество раз в разговорах с другими, в разной степени настырными коллегами. Последним отстал, само собой, Троепольский.
— Одного не пойму, Сашенька: зачем тебе эти сложности? — спросил он напоследок, уже отчаявшись вытащить из меня что-либо связное. — Ты ведь вроде бы не из тех, кто стремится сделать карьеру в науке и технике. Теперь придется часто мотаться в
Москву… это ведь в Москве?.. Или под Москвой?.. Молчишь, а? Ну, партизанка, ну, темнила… Ох, Сашенька, не нравится мне эта секретность. Помнишь, что бывает в детективах с теми, кто слишком много знал?
Еще бы не помнить! Троепольский даже не представлял, насколько точно выражает этим вопросом суть моей постоянной тревоги. Рано или поздно до меня должны были добраться по-настоящему опасные враги, мало похожие на покойного следователя Знаменского или на полковника Новоявленского, который до поры до времени полагал сотрудничество со мной полезным. И тогда никто не поставит на мою жизнь и копейки. С пропеллером или без пропеллера — первыми всегда убирают непосредственных исполнителей.
Оставалось лишь утешаться тем, что Новоявленский не оставил мне выбора. О, эта безотказная комбинация приманки и наказания, палки и пряника, испокон веков используемая манипуляторами всех видов и уровней — от верховного властителя до последнего погонщика мулов! Вот и я, как тот мул, очертя голову мчалась к маячившей впереди морковке — февральскому приезду Сатека, в то время как сзади карающим кнутом нависала смертельная угроза улик, затаившихся в полковничьем сейфе.
«У меня просто нет выбора, — думала я, — нет выбора, как в том роскошном гостиничном номере под колючим взглядом «сотрудницы». Душ, халат, спальня! Значит, надо расслабиться и постараться извлечь из ситуации лучшее — в точности как тогда, когда выяснилось, что, по крайней мере, можно получить удовольствие от хорошей ванны».
Полковник сдержал слово, протащив меня через ускоренный курс «изменения облика».
— Делать из вас Мату Хари нет ни времени, ни необходимости, — сказал он. — Но мне нужно хотя бы быть уверенным, что вы не осрамитесь за столом в приличном ресторане. И не дадите убить себя сразу в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
Меня муштровали в три захода — каждый раз по неделе, двадцать четыре часа в сутки с короткими перерывами на сон и еду. В итоге я сильно подтянулась и похудела, что давало маме повод ахать и охать всякий раз, когда она встречала меня после очередной «командировки в Москву»:
— Нельзя же так, Сашенька! Эта аспирантура из тебя все соки выжмет! Вы что там, с отравляющими веществами работаете?
«В том числе, мамуля, в том числе…» — думала я про себя, но вслух, конечно, говорила совсем другое:
— Мама, ну что ты придумываешь! Обычная аспирантура, работа с бумажками, просто тема закрытая. А что похудела, так это от беготни. Зато смотри, какая теперь у твоей дочери талия!
Конечно, ни в какую Москву я не уезжала — и в Московскую область тоже, хотя всякий раз исправно прибывала на вокзал с чемоданом, чтобы сесть в указанный в билете вагон скорого поезда. Но уже примерно час спустя я спускалась на платформу одной из промежуточных станций, где меня поджидала машина с молчаливым водителем. Еще полчаса поездки по проселочным ухабам — и шлагбаум, будка с часовым, двухэтажный каменный дом в глубине лесного массива. И еще пятнадцать минут — на умыться и переодеться к первому уроку.
Учителя — точнее назвать их инструкторами сменялись, пока я буквально не падала с ног. В этом случае мне позволялось отключиться на два часа сна, после чего процесс возвращался к исходному состоянию: пятнадцать минут на умывание и новый урок.
Основные усилия моих учителей были направлены на то, чтобы, как говорил Новоявленский, выбить из девушки Крюков канал. Я почему-то ожидала, что светскую даму из меня будет лепить какой-нибудь картавый дореволюционный дедуля с великокняжеской родословной. И ошиблась: моим Пигмалионом оказался вполне современный солидный дядечка лет сорока с поистине энциклопедическими знаниями о том, за какую вилку и в каком случае следует браться настоящей Галатее.
Другой инструктор, с мягкими до бескостности руками дамского портного, учил меня правильно ходить на каблуках — до изнеможения, до боли в ногах; а когда я, обессилев, падала на стул, выяснялось, что начинается урок правильного сидения.
Знакомая по первой неудачной операции «сотрудница» передавала мне тонкие секреты грима — после нескольких проведенных с нею дней я уже худо-бедно умела различать по запаху модные марки духов и в течение минут до неузнаваемости менять свою внешность.
— Я вижу, ты в первый раз берешь в руки эту железку, — сказал мне симпатичный парень, инструктор по оружию. — Она называется пистолет, и с нею связана уйма разных умений, которым ты в жизни не научишься. Но это не страшно, потому что по роду занятий ты должна совершать всего два действия: быстро выхватывать и стрелять в упор. Вот эти-то движения и надо довести до автоматизма.
Чем мы и занимались часами: быстро выхватывали и стреляли в упор — до автоматизма.
Так же, «до автоматизма», работал со мной еще один учитель: массивный, но неожиданно подвижный дядечка, просивший называть его Паша-три-удара.
— Ты никогда не научишься драться по-настоящему, — объявил он на первом же уроке. — Но тебе и не надо. Ты должна огорошить противника и убежать. На вид ты никакая не драчунья, а кулек кульком. И это просто замечательно, потому что никто не ожидает от тебя нападения. Ты должна выучить всего три удара. Всего три, но назубок, чтобы наносить их из любого положения…
Были и другие занятия — как утверждал Новоявленский, менее обязательные, а потому очень поверхностные: по ядам, взрывчатым веществам, работе со слежкой и прочим шпионским выкрутасам. Эти знания не должны были понадобиться мне никогда, но полковник полагал, что программу ускоренного курса нужно пройти полностью и до конца, потому что никогда не знаешь, какие неожиданности подкарауливают тебя за углом.
— Подавляющее большинство тех, кто носит оружие, никогда не воспользуются им на практике, — говорил Новоявленский. — Но это не отменяет необходимости хорошего обучения и постоянной тренировки. Все, чему ты учишься здесь, тебе придется повторять дома, желательно ежедневно.
И я повторяла. Не потому, что обещала повторять, и не потому, что боялась экзамена, как в студенческие времена, — повторяла потому, что мне реально нравились эти шпионские игры. Да-да, мне попросту нравилось чувствовать себя сильной. Мне нравилось ощущение неуязвимости, дающее человеку дополнительную степень свободы — свободу от страха. Значит, я любила свободу? Наверно, да. Наверно, я любила ее даже больше, чем Сатека. Я не желала пресмыкаться втуне.
Теперь, гуляя с Бимулей, я регулярно заходила в темные подворотни, куда прежде не рисковала даже заглядывать. Я почти хотела встретить там какого-нибудь особо невезучего хулигана. Давай, выползай, соловей-разбойник, — вот она, я, былинная богатырша! И — бац! — пяточкой открытой ладони в основание носа! Трах! — ботинком по надкостнице! Бум! — подъемом ноги по драгоценностям Фаберже! Получил?! Будешь знать, как нападать на беззащитных людей! Ты думал, перед тобой какая-то дама с собачкой? А оказалось — Джеймс факинг Бонд собственной персоной!
Увы. То ли все хулиганы разбегались при моем приближении, то ли их и вовсе никогда там не было, но мне так и не посчастливилось применить на практике свои новообретенные умения. Приходилось вести бой с тенью: бац!., трах!., бум!.. На раз — выхватила! На два-три — выстрелы в упор! И снова: бац-трах-бум, раз-два-три… бац-трах-бум, раз-два-три… Бимуля, озадаченно поджав хвост, издали наблюдала за окончательно сбрендившей хозяйкой.
Впрочем, не она одна посматривала на меня в те дни взглядом, в котором отчетливо читался вопрос: «Ты ли это, Саша Романова?» Как бы ни хотелось мне сохранить прежние дружеские связи в лаборатории Грачева, это вряд ли было возможно. В самом деле, что за такая невиданная зверушка — загадочная супер-пупер-секретная аспирантура в таинственном номерном ящике-НИИ? Да еще и предложенная совсем зеленой молодой специалистке, едва-едва начавшей свой трудовой путь? Не иначе как есть у этой скромняги Сашеньки здоровущая волосатая лапа… Вот только где она прячется, эта лапа? В дирекции? В министерстве? В обкоме партии?
Сначала на меня не слишком нажимали, зная, что, в конце концов, все секреты рано или поздно просачиваются наружу. Кто-то из моих коллег водил знакомство с секретаршей отдела кадров, чей-то родственник работал в главке, кому-то посчастливилось отдыхать вместе с завотделом из министерства… Слухами земля полнится. Но время шло, а в глухой стене моей тайны не появлялось ни щелки, ни трещинки. Этому, по общему мнению, могло быть единственное объяснение: Контора. Подобной степенью непроницаемости обладало у нас лишь одно вполне определенное учреждение — КГБ.
Тут уже кто-то припомнил, что видел меня выпархивающей из черной «Волги» с характерными нулями на номере, а затем и Троепольский с Зиночкой по-новому взглянули на наше чудесное спасение из милицейского участка в разгар дисциплинарной кампании. В результате в конце ноября, уже после моего возвращения из второй «аспирантской» командировки, я ощутила катастрофический провал в отношениях. Меня все еще именовали Сашенькой, по-прежнему приглашали выпить, а также приветливо здоровались и прощались, но все остальное словно переместилось в какой-то непроницаемый пузырь подозрительности. Я одним махом превратилась в чужую, почти в изгоя, которого терпят лишь по необходимости, а то и из страха.
Конечно, это не могло не расстраивать — ведь я искренне считала их своими близкими друзьями. В ответ на мои вопросы Троепольский и Зиночка пожимали плечами и отводили глаза: мол, о чем ты говоришь?.. все в порядке… но на самом-то деле всему пришел конец — и откровенным разговорам, и шуточкам, и взаимным просьбам о помощи. Пришел конец дружбе. Когда Зиночка в конце дня сбежала с работы тайком, чтобы не пришлось идти вместе со мной на трамвай, я не выдержала, психанула и буквально приперла к стенке Веру Палну в ее секретарской каморке.
— Ты можешь объяснить мне, что происходит?
— Что ты, Сашенька… ничего не происходит… — испуганно ответила секретарша, отводя глаза. — Все в порядке…
Но я к тому времени уже устала слушать подобные ответы. Поэтому я просто захлопнула ногой дверь, сграбастала в кулак лацканы Веры-Палниной кофточки и вздернула эту чертову накрашенную куклу вверх.
— А ну, смотри мне в глаза! — скомандовала я. — В глаза, говорю! Отвечай, что происходит! И только попробуй соврать снова, поняла?!
— Они знают, что ты работаешь на Контору, — прохрипела Вера Пална. — Ты ведь работаешь, да?
Я с трудом подавила в себе острое желание сломать этой дуре нос. А уж о «выхватить и выстрелить в упор» речи вовсе не шло по причине отсутствия того, что можно было бы выхватить.
— Слушай меня внимательно: я не работаю ни на какую Контору! — Для пущей убедительности я придушила ее еще немного. — В отличие от тебя, сучка. Ты ведь там осведомителем служишь? Ну, что молчишь? Ты служишь, а коллектив гнобит меня, которая не служит… По-твоему, это справедливо? По-моему, нет. Понимаешь?!
Вера Пална мелко закивала в знак согласия. В ее подведенных и намазанных глазах ясно читался ужас. Я машинально принюхалась: тушь польская, подделка под «Ланком», духи «Клима»… Что я делаю, черт меня побери? Зачем пугаю до смерти эту куклу? Если секретарше и требовалось какое-либо доказательство моей принадлежности к застенкам тайных спецслужб, то я с избытком продемонстрировала его своим поведением.
— Ладно, живи… — сказала я, выпуская свою пленницу на волю. — В Конторе я служу… вот ведь гады…
Как и следовало ожидать, эта крайне неудачная попытка исправить ситуацию лишь усугубила ее. Но, с другой стороны, что я могла сделать? Да ничего, ровным счетом ничего. Оставалось утешать себя тем, что, возможно, когда-нибудь, в будущем, мне удастся что-нибудь изменить… хотя, честно говоря, в это слабо верилось. Пока же на дружеских отношениях с коллегами можно было поставить большой жирный крест.
Но еще сильней меня огорчала необходимость врать маме. Вот уж кто не мог не заметить перемен, которые происходили со мной в то время. Недельные отъезды еще можно было кое-как прикрыть внезапно наклюнувшейся аспирантурой, но попробуй объясни матери тот странный факт, что в «командировку» уезжает дочь, а возвращается совсем другая женщина — очень похожая внешне, но не та. У нее другая походка, другие движения, другой взгляд, другая манера одеваться и краситься, другая улыбка… — вернее, улыбка, как таковая, почти исчезла, сменившись жесткой усмешкой в сопровождении почти охотничьего прищура утративших мягкость глаз. Проходит несколько дней, и этот ледяной монстр постепенно оттаивает, возвращая к жизни прежнюю Сашу, но затем следует новая командировка, и все повторяется сызнова. Как объяснить маме эти чудовищные метаморфозы?
У меня не было никого ближе нее. Мы были не просто мамой и дочерью — мы были лучшими подругами, пристанищем и защитой одна для другой. Мы могли умолчать о чем-то, да и то лишь на короткое время, рано или поздно выплескивая на общий кухонный стол все свои секреты. Вероятно, что-то все-таки недоговаривалось, но только с ее стороны — ведь мать далеко не все может доверить даже взрослой дочери, и это естественно. К примеру, я ничего не знала о ее мужчинах — но я и не желала об этом знать! Конечно, причиной этого активного нежелания был элементарный дочерний эгоизм: я категорически отказывалась делить маму с кем бы то ни было, и она великодушно избавляла меня от нежелательного знания.
Но уж с моей-то стороны выкладывалось все без остатка. Часто мне даже не требовалось слов: мама без труда догадывалась о случившемся по одному моему виду. Догадывалась, но ни разу — ни разу! — не давала мне повода пожаловаться на эту необыкновенную проницательность. Она никогда не лезла в мою душу сапогами, нет. Она проникала туда только целительным лекарством, только благодатным поцелуем — поцелуем от слова «целить».
И вот все это кончилось. Ложь не может быть малой или большой — она просто есть, и этого достаточно для того, чтобы разрушить то, что казалось крепче любой крепости. Я видела горестное мамино недоумение, обиду человека, вернувшегося домой и обнаружившего, что домашние в его отсутствие сменили замок и теперь отказываются впустить его или даже просто ответить на стук в дверь. Вот он встает на цыпочки, надеясь разглядеть хоть что-нибудь в окно как чужой, как лишний, как незваный гость, — а на стекле лишь мерзлые узоры декабря и более ничего.
Зная маму, я была уверена, что она непременно винила в происходящем не меня, а себя и отчаянно пыталась разгадать, в чем именно заключается ее вина. Когда она обидела меня? Что было сказано не так, или не теми словами, или не тем тоном? Возможно, в какой-то момент она должна была промолчать? Возможно, напротив, она промолчала не вовремя? Я смотрела на ее мучения и мучилась сама, но альтернатива казалась еще хуже. Ведь если начать рассказывать, то придется выложить всё, начиная с самого первого убийства. Как она посмотрит на меня после этого? Не отвернется ли в ужасе от чудовища, в которое превратилась ее дочь?
Нет-нет, меньше всего мне хотелось подвергнуть ее и себя еще и этому испытанию. Оставалось утешаться тем, что договор с Новоявленским не вечен. Скоро наступит февраль, приедет Сатек, мы сыграем свадьбу и вернемся к нормальной человеческой жизни. И тогда, конечно, всё забудется. Не сразу, но забудется. Ведь если не верить в это, то совсем худо. Потому что содержание «командировок» не ограничивалось обучением.
Два-три раза в неделю на базу приезжал Новоявленский, и мы отправлялись на ликвидацию. Неудача с Раисой из элитного дома отдыха была последней — в дальнейшем я действовала без осечек; Полковник хорошо усвоил урок; теперь он заранее заряжал меня информацией о цели — как правило, настолько омерзительной, что я отказывалась дослушивать до конца. Допускаю, что в каких-то деталях он обманывал меня, но в общем и целом рассказы выглядели достаточно правдоподобно. Насильники, воры, мошенники, убийцы… Я уничтожала их без малейшей жалости, как ядовитых змей.
Если бы этих мерзавцев можно было отдать под суд, они, без сомнения, не получили бы ничего кроме вышки. Увы, все мои «клиенты» принадлежали к категории неподсудных. Каждый из них, по словам полковника, располагал непробиваемой защитой в самых высоких кругах власти — защитой, которая никогда не позволила бы довести дело до суда.
— Есть десятки способов убить человека, — говорил Новоявленский. — Этим занимаются у нас специальные команды. Но в данном случае я не могу послать на операцию свою команду: об этом так или иначе станет известно наверху. И тогда заварится такая катавасия… Короче говоря, нужна естественная смерть или несчастный случай — такой, который не вызовет подозрений там, где не надо. Поэтому мне нужна именно ты, Саша.
Теперь он перешел со мной на «ты» — видимо, для поддержания более доверительной атмосферы. Я по-прежнему старалась держать дистанцию: «вы» и Константин Викентьевич, но проведенные бок о бок часы не могли не сказаться — мало-помалу мы превращались в партнеров, связанных общностью целей.
«А впрочем, почему бы и нет? — думала я. — В конце концов, этот человек пока не сделал мне ничего дурного. Пока. Если забыть о пластиковом пакете в его личном сейфе».
Я ехала по скользким зимним дорогам в бесшумных «Волгах» и в ревущих надсаженными моторами «газиках»; я входила в сияющие театральные фойе, в бальные залы и в дымные кабаки. Меня облачали то в роскошное вечернее платье, то в модный джинсовый костюм, то в овчинный тулуп; меня высаживали у покрытых ковровой дорожкой ступеней из импортного лимузина и в чистом заснеженном поле из военного вертолета. Я била без промаха; для успеха мне требовалось лишь хорошо представлять себе внешность цели, ее манеру ходить, говорить, гримасничать. Я просто должна была «видеть» свою жертву, неважно как и все равно где — в реальности или в воображении. Видеть и ненавидеть. Ненависть была моим горючим, моим клинком, моей пулей. Поэтому, когда Новоявленский приносил достаточно много киноматериала, мне даже не приходилось покидать базу.
Так я управилась с неким замминистра, который, по словам полковника, возглавлял систему незаконного сбыта икры за границу. Этот жирный боров был женат на чьей-то крайне влиятельной дочери и благоразумно делился прибылью с самыми высокопоставленными людьми, а потому считался практически неуязвимым. Тем не менее для пущей безопасности он раз в два года полностью обновлял штат рядовых исполнителей, вольно или невольно замешанных в воровстве. Этих людей просто топили — самым буквальным образом. Топили и набирали новых — до следующего обновления кадров. Новоявленский показал мне снимки и списки погибших, а потом прокрутил фильм с выступлением мерзавца на каком-то пленуме. Этого хватило: назавтра полковник известил меня, что замминистра принимал душ в ванной своего загородного дворца и поскользнулся, наступив на обмылок.
— И это все? — разочарованно спросила я. — Подобная мразь заслуживала более содержательной смерти.
— Да нет, там действительно есть что рассказать, — усмехнулся Новоявленский. — Мне доложили, что, падая, он разбил стекло душевой кабинки и налетел прямиком на торчащие вверх острые обломки. Беднягу накололо, как кусок мяса на шампуры. Он оставался в сознании довольно долго, но, представь, никого не случилось рядом, чтобы помочь. Так и истек кровью… — Он помолчал и добавил: — Что и говорить, Саша, нельзя отказать твоей нечистой силе в изобретательности.
Что верно, то верно. Проповедницу изуверской секты в Киришах я убила прямо во время молитвенного собрания. Арестовывать эту пожилую тетушку с безумным взглядом и зажигательными речами было совершенно противопоказано: любые санкции против нее привели бы к массовому самоубийству членов секты. Меня нарядили в бесформенное драповое пальто с цигейковым воротником, повязали серый платок и дополнили картину валенками в галошах — примерно так было одето большинство посетительниц собрания, на котором проповедница рассчитывала мобилизовать новых адептов. Я так и не поняла, чему они там молились, в этом здании заброшенного склада, — дьяволу или сатане, но явно чему-то очень недоброму: ведь вряд ли доброе божество станет требовать, чтобы ему приносили в жертву бродячего пса, которого угораздило родиться на свет с черной шерстью. Зарезав невинную псину, тетка принялась толкать речь, то и дело призывая в свидетели своего чертячьего господина и кляня «лживого Бога Саваофа».
— Лживый Бог Саваоф — выдумка попов и евреев! — кричала она. — И я докажу это вам, дети мои! Я докажу это прямо сейчас!
Проповедница воздела вверх кулаки и возопила:
— Слушай меня, Бог Саваоф! Если ты существуешь, то выходи и сразись со мной и моим господином! Если есть хотя бы одно слово неправды в моих устах, пускай поразит меня на месте твоя якобы всесильная рука!
Толпа замерла в ожидании, глядя вверх, откуда, по идее, должна была появиться «якобы всесильная рука». Посмотрела и я — в смутной надежде, что кто-то сделает за меня мою работу. К сожалению, всесильная рука почему-то медлила, так что действовать снова пришлось мне. Я успела пробормотать свое «Сдохни!» как раз вовремя, когда проповедница уже разинула рот, дабы провозгласить свою блестящую победу.
— Вы видели… — начала было она, но осеклась.
Объятые благоговейным ужасом люди, не в силах двинуться с мест, смотрели, как тетка пошатнулась, схватилась за сердце и рухнула замертво. Острый инфаркт миокарда, смерть, мгновенная, как удар молнии небесной. Говорят, что были когда-то какие-то философы, которые ставили перед собой задачу продемонстрировать интересующимся доказательства существования Бога. Не думаю, что результат их усилий выглядел убедительней, чем то, чего удалось добиться мне в заброшенном киришском складе. Вряд ли кто-то из присутствовавших там позволил себе в будущем хоть раз усомниться в наличии «лживого Бога Саваофа»…
К несчастью, этого представления не видел начальник одного из отделений питерской железнодорожной милиции — иначе он задумался бы о спасении собственной души куда раньше, чем его вынудила это сделать я. Да-да, судьба снова столкнула меня с ментами. Этот предприимчивый майор занимался тем, что собирал на своем вокзале бомжей и продавал их за наличные в Узбекистан, местным хлопковым баям. Услуга включала доставку. Натуральная работорговля — по двадцать — тридцать человек ежемесячно. Новоявленский утверждал, что редко кому из них удавалось протянуть больше года — умирали от непосильной работы, голода и побоев.
Я разобралась с майором, когда он, закончив проверять очередную партию товара, возвращался в свой кабинет через сортировочные пути. Крайне редкий несчастный случай: тормозной башмак, вылетевший из-под колеса товарного вагона, превратил бравую грудь мента-работорговца в одно сплошное кровавое месиво. Наблюдая за происходящим издали, с высоты пешеходного мостика, я так и не узнала, почувствовал ли майор боль, успел ли понять, что издыхает. Хотелось бы верить, что да, успел.
Были и другие случаи «повторения пройденного»: так, одной из целей оказался некий секретарь обкома, папаша сексуально озабоченного малолетки, случайно попавшего на линию огня во время неудачного покушения на Раису. Честно говоря, уже услышанного мною от сына было бы вполне достаточно для того, чтобы понять человеческую суть этого любителя поохотиться на уток и на молоденьких девушек. Вождь народов утверждал, что сын за отца не отвечает, но ничего не говорил по поводу обратной ответственности.
Выяснилось, что помимо охоты секретарь обожал зимнюю рыбалку — от чего, собственно, и пострадал, свалившись в сильном подпитии в прорубь на глазах у всей своей свиты. Он не сразу пошел на дно — тем не менее все попытки вытащить утопающего оказались тщетными. Вот ведь какая досада.
Зима, между тем, набирала силу. Подошел к концу год, а с ним и мой ускоренный курс. Теперь я выезжала только на задания — иногда они требовали два-три часа, иногда два-три дня. Полковник как-то незаметно вырос в звании — я узнала об этом совершенно случайно, когда один из шоферов обратился к нему по-новому: «Товарищ генерал». Как видно, мои профессиональные успехи весьма благотворно отражались на личной карьере Новоявленского. Что ж, на здоровье: наш полугодовой договор заканчивался в апреле, и в моих интересах было завершить его к взаимному удовлетворению обеих сторон. Тем более что с течением времени работы становилось все меньше и меньше. Новоявленский объяснял это тем, что я довольно быстро управилась с пакетом заказов, который копился годами. Как-то он заметил, что мы вот-вот вычистим из труднодостижимых углов всю многолетнюю нечисть.
— И тогда, Саша, можно будет перейти на принципиально иной режим общения, — добавил полковник. — Скажем, один раз в квартал или даже реже, чтоб не слишком тебя беспокоить…
— Секундочку! — запротестовала я. — Мы договаривались всего на полгода!
— С опцией на продление, — напомнил он.
— Но я не хочу ничего продлевать!
— Ой ли? — полковник с сомнением покачал головой. — Тебе слишком нравится то, чем мы с тобой занимаемся. Я не верю, что тебя устроит жизнь скромной домохозяйки.
— Устроит, еще как устроит!
Новоявленский пожал плечами и перевел разговор на другую тему. Конечно, он не собирался отпускать меня на все четыре стороны — кто же добровольно расстанется с таким ценным ресурсом? Я уже добыла ему генеральское звание — и один только черт знает, на какие карьерные вершины намеревался вскарабкаться в итоге мой седовласый партнер. Но проблема и в самом деле заключалась не только в его нежелании дать мне свободу. Мне действительно нравилась эта работа. Нравилась постоянная смена масок, нравилось ощущение силы, ощущение власти, даже владычества.
Я была владыкой жизни. Я держала ее на ладони, я разглядывала ее почти сладострастно — дышащую, потеющую, ржущую, жрущую, уверенную в своем праве и своей безнаказанности. Охотники до беззащитного человеческого мяса, рыболовы мутных прудов, насильники и убийцы, лжецы и душегубы — они не шли, а ступали, не шагали, а шествовали. В их заплывших самодовольством гляделках светилась радость гарантированного обладания, счастье полной неуязвимости, почти бессмертия. Они ощущали себя мощными китами, огромными саблезубыми хищниками подлунного мира.
Но для меня они были не более чем крошечными мышатами — вредителями, разносчиками чумы, с легкостью умещавшимися на моей ладони. И когда я сжимала ладонь в кулак, давя их ничтожную, мелкую, грязную жизнь-жизнёнку, когда я слышала их предсмертный мышиный писк — я испытывала не отвращение, как оно, видимо, должно было быть, а радость. Да-да, я испытывала острую, волнующую радость и даже не спешила отмыть ладонь, испачканную кровью, слизью и дерьмом моих раздавленных жертв. Мне нравилось убивать их, и чем дальше, тем больше я убеждалась в том, что попросту нуждаюсь в постоянном возобновлении этого переживания.
Немудрено, что полковник сразу распознал во мне эту почти наркотическую зависимость — уж он-то повидал на своем веку не одного профессионального убийцу. Я была киллером не по необходимости, а по призванию. Кончились детские шутки-прибаутки: ни тебе Карлсона с крыши, ни тебе киллера с пропеллером на мотороллере. Просто киллер, серийный убийца, балдеющий от своего ремесла. Новоявленский не ошибся: я уже не могла вернуться на жизненный маршрут простой домохозяйки или влезть в шлепанцы какой-нибудь Зиночки из грачевской лаборатории. Я уже не могла пресмыкаться втуне.
Декабрь, между тем, пресмыкался вовсю: обычный питерский декабрь, пожилой, красноносый, медленно бредущий к Новому году пьяница, шатающийся от лужи к сугробу, от мороза к оттепели. Снег то утверждался на газонах и ветвях, то таял, превращаясь в светло-коричневую кашу по краям тротуарных поребриков. Еще за неделю до праздника стояла плюсовая температура, мокрый снег с дождем пополам, но затем подморозило, а тридцать первого и вовсе пошел густой снегопад — настоящая новогодняя погода. Елку у нас обычно покупала мама, но на этот раз я решила проявить инициативу — смотри, мол, мамочка, у нас все по-старому, по-семейному: ты да я, да бутылка полусухого у елки, да салат оливье, да цыпленок табака, безжалостно придавленный к чугунной сковородке чугунным же довоенным утюжком.
Мама с радостью оценила мои старания; мы вдвоем развесили игрушки и гирлянды и, как положено, встретили Новый год у телевизора, закутавшись в один плед. Затем, чудом пробившись сквозь перегруженную сеть, позвонил Сатек, и мы с ним болтали минимум полчаса. В общем, все прошло довольно удачно — хорошая примета на будущее.
Примета приметой, но январь не слишком отличался от декабря — разве что названием. Я по-прежнему жила от «командировки» к «командировке», ходила на службу в Мариинский проезд, возвращалась домой к вопросительному взгляду мамы. Правда, кое-что новое все же добавилось: приближался февраль, приезд Сатека. Странно, но я чувствовала, как будто что-то выпало из моего ожидания — какая-то трудноопределимая, но важная часть. Нет-нет, я все еще любила своего Святого Сатурнина и, видимо, не мыслила себе будущего без его участия… но теперь это была какая-то другая любовь, без прежнего отчаяния, без осознания неисполнимости желаний.
Мы часто перезванивались, причем звонил он, не всегда заставая меня дома из-за «командировок». В этих случаях Сатек пересказывал новости маме, а она передавала мне. Новоявленский держал слово: аспирантура в Институте культуры неотвратимо превращалась в реальность. Профессор Михеева вернулась в Питер и охотно утвердила тему; Пражский университет тоже не ставил палки в колеса. Уже проштемпелевана была соответствующая виза в паспорте и куплен билет на самолет: мой любимый прилетал шестого февраля вечером, накануне заранее утвержденной встречи с Михеевой. Иными словами, все шло по плану, удивительно гладко — настолько, что временами становилось страшновато.
В конце января, когда мы с Новоявленским возвращались на самолете с Урала, я попросила его устроить мне личное одолжение: недельный отпуск под видом очередной «командировки в аспирантуру».
— Обман начальства и коллег по работе? — насмешливо спросил полковник — Непохоже на вас, Александра Родионовна…
— Ну конечно, Константин Викентьевич, — в тон ему ответила я. — Саша Романова никогда не врет, известное дело. Так устроите? Сатек приезжает в понедельник
— Конечно, Саша. Считай, что неделя твоя. На свадьбу-то позовешь?
— Нет, не позову.
— Я так и думал, — усмехнулся Новоявленский. — Но подарок все равно за мной… Вот тебе пока на закуску — свеженький «Тайм». Ты, наверно, таких еще в руках не держала.
Он открыл портфель и вынул американский журнал.
— Не держала, — недоуменно подтвердила я. — А надо было?
Полковник рассмеялся:
— Конечно, нет. Советской женщине должно хватать «Огонька» и «Работницы». Но этот конкретный выпуск можно и полистать — особенно в части обложки. Ты только взгляни, кто там!
На обложке «Тайма» под заголовком «Men of the Year» стояли спиной к спине двое — Рейган и Андропов. Простецкая физиономия американского президента была обращена влево: нос картошкой, резкие морщины — ни дать ни взять, пожилой колхозник — если, конечно, не учитывать крашеные волосы и костюм с галстуком. Зато наш генсек смотрелся на этом рабоче-крестьянском фоне истинным интеллигентом: очки, высокий лоб, благородная седина, задумчивый поворот головы…
— Наш-то получше будет… — сказала я, возвращая Новоявленскому журнал.
— Оставь себе, маме покажешь, — великодушно разрешил он. — Это ведь и твоя заслуга, Саша.
Я вытаращила глаза:
— Моя?! При чем тут я, Константин Викентьевич?
— Ну как же… Почему, ты думаешь, Юрий Владимирович признан американцами человеком года? Потому что видят: Советский Союз пробуждается, встает на ноги. Стряхивает с себя воров, хапуг, преступников и прочие застойные явления. И ты, Саша, среди тех, кто помогает избавляться от этого балласта… чтоб не сказать ярма. Так что можешь гордиться и с чистым сердцем прогуливать свою незаконную неделю…
На маму экзотический заграничный журнал не произвел впечатления: повертела в руках и отложила в сторону.
— Не понравилось, мамуля?
Мама пожала плечами.
— Твой Сатек — прекрасный парень, — вдруг сказала она ни с того ни с сего. — Не вздумай проделать с ним ту же шутку, что и с Костей…
Из-за внезапной смены направления разговора, а также по причине смертельной усталости после долгого перелета я не сразу поняла сказанное.
— О чем ты, мама?
Она пожала плечами:
— Ты знаешь, о чем. Я ведь вижу: ты опять сомневаешься, в точности как тогда. Но Сатек — не Костя. Тот и в самом деле был ничтожеством…
— Никчемужеством… — поправила я. — Сатек называл Лоську никчемужеством. Хорошее слово, правда?
— Не уходи от темы.
— Я не ухожу, мамуля. Во-первых, с Лоськой я не проделывала никакой шутки. Ты что, не помнишь? Это он не пришел в ЗАГС. Я честно прождала там несколько часов. Ты сама отпаивала меня чаем, когда я вернулась домой. Разве не так?
— Верно, отпаивала, — кивнула мама. — Но, Саша, если уж быть честной до конца, ты сама расстроила ту свадьбу, своими руками. Ты накануне позвонила его матери и поставила ее в известность. Ведь так?
Я вздохнула. С фактами не поспоришь.
— Ладно, мама, допустим. Допустим, что в том моем разговоре с Лоськиной мамашей была какая-то задняя мысль. Но что такое одна задняя мысль по сравнению с… не знаю, как и сказать… — по сравнению со всеми моими передними мыслями? Все мои передние мысли, не говоря уж о практических действиях и поступках, были направлены на то, чтобы выйти за него замуж. Я планировала это как минимум два года. Задняя мысль… ты придаешь слишком большое значение задним мыслям. У кого их нет?
Давай лучше смотреть на факты. Разговор был, это верно. Но есть и другие, более важные моменты: невеста пришла в ЗАГС, а жених — нет. Меня, как говорится в старых романах, бросили у алтаря. Стандартный сюжет.
— Не будь того разговора, Костя пришел бы, — упрямо проговорила мама. — Но оставим Костю — он и в самом деле тебя не стоил. Меня больше заботят твои отношения с Сатеком. Если ты и сейчас отколешь что-нибудь этакое…
— Мамуля, да с чего ты взяла, будто я собираюсь что-то отколоть? — взмолилась я. — Ты ведь прекрасно знаешь… я тебе рассказывала… я люблю Сатека. Не как Лоську, а по-настоящему. Я хочу выйти за него замуж Ну, что ты на меня так смотришь?
Мама смотрела грустно, едва заметно покачивая головой, и я не выдержала, отвела взгляд. Все-таки она видела меня насквозь, никуда не денешься. Неужели я и вправду не хочу замуж? Да нет, вроде хочу…
— Любишь… — тихо повторила мама. — Я уже не понимаю, что именно ты любишь. Когда-то понимала, а сейчас уже нет. Когда-то я точно знала, что ты любишь эскимо, и глазированные сырки, и собак, и качели, и лето, и… и меня. А вот что ты любишь сейчас…
Я обняла ее и уткнулась лбом в мамино плечо. Как когда-то, во времена глазированных сырков.
— Мамуля, все будет хорошо, вот увидишь. Я обещаю ничего не откалывать. Честное слово…
Неделя перед приездом Сатека прошла в непрерывных хлопотах. Мы с мамой мыли квартиру, проветривали перины и освобождали полки для вещей моего будущего мужа — в общем, усиленно вили гнездо, как две ополоумевшие ласточки. Сатек звонил ежедневно, иногда по два раза — сначала выяснял, что привезти, затем узнавал, не захватить ли еще чего. Парень подходил к делу серьезно, как основательный чешский крестьянин, и, не довольствуясь моим мнением, требовал к телефону маму.
— Фен? У вас есть фен? Ах да, вы уже говорили… Может, привезти телевизор? Я могу отправить контейнером, малой скоростью. А как насчет посуды?.. Ковров?.. Пианино?
— Сатек, милый, довольно, — устало протестовала я. — Ничего не надо. У нас все есть. А чего нет — будет.
— Ну как это «будет»? Как это «довольно»? — кипятился мой любимый. — Ты, я вижу, ничего не понимаешь в хозяйстве! Позови Изабеллу Борисовну!
Когда все хозяйственные темы были наконец исчерпаны, последним поводом для спора стал непосредственно момент встречи. Мне хотелось встретить его в аэропорту, но Сатек требовал, чтобы я не приезжала.
— Милый, я еще никого в жизни не встречала… — пробовала уговорить его я.
— Нет-нет! — стоял на своем он. — Мне столько раз снилась такая картина: я звоню в звонок на двери, дверь открывается, и на пороге — ты в своем сером халатике. Теперь это должно так и быть, в точности. Я позвоню. Ты откроешь. Сон обязан стать реальностью.
Аргументов против сна у меня просто не нашлось, так что пришлось согласиться. Пускай себе станет реальностью, я не против. Поскольку наши с Сатеком семьи жили по разные стороны границы, можно было не сомневаться, что мне еще не раз представится возможность встречать и провожать своего мужа в том или ином аэропорту.
Рейс из Праги приземлялся в семь вечера. Час на выход, час на дорогу — к девяти Сатеков сон должен был претвориться в звонок Нечего и говорить, что стол был сервирован задолго до этого срока. В восемь мама сказала, что мне пора переодеться:
— Не станешь же ты встречать своего жениха в этом застиранном халате?
Я не ответила — убежала на кухню проверять состояние жаркого. А что я могла ответить? Что со сном не поспоришь?
До девяти стрелки часов едва шевелились, зато потом понеслись галопом. Обещанный сном Сатека дверной звонок все не звонил и не звонил. В одиннадцать мама предположила, что рейс задержали. Я попробовала прозвониться в справку Пулковского аэропорта — телефон либо игнорировал меня, ввинчиваясь в ухо коловоротом длинных безответных гудков, либо раздраженно городил частокол коротких сигналов «занято». В полночь мама сказала, что надо убрать салаты в холодильник и ложиться спать: утро вечера мудренее. Затем она покосилась на мой халатик и добавила:
— А ты так и не переоделась. Как будто знала, что он не приедет…
Это было уже слишком, и я разревелась в три ручья. Конечно, мама ужасно перепугалась, и тут уже мне пришлось срочно утирать слезы, чтобы измерить ей давление, скормить таблетку и уложить в постель. Около двух ночи удалось задремать и мне самой. Под утро мне послышался звонок в дверь; я вскочила, накинула халат и бросилась открывать. За порогом, к моему полнейшему изумлению, стоял Лоська с двумя чемоданами.
— А чего это ты в халате? — спросил он. — Мы так не договаривались.
— Пошел к черту! — закричала я, захлопнула дверь и проснулась.
В окно смотрел серый февральский день. Мама уже ушла на работу. Я оделась, выпила кофе, вывела Биму и села на телефон. К половине одиннадцатого мне удалось прорваться в справочное бюро.
— Вчерашний вечерний рейс из Праги? — повторила справочная девушка. — Минутку… Приземлился по расписанию, восемнадцать пятьдесят пять.
— По расписанию — это значит вовремя? — довольно глупо спросила я.
— Вовремя, вовремя… — В голосе справочной появилась хорошо различимая нетерпеливая интонация.
— А можно узнать, был ли в списке пассажиров…
— Мы таких справок не даем, — прервала меня девушка. — Не занимайте линию, гражданочка. Другие тоже ждут.
«Какое мне дело до других?! — хотела выкрикнуть я. — И какое мне дело, сколько они ждут? Я жду его всю свою жизнь! Он обещал приехать и не приехал! Или приехал, но не ко мне… Где он? Найдите мне его, пожалуйста!»
Хотела выкрикнуть, но не выкрикнула, потому что бессмысленно кричать перед частоколом коротких гудков прервавшегося разговора — эта стена будет еще повыше и покрепче Великой Китайской. Позвонила мама:
— Приехал?
— Нет.
— Позвони к нему домой, матери.
— Она не понимает по-русски.
— Все равно позвони. Хуже не будет.
Тут мама была права — в то февральское утро мне действительно казалось, что хуже уже быть не может. Я набрала номер международной связи. Разговор дали почти сразу, к телефону подошла мать Сатека — я узнала ее по голосу.
— Юта? Это я, Саша!
— Саша? — обрадовалась она и заговорила по-чешски.
Она говорила и говорила, а я не понимала ни слова, ну то есть вообще ничего.
— Юта, где Сатек?
На другом конце провода наступило озадаченное молчание, немедленно перешедшее затем в слитный поток незнакомых слов.
— Я не понимаю, Юта, — в отчаянии проговорила я. — Не понимаю. Я не понимаю, что происходит. До свидания, Юта.
Мать Сатека продолжала говорить, и я просто нажала на рычаг в самом разгаре ее тирады. Телефон зазвонил немедленно после того, как я положила трубку.
— Можно попросить товарища Крауса?
— Кто его спрашивает?
— Из Института культуры. Товарищ Краус дал нам этот номер для связи.
— Он должен был приехать сюда вчера вечером… — Я подавила вздох. — Но не приехал. Вы звоните по поводу встречи с профессором Михеевой?
— Да, это секретарша с кафедры. Товарищу Краусу было назначено сегодня на…
—…на десять, — продолжила за нее я. — Да, мне это известно. Но он не прилетел. Как видно, проблемы с рейсом. Придется перенести встречу. Пожалуйста, извинитесь от его имени перед профессором Михеевой.
Секретарша помолчала.
— А вы, простите, кто ему будете?
— Буду женой, — ответила я. — А пока что невеста. Я свяжусь с вами немедленно, как только… как только смогу.
Я положила трубку. Подошла Бимуля, сочувственно взмахнула хвостом, ткнулась носом в колени — ничего, мол, все образуется.
— Откуда тебе знать, собака? — Я потрепала ее по мягким ушам. — Ты и самолета-то ни разу не видала. Ну где он может быть, этот Сатек? Почему не прилетел? Передумал брать меня замуж? Но тогда к чему были все эти бесконечные выяснения, что покупать и везти ли фен, телевизор и пианино? Зачем, Бимуля? Ты можешь объяснить?
Но Бима в ответ лишь повела бровями — мол, поди пойми этих кобелей… И в самом деле — права собаченция. Самолета она, может, и не видала, зато уж кобелей — будьте-нате…
Вечером вернулась с работы мама, обняла меня, повздыхала: «Что ж ты ничего не поела, столько всего наготовлено», разогрела обед, и мы молча просидели на кухне до десяти. Никто не звонил — ни в дверь, ни по телефону. Телефон проснулся лишь на следующий день, зато сразу международным звонком — Чехословакия на проводе! Едва заслышав невнятный мужской голос, я закричала в трубку:
— Сатек! Сатек! Где ты?!
— Это не Сатек… — ответили мне. — Это Ян…
— Какой Ян? Где Сатек?
Мужчина на другом конце провода с грехом пополам объяснил, что звонит по просьбе своей соседки Юты Краусовой, матери Сатурнина. Юта позвала его, потому что сама не говорит по-русски, а он, Ян, говорит. Юта очень беспокоится и желает знать, хорошо ли долетел ее сын и как устроился в Ленинграде. Он обещал позвонить ей вчера, но так и не сделал этого. И вообще, было бы хорошо, если бы я позвала Сатека к телефону, чтобы он мог сам поговорить с мамой. Потому что…
— Подождите, — перебила я. — Вы хотите сказать, что Сатек вылетел из Праги в Ленинград?
— Конечно, вылетел.
— Когда?
— Как это когда? — удивился сосед. — В этот… в понедельник В понедельник днем. Он звонил домой из Рузине.
— Откуда?
— Из Рузине, из аэропорта. Можно позвать его к трубке?
Я глубоко вздохнула:
— Нет, нельзя. Он не приехал сюда. Он также не пришел на встречу с профессором Михеевой. Я не знаю, прилетел ли он в Ленинград. Извините за дурные новости…
Трудно описать, в каком состоянии я положила трубку после этого разговора. Если Сатек вылетел-таки из Праги, то он, видимо, не собирался меня бросать! В самом этом факте заключалось немалое облегчение — иначе мне пришлось бы смириться с репутацией невесты, от которой дважды сбежали на самом пороге ЗАГСа. Но, с другой стороны, вылетев из Праги, он несомненно оказался в Пулково — ведь самолет прибыл туда по расписанию. Значит, что-то случилось по дороге из аэропорта на Крюков канал!
Воображение рисовало мне картины одна другой страшнее. Сатек берет такси и попадает в автокатастрофу. Сатека похищают грабители, прельстившиеся его багажом. Сатека избивают возле моего дома хулиганы… Сатек на больничной койке… в милицейском участке… в морге…
Я снова схватилась за телефон — обзванивать милицейских дежурных, приемные покои больниц и — боже милостивый! — морги. Нигде ничего. Ни первые, ни вторые, ни третьи слыхом не слыхивали о молодом светловолосом мужчине, подходящем под описание Сатека, который поступил бы к ним живым или мертвым в течение последних двух суток. К несчастью, из этого нельзя было сделать никаких окончательных выводов: как выразился один из дежурных ментов, «бывает, что труп находят только весной…»
Уже поздней ночью я положила трубку и поползла спать. Ощущение было такое, будто по мне долго ездил бульдозер. Телефонная прогулка по моргам и больницам — не лучшее времяпрепровождение. Те несколько минут, когда дежурный шелестит страницами, чтобы дать тебе ТОТ или иной ответ, отнимают от твоей жизни как минимум несколько месяцев, если не лет. А если еще умножить этот кошмар на общее количество звонков…
Мне кое-как удалось заснуть, но звонки продолжались и во сне, вернее, в кошмарах. Я так и видела его тело, присыпанное снегом, в кювете Московского шоссе или в лесной канаве недалеко от дороги — мертвые открытые глаза, спутанные волосы, смерзшиеся на ране, искаженное предсмертной мукой лицо… Такие находки обычно происходят по весне, когда начинает подтаивать, — менты-шутники называют их «подснежниками».
Проснулась я поздно, в одиннадцатом часу и долго лежала с открытыми глазами. Завтра десятое февраля — день нашей свадьбы. Завтра должно состояться торжественное бракосочетание Александры Романовой и Сатурнина Крауса во Дворце на набережной Красного Флота. Вернее, не «должно», а «должно было». Потому что ничего уже не состоится. Я снова не вышла замуж. Сердобольная тетенька в шиньоне наверняка покачает своей сложносочиненной прической и скажет что-нибудь вроде: «Ну вот, я так и думала. Эти иностранцы только морочат головы нашим девчонкам. И если бы только головы. Небось, сидит сейчас эта дура с пятимесячным животом и льет горючие слезы. Хорошо хоть парень был чех, а не негритос какой из Африки — ребеночек будет похож на человека… А все равно жалко девочку».
Жалко?! А кому не жалко? Кому не жалко, ты, расфуфыренная толстая взяточница с накладными волосами? И то, что у меня нету пятимесячного живота, ничуть не облегчает дела… Мне действительно стало ужасно жалко себя. Плакать лежа удобней, чем в вертикальном положении: слезы не попадают в рот и не так течет из носа. Но это удобство окупается лишь в первые десять — пятнадцать минут, потому что потом подушка намокает и становится совсем неприятно. Тактичная собака Бима позволила мне выплакаться: не тыкала носом, призывая выйти на прогулку, не повизгивала и не топала по паркету нарочито тяжелыми шагами, а лишь деликатно вздыхала на коврике рядом с кроватью.
Чертов телефон молчал, и я то благодарила за это судьбу — ведь новости могли оказаться страшными, то кляла ее, потому что нет пытки ужасней, чем бесконечное ожидание ужаса. Мы с Бимулей вышли и бродили по набережной Фонтанки, пока собака, замерзнув, сама не потянула меня домой. Я тоже порядком окоченела, но лучше уж окоченеть, чем сидеть там, ожидая звонка из милиции… Я почти завидовала мертвому Сатеку, который, наверно, тоже коченел сейчас где-то под снегом. Зато, вернувшись домой, сварив кофе и впитав каждой клеточкой тела его блаженное тепло, я вдруг ощутила себя последней сукой: в самом деле, можно ли кофеи распивать и греть ноги в теплой собачьей шерсти, когда он лежит там в мерзлой канаве один-одинешенек…
Я снова взялась за трубку, чтобы еще раз пройтись по уже знакомым номерам. В одном из участков на меня накричали:
— Девушка, вы вчера уже звонили! Сколько можно?!
— А вы найдите, и я звонить перестану… — пообещала я.
— Вот ведь странный народ! — удивился дежурный. — Вы же и сами не обрадуетесь, когда найдем.
«Когда найдем», — отметила я про себя, — не «если», а «когда»…
Телефон зазвонил в третьем часу дня, но я не смогла заставить себя снять трубку. Просто стояла рядом, словно окаменев, и слушала его сердитые, а затем обиженные звонки. Аппарат помолчал, собираясь с силами, и зазвонил снова.
«Ответь! — скомандовала я самой себе. — Ответь, иначе ты потом совсем сбрендишь, гадая, кто это и почему…»
— Алло…
— Саша? Это Саша?
— Да. А вы кто?
— Это Ян, сосед Юты. Сатек жив!
Я опустилась мимо стула на пол. Мне казалось, что я лечу, а вокруг взрывается фейерверк
— Алло, Саша! Ты слышала? Сатек жив!
— Где… он… — хрипло выдавила из себя я. — Где он?!
— В тюрьме! В Праге! Сатек заарестован!
— Арестован?! За что? Почему?
— Не ведам… — немного помолчав, ответил сосед. — Говорят, СТБ…
На линии послышался щелчок, разговор прервался.
— Ян! Ян! — истерически завопила я в молчащую трубку. — Яа-а-ан!..
Там снова что-то щелкнуло и характерно-деловой голос телефонистки международной связи произнес:
— Разговор закончен, разъединяю.
Я осторожно положила трубку на рычаг и повернулась к Биме, которая вот уже полминуты стояла рядом и, пользуясь временным совпадением уровней роста, вылизывала мне щеку.
— Бимуля, он жив! Слышишь? Он жив!
Собака радостно взмахнула хвостом и припала на передние лапы. Весь ее вид говорил, что подобную новость следует отпраздновать не иначе чем двумя, а то и тремя сосисками.
— Жив, но в тюряге! — охладила я собачьи ожидания. — Погоди, Бима… Как он сказал? СТБ? По-моему, Сатек говорил, что это чешский филиал КГБ… или я что-то путаю?
Походив с минуту-другую по коридору, я опять взялась за телефон. Вся моя жизнь в эти дни была прочно завязана на этот чертов аппарат страхов и надежд…
— Константин Викентьевич?
— Саша? Рад тебя слышать! — приветствовал меня полковник. — Хотя, если честно, не ожидал… Или ты все-таки решила пригласить меня на свадьбу?
— Что такое СТБ?
— Сберегательно-Транспортный Банк? — игриво предположил Новоявленский.
Судя по интонации, у него явно было превосходное настроение. Получил внеочередное звание? Из генерал-майоров в генерал-полковники? Я постаралась говорить по возможности сухо, по-деловому.
— Мой жених не прилетел в Питер, Константин Викентьевич. Вернее, не долетел. Арестован в Пражском аэропорту непосредственно перед рейсом. Говорят, это сделали люди из СТБ. И вряд ли речь идет о банке. Вы ведь, наверно, в курсе, что означает это слово в Чехословакии?
Полковник долго молчал, а когда заговорил, в его голосе слышалась растерянность, причем не наигранная — я достаточно хорошо знала человека, чтобы понять это.
— Саша, поверь, мне ничего не известно о его аресте. Обещаю выяснить как можно скорее и перезвонить тебе. Хорошо?
— Хорошо.
Он действительно перезвонил — около половины пятого, когда мама еще не вернулась с работы.
— Увы, Саша, ты права. Сатурнин Краус арестован в аэропорту при попытке покинуть страну…
— Что за чушь, Константин Викентьевич? Какая «попытка»? Он летел по официальному приглашению, с полностью оформленными бумагами.
Полковник смущенно кашлянул.
— Я в курсе, Саша. Просто зачитал тебе официальную формулировку ответа на мой запрос. Фактически так оно и есть. Он ведь садился в самолет? Садился. Собирался покинуть Чехословакию? Собирался.
— Но это звучит так, будто… Подождите, вы хотите сказать, что его арестовали за попытку поступить в аспирантуру Ленинградского института культуры?
— Нет, конечно, — вздохнул Новоявленский.
К сожалению, все намного серьезней. Твой жених был членом ВОНС.
— Чего-чего?
— ВОНС — антисоветская организация в Чехословакии, направляемая из-за границы. Расшифровывается как «Комитет по защите несправедливо осужденных». Близки идеологически к «Хартии-77».
Я набрала в грудь воздуху и затем долго-предолго выдыхала его наружу. Никогда прежде мне не приходилось слышать ни о каких чешских хартиях, партиях, комитетах и несправедливо направляемых из-за границы осужденных.
— Послушайте, Константин Викентьевич, я понятия не имею, о чем вы говорите. Большинство этих слов мне вообще незнакомы. Вы прекрасно знаете, что Саша Романова в принципе не интересуется политикой. Какого же черта политика вдруг заинтересовалась Сашей Романовой?
— Ну, Саша, ты пока на свободе. Арестован твой жених.
— Спасибо за напоминание, товарищ полковник, или кто вы там теперь по званию. Мой жених. Мой, вы слышите? Мой жених. А это значит, что я уже не на свободе. Вам понятно?!
Последнюю фразу я прокричала так, что Бима проснулась, вскочила с коврика и на всякий случай зарычала.
— Спокойней, Саша, спокойней… — тихо проговорил Новоявленский.
— Никакого «спокойней»! — продолжала кричать я. — Никакого «спокойней»! Я не знаю, каким членом был Сатек, когда жил в Праге и учился в университете! Но он вот уже год проживает в глубокой провинции, где нет и в помине никаких комитетов, партий и хартий, работает там автомехаником и готовится к аспирантуре в Ленинграде — опять-таки вдали от этих хартий-шмартий. И этот факт известен вам намного лучше, чем мне. Значит, его арестовали по другой причине. Признайтесь — это ведь ваших рук дело, да? Вы думаете, что так еще крепче посадите меня на крючок, да? Вы ошибаетесь, слышите?! Освободите его немедленно! Немедленно! Иначе… иначе я не знаю, что сделаю…
Мне стало трудно дышать от боли и ярости, и я на секунду приостановилась перевести дух.
— Ты все сказала? — поинтересовался полковник
— Нет!
— Тогда сделай на минутку перерыв и послушай меня. Клянусь жизнью, что я тут ни при чем. Сама посуди — ну зачем мне сажать тебя на крючок таким дурацким способом? Во-первых, ты и так на крючке. Во-вторых, я кровно заинтересован в том, чтобы ты была счастлива и довольна жизнью. Мы ведь с тобой партнеры, Саша. Ну какой мне расчет вредить тебе? Подумай здраво, очень тебя прошу.
— Секунду…
Я положила трубку рядом с телефоном и отправилась на кухню выпить стакан воды. Скорее всего, Новоявленский не врал: у него действительно не было причин вредить мне.
— Константин Викентьевич! — сказала я уже намного спокойней. — Допустим, так оно и есть и вы лично тут ни при чем. Но ваша контора-то точно при чем. Ведь эта чешская — как ее?.. СТБ? — не более чем ваш филиал. Они ведь пальцем не пошевелят без вашего разрешения.
— Все не так просто, Саша, — задумчиво проговорил полковник. — Во многом ты права, но, знаешь… большие организации, — а моя, как ты говоришь, «контора» — это очень большая организация — всегда не слишком… э-э… однородны. Есть разные группы, разные интересы, разные операции. Бывает, что правая рука не знает, что делает левая.
— Тогда дайте прямое указание, чтобы его освободили и сегодня же посадили на самолет, — сказала я. — У меня на завтра назначена свадьба, вы это понимаете?
— Понимаю… — Он помолчал и добавил: — Но пойми и ты меня. Дать такое указание не в моей компетенции. Могу только пообещать: я сделаю все, что в моих силах. Хотя мои силы далеко не беспредельны.
Я ответила не сразу: слишком много сил — не полковничьих, а моих — уходило на то, чтобы обуздать охватившее меня бешенство.
— Повторяю, я хочу его этим же вечером здесь, у себя на кухне.
— Это невозможно.
— Невозможно?
— Невозможно. Но я обещаю те…
Не дослушав, я швырнула трубку на рычаг. Слепящая энергия ярости погнала меня по коридору в гостиную и назад — в кухню, и снова — в гостиную. Я металась взад-вперед, туда-сюда, как ополоумевший маятник Где-то на фоне заложившего уши шума звенел телефон, скулила испуганная Бима — я не слышала ничего, целиком поглощенная своей бедой и обидой. Проклятая Контора! Ну что я им сделала, что?! Я, как послушная дура, исправно выполняла все их поручения, не прося взамен ничего — ничего, кроме Сатека. И вот — получила! Получила не просто пинок под зад, но еще и с плевком, с издевкой, в самый последний момент! Меня, что называется, опустили — причем изощренно, продуманно, злобно! За что?!
А ведь Сатек знал, что так и случится! Сатек предупреждал меня, сидя вот на этом диване. Как он говорил?.. «Статня безпечность» — что-то в этом роде. А я, идиотка, отвечала, что мне нравится беспечность! Я предлагала ему не заморачиваться по пустякам. Нужно же быть такой дурой…
Он говорил о свободе, а мне казалось, что это пустая философия. Свобода — это не пустая философия, идиотка! Свобода — это конкретная возможность выйти замуж за любимого человека, а несвобода — это когда тебе тоже очень конкретно плюют на фату и дают пинка под зад на пороге ЗАГСа! Сплошная конкретика и никакой философии!
«Андропов — это конец свободе, — сказал тогда Сатек — Прежде он задавит…»
Черт, я в упор не помнила, кого он там, по мнению Сатека, задавит прежде… Главное, Сатек говорил, что потом Андропов возьмется за нас! За нас — это за Сатека и за меня. Я вот, дура, не поверила, а он вот — взялся! Взялся!
Я вдруг обнаружила, что никуда больше не бегу, а стою посреди коридора и смотрю в одну точку — туда, где на комоде лежит подаренный полковником американский журнал «Тайм» с двумя пожилыми мужчинами на обложке. Андропов. «Таких палачей больше нет», — сказал о нем Сатек…
— Сдохни! — радостно прокричала моя ненависть. — Сдохни, палач! Сдохни!..
9
Следующим утром — утром моей несостоявшейся свадьбы — я вышла на кухню и включила радио. Репродуктор скорбно наигрывал мелодии из «Щелкунчика». О смерти генсека пока не сообщали, но я не сомневалась в том, что сравняла счет. Два — два, как в футболе. Око за око, зуб за зуб. Вы убиваете мои свадьбы — я убиваю ваших проклятых генсеков.
От моей вчерашней ярости не осталось и следа — внутри было пусто и гулко. Бимуля не приставала с гулянием — как видно, мама вывела ее перед уходом. Мы праздно просидели на кухне до половины двенадцатого. «Щелкунчик» сменился «Лебединым озером» с вкраплениями из Глазунова и Бородина. Давайте, давайте… если так пойдет и дальше, то впору составлять спецсюиту под названием «Смерть генсека».
Зазвонил телефон.
— Саша, что ты наделала?.. Ты сама-то пони…
Я повесила трубку. Для разговора с Новоявленским у меня не было ни желания, ни сил. Новый звонок. Я не стала подходить. Телефон надрывался, пока не захлебнулся, затем передохнул с минуту и возобновил истерику.
— Пойдем на улицу, Бимуля, — вздохнула я. — Здесь нам, похоже, покоя не дадут.
Мы вышли на Фонтанку, в пасмурный тепловатый февраль. Бима, задорно вздернув хвост, трусила впереди. Еще бы: два гулянья за утро — такое счастье выпадает нечасто. За исключением этого, все вокруг было по-прежнему, словно ничего не произошло — ни отмены моего счастья, ни смерти Андропова. Как сказал бы Троепольский, «Ка-Гэ-Было, так и будет»…
Сверху скупо, как по талонам, сыпалась меленькая снежная крупа — на настоящий снегопад небесная бакалея не соглашалась расщедриться вот уже больше месяца. Не доходя до Маклина, мы повернули направо и дворами двинулись к площади Тургенева. На углу, в укромном, прикрытом от ветра затишке притулился пивной ларек; рядом с ним неопрятным вороньем на снегу чернели десятка два ханыг.
— Эй, милая! Эй, с собакой!
Я обернулась — со скамейки мне призывно махала рукой пожилая тетка в мужском треухе и шубе из искусственного каракуля. В любой другой день я просто прошла бы мимо. Но этот день не был любым.
— Вы меня?
— Тебя, тебя… Подь сюды. Да не бойся, не съем.
— Я не боюсь.
— Молодца! — похвалила меня тетка и, понизив голос, перешла к делу: — У тебя как, трубы не горят? А то мы третью ищем.
Я прислушалась к своим трубам — духовым, водосточным и фаллопиевым. Горят? Не горят? А черт их знает…
— Да ты садись! — прервала мои сомнения тетка. — Тебя как зовут?
— Саша. А это Бима.
Я присела на край скамьи.
— Ну, Бима не в счет, ей не наливают, — рассмеялась тетка. — А я Сильвия. А вон там, видишь, мается — это Машка.
Метрах в десяти от нас, прислонившись к стене и поминутно сплевывая, стояла женщина неопределенного возраста.
— А чего она мается?
Сильвия вернула мне удивленный взгляд.
— Так это… выпить-то надо… Ну что, Саша, сколько у тебя есть?
— Чего?
— Ну не собак же, — с досадой проговорила тетка. — Денег сколько?
Я сунула руку в карман своего старого пальто, которое давно уже годилось только для прогулок с Би-мой, — к счастью или несчастью, но кошелек был там.
— Рубль есть бумажкой… и мелочь…
Сильвия с живейшим интересом заглянула мне через плечо.
— Ты на ладошку-то высыпь… — посоветовала она. — Так считать лехше.
Я высыпала мелочь на ладонь.
— Тю-ю… — прикинула Сильвия. — Тут еще копеек на сорок наберется! Давай, ссыпай…
Она подставила сложенные горстью артритные ладони, и я послушно ссыпала туда всю свою наличность. Сильвия повернулась к подруге и прокричала хриплым сорванным голосом:
— Машка! Машка! Подь сюды! Подь сюды, говорю!
Машка подошла. Вблизи стало видно, что ее колотит мелкая дрожь.
— Давай свой рупь! — скомандовала Сильвия. Набрали всё ж таки, а ты боялась, дурочка. Всегда ж набираем, не мытьём, так мужичьём… Вы тут посидите, девоньки, я быстро обернусь…
Она соскочила со скамьи и мелкой рысцой побежала за угол. Машка по-прежнему стояла рядом, крепко вцепившись в локти сведенными судорогой пальцами.
— Садитесь, что вы стоите? — сказала я.
— Н-не… мог-гу… — выдавила женщина сквозь зубы. — Только… сто… сто… стоя… Не обра… щай… те…
Она махнула рукой, так и не закончив фразы. Подошла Бима, обнюхала скамейку и вопросительно глянула на меня: мол, какого черта ты тут расселась? Мол, не наши это места, совсем не наши… Поди знай, Бимуля, поди знай. Вот сопьюсь от общего разочарования в развитии жизни и буду так же околачиваться по утрам возле пивных ларьков. Буду дрожать такой же похмельной дрожью, как эта вот Машка. От Машки до Сашки — раз плюнуть, пять букв всего по алфавиту. И какая-нибудь более крепкая и опытная Сильвия — или, скажем, Анжелика — будет так же командовать: «Эй, Сашка! Давай сюда свой руль!» И я буду давать, если будет что дать, потому что куда еще деться твари дрожащей. Так нас Федор Михайлович называл — тварями дрожащими, пресмыкающимися втуне… Он ведь тоже проживал где-то тут, по соседству. На себя бы посмотрел, писатель…
Из-за угла вывернулась Сильвия, но побежала не к нам, а к ларьку, причем сунулась не в конец очереди, а сразу в самую головку, к окошку. Кто-то зашумел было с вопросами — куда, мол, прешь, старая? — но его моментально окоротили, отодвинули, заткнули — по-видимому, Сильвию тут уважали и держали за весьма авторитетную личность. Она вернулась к нам, держа в обеих руках три больших кружки пива.
— Вот, девоньки!
Сильвия присела и победно впечатала кружки в грязный снег перед скамьей. Не ожидавшая такого поворота событий Бима испуганно отскочила в сторону.
— Та-ак… — удовлетворенно протянула Сильвия, потерла руки, и выудив из кармана шубы «маленькую» водки, ловким движением скрутила с нее жестяную пробку-бескозырку. — Та-ак…
Она принялась разливать водку по кружкам. Распределение было явно неравномерным: щедро, поменьше, совсем немного.
— Мне много не надо, — на всякий случай встряла я.
— Сама понимаю, не лезь поперек мамки… — строго одернула меня Сильвия и, в последний раз встряхнув опустевшую бутылку, бережно сунула ее обратно в карман. — На-кось, получи…
Я взяла протянутую мне кружку. Вкус был неожиданно приемлемым — наверно, потому, что я ожидала чего-то и вовсе чудовищного. Машка трясущимися руками взяла свою вице-львиную долю и разом выдула треть.
— Ух! — Она с некоторым трудом водрузила кружку на край скамьи и глубоко вздохнула. — Благодать-то какая!
— Благодать, благодать… — ворчливо заметила Сильвия. — Куда бокал ставишь, Машка? Сколько раз говорить: не ставь бокал на скамью, сюда люди садятся. А на людях шубы вот. А ты туда бокал пивной ставишь!
Машка глубоко вздохнула. Она преображалась прямо на глазах: движения обрели уверенность, глаза заблестели, дрожь почти пропала, и даже зубы уже не стучали.
— Да ладно тебе, Слива, — нараспев проговорила она. — Какая это шуба? Дерюжка сраная, а не шуба. Вот у меня шуба была… натуральный песец.
— Ага, песец… — захихикала Сильвия, — сказала бы я, какой у тебя песец, да тут дети рядом.
— И собаки, — напомнила я.
Мне вдруг стало удивительно легко — хоть лети. Наплевать! На всё наплевать! Наплевать на гадости и на беды — на сорвавшееся замужество, на пластиковый пакет в сейфе, на разрыв с друзьями, на смутное будущее — на всё! Линии и черты мира внезапно приобрели невиданную резкость, как будто кто-то крутанул в нужную сторону ручку настройки. Причем это была особенная, благодушная резкость, размывающая уродство до уровня почти неразличимого фона, а красоту, напротив, усиливающая неимоверно. Взять хоть этот замечательно прекрасный снег — неужели всего минуту назад он казался грязным кашеобразным месивом? А ларек… — как красиво смотрится великолепное сочетание голубого и белого пластика на его козырьке!
— И собаки, — подтвердила Сильвия, отрываясь от своего «ерша».
Она поставила кружку в снег и, выудив из кармана газетный сверток, стала разворачивать его на скамье. В свертке оказалась четвертинка черного хлеба и плавленый сырок «Городской».
— Ломай, Сашуня! У тебя руки молодые, чистые…
Я преломила хлеб, ощущая себя как минимум Марией Магдалиной, если уж не ее более знаменитым приятелем.
— Ну что, помянем? — Сильвия снова подняла кружку. — Хороший был хозяин. Интеллигентов прижал, воров посажал, водка дешевше стала.
— А что, уже объявили? — спросила Машка, вдумчиво пережевывая горбушку.
Сильвия покачала головой:
— Не, пока балет по радио играют. Небось, завтра скажут. Может, Романова нашего поставят. А чего — говорят, хороший мужик, на гармошке играет.
— Ну уж прямо на гармошке… — недоверчиво протянула Машка. — Ты что, сама слышала?
— Сама не слышала, люди сказывали.
— Ну да, люди сказывали… Люди тебе и не такого наплетут… — Машка презрительно фыркнула. — На гармошке!.. Черненку поставят, вот увидишь.
— Не, Черненку не поставят, — возразила Сильвия. — Черненка денщиком был при Брежневе. Куда денщику в хозяева?
— Ну и что? Какая разница — денщик или ямщик… — рассмеялась Машка. — Главное, чтоб водка не дорожала. Так, молодая?
— А у меня свадьба отменилась, — совершенно не к месту ответила я, неожиданно для себя самой заливаясь слезами. — Сегодня должны были расписаться… в час дня, на набережной Красного Флота-а-а…
Женщины помолчали. Затем Сильвия сплюнула и сказала:
— Не плачь, Сашуня, не стоят они того.
— Точно, — подтвердила Машка. — Все мужики сволочи. Можно подумать, что бабе много надо — дом да дети… А может, ему рыло начистить, а, Саш? Ты только скажи, я организую…
Час спустя, когда я нетвердой, но решительной походкой возвращалась домой, плаксивого настроения не было и в помине. Колючий «ерш», разросшийся если не до кита, то по крайней мере до акулы, играл и плескался в бурных волнах моей души. Рядом столь же решительно, но намного более твердо вышагивала собака Бима. Как я понимаю, она полностью разделяла взгляды моих новых подруг на любовь вообще и на кобелей в частности. Уже у самой подворотни меня окликнули. Возле притулившейся к тротуару «Волги» стоял Новоявленский.
— Ба, кого я вижу! — воскликнула я. — Константин Викентьевич собственной персоной! Сколько лет, сколько зим… Что же вы без звонка, товарищ полковник? Я сегодня не принимаю, извините. Запишитесь у секретарши, ее зовут Бима. Только учтите: она терпеть не может кобелей, особенно пожилых.
Он сделал шаг вперед и умоляюще вытянул вперед руку.
— Саша, прошу тебя. Нам нужно поговорить. Очень нужно.
— Не нужно.
— Это касается и твоего жениха, — торопливо проговорил Новоявленский.
Я остановилась и окинула его взглядом. Вид у моего партнера был и в самом деле встревоженный. Честно говоря, мне еще ни разу не приходилось видеть таким этого обычно невозмутимого и самоуверенного человека.
— Хорошо, — кивнула я. — Так уж и быть, заходите.
В кухне я усадила полковника на табурет и поставила на плиту чайник.
— Чаю, товарищ полковник?
— Не откажусь… — Он усталым жестом провел рукой по лицу. — Вообще-то, Саша, я уже не полковник…
— Это ваши проблемы, — перебила его я. — Для меня вы навеки полковник. Включить воду? Радио? Пылесос?
— Зачем? — оторопел Новоявленский.
Я вызывающе уперла руки в боки. «Ерш» с неослабевающей энергией бил своим хмельным хвостом в гудящие борта моей головы. Кто бы мог подумать, что полстакана водки вкупе с кружкой пива вызывают такой всплеск воинственного настроения…
— Ну, я не знаю, как вы там справляетесь с подслушиванием. У меня ведь тут повсюду «жучки», правильно?
Полковник вгляделся в меня.
— Ты что, пьяна? Господи, час от часу не легче… — Он вздохнул с оттенком безнадежности. — Нет, Саша, прослушки у тебя уже нет. Я присылал спецов, они сняли все, что поставил в свое время капитан Знаменский.
— Присылали? Когда?
— Когда никого не было дома. Не считая твоей секретарши Бимы. Которая, кстати, оказала парням всемерное содействие всего лишь за сто граммов ливерной колбасы.
— Моя секретарша всегда отличалась повышенной практичностью, — отозвалась я, метнув на Бимулю яростный взгляд.
Собаченция ответила мне преданным взором, в котором, как всегда, читалась радостная готовность отдать за хозяйское благо всю без остатка собачью душу, не говоря уже о хвосте и ушах. Врунья бессовестная! Я налила чаю полковнику и себе.
— Слушаю вас, Константин Викентьевич.
Он снова потер ладонью лицо.
— Ты даже представить себе не можешь, какую кашу заварила.
Я пожала плечами:
— Отчего же, могу. Опыт, как вы знаете, есть. Это ведь не первый мой генсек. И, возможно, не последний.
— Господи, что ты несешь… Нельзя же так — из-за каких-то личных проблем… Как можно сравнивать свое маленькое благо с судьбой страны или даже целого мира? Ты хоть понимаешь, что это несоизмеримо?
— Понимаю, — кивнула я. — Конечно, несоизмеримо. Это для вас мое благо маленькое, а для меня ровно наоборот. Для меня оно намного больше, чем весь этот ваш мир. Я понятно выражаюсь? Если нет, то давайте поясню: я буду вгонять в гроб ваших начальников, пока мне не вернут моего жениха. А поскольку это мое благо, как вы выразились, маленькое, то и проблемы в его удовлетворении для вашего уважаемого несоизмеримого мира не должно быть никакой.
— Вот так, да? — прищурился Новоявленский.
— Ага. Именно так
Мы немного помолчали. Бима вздохнула на своем коврике в коридоре. Видимо, мой давешний взгляд подсказал ей, что просить печенья пока не следует — не дадут.
— Могла бы хоть как-то предупредить… — сказал полковник — Кто ж так делает — наотмашь, без разговоров, вдруг…
— Можно подумать, что смерть когда-нибудь происходит не вдруг, — возразила я. — Это всегда неожиданность, поверьте специалистке. Хотя в данном случае, как говорят, он и так на ладан дышал. Или врут?
Полковник покачал головой.
— Видишь ли, Саша, ситуация очень непростая. Может, со стороны это не так заметно, но в последний год шла борьба не на жизнь, а на смерть. Борьба между новыми людьми и теми, кто беспрепятственно жировал во времена Леонида Ильича. Покойный, пока был жив, прикрывал новых. А сейчас пойдет откат назад, и он уже начался.
— И вы, конечно, с этими «новыми»?
— Конечно. И я, и ты, Саша Романова.
— При чем тут Саша Романова, Константин Викентьевич? — усмехнулась я. — Вы очень верно заметили, что мое дело маленькое. Как говорит одна моя знакомая, бабе много не надо — дом да дети.
— Ну, не надо скромничать… — Полковник тоже усмехнулся. — Если уберут меня — а я, поверь, буду одним из первых, то рано или поздно придет и твоя очередь. Пока о тебе никто особо не знает: люди думают, что ты незначительная фигура, не то осведомительница, не то секретарша. А секретарша известно чего стоит — сто граммов ливерной. Но это именно что пока. Пока наши с тобой общие враги не открыли мой личный сейф. И в этом случае масштаб «незначительной фигуры» тут же вырастет как минимум на порядок
Я хмыкнула:
— Опять угрожаете? Это становится скучным, товарищ полковник. Ну сколько можно? Чуть что, так сразу «сейф и пакет», «сейф и пакет»… Придумайте уже что-нибудь другое.
— И хотел бы, Сашенька, да нету ничего другого, — покачал головой Новоявленский. — Как ни посмотри, ты — единственная защита, на которую я могу положиться. Потому что потом, когда начнутся серьезные разборки, все другие друзья-помощники будут думать каждый о своей шкуре. А вот ты… ты волей-неволей будешь заботиться о моей безопасности. Что ж я — дурак, чтобы отказываться от такого верного телохранителя? Да еще и в такое сложное время… Нет уж… — Он посмотрел мне в глаза. — Знаешь, скажу честно, как на духу: в последние недели я уже подумывал уничтожить этот пакет с уликами, сделать тебе такой свадебный подарок. Чисто по-человечески, чтобы ты уверенней себя чувствовала. Чтобы не висела над тобой эта угроза.
— Ну, и за чем же дело стало?
Он грустно улыбнулся:
— Так свадьба-то отменилась, а с ней и подарки…
— Угу… отменилась. Спасибо, что напомнили.
Я понимала, что этот седой волчище вызванивал меня все утро и, не дозвонившись, прибежал сюда лично не для того, чтобы плакаться о своей несчастной судьбе. Ему что-то нужно, причем срочно. Значит, и у меня есть шанс выторговать у него Сатека.
— Константин Викентьевич, зачем вы здесь? И как все эти ваши проблемы касаются моего жениха?
Полковник допил чай и отодвинул чашку. Похоже, и он решил, что настало время перейти к делу.
— Прямой вопрос — прямой ответ. Нынешняя проблема твоего жениха прямо и непосредственно связана с моими проблемами… — Новоявленский помолчал, барабаня пальцами по столу. — Видишь ли, Саша, отдел, который я возглавляю, занимается деликатными операциями по устранению нежелательных элементов…
— Вы хотите сказать — убийствами?
Он пожал плечами:
— Называй как угодно, не в словах тут дело. Тебе выпало участвовать в некоторых операциях, которые требовали именно твоего уникального умения. Но, как ты понимаешь, обычно мы действуем куда более простыми методами.
— Гирькой в подворотне? — предположила я.
— В том числе… — невозмутимо ответил Новоявленский. — Пожалуйста, перестань язвить, мы говорим о серьезных вещах. Для нашего с тобой дела важно, что отдел работает не только на территории Союза. Бывают и заграничные командировки.
— Что же вы меня все время таскали по всякому захолустью? — не удержалась я.
Полковник столь же невозмутимо кивнул:
— Всему свое время, Саша… — Он помолчал и продолжил: — Но вернемся к твоему жениху. Вчера после разговора с тобой я нажал на кое-какие рычаги и выяснил, кто дал приказ о его аресте. Это некто Биляк — возглавляющий специальный отдел в чешской госбезопасности. Что выглядит странно, поскольку Биляк вообще не занимается теми вопросами, по которым якобы арестован твой парень. В то же время сам он — я имею в виду Биляка — с некоторых пор находится в сфере моих интересов и, скорее всего, знает об этом. Понимаешь, как всё завязано?
— Нет, — призналась я. — Какое отношение имеет Сатек к вашим проблемам с чешской госбезопасностью?
— В том-то и дело, что никакого, — вздохнул Новоявленский. — Я представляю себе, что события развивались следующим образом. Биляк узнает, что ему грозит опасность от моего отдела, и начинает искать способ воздействовать на меня лично, чтобы эту опасность нейтрализовать или хотя бы отодвинуть. И вот он обнаруживает, что я неизвестно почему принимаю участие в судьбе некоего Сатурнина Крауса: вызываю его в Ленинград, устраиваю ему аспирантуру, не препятствую его женитьбе на советской гражданке… Причина моего интереса Биляка ничуть не волнует — важно, что такой интерес существует и что, арестовав Крауса, да еще и столь издевательски, он наносит удар по моим планам. Его расчет при этом весьма прост: я стану просить за твоего Сатека и буду вынужден отплатить услугой за услугу. Логично?
— Логично.
— В той ситуации еще можно было решить вопрос относительно легко, — с явной досадой проговорил полковник, — но тут на сцену выскочила Саша Романова во всей своей истерической красе и спутала карты.
— Я спутала карты?! Это как же?
Новоявленский сердито хлопнул ладонью по столу.
— Да вот так же! Одно дело, когда этот мошенник Биляк знает, что за моей спиной стоят реальные силы, с которыми ему не справиться, и совсем другое — сейчас, когда будущий расклад неизвестен даже господу богу! Уже сегодня утром было ясно, что он заломит непотребную цену.
Я растерянно молчала. Кто ж мог знать, что всё так обернется? Полковник выжидающе смотрел на меня через стол.
— Вы что, разговаривали с ним? — спросила я.
— С кем, с Биляком? Конечно. Я ж тебе объяснил: твой Сатек у него в заложниках. С кем же теперь вести переговоры, если не с ним? Ну?
— Что «ну»?
— Теперь спроси меня, чего он хочет.
— Кто?
— Кто-кто! Папа римский! — вышел из себя Новоявленский. — Ты какая-то заторможенная… Что ты пила?
— Водку с пивом у ларька… — жалобно ответила я.
Мне и в самом деле было не слишком хорошо. «Ерш» то ли уплыл, то ли сдох, оставив после себя тупую головную боль.
— С ума сойти можно… — протянул полковник. — Дожили. Водку с пивом у ларька… Прими аспирин.
— А чего он хочет, Константин Викентьевич?
— Кто, аспирин? Ничего не хочет. Помогает бесплатно.
— Да нет. Биляк этот — чего он хочет?
Новоявленский вздохнул и снова побарабанил пальцами по столу.
— Биляк хочет меня.
— Вас? Что это значит?
— Он настаивает на моем приезде в Прагу. Говорит, что может предъявить доказательства своей невиновности. Еще вчера это было бы неслыханной наглостью: если у тебя есть доказательства, привези их сюда сам! Но сегодня я уже не могу поставить его на место. Вчера он был слаб, а я силен. А сегодня всё перевернулось… — Полковник наклонился над столом и посмотрел на меня в упор. — И знаешь, Саша, теперь я не могу не поехать. Не из-за твоего жениха, а совсем по другой причине. Этот мерзавец Биляк знает, что у меня на руках улики против него. И если в результате нынешних перемен я ослабну еще больше, он непременно позаботится о том, чтобы меня прикончить. Значит, нужно опередить его прямо сейчас…
«Так вот зачем я ему понадобилась! — подумала я. — Это понятно даже без аспирина, который помогает бесплатно. Но я-то не такая альтруистка. Я помогаю за плату. Баш на баш…»
— Значит, вы хотите, чтобы я поехала с вами туда… — полувопросительно проговорила я.
— Именно, — подтвердил Новоявленский. — Прага — его территория, там у него все преимущества. Вдобавок в нынешней ситуации я не могу полагаться почти ни на кого из своих коллег и подчиненных. А тебя никто не заподозрит — какой спрос с секретарши?
— Сто граммов ливерной колбасы… — вспомнила я.
— Ага, — кивнул он. — Вот и получается, что помочь нам можешь только ты.
— Нам — это кому? — переспросила я для большей уверенности.
— Как это кому? — удивился полковник. — Мне и Сатеку. Что скажешь?
Я сходила за аспирином, вернулась и приняла две таблетки.
— У меня одно условие, Константин Викентьевич…
Он отмахнулся:
— Понятно, понятно… Твой жених выходит на свободу.
— Не выходит, а вылетает, — поправила его я. Его должны посадить на самолет Прага — Ленинград. Я начну действовать не раньше, чем Сатек приземлится в Пулково.
Новоявленский немного подумал и протянул мне руку:
— По рукам!
Мы скрепили договор рукопожатием. Полковник посмотрел на часы и встал.
— Что ж, Александра Родионовна… вынужден распрощаться с вами и с вашей верной секретаршей. Мне сегодня еще нужно успеть выправить заграничный паспорт по крайней мере для одной из вас. Вылетаем завтра вечером. Я позвоню позже…
Я закрыла за ним дверь и пустилась в пляс под испуганным собачьим взглядом. Если до этого Бима еще не была уверена, что хозяйка окончательно сбрендила, то теперь этот танец наверняка рассеял все ее сомнения. Могла ли я еще утром предполагать, что к вечеру всё повернется самым наилучшим образом? Колючий «ерш» в кружке подогретого зимнего пива обернулся настоящей золотой рыбкой! Сатек выходит на свободу — не завтра, так послезавтра! И главное, мы увидимся с ним очень скоро!
Да, Дворец бракосочетаний упущен — ну так что? Распишемся в обычном ЗАГСе! А кроме того, учитывая склонность тетеньки с шиньоном к применяемым Сатеком методам убеждения, можно надеяться, что и Дворец упущен не то чтобы насовсем. Наплетем ей про нелетную погоду, про аварию, про внезапную болезнь заграничного родственника, приложим к этому рассказу парочку зеленых бумажек, и вполне возможно, что дело устроится само собой… Я бухнулась рядом с Бимой на ее законный коврик и принялась трепать недоумевающую собаку по теплым шерстяным ушам:
— Бимуля, лапушка, все будет в порядке! Слышишь, собаченция? Сатек приезжает! А мы тут с тобой разревелись-расскулились…
Бима реагировала сдержанно, чтоб не сказать — недовольно. Мол, если кто тут и скулил, то только не четвероногие. Мол, никакая радость не может служить оправданием столь бесцеремонного вторжения на суверенный собачий коврик — особенно если эта радость связана с приездом кобеля. Потому что кобели, хотя и бывают иногда полезными, но в общем и целом скроены из крайне ненадежной материи…
Но меня недовольство ближайшей подруги нисколько не расстраивало: как известно, мало кто так склонен к зависти, как наши ближайшие подруги. Нужно сказать, что, помимо большой радости, связанной с приездом новообретенного Сатека, была еще и другая, меньшая, но тоже довольно волнующая: мне предстояла первая в жизни поездка за границу! Из всех более-менее знакомых мне людей за границей побывал разве что мой бывший преподаватель Анатолий Анатольевич Тимченко. И всё — точка, конец сообщения. А остальные не то что не бывали, но даже и помечтать не могли о подобном чуде. Да и я никогда не верила, что это произойдет именно со мной. И вот — пожалуйста: завтра я лечу за границу! Мне делают загранпаспорт! Уму непостижимо! Ну как тут не сплясать?!
К сожалению, я не могла поделиться этой малой радостью с мамой — мне пришлось скормить ей очередную ложь о внезапном вызове в «московскую аспирантуру». Но маме вполне хватило и большой новости о чудесном воскрешении пропавшего жениха. Тут даже не пришлось много лгать: я честно поведала ей об аресте Сатека в пражском аэропорту — конечно же, ошибочном, но сделанном, как и все подобные аресты, втайне от родных и близких.
— Его, наверно, приняли за кого-то другого, а пока разобрались, прошло несколько дней, — сказала я маме. — Но Сатек сам все опишет нам в деталях, когда приедет. Объясни ему, пожалуйста, что я вернусь через день-два. Честно говоря, эта чертова аспирантура начинает действовать мне на нервы, и я уже подумываю, не бросить ли ее…
Последнюю фразу мама пропустила мимо ушей она уже давно никак не реагировала на мои путаные объяснения по поводу «командировок». Только поинтересовалась, нельзя ли отложить эту срочную поездку. Все-таки свадьба — достаточно веская причина…
— Нет, мамуля, никак нельзя… — ответила я, глядя в сторону. — Там очень важный проект. Но это ведь не на годы, правда? Я вернусь всего через день после приезда Сатека, максимум — через два. Скажи ему, пусть пока утрясет вопрос с Дворцом бракосочетаний. У него там хороший контакт с администраторшей… Ну и, конечно, надо срочно бежать к профессору Михеевой, объяснять и извиняться за опоздание. В общем, скучать парню не придется…
Сутки спустя, соответственно разодетая и намазанная, я сидела рядом с Новоявленским в салоне международного лайнера «Аэрофлота», и мне все так же хотелось ущипнуть себя, чтобы еще раз проверить, не сон ли это всё. И я не делала этого только потому, что опасалась и в самом деле проснуться — только не в лайнере, а в своей комнате на Крюковом канале, в утренней февральской темноте, без Сатека, без будущего и без надежды.
— Да не волнуйся ты так, Саша, — сказал полковник, с профессиональной чуткостью определив мое состояние. — Подумаешь, заграница. Везде всё то же и оно же, поверь.
О, нет! Я поняла, что это не так, едва мы сошли с трапа самолета. Все тут казалось ярче, цветистей, улыбчивей — и улицы, и интерьеры, и люди, и даже погода. Кстати говоря, и сам Биляк, который поджидал нас в холле гостиницы, выглядел отнюдь не таким мерзавцем, каким его описывал Новоявленский. Это был мужчина среднего возраста и среднего роста с умным продолговатым лицом и вежливыми манерами. Высокий лоб с глубокими залысинами, черные волосы, смеющиеся глаза за стеклами очков в металлической оправе. Я невольно засомневалась, что такой человек заслуживает ликвидации, и мне пришлось специально припомнить, что этот милый дяденька всего четыре дня назад взял в заложники и продолжает удерживать моего жениха.
Полковник представил меня как секретаршу; Биляк галантно поклонился и поцеловал даме ручку. По-русски он говорил превосходно, лучше, чем Сатек.
— Александра? Чрезвычайно рад знакомству. Могу я называть вас Сашей? Спасибо! Чрезвычайно вам благодарен, чрезвычайно. А я — Вацлав. Пожалуйста, зовите меня просто Вацлав… договорились?
Мы уселись в мягкие гостиничные кресла; Биляк подозвал официанта, и тот незамедлительно исполнит заказ — апельсиновый сок мне и по бокалу пива мужчинам. Беседа вертелась вокруг смерти Андропова: преемник, похороны, былые заслуги и прочие веселые темы. Утренние газеты опубликовали некролог, так что теперь я отчасти ощущала себя Борисом Годуновым: на меня отовсюду смотрело заключенное в черную рамку лицо невинно убиенного мною — пусть и не царевича, но все же генсека. Правда, в отличие от безумного царя, я не кричала «Чур, чур меня!», а лишь улыбалась и помалкивала, как и повелел полковник По сценарию я должна была извиниться и покинуть высокие договаривающиеся стороны, как только речь зайдет о погоде. Новоявленский не желал, чтобы я присутствовала во время делового разговора, объяснив это, как обычно, соображениями моего же блага. Поэтому я поднялась с места, едва лишь он принялся жаловаться на бесснежную ленинградскую зиму.
— Возвращайтесь скорее, Саша, — попросил Биляк — Мы будем без вас чрезвычайно скучать.
Я милостиво кивнула.
По словам полковника, деловая часть беседы не должна была продлиться больше десяти минут, но мне не хотелось назад, в кресло. Огромный холл гостиницы вмещал уйму интересных вещей. На прилавках газетного киоска сверкали глянцем невиданные иллюстрированные журналы, блистал экзотическими бутылками бар, на стильно оформленной тумбе пестрели театральные афиши — видимо, здесь продавались билеты на спектакли и концерты; в высоких окнах сияла ярко освещенная площадь — чистенькая и красивая, как картинка из детской книжки. Тесно прижавшись друг к другу, стояли увенчанные затейливыми фронтонами дома — узенькие, в три-четыре окна шириной и в три-четыре этажа высотой. По брусчатке прогуливались парочки, светились окна кафе и ресторанов. Я смотрела во все глаза и не могла насмотреться. Когда я вернулась, мои кавалеры уже сидели молча, насупившись. Судя по их виду, согласием здесь и не пахло.
— Долгонько же вы, Александра Родионовна, — недовольно заметил Новоявленский.
— Извините, засмотрелась в окно… — я улыбнулась Биляку. — Первый раз в Праге, сами понимаете.
— Конечно, Саша, конечно! — Биляк вскочил, просияв улыбкой. — Злата Прага — что может быть красивей? Разве что царственный Петербург.
Полковник сухо кивнул и не преминул внести поправку:
— Наш город называется Ленинград.
— Само собой, товарищ генерал, — всплеснул руками Биляк. — Ленинград, колыбель трех революций. У нас это в школе проходят. Чрезвычайно полезное знание, чрезвычайно!
— Перестаньте паясничать, Вацлав, — еще суше попросил Новоявленский и тоже поднялся с кресла. — Я обдумаю вашу просьбу. А пока…
— Понимаю, понимаю… — подхватил Биляк. — Вы с дороги, устали, надо отдохнуть. Позвольте порекомендовать хороший ресторан? Там делают чрезвычайно вкусные бифштексы… Нет? Ну что же, вы у нас частый гость, знаете не хуже меня, аборигена. Ха-ха-ха… Жду вашего звонка, Константин Викентьевич. Сашенька, позвольте ручку… до скорой встречи!
Он снова облобызал мне руку, подхватил пальто и пошел к выходу ровной неторопливой походкой.
— Прохиндей чертов, — мрачно сказал полковник, глядя Биляку в спину. — Пойдемте, Саша. Наши номера рядом. Не возражаете отдохнуть с часок перед прогулкой?
Я пожала плечами:
— Нет проблем. Как прошла беседа?
— Потом, потом, — отмахнулся Новоявленский. — Я зайду за вами…
Мы вышли через два часа. Полковник был по-прежнему не в духе, но даже его кислая физиономия не могла испортить мне праздника по имени Прага.
— Спасибо, Константин Викентьевич…
— За что?
— За то, что привезли сюда. За эту прогулку. Удивительная красота.
Он сухо кивнул.
— Без прогулки не обойтись, Саша. Поговорить в гостинице нет никакой возможности. В здешних номерах «жучков» больше, чем тараканов.
— Я не видела там никаких тараканов.
— Есть, еще как есть. И тараканы, и крысы. Ты просто сейчас обалдела с непривычки, вот и видишь сплошные огни да блёстки. Поверь мне, это всего лишь декорация. А подойдешь поближе — изнанка из дерюги, картон, фанера и гвозди торчат.
— Фу, Константин Викентьевич, — запротестовала я. — Зачем же так неромантично?
Он остановился и приблизил свое лицо к моему.
— А мы сюда не отдыхать приехали, Александра Родионовна. И осмотр романтических достопримечательностей не является нашей ближайшей целью. Как поняли? Прием.
— Поняла, — послушно кивнула я. — Извините, забылась.
— Вот и хорошо. Возьмите меня под руку и говорите негромко.
В воздухе пахло рекой. Какая тут река? Ах да, Влтава…
— Ты должна сделать это прямо сейчас, — сказал Новоявленский.
— Сделать что? — не поняла я.
— То, ради чего ты здесь. Убрать Биляка. Прямо сейчас. Ты видела его вблизи, ты можешь хорошо его представить, а значит, можешь и убрать. Сделай это.
Я остановилась.
— Вы что, Константин Викентьевич, забыли наш уговор? Сначала Сатек, потом работа.
Он отрицательно покачал головой:
— Не получается. Этот гнус хочет слишком много. Пойдем, пойдем… возьми меня под руку и не кричи так.
Мы снова двинулись вперед, но теперь я уже не видела вокруг ничего — ни аккуратных домиков, ни скульптур, ни брусчатки.
— Я не понимаю смысла того, что вы просите. Ведь освобождение моего жениха зависит от этого человека. Зачем тогда убивать его до того, как Сатек вышел на свободу? Пусть сначала…
Новоявленский нервно сжал мою руку:
— Саша, есть кому освободить твоего жениха и без Биляка. Возможно, это займет немного больше времени, но…
— Не держите меня за дуру, Константин Викентьевич, — тихо, но твердо проговорила я. — Повторяю: я палец о палец не ударю, пока Сатурнин Краус не будет сидеть в самолете по дороге в Ленинград, город трех революций. Запомните это раз и навсегда.
Какое-то время мы шли молча, затем полковник вздохнул:
— Не хотел тебе рассказывать, но, видимо, без этого никак. Биляк настаивает на том, чтобы представить мне свидетельства своей невиновности. А свидетельства эти находятся, на минуточку, в Вене.
— То есть в Австрии?
— Именно. Биляк настаивает на том, чтобы я приехал в Вену и поговорил с определенным человеком. Ты спросишь, почему этот человек не может приехать сюда сам? Резонный вопрос. Он якобы не может покинуть Австрию из-за полицейской слежки. Ты скажешь, что все это крайне подозрительно выглядит: сначала заманить меня в Прагу, а затем вытащить в Вену по фальшивым документам…
— Почему по фальшивым?
— Да потому, что у меня, Саша, тоже есть начальство. И никто не давал мне разрешения навещать капстрану. Я и сюда-то приехал в обход действующих правил… В общем, мне категорически не нравится то, о чем просит Биляк. Мы не можем пойти на это, понимаешь? Это как сунуть голову в петлю.
— Ну уж и в петлю… — усомнилась я. — Этот человек вовсе не выглядит смертельно опасным, хотя и влюблен в слово «чрезвычайно». Вежливый, доброжелательный, галантный. И потом, если его доказательства действительно верны, то никто не обвинит вас за попытку в этом убедиться. Я не права?
Мы вышли на набережную, и я узнала знаменитый мост, не раз виденный мною в фильмах и на открытках. Но сейчас мне было не до моста.
— Не выглядит опасным… — раздраженно повторил полковник. — Ну-ну… Ладно, если уж начал рассказывать, то придется и дальше просвещать тебя относительно деятельности галантного товарища Вацлава Биляка. Каковую деятельность я искренне надеюсь завершить еще сегодня вечером с твоей высокопрофессиональной помощью… Слушай…
Новоявленский покрутил головой, словно не веря, что ему приходится раскрывать подобные секреты перед таким мелким чайником, как я. Но, как видно, ему действительно очень хотелось убедить меня покончить с этим Биляком.
— Таким службам, как наша, часто нужны деньги, много денег. В том числе и для работы за рубежом. Иногда их можно просто перевести на банковский счет из советского Госбанка в заграничный. Иногда их можно доставить наличными в чемодане прямиком из Москвы. В обоих вариантах источник этих средств относительно легко установить — в первом случае очень просто, во втором сложнее, но тоже осуществимо. Однако бывают ситуации, когда мы не хотим пользоваться такими вот мечеными деньгами. Тогда они не должны вообще засвечиваться у нас — никак, никоим боком. Чтобы потратить эти деньги на Западе, их надо и взять на Западе. Понимаешь суть проблемы?
— Допустим.
— Ну если допустим, то скажи тогда, где их взять.
— Деньги-то? Ну, не знаю… заработать. Как у них там зарабатывают, на капиталистическом Западе? Бессовестной эксплуатацией трудящихся масс. На заводах, домах, пароходах. Так?
— Так, — одобрил Новоявленский, — правильно мыслишь. Но и эти деньги не всегда подходят. Наши западные владельцы заводов, газет, пароходов — люди легальные, законопослушные. Соответственно, и средства их можно потратить только на легальные нужды. Скажем, помочь братской партии. Или организовать демонстрацию. Или заплатить за журналистское расследование. Но все это в рамках закона — иначе владельцы заводов перестанут быть владельцами, потому что сядут в тюрьму. Правильно?
— Правильно. Но в чем проблема-то?
Полковник вздохнул:
— А в том, что время от времени требуются деньги на действия другого рода — не слишком законные или незаконные вообще. Знаешь, иногда благие дела не сделаешь чистыми руками… Вот и приходится иметь дело со всякой швалью, с преступниками и убийцами. Или с теми, кто пока еще вне закона, но сражается за свободу своего народа. Разные бывают нужды. Откуда взять такие деньги?
Я пожала плечами:
— Не знаю… Ограбить банк?
— О! — удивился Новоявленский. — Опять в точку! Ограбить банк. Вот этим — или примерно этим — и занимается твой доброжелательный знакомый Вацлав Биляк.
Тут уже настала очередь удивиться мне:
— Биляк грабит банки? По-настоящему? Вы шутите…
— Ну, не совсем Биляк и не совсем банки. Он манипулирует группой довольно неприятных специалистов, которые работают в Западной Германии и в Австрии. Большей частью они заранее договариваются с хозяевами крупных ювелирных и антикварных магазинов. Люди Биляка грабят, хозяева получают страховку плюс долю от награбленного. Внакладе не остается никто, кроме страховой компании. Некоторые хозяева поддаются не сразу… но если хорошенько надавить, то соглашается любой, а давить эти специалисты умеют профессионально. Бывает, что договориться не получается никак — ну, тут уже в ход идут другие методы. Добычу переправляют в дипломатической почте куда подальше и реализовывают там. Вот тебе и деньги — неотслеживаемые, нелегальные, годные для любой грязной работы.
— Лихо…
— Ага, — подтвердил полковник — Тут-то, Саша, и начинается наша с тобой тема. Некоторое время назад выяснилось, что часть награбленного уходит на сторону. У товарища Биляка обнаружился не только дворец в Карловых Варах, но и роскошное шале в Швейцарских Альпах, вилла на Лазурном Берегу и еще кое-какие мелочи. А затем цацки из мюнхенских и гамбургских магазинов стали всплывать у нас — в Москве, в Питере, в Киеве, в Тбилиси… Ты верно отметила его вежливость: товарищ Биляк знает, что надо делиться с вышестоящими товарищами. Я занялся этим делом всего месяц тому назад, но, как видишь, кто-то позаботился предупредить его — кто-то из Союза. И Биляк решил принять меры. Думаю, сначала он планировал договориться со мной по-хорошему. Подкупить, взять в долю… Но сейчас, спасибо Саше Романовой, ситуация кардинально изменилась.
— Почему?
— Почему, почему! — с интонацией отчаяния воскликнул Новоявленский. — Воры перестали бояться — вот почему! Воры готовятся к реваншу. И если я не уберу Биляка сейчас, он уберет меня сам, причем довольно скоро. Теперь я уже не карающий меч, а помеха для успешного бизнеса. Еще не совсем, но все к этому идет. И чтобы убрать меня, Би-ляку не понадобится посылать головорезов в Питер — он просто попросит о помощи своих советских друзей — тех, с кем раньше делился. Теперь поняла, зачем ты здесь? Пойдем-ка назад, в отель, что-то я замерз…
Мы молча шли по ярким праздничным улицам. Новоявленский ждал моего ответа. Он был напуган и, видимо, неспроста. Если уж такой человек и в таком звании так опасается за свою жизнь, причины тому наверняка достаточно веские. И, похоже, спасти его могу только я. Биляк ведь тоже не лыком шит — он тоже немалый чин в местной госбезопасности. Кроме того, здесь — его территория, его база, его люди…
— Ты, конечно, обратила внимание, что за нами следят? — вдруг спросил полковник
— Нет…
Он вздохнул:
— А ведь тебя учили… Эх, Саша, Саша… Впрочем, чему удивляться — ускоренный курс. Биляк сразу приставил ко мне слежку. Наверно, ожидал, что я привезу с собой целую команду телохранителей и ликвидаторов. А я приехал с маленькой секретаршей, которую он считает моей сердечной подружкой. Вот бедняга и недоумевает — где же все мое войско?
Я подавила в себе желание оглянуться.
— Константин Викентьевич, я вот чего не понимаю. Ясно, зачем он приволок вас для переговоров сюда, на свою площадку. Но какой смысл тянуть вас еще дальше? Тут-то он бог и царь, а в Вене уже нет.
— Бог и царь, это верно, — кивнул Новоявленский. — Но даже у бога и царя есть кое-какие ограничения. Биляк не может вот просто так взять и убить генерала КГБ. То есть физически может — хоть прямо сейчас. Вон та машина — видишь?.. — может в следующую секунду потерять управление и наехать на нас. Пьяный шофер, отказ рулевого управления и тормозов…
Я инстинктивно вцепилась ему в руку. Машина — обычное такси — не меняя скорости, проехала мимо.
— Но физическая возможность — это еще не всё, — продолжил полковник. — Подобное самоуправство не сойдет с рук никому, и Биляк хорошо это знает. Совсем иной коленкор — прикончить меня на чужой территории. Во-первых, это уже вне сферы его ответственности. Во-вторых, неизбежно возникнет вопрос: что я там забыл, в этой Вене? Зачем приехал туда под чужим именем, скрытно от всех? Не иначе как хотел обтяпать какие-нибудь личные грязные делишки… Не сомневайся — Биляк уже заготовил целую выгребную яму, чтобы вымазать меня дерьмом с ног до головы и там же похоронить. И всё: нет человека — нет проблемы. Я не могу туда ехать, понимаешь? Это верная гибель. Поэтому ты должна покончить с этим гадом здесь и сейчас.
Он ждал моего ответа. Он сделал все, чтобы убедить меня. Он раскрыл мне подоплеку происходящего, рассказал вещи, о которых обычно никогда не рассказывал, — «для моего же блага». Он чувствовал себя загнанным в угол, причем по моей вине: ведь это мне приспичило ни с того ни с сего убирать этого дурацкого генсека, чья жизнь, как выяснилось, была единственным реальным прикрытием для Новоявленского и его соратников… Он почти не сомневался, что под напором таких сильных аргументов я соглашусь и сделаю то, что он просит.
Но я не могла согласиться. У меня были свои приоритеты, при всем уважении и симпатии к полковнику Новоявленскому. Сатек все еще сидел в тюрьме, а не в квартире на Крюковом канале. Было бы просто глупо предпочесть в этой ситуации благо смертельно напуганного, но, в сущности, чужого человека. В конце концов, Сатек в эту минуту тоже отнюдь не блаженствовал…
— Простите, Константин Викентьевич, — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно тверже, — но я продолжаю настаивать на нашей первоначальной договоренности. Биляк умрет не раньше, чем мой жених приземлится в Пулково.
— Ох… — простонал он. — Но я же тебе объяснил… это невозможно.
— Значит, сделайте это возможным, — столь же твердо ответила я.
Мы вышли на площадь перед гостиницей. Время было заканчивать разговор. Новоявленский остановился и некоторое время стоял так, потупившись, словно высматривая что-то на пражской брусчатке.
— Что ж, — проговорил он наконец, — надо отдать вам должное, Александра Родионовна. Вы замечательно умеете использовать рычаги давления на людей, попавших в безвыходное положение.
— У меня был хороший учитель, — парировала я. — А впрочем, почему «был»? При разумном подходе он таковым и останется… Спокойной ночи, Константин Викентьевич.
С этими словами я повернулась и зашагала к ярко освещенному подъезду роскошной гостиницы в центре золотой императорской Праги. Я шла не оборачиваясь, прямая и решительная, ни дать ни взять — «императорка Александра», как называл меня мой любимый Святой Сатурнин — во всей красе дорогущей модельной сбруи: итальянские сапоги, английская дубленка, французское платье, настоящие бриллианты на шее и в ушах. Всё это великолепие было казенного происхождения, хранилось на «базе» и выдавалось мне лишь на время командировок — ну так что? Всё в нашей жизни временно…
Я шла, чувствуя на спине беспомощный взгляд придавленного страхом седого человека, еще недавно полагавшего, что вертит мною как хочет. Наверно, за мной следили в этот момент и полдюжины биляковских топтунов, которые, если верить Новоявленскому, неотступно сопровождали нас на этой прогулке. Да что там полдюжины — я знала, что на меня смотрит сейчас вся эта сказочно красивая площадь, если не весь этот город! Да и как не восхититься подобной картинкой — этой походкой, этой осанкой, этой гордо вскинутой головой? Это же просто киллер с пропеллером на мотороллере!
Хотя, какой, к черту, мотороллер? Киллер такой красоты должен ездить как минимум на… на… Я долго искала достойный эквивалент — и когда поднималась на лифте в свой номер, и когда нежилась в пенной огромной ванне, и когда, зевая, упала на бескрайнее, как поля Родины, кроватище. Искала, но так и не нашла: ни одно из немногих известных мне названий не обладало необходимой торжественностью звучания. Кое-как подходили лишь «ротвейлер» и «доннерветтер», но вроде бы таких марок роскошных автомобилей к тому времени еще не додумались выпускать. А жаль… Я задремала в разгар этих восхитительно бессмысленных рассуждений и спала сном праведницы — если, конечно, можно назвать праведницей киллера с пропеллером на доннерветтере.
10
Новоявленский постучал в мою дверь в одиннадцатом часу утра, и мы спустились позавтракать в одной из окрестных кафешек. Вид у моего спутника был не слишком здоровый: землистый цвет лица, круги под глазами.
— Плохо спали, Константин Викентьевич?
Он кивнул:
— Да, не очень. Я позвонил Биляку и принял его условия.
— Верное решение, — одобрила я. — Мне вообще кажется, что вы слишком трагически воспринимаете ситуацию. В Вене у него не будет армии, а с небольшим количеством врагов мы вполне управимся втроем.
— Втроем?
— Ну да. Вы, я и мое, как вы выразились, высокопрофессиональное умение…
Полковник не оценил шутку.
— Значит, так, Саша. Биляк подготовит документы завтра к полудню. Ты должна будешь выехать заранее, отдельно от меня. После этого он освободит Крауса и посадит его на самолет. Я выезжаю несколько часов спустя — после того, как получаю подтверждение, что твой жених приземлился в Пулково. Встречаемся в Вене. Есть вопросы?
— Есть, — кивнула я. — Зачем такие сложности? Почему я должна выезжать отдельно от вас?
— Это не сложности, — с ноткой раздражения ответил Новоявленский. — Просто меры предосторожности с обеих сторон. Биляк боится, что после освобождения Крауса я откажусь ехать в Австрию; с другой стороны, существует опасность, что он не выполнит своего обещания, если мы окажемся в Вене прежде, чем твой жених сядет в самолет. А предложенная схема нейтрализует оба эти опасения. Биляк уверен, что ты для меня в любом случае дороже, чем безвестный пражский студент. Что скажешь?
Я обдумала его слова. Вряд ли полковник станет меня обманывать. В конце концов, Сатек действительно сам по себе не представлял никакой ценности ни для него, ни для Биляка. Мой ранний выезд был в этой ситуации всего лишь обменом малостоящего заложника на более дорогого.
— Скажу, что согласна. Спасибо, Константин Викентьевич. Знаю, что это решение далось вам нелегко.
Он вздохнул.
— Да уж… Допивай свой кофе. Скоро придут фотографировать нас на чешский дипломатический паспорт.
Я отхлебнула из чашки.
— Константин Викентьевич…
— Да?
— А какая там будет фамилия?
— Где?
— Ну, на этом фальшивом паспорте.
— Какая тебе разница? — сморщился полковник. — Пусть хоть горшком назовут…
— А можно попросить, чтобы фамилия была Краус? Александра Краус. Это ведь возможно?
Новоявленский фыркнул:
— Ну ты даешь, Александра! Что за девчоночьи штучки? Зачем? Ну что тебе это даст? Чешские паспорта нужны нам максимум на сутки. Если ты думаешь, что сможешь сохранить это в качестве сувенира, то ошибаешься. Всё потом пойдет в огонь, и я лично за этим прослежу.
Я скорчила умоляющую мину:
— Ну пожалуйста, Константин Викентьевич… Сама не знаю, почему, но очень хочется. Если нет никакой разницы, то почему бы так и не сделать?
Он сердито махнул рукой:
— А, ладно, черт с тобой! Пусть будет Краус! Уж делать глупости, так до конца…
Машина пришла за мной на следующий день после полудня: настоящий лимузин со звездой на капоте, водителем в фуражке и еще одним сопровождающим — веселым мордастым парнем примерно моего возраста. Я уезжала налегке, с дамской сумочкой — чемодан Новоявленский приказал оставить в гостинице, потому что по плану мы должны были вернуться туда уже следующим вечером — или максимум еще через сутки. В сумочке лежали дипломатический паспорт Чехословацкой Социалистической Республики на имя Александры Краусовой и две двадцатидолларовые банкноты, которые полковник сунул мне при расставании «на всякий случай». Мы распрощались в гостиничном холле. Новоявленский бодрился, но это не слишком у него получалось.
— Скоро увидимся, Саша, не переживай, — сказал он, успокаивая скорее себя, чем меня. — Я попросил Биляка, чтобы он дал тебе в спутники русскоязычного сотрудника, который позаботится обо всем. Если придется общаться с австрийскими пограничниками, говори только по-английски. Они могут разве что спросить о цели поездки, да и то вряд ли — обладателям дипломатических паспортов не задают вопросов. Но если все-таки спросят, скажешь — бизнес…
— Не волнуйтесь, Константин Викентьевич, все будет хорошо… — Я подавила в себе внезапное желание обнять полковника. — Обещаю вам.
Новоявленский печально кивнул.
В лимузин я садилась с императорским понтом: шофер по стойке «смирно», сопровождающий — в поклоне у распахнутой дверцы. Пространство внутри напоминало вагонное купе. Мой спутник тоже сел сзади и захлопнул дверь.
— Ну что, давай знакомиться? — сказал он, без обиняков переходя на «ты». — Я — Саша. Так и зови, без церемоний.
«Лучше бы все-таки с церемониями, — подумала я. — Но черт с тобой, не ссориться же с самого начала. Нам еще вместе ехать часа четыре…»
Я усмехнулась, принимая предложенный тон.
— Что ж, давай так. Я — тоже Саша.
— Тезка! — восхитился он. — Везет мне, тезка!
Автомобиль плавно тронулся с места.
— Везет? Почему же?
Саша развел руками:
— Знала бы ты, как иногда хочется поговорить по-русски. Тут это редко получается. Чурки, что с них возьмешь, — по-нашему не разумеют. А кто худо-бедно разумеет, тот не хочет. Не любят, сволочи, нашего брата. Чехи, австрияки, немцы… Лопочут на своей тарабарщине, поневоле приходится по-ихне-му. Даже я вот наловчился. А мне еще училка английского в школе говорила: у тебя, Вострецов, способности к языкам — ноль без палочки! Ее бы сюда, дуру, поглядел бы я на ейную палочку!
Он рассмеялся и откинул крышку ящика между сиденьями. В полумраке салона вспыхнул свет, заиграл на гранях бокалов, на стекле бутылок. Бар! Настоящий бар внутри машины!
— Угощайся, тезка. Все на халяву, счет не выставят, не боись. Чего тебе налить — шампусика? Или чего покрепче?
— Рановато для «покрепче», — солидно ответила я. — Сок там есть? Апельсиновый?
— Как скажешь, красивая… — Он ловко выудил из бара нужную бутылку. — Вот ведь брусчатка хренова, и не налить спокойно. Ничего, сейчас на асфальт выйдем. Дороги тут хорошие, не Афган какой-нибудь…
Парень налил мне стакан сока, а себе плеснул приличную порцию виски.
— Ну, будем!
Мы чокнулись и выпили. Лимузин вырулил на широкое шоссе и уверенно набрал скорость.
— Как ты сюда попал-то? — спросила я.
Он пожал плечами:
— Как и ты. Ты вот с боссом ездишь, так?
Я подумала и кивнула:
— Так
— Вот и я с боссом. Сначала рулил, а теперь вот еще… — Саша помялся. — Поручения всякие… Рулить-то я хорошо умею, даже слишком. Хотя прав нет и не было никогда.
— Это как же?
— Да вот так Я ж с колхоза, с Новгородской области. Есть там такой… Дворищи называется. Ничего название, а, тезка? — Он допил виски и сразу плеснул еще. — Там за руль сызмальства садятся. Грузовики, трактора… Мужики-то все пьяные еще с утра, вот мальцы и изгаляются, как бог на душу положит. Бывает, и машину угробит, и сам угробится, а всем плевать. Дворищи…
Парень помолчал, глядя в окно и явно видя там что-то отличное от ухоженных чешских полей. Я ждала продолжения.
— Ну вот… — сказал он. — Случай такой, судьба. Я уже на дембеле ошивался, под Душанбе, ждал поезда на Москву. Комроты вызвал. Прихожу, а у него как раз этот сидит, мой будущий босс, Вацлав который.
— Биляк? — уточнила я.
— Он самый. Комроты мне: вот, говорит, Вострецов, товарищ из братской соцстраны. Спрашивает, есть ли у меня отчаянные водилы, которые еще и стрелять умеют. Вот я, говорит, о тебе и вспомнил. Хочешь поработать? Заграница, прибарахлишься, деньжат накопишь… А что делать-то, говорю, какая работа? А комроты: а тебе не все ли равно? Ну, я и прикинул, тезка: мне и впрямь ведь все равно. На хрена мне эти Дворищи обос… ну, понимаешь, что я хочу сказать.
Я молча кивнула. Еще бы не понимать.
Саша задумчиво покачал головой:
— Я еще спросил, мол, как же без языков-то? У меня, говорю, способности к языкам ноль без палочки. Туг уже Вацлав ответил. Ты, говорит, со мной будешь ездить, а я русский знаю. Мне, говорит, как раз такой водитель сейчас нужен — чтобы только по-русски кумекал… Вот так я здесь и оказался, тезка. Думал — три-четыре месяца покантуюсь, прибарахлюсь — и домой, в Россию. Ан вот — задержался, скоро два года будет… Ничего, если я закурю? Ты не боись, тут вентиляция хорошая.
— Кури, — разрешила я. — Значит, все-таки, домой, в Дворищи?
— Не, в какие Дворищи? — возмутился он. — В Москву, в Питер, в Свердловск… В городах я везде пригожусь. А Дворищи, мать их… что меня там ждет? У меня, тезка, и нет никого. Был когда-то дружок один, еще с учебки. Вадька такой. Был да сплыл. Эх… давай-ка еще по разику!
— Ну, налей тогда и мне. Там белое сухое есть?
— Всё есть… — Саша протянул мне стакан. — Нас с этим Вадькой вместе чморили. Полгода в учебке, полгода в Афгане. Афган, тезка, это ад. Жратва паршивая, потому что воруют по-черному. Медицины — считай, что и нет. Попал на дизентерию — хоть все кишки высри, никто не поможет. Командиры — говно, трусы и сволочи. Наркота повсюду, и не трава даже — трава вовсе не в счет. Героин. В тылу торгуют всем, чем придется. Камешки, героин тот же. В цин-новый гроб запаяют заместо трупа и вперед, получателям…
Он говорил и говорил, без остановки — наверно, оттого, что слишком долго не находил собеседника, да и выпивка тоже развязывала язык. Я уже и не рада была такому попутчику: лучше четыре часа провести в полном молчании, чем выслушивать подобные истории. Мне не хотелось об этом знать — просто не хотелось. Мои ровесники — те, что попали в армию, — демобилизовались как раз накануне войны, так что никто из одноклассников или однокурсников не мог рассказать ни о чем похожем на то, о чем говорил сейчас Саша. И хорошо, что так; я никогда не лезла в политику, никогда. Где этот ужасный Афган — и где я? На разных полюсах, если не дальше…
— Ладно, оставь, Саша, — сказала я. — Не будем о грустном.
Он не услышал.
— А бьют — как там бьют! Вадьку избили в первый же день… — Саша скрипнул зубами. — До полусмерти. А я не вступился, испугался. Был там такой дед Степаненко, сержант, здоровущий, как трактор. Кто, говорит, у него кореш? Что, нету кореша у чела? Ну, говорю, я его кореш. Хорошо, говорит Степаненко. Подними его на ноги и деритесь, вы двое, между собой. И чтобы до крови! Зачем, говорю, он же мой кореш… Дерись, а то хуже будет! Ну и постучали мы с Вадькой друг друга по мордам. Потом-то я понял зачем: для прикрытия. Если один молодой избит, то это избиение, дедовщина, старослужащим выговор. А если двое молодых подрались, то это не ЧП, а так, ерунда, наряды…
Мой сопровождающий выпил залпом и налил еще.
— Он уши коллекционировал, этот Степаненко. Едем на броне, встречаем караван ихний, останавливаем. Обыскать! Нашли ружье — кончаем всех. Ослов тоже. Чтоб ни одной живой души не осталось. А потом Степаненко вынимает свой ножик — и ну уши резать. Человечьи — ослиные-то больно габаритные… ха-ха… Специально носил с собой — складной такой ножик, с кривым лезвием, маленький, острый, как бритва… — Он мельком взглянул на меня и пояснил: — Штык-нож, который на автомате, хрен наточишь, им только колоть. На уши не годится, ровненько не отрежешь.
— Хватит, Саша, — попросила я. — Довольно.
Он ухмыльнулся, невысокий русоволосый мордастый крепыш. Теперь, когда Саша впервые за все это время смотрел мне прямо в глаза, я поняла, что в его взгляде есть что-то рысье. Я видела рысь в зоопарке и на картинках, но мне совсем не улыбалось встретиться с нею в лесу.
— Довольно? — переспросил он. — Не нравится, а, тезка? Что вы вообще знаете… чистенько живете, как на Марсе.
— Ты уверен, что на Марсе живут чистенько? — шутливо возразила я в надежде сменить тему.
Саша пожал плечами.
— Ничего не знаете, ничего… — Он снова плеснул себе виски. — Взять того же Степаненко. Он ведь потом героя получил, во как! Посмертно, за проявленную в бою воинскую доблесть. А было-то как? Он да другой дед, Мешков его фамилия, по бабам соскучились. Взяли нас с Вадькой — и в горы, вчетвером.
Они там заранее кишлак присмотрели. Одно слово кишлак — четыре дувала всего. Вывели местных, отобрали двух телок помоложе и почище, а остальных — в расход, в коллекцию ушей. Поставили нас с Вадькой на стреме, а сами с девками в дувал, на мягкие ковры. Вадька постоял-постоял, а потом, смотрю, тоже в дувал пошел. Ты, говорю, куда, Вадя? Зачем? Не зли дедов зря. Они закончат, потом наша очередь. А он будто и не слышит вовсе. Зашел, а потом бам!.. бам!.. — одиночные. Выходит Вадя, автомат на плече, штык в крови. Ты что, говорю, наделал? Вбегаю в дувал: лежат Мешков и Степаненко, оба голышом, оба мертвее мертвого, у одного в шее дырка от штыка, у другого полголовы снесло. Выбегаю к Ваде, а Вади-то и нет. Ушел Вадя мой…
— Куда ушел? — спросила я, превозмогая отвращение.
Саша снова пожал плечами.
— А куда там можно было уйти? К духам. К ним и ушел. Сейчас, верно, стоит где-нибудь в Карачи на карачках задом кверху, поет про аллах-ахбар. Он ушел, а я вот не смог. Спрятался там же в камнях и ждал, пока наша «вертушка» не прилетела.
— А девушки?
— Какие девушки? — удивился он.
— Ну, те, которых они насиловали…
— А, эти… — Саша пожевал губами. — А черт их знает. Я на них и не смотрел даже. Как вышел и Вади не увидел, так сразу гранату в дувал забросил, на всякий случай. Чтоб уж точно никого не осталось… Когда никого не остается, можно придумать все что угодно. Вот отцы-командиры и придумали: легенду про бой с многократно превосходящими силами противника и про геройскую гибель десантников Мешкова и Степаненко. А про нас с Вадей вовсе не упоминали. Комроты меня сразу к себе вызвал. Я, говорит, в роте тебя оставить не могу, потому как деды убьют. Легенда, говорит, легендой, но то, что там реально произошло, любой опытный курок понял бы с полувзгляда. Они и поняли.
Саша снова закурил и тоскливо посмотрел в окно. Судя по дорожным щитам, мы подъезжали к городу под названием Брно.
— Ну и что же мне теперь делать, спрашиваю. Не знаю, говорит. Если, говорит, в тыл тебя списать, то слухи и там догонят. Хочешь в водилы? Месяц поездишь, уважение заработаешь… — Саша усмехнулся. — А водилы, тезка, в Афгане гибнут самыми первыми. Солдатня-то все-таки под броней сидит, а шофер у каждого снайпера на виду. А тех, кто цистерны с горючкой возит, и вовсе «факелами» зовут — сгорают только так… Всё ясно, думаю. Прямо в роте меня пристрелить слишком хлопотно — расследование будет, вопросы, суета разная. Куда легче в водилы записать — конец тот же, зато и взятки гладки… Ну а что делать-то? К духам убегать вроде как поздно, да и страшно. A-а, думаю, хрен с вами, сволочами! Чему быть, того не миновать! Давай-ка, выпей еще…
Я заставила себя чокнуться с ним еще раз.
— И что ты думаешь? — Он приоткрыл окно, чтобы выбросить окурок. — Сколько, ты думаешь, я отъездил? Пять месяцев, как одну копеечку! Пять месяцев в Афгане на цистерне! Да за это надо пять Золотых Звезд давать — по Звезде за месяц! A-а, да что там говорить… Разве ж вы чего понимаете…
Мой спутник откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. За окном мелькали красивые домики, и аккуратно, как по линеечке, расчерченные прямоугольники полей. Справа на пригорке раскинулся небольшой пригожий городок; закатное солнце медленно опускалось на серый штык-нож колокольни. Штык-ножом уши ровненько не отрежешь… Верить ли тому, что наплел мне этот невысокий мордаш с рысьими глазами? Действительно ли всё это случилось с ним самим или передано со вторых, третьих, десятых рук? Да и было ли это вообще?
А, собственно, какая разница? Важно, что он ведет себя так, будто это чистая правда. Значит, его рассказ уже превратился в факт, даже если и был выдумкой — полной или в тех или иных деталях. «Какие девушки?.. А, эти… черт их знает…» Он сам и есть тот Степаненко, и Мешков, и Вадя. Убийца с рысьими глазами и рысьей душой… — а то и вовсе без души. Не киллер с пропеллером — настоящий убийца, убивающий не потому, что нужно, а потому, что можно. Страшный зверь, гуляющий на воле среди ничего не подозревающих людей. Биляк наверняка доволен таким исполнителем. Кстати, чем занимался этот «товарищ из братской страны» на советской военной базе под Душанбе? Приехал забрать награбленные в Афгане камешки? А может, он и был одним из «получателей» цинковых гробов с белым порошком?
К пограничному пункту мы подъехали, когда уже начало темнеть. Шофер забрал у нас с Сашей паспорта, ушел и вернулся с офицером. Тот попросил открыть окно лимузина, вгляделся в наши лица и козырнул — нам даже не пришлось выходить. Судя по тому, как пограничник хлопнул нашего водителя по плечу, это была далеко не первая их встреча. Австрийцы уделили нам еще меньше внимания — как видно, здесь хорошо знали и машину, и ее шофера.
— Чуешь, как гладко поехали? — сказал Саша несколько минут спустя. — Австрийское шоссе — это тебе не у чехов.
Я пожала плечами, потому что не ощутила особой разницы. Куда больше меня интересовал вопрос, почему мы свернули с автострады на хоть и гладкую, но явно второстепенную дорогу.
— Разве мы не должны ехать в Вену?
Саша безразлично качнул головой:
— Мой тебе совет, тезка: езжай, куда везут, и не задавай лишних вопросов. Лично я так и поступаю. У Йозефа инструкции от босса, он и банкует.
— У какого Йозефа?
— У водилы нашего, у кого же еще. Только не пытайся спрашивать у него — он по-русски ни бельмеса. И по-чешски тоже. Только дойч и инглиш — чурка, короче говоря.
Похоже, Биляк весьма предусмотрительно подбирал кадры, заведомо ограничивая возможности общения помощников между собой: каждый здесь понимал лишь в той области, которая была ему предназначена… Зато сам босс наверняка говорил на всех языках. Мы миновали очередной небольшой городок. На его окраине светилась неоновая вывеска: бокал и крутобедрая красавица верхом на стрелке. Лимузин замедлил ход и взял влево по указателю.
— Реет, — проговорил, не оборачиваясь, Йозеф. — Митинг.
Это были первые слова, произнесенные им за всю поездку.
— Вот видишь, — оптимистически подхватил Саша. — Реет — это отдых. Отдохнем и дальше поедем. Вот только при чем тут митинг? Не, ну чурки, одно слово — чурки…
Подъездная аллея закончилась просторной площадкой, обрамленной высокими, ровно подстриженными кустами. Автомобиль обогнул расположенный посередке пруд с фонтаном и остановился у входа в красивое трехэтажное здание с двумя флигелями по обе его стороны. Мы вышли. Йозеф не стал глушить мотор — за рулем его сменил немедленно подскочивший ливрейный молодец.
Швейцар в цилиндре отворил дверь, и девятый вал оглушительно тяжелого рока тут же накатил на мои бедные уши. О где ты, где ты, Степаненко? Отрежь их поскорее, а то ведь можно помереть от этого грохота…
Йозеф знаком пригласил нас следовать за ним. Мы спустились на лифте и, пройдя небольшим коридором, очутились в комнате с крашеными стенами и простой канцелярской мебелью: столом, стульями, диванчиком… На столе, к моей радости, стоял телефон. Значит, Новоявленский сможет позвонить сюда, после того как убедится, что с Сатеком все в порядке. Если, конечно, ему удастся уговорить Биляка. В этом случае полковнику даже не понадобится пересекать границу: я уничтожу его врага на расстоянии. Внезапный инфаркт будет очень кстати… Главное — знать, что мой любимый в безопасности.
Я напрягла свои знания в английском:
— Йозеф, могу я воспользоваться этим телефоном для связи с моим боссом? Он просил позвонить ему, когда я прибуду на место.
Шофер изумленно поднял брови: по-моему, он удивился бы меньше при виде внезапно заговорившей лошади.
— У госпожи есть его номер?
— Нет, — призналась я. — Но ваш босс наверняка знает, как это сделать.
Йозеф подумал и кивнул:
— Я постараюсь узнать. Выпьете пока чаю? Кофе?
— Чай, спасибо…
Он вышел и вернулся минут десять спустя с чайником, стаканами и пирожными на подносе.
— Так что с телефоном, Йозеф?
— После чая, — улыбнувшись, ответил он.
Что ж, после, так после… Пирожные выглядели восхитительно. Я бросила чайный пакетик в стакан, налила кипяток — не слишком, впрочем, горячий и отхлебнула. Саша подошел поближе. Он и Йозеф смотрели на меня во все глаза.
— Что случилось, Саша? Налить тебе тоже?
Я сделала второй глоток и вдруг поняла, что ноги меня не держат. Кто-то — видимо, Саша, — поддержал меня сзади. Расплывшееся в улыбке лицо шофера вдруг расплылось еще больше и отделилось от туловища. «Это ж прямо чеширский кот какой-то, а не Йозеф», — успела подумать я и потеряла сознание.
Потом до моего слуха донесся мелодичный звон — что-то очень домашнее и успокаивающее. Сильно болела голова — так, что казалось опасным открывать глаза: а вдруг туда пролезет еще худшая боль… Наверно, это мама помешивает ложечкой в стакане. Сейчас скажет: «Сашенька, выпей чаю с малиной… Это помогает…» Оптальгинчика бы, мамуля, оптальгинчика! Черт, в последний раз голова болела так после «ерша», налитого мне… как ее?.. — Анжеликой?.. нет, Сильвией!.. — налитого мне Сильвией у пивного ларька возле площади Тургенева… или Некрасова?.. черт, ни фига не помню… Но уж точно не Салтыкова-Щедрина — двойную фамилию я бы не забыла.
Я осторожно приоткрыла левый глаз, но почему-то увидела не край своей кровати и не полу маминого халата, а зеленую крашеную стену. Что за ерунда? Где это я? Ладно, придется открыть оба глаза и, возможно, даже повернуть голову… Укрытая своей… то есть не своей, а казенной гэбэшной дубленкой, я лежала на узеньком диванчике — из тех, какие ставят в коридорах присутственных мест. А в пяти метрах от меня сидел за конторским столом мордастый крепыш и мирно помешивал ложечкой в стакане.
— Ну чё, тезка, очухалась? — весело спросил он, стрельнув в мою сторону рысьими глазами.
Тут-то я всё и вспомнила — по этим рысьим глазам. Интересно, надолго ли они меня отключили? Сжав зубы, я попробовала сесть — это удалось только со второй попытки.
— Эк тебя колбасит! — восхитился Саша. — Хорош был чаек, правда? Надо бы когда-нибудь и мне попробовать. Вообще-то, после него обычно не просыпаются, но с тобой еще босс чего-то перетереть хочет. Ты уж извини, он у нас любопытный. Но не расстраивайся — это быстро. На пару вопросиков ответишь, а потом можешь спать сколько угодно. Я тебя сам уложу, обещаю.
Он говорил с той же жизнерадостной интонацией, с какой еще недавно предлагал мне выпить в салоне лимузина. Только на этот раз я не стала ничего отвечать. Зачем? С шестерками не разговаривают — их сбрасывают в «бито» и переходят к тузам. Я тебя сама уложу, обещаю. Но не сейчас. Сейчас есть дела поважнее. Так и не дождавшись моей реакции, Саша снял трубку телефона.
— Алло. Да. То есть йя. Ну, в общем, зови босса. Босса, чурка, босса!
Ну вот, кажется, начинается. Я села поудобнее и поправила волосы. Боль понемногу отступала, подавленная серьезностью момента. В коридоре послышались шаги. Дверь открылась, и вошел Биляк.
— Доброе утро, пани Саша. Или вы хотите, чтобы я называл вас пани Краусова, по паспорту?
Утро?! Неужели уже утро? Но где тогда полковник? И какое сегодня число? Вчера было тринадцатое февраля. Значит, сегодня четырнадцатое?
— Я хочу видеть Константина Викентьевича, — сказала я вслух.
Биляк улыбнулся:
— Всему свое время, Саша. Вас непременно отведут к нему. А пока, если не возражаете, я хотел бы расспросить вас кое о чем. Чрезвычайно хотел бы.
— Возражаю.
— Ну и возражайте себе на здоровье! — рассмеялся Биляк — А я все равно спрошу. Видите ли, Саша, я тут хозяин — в этой комнате и в этой ситуации. А хозяин имеет право вести себя по-хозяйски. Имеет или не имеет?
Я молчала, упрямо уставившись в стену. Моей первой задачей было выяснить ситуацию с Сатеком. Свободен ли он? Улетел ли он из Праги? Приземлился ли в Питере?
— Ты бы лучше отвечала, а то ведь я могу и невежливо попросить, — угрожающе проговорил мой мордастый тезка.
Биляк укоризненно покачал головой:
— Ну зачем ты так, Александр? Пани Краусова нам охотно все расскажет сама, правда, пани?
Я молчала.
— Меня, собственно, интересует вот какой вопрос, — продолжил он. — Вы уж простите, Саша, но с самого начала я не придавал вам никакого значения. Ну, секретарша, ну помощница. Пожилые начальники чрезвычайно часто ездят в командировки с молодыми… э-э… помощницами, которые помогают… э-э… снять напряжение рабочих будней. Вот и вас я считал за такую… ну, понятно. Представьте себе мое недоумение, когда выяснилось, что товарищ генерал явно не связан с вами отношениями такого рода. Два отдельных номера в гостинице — и ладно бы еще два номера, — но еще и полное отсутствие постельных забав! А мы-то, дурачки, установили там несколько скрытых камер! Думали посмотреть интересное кино — и на тебе! — как говорят в ваших сельских клубах, «кина не будет»! Такие расходы, и всё впустую!
— Вы чрезвычайно хорошо знаете русский, — заметила я.
— Ну, слава богу! — воскликнул Биляк. — А я уже опасался, что вы онемели… Отчего бы мне не знать русский, дорогая Саша, если я родился в Сибири? Да-да, не удивляйтесь, такая вот судьба. Впрочем, мы ведь не обо мне, а о вас. Итак, вы генералу Новоявленскому не любовница. Тогда кто? Почему он привез сюда именно вас? Если хотите знать, мне не очень понятно, как он вообще отважился сюда приехать!
— Куда «сюда»? Он в Австрии? В Вене? Повторяю, я хочу видеть Константина Викентьевича.
Мне было крайне важно выяснить, где сейчас находится полковник. Если он еще в Праге, то и Са-тек еще в тюрьме. Но если Новоявленский уже здесь, значит, Биляк выполнил свою часть договора, и тогда я тоже могу приступить к выполнению своей… Биляк вгляделся в меня и снова покачал головой:
— Я же сказал — всему свое время. А пока вернемся к нашей теме. Со стороны генерала было чрезвычайно неосмотрительно соглашаться на мои условия. И тем не менее он приехал. Приехал ради какого-то ничтожного аспиранта, не нужного ему никоим боком. Ведь этот Сатурнин Краус никто, я специально проверил. Парень чист, как снег в Антарктиде. И тут… — Биляк торжественно воздел указательный палец, — тут вы сами подсказали мне ответ. Знаете как? Просьбой о фамилии в паспорте! Тут только я и понял, что паренек нужен вовсе не генералу, а вам! Что и генерал приехал сюда ради вас! Что вовсе не Саша Романова сопровождает Новоявленского в качестве незначительной личности, а он сопровождает Сашу Романову! Отсюда — вопрос.
Он наклонился и уперся глазами в мое лицо.
— Отсюда вопрос: это кто же она такая, эта Саша Романова, если рядом с ней даже генерал Новоявленский выглядит чрезвычайно незначительной фигурой? А? Говорите!
До этого Биляк говорил негромко, вкрадчиво, но последнее слово он неожиданно проорал так, что я вздрогнула.
— Говорите!
Я наконец подняла голову и уставилась прямиком в его серые глаза — глаза мошенника и манипулятора. Сколько таких вот биляков уже пытались переглядеть меня подобным образом! И всегда, всегда это кончалось одинаково: изначальные уверенность и превосходство секунду-другую спустя сменялись в их взгляде недоумением, а затем страхом — даже не страхом, а каким-то первобытным ужасом, параличом кролика перед удавом. Меня и саму немало интересовало, что же такое они там видели…
Биляк моргнул и отвел глаза. Ну вот, и этот тоже.
— Ну что? Чрезвычайно? — тихо спросила я. — Я так и думала. Повторю, если вы не поняли: я хочу видеть Константина Викентьевича. Немедленно, сейчас же. А потом все остальное, обещаю вам.
Он выпрямился и несколько раз прошелся по комнате из конца в конец. Рысьи глаза моего тезки следили за хозяином с пристальной готовностью бойцового пса, ждущего команду «фас!».
— Что ж. — Биляк потер руки. — Если обещаете, то так тому и быть. Константин Викентьевич находится здесь, неподалеку. Мы с Александром охотно проводим вас к нему… Александр!
Я чуть не вскрикнула от радости. Новоявленский здесь! Значит, Сатек уже в Питере, на Крюковом канале!
Герой-афганец подхватил меня под локоть, и мы вышли из комнаты. Биляк последовал за нами. Пройдя по коридору, Саша остановился перед одной из дверей.
— Заходи!
Новоявленский, опустив голову, сидел на стуле посреди комнаты — точно такой же, в какой меньше минуты назад допрашивали меня.
— Константин Викентьевич, слава богу, вы здесь! — приветствовала его я. — А я уже начала волноваться… Константин Викентьевич!
— Он не ответит, — хихикнул Саша. — Кислороду не хватает…
Я бросилась к полковнику. Новоявленский был мертв — привязан к стулу и мертв. Синяки на лице, красная полоса на горле, вываленный наружу язык, выпученные от последнего усилия глаза… — такие же я видела когда-то на снимках по делу маньяка из Сосновки. Бедный, бедный Константин Викентьевич… Он ведь предчувствовал это… Он предчувствовал, а я отмахивалась: не бойтесь, мол, со мной вам ничего не страшно, уж я-то вас в обиду не дам. И вот — не дала. И вот — защитила. Мне вдруг захотелось взвыть по-волчьему.
— Вы сами хотели это увидеть, — сказал за моей спиной Биляк — Товарищ генерал почему-то думал, что я стану с ним торговаться. Кого-нибудь другого я бы действительно попробовал перекупить. Но это не тот случай, увы. Жаль, чрезвычайно жаль… Александр, где твой… э-э… инструмент? Покажи его пани Краусовой… Пани Краусова вряд ли захочет разделить судьбу своего партнера. Не так ли, Саша?
Я обернулась. Они стояли у двери: Биляк чуть впереди, с выражением фальшивого сожаления на лице; за ним — мой тезка, герой афганских дорог и дувалов. В руках Саша держал свой «инструмент» гарроту: шнурок с двумя маленькими металлическими ручками на концах. Держал — и многозначительно поигрывал, то натягивая, то ослабляя шнур. При натяжении гаррота издавала низкий звук, как контрабасная струна. Видимо, Константин Викентьевич был убит именно этой пакостью. Я посмотрела Биляку в глаза.
— Сдохни, сволочь! Сдохни!
Он удивленно поднял брови, но тут Саша ловким движением накинул ему на шею свою удавку. Биляк был выше своего прислужника, так что убийце пришлось навалить его на себя. С минуту они кружили по комнате, хрипя и судорожно переступая с места на место, как одно четвероногое животное. Биляк боролся изо всех сил — пытался достать Сашу руками, хватался за шнур, затем начал шарить под пиджаком и достал-таки пистолет, но так и не успел им воспользоваться. Убийца поднажал еще немного; Биляк опустил руки, вывалил язык, в последний раз напрягся и ослаб, обвис безжизненным мешком.
Я подобрала пистолет; это был чешский браунинг двойного действия, укороченный патрон, калибр девять миллиметров. Вполне сойдет. «Но, если надо, выстрелю в упор», как пел покойный Высоцкий. Как раз тот самый случай…
— Опусти, что ты его держишь?
Мой тезка продолжал держать на груди бездыханное тело босса. На лице Саши было написано полнейшее недоумение, как будто он смотрел на себя со стороны и не верил тому, что видел.
— Опусти!
Он медленно подчинился. Труп Биляка осел на пол, неестественно вывернув конечности. Я дважды нажала на спусковой крючок — всё как учили. Два выстрела в упор, в грудь. С двух метров не промахнешься.
— Лучше бы ты оставался в своих Дворищах… или как там?.. Грязищах?
Саша выдул ртом кровавый пузырь и не ответил. Я выстрелила еще один раз — в лоб, тщательно обтерла браунинг полой Билякова пиджака и оставила оружие на полу.
— Прощайте, Константин Викентьевич. Не поминайте лихом…
Коридор был по-прежнему пуст. Второй подземный этаж… — если здесь никого нет, то вряд ли наверху кто-то мог услышать выстрелы. Браунинг не так уж и гремит. Я зашла за своей дубленкой. Сумочка лежала там же, на столе; теперь в ней был только дипломатический чешский паспорт с моей фотографией на имя Александры Краусовой. Доллары исчезли — ах, Саша-Саша, экий ты был проказник…
Лифт поднял меня на нулевой этаж — у нас бы его назвали первым. В вестибюле горничная в передничке пылесосила ковер. Величественный швейцар отворил мне входную дверь, я кивнула и вышла. Снаружи сияло прекрасное зимнее утро — судя по солнцу, позднее, ближе к полудню. Часов на руке у меня не было: как говорил покойный Новоявленский, носить дешевые часы мне не дозволяет легенда, а дорогие — бюджет отдела.
Куда теперь? Прежде всего — не «куда», а «откуда»: отсюда, и побыстрее, пока не хватились. Швейцар равнодушно взирал на меня из-за стеклянной стены. Ну конечно, дама просто решила подышать свежим воздухом… Я прогулочной походкой обогнула пруд, вышла на подъездную аллею, столь же неторопливо добрела до поворота и только тогда, оказавшись вне зоны видимости из окон дома, пустилась бегом. Бежать на стильных каблуках было сущим мучением; к счастью, аллея оказалась короче, чем я думала. Вот и шоссе… Я перевела дух и повернула направо — туда, где виднелись окраинные домики небольшого городка. На дорожном щите я прочла его название, тут же, впрочем, вылетевшее из головы, — что-то длиннющее, немецкое, заканчивающееся на «бах»…
Очень кстати, что и говорить: бах! Ба-бах! — по башке — получи и распишись… Я заставляла себя не думать пока ни о чем, а сосредоточиться на ходьбе. Главной задачей сейчас было как можно скорее уйти от возможного преследования. Увы, ситуация не предполагала богатого выбора вариантов бегства. Единственное, что я могла сделать в тот момент, — это попробовать смешаться с людьми или хотя бы выбраться из статуса одинокого пешехода на открытом всем взглядам пригородном шоссе.
Домики вдоль обеих обочин мало-помалу подросли, появились витрины магазинов… вот и первая улочка… я свернула с шоссе и вздохнула с облегчением. Теперь уже не так страшно, теперь меня вполне можно принять за обычную прохожую. Беготня и быстрая ходьба в не слишком подходящей для этого обуви не прошли даром — я сильно натерла ногу, по-настоящему ощутив это только сейчас, когда напряжение немного спало. Сесть бы где-нибудь в кафе, отдохнуть, перекусить… Ага, как же, сядешь тут в кафе без копейки денег…
При первой же мысли о еде у меня подвело живот. Еще бы — я ничего не ела вот уже целые сутки. Все сильней и сильней хромая, я ковыляла в сторону центра: там наверняка должен быть какой-нибудь сквер, а в сквере скамейки. Улочка стала брусчатой, а затем уперлась в автоматический шлагбаум со знаком пешеходной зоны. Это и было сердце городка, цель моего перехода: широкая улица с нарядными трех-четырехэтажными домами, черными коваными фонарями и голыми деревцами в кадках. Между кадками — о радость! — стояли скамьи с поручнем посередке — на случай, если какому-нибудь утомленному чужеземцу придет в голову вопиюще нелепая идея лечь и вытянуть ноги.
Я добрела до ближайшей скамьи, рухнула на нее и осмотрелась. Вокруг цвела и пахла местная неторопливая и, видимо, очень надежная, хорошо устроенная жизнь. Цвела буквально: буйством зелени и бутонов в витрине цветочного магазина — и цвела фигурально: краснощекими, пышущими здоровьем аборигенами и разноцветными фасадами их безупречно выкрашенных домов. А пахла… ох, о запахах лучше не говорить вовсе — во всяком случае, не на пустой голодный желудок. Эта чертова местная жисть-жистянка пахла чудесной сдобой из булочной слева, и копчеными колбасами из бакалеи справа, и заморскими специями из лавочки чуть подальше, и жареным мясом из гостеприимно распахнутой двери ресторана…
А прямо напротив, в огромном окне магазина электроники работали… сколько же их?.. — раз, два… — восемь!.. — работали сразу восемь цветных телевизоров, и каждый из них показывал ровно одно и то же: парадный строй солдат, усиленно тянущих вперед гусино-церемониальный сапог, карабины с примкнутым штык-ножом, которым, как известно, неудобно отрезать уши, бронетранспортер и орудийный лафет с чьим-то гробом.
«Здорово маршируют, фашисты проклятые, — подумала я. — Похороны у них, понимаете ли, у бесов. Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?»
Но тут на экране мелькнули смутно знакомые лица, и я поняла: никакие это не немцы и никакой это не домовой, не говоря уж о ведьме! Это хоронят невинно убиенного мною генсека! Трансляция из Москвы, с Красной площади!
И на меня одним ударом — бах! — обрушилась такая чернущая неподъемная тоска, что я едва не сплющилась под ее неимоверной тяжестью. Мне вдруг остро, непереносимо, до боли захотелось туда, к себе, в Россию — лучше бы уж сразу в Питер, на Крюков канал, но в крайнем случае можно даже и в эту чертову Москву, откуда транслируют. Она, хоть и чертова, но все же своя, знакомая, родная. И генсек этот тоже был свой, родной, хотя и домовой… да пусть даже будет домовой, пусть!.. — уж не мне нос воротить: сама-то ведьма ведьмой…
Там у меня мой город с ужасным климатом, дождями и наводнениями, зато почти без солнца — город, любимый не любовью даже, а тоской, что намного острее; там у меня мама, там у меня ближайшая подруга-секретарша по кличке Бима, презирающая кобелей и готовая отдать весь мир за пару сосисок; там у меня — вся жизнь, всё мое прошлое и настоящее, там у меня Сатек — всё мое будущее… А что у меня тут? А тут, в этой проклятой дыре с неведомым названием Бах-тарарах, нету ни грамма моего — ну просто ни единой граммулечки. Сквозь слезы я смотрела на аккуратные, добросовестно разукрашенные домики и в упор не понимала, как они могли так нравиться мне в Праге? Как могли нравиться мне эти люди вокруг? Что в этом такого сказочно-праздничного, кроме обертки с надписью на чужом языке?
Выть. Мне хотелось выть, но я не могла позволить себе даже этого. Одна-одинешенька, без гроша в кармане, без друзей и знакомых, с фальшивым паспортом на чужое имя, безъязыкая и беспомощная — я не могла позволить себе ничего, вообще ничего! Но главное: я не могла позволить себе вернуться домой — даже если бы такая возможность вдруг открылась прямо здесь и сейчас.
Полковник погиб, а значит, содержимое его сейфа выйдет наружу не сегодня, так завтра. Без сомнения, мерзкий Биляк заготовил соответствующую легенду, объясняющую смерть Новоявленского, а заодно и мою. Не знаю, что в этой легенде фигурирует: контрабанда, игорные долги, наркотики или разврат… а может, и все это вместе, чего скупиться!.. — но одно можно сказать с полной уверенностью: там будет достаточно грязи для того, чтобы гарантированно утопить нас обоих. И улики из сейфа лягут на этот грязевой омут с естественностью последнего комка. Не стоит обольщаться и насчет тюрьмы: такие дела у нас не доводят до суда — полковник предупреждал меня об этом еще в самом начале. Дома меня ждет только смерть, быстрая и неминуемая смерть — и ничего, кроме смерти…
Конечно, ни в коем случае нельзя было переться в эту проклятую Австрию! Полковник знал, что говорил. Если бы я только прислушалась тогда к голосу разума, все повернулось бы иначе. Я покончила бы с Биляком, мы спокойно вернулись бы в Питер, а потом Новоявленский выручил бы моего любимого каким-нибудь другим способом. Он ведь никогда не обманывал меня, этот мой седовласый партнер… Но нет! Нет! Мне понадобилась Луна с неба прямо сейчас — вынь да положь! Дура несчастная! Вообразила себя невесть кем, чуть ли не императрицей! Киллером с пропеллером на мотороллере! Да какая из меня императрица?.. В лучшем случае — «императорка», как называл меня Сатек… Ну вот, я уже думаю о нем в прошедшем времени…
А что касается киллера с пропеллером, то нужно взглянуть правде в глаза: я пока еще жива только благодаря нелепой случайности. По логике вещей, мой труп должен был лежать сейчас в подвале рядом с трупом Константина Викентьевича. Не зря ведь мой тезка-афганец сказал, что обычно после того чая, который налил мне Йозеф, не просыпаются. Меня спас мой дурацкий каприз — желание назваться пани Краусовой. Он-то и возбудил любопытство Биляка: мне оставили жизнь лишь для того, чтобы позднее допросить. По сути, фамилия Сатека сохранила мне жизнь… Вот только надолго ли?
Сколько времени мне удастся еще просидеть здесь, прежде чем меня найдут — час? Два? Вполне возможно, что преследователи уже смотрят на меня от столиков того вон кафе, из витрины той вон лавки, из-за того вон угла… Давайте, ребята, подходите — по одному или группой, мне все равно терять уже нечего. Все равно подыхать, так хоть позабавимся напоследок. Я огляделась внимательней, стараясь уловить признаки слежки, с которыми меня знакомили на базе. Нет, вроде ничего. «Ну да, понятно, ускоренный курс», — сказал бы сейчас полковник Ох, Константин Викентьевич, Константин Викентьевич… простите меня, дуру глупую…
Вообще-то всё правильно: инструктор говорил, что слежку намного легче обнаружить в движении. Если бы еще так не болела нога… Я поднялась со скамьи и, чуть-чуть пройдя, свернула в ближайший переулок, потом еще раз и еще… Это были зады пешеходного центра, изнанка красивых фасадов: узенькие проходы, некрашеные двери, мусорные баки… Покопаться, что ли, в поисках хлебной корки? Я уже совсем было собралась откинуть крышку бака, но тут одна из дверей распахнулась и передо мной оказалась темноволосая девушка в рабочем комбинезоне. Она смерила меня сочувственным взглядом и что-то спросила.
— Извините, не понимаю, — ответила я по-английски.
Девушка кивнула, вынула из кармашка сложенный вчетверо листок бумаги и протянула мне. Я послушно взяла листок, но развернуть не успела, потому что сзади кто-то накинул мне на голову мешок В ноздри ударил острый запах хлороформа, я подумала: «Вот и все, Саша, отпрыгалась… Это уже точно конец…» — и уплыла в неведомые дали.
Теряя сознание, я не рассчитывала — и, возможно, не очень-то и хотела обрести его снова. Поэтому первым моим чувством после того, как я пришла в себя, было удивление: как, еще жива?
Я сидела, связанная, на стуле, а рядом ходили и разговаривали какие-то люди, не видные мне из-за мешка на голове.
«Ничего-ничего, ребята, — мстительно подумала я. — Когда-нибудь вы снимете этот мешок, и я торжественно обещаю вам не пожалеть никого, кто попадется мне на глаза. Я жутко голодна, но все равно сначала перебью вас всех до одного и только потом поищу чего-нибудь съестного. Уж если конец, так пусть хоть будет на сытый желудок..»
При мысли о еде я проглотила слюну и, видимо, качнула головой, потому что ко мне сразу же подошел один из моих похитителей. Я услышала, как он придвинул стул и сел напротив, коснувшись своими коленями моих. Давай-давай, парень. Ты будешь у меня первым…
— Сейчас я сниму с вашей головы мешок, — негромко сказал он, — и очень прошу выслушать меня, прежде чем приступать к тому, что вы задумали. Договорились?
Мне оставалось только кивнуть. Откуда этот идиот мог знать, что я задумала? Славный сюрприз получится…
Похититель сдернул мешок, и я невольно зажмурилась от яркого света. Когда я снова открыла глаза, на меня смотрел мужчина лет сорока пяти с темными кудрявыми волосами без признаков седины. Лицо его сразу показалось мне смутно знакомым.
— Привет, Саша, — проговорил он, улыбаясь. — Давненько же мы с тобой не виделись. Ну да ничего, давай знакомиться заново. Меня зовут Марк Кушнир, и я твой отец.
Бывают удары настолько сильные, что их просто не чувствуешь — наверно, для этого в голове есть такие специальные предохранители, которые вовремя перегорают, спасая нас от внезапного безумия. Вот и у меня, видимо, что-то перегорело, поскольку я не почувствовала в тот момент ровным счетом ничего. Я разглядывала сидевшего передо мной мужчину и не знала, что думать. Единственное, в чем можно было не сомневаться, так это в том, что до конца еще очень и очень далеко. То, что происходило со мной, напоминало вовсе не конец, а, напротив, начало — начало какого-то нового и совершенно неожиданного этапа в моей сумасшедшей жизни. Пропеллер на мотороллере продолжал крутиться, хотя и неизвестно как, зачем и в какую сторону…
Бейт-Арье
2015







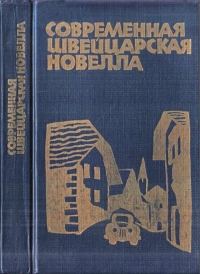

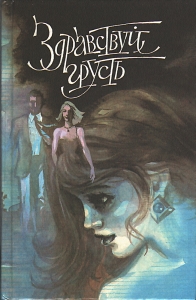

Комментарии к книге «Киллер с пропеллером на мотороллере», Алексей Владимирович Тарновицкий
Всего 0 комментариев