Сергей Буртяк
"СКАЗКИ ТЕСНОГО МИРА"
повесть-мозаика о вещах таинственных и простых
"ЧАСЫ И ПТИЦЫ"
Хронометрическая
"Наблюдай время..."
Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова.
"Время летит".
Крылатая фраза.
"…времени уже не будет".
Апокалипсис, 10-6
Глава первая
ВРЕМЯ И СТЕКЛО
Маленькая птичка сидела на карнизе круглого окошка под самой крышей старой городской башни и робко поглядывала в таинственное, недоступное застеколье. Внутри, на столе, стояли большие песочные часы.
Птичка часто прилетала сюда и уже знала, что эта штука, сделанная из стекла, дерева и песка, меряет время. Иногда часы переворачивали, и это происходило на её глазах. И это было так просто!.. Из верхней колбы в нижнюю струился песок. Вверху оставалось всё меньше, внизу становилось всё больше. Наконец наверху песок иссякал, но зато наполнял нижнюю половину и тихо лежал, терпеливо ожидая следующего переворота. Так он мог лежать долго-долго.
Постепенно птичке стало казаться, что если песок не течёт, время останавливается. “А как же они тогда живут, без времени? Они же должны застывать...” – с ужасом думала птичка.
Что-то зрело в её душе, и вот, сидя за окном и глядя на неподвижный песок, на старого человека, почему-то ещё не окаменевшего внутри этой башни, она вдруг решилась. Она чувствовала, что поступает правильно.
Птичка летела быстро и моментами ей казалось, что всё внизу: люди, машины, живое и неживое – застряло в густом неподвижном воздухе.
Но вот под крыльями рассыпался безлюдный осенний пляж. Песок. Маленьким аэропланом птичка скользнула вниз и, скакнув несколько раз, остановилась. Приготовилась.
А потом... набрала в клюв мелкого сухого песку, сколько смогла, вспорхнула на ветку ближайшего дерева и принялась тоненькой струйкой выпускать его вниз. Когда песок кончился, птичка, расправив крылья, скакнула на землю, опять набрала полный клюв песка и вспорхнула на ветку. И опять струйка песка посыпалась вниз. И так птичка делала раз за разом, снова, и снова, и снова.
И время текло, шло, струилось, летело. Какое счастье! “Я – Часы Мира”, – думала птичка, ликуя.
А кругом всё изменилось. Птичка чувствовала, что время выровнялось. И люди, оказавшиеся поблизости, ощущали – что-то переменилось в мире, стало лучше, спокойнее, воздух сделался прозрачней и мягче, и в нём теперь значительно легче перемещаться...
И вдруг в спешке, в желании побольше успеть, слишком много песку набрала птичка в клюв, да ещё и чересчур запрокинула голову, и “время” посыпалось не наружу, а в дыхательные пути. Глаза птички покрылись тоненькой калькой, сверкнула в гаснущем сердце последняя молния счастья, птичка упала и, несколько раз судорожно вздрогнув, обмякла.
Мимо проходил старик. Он увидел, нагнулся, взял в руку тёплое тельце и положил в свою холщовую сумку. Потом посмотрел на часы. На один миг лицо старика накрыло бледное облачко страха, но быстро растаяло, и человек пошёл прочь, постепенно сливаясь с пейзажем.
А на башне в самом центре города басовито запели куранты, уверенно отсчитывая полдень.
Глава вторая
ПАУЗА-ВЕЧНОСТЬ
Всякий раз, чуть дольше задерживаясь взглядом на стрелках наручных часов, он испытывал особые чувства. Пугающие. И чтобы не бояться излишне, вошло в привычку объяснять подобное просто состоянием души или дел на данный момент. Дескать, настроение паршивое, думаешь о чём-то тревожном, погружаешься в мысли, глубоко, с головой, ну и... – знаете, наверное, как это бывает, смотришь на часы, а секундная стрелка стоит на месте, будто часы не идут, хотя и должны; и пауза ошеломляет, потому что кажется бесконечной, а потом стрелка вдруг дёрнется и побежит. На самом деле всё нормально, часы шли как прежде, просто в тебе самом что-то разладилось, какое-то твое мгновенье превратилось в кристалл.
Иногда кажется, что в такие моменты прикасаешься к чему-то запретному, случайно подсматриваешь.
Вот и сейчас, мельком взглянув, задержал взгляд на циферблате. Тонкая неподвижная стрелка. Разделительная полоса. Между жизнью и смертью. Снова почудилась полная, окончательная остановка – часы умерли, стрелка окаменела, стала просто чёрточкой мёртвого круглого лица, и две глубокие морщины пролегли на юго-запад и юго-восток, а множество мелких заштриховали щёки и лоб. Само Время – старое, вечное. И граница смывается. Ещё не видно, что там, за... но уже понятно – что-то там есть.
Выпадал он в такие мгновения из своего мира, или нет – он точно не знал. Но существование где-то (или когда-то) в безвременье ощущал. А бесконечность, замирающая между двумя скачками стрелки или их наблюдением, иногда притворялась секундами, иногда – веками.
А когда, судорожно дёрнувшись, стрелка перепрыгивала дальше, он ещё раз пугался. Он ничего не мог объяснить, да, собственно, и не хотел. Кому, в конце концов, это нужно – знать про то, как взрослый человек пугается, когда ему вдруг кажется, что время остановилось.
Глава третья
ШИРОКОЛИЦЫЙ
Будильник бессовестно тикал. А иногда, ни с того ни с сего, вдруг начинал убегать вперёд и звонить раньше установленного часа.
Тогда хозяин грубо брал будильник в руки и ругал, щёлкая твердым ногтем по выпуклому исцарапанному стеклу, крутя шляпки грибов и крылья бабочек на стальной спине, как будто не знал, что так нельзя обращаться с живым существом. Или, хуже того, нёс его к мастеру.
А ведь достаточно было немного поговорить с ним, с будильником, утешить его, успокоить, объяснить, что окружающее не в состоянии жить ровно и непрерывно, и даже Измеряющий Время не способен (да и не должен пытаться) его осознать. Объяснить это можно было тихо, спокойно, и позволить просто жить на столе.
Часовых дел мастер сначала ворчал, что, мол, старый совсем, допотопный, вон - краска на корпусе облупилась вся, пружина слабенькая, шестерёнки еле ворочаются. Хозяин разводил руками и говорил, что выбрасывать жалко, от мамы остался...
Часовщик обречённо вздыхал, бормотал, что даже запчастей к таким уже нет, делал будильнику вскрытие и копался внутри отвратительно тёплыми пальцами и колючей отвёрткой.
Будильник молчал и терпел. Наконец его закрывали и возвращали хозяину. Тот забирал его домой и ставил на стол, ожидая послушания (хотя смотрел с недоверием – подозревал, что это ненадолго).
Это и было ненадолго. Нет, какое-то время было даже неплохо, но потом опять начиналось невообразимое.
Время вокруг то сворачивалось в клубок, то разлеталось брызгами по сторонам света, то вдруг делалось слоистым, то пористым. И как его измерять?.. А тут ещё хозяина надо будить. Когда сам с трудом просыпаешься.
У будильника снова шалило сердце, он сдавался и просто жил, зная, что не поговорят с ним однажды вечером и не оставят в покое, а, скорее всего, опять потащат в часовую операционную, и так до тех пор, пока он не умрёт.
Иногда его оставляли на подоконнике и это были самые светлые дни – он видел небо и птиц, дождь и снег, деревья, солнце, луну и звёзды. Это недосягаемое радовало будильник так, как будто было его собственными игрушками...
Однажды, возвращаясь домой, хозяин увидел, что на асфальте лежит его будильник. Задняя стенка откатилась в сторону, стекло треснуло, а кругом струился тускло-стальной серпантин лопнувшей пружины.
Человек посмотрел вверх и увидел распахнутое окно своей квартиры. Тогда он понял, что просто забыл закрыть окно, а ветер смахнул будильник с подоконника, и теперь уже не стоит нести его к мастеру. Проще купить новый. Нормальный.
Человек собрал с асфальта останки будильника и выбросил их в мусорный бак неподалёку, а потом отвернулся и с каким-то странно щемящим чувством пошёл домой. Ему очень хотелось обернуться, но он этого не сделал. Да и, обернись он, всё равно не увидел бы, как из бледно-салатового облупившегося корпуса будильника выпорхнула крохотная полупрозрачная птичка и, бесшумно молотя маленькими крыльями воздух, полетела к высокому небу.
Глава четвертая
ИЗНАНКА
Медленно и тяжело поднимался старый часовщик по гладким каменным ступеням, спиралью струящимся в полутёмном колодце башни.
Колодец вёл к механизму. Именно туда направлялся старик.
Раз в неделю он прикасался к изнанке Времени, большим бронзовым ключом стягивал, сжимал пружину, давая новые силы сердцу больших башенных часов.
В юности у часовщика было чувство общности с этими исполинскими зубчатыми колёсами, пружинами, гирями, и ещё он думал о себе, как о части Времени. Когда куранты начинали бить, он был горд и счастлив.
Друзья отговаривали его от этой работы, но он снисходительно посмеивался и продолжал жить по-своему, считая унизительным копаться в мелких внутренностях лживых наручных часов и несчастных будильников. Если уж на то пошло, он скорее стал бы чинить песочные или солнечные часы, каким бы глупым это кому ни казалось.
Хотя иногда он, с большой неохотой, ремонтировал всё-таки часы одного друга детства, чучельника. Это стало традицией. Денег не брал. Только однажды обратился к другу с просьбой – сделать чучело маленькой птички, чей трупик подобрал как-то на пляже.
Забрав птичку у чучельника, старик поставил её на стол и часто разглядывал её, когда было грустно или легко. А ещё поставил рядом с ней старый будильник в круглом светло-зелёном, с облупившейся краской, корпусе. Старик нашёл сломанный будильник рядом с мусорным баком неподалёку от башни, подобрал, попытался починить, но почему-то не смог, только собрал и оставил в покое, дав ему возможность просто стоять на столе рядом с птичкой.
Иногда куранты барахлили, и тогда часовщик чинил и смазывал механизм, а потом долго сидел в своей каморке и слушал как стонет ветер за стенами башни и, тихо лязгая и шепча что-то, аритмично живёт изношенная непосильной работой машина. В такие минуты часовщику казалось, что других людей вообще нет на Земле, и он живёт в этой башне один на всём белом свете, неуязвимый для Времени, потому что остался единственным его Хранителем, и без его – часовщика – работы всё остановится.
Порой часовщик напивался. И когда оживал вдруг колокол курантов, мастеру становилось страшно – казалось, Время смеётся над ним из-за того, что он так серьёзно относится к своим наблюдениям, ощущениям, мыслям.
А наутро всё становилось прежним. Часовщик выходил на улицу, шёл издали полюбоваться вместе с другими людьми на ослепительно-белый циферблат башенных часов, на стрелки, сверкающие позолотой, на вечные римские цифры. Погуляв немного, старик возвращался.
По ночам в башню приходили сны. Иногда в сновидениях часовщик был птицей, иногда секундной стрелкой часов или самими часами. Иногда цифрой I. И почти всякий раз птица, которой он был, хотела превратиться в часы, часы – в птицу, а цифра I в число XII. Но никогда никто из них не хотел стать человеком...
Так прошла его жизнь.
В довольно пожилом уже возрасте часовщик оглох и постепенно привык к этому. Он научился молиться и постепенно перестал ощущать себя частью Времени. Теперь он умел его останавливать, забывать прошлое и не думать о будущем, оставаясь постоянно сейчас.
Поднимаясь по гладким ступеням, старый человек думал иногда о том, что неплохо прожил жизнь, потому что присматривал за Временем, которое необходимо людям, чтобы успеть сосредоточиться и попробовать стать собой.
И знал он, что когда Время станет для него Вечностью, ему на смену придёт другой и тоже прикоснётся к прохладному и маслянистому металлу Времени и будет незаметно служить ему и дарить его всем, как своё. До тех пор, пока не услышит себя по-настоящему. А потом – есть надежда – и Бога. Может быть когда-нибудь. Может быть.
"ДОРОГА"
аэродинамическая
Солнце прилипло к ветровому стеклу. Упругие колёса отталкивали магнитную ленту шоссе назад, и непонятно было, откуда появляется музыка: из магнитолы, или с безукоризненной дорожной плёнки. В сегменте зрения и, похоже, на тысячи миль за его границами, не было ни единой души – первозданный мир возрастом в несколько мигов, не испорченный присутствием человека.
Скорость не теряла упоительности, не приедалась, мягкость хода напоминала о вечном. Ветер до блеска отполировал антрацитовую шкуру четырёхколесного, почти разумного существа из породы кошачьих.
“Да, но если никого нет, если человек ещё не создан, кто же сделал машину? И кто тогда сидящий за рулем её?..”
Приятная расслабленность нежила тело. Он не бывал в невесомости, но возникшее состояние явно её напоминало. Постепенно тела как бы не стало, если на него не смотреть, ощущалась только мыслящая субстанция не важно какой формы.
Постепенно мысли тоже растворились, осталась способность созерцать, отдыхая, словно завершил какую-то сложную, большую работу, вроде создания мира. Даже гибель многочисленных фей на прозрачной тверди стекла не омрачала волшебного настроения.
Небо над горизонтом становилось жёлто-оранжевым. Из-за кромки земли появился большой, похожий на сердце, ком облака. Мягкую воздушную глыбу, словно стрела амура, не торопясь и не сомневаясь в успехе, собиралась пронзить серебристая заноза крохотного реактивного самолета.
Пронзила. Через некоторое время вынырнула с другой стороны и, протянув сквозь сердце древко белёсого шлейфа, постепенно превращающегося в широкую ленту, устремилась прочь поискать новых жертв неистовой любви к небу.
“Хорошо, – думал, – красиво”. Мысль растянулась на многие парсеки и тысячелетия, ей ничто не мешало, ничего другого в голову не приходило.
Потом стало казаться, что ехать вот так можно долго, и в конце пути ждёт счастливая сказочная страна, где остаются навсегда (здесь возможна улыбка умиления и почти сразу – саркастическая ухмылка).
Неожиданно что-то нарушилось в привычной и, как казалось, нескончаемой гармонии окружающего. Увидел слева от дороги большую старую липу. На толстой ветке сидел мужчина. Один. “Сумасшедший”. Мужчина был прилично одет и кого-то смутно напоминал. Кого?.. Очень уж быстро он остался позади вместе с липой...
Нарушение гармонии не ограничивается одним событием, одной перипетией, это многоступенчатый процесс. Владея основами драматургии, нельзя этого не знать. Это арифметика. Он владел, – без этого в его работе было бы трудновато, – поэтому и не удивился, когда, бросив взгляд в зеркало заднего вида, заметил мошку настигающего автомобиля.
Мошка росла, постепенно превращаясь в муху, осу, шмеля, колибри, воробья, дрозда, ворону и, наконец, в кондора или орла. Пройдя и эту фазу, и фазу собаки и отвратительно страшной гиены, она стала омерзительным существом неопределенного вида, но, впрочем, новым и гладким. Тёмная поверхность автомобиля багрово бликовала в косых лучах уставшего солнца, а голос сдержанно рычал о немалой нагрузке на двигатель. “Немудрено! Я-то с какой скоростью иду”.
Легонько тронув руль, ушёл с середины дороги вправо, но скорости сбавлять не стал – не хотелось.
Стекла монстра были тёмными, кто там внутри, – разглядеть было невозможно.
Когда обгоняющий поравнялся, а впереди открылся неожиданный поворот трассы, стало ясно, что аварии не избежать. Мысль закрутилась со скоростью мысли. Но это осталось бы невостребованным, если бы обгоняющий монстр не прибавил скорости, в последнее мгновенье выскочив из-под левого крыла и безобразно взревев, не умчался бы в затухающую даль.
– Будь ты проклят, ублюдок! – звучало истерично и испуганно.
Скорость падала. Сердце рвалось на куски.
“Как же ты здесь оказался, тварь?! Кто ж тебя выдумал, сука? Кто тебе право дал разгуливать по моему миру?”
Постепенно успокаивался. Сердце улеглось, мысль уже не билась в истерике, и даже появилась обычная здоровая ирония.
“Вот наказать бы тебя. Изгнать бы из моего царства впредь до исправления, чтобы ездить научился вежливо”.
– Я решил наказать тебя! Ты перевернёшься на опасном повороте за то, что подрезаешь мирных путешественников в первозданном пространстве!
Когда говорил, ублюдочные мурашки побежали по телу – так торжественно и таинственно. А сказал и рассмеялся. На выходе звучало нелепо.
Нестись с сумасшедшей скоростью уже не хотелось. Да и сумерки откровенно намекали на ночь.
“Какое настроение было! Возвышенное, редкое. Когда теперь будет так хорошо? А может уже никогда. Может такое вообще бывает раз в жизни. Такое откровение. Негодяй. Подонок”.
Внутренний чайник опять закипал. Пора было сбрасывать газ.
Сбросив скорость, остановился у обочины и приземлился.
На земле оказалось неуютно, прохладно и совсем не успокаивающе.
Вернувшись в салон, потихоньку тронулся с места и поехал дальше.
Мало-помалу возвращалось хорошее настроение, скорость, встречные потоки ветра; пустынность мира не иссякала. Правда, дорога вдруг запетляла – что ни километр, то загогулина. Но это не рушило кайфа, и даже внесло приятную долю разнообразия в наметившуюся было монотонность пути.
Очередной изгиб дороги прошёл бы незамеченным, не следуй за ним нечто, останавливающее взгляд властно и бесцеремонно.
Резко затормозив, выскочил из машины и ринулся по насыпи вниз, разглядывая медленно и несинхронно вращающиеся колеса – будто перевёрнутый на спину жук, беспомощно сучил лапками автомобиль.
С ужасом узнал того самого монстра, который неудачно обогнал его, оскорбил несколько минут назад в блаженном первозданном одиночестве.
Тёмные стекла осыпались. Водитель умер, - пульса у него не было. Восковое кукольное лицо залила кровь. А кругом, как назло, никого.
“Что же делать? Ждать, когда кто-нибудь проедет мимо? Зачем? У самого машина...”
Понял, что просто боится оставаться наедине с трупом, и поэтому первая мысль – о другом, о любом живом человеке, с которым можно разделить этот ужас.
Первая дрожь прошла.
“Запомнить километр. Добраться и сообщить. Срочно. А водитель?.. Водителю уже не поможешь, так что, брать его с собой смысла нет...”
Вскочив за руль, рванул. Мелькали столбы, деревья, линии электропередач. Быстро темнело.
“Что же я натворил...” Это догнала его мысль, догнала его, так поспешно бежавшего с места преступления собственной глупости и трусости.
Теперь всё сущее казалось враждебным. Ехал по изнаночной стороне мира и все швы безобразно лезли в глаза. Нога приросла к педали, руки к рулю.
Впереди показались габариты. Машина шла довольно быстро. Но он быстрее.
Догнал. Как назло – поворот. Стал обгонять. Ждать некогда, не до церемоний. Обгон получился грубым, грубым, неприличным. В соседнем окошке мелькнуло перекошенное злобой лицо.
“Да, не прав, конечно, подрезал, но не до того... Извини...”
Оставшаяся позади машина утонула в сумерках зеркала.
Почти стемнело. Впереди, пересекая темное небо, почему-то появилась радуга. Какая-то занавесь перерезала дорогу. Подъехав ближе, увидел, что это стена ливня. Никогда не видел такого, не знал, что дождь наступает на сухой мир идеально ровной стеной.
Пронзив тонкий слой воды, автомобиль ворвался в шумящие потоки. Мошки капель лопались на тверди лобового стекла, как феи, при попытке проникнуть в иной, недоступный им мир. Свет фар вырвал клок тёмного блестящего асфальта...
Поворот. Понесло вправо. Выкручивая руль до упора, чувствовал, что машина не слушается, что её уносит с дороги.
Беспомощный отчаянный крик тормозов... мгновенье невесомости... (как это правда было похоже...) удар... ещё... мельканье мира в глазах, какой-то не то шорох, не то шёпот и, наконец, темнота...
Сквозь красноватый фильтр пелены проступил свет фар.
“К а к в к и н о...”
Он любил кино. Особенно атмосферу съемочной площадки. Скучал по ней. А иногда грубо шутил: “Как по бабе”.
От затормозившей на обочине машины к нему бежал человек с испуганным бледным лицом – таким бледным, что в залитом густыми сумерками воздухе оно казалось светящимся.
“Н у и д е н ь... П р е д у п р е д и т ь э т о г о, ч т о б ы н е г н а л... . . . . . .”
Тьма уплотнялась. На мгновенье лицо исчезло, а потом снова появилось, но уже другим. Женским. Длинные космы не давали рассмотреть глаз. Окружённое пульсирующим мраком, лицо плавно покачивалось, мерцало как голограмма и, приближаясь, становилось всё бледней и бесстрастнее.
"ЧЕРЕП ЕДИНОРОГА"
мифологическая
Мне бы, признаться, хотелось повстречать единорога, пробираясь через густой лес. А иначе какое удовольствие пробираться через густой лес?
У.Эко “Имя розы”.
Череп был будто из воска. Не мягкий конечно, а какой-то тёплый, гладкий и чистый. Несмотря на осеннюю сырость, к нему не пристала грязь, только на нижней челюстной кости пулевым отверстием темнел присохший клочок бурого листа, да тонкая калька пыли равномерно покрывала странную находку.
За исключением одной детали, череп был останком головы небольшой лошади. Возможно, размером с пони. Что это именно пони - маловероятно, – пони не живут в дикой природе Подмосковья, если они, конечно не беглые, а это абсурд – беглый пони! Зачем пони куда-то бежать! Да, они грустные, как и ослики, их неважно кормят хозяева и катают на их спинах разных, в том числе и очень вредных детей. Но бежать пони не может, не бунтари они по натуре.
Ещё это мог быть череп осла, кулана, онагра, кианга, маленькой зебры, либо жеребёнка лошади обыкновенной, домашней или дикой, ну или лошади Пржевальского, каким-то образом прискакавшего из Азии.
Этим познания Рогова о лошадином семействе отряда непарнокопытных исчерпывались, а о лошади Пржевальского он вообще помнил только дурацкий анекдот: “Это лошадь Пржевальского?” – “Нет, это моя лошадь”.
Присев на пень, Рогов ещё раз осмотрел находку. Сковыривая ногтем клочок палого листа, Иван почувствовал твердь кости. Череп был лёгким, тонким, а изнанка его была так же чиста, как поверхность. Рогов не в состоянии был даже приблизительно определить возраст предмета, но почему-то казалось, что черепу в теперешнем виде лет довольно немало.
Размышления эти были, в сущности, слабой попыткой увильнуть от главного. А главное заключалось в том, что ни одному из известных Рогову животных череп принадлежать не мог, это было совершенно ясно. Дело в том, что у черепа этого торчал из лобной кости тонкий, заострённый рог.
В объективной реальности происшедшее смахивало на случайную находку фантастического экспоната, пропавшего из секретного зоопарка, либо на спланированную кем-то заранее мистификацию (в таком случае этот или эти “кто-то” – большие шутники – должны были бы сейчас наблюдать из ближайших кустов за нелепым поведением Рогова и страшно радоваться).
Эта версия сразу не понравилась Ивану своим полным идиотизмом (хотя на всякий случай он оглянулся) – как гарантировать, что именно в эту пору и на это место явится человек. Это могла быть игривая шутка друзей, которые находились неподалеку, на просторной уютной поляне. Этим полусолнечным воскресным днём ранней осени, они собрались на пикник, чтобы как следует отпраздновать день рождения Рогова, появившегося на свет, кстати говоря, именно в воскресенье.
Итак, все варианты объяснения находки казались нелепыми. Друзья пошутили бы по-другому, – всё-таки, серьезные люди; для бутафории череп выглядел слишком реальным, даже зубы были настоящими, хотя и подозрительно ровными и чистыми... (нет, Рогов не то чтобы специально осматривал зубы, он был воспитанный человек и к подаркам судьбы относился деликатно и с благодарностью, просто обратил внимание – губ-то у черепа не было...)
Привычный мир катился с высокой горы, и сам Рогов участвовал в этом происшествии, причём, лыжником себя не ощущал, – лыжники на ногах стоят твёрдо, особенно когда едут с трамплина – чтобы приземлиться, представляете, какие ноги надо иметь?..
Прежде всего нужно успокоиться... Так говорят. Но Рогов и так был спокоен, потому что уверен: в Подмосковье, равно как и в других регионах нашей страны, не водятся и никогда не водились единороги.
Рогов сидел на пне в позе примерно Достоевского у подножья Библиотеки, держал в руке череп, и размышлял о тайнах мироздания, и хотя не играл с этим единорогом в детстве и ни разу не целовал его губ или морды, приятна была даже такая, в сущности, кладбищенская встреча.
Прошло некоторое время. Череп не исчезал, не рассыпался в руках, не превращался в консервную банку, и, мало-помалу, Рогов в него поверил, а поверив, стал интересоваться, как же держится рог на лобной кости. Удивительно, но ни щелей, ни трещин или наростов в месте стыка не наблюдалось – переход был плавным и гладким. Как будто рог вытянулся из общей костной материи в жидком состоянии, а потом, застыв, стал несколько отличным от “материнского” вещества.
У основания рог имел диаметр сантиметра три, длиной был сантиметров двадцать пять, и в первой трети почти не отличался по цвету и фактуре от самого черепа; к середине он становился тёмно-серым, почти чёрным; и, наконец, самая тонкая его треть – гранатовая, полупрозрачная, – к концу была почти как цыганская игла.
Поверхность рога по всей длине была покрыта продольными узкими желобками, что в поперечном разрезе делало его похожим на патиссон. Кроме того, он был немного перекручен, словно застыл в тот момент, когда некто, взяв за концы, стал этот рог выжимать (как мокрое полотенце).
В какой-то момент Иван поймал себя на том, что перестал удивляться и просто разглядывает этот игрушечный рог, не в силах оторвать взгляда от цветовых переходов и драгоценного внутреннего свечения острия.
Посмотрев на мир отвыкшим зрением, Иван заметил, что всё, в общем, нормально: солнце, как и положено в этот час, уже закатилось, день убывает. Идти никуда не хотелось – хотелось сидеть здесь, на пне, любоваться удивительным рогом и вспоминать кельтские сказки, которые Иван когда-то любил и даже мечтал уехать в Британию – всё равно куда именно, и жалел, что не родился британцем, или хотя бы человеком с судьбой режиссёра, снимающего фильмы на кельтской фактуре...
И это было недавно. Почему же он всё позабыл? Почему кажется, что прошло много лет? Что случилось?..
Ивану почудилось, что до этой минуты им владело какое-то наваждение. Но ничего, теперь он всё вспомнит и вернется к своим мечтам! Не важно, что ему далеко за тридцать, и что он всё ещё малоизвестный сценарист и совсем никому не известный режиссёр...
Рогов поднялся на ноги, огляделся, прислушался... Вихрь удивительных ощущений охватил его. За несколько секунд Рогов пережил такой шквал восторга, ликования, упоительного, рвущегося наружу внутреннего смеха, какого не испытывал прежде ни разу.
С большим трудом сдержался Иван, чтобы не залиться хохотом прямо здесь и сейчас – ни с того, ни с сего! Ощущение было в сотни раз сильнее первобытного ликования, которое чувствует голодный перед скорым обедом, с таким ликованием трудно справиться, – вырывается на волю незаметный упругий смех, больше похожий на нетерпеливое хныканье и поскуливание.
Через несколько мгновений это прошло, а Иван почувствовал неодолимое желание показать находку друзьям, поделиться с ними радостью, которую сам испытал. Он быстро пошёл в направлении голосов, спотыкаясь, продираясь через цепкие ветви, попадая ногами в болотистые лунки, скрытые листьями, вирированными монотонной сепией осени.
Не заметив под ногами палого ствола, Рогов споткнулся и всей тяжестью тела рухнул в небольшой окоп, вырытый в военные времена рядом с молоденькой сосёнкой, постепенно превратившейся в могучее древо.
Падая, Иван выронил череп и теперь, неловко возясь в шуршащей ржавчине леса, пытался найти его.
Черепа не было.
Рогов возился шумно и привлёк внимание пирующих. Те принялись было смеяться (особенно женщины, падкие на такого рода штучки), - подумали, что Рогов затеял какую-то игру, - но сообразив, что потерпевший не разделяет восторгов и возится в яме вполне серьёзно, ринулись другу на помощь.
Весело валяясь во влажной листве, милые мужчины и женщины с трудом выволокли из ямы упиравшегося Рогова. Упираясь, Иван продолжал озираться, ползать на коленях, ворошить ногами и руками листву. Поиски ничего не давали, Рогов психовал всё больше и больше, – настолько, что когда одна из малознакомых дам, директриса с Мосфильма, чья-то подруга, наклонившись к нему, осведомилась о предмете его столь неистовых поисков:
- Что ж такое вы обронили, что может быть важнее живого общения с друзьями?.. Дорогие часы? Зажигалку?..
Несколько голосов высказали свои предположения. Фигурировали портмоне, айфон, перстень с бриллиантом, редкая старинная монета, коллекционный нож, ручка "Montblanc" и даже таблетка виагры.
Тогда Рогов не выдержал. Выпрямился и гневно прокричал, обращаясь ко всем разом:
– Что потерял?! Для кого-то – кусок дерьма, а для кого-то – крупный брильянт, блять!.. – А потом прошипел сквозь зубы, не обращаясь ни к кому в частности:
– Кретины, блять... уроды, поделиться хотел... дерьмо одноклеточное...
Мало-помалу почти все присоединились к поискам, за исключением наиболее обидчивых и чистоплотных. Многие искоса поглядывали на виновника, пытаясь по выражению лица понять истинную ценность потери. Определять было не по чему – лица на Иване не было. Это подхлестнуло ищущих, и они стали искать усерднее – добрые, жалостливые люди...
Известный режиссёр, ближайший друг Рогова, подобравшись вплотную, интимным шёпотом пробормотал, пытаясь заглянуть свиными глазками в глаза сценаристу:
– Вань, ну мне-то можешь сказать?..
Стоя на четвереньках, Иван замер, внимательно и серьёзно посмотрел на режиссёра и тихо сказал:
– Я потерял самую удивительную вещь, которую только видел в жизни... – череп единорога.
Не дожидаясь реакции друга, Рогов вернулся к поискам. В глазах его читались отчаянье и мучительное чувство бессилия – то есть, в точности то же, что и было в душе.
Общество расползалось, расширяя радиус прочёсывания и постепенно забывая, чем именно все занимаются. Друг-режиссер стоял в стороне, отряхивал одежду и с ухмылкой разъяснял что-то небольшой группке людей, кивая в сторону ползавшего по земле сценариста.
Постепенно около режиссера собрались почти все...
Кто-то воспринял происшествие как розыгрыш – эти смеялись, отдавая должное остроумию и актерскому таланту Рогова, и даже советовали режиссёру дать ему роль; кто-то счёл это пьяной выходкой – те были возмущены и желали как можно скорее уехать; а некоторые решили, что Рогов сошёл с ума по-настоящему – они старались придать лицам выражение безразличия, дабы не раздражить больного пуще прежнего.
Какая-то мало кому знакомая, очень милая девушка, сочувственно поглядывая на Рогова, отошла от компании и решила продолжить поиски в некотором отдалении.
Вдруг, испуганно вскрикнув, она выпрямилась и несмышлёной козочкой отпрянула от места, над которым только что наклонилась. Вскочив на ноги, Рогов с криком: “Нашла?!”, ринулся к девушке. Та испугалась ещё больше. С опаской глядя на Рогова, она молча указала на свою находку. Присев на корточки, Иван извлёк из-под слоя листьев череп.
– Нашла, нашла, – твердил он, удивлённо глядя на девушку, – нашла... Как тебя зовут? – Иван смотрел только на девушку.
– Женя, – приходя в себя, произнесла она и поправила русые волосы, упавшие на глаза.
– Женя... Женя...– твердил он, словно запоминая.
Неожиданно Рогов умолк и поражённо уставился на то, что держал в руке. Первое, что он испытал, было сотрясение мозга. Точнее, сотрясение окружающего мира в глазах. Как будто кто-то взял в руки мозг, вместе с глазами, и сильно тряхнул, отчего картинка как бы качнулась.
Рогов держал в руке найденный Женей, очень похожий на тот, что нашел он, но абсолютно безрогий череп! На месте рога во лбу темнело неровное отверстие диаметром около трёх сантиметров.
– Это не тот! – вырвалось у Рогова.
Эхо растаяло. В лесу повисла тишина. Нет, это глупо – тишина повисла... Что она – нос? Чего это она вдруг повисла?.. Просто стало очень тихо, и всё.
Таким тихим может быть, пожалуй только висельник. Или утопленник. Хотя, какой утопленник в лесу, – скорей уж висельник. Представляете? В лесу. В тишине. В гробовой. Да нет, всё это бред, и тишина не похожа ни на какого висельника. И на нос она не похожа.
В общем, молчали люди, находившиеся в лесу, природа же, своим чередом, частично отходила ко сну – частично же, наоборот, просыпалась. То есть, худо-бедно звучала. Вот ещё тоже: худо-бедно. Откуда берутся такие обороты? Нам бы такую бедность: сверчки, птицы, шорохи, шелест, потрескивания. Но в тишине. А может тишина – это отсутствие звуков, связанных с человеком? Скажем, урчание кошки в тёмной комнате – это тишина или шум?
– Это что... был жеребёнок?..– наивно изрекла директриса. Именно изрекла. В тишине. Теперь уж похожей не только на нос, но и на член.
Все молча смотрели на Рогова. Иван насчитал около десятка разных выражений на лицах.
Скорчив нелепую рожу, клоунски захохотав дурным голосом и прокричав: “Шутка!!”, Рогов подпрыгнул на одной ноге (задрав другую), размахнулся и высоко зашвырнул череп, он прошелестел по ветвям и листьям и глухо шлёпнулся неподалёку.
Сам же Рогов, подбежав к костру, несколько неловко через него сиганул, поскользнулся на листьях, чуть не упал, но устоял, ещё раз опереточно захохотал, схватил бутылку вина, картинным киношным движением взболтнул, а потом жадно и надолго приник губами к горлышку.
Постепенно все расслабились: ещё выпили, перекусили, спели несколько песен под гитару, попрыгали через костёр, посплетничали...
О происшествии почти позабыли...
Стемнело.
Когда Женя ушла от жаркого костра поближе к тёмной прохладе леса, она вдруг увидела Рогова, который переходил от дерева к дереву и оставлял на коре зарубки перочинным ножом.
Заметив девушку, Иван сначала нахмурился, а потом улыбнулся.
"ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК"
демонологическая
Однажды зимою, в час ночи, холодной и пасмурной, в Москве, в непосредственной близости от троллейбусного парка N, заблудился один гражданин. Был он высок, крепок, чёрные усы, густо свисающие по краям, придавали его лицу нагловатое украинско-казачье выражение, волосы же особенной густотой не отличались.
Фамилия человека была – Пудов.
Одет он был бедно и не по сезону, отчего дрожал как работающий сверхурочно компрессор.
Лет Пудову исполнилось тридцать, звали его Лаврентием Аристарховичем, и служил он актёром в одном малопосещаемом московском театре. Был Пудов женат, но отношения с женой не заладились. Да и не могли - выпивал Пудов излишне, а зарабатывал мало.
Казалось, жизненная неприкаянность должна была придавить Пудова тяжеленной гирей до полной ментальной недвижности, а между тем, взгляд Лаврентий Аристархович имел человека почти благополучного.
В этот ветреный вечер Пудов возвращался домой с не вполне удавшейся репетиции, за которой последовала более успешная и почти традиционная пьянка с доблестными осветителями вышеозначенной организации.
Держа в согнутых на манер американского жеста “о’кей”, окоченевших пальцах большой обветренной руки короткий окурок сигареты без фильтра, артист затянулся, зашипел от ожога, бросил тотчас рассыпавшийся фейерверком искр огонёк в темноту и сунул руки в карманы короткого условного пальто.
Потоптавшись на месте, Пудов сплюнул и ещё раз внимательно осмотрелся по сторонам. Места пролегали полузнакомые.
Вон та улица, едва освещённая уцелевшим фонарём, да и эти вот, уходящие в неведомую перспективу дома, мрачные и чрезмерно официальные, вызывали в памяти многочисленные нетрезвые прогулки по крепко спящему городу.
Беда была в том, что Пудов не помнил, как выйти к метро, а прохожие, как назло, не попадались.
Тусклые фонари отчётливо скрипели, качаясь под порывами переменчивого ветра. Кругом не было ни души. Пустая картонка из-под молока лихо перекатывалась по асфальту, издавая угловатый, вполне уличный звук, изящно соответствующий свинговому ритму освещения.
– Ззаррраза!.. – не зло молвил продрогший, начинающий трезветь Пудов и, решив ещё раз испытать судьбу, направился к перекрёстку, оставляя по правую руку ворота парка, набитого стадом спящих троллейбусов.
Подойдя к перекрёстку, Пудов понял, что начисто забыл, куда сворачивал в прошлый раз. Он остановился и смог вспомнить только, что не ходил прямо.
Две предыдущие попытки выбраться из хитросплетения переулков и подворотен, успеха не имели и неизменно приводили Пудова к парку. Продвигался Лаврентий оба раза одним маршрутом, упорно считая его верным, а теперь вот запамятовал: направо это или налево.
Решив отправиться прямо, Пудов немедленно вспомнил о камне-указателе из народных сказок, об Иване-царевиче, которого изображал на подмостках, представил себя гордо восседающим верхом на буланом коне, в шлеме, со щитом, глуповато, но радостно усмехнулся (понравилось) и быстро пересёк проезжую часть улицы.
Углубившись в тёмную кишку переулка, Пудов вдруг оробел. Представились ему там впереди разные неопределённые страхи, сердце зашлось, как на высоте, а ноги стали слабыми, словно низ у снежной бабы весной.
А тут ещё выскочила из-за туч луна и обблевала всё вокруг мёртвым светом. Заплакал ребёнок, засмеялся мужчина, послышался звон бокалов, кто-то тяжело вздохнул над самым ухом бедного Пудова.
Обернувшись, Лаврентий разглядел на ступеньках справа, метрах в шести, графически обозначенный светом подъезда, неподвижный силуэт какого-то зверя.
Судя по размерам, это была кошка или маленькая собака. Обойдя подъезд по безопасной дуге и упершись в стену дома, Пудов понял, что это не кошка сидит на ступеньках и не собака; он разглядел, что на ступеньках сидит гигантская крыса и, поблёскивая омерзительными каплями глаз, пристально смотрит на него, на Лаврентия Аристарховича Пудова. Ну это уж ни в какие ворота!..
Пудов содрогнулся от омерзения; Пудову стало на мгновение жарко. Он присел на корточки и, не отрывая взгляда от крысы, опустил руку к асфальту. Опустил – и по чистой случайности наткнулся пальцами на противно-влажный кирпич. Ни секунды не раздумывая, Пудов поднял его и что было сил швырнул. Зверь технично рванул прочь, а камень со звуком катастрофы ворвался в спящий и гулкий, как пещера, подъезд.
Наверху раздались голоса, хлопанье дверей и угрожающий топот нескольких пар тяжёлых мужских ног, сбегающих по лестницам. Пудов, хотя и опасаясь показаться невежливым, всё же предпочёл покинуть место событий. Первые несколько секунд он довольно смутно представлял себе маршрут и лишь тешил себя мыслью о согревании, которое неизбежно последует вскоре за столь энергично выполненными физическими упражнениями типа “бег”.
Бежал Пудов прямо и, поравнявшись с воротами троллейбусного парка, теперь оказавшимися слева, с удивлением подметил новую деталь: низенькая, почти незаметная ранее калитка, вырезанная в стальных крашеных жёлтым воротах, была приоткрыта. Шмыгнув в волшебную дверцу (если можно так сказать – шмыгнув – о слоне, улизнувшем от охотника в крепкую клеть зоопарка), Пудов прижался спиной к холодному металлу и затаился.
Сдержав дыхание, услыхал, что звуки погони, значительно не достигнув нужного места, благополучно прошли стороной. Вероятно, стало действительно жарко, ибо по лицу Лаврентия струился пот, а усы и волосы имели вид усов и волос, плохо высушенных полотенцем после парной.
Отдышавшись, Пудов решил осмотреться. Первым делом заглянул на огонёк в светящееся окошко сторожки, слева от ворот примыкающей к двухэтажному силикатно-кирпичному зданию администрации.
В сторожке было светло, относительно уютно, но совершенно безлюдно. Без видимой Пудовым причины сторож отсутствовал и на обозримой части территории.
Часть эта, правда, была невелика: до ближайшего ряда троллейбусов от силы метров десять-тринадцать, а дальше – никакой, собственно, территории, и, взобравшись на пожарную лестницу, Пудов обнаружил только ряды стоящих бок о бок троллейбусов. Их было невероятное множество и, геометрически расположенные, выглядели они величественно и вселяли ужас в натерпевшееся сердце артиста, никогда не видевшего столько единиц транспорта общего пользования одновременно. “Дьявольские колесницы на стоянке в Вальпургиеву ночь”, – витиевато и пафосно подумалось Пудову.
Чем дольше обозревал Пудов ряды демонических, как ему казалось, механизмов, тем яснее понимал, что отсюда не выбраться, что можно пытаться ещё много раз искать дорогу к метро, и всё равно выход будет один: к воротам этого чудовищного фатального стойла. А может быть Лаврентий просто устал и стал замерзать и именно поэтому смотрел на вещи столь дико и мрачно. Трудно сказать. И не нужно. Ибо всё, что ни будет сказано, станет лишь версией, предположением, – я ведь не Пудов и не могу знать достоверно, что он испытывал в тот момент.
Я могу лишь в какой-то степени стать Пудовым, рассказывая эту занимательную историю, как могу стать мужиками, бегущими вниз по лестнице, чтобы набить незнакомому Пудову морду; или крысой, сидящей на крыльце подъезда и строящей мужчинам глазки; или пьяным сторожем, удалившимся в “белый дом” погреться, да так и уснувшим в гулком кафельном помещении социально-физиологического назначения; или одним из уставших сторожиных друзей; в конце концов, я могу даже попытаться стать одним из многочисленных отдыхающих троллейбусов – такова сила нашего перевоплощения, – но и только – это всё равно буду я. А каково было тогда моему подопечному, можно лишь предполагать.
В дальнейшем, предположительно, произошло следующее. Решив, что пытаться проникнуть в тёплую сторожку, а тем паче – в кирпичное здание, будет слишком рискованно, Пудов отправился прямиком к троллейбусам, поискать место для ночлега там. Заметно и резко похолодало; надвигался настоящий мороз. Наступала зима. Не только календарная, но уже настоящая.
Побродив среди металлических громадин и отчаявшись было отыскать искомое, Лаврентий набрёл, наконец, на открытую дверь.
В салоне было темно и не тепло, но тихо, и как показалось Пудову, безопасно. К тому же, другого варианта всё равно не предвиделось, и Пудов устроился ночевать, улегшись на бок и согнувшись под прямым углом на двух смежных, расположенных лицом к лицу в передней части салона, сидениях, тех, что для инвалидов с детьми.
Усталость и остатки алкоголя взяли своё, и Лаврентий, даже не заметив, что из кармана у него выпал паспорт, быстро уснул безмятежным сном почти счастливого человека.
*
Пудову снился троллейбус. Пустой, ползущий в неведомую даль с двумя пассажирами на борту. Света было много и он красиво лоснился на глянцевом дерматине безлюдных сидений.
Пудов сидел по ходу и считал медленно проплывающие вверху фонари, сливающиеся в двойной экспозиции с отражением салона в тёмных, едва просвечивающих стеклах.
Напротив Пудова сидела женщина. Он видел её отражение в стекле. Лицо её было знакомым и абсолютно спокойным. Вот она поправила волосы правой рукой... нет, в отражении правой, а так значит левой... Кольцо. Разведена?.. С кем?.. Или, может, вдова?..
Зачем-то Пудов посмотрел на часы.
Женщина окинула окружающее взглядом человека, за которым наблюдают. Пудов смотрел в окно, пережидая. Взгляды в реальности пересекались и расходились в стороны, не задерживаясь и оставляя в точке прошедшей секунды точку пересечения, не способную на деле стать линией общего поведения.
Оба смотрели в окно. Скоро Пудов перестал видеть окружающее, сосредоточившись на попутчице. Та не замечала и провожала ровным спокойным взглядом едва заметных вечерних прохожих, светящиеся окна домов, тёмные шуршащие автомобили, но скоро заметила что на неё смотрит попутчик; вначале испуганно отвела глаза, а затем короткими взглядами приблизилась к точке соприкосновения.
Отражённые взгляды встретились и, оправданные нематериальностью существования, долго не отрывались друг от друга, позволяя себе осуществить мимолетное тайное желание реальных пассажиров, связанных в жизни условностями.
Троллейбус дёрнулся и остановился. Одновременно послышался хлёсткий металлический удар по крыше, и в салоне погас свет. Отражения по инерции рванулись вперёд и вдруг исчезли, словно соскочили со ставших прозрачными стёкол, – поспешно, как будто страстно и нетерпеливо хотели поскорее оказаться на свободе и наедине.
Примерно через минуту в салоне зажглись лампы, троллейбус заурчал, как кошка, завибрировал и вдруг, медленно оторвавшись от земли, воспарил и плавно полетел по кругу.
Попутчица куда-то исчезла, Пудов остался один.
Что-то за окном привлекло его внимание.
Приблизившись к стеклу и сделав из ладоней не слишком качественные шоры, Пудов разглядел медленно пересекающих безлюдную площадь мужчину и женщину.
Они шли, взявшись за руки, и смотрели друг на друга. Лиц видно не было, но Пудову почему-то показалось, что они знакомы недавно и ещё не изучили друг друга. Шагнув в темноту, они вдруг исчезли, растворились в ней, перестав быть частью видимого материального мира. И тогда Лаврентий понял, что это его отражение и отражение попутчицы остались там, за стеклом.
Тут он вспомнил, почему знакомо ему лицо этой девушки. Он видел её на дне рождения одного приятеля, сценариста, ранней осенью, за городом, на пикнике, там ещё произошла какая-то странная история с черепом... Просто у Ивана, похоже, слегка поехала тогда крыша. И девушка была с таким... с молодым крупным мужчиной, рекламистом, что ли. Ещё фамилия у него была какая-то детская...
Троллейбус, между тем, стремительно взмыл к звёздам и, вдавив Пудова в кресло свинцовой тяжестью перегрузки, унёсся в сторону Альтаира.
*
Проснулся Пудов оттого, что рядом беседовали. Приняв невнятные звуки за часть сна, Лаврентий не удостоил их вниманием и попытался доспать. Не получилось. Дверь, ведущая в сновидение, оказалась накрепко замороженной, а разбуженный организм желал согреваться.
С каждым выдохом из носоглотки Пудова валил густой полноценный пар, усы и борода заиндевели, а их обладатель дрожал мелко и обстоятельно.
Выпрямив совсем окоченевшее тело, Лаврентий попытался расслабиться. Дрожь прекратилась, но через секунду возобновилась с ещё большей силой. Пудов стремительно сел.
Неподалёку, на соседних сидениях расположились двое мужчин. Заметив, что Пудов проснулся, они замолчали.
Один выглядел угрюмым и неприветливым. Остренькие черты лица его пребывали в изящной гармонии с колючим, и почему-то напомнившим Пудову крысу у подъезда, взглядом. Рот незнакомца изгибался узкой скобой, уголками вверх, что, тем не менее, не придавало лицу улыбчивого выражения; подбородок был излишне сточен и вертикально разделён посредине неглубокой ямкой. На щуплом теле человечка красовалась новая, ладно подогнанная по размеру, элегантная одежда: осеннее пальто, костюм, галстук, не очень тёплые элегантные туфли. Незнакомец презрительно разглядывал Пудова. Пудов забеспокоился.
Второй гость был толст, бородат и вид имел, напротив, приветливый и добродушный. Он улыбался Пудову лучезарной летней улыбкой и постукивал ногтем толстого указательного пальца правой руки по стеклу большой и приятной бутылки, которую держал, соответственно, в левой. На бутылочной этикетке красовались надписи "Celtic club”, "Irish whiskey”, "100% malt”, а посередине был изображён некий герб: перекрещенные шпаги и четырёхлистный клевер в золотисто-зелёном круге с характерным орнаментом по краю.
– Ишке бяха, – нежно сообщил бородач и подмигнул Лаврентию. – Вода жизни.
Лаврентию стало уютно и хорошо. Угрюмый спутник добродушного толстяка с достоинством кивнул, и хлебосол приступил к делу. Из большой кожаной сумки выудил две банки хороших рыбных консервов, нож, полбуханки нарезанного бородинского хлеба и три батончика “Сникерс”.
Привычно быстро разложив содержимое сумки на обложке развёрнутого старого журнала “Наука и религия” и молниеносно вскрыв консервы, он бодро хлопнул в ладоши, осмотрел “стол”, удивлённо приподнял брови и указательный палец, шлёпнул себя по лбу и достал из кармана своего бесформенного тулупа три стеклянные мензурки.
Завершив таким образом сервировку, бородатый удовлетворённо хмыкнул и пытливо посмотрел на своего спутника. Тот кивнул и криво осклабился. Бородач звучно хлопнул его ладонью по спине и захохотал. Щуплый злобно ощерился.
Пудов заворожённо наблюдал эту пантомиму и очнулся только когда бородач щёлкнул несколько раз перед его лицом большим и указательным пальцами правой руки. В левой он уже держал наполненную мензурку.
Пудов потянулся за своей порцией.
Щуплый аккуратно выпил.
Б о р о д а ч (выпив): Ты как тут?..
Он ловко поддел ножом ломтик рыбки в банке и отправил его в рот.
П у д о в (выпив): Заблудился.
Услышав ответ Пудова, бородач по-детски прыснул, обдав собеседников и окружающее пространство мутными брызгами слюны, смешанной с маслом и наполовину пережёванной рыбой.
Щ у п л ы й (брезгливо утираясь): Трудно заблудиться в городе. Вы москвич?
П у д о в: Ну... в принципе, да...
Б о р о д а ч (хмыкнув): В принципе... Ясно. Давай выпьем.
Они выпили ещё по одной, потом ещё и ещё. Пудов согрелся и снова начал хмелеть.
Новые знакомые оказались нормальными. Обсудили вопросы текущей политики, экономики и культуры, причём Лаврентий высказал весьма трезвые мысли. Сошлись на том, что фашисты не пройдут; посетовали на неразборчивость нового поколения; отметили заметное падение общей духовности организмов. То есть, всё было абсолютно путём.
Наступила закономерная пауза любого застолья.
Б о р о д а ч: Я вижу, ты курить хочешь.
П у д о в: Ну...
Б о р о д а ч (игриво): Вы какие предпочитаете?
П у д о в: Ну ты даешь!
Б о р о д а ч (улыбаясь): Ты должен ответить: “А у вас разные, что ли, есть?”
П у д о в: Ах, всё-таки, вот так... Ну хорошо. (Пауза. Хорошо поставленным голосом, мрачно): А у вас разные, что ли, есть?
Б о р о д а ч: Какие предпочитаете?
П у д о в (нарочито враждебно): Ну “Лаки страйк”.
Бородач извлёк из кармана и раскрыл тёмно-синюю початую пачку “Космоса”.
Пудов удивлённо посмотрел на пачку.
Б о р о д а ч: Раритет. Сегодня нашёл. Отличное состояние. Кто-то видно от хлама избавился.
Порывшись сарделечным пальцем в пачке, выудил оттуда сносный окурок “Лаки страйк” и протянул Пудову.
Б о р о д а ч: “Лаки страйк”, как и было заказано.
П у д о в (прикуривая): Забавное совпадение.
Б о р о д а ч: Совпадений никаких не бывает. Закономерности.
Щуплый хихикнул. Лаврентий мимоходом взглянул на часы. Стрелки лживо показывали половину второго.
П у д о в (Бородачу): Который час?
Б о р о д а ч: У тебя же есть.
П у д о в: Да они чё-т, вроде, врут.
Б о р о д а ч (посмотрев на часы Щуплого): Полвторого.
П у д о в (помолчав): Не может быть.
Б о р о д а ч: А что?
П у д о в: Перед тем, как я увидел крысу, ну когда пошёл прямо, я смотрел на часы. Было десять минут второго.
Б о р о д а ч: Ну и что?
П у д о в: Как это “что”? Я потом ещё полчаса, наверное, бродил среди этих троллейбусов. Потом спал. Долго.
Щ у п л ы й: Ну это... бывает (Пауза). Относительность... Даже не такое бывает. Выпейте. (Отвлекается).
П у д о в (выпив): Чёрт!..
Щ у п л ы й: Что?..
П у д о в: Да всю ночь тут торчать!..
Щ у п л ы й: А зачем же торчать? Мы хорошо посидели, можно и разойтись, так сказать. Вам же завтра на работу, наверное?
П у д о в: Так я же говорю: заблудился я. Чертовщина какая-то творится. Как будто кто-то по кругу водит.
Щ у п л ы й (задумчиво): Замкнутый круг… Да, это дело известное.
Он вдруг гаденько, но весело захихикал и пихнул в бок прикорнувшего толстяка. Тот проснулся и, не разобрав в чём дело, хмуро забубнил.
Б о р о д а ч: Чё, чё, чё вы, чё, чё, а? Чё?
Щ у п л ы й: Поможем товарищу? А то у него чертовщина творится.
Бородач несколько секунд помолчал, а потом вдруг стал студенисто сотрясаться всем телом. Смех был настолько заразительным, что Пудов не выдержал и улыбнулся.
Отсмеявшись, бородач вытер рукавом глаза и вдруг сделался хмурым. Пудов воровато оглянулся по сторонам.
Б о р о д а ч: В общем, так. Если хочешь выйти, заплати, – и мы тебе поможем. Идёт?
П у д о в (разочарованно): Да ну... у меня и денег-то нет, мужики. Всё шуточки шутите...
Бородач покачал головой.
Щ у п л ы й: Деньги здесь ни при чем. Нам нужно другое.
П у д о в: А что?
Б о р о д а ч (нежно): Душа твоя, вот что. Дурилка.
И хлопнул его по плечу ладонью величиной с лопату.
Пудов засмеялся. Шутка и в самом деле была недурна. Особенно хорошо сработала таинственно-суровая прелюдия.
П у д о в: Ладно, договорились. Говорите, как выйти.
Щ у п л ы й: Э-э-э, нет. А ритуал?
Бородач выудил из кармана спичечный коробок.
Б о р о д а ч: Давай палец.
П у д о в: Зачем?
Щ у п л ы й (ухмыляясь): Как зачем? Возьмём кровь и скрепим, так сказать, нашу сделку.
П у д о в: Да ну, мужики, нож-то грязный. Ещё инфекцию... это... Шуточки тоже...
Б о р о д а ч: Не хочешь – не надо. Сиди тогда.
Щ у п л ы й (дипломатично): Можно продезинфицировать. Водой жизни. Нет, но если вы не желаете...
П у д о в: Ладно, давай.
Он плеснул немного виски из мало опустевшей почему-то бутылки на указательный палец, вытер его носовым платком, затем спрыснул лезвие ножа, резанул, выдавил каплю крови и приложил палец к спичечному коробку в том месте, которое указал Бородач. Оставив неровное красное пятнышко, похожее на птичку, Лаврентий залил ранку водой жизни и принял солидный глоток внутрь.
П у д о в: Слушайте, чего-то я не подумал... А куда я пойду-то?.. Метро закрыто. Я и домой-то не попаду... Зря только палец резал...
Настроение внезапно испортилось.
Щуплый же оживился пуще прежнего.
Щ у п л ы й: Ничего страшного, ничего страшного. Сейчас выйдете из парка и пройдёте к перекрёстку. Там увидите жёлтое такси. Таким образом попадёте домой. (И добавил проникновенно). Дорогой вы мой человек...
П у д о в (хмыкнув): Ничего себе выход. У меня денег на метро только. Такси, блин...
Бородач достал из кармана несколько скомканных бумажек.
Б о р о д а ч: На. Этого хватит. Ты где, кстати, живёшь?
П у д о в: На Речном...
Б о р о д а ч: Точно хватит. Даже останется.
П у д о в: Ну ладно. Спасибо, мужики.
Щ у п л ы й (формально-вежливо): Вам спасибо.
Б о р о д а ч (равнодушно): Мож ещё посидишь?
Пудов покачал головой и вышел на улицу. Луны не было; из темноты посыпался крупными хлопьями снег.
Лаврентий поднял воротник пальто и быстрым шагом направился к выходу из троллейбусного парка.
*
Ветер стих. Улицы белели по-новогоднему. Пудов прибавил шагу. Проходя мимо молочной коробки, увидел, что она почти целиком засыпана снегом. Откуда-то сверху донеслись звуки женского голоса, поющего тоскливую заунывную песню. Слов было не разобрать. А может их и не было.
На перекрёстке, немного не доехав до мигающего оранжевым глазом светофора, остановилась жёлтая “Волга” с уютным зелёным огоньком внутри. «Надо же… - подумал Пудов. - Как раньше...» Лаврентий как-то боком обошёл машину сзади и, приоткрыв дверцу, назвал адрес. Водитель молча кивнул. Пудов протиснулся в салон.
Ехали молча. Очень скоро Пудов с головой провалился в тёмную мягкую яму полусна, и лишь изредка выглядывал оттуда, чтобы зафиксировать мутным взглядом вехи проделанного пути.
Наконец Пудов очутился у себя дома, в тесной комнатёнке коммунальной квартиры. Жены дома не наблюдалось. Кое-как раздевшись, повалился он на кровать и заснул уже по-настоящему. А наутро...
Конечно, можно было бы подробно описывать всё, что произошло с Лаврентием Аристарховичем дальше, но события помчались с такой удивительной быстротой, что перо моё не успевает за безудержным желанием поскорей прикоснуться к финалу.
*
Когда-нибудь я, возможно, опишу подробности и “закулисье” этой поучительной истории, а пока ограничусь сухим изложением фактов, поскольку даже голых фактов достаточно, чтобы увидеть, как самыми нелепыми на первый взгляд средствами можем мы добиваться успеха.
Итак, проснувшись поутру, артист Пудов долго и мучительно вспоминал, что же такое странное ему приснилось, и где это он, интересно, порезал палец. Постепенно кусочки отыскивались, в памяти восстанавливалась причудливая мозаика и, судя по реально порезанному пальцу, никаким сновидением эта мозаика не была.
Казалось, всё на местах, а Пудова не покидало назойливое, необъяснимое ощущение дискомфорта. Произошли, по сути дела, две банальные пьянки, одна за другой, ничего выдающегося. И что-то, тем не менее, Лаврентия беспокоило. Это было похоже на чувство потери и продолжалось до завтрака, а затем улетучилось и не возвращалось ещё долго-долго, ибо с того самого дня стали происходить с нашим героем вещи совершенно невероятные.
Начать хотя бы с того, что этим же вечером появилась в театре, где служил Пудов, никому не известная барышня, преподнесла после спектакля Лаврентию, игравшему довольно второстепенную роль, роскошный букет цветов, а месяц спустя, вдоволь насмотревшись на любимого артиста с первого ряда зрительного зала, решила, по-видимому, рассмотреть его ближе и запросто пригласила на ужин в один из самых шикарных ресторанов города, после чего захотела, похоже, Пудова ещё и потрогать и увезла на непрозрачной машине в сторону Патриарших прудов.
Через промежуток времени непродолжительный, как рождение и смерть луны, Лаврентий Аристархович покинул свою условную жену и обрыдшую коммуналку, сочетался с прекрасной незнакомкой законнейшим браком, “воспрял духом и вернулся к жизни” (по достоверным свидетельствам многих знакомых), получил в приданое толстую квартиру на Патриарших, два автомобиля, загородный дом в сорока километрах езды и какой-то там золотой вексель в придачу.
При этом Пудов не чувствовал себя угнетённым или чем-то обязанным, напротив, он сразу стал хозяином всего этого богатства, жены и положения. Жёнушка покупала ему хорошие костюмы и галстуки, мыла его в гигантской ванне с пузырьками, и скоро Пудов окончательно забыл, что ещё недавно жил по-другому.
Почти неожиданно Пудов получил приглашение в престижный театр, по лукавому молчанию жены догадался, что приложили к этому руку серьёзные и многими уважаемые родственники, однако деликатно и с удовольствием промолчал и активно приступил к работе над ролью доктора Фауста в новой версии великой трагедии Гёте.
Совсем скоро стал Пудов знаменит в театральных столичных кругах, и обратили к нему взоры кинематографисты. Пудов снялся подряд в нескольких довольно заметных картинах и, на зависть многим, получил приз на престижном западном фестивале.
Другие детали нашей истории, возможно менее значительны, но ничуть не менее замечательны. Нет нужды останавливаться сейчас на них подробнее – основная задача моя выполнена – направление обозначено.
Хотя, одна подробность всё же заслуживает упоминания.
Пудов достойно и уверенно следовал своей новой дорогой, изредка спотыкаясь о какие-то незначительные кочки, которые со временем научился особо внимательно не разглядывать, и всё было бы просто, если бы не одно обстоятельство.
Иногда, в этой своей новой жизни, больше похожей на последний сон разума, Пудов неясно тосковал по чему-то смутному в прошлом. Насколько я знаю, Пудов лишь пару раз обмолвился о некой серьёзной потере, в остальном же вёл жизнь респектабельную и благополучную. А именно такая жизнь нам более всего и неинтересна.
Здесь я приступаю к самой короткой части этой истории. Речь пойдёт о сокрушительном падении Пудова и последовавшей за ним гибели.
*
Вдова Пудова, непрерывно теребя пробку чудодейственного ирландского виски, рассказывала, что последние несколько месяцев всё крепче становились напитки Лаврентием употребляемые, и тем, соответственно, менее прочными делались идеальные, как казалось, семейные узы.
Пудов стал надолго исчезать из дому, взял в костюмерной старое драное пальто и ходил преимущественно в нём. Иногда у Лаврентия случались периоды просветления, но тянулись они недолго и для окружающих оказывались ещё мучительнее, чем запои. Потому что будучи трезвым, рассказывал Пудов многим бредовую байку о том, что продал душу двум пьяным мужикам в каком-то троллейбусном парке.
Последний раз Пудов пропадал неделю, и итогом её стало известие о его смерти.
*
Сторож одного троллейбусного парка рассказывал, что однажды вечером его навестили давнишние приятели; всерьез угостившись и проводив друзей, доблестный страж заснул в одном из помещений административного здания троллейбусного парка. Выпивали друзья в “белом доме”, а не в “офисе секьюрити”, потому что в ту ночь, на беду, ударил внезапно в Москве лютый мороз, а отопление работало скверно. Таким образом, стылая сторожка оказалась запертой, равно как и дверь кирпичного здания.
Наутро один из водителей нашёл в салоне своего троллейбуса, передняя дверь которого оказалась почему-то открытой, окоченевший труп человека средних лет. Лежал умерший, скрючившись, на сидении для инвалидов, выражение на лице имел скорбное, одет был бедно, и, судя по паспорту, выпавшему из кармана пальто, звали человека Лаврентием Аристарховичем Пудовым.
"МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ… или
ДТП в двенадцати проекциях"
некрологическая
I. Концепция: общий смысл и персонажи.
Сказка может состоять из нескольких частей. Каждая покажет внезапно завершающую стадию путешествия на автомобиле иностранного производства по шоссейной дороге средней полосы России в осенний период, с точки зрения:
а) отца семейства – водителя;
б) его жены;
в) их сына – учащегося одного из младших классов гимназии;
г) водителя рейсового междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту: “Пункт А – Пункт Б”;
д) прохожей слепой старушки – коренной жительницы одного из придорожных селений;
е) деревенской дворняги, перебегавшей дорогу перед быстро движущимся автомобилем;
ж) правого переднего колеса упомянутого автомобиля иностранного производства;
з) самого автомобиля;
и) инспектора ГАИ, ставшего свидетелем дорожно-транспортного происшествия с участием деревенской собаки, автобуса и автомобиля иностранного производства;
к) рейсового междугороднего автобуса;
л) птицы, пролетавшей над шоссе во время дорожно-транспортного происшествия;
м) автора, завершающего повествование.
II. Тематический план с приблизительным содержанием внутренних монологов участников и очевидцев событий.
1. Отец семейства думает о своём: о работе, о своей секретарше и её крохотной пепельнице, о жене, о налоговой инспекции, о дорожных знаках, о том, что хорошо бы поменять машину, или по крайней мере заправиться – бензин почти на нуле; думает о планах на будущее, о своей любви к скорости, прислушивается к работе двигателя, отмечает непорядок с правым передним колесом, обгоняет автобус, который его раздражает, думает о старухе и перебегающей дорогу собаке, и наконец, замечает инспектора ГАИ, вышагивающего к обочине, вслед за чем разглядывает медленно вращающийся в глазах мир.
2. Жена думает о муже, о его секретарше, о партнёре мужа по бизнесу, о ребёнке и его двойках, о жуткой заметке про то, как убили какого-то мальчика и требовали за убитого выкуп; о своей нелюбви к скорости, о тратах на содержание машины, о деньгах вообще, о новом доме, о любимом телесериале, о плохо выглядящей женщине в рейсовом автобусе, о водителе автобуса – большом, судя по взгляду, бабнике, о том, что очень жалко бездомных собак, и, наконец, о том, что же теперь будет...
3. Ребёнок думает о том, как ему нравится скорость, думает о машине, о папе и маме, об игрушках, о том, как хорошо глазеть по сторонам и не учиться, вспоминает козырьки наметённого снега по обочинам дороги прошлой зимой, почти ощущает визг резины, плавящейся об асфальт, видит яркий свет и слышит тихие ласковые голоса.
4. Водитель междугороднего автобуса думает о скорости обгоняющей его машины, о её шикарном виде, о водителе и женщине рядом с водителем, о своём автобусе, о сменщике и его жене, о нескольких попутчиках и их “левых” деньгах, о подспущенном и болтающемся правом переднем колесе обогнавшего его автомобиля.
5. Слепая старушка размышляет о том, что слепота в её возрасте не такая уж помеха; думает старушка о звуках мира, о шуме шоссе, о лае своей доброй, но глупой собаки, о хозяйстве и хозяине, который глух, как пень, о выхлопных газах, о деревне, о тревожном вскрике птицы вверху, о громком скрипе и тяжёлых металлических ударах, которые приближаются, о криках и звуке занявшегося пламени.
6. Собака, бегущая через шоссе, думает о сладкой косточке, обещанной хозяйкой, о добром пьяном хозяине, треплющем иногда по ушам, о мокрой дороге, о запахе кошек, кроликов и коров, о боли и вкусе крови на языке.
7. Правое переднее колесо импортного автомобиля думает о погоде и о том, что пора бы ему в спячку, или, по крайней мере, переодеться в зимнее; помнит пинок хозяйского ботинка, думает о кочках и ямах, спусках и подъемах, о сходе-развале и жестковатой подвеске, об острой боли в боку, о своём падающем давлении, о скорости, начинающей пугать, о тормозах и запахе гари.
8. Автомобиль иностранного производства думает о себе, о том, что хозяин, всё-таки, не слишком его бережёт, о семье хозяина, его непоседливом, но безобидном сыне, о сладко пахнущей секретарше и её сочных формах, о плохом бензине, о карбюраторе и компрессии, о колдобинах и выбоинах, о том, что на улице холодно и сыро, и побаливает правое переднее колесо – скорее всего – заноза; думает о ветре в лицо, о хороших тормозных колодках, о том, как мучительно мнутся бока и крыша при многократном переворачивании.
9. Инспектор ГАИ думает о трёхстах пятидесяти миллилитрах водки и промозглости дня, о соседке-продавщице, о том, что прохудилась крыша, а на носу зима, думает о сыне-солдате, о том, что вон приближается рейсовый автобус, и скоро Петрович козырнет из окна, о том, что опять баба Маня вышла одна на дорогу, думает о её полоумной собаке, о крутой иномарке и её чрезмерной скорости, о скользкой дороге, и наконец, о самом чудовищном ДТП, случившемся на его глазах после той истории с “Ягуаром”.
10. Большой рейсовый междугородний автобус смотрит прямо перед собой и не думает ни о чем.
11. Птица, летящая наверху, думает о ветре, о скорости, о машине и автобусе, мчащихся внизу, о старушке с собакой, о скучающем и мёрзнущем инспекторе, о гнезде и червяках, о сильном взрыве и клубах чёрного дыма, об инспекторе, нелепо лежащем рядом с пылающей машиной, о перевёрнутом рейсовом автобусе, о трупе собаки и теле старухи, и о том, что надо держаться подальше от таких страшных мест.
12. Автор думает о птице, о том, что её не видел никто, а она видела всех и как всё произошло, а ещё о том, что удаляясь вместе с птицей, он чем-то и похож на неё, да может быть всем, и отличие только в том, что в этой сказке его присутствия не учуяла бы даже самая слепая старушка.
"ВДОВА И АНГЕЛ"
теологическая
Ангел вынырнул из вихря между пространствами и некоторое время кружил в тёплом земном воздухе, привыкая к изменившимся крыльям. Земля смутно проступала сквозь слой облаков.
Ангел точно знал, куда и когда ему нужно. Его способ ориентирования был чем-то схож со звериным чутьём. Но если животные руководствовались нюхом, то ангел – духовным... слухом, что ли.
Вынырнув в мир над нужным городом и слегка размявшись (эти переходы, знаете ли, хоть и мгновенны, но похожи на маленькую смерть, или на краткий глубокий сон, после которого просыпаешься со спутанными волосами и красноватыми рубчиками на щеке – отпечатками подушечных жил), Ангел устремился, огибая бесов, птиц и взлетающие самолёты, чуть ниже, туда, где жила она, женщина, которой он принёс весть.
*
Женя подошла к окну и увидела, что внизу наступила весна. Настоящая весна, приход которой она пропустила. Странно, она ведь живёт каждый день, смотрит в окно, чтобы решить что надеть, прежде чем выйти. А вот, что весна – поняла только сейчас. И отчего-то заплакала.
И открыла окно. Тёплый ветер ворвался в комнату, зашелестел чем-то бумажным за спиной... Что-то крохотное, невесомое и живое мелькнуло мимо лица и закружило по комнате. Бабочка?.. Стрекоза?.. Птичка?.. Кто-то белоснежный, сверкающий.
Женя отошла от окна. Ярко-белое крохотное существо, как бы человечек, – ростом с мизинец, в белом длинном одеянии, с большими крыльями за спиной, вроде как у стрекозы, только в мягких светящихся перьях, – существо с детским лицом и золотыми кудрями. Стояло на столе и молча смотрело на Женю лучистыми глазками.
“Сон”, – подумала Женя, медленно садясь к столу.
“Нет”, – подумало существо в ответ.
“Нет?”
“Нет”.
“Не сон?”
“Нет. Явь”.
“Эльф?”
“Вестник. М-м-м... Ангел”.
“Настоящий?”
“Сущий”.
“Разве можно разговаривать мысленно?”
“...”
“Но как?.. Люди ведь не могут...”
“Почти все могут. Кроме... других...”
“Не любишь их?”
“Они были наши братья...”
“Мне пора на небеса?”
"Вот уж нет".
“Значит принёс какую-то весть?”
“Тебе даровано дитя”.
“Когда?..”
“Уже есть”.
“Ты уверен?”
“Конечно”.
“И что... дитя будет особенным?”
“Для любой матери её ребенок особенный”.
“Я о другом. Вспомнила, как архангел Гавриил... благая весть...”
“Он же архангел. И то была Богородица”.
“Со мной всё попроще?..”
“У тебя будет хороший ребёнок. Сын”.
“Как тебя зовут?”
“Тиэль”.
“Красиво. А зачем нужна эта весть, если мой ребёнок не Бог?”
“Могла случиться беда. Тебе одиноко. Ты могла... сделать беду...”
“А теперь?..”
“У человека есть право выбора и свободная воля. Но если я здесь, значит, это поможет. Ты хороший человек, в тебе мало гордыни ”.
“Тиэль, ты видел Бога?”
"Видел" - не совсем правильно".
“Какой он?”
“Сейчас ты не поймешь... Это трудно человеку здесь. Всё очень просто, но понять можно… потом. Ты удивишься как это просто. Так со всеми бывает”.
“И... с Иваном?..”
“Да”.
“Тиэль, как он там?”
“Я не знаю. Я вестник. Прости. Не огорчайся. Положись на Бога. Он хочет только добра”.
“Неужели ваш Рай такой большой, что ты не знаешь, кто в нём есть, а кого нет?”
“У нас много обителей. Я правда не знаю”.
“А почему ты маленький? Мы здесь представляем ангелов по-другому”.
“С мозолистыми кулаками и огненными мечами?”
“Ну... это в кино, или в книжках... Но вообще-то...”
“Нет, почему, воинство примерно такое. Но мы все разные. Я – один из самых младших. Не воин”.
“Хочешь чаю, Тиэль? Или чего-нибудь...”
“Хи-хи-хи!.. Я питаюсь иначе”.
“Спасибо тебе, ангел Тиэль”.
“Мне пора. Не унывай. Это опасно. И береги сына”.
“Как его назвать?..”
“Сердце тебе подскажет”.
“Ты ещё прилетишь?..”
“Это зависит не от меня”.
Ангел вспорхнул, легонько задел крылом её щёку и устремился в окно. Женя подошла посмотреть ему вслед, но Тиэля уже не было видно.
*
Дни летели. Женя думала о своём малыше и их будущей жизни. Она жила и мечтала о счастье. И вспоминала Тиэля.
Настало её время. Роды прошли легко, и когда на свет появилось маленькое улыбчивое существо с золотистыми волосами, Женя навсегда забыла о встрече с ангелом.
"ЯЩЕР"
криминологическая
– Тесно мне, – вымолвил Пилат. – Тесно мне!
М.Булгаков “Мастер и Маргарита”.
Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату.
А.Пушкин “Пиковая дама”.
1.
Эта история произошла в одном следственном изоляторе Москвы несколько лет назад, в канун Нового года. Точнее, завершилась она в изоляторе, а развивалась в разных местах и в течение довольно долгого времени.
Вот как она началась.
Однажды Артём Поверьев сидел дома у окна. Был вечер, крупный снег пушисто сыпался мимо стёкол, уютно жужжала спиралью настольная лампа, телевизор тихо струил эфир. Сын уже спал, а жена читала на кухне. А может, вязала.
Артём думал о том, что скоро Новый год и пора покупать подарки, прикидывал, на что можно в этот раз рассчитывать, в общем, был увлечён домашними мыслями о празднике.
У Поверьева была хорошая, счастливая семья: пятилетний сын и жена-красавица-умница - работала библиотекарем на “Шаболовке, 6” и училась заочно в юридическом.
Поверьев не любил когда ему звонили домой в выходные по рабочим делам. Поэтому когда забренчал телефон, Артём сморщился и трубку взял неохотно.
Звонил Сташкевич. Поздоровался и затараторил что-то о киднеппинге (дело вели уже вторую неделю), мол, похищение оказалось вовсе не похищением, а жестоким убийством и деньги требовали за мёртвого как за живого, а орудовал шестнадцатилетний пацан, и что сейчас его уже “приняли”, и он – в СИЗО и, похоже, дело дадут вести Поверьеву, по крайней мере, так все говорят, потому что бандитского формирования тут, считай, нет, никакой серьёзной организованной преступности, никаких “авторитетов”. В конце разговора Сташкевич лично попросил Поверьева оторвать этому отморозку всё что можно и попрощался до завтра, даже не выслушав ответа.
Здесь надо сказать несколько слов об Андрее Сташкевиче. Он был уникальным ментом. По убеждениям. В юности добровольцем ходил дружинником по вечерним улицам, потому что ненавидел шатунов-хулиганов, которые пристают к людям и занимаются прочими противоправными действиями. Было это много лет назад, ещё до "перестройки". Хороший он парень, Сташкевич Андрей, – последний романтик в милиции.
Дело о зверском убийстве семилетнего мальчика действительно поручили следователю Поверьеву Артёму Максимовичу, молодому, но уже опытному работнику без закидонов Эркюля, Шерлока, патера Брауна, Эраста и старой леди. Поверьев хорошо знал своё дело и любил его хорошо выполнять. Начальство это знало и любило поручать ему трудные дела в надежде на результат.
2.
Артур Каюмов от рождения похож был на ящерицу: тощую, быструю, с грязно-жёлтыми глазами-стекляшками. Точно как ящерка замирал иногда, а потом молниеносно высовывал острое жало – облизывался. Кожа лица его всегда была бледновата и даже, казалось, с зеленоватым оттенком. Вот и всё о его внешности. Ящером его прозвали, конечно же, не за анатомию. Был он холодный человек. Холодный. И – ноль привязанностей. Люди все – мошки, так он любил говорить. Душить их надо. Все думали, что он просто понтится, особенно барышни. И никто не предполагал, что всё так и выйдет, что слово его станет делом.
Жил Каюмов в новом районе Москвы.
Тусоваться любил на чердаке одной из высоток. С компанией, понятное дело. Сначала, в соплячестве, залезали с одноклассником на пару, полистать порнушный журнал, или карты похабные помусолить грязными пальцами, а как постарше стал, – девок с улицы приволакивал и учился общаться с противоположным полом на ощупь. Со всеми вытекающими. Там и первый триппер нашёл.
С тех пор стал осмотрительнее и всяких шалав не приглашал, предпочитал девочек из приличных семей. А если те не поддавались на соблазнительные предложения, убеждал их пинками и оплеухами, а некоторых избивал до потери сознания, а потом употреблял. И вот что странно: не то что ни одна не заявила, так некоторые даже стали ходить туда регулярно.
Иногда Ящер проделывал всё это один, иногда с товарищами. В общем, сформировалось целое общество. Выпивали, попробовали наркотики. Сначала травку, потом маковую соломку, ну и понеслось: кокс, героин, кислота – на что денег хватало. А под этим делом групповухи устраивали, девчонок-целок “в члены принимали” и даже пацана одного приняли, сдуру.
Зимой торчали на чердаке, летом выезжали в ближайший дачный посёлок. Там Каюмов любил грабить дачи, угонять мотоциклы, бить стёкла машин, лица их хозяев и прокалывать шины тем и другим. Словом, приятно проводил время в кругу поклонников и поклонниц.
На одном из допросов следователь Поверьев спросил, не жалеет ли Артур о содеянном, не раскаивается ли, так Ящер ему в лицо рассмеялся. “Я, – говорит, – всё делал сознательно и специально. Мне на вашу мораль начхать, у меня свои правила. Чем больше я могу из ваших правил послать, тем я сильнее. А это ещё не предел, то, что я сделал. Вот выйду – продолжу. Да и на зоне время терять не буду”.
3.
Ходил у Каюмова в приятелях Славка Костров, парень слабовольный, потенциально зависимый. Ящер его во всё втравливал вместе с собой. А потом подсадил на наркотики. И Славка стал из дома таскать деньги, золото, хрусталь, новую одежду.
У Славки был младший братишка, Алёша, мальчишка умный, добрый, животных любил (у него хомячок жил и попугайчики волнистые, а ещё он мечтал о собаке), во второй класс пошёл, а по-английски уже шпарил, всем бы нам так. В общем, умница ребенок. Но про Алёшу – потом, всему своё время.
Когда Славка признался, что воровать деньги дома стало опасно, Каюмов понял его и посочувствовал, обещал помочь, а на следующий день предложил торговать наркотиками на пару. Славка согласился.
Прошло два-три месяца. Славка наторговал совсем мало, а потратил прилично, в долг. Постепенно у них с Ящером пошли размолвки: всё меньше нравилось Славке втюхивать наркоту пацанам. Вот он и высказал Каюмову сомнения. Тот ответил, что возражать не будет, если Костров отвалит, только сначала пусть отдаст долг. К тому времени это было баксов семьсот или около.
Славка думал-думал, но ничего придумать не смог, кроме как пойти к отцу. Всё ему рассказал... почти всё. И попросил денег. Отец расстроился, конечно, но деньги нашёл, у кого-то занял, сам-то мало получал.
Ящер злился, конечно, что потерял "шестерку", но деньги есть деньги, и у него скоро появился другой напарник – Пашка Морозов из соседнего двора – бывший Славкин дружок.
Пашка смотрел Ящеру в рот, Каюмову это нравилось. Рассуждая однажды на тему добра и зла (приятели сидели в беседке на территории детского сада и курили траву), Каюмов высказал раздражение по поводу мелких масштабов происходящего. Ну что это такое, – мотоциклы, наркота, дачи, девки малолетние, – шелуха это всё, пора что-нибудь настоящее совершить, большое: убить кого-нибудь, или хотя бы похитить, за выкуп, конечно. А что, это мысль!
Каюмов вспомнил младшего брата Славки Кострова. Алёшу. Тот был второклассник, но из школы часто ходил один – родители работали, а Славка особо о брате не беспокоился.
Пошли к школе. Минут через десять у малышей кончились уроки. Появился Алёша. Он шёл один, помахивая портфелем с мордочкой Микки Мауса и что-то тихонько напевал.
– Ну вот, – сказал Каюмов. – Его и возьмем.
– Почему его-то, Артур?
– Щуплый потому что. Сопротивляться не сможет. Кстати, купи сушки. Он вроде сушки любит.
4.
Нельзя сказать, что бы было холодно. Но и тепло тоже не было. Как-то было промозгло. Впрочем, поздняя осень...
Алёша получил в тот день пятёрку по русскому языку за сомнительные согласные, а потому погоды не замечал. Он даже шарф плохо завязал и шёл с полуоткрытой шеей.
Алёша очень спешил домой, хотел поскорее достать из портфеля тетрадь и полюбоваться на красивую красную пятёрку, выведенную рукой Ларисы Алексеевны, учительницы красивой и строгой, как Гайка из мультика про Чипа и Дейла.
Неожиданно он увидел ноги двоих пацанов. Поднял голову.
– Привет! Помнишь меня? – сказал один.
Алёша молчал и, широко раскрыв глаза, смотрел на пацана.
– Ты Славки Кострова брат. Правильно?
– Да, – ответил Алеша и посмотрел на второго пацана. Но тот молча отвернулся, сплюнул и, прищурив глаза, посмотрел куда-то вдаль.
– А я – Артур, Ящер. Слышал, наверное. Ну?.. Как успехи? – первый пацан весело смотрел на Алёшу.
– Хорошо, – сказал Алеша. – Вот пятёрку получил. За сомнительные согласные.
– За сомнительные? Ну ты даешь!.. – пацан даже присвистнул. – Слушай, у меня для твоего брата рация есть, такие... две трубки, чёрные, как телефоны, настоящие, на “кронах”, можно из разных комнат переговариваться. Если хочешь, можно пойти ко мне, я тебе отдам, а ты ему передашь. Ну и ещё там денег чуток, он мне лишние дал. Пойдём?..
Алёше очень хотелось домой. Но рации...
– А куда?
– Да тут рядом...
– Ладно. Только не долго. А то мне домой надо.
– Да тут идти-то... Ёлы-палы... Через десять минут будешь дома. Закуришь?
– Нет... Я вообще-то...
– Не куришь. Понятно. Вредно потому что. Ну, на тебе тогда сушку, раз не куришь.
Он протянул Алеше баранку. Тот зажал её в кулачке.
– Нравится? У меня таких целый пакет. Ща придём, угощу.
Минут через пять они вошли в подъезд. Лифт был грязный и весь исписанный словами. Там плохо пахло, и Алёше снова захотелось домой.
Приехали на последний этаж. Стали подниматься пешком, ещё на одну площадку, потом по железной лестнице. Прошли в низкую дверцу, обитую жестью, и оказались на чердаке.
Это был не тот чердак, где Ящер собирал компании, но очень похожий: бетонные стены, кучи песка на полу, гул ветра и воркование голубей, только не было ящиков-сидений, старых матрасов и всякой другой рухляди.
– А рация, она какая? – спросил Алеша, глядя на Ящера.
– Рация?.. Она хорошая, – ответил Ящер, озираясь по сторонам.
Неожиданно он шагнул Алеше за спину, вытащил из кармана тонкий чёрный шнурок, набросил на шею...
Алёша уронил портфель и попытался сопротивляться, стараясь сорвать шнурок и освободиться.
– Дурак, я папе расскажу, он тебя побьет! Больно, пусти, ну больно же!... – хрипел сдавленным шёпотом Алёша.
Вдруг он вырвался и побежал к выходу, и уже почти убежал, но тут стоявший неподалеку Морозов кинулся ему в ноги.
Пацаны покатились по пыльному полу. Отбросив от себя Морозова, Алёша попытался подняться, но его придавил и стал снова бить подлетевший Каюмов.
От сопротивления Ящер осатанел, он бил Алешу коленями, пытался душить, плевал ему на голову, а когда Алёша перестал дёргаться и обмяк, Ящер вскочил на ноги и несколько раз сильно ударил тело ногами и кулаками, потом вынул нож и стал тыкать лезвием Алёше в грудь, в руки, в плечи, в живот, даже в лицо. Почти не глядя, шаря безумным взглядом по потолку, стенам, и сипло крича.
Наконец Ящер выпрямился и посмотрел пустыми глазами на Пашку, который в ужасе наблюдал за происходящим, и был бледен, как призрак.
– Ящер... Ты же его убил... Как же мы теперь за него деньги возьмем?..
– А чего он? Рация... Хренация. Умный сильно. Сомнительные гласные... Тварь...
– Согласные...
– Чего?!.
Пашка промолчал. Каюмов протянул ему окровавленный нож и мотнул головой в сторону тела.
– Чего?.. – испуганно пробормотал Морозов.
– Давай, ткни его пару раз.
– Зачем, Арик? Он и так мёртвый.
– Мёртвый, не мёртвый... Хватит базарить. Говорю тыкай, значит – тыкай, сука... Или чего?.. Решать так вместе, а дело делать – я один? Бери нож.
Глаза его почти светились.
Пашка дрожащей рукой забрал нож, стараясь не испачкаться, наклонился над телом мальчика и несильно ткнул лезвием в ногу. Ничего не получилось, лезвие не воткнулось в тело и даже не порезало брюк.
– Кто так бьет! Ну кто так бьет, долбоклюй! Дай я тебе покажу.
Каюмов взял кулак Морозова и несколько раз сильно ткнул ножом, зажатым в этом кулаке, в бок мёртвому Алеше.
– Теперь давай сам.
Пашка несколько раз с остервенением ударил. Только зажмурился. Поэтому не видел, куда попадал. Один раз нож задел что-то твёрдое. Пашку стошнило прямо на труп. А Ящер засмеялся, облизнулся быстрым языком, поднял с пола пакет с сушками, который они здесь оставили, и высыпал все светлые колечки на блевотину.
– А это тебе закусон. Как обещал!.. – и заржал.
Пашка сел на пол у стены в цементную пыль и заплакал.
– Чего ноешь, как баба! Где бы мы его держали? – сам подумай. Его кормить надо было, поить. А если бы убежал?.. Прикинь... А так мы с его родаков бабки снимем и чухнем. Понял теперь? Башкой думать надо. Гласные-согласные... Ладно, пошли к тебе, маляву писать.
– У меня мать дома.
– Ничего, мы её тоже грохнем. Ха-ха-ха! Щутка, придурок! Скажешь, к экзаменам готовимся. В ПТУ. Понял?
5.
Алёшин отец беспокоился. Уже час, как пришёл с работы, а ребят всё ещё нет. Сперва подумал, что Славка забрал младшего и они пошли погулять. Но в детской не было Алёшкиного портфеля, а суп стоял на плите холодный, его не разогревали.
Сергей Тимофеевич решил спуститься во двор. Оделся и вышел. Во дворе сыновей не было. Изрядно продрогнув, вернулся. Прихватив по дороге почту. Писем Костровы не получали сто лет, а тут вдруг – конверт в ящике. Сергей Тимофеевич распечатал его ещё в лифте. Сначала подумал, дети пошутили. Ну да, всё сходится, сами убежали к друзьям, а конверт в ящик бросили, ради шутки. Но, немного подумав, Сергей Тимофеевич понял, что его сыновья вряд ли стали бы так шутить, очень уж это страшная шутка.
Вот тогда он испугался по-настоящему.
Буквально через пару минут после возвращения Сергея Тимофеевича пришёл Славка. Один.
– Где Алёшка? – могильным голосом спросил отец.
– Не знаю. А чё? Я на тренировке был. У него ключи свои есть.
– Он домой не приходил. И... вот... – Сергей Тимофеевич протянул старшему сыну письмо.
Славка прочёл, побледнел, но пытался улыбаться.
– Ну шуточки. Это он сам придумал, что ли? “Ваш сын Алеша находиться у нас. Если вы не внисете за него выкуп 20 тысяч долларов мы его убъем. Не звоните в милицию мы все равно узнаем. Дальнейшии инструкции найдете завтра утром в почтовом ящике”.
*
На звонке в милицию настояла Алёшина мама. После того, как обзвонила всех из класса, кого только знала. Она вернулась поздно и чуть с ума не сошла, услышав про сына. Когда приехали из РУБОПа, ей даже полегче стало, это как со скорой, или поликлиникой: от одного вида белых халатов болячка бежит. Не всегда конечно, и не всякая, но бывает такое.
*
Пашку Морозова “приняли” утром у почтового ящика. Он только бросил конверт в щель и собирался бежать...
Парень распустил нюни и тут же сдал Ящера, который в это время сидел у него дома.
Когда опергруппа ворвалась в квартиру Морозова, его родители были на работе, а Каюмов сидел в трусах и шлёпанцах на кухне и пил чай с вишнёвым вареньем.
Сопротивления он не оказывал, только прошипел: “Сдал, сука... Задушу”. И молниеносно выбросил в сторону Морозова свой змеиный язычок, слизывая с губы варенье.
*
Ящер долго не кололся, что-то гундосил про банду, про каких-то взрослых бандитов, организаторов похищения, скрывал место, где держали заложника. Понадобилась не одна очная ставка с Морозовым, чтобы убедиться, что “работали” они только вдвоём... Ну и про Алёшу выяснить... Правду.
Вот тогда-то приступил к делу следователь Поверьев.
Каюмова и Морозова поместили в следственный изолятор, тот самый, где всё и закончилось.
Морозов мало занимал Артёма Поверьева. А вот Ящер... Что-то в нём было притягивающее, холодное, не просто преступное, что-то тёмное, жуткое...
На одном из первых допросов он заявил, что ни о чём не жалеет и продолжать намерен в том же духе.
Вспомнив чердак, где нашли Алёшу, Поверьев едва справился с желанием удушить скользкую гадину прямо в кабинете, а потом бить рукояткой “макарова”, пока не сотрутся последние черты этого бесовского рыла.
Но Артём сдержался, закончил допрос и, вызвав конвой, отправил Каюмова в камеру.
Жене он не стал рассказывать подробностей, не решился. Попил чаю, а перед сном зашёл в детскую, сел рядом с кроваткой спящего сына и долго смотрел в его спокойное лицо, празднично разноцветное от фонариков гирлянды. Погладив кончиками пальцев мягкие светлые волосы мальчика, следователь ушёл и осторожно закрыл за собой дверь.
Жена Артёма долго не могла заснуть. Её тревожил в последние дни странный взгляд мужа. Она чувствовала, что случится что-то ужасное.
6.
Каюмов проснулся среди ночи от внешней причины и сел на жёсткой шконке. Вообще-то в его одиночке не было окон... Сюда его поместили, потому что следователь хотел, чтобы убийца дожил до суда. Вот и постарался.
А Ящеру ещё лучше. Всё равно, сколько б ни дали, он найдёт способ стать крутым человеком. Может быть, на зоне даже легче. Но как-то угрожающе вёл себя следователь. Тихо, но страшновато. А что если припаяют ему вышак? Кто его знает? Учитывая особую жестокость убийства. Этот фантик на чё-то такое намякивал. Ящер, правда, держится, не колется. Если бы не этот хлюпик!..
Эх, свалить бы отсюда... К морю, в Одессу, чтоб не нашли, прятаться в катакомбах, потом выйти на серьёзных людей, и тогда!.. Не жизнь, а сказка!.. Щикарная сказка... С такими примерно мыслями засыпал накануне Каюмов.
А среди ночи его разбудил свет, потихоньку разгорающийся в одном из углов одиночки.
Ящер присмотрелся и обомлел, чуть не обделался с перепугу. Стоит в углу камеры и смотрит прямо на него, на Каюмова, мальчик Алёша Костров, бледный и в светлой какой-то одежде.
– Ты чё, урод?.. Чё тебе надо, а? Ты чё, привидение? Так я тебя ща снова завалю. Хочешь?
– Я на тебя не сержусь, и не жалею, что умер. Здесь хорошо. Мне только родителей жалко. И брата.
Голос Алёши звучал тихо и грустно.
– Чего ты мне тут бакланишь? Чё те надо, а?
– Я знаю, что тебе очень хочется отсюда уйти.
– Ну и чё?..
– Я тебя прощаю...
– Да на хрен мне твоё прощенье, я и сам себя прощаю. Понял? Чё ты мне сделаешь-то? Ты же сдох, придурок!
– Я тебя прощаю и могу тебе помочь.
– Да? Носки что ли постирать? Ну так давай!..
– Я могу помочь тебе выйти из тюрьмы. Совсем. Если ты пообещаешь исправить свою жизнь и никогда больше не обижать детей.
– Ага. Обещаю мочить только баб, старух и ветеранов войны.
– Но если ты обманешь, – всё может кончиться плохо. Подумай. Ты обещаешь?
– Ну чё ты заладил: обещаешь-обещаешь!.. Ну, обещаю. Детей не трогать. Всё. Дальше что?
– Слушай внимательно. Когда я уйду, наскреби со стены сколько сможешь пыли. А потом съешь эту пыль. Спать ложись на живот. Завтра, когда пойдёшь на допрос, будь внимателен, смотри по сторонам, ищи выход. Ты сам поймешь...
Наутро Каюмов проснулся со стёртыми в кровь ногтями и привкусом штукатурки во рту. Он вспомнил сон, содрогнулся от жути и услышал, как отпирают замки его камеры. “Это ж надо такому присниться!..” – Ящер ещё раз посмотрел на свои безобразные пальцы и вспомнил, как скрёб во сне стену и жрал, и жрал, и жрал сухую колючую пыль. Стало быть, не во сне...
– Приснится же... Муть какая-то.
*
Следователь выглядел невыспавшимся и злым. Глаза его то шарили по углам, то сверлили во лбу Каюмова дырку. Почему-то сегодня он был с пистолетом, и, вообще, когда Ящер вошёл в кабинет, у него слегка подкосились ноги. От предчувствия, что ли...
Допрос не клеился. Видно было, что Поверьев думает совсем о другом, а не о вопросах. И вот тут Ящер по-настоящему испугался. Он стал что-то голосить, причитать, а потом вдруг замолк, потому что холодное дуло “макарова” приподняло ему верхнюю губу и с омерзительным металлическим звуком упёрлось в зубы. А левой рукой Поверьев держал его за горло и жарко шипел в ухо:
– Заткнись, змеёныш, или я тебя по стенке размажу... Молчи, сволочь... Ты не человек... Ты урод, гад ползучий... Я тебя, подонок, достану до самых твоих гнилых потрохов...
И вдруг что-то стало меняться. Каюмов увидел перепаханное страхом лицо следователя, отпрянувшего в дальний угол кабинета; комната стала стремительно увеличиваться; он теперь по-другому видел; быстро сполз вниз и очутился под огромным стулом, на четвереньках.
*
Конвоир услышал выстрелы и вбежал в кабинет. Неожиданно на него налетел следователь Поверьев и сбил его с ног. Конвоир упал, ударился затылком об пол и потерял сознание.
*
Поверьев гнался за ящерицей по коридорам СИЗО, по лестницам и переходам. Он всё время держал гадину в поле зрения, ему некогда было задумываться и он гнал прочь все мысли.
Но прогнать самое жуткое видение в своей жизни Поверьев не мог. Бежал и стрелял, но промахивался, а перед глазами всё время повторялся тот же кошмар.
Перепуганное, скулящее лицо Каюмова постепенно зеленеет и покрывается змеиной кожей с пупырышками и тёмными крапинками; голова вытягивается, становится плоской и треугольной, а тело уменьшается всё быстрее и быстрее; сужаются зрачки и вытягиваются в вертикальные чёрные щели, а глаза расползаются по сторонам головы, продолжая со страхом и ненавистью пялиться на Поверьева; уродливые когтистые лапки выписывают в воздухе замысловатые кривые, в истерике бьётся хвост с омерзительно бледной изнанкой; изо рта стремительно выскакивает тонкое раздвоенное жало; и наконец, маленькая зеленовато-бурая ящерица, быстро дыша, замирает под стулом.
И тогда Поверьев стреляет...
*
Он стрелял и стрелял; указательный палец ритмично давил на спусковой крючок пистолета.
Он даже не понимал, что патроны давно уже кончились.
Он слышал бегущих сзади людей...
Он не понял, как очутился на улице, не заметил мороза, смотрел только на ящерицу, которая неуверенно, не по-рептильи бежала чуть впереди и оставляла на снегу цепочку мелких следов.
*
Ящер бежит уже долго.
В общем-то, он на свободе.
Но сзади пыхтит этот лох. Не отставая ни на шаг.
Ящер раздражённо подумал, что даже в таком обличье всё равно остаётся человеком, он не чувствовал никаких инстинктов, не знал где можно спрятаться и вообще, как быть этой самой ящерицей, в которую вдруг превратился.
Пошли какие-то задворки...
Висящая на одной петле дверь подвала, обитая жестью.
Пучки света, проникающие через окна.
Ящер заюлил между битыми кирпичами и вдруг увидел черный тоннель с толстыми стенками. Чугунная водопроводная труба. Можно пролезть. Периферийным зрением увидал следователя, отчаянно швыряющего в него бесполезный пистолет. Жалкий металлический звяк...
Юркнув в трубу, Ящер увидел в дальнем конце свет. И наклон трубы как раз и вёл вниз, к этому свету. – Ну вот и всё, – подумал он, – вот я и сделал вас всех, взрослые и дети. Психопаты, мать вашу!.. Привидения хреновы!.. Измени свою жизнь... Да пошёл ты...
Неожиданно он почувствовал, что ему становится тесно. Он хотел развернуться обратно, но не успел.
В одно тягучее мгновение в чугунной трубе с толстыми стенками Ящер снова стал человеком. Артуром Каюмовым.
*
Алёшу похоронили на Бутовском кладбище.
Несмотря на лёгкий мороз, день выдался тихим и солнечным. А накануне даже земля немного оттаяла (мужики говорили, что могилу было копать легко). В самый же день похорон чуть-чуть подморозило, земля подсохла.
Алёшин старший брат поступил в Высшую Школу Милиции и мечтает об оперативной работе, чтобы можно было внедряться в банды...
Сергей Тимофеевич оправился после инфаркта и вышел на пенсию. Купил старенькую “Оку” и целыми днями копается у неё под капотом в своём гараже.
Алёшина мама чувствует себя плохо. Ей часто снится сын. После этих снов она неделями не выходит на улицу, а в квартире пахнет корвалолом.
Морозова посадили и дня через три он бесследно исчез. В ИТК быстро узнаЮт кто за что сидит…
На следователя Поверьева завели уголовное дело. Свидетели, работники СИЗО давали сбивчивые показания, говорили, что в день побега Каюмова следователь Поверьев носился, как сумасшедший по учреждению и палил в пол из “макарова”, а потом его нашли на заброшенной стройке около трубы, уходящей в толстенную кирпичную стенку. Он сидел на кирпичной крошке, обхватив голову руками, и что-то невнятно шептал. На следствии Поверьев молол какую-то чепуху про ящерицу и превращение и его отправили в психдиспансер. Дело закрыли.
Жена Артема Поверьева защитила диплом юриста и работает прокурором в суде. Она часто навещает мужа (который её не узнаёт), и не теряет надежды на его выздоровление. А ещё она никак не может себе простить, что отмахнулась от него, когда он рассказывал ей свой странный сон утром того самого дня.
Многие оперативники управления по организованной преступности и уголовного розыска, имевшие отношение к этому делу, живы и продолжают службу.
Сташкевича, как одного из знатоков английского языка, командировали в Сирию. Другой бы расстроился, а он – с удовольствием. “Надо, – говорит, – порядок навести у братьев-арабов".
А, ну да, Артура Каюмова так и не нашли. Он исчез. И мало кто знает, что случилось на самом деле. А те, которые что-либо слышали, по большей части не верят. Кроме Поверьева. Официально Каюмов по сей день числится в розыске, в бегах. В сущности, так это и есть. Только бега его специфические.
"ПЛАКСА"
педагогическая
Кукурузное поле с ...
Винсент Ван Гог.
Леопольд Плакса проснулся в поле. Подобно множеству других, было оно жёлтым и почти бескрайним, – весьма и весьма живописным, – даже вангоговским, если угодно (не кукурузным, конечно – в зарослях этого растения мы с вами запросто могли бы и не заметить кого-то там распростёртого), – во всяком случае, бедняга Винсент был бы вдохновлен видом натуры вокруг лежащего на спине Леопольда.
Любопытное солнце не удержалось, выглянуло из-за кромки Земли и, скользнув пытливым взглядом ярко-жёлтых глаз по запущенной щеке лежащего, наткнулось на ответный взгляд глаз светло-серых. Прятаться не было смысла и, делая вид, будто выполняет обычную свою работу, светило вынырнуло и как бы небрежно заскользило по лазоревому холсту небосвода.
Как уже было сказано, Лео Плакса – крупный (во всех смыслах – для особо придирчивых) менеджер среднего рекламного агентства – лежал на примятой перине несрезанных колосьев, и оживал, прижавшись к вышеозначенной перине плоскостью, которую обычно видит наблюдатель, подкравшийся к кому-нибудь сзади.
Леопольдовы ноги, подобно стрелкам башенных часов, показывали примерно тридцать пять минут шестого, или двадцать пять минут седьмого (а в случае расположения головой на север – без пяти час или пять минут второго), руки же покоились перпендикулярно телу ладонями вверх. Если бы мы не были поклонниками таланта великого Ван Гога, можно было бы с уверенностью сказать, что распростертое перед нами тело, явно относящееся к мужскому полу, крайне напоминало фигуру, запечатленную грифелем величайшего синьора Да Винчи в колесе и отличалось от оной исключительно наличием одежды, скрывавшей чрезмерно явные половые признаки.
Итак, Леопольд лежал в живописном, жёлтом, бескрайнем поле головою на юг, а времени всё-таки было приблизительно тридцать пять шестого утра.
Где именно и отчего Плакса оказался в столь упадочном состоянии, было ему неизвестно – как он ни пытался припомнить, ничего существенного не проявлялось, кроме каких-то смутных, невнятных “м-м-м”, “да-а-а” и общего ощущения, что вот-вот всё вспомнится (вот так же, утром, стоя перед зеркалом в ванной комнате, мучительно стараешься припомнить детали сновидения, которое кажется тебе немыслимо важным, хотя ты и понятия не имеешь, что в точности тебе снилось), но, как ни досадно, редко что стоящее нарушает в такие минуты гулкую головную пустоту. Это беспокоило Леопольда и не давало ему поспать ещё немного... Всё-таки выходной...
Вот! Кое-что выяснилось. Плакса вспомнил, что на этот раз проснулся в субботу.
Сей факт несколько скрасил существование, – позволив никуда не спешить, – но не ответил на главный вопрос, и даже более того, значительно запутал всю ситуацию в целом: отчего это Леопольд Плакса, в день субботний, вместо того, чтобы в небольшой уютной квартирке, преспокойно потягиваться на двуспальном холостяцком ложе рядом со спящей утомлённой красавицей, чьё имя затерялось во время ночных путешествий по бесконечному пространству простыней, – почему вместо этого он распластался в лучшем своём костюме среди природных красот, против которых, конечно же, ничего не имеет, даже напротив... но в данном конкретном случае... Нет уж, это уж извините, дорогие мои. Это уж слишком!..
Рассудив таким приблизительно образом, Плакса приступил к воспоминаниям.
Помнилось мало. А если быть точным – пока не помнилось ничего. Вместо этого фантазировалось: утренняя девушка, первая сигарета, кофе по-королевски, ванна с пеной (но не у рта, – у рта, как раз, кофе и сигарета), телевизор фоном, книга или альбом живописи – “импрессионисты”, к примеру; прогулка по безлюдному городу (возможно, Праге – это красиво), в плаще и с зонтом (чуть не сказал: со шпагой); милое привычное кафе на углу; юная незнакомка смеющимся взглядом влечёт в щемяще-таинственный интимный вечер при свечах... и, наконец, слоган, влажным мужским голосом на фоне постанывающей музыки: “Житан”... Соблазны туманного мира...”
Собачья чушь!.. Эти сигареты... днём и ночью... Треклятая реклама! Леопольд был уверен, что его просьбы об отпуске, которые уже две недели игнорирует начальство, – единственное правильное дело, успешного исхода которого нужно добиваться любыми доступными средствами.
Отпуск... Да, отпуск... Самое приятное, что можно вообразить в нелепой череде бессмысленных будней и гулких пустых выходных... Двухнедельное блуждание вокруг пирамид или мумифицирование себя на солнцепёке вблизи какого-нибудь тёплого водоема вместе с... Как же её зовут?.. И ни одной мысли в голове, только не слышный окружающим, бесконечный внутренний стон блаженства, означающий что-нибудь вполне человеческое, к примеру: “Какое счастье...”
Что же придумать?.. Поговорить с Марком, пообещать хороший заказ пустить через него лично, потом натравить Марка и Антона на Юлия, а параллельно пообедать с шефом, случайно оказавшись в нужном месте... Тогда, может быть, все трое схлестнутся, и в агентстве будет не до Лео... Слишком уж они все самолюбивы и жадны... Пожалуй, на этом можно сыграть... Но, с другой стороны, сразу появляется риск самому потерять... Да... вопросик...
Прежде всего надо встретиться с этим вечно небритым “лягушатником”, который в своём офисе курит исключительно “Gitanes”, а на стороне блудливо отдается банальному “Marlboro”, и считает верхом изящества свои хитрость и изворотливость. Сколько же ему накинуть за эту отсрочку?.. Наверняка меньше чем на дополнительных два процента он не согласится. Интимно сообщит о подкопах сослуживцев; об увеличении налогов на табак во Франции и уменьшении в Люксембурге, что, сам понимаешь... (воздушно-губной, истинно французский разговорный звук, похожий на лошадиное губошлёпство; многозначительная затяжка американским дымом, лживый прищур правого глаза, слитый с односторонней улыбкой, приглашающей разделить “тайну”, и прочее, прочее, прочее), да ещё у шефа неприятности дома: дочка-наркоманка случайно вышла замуж за гея-“двустволку”, а потом изменила ему с его младшей сестрой, на пару с которой теперь желает усыновить восхитительного курчавого кроху афрофранцуза...
В общем, расставание с двумя, а то и тремя процентами неизбежно – он ведь почувствует, что мне нужна передышка... Да, старина Жан-Поль не болван...
Вот так, рассудительно сам с собою беседуя, Леопольд продолжал лежать, а солнце, между тем, восходило всё выше, выше и выше, и взгляд его, обращённый к распростёртой в желтизне персоне, становился всё пристальнее и теплее. Некоторое время спустя это сказалось, если можно так выразиться, на леопольдовой шкуре, отчего её обладатель решил внести некоторые изменения в ход событий.
Плакса приподнял верхнюю часть тела и, опершись о землю за спиной хорошо согнутыми локтями, принял позу шезлонга. Уткнувшись подбородком в верхнюю часть грудной клетки, Леопольд обнаружил собственное тело. Оно было в костюме – лучшем (как уже было отмечено), но мятом, как газета на привокзальной площади.
Некоторое время хозяин костюма неподвижно разглядывал видимую невооружённым глазом область себя, словно сомневаясь в чём-то, затем плавно пошевелил ботинками, тоже, к слову сказать, хорошими, даже очень – пошевелил, будто провёл “дворниками” по ветровому стеклу и, согнув ноги в коленях, принял позу сидящего в поле джентльмена.
Выполняя это незамысловатое движение, Плакса вынужден был опереться о землю сначала одной ладонью, а затем другой и, к огорчению, совершая это второе движение, судорожно отдёрнул руку от земли, а при помощи ротового отверстия, растянутых губ и зубов издал втягивающий звук “с-с-с”, означающий некоторую досаду и реакцию на острую колющую боль средней силы.
Осмотрев ладонь, Плакса обнаружил впившийся в кожу острый растительный шип, ловко его удалил и, потерев большим пальцем противоположной руки небольшую красную точку на этом месте, посмотрел прямо перед собой.
Никого не было. Было шоссе, но на нём не было никого, если не считать вертикально вьющихся потоков горячего воздуха.
Ослабив галстук (вовсе не от волнения, уверен, вы догадываетесь от чего), Плакса собрался было встать и снять пиджак, но тут уловил на границе бокового зрения незначительное движение в отдалённых областях шоссе.
Леопольд внутренне собрался и, готовый ко всему, стал ждать, не поворачиваясь в открытую, лицом, к движущемуся объекту. Неопознанное приближалось. Всё явственнее и определеннее.
Чтобы выяснить характер объекта, Леопольд осторожно, стараясь не делать резких движений, чудовищно скосив глаза вбок, постарался разглядеть, что там такое движется.
Превозмогая резь в напряженных глазах, он увидел, что по шоссе идёт человек. Ребенок. Мальчик. Маленький мальчик лет двух с половиной, трёх – блондин, в белой рубашке, сандалиях и тёмно-синих шортиках с широкими бретелями накрест.
Ребёнок шёл по обочине дороги целеустремленно и сосредоточенно. Один. С сушкой в руке. Без головного убора.
Не обратив ни малейшего внимания на сидящего у дороги мужчину, мальчик прошёл мимо.
Плакса проводил его неопределенным взглядом, быстро зыркнул в ту сторону, где обычно бывают беспечные родители таких вот прогуливающихся малышей, и никого не увидел.
Тогда Леопольд поднялся на ноги и посмотрел вслед ребёнку и дальше, туда, где кто-нибудь из взрослых мог мальчика встретить. Но и там никого не было. Не видно было также ни собаки, ни автомобиля, ничего такого, что могло бы оправдать присутствие на загородном шоссе в такую пору совсем юного человеческого существа.
Леопольд Плакса взял свою голову в ладони и подумал, что хорошо было бы выяснить, куда идёт этот ребёнок: в город или из города.
Направившись было следом за мальчиком, Плакса остановился и решил, что ребёнок всё-таки ещё очень мал и может испугаться прямого вопроса или даже самого факта неожиданного обращения. Поэтому направление нужно выяснить самостоятельно, а затем на безопасном расстоянии незаметно следовать за маленьким пилигримом и, тайно оберегая, проводить его к месту его назначения. Бред. Правда?
Тут леопольдово внимание привлекло солидное дерево, растущее у обочины. Было оно древним, с толстой морщинистой корой и мощными рукообразными ветвями, начинавшимися невысоко над землей. Породу Леопольд определить не мог, потому что ничего не понимал в деревьях и разделял их исключительно на хвойные и лиственные, опавшие и зелёные, большие и нет. Исключая, разумеется, деревья с яркой индивидуальностью. Типа березы.
Прокравшись к дереву, Плакса ухватился за ветвь на высоте вытянутой руки и довольно ловко запрыгнул на ветку пониже.
Не успев ещё толком усесться, подобно большой, неопределённого вида птице, но уже будучи довольным собой, Плакса вдруг услышал характерный треск рвущихся ниток и ощутил свободное проникновение воздуха к нижней половине тела. Ощупав брюки рукой, не занятой держанием за ветвь, Леопольд с ужасом наткнулся на большую дыру, образовавшуюся на месте центрального брючного шва.
“Да... – подумал Плакса, расстроившись, – вот тебе и “Гиннесc”...
Но, собственно, следовало взобраться повыше. Что Плакса и сделал, уже не столь ловко, с некоторой, так сказать, долей оглядки. При этом Леопольд впервые по-настоящему пожалел, что не родился птицей, – колибри, например, или эльфом каким-нибудь. Насколько легче бы сейчас было!
Послышался отдалённый шум двигателя и вскоре мимо сидящего на ветке Леопольда пронёсся, сверкая серебристым призрачным телом, смутно знакомый “Ягуар”.
Только теперь сообразил Плакса, что можно было просто дождаться на шоссе машины, остановить её и спросить у водителя дорогу в город, и вообще определиться на местности и сориентироваться во времени. Да и, похоже, водитель “Ягуара” – знакомый... Кажется, такой же был у одного режиссёра...
Словно уцепившись этими мыслями за бампер плавящегося в знойном воздухе автомобиля, Плакса подался всем телом вперед и едва не сорвался с дерева, чудом удержав равновесие.
Проводив взглядом портмоне, которое выскользнуло из внутреннего кармана пиджака и утонуло в траве, Леопольд Плакса вздохнул и полез выше, стремясь довершить начатое.
Взобравшись довольно таки высоко, он посмотрел вправо вдоль шоссе, то есть в сторону появления ребёнка и разглядел далеко на холмистом горизонте острые шпили и красные черепичные крыши города. То, что он увидел, было совсем незнакомо. Это не походило на то место, где жил Плакса, – скорее на какой-то средневековый или сказочный город. У Лео закружилась голова. Он глубоко вздохнул и вспомнил, что, в сущности, никогда не смотрел на город со стороны. Вполне возможно, именно так он и выглядит.
Это объяснение слегка успокоило Леопольда неоспоримой логикой, а на протестующие толчки сердца он постарался не обращать внимания – рассудок важнее.
Поспешно спускаясь с дерева, Леопольд опять пожалел, что родился столь высокопоставленным.
Царь природы несколько раз оцарапал лицо, руки и сильно испачкал костюм какой-то клейкой смолой. А в довершение всех бед, ступая с нижней ветки на землю, он немного не рассчитал и ногу определил прямо на лежащее в траве портмоне.
Оступившись, Плакса упал и некоторое время лежал, грустно глядя вверх, на бесстрастные ветви и небо. Затем встал, поместил в карман блудный бумажник и тяжело побежал за ушедшим уже далеко мальчуганом.
Бег давался Леопольду с трудом. Тёплый, малопригодный для дыхания воздух беспощадно врывался в дыхательные пути, доставляя организму непереносимые мучения, не мог такой воздух добраться до жаждавших свежего глотка лёгких и выбрасывался обратно шумным дыханием.
“Всё равно догоню”, – тряско мыслил Плакса, малодушно перестраиваясь на шаг.
Неожиданно Леопольду доставило удовольствие осознание того, что быстрый шаг и даже бег, воздействуя крайне негативно на физическое состояние, никоим образом не затрагивает интеллектуальной сферы его существа, не влияет на ясность и связность мысли.
Другое дело – речь. Попробуй Леопольд Плакса, красноречивый, в общем-то, человек, произнести любую фразу вслух, он столкнулся бы с массой трудностей. Во-первых, по причине учащённого дыхания произнести фразу: “Всё равно догоню”, равно как и любую другую, было бы невозможно. А даже если бы, с грехом пополам, это и удалось, то (во-вторых) нечего было и думать, чтобы фразу эту хоть мало-мальски верно интонировать, придать ей какой бы то ни было характер, осмысленность, настроение, не говоря уж о подтексте или красках эзопова языка.
После столь интенсивной пробежки беседа казалась предприятием вполне безнадёжным, поэтому Плакса втайне порадовался, что не поставлен в обстоятельства, при которых должен немедленно вступить в общение, в речевой контакт с себе подобным. Потому что, будь этот контакт насущной необходимостью сию же секунду, Плаксе пришлось бы не сладко, ему нелегко было бы расположить к себе собеседника, произнося слова по слогам, нагибаясь, упираться вытянутыми руками в присогнутые колени, судорожно поглощая беспомощным ртом непригодный для дыхания воздух, глупо улыбаться, покачивая головой из стороны в сторону, смущенно прятать глаза, коротко взглядывать в глаза собеседнику только для того, чтобы увидеть в них отражение жесточайшего ужаса своего нелепого положения.
А учитывая тот факт, что в роли собеседника в данном случае вообще выступил бы совершенно невзрослый ребенок, следовало ожидать одного из двух вариантов реакции на такое поведение Леопольда.
Вариант первый: испуг мальчика и его попытка к бегству.
Вариант второй: удивление, презрительное кручение у виска указательным пальцем правой руки, ковыряние тем же пальцем в недрах правой ноздри и удаление в избранном направлении.
Всё взвесив, Плакса почувствовал облегчение. Ему всегда нужно было проанализировать ситуацию для того, чтобы успокоиться и справиться с ней. К тому же, в процессе анализа значительно проще было перейти с бега на шаг. Достойнее. А то Леопольд уж было окончательно усомнился в своих способностях бегуна, в своих беговых, так сказать, качествах, а к появлению в сознании готовилось ощущение растренированности вообще, осуждение нездорового образа жизни, тягостных мыслей о необходимости что-то кардинально менять, зудящее предчувствие осознания общего личностного кризиса и многие другие, крайне вредные для самочувствия вещи.
Оправдав и объяснив ненужность и даже вред бега в данном конкретном случае, Плакса перешёл на бодрый, а затем менее бодрый (но не менее достойный) шаг и, продвигаясь вперед, занялся восстановлением дыхания по собственной системе.
Между тем, расстояние до неведомого мальчика сокращалось и уже можно было разглядеть коротко стриженый затылок и всё остальное, что уже было описано: скажем, белую рубашку, поверх которой крест-накрест синели хлопчатобумажные лямки свободных, до колена, шорт. Ребёнок шёл быстро, наждачно шаркая по крупнозернистому асфальту подошвами красных кожаных сандалий.
“Вот ведь... Сотрёт подошвы... никакой обуви не напасёшься”.
Впрочем, на место этой дикой мысли тут же явилась другая, более здравая. “Глупо как-то... Какое мне, собственно, дело...”
Мальчик шёл не оборачиваясь и раздражая самоуверенностью, свойственной человеку, даже не подозревающему о грозящих ему страшных опасностях.
Удивительно, но от этого идущего по шоссе ребенка исходил дух прямо таки нереальной, небывалой свободы. Плакса даже позавидовал, что помогло немного ускорить шаг и поравняться с путешествующим карапузом.
Мальчик как будто не заметил странноватого попутчика.
Некоторое время Леопольд молча вышагивал рядом, стараясь приноровиться к ритму движения малыша. Наконец это наскучило и Плакса решил обратить на себя внимание. Он прокашлялся, просвистел какой-то абстрактный мотивчик, затем пропел его на “ля-ля-ля” и, наконец, сказал:
– Здравствуйте.
Выглядело это нелепо, особенно если учесть, что ребёнок никак не реагировал ни на одно из производимых действий.
Плакса слегка обиделся и некоторое время просто шёл рядом.
Между тем, шоссе превратилось в длинный мост с невысокими перилами и плоско повисло над широкой темноводной рекой.
“Странно, – рассуждал Леопольд, – что в этой реке такая темная вода. Она почти чёрная, и лишь на некоторых участках видно низкое дно, заваленное всяким мёртвым хламом. Когда-то, помню, читал я о царстве мёртвых. Там была река – Стикс. Точно такая же, как эта. Просто один к одному.
– Стикс, – произнес он довольно негромко.
Мальчик по-взрослому повёл бровью. Но это осталось незамеченным. Плакса размышлял, глядя в раскалённую даль. “Возможно, он ничего не знает о Стиксе по причине немногочисленности прожитых лет...”
Ребенок вдруг тоненько засвистал, подобно маленькой экзотической птичке. Это продолжалось несколько секунд, а когда закончилось, Плаксе почему-то захотелось постепенно отстать от ребёнка, двигаясь всё медленнее и медленнее и, оторвавшись на значительное расстояние, припустить со всех ног прочь, подальше отсюда, к городу, к любимым многоэтажкам, кафе, метрополитену, утренним автомобильным заторам.
Влажная жара клубилась впереди над мостом. Заросли ив обрамляли берега реки этакой оправой черному агату вод.
Стайки резвых стрекоз запорхали кругом. Непонятно было, откуда они взялись в таком неимоверном количестве. Стрекозы были энергичны, но прямолинейны (не в смысле траектории, а в смысле какой-то общей непосредственности полета) и, присмотревшись, Плакса заметил среди этих крохотных вертолётиков нечто совсем иное.
“А среди этих стрекоз, кажется, имеются феи, которые резвятся в теплом летнем воздухе и изредка затевают с безмозглыми насекомыми короткие шутливые потасовки”, – почему-то литературно подумалось Леопольду.
Вскоре феи исчезли. Отстали. Видимо только рядом со Стиксом могут они нынче жить. Да и стрекозы тоже не рвались сопровождать путешественников, похоже, им даже с высокомерными феями было интереснее.
Но вот мост иссяк, и дорога снова заструилась средь жёлтых полей.
Хотелось пить. Плаксе, не мальчику. Мальчик, казалось, вообще не испытывал никаких человечьих потребностей.
“Интересно, если идти долго-долго, захочет он писать?.. Едва ли”.
Время шло. Леопольд снова обиделся. Так долго он пытается наладить контакт – и всё понапрасну. Такого ещё не бывало. Плакса не привык к такому обращению. В конце-то концов!..
Но тут он благоразумно предположил, что мальчик может быть глухонемым и терпеливо попытался привлечь его внимание серией жестов и условных знаков.
Плакса скакал на одной ноге, приседал на ходу, производил разные движения руками. Старания не увенчались...
В конце концов, рассвирепев, Лео Плакса забежал вперед и преградил дорогу маленькому чудовищу собственным телом.
Мальчик на мгновенье замер, как кукла, а затем, не меняя выражения лица, с той же недетской сосредоточенностью обошел Плаксу и продолжил движение.
Ошеломлённый Леопольд несколько раз возобновлял попытки препятствовать, но всякий раз получал порцию равнодушного игнорирования. Наконец Леопольд не выдержал и, в очередной раз преградив дорогу, сел на корточки, взял подошедшего мальчика за плечи и остановил.
Ребёнок удивленно посмотрел Плаксе в лицо, мимо глаз, нахмурился, попытался обойти препятствие, но, заметив, что его крепко держат, стал неистово вырываться из цепких леопольдовых пальцев.
Он извивался как уж, лицо его покраснело, сушка выпала, он попытался укусить мучителя за палец, непрерывно кряхтя и отбиваясь маленькими острыми кулачками.
А уж когда Леопольд Плакса приподнял ребёнка над землёй, мальчик совсем разобиделся, принялся лягаться и отчаянно заревел. Он плакал всё громче и громче, всё злее и злее, он уже рыдал, он орал на весь белый свет жутким, нечеловеческим голосом.
Плаксе вдруг стало страшно. Не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел, как он обращается с детьми. Иди потом, объясняй... К тому же, вдруг мальчиков язык неожиданно развяжется при встрече с проходящим неподалёку... полицейским, к примеру?..
Леопольд поставил ребёнка на асфальт и с тихой досадой, очень укоризненно произнес:
– Плакса!..
Очутившись на земле, мальчик сразу же успокоился, подобрал сушку и уверенно двинулся дальше по шоссе.
Несколько минут Плакса озадаченно смотрел ему вслед, затем пожал плечами, тихо и задумчиво повторил: “Плакса...” После чего повернулся в противоположную сторону и сперва медленно, а затем всё быстрее и быстрее зашагал в сторону места, где проснулся (вроде бы) сегодняшним непонятным утром. В сторону города, в сторону жизни, как думал Плакса.
Солнце было уже так высоко, что ошпаривало, казалось, всю Землю. И уж конечно, оно не видело, не могло разглядеть со своей высоты развязку этой странной истории. Глядя на солнце, теперь уже пока нельзя было понять, что взошло оно сегодня почему-то не с той стороны. Впрочем, Плакса и не глядел.
Кругом истерически верещали птицы, шуршала на ветру пшеница (или что там растёт, уж не знаю, какая-нибудь асфодель), и Плакса вдруг попробовал представить себя маленьким мальчиком, шагающим в одиночестве по шоссе. У него не получилось, но он почувствовал, что если хорошенько поупражняться, можно и добиться, пожалуй, со временем, кое-каких результатов.
“Куда же он идёт?”
Плакса вдруг испугался. Потому что впервые не смог ответить на простой вопрос.
Минуя мост, он не встретил ни одной феи. Наверное, жарко стало, попрятались. Феи всегда прячутся, чуть что не так...
Прошагав еще несколько метров, Плакса вдруг остановился, обернулся с внезапной ненавистью туда, где в жарком зыбком воздухе исчез блуждающий мальчик и, срывая голос, прокричал, вкладывая в крик весь свой инфантильный накопленный гнев:
– Да пошел ты со своими сраными феями!!!.. Сопляк...
"СЛЕПОТА"
офтальмологическая
Однажды ему приснилась Марина.
Рогов продрал глаза, потом снова закрыл и, стараясь ухватить за хвост ускользающий в инобытие сон, вспомнил странную девушку. Чем же она его зацепила?.. Бледное лицо, чуть тяжеловатый подбородок, небольшой, немного птичий нос, чёрные глаза, чёрные волосы, невысокий рост, похожа на одну из тех иностранок, туристок… не наше лицо, не совковое. Взгляд, улыбка, выражение глаз… Вот что. Неуловимое свечение как бы изнутри, выражение покорности, кротости, и в то же время – безудержной распущенности: в жизни покорна, в постели – самозабвенна. Когда-то он уже говорил так своему приятелю об одной случайной девице, которая в сексе не умела ничего, но вела себя так, словно мужчина, который был рядом с ней (он) – самое дорогое, что было в её жизни. Наверное, проститутки, обладающие таким качеством, зарабатывают лучше других, потому что для мужика важно не умение, а отношение. Правда, та девушка не была проституткой. Просто случайная знакомая. Тогда ему панически не хотелось её отпускать, они засыпали и просыпались в перерывах между соитиями, переплетённые, как лианы в каких-то далёких ароматных джунглях, где никого нет и даже не слышно признаков цивилизации.
И вот теперь, в этой Марине он почувствовал такую же. Она была на дне его рождения с Леопольдом, тем рекламистом, который то ли чех, то ли прикидывался. Он как-то нелепо погиб, не слишком давно…
Открыв глаза, Рогов обозрел явно не свою комнату. Вместо потолка второй ярус кровати, справа книжные полки, зеркало, гладильная доска. “Где это я?..” И почти сразу вспомнил: у приятеля, продюсера “Дирижабля”, культовой рок-группы. Вчера он принёс Сане сценарий клипа, они пили текилу, обсуждали, вносили поправки…
Совершенно не болела голова и вообще, он как-то свежо себя чувствовал и даже что-то такое предвкушал особенное, сладко-волнительное. На тумбочке рядом с кроватью он увидел стакан воды и листки сценария. Отхлебнув из стакана, Рогов взял сценарий.
Иван Рогов
Одинокая птица
Сценарий видеоклипа группы “Дирижабль”
Посвящается И.Кормильцеву
Иллюстрируя первые аккорды вступления, на экране наплывом сменяются снятые крупным и средним планом белые и черные крылья, медленно и плавно вздымающиеся и опадающие перед объективом камеры.
Белое крыло, попадая в густую тень, последовательно, перо за пером, темнеет. Черные перья развернутого крыла, превращаясь в негатив, становятся белыми. Кадры сменяются медленно, изображения будто тают, накладываясь одно на другое, создавая ощущение сновидения.
Тонкие женские пальцы с длинными острыми ногтями, покрытыми черным лаком и похожими скорее на когти, осторожно приподнимая черные перья, расправляют, раскрывают перед нами крыло, словно веер.
Наплыв. Стремительно, но плавно мы летим по темным улицам ночного города. Минуя редкие фонари, мы видим, как на поблескивающем асфальте, опережая наш полет, вытягивается длинная крылатая тень; постепенно мы догоняем ее, она укорачивается, тает и, наконец, вовсе исчезает, чтобы с помощью света очередного фонаря снова вырасти.
Одинокий прохожий, повернув к нам лицо, прижимается спиной к шершавой влажной стене.
Наплыв. В темной ночной комнате на постели с черным, шелковисто отливающим бельем, спит наш герой – парень двадцати – двадцати пяти лет. На полу у кровати стоит пепельница с окурками, пустой бокал, оплывшая свеча, книга, открытая на репродукции врубелевского “Демона”, еще несколько книг, среди которых: “Мастер и Маргарита”, томик Лермонтова, “Молот ведьм” и “Демонология”. (Слишком явно!!)
Мужская рука осторожно проводит по “эбонитовым” перьям большого, матово поблескивающего крыла.
Крупный план. Молодая на вид женщина с пугающе-красивым, немного хищным и очень бледным лицом, гладкими черными с отливом волосами, струящимися вниз и сливающимися с черно-блестящими перьями крыльев, закрывает глаза и медленно запрокидывает голову, словно реагируя на прикосновение мужской руки к перьям.
Камера отъезжает. В переплетении ветвей женщина сидит, подтянув к подбородку колени и обхватив себя крыльями.
На стене комнаты появляется тень огромного крыла, взмахнувшего за окном. Тень замирает и плавно опускается к спящему герою, проводит по щеке, шее, плечу юноши, как будто огромная птица нежно гладит спящего. (Слишком литературно.)
По телу юноши легко скользит краешек тонкого черного пера.
Глаза героя закрыты…
Прямо в камеру пристально смотрит девушка-демон.
Наплыв. Словно находясь на большой высоте, мы видим, что на брусчатке лежат два безжизненных тела. Юноша, раскинув руки, упал лицом вниз. Рядом с ним, устремив застывший взор в небо, лежит девушка-демон с распростертыми по гладким камням крыльями.
Наплыв. На лице спящего оживают ресницы, они вздрагивают, глаза открываются.
Камера отъезжает. Мы видим, что парень сидит в амфитеатре университетской аудитории. Внизу, за столом у доски, восседает экзаменационная комиссия во главе с профессором - пожилой брюнеткой демонического вида. Один из студентов отвечает на вопрос билета.
Наш герой сидит задумавшись; перед ним чистый лист бумаги. Парень бросает взгляд на авторучку в своей руке, и мы видим, что собирается писать он отнюдь не ручкой, а большим черным пером. Юноша порывисто прячет руку с пером под столешницу и с опаской оглядывается по сторонам, проверяя, не заметил ли кто пера, затем осторожно поднимает руку и видит, что держит в пальцах обычную чернильную ручку.
Крупно глаза главного героя. Наплыв.
Хмурый пасмурный вечер. Парень, подобно огромному насекомому карабкается вверх по отвесной стене исполинского университетского здания. На каменной балюстраде, венчающей здание, словно гигантская птица, сидит девушка-демон. Она опустила крылья и хищно наклонила голову, словно поджидая свою жертву.
Студент в аудитории зажмуривается и легонько встряхивает головой, словно отгоняя наваждение; начинает что-то писать.
Наплыв. На одном из столбов каменного парапета, подтянув под себя ноги, сидит наш герой; позади него девушка-демон. Она обхватила, будто укрыла его крыльями. Парень смотрит вниз, девушка – вверх. Мы видим их профили. Ветер упруго треплет волосы, перья, одежду этой странной, почти скульптурного вида неподвижной пары.
Наплыв. Кроме заметно поредевшей комиссии и одного-единственного студента - нашего героя - в аудитории никого нет. За окном ярко светит солнце. Юноша вновь пребывает в состоянии полной отрешенности. Один из членов комиссии - желчный педагог в небольших круглых очках стучит ручкой по столу, чтобы привлечь внимание студента. Парень не реагирует. Глаза его широко раскрыты, но совершенно незрячи.
Наплыв. Девушка-демон поднимается, выпрямляется во весь рост и, распахнув крылья, легко вздымает их вверх. Парень поднимается вслед за ней. Вместе они начинают заваливаться вперед и вниз с каменной балюстрады.
Крупно глаза юноши.
Камера несется вниз к влажным булыжникам мостовой.
Женщина-профессор, нахмурив брови, что-то строго выговаривает студенту.
Парень в ужасе зажмуривает глаза и закрывает лицо сжатыми кулаками. С большой высоты мы видим, что на брусчатке, лицом вниз, раскинув руки, безжизненно лежит наш герой… Один.
Парень поднимается с места и бросается к выходу из аудитории. Профессор порывисто встает и резко, раздраженно окликает странного студента. Парень останавливается и оборачивается. Мы видим, что взгляд его стал нормальным, живым и осмысленным. На лице юноши появляется смущенная улыбка.
В сером небе, к единственной цветной точке этого фильма - кроваво-красной мигающей звезде, плавно взмахивая крыльями, улетает ставшая совсем маленькой, черная птица.
Пальцы нашего героя, крепко сжав, ломают и мнут большое черное перо…
Женщина-профессор принимает экзамен у студента. Наш герой держит в руке сломанную авторучку; по пальцам его текут чернила. Парень улыбается, словно вспомнив о чем-то давно минувшем.
-------------
Сумрачный, заполненный почти осязаемым табачным дымом бар, в котором плавно перемещаются силуэты людей. За барной стойкой сидят несколько человек. По переднему плану - главный герой. На стойке бара перед ним стоит бокал с виски и лежит черное перо, которое парень задумчиво вращает пальцами. Юноша сидит в профиль к нам, затем поворачивается затылком. Переводом фокуса наше внимание перебрасывается на второй план, где из-за спин и затылков других людей появляется хорошо знакомое нам лицо девушки-демона. Но теперь волосы у девушки светлые, а в выражении лица нет ничего демонического. Девушка легонько проводит по губам маленькими белым перышком; затем пристально смотрит в глаза парню; губы ее чуть заметно вздрагивают и в момент зарождения ее улыбки экран закрывает огромное белое крыло.
(Это слишком!.. Нужен ли вообще бар? Это намного дороже. Да и как-то по-американски. Твой Пип).
*
Поправки. Блять. Ну почему всякая тварь берет на себя право что-то менять в произведении, не понимая целого, не всасывая концепции, рассматривая сценарий дилетантски, не учитывая совершенно законов драматургии. А тут вообще, всё явно указывающее на контраст “демон-ангел” – убери!.. Эх, был бы жив Митяй!.. Хотя, собственно, чем бы он помог? Митяй всегда поддерживал того, кто башляет, и он, кстати, тоже ни хрена не понимал в драматургии. Так и было, и ничего с этим не поделаешь, и по-другому не скажешь, несмотря на то, что Митяй – покойник. Впрочем, незнание драматургии – не грех, и это не значит плохо думать об умершем. Иван вспомнил про нелепую гибель Митяя. Накануне он купил “Ягуар” и приехал к Пипу. Вся толпа пошла смотреть тачку. Митяй самодовольно рассказывал о машине и о себе любимом. Все втихаря завидовали, а девки мечтали уехать к Митьке ночевать. Все девки. Без исключения. Он тащился. Потом взял одну из девчонок и уехал, даже кокс нюхать не стал. А наутро выпроводил тёлку и поехал в деревню, к друзьям-художникам, далеко куда-то… за Тверь, что ли… Ну и не доехал. Врачи говорили, умер быстро, почти сразу… А “Ягуар”, кстати, не очень пострадал, кузов только помят, крыша, да фары разбиты, ослеп, стало быть…
Ну, всё. Рогов проснулся окончательно, посмотрел на часы. Дааалеко за полдень. Ну, это обычный вариант в доме Пипа: отбой в четыре утра, подъём в три дня. Так что, сегодня даже рано. Он вспомнил Женьку, защемило сердце, но он быстро отогнал злые мысли о том, что рон-н-ролл засосал, а от этого страдает хорошая девушка, которая наверное по-настоящему Рогова любит…
Рогов открыл дверь, успел услышать голоса на кухне и, сделав шаг, оказался в ванной. Умывался и принимал душ он долго – любил: тёплая вода, живыми струями обтекающая тело, миндальное мыло, толстое мягкое полотенце. Последние несколько месяцев после того, как он психанул и ушёл из дома на два дня, бросив плачущую Женьку, Рогов так часто ночевал у Пипа, что чувствовал себя лучше, чем дома.
Набросив на влажное тело белый махровый халат общего пользования, Рогов вышел в мир. Сначала он прошёл в гостиную. Там выяснилось, что Пип ещё не вставал. В большом кресле перед телевизором целовались в глубокий засос Артур, лидер группы “Район”, и солистка той же группы Матильда, девушка афро-азиатского происхождения. “За ночь не нализались…” Мысль была не злая, даже не раздражённая, скорее, отеческая. Хотя, почему? Артур старше, да и поизвестнее будет. Ладно, неважно. Главное, что отвлеклись и сообщили, что хозяин почивает. Пивка бы. Или чаю, в крайнем случае.
Когда Рогов зашёл на кухню, его словно шарахнуло током высочайшего напряжения. Он вошёл, увидел и сразу же вышел. Он вышел в коридор, заглянул было снова в гостиную, но передумал, прошел в спальню и сел на огромный сексодром, где под одеялом заскорузла свалка из неопределённого количества разнополых людей. Они спали. Рогов сел на чью-то ногу. Владелец простонал что-то сексуально-неопределенное, но ногу убрал. Ничего этого Рогов не заметил. Он был в шоке. Он просто сидел в затемненной спальне, наполненной сном, запахом семени и перегара. Лицо его окаменело, а в голове лихорадочно неслись обрывки мыслей. Как при быстрой перемотке видео: общий смысл ясен, а вот сформулировать содержание трудно. Общий смысл промотки мыслей был: ни хрена себе! Откуда?! Бешено колотилось сердце. Нужно было что-то делать. Он вернулся в ванную, открыл воду и подставил голову под струю. Штамп, конечно, но помогло. Он вытерся и вышел в коридор. Из кухни слышались голоса. Артур, Матильда и…
Рогов вошёл в кухню, сказал всем “доброе утро” и стараясь не смотреть на… открыл холодильник, выудил бутылку “Хайнекена”, вскрыл, сделал большой прохладный глоток и сел к столу.
– Привет, – ласково и чуть насмешливо сказала Марина, та самая девушка, которая ему только что снилась.
– Привет… – Рогов умел скрывать эмоции… кажется. – А ты здесь как? Вечером тебя не было вроде.
– А я утром приехала. Я с Пипом давно дружу. Он, правда, занят, у него там целый выводок малолеток… А ты?
– Я?.. Я недавно. То есть… Ну так, относительно. Хочешь пива?
– Уже.
Она показала бутылку, которую держала в руке, в узкой руке с тонкими пальцами, и улыбнулась так… так особенно… как будто он, сценарист Иван Рогов, был самым близким ей человеком. И всё его смущенье мгновенно растворилось в кухонном солнце и тихой музыке; незаметно исчезли куда-то Матильда с Артуром, а Марина подсела поближе, и скоро они уже целовались, покусывая и облизывая друг другу губы и языки, словно истосковавшиеся любовники.
От неё пахло солодом и дорогими сигаретами, а ещё чем-то таким… очень женским. Хотелось бесконечно шептать что-нибудь в её нежную ушную раковинку и одновременно исследовать пальцами таинственное отзывчивое тело.
– Ты мне приснилась сегодня.
– Я знаю. Я о тебе думала.
– Я люблю тебя.
– Я люблю тебя.
Вот так они и встретились, и так случилось, что впервые он овладел ею на кухне своего приятеля, удачливого продюсера популярной рок-группы. Или она им овладела. Не будем вдаваться в подробности. Да и кто их разберёт, влюблённых?..
*
Роман был бурный и продолжительный. Скоро Марина поселилась у Рогова и стала как бы женой. Сначала он был счастлив, а через год затосковал. Марина ему надоела. И стала напоминать драную городскую ворону, не внешне, как-то… по сути. Рогов всё чаще вспоминал свою Женьку.
Марина и сама всё чувствовала, только делала вид, что не понимает. Когда его не было дома, она рыдала о своей неразделенной любви и не знала что же ей делать. А он ежедневно обдумывал как бы с ней помягче, но поскорее расстаться. Он стал реже приходить домой, она не устраивала ему истерик – знала, что нужен повод. Если они выходили куда-нибудь вместе, он откровенно пялился на всех баб. Она скрежетала зубами, но при этом мило ему улыбалась.
Теперь, когда он уходил из дома, она тоже собиралась и куда-то уходила. Так они жили ещё полгода.
А потом Рогов стал хуже видеть. У него просто катастрофически падало зрение.
Однажды утром он проснулся, открыл глаза и увидел полную темноту. Он потёр глаза руками, темнота вспыхнула северным сиянием, но осталась все равно темнотой. Он позвал Марину.
– Что со мной? Я ослеп?
– Да, ты ослеп, любимый.
– Но почему? Что за бред?
– Я же не врач…
– Так надо вызвать врача!
– Хорошо, я сейчас позвоню.
Она позвонила врачу. Врач приехал и осмотрел Рогова. Он сказал, что можно лечь на обследование в глазной институт, но… судя по тому, что он обнаружил, насколько он может судить… недуг неизлечим – у Рогова… врожденная слепота. Рогов захлебнулся от гнева и ужаса, и Марина поспешила проводить изумлённого доктора.
Постепенно Рогов успокоился. Она дала ему сильное средство. Он лежал на диване, а она сидела и держала на коленях его голову. Она гладила его волосы и лицо, и монотонно шептала, как будто произносила какое-то заклинание:
– …я слишком долго искала тебя и ждала, разбрасывая других мужиков, я не хочу так просто, как все эти дуры, потерять тебя, ни за что, теперь ты мой мой любимый мой единственный только мой только мой только мой только мой только мой только мой только мой только мой только мой только мой только мой…
Он лежал и слушал её в слепом оцепенении, будто во сне, задыхаясь от омерзения и отчаяния. Постепенно он успокоился и действительно стал засыпать, а, засыпая, снова стал видеть – ему уже почти снилось, что Марина превращается в огромную чёрную птицу с бесстрастно-хищным лицом. Она поглаживала его большими блестящими перьями, убаюкивая и произнося какие-то тихие фразы на неведомом языке птиц… И Рогову хотелось уснуть в этом неплотном ещё, каком-то дурманящем сне, но он боялся уснуть, боялся уснуть, потому что не знал, куда она клюнет его в следующую секунду.
"ВУЛЬФ"
компьютернографическая
Старым злым игрушкам
Исчадие ночи
вышло на промысел;
воины спали,
уснула охрана
под кровлей высокой,
из них лишь единый
не спал...
на горе недругу
ждал он без страха
начала схватки.
“Беовульф”, гл. 11.
Штатный сотрудник крупной фирмы – менеджер Леонид Вовк – работник исполнительный, аккуратный и тихий – страстно полюбил персональный компьютер, новый, недавно появившийся в отделе связей с общественностью, сверкающий пластиком и стеклом аппарат.
Не подумайте, что Леонид на нём работал! Что вы! Для полноценного, продуктивного исполнения ежедневных служебных обязанностей Вовку вполне хватало неплохого телефонного аппарата с кнопочным набором номеров, хорошей большой книги для записей и отличного (хоть и небольшого) японского калькулятора...
На компьютере Лёня играл.
Не то, что бы он занимался этим в рабочее время менеджера, – нет. Он занимался этим в другое время. Тоже в рабочее, но позволяющее данное занятие вполне. Дело в том, что Вовк подрабатывал в своей же фирме охранником, стерёг в ночное время сутки-через-трое этаж, на котором трудился днём менеджером. Вообще это не положено, но был Леонид настолько обаятельным человеком, что начальство охотно закрывало глаза.
Обычно в день после ночного дежурства Леонид работал неважно. Глаза закрывались сами собой, голос звучал слабовато, убедительности в аргументации не наблюдалось, да к тому же ещё и голова чаще всего раскалывалась (в переносном, конечно же, смысле).
А всё потому, что в отличие от сослуживцев, охраняющих двенадцать этажей громадного офисного здания, ночь он проводил беспокойную, бессонную, крайне напряжённую и даже нервную, поскольку так верил в происходившее на экране компьютера во время своих виртуальных утех, что отдавался этому занятию весь, тратя невообразимую массу энергии на то, чтобы победить полчища неведомо откуда берущихся фашистов.
Именно фашистов, а не смехотворных монстров, полуящеров-полуголемов других "стрелялок”, которые казались ему чересчур уж мультипликационными, не взаправдашними. Фашисты – дело другое. Они были вполне реальны, мундир — вещь основательная и убедительная, и даже каски и автоматы в безжалостных руках поблёскивали металлом, добавляя ощущения опасности.
Компьютерно грамотный читатель конечно уже догадался, какую именно игру полюбил Леонид.
Названия её Леня не понимал. Только улавливал в нём что-то немецко-фашистское, жестокое; похожие на волков овчарки в некоторых комнатах бесконечных лабиринтов игры хоть и подтверждали правильность ассоциаций, но не объясняли сути. А ещё слышалось Вовку в названии что-то почти родственное.
Но самое главное – игру эту Леня выбрал из десятка других. Его устраивало всё: графика, динамика, “сюрпризы” в стенах.
Проходя девять уровней очередного раздела, Леонид с трепетом и азартом ждал последней, заключительной, наиболее сложной схватки. Это повторялось уже восемь раз и до сих пор не приелось.
Пока ты проходишь восемь уровней с полчищами солдат, то отвлекаешься, забываешь о финале предыдущего раздела, и потом, оказавшись в очередном финале, в последнем... круге, что ли, – испытываешь новый испуг и получаешь дозу адреналина...
Сегодня Леониду предстояло завершить игру, пройти последний уровень последнего раздела. Вовк не задумывался о том, что будет дальше: найдёт ли он другую увлекательную игрушку, или начнёт сначала, – сейчас это не имело никакого значения, – важно было победить с первого раза плюс не разочароваться: последний и главный монстр не должен был оказаться хлипким и неинтересным.
Начало Леня знал хорошо.
Ты нажмёшь пробел, сдвигающий дверь, войдёшь осторожно, покрошишь в салат беспечных солдафонов (их на этом уровне мало, только в самом начале), и пойдёшь по тихим, пустым виртуальным коридорам, пока не выйдет он. И вот тогда держись! Стреляй, убегай, возвращайся, снова стреляй. И так до бесконечности, – до победы или до поражения. У тебя есть бесчисленное число попыток, если ты умеешь правильно сохраняться. Нужно набрать определённую комбинацию на клавиатуре после того, как сразил множество врагов и вышел за дверь, в тишину и безопасность. И если тебя после этого сохранения убьют, ты вернёшься не в начало уровня (как бессмысленный “чайник”), чтобы всё начать заново, а именно к этой двери, за которой ты всех уже уничтожил. Очень удобно, не нужно терять времени попусту. Ещё более удобная комбинация – полное возвращение своему герою (себе!) жизненных сил и боеприпасов. Эта операция была для Вовка почти запретной, не джентльменской, и использовал он её только на последних уровнях, где битва велась не на жизнь, а на смерть, и где действовал монстр, которого не только одиночными выстрелами, но даже полноценной, продолжительной очередью из пулемета вряд ли убьешь.
Мало того, что враг был почти неуязвим, он ещё и атаковал. На разных уровнях они (все его ипостаси) стреляли, швыряли, плевали чудовищными зарядами, от которых можно было спастись исключительно бегством. Но если уж в тебя попадала такая плюха, ты тотчас погружался в красный пол, что означало твою безоговорочную виртуальную гибель. Это, конечно, не смертельно в реальности, но довольно неприятно для самолюбия и страшно подогревает азарт и мстительность.
Леонид курил. Не то чтобы он нервничал, не подумайте. Уж не настолько влиял на него этот электронно-пластиковый ящик с экраном и кнопками.
Нет, конечно, компьютер оказывал определённое воздействие на жизнь Леонида, но власть его была кратковременна и не распространялась на жизненно важное.
Иногда, к примеру, заходя в лифт и оставаясь в тесной кабинке один на один с раздвижными дверьми, Вовк думал, что хорошо бы сохраниться, а то вот сейчас разъедутся створки и расстреляют его в упор кровожадные воины. А продвигаясь осторожно по любому коридору и приближаясь к повороту, он очень хотел, скользнув вдоль самой стены на цыпочках, потихоньку выглянуть за угол и сразу спрятаться, отбежать в сторону, подождать, не появятся ли враги, чтобы быстро уложить их, разоружить и двинуться дальше.
Но, собственно, и всё. Кроме таких вот смешных инерционных ощущений, да ещё, может быть, некоторой затравленности и пришибленности в первые тридцать-сорок минут после многочасовой игры, Леня не испытывал ничего пугающего и ничего похожего на синдром компьютерной зависимости.
Вовк не думал о компьютере всё время, мог легко оторваться от игры в самом разгаре, если требовали обстоятельства, и не чувствовал какого-либо необычного огорчения. Словом, поводов для беспокойства у Леонида в вопросе отношений с компьютером не было. И даже была одна положительная, по его мнению, сторона. Конечно, Лёня не относился к этому новому ощущению всерьёз, не мог говорить о нём применительно к реальности.
Он как-то перестал бояться смерти, где-то глубоко... даже не в голове – это почти не осознавалось – скорее, в сердце, засела уверенность, что если использовать правильную комбинацию кнопок, то в случае гибели вернёшься живым в нужную тебе точку пространства и времени.
И всё-таки Леня курил. Просто он курил в жизни. Немного, правда, и предпочтительно хорошие сигареты, но...
На столе светилась лампа, небольшой фрагмент провода которой неведомо отчего расплавился и оголился; рядом лежала изолента – Леонид ещё днем думал заизолировать опасный провод, да закрутился, отложил на вечер, а потом просто забыл.
Под лампой уже стояла большая чашка горячего чая с вареньем – непременный атрибут леонидовых ночных бдений.
Всё было тихо-спокойно. Тишина колдовала и пророчествовала. Вовк готовился к битве.
Табачный дым скручивался в туманности, спирали галактик, зависал живыми клубами в полутёмном офисе.
За морозным окном в комьях холодного света фонарей ветер перемещал роты снежинок от здания, в котором нёс службу на ночном посту Леонид Вовк, к троллейбусному парку, где тесно жались друг к другу железными боками неповоротливые вялые машины с замерзшими опущенными рогами – странно холодно было той ночью в Москве, – а ещё добирался снег до казарм красного кирпича, где, объединённые идеей воинской части, отходили ко сну утомлённые защитники родины. Леонид никого не защищал, но парадоксально чувствовал какое-то родство с этими спящими воинами. Возможно, так он настраивался на решающую битву.
Когда очередной окурок не поместился в маленькую офисную пепельницу, – “односпальную”, как называла её всегда пахнущая возбуждающе сладко секретарша шефа Марина (с которой у Лёни случился как-то нелепый мучительный микро-роман), – Леонид понял, что его час пробил.
Глянув на часы, Вовк, как обычно, испытал секундное головокружение и холодящий страх – показалось, что время остановилось. На этот раз Леня решил взять себя в руки и не стал дожидаться, когда секундная стрелка двинется дальше.
Включился и тихо загудел компьютер, засветился экран монитора; Леонид сосредоточился и пробежал пальцами по клавиатуре.
Растаяла таблица “Нортона”, выплыла из небытия картинка-обложка любимой игры, Леонид нашёл свое имя в меню и... вот он, последний уровень, дверь, за которой ожидало неведомое, едва слышно потрескивая электричеством и гудя, таинственно и отдалённо.
Небольшой портрет воина. Он ещё не ранен, кровь не струится со лба и ни один синяк не украшает мужественного лица. Воин настороженно водит глазами по сторонам. Он не похож на Леонида, виртуальной сущностью которого является, на полненького невысокого человека в роговых очках, с русыми вьющимися волосами и неухоженной бородкой-эспаньолкой, совсем не похож, но это никогда не волновало Леню, – во время игры лица героя, компьютерного Вовка, не видно, есть только война и ствол в нижней границе кадра.
Леонид бросил беглый взгляд на индикаторы и окошки параметров. Боеприпасов – полный комплект, оружия – тоже: нож, пистолет, автомат, пулемёт. Всё в порядке. Здоровья полные закрома, жить – восемь жизней. Нажимаем пробел.
Дверь медленно сдвинулась. Вовк проник внутрь виртуального мира, словно поплыл вперёд, в экран, а весь реальный осязаемый мир как бы исчез.
Шлюз. Никого. Ещё три двери. Пойдём в среднюю.
Вот они!
Леонид применил традиционную тактику. Заглянув в новое помещение, стремительно сдал назад и притаился за углом в ожидании. Дверь оставалась открытой. Сейчас появится один, другой, третий...
Леонид “поливал”. Почти каждый выстрел попадал точно в цель. Враги падали, как кукуруза. Леня быстро подбегал, с приятным электронным писком присваивал коробки с патронами – таковы уж законы войны – и, отступив на исходную позицию, продолжал стрелять.
Наступило затишье. Быстро сохранившись, Лёня прошёл в смежное помещение. Ничего особенного. Несколько ниш, две боковые комнаты, в одной стоят ровными рядами коробки с патронами, в другой — здоровье и силы: белые чемоданчики с красными крестами на боку и миски с разноцветной виртуальной едой. В эти ниши можно будет вернуться с последнего поля битвы, слегка подкрепиться.
Дверь. Последняя? Лёня не знал. На этом уровне он ещё не был.
Перед дверью сохранился и, секунду помедлив, легонько стукнул пальцем по кнопке пробела.
Дверь поползла в сторону. Выстрелы. Трое или четверо солдат, как показалось Вовку, непривычно суетливо бросились навстречу.
Несколько секунд понадобилось для расправы – Леонид почувствовал, что становится по-настоящему опытным игроком.
Сохранение. Несколько шагов. Длинный, холодных тонов зал. Стены и пол из непрозрачного голубоватого льда. Посредине – кубическая конструкция непонятного назначения. Дверей к кубе нет.
Пройдя несколько метров вдоль стены куба, Леонид опасливо выглянул из-за угла. Дальняя стена зала была неоднородна. Три нешироких проёма разрезали её и приоткрывали какие-то помещения. Он там. Совершенно точно он там. Какой он, чем вооружен? Насколько быстр и силён?
В нише мелькнула фигура. Ещё несколько шагов.
Леонид заглянул в проем и тотчас отскочил за угол куба, приготовившись пострелять. Монстр не появлялся.
Леонид повторил манёвр, и лишь на третий раз, когда решил не убегать далеко, в проёме снова наметилось какое-то движение и из-за стены вышел... Доктор.
Представьте себе Вия, облачённого в белоснежный медицинский халат и шапочку, с румяным как булка лицом.
В исполинском кулаке Доктор держал здоровенный шприц, предназначенный, как минимум, для внутривенных инъекций слонам.
На лице Доктора не было обычного свирепого выражения, присущего монстрам последнего уровня, скорее он выглядел грустным и встревоженным.
От неожиданности Вовк обомлел и с большим опозданием нажал кнопку. Пулемётная очередь ушла ровнёхонько в грудь Доктора, не причинив ему никакого вреда. Лёне показалось, что Доктор даже усмехнулся, во всяком случае, какое-то движение мелькнуло на широком виртуальном лице. И сразу же вслед за этим Леонид увидел летящий прямо в него шприц. Увернуться Вовк не успел, и сверкающее стеклом и металлом копьё мгновенно лишило воина трёх четвертей его жизненных сил.
Доктор приготовился повторить, в его руке сверкал ещё один шприц, но Леонид уже мчался прочь, за пределы ледяного стерильного зала, пополнять утраченные ресурсы. Забрав половину еды и боеприпасов из открытого тайника, Лёня вернулся.
Теперь, не вылезая из-за угла, наносил он короткие удары очередями и убегал.
Доктор уже не улыбался, но и не падал. Он шёл за Лёней по пятам и швырял шприцы.
Незнакомый ужас охватил Леонида. Уже несколько раз он возвращал себе полный боекомплект и здоровье, выпустил по крайней мере десяток удачных очередей! А Доктор всё ещё жил! Более того, он изменялся. Его движения стали порывистыми, а лицо посерело и быстро приобрело волчьи черты. Такого не было ни на одном уровне этой игры.
Обычно после нескольких точных попаданий достаточно было пустить чуть более длинную очередь в грудь чудовища, и оно грузно падало навзничь. Потом нужно было подойти, забрать ключ для перехода на следующий уровень и посмотреть повтор победы в хорошей степени замедления. Это были любимые мгновенья игры. Сейчас Леонид думал только об этом, предвкушал победу, суетился и ошибался, пули все чаще летели мимо. Леонид понял, что едва успевает сохраняться и пополнять запасы. Постарался успокоиться, ушёл за дверь, сохранился, собрался с мыслями, вдохнул и вошел.
Монстр стоял прямо перед ним. Стоял и смотрел Леониду в глаза! Как это возможно? Это же иллюзия, виртуальность! Но Доктор-оборотень смотрел, странно, почти сострадательно, словно хотел о чём-то предупредить, не швырял свой шприц, не двигался, губы что-то шептали.
Звука не было. Ночью Леонид отключал его, интереснее было сражаться в тишине. Несколькими простыми манипуляциями Леня вернул игре звук.
По гулкому ледяному коридору ползло шипящее, хрипло произносимое слово: “Искейп, йскейп, искейп.... ”
Судорожно нажав “огонь”, Лёня не отрывал пальца до тех пор, пока Доктор не рухнул на пол.
“Померещится же такое...”
Леонид провёл ладонью по лицу и потянулся за сигаретой. Неожиданно ему показалось, что Доктор пошевелился. Рука Вовка скользнула и опрокинула чашку с чаем, затем инстинктивно дёрнулась вслед, спасти положение и, одновременно с остатками холодной тёмно-коричневой жидкости, пальцы коснулись оголённого провода.
Короткая вспышка, электрический треск, клуб дыма, короткий мучительный вскрик, и Леонид тяжело уткнулся лицом в клавиатуру, мёртвая лампа упала, а экран монитора щёлкнул и стал медленно гаснуть.
Некоторое время ядовитая точка в центре экрана ещё светилась, но вскоре и она потухла. Наступила полная темнота...
...темнота была липкой и долгой, тёплой и непривычно тихой. Казалось, все звуки выключены и не слышно даже дыхания. “Как же меня угораздило?.. Хотел же заизолировать... Зараза... Надо как-то подниматься, сходить за помощью, позвонить в конце концов...”
Руки не чувствовал. Более того, совсем не чувствовал тела. “Парализовало!..” – обожгла мысль. Лежал или сидел – неизвестно. И ещё. Смутно помнил кое-что из последней ночи, но не мог вспомнить прошлого. “Так... и память потерял... ну дела...”
Попытавшись крикнуть, раскрыл рот и напряг голосовые связки. Ни звука. Так и лежал... или сидел, неведомо где, неведомо сколько, не мог даже высунуть язык и полизать стол или пол, чтобы убедиться в том, что существует пространство.
Глаза, казалось, могли видеть на триста шестьдесят градусов, но кругом была полная тьма. Чувства тоже стали стираться, выравниваться; скоро ничего не мог вообще. Не видел, не слышал, не обонял, не осязал, не мог говорить, не помнил, не ощущал и почти не мыслил...
...вернулся слух – смутно знакомый звук – гудение и тихий электрический треск... в мыслях пронеслось: “В бой! Твоя битва!”
Яркий свет. Отдалённые выстрелы. Шаги. Сколько силы в этом незнакомом теле!..
Осмотревшись, обнаружил вокруг себя ледяной зал; вместо дальней стены – экран. По ту сторону плавно покачивалось огромное, размытое человеческое лицо...
Ощутил в руке холодное стекло шприца.
Наступила полная ясность.
Белый халат хрустел крахмалом, шапочка туго стягивала голову. Узкий проём обжёг плечи ледяным прикосновением. Неожиданно в грудь ударил горячий поток безвредных, но неприятно щекотных пуль.
Тогда тот, кто был когда-то Вовком, поднял руку и, скорчив свирепую гримасу, швырнул шприц в размытое пеленой экрана лицо.
"ПТИЦЫ И ЛЮДИ"
орнитологическая
Глава первая
СНЫ
Сан Санычу снились птицы. Птицы в небе. Небо в птицах. В ярких и серых, потрошённых и водоплавающих, нелетающих и ископаемых. Небо в голубях и воробышках, лебедях и колибри, пингвинах, страусах, курицах и археоптериксах. Сан Санычу снилось детство.
Толстый голубоглазый карапуз кормит голубей в парке, голуби слетаются к нему стаями, закрывают небо и выхватывают кусочки хлеба из рук. А он, маленький-пожилой Сан Саныч, в ужасе убегает.
Громадных размеров чудовищный голубь-дракон преследует его и хищно разевает клюв, пока Сан Саныч не проснётся. "Почему он вечно пристаёт ко мне, этот голубь? Что ему надо? Спасите меня от него, я его боюсь!” Убежать невозможно, убежать можно только в воздухе, а он не в силах оторваться от земли, ему не удается взлететь...
С самого глупого детства Сан Саныч любил разных птиц. Ему нравилось, как они носятся в воздухе и когда хотят садятся на ветки, на землю, на асфальт, на крыши и провода. Ему нравилась их грация, нравились механические повороты голов, в такие моменты птицы напоминали маленьких роботов, а ещё удивляли их голоса, многочисленные и разнообразные.
Родители не хотели покупать ему живую птицу, считали, что это хлопотно. Поэтому отец принёс однажды Сан Санычу чучелко. Оно было серенькое с редкими синими проблесками в перьях. Умер какой-то отцовский знакомый, старик-часовщик, и отец взял замершую птичку на память. Раньше она стояла у часовщика в башне, рядом с песочными часами возле круглого маленького окошка. Сан Саныч тоже поставил чучелко поближе к окну.
Иногда ему очень хотелось расспросить взрослых о том, что бывает с птицами после их смерти. Про людей он кое-что знал, а вот птицы... Спросить об этом он так и не решился. Из всех же предположений остановился на одном, потому что был почти в этом уверен: умершие птички становятся маленькими ангелами, может не все и не сразу, но его птичка – точно – маленьким ангелом с золотистыми волосами.
Сан Саныч очень любил чучелко, но оно не могло с ним играть, и мальчик продолжал мечтать о живой птице. А пока оставались только прогулки, во время которых можно было всласть покормить голубей и воробьев заранее припасённым хлебом. А ещё побегать с ними наперегонки по парку: кто быстрее взлетит. Птицы всегда побеждали, но маленький Сан Саныч не огорчался, уже тогда он чувствовал, что птице птицево, а ему – сансанычево. Даже почти понимал, не переживал, но какую-то тайную надежду хранил в сердце: а вдруг как-нибудь... Не то что бы он хотел быть птицей... Хотя, нет, иногда он именно хотел ею быть и, насмотревшись, как голуби расправляют крылья и взмывают в небо, – легко и изящно, – долго потом видел перед собой призрак крыла-веера...
Ветер обдувает лицо, проносятся мимо город и люди, глаза наполняются слезами не то от ветра, не то от счастья. Свобода!.. Полёт птицы по имени Сан Саныч – самой диковинной птицы на свете!..
Иногда он был твёрдо уверен в своём птичьем происхождении. И тогда, чтобы оторваться от земли, только недоставало кого-то ещё, кто был бы на него в этом похож.
Так он и рос. А по мере того, как укрупнялось тело, всё меньше оставалось надежды на настоящий птичий полет. Разум человеческий имеет много предохранителей, и постепенно Сан Саныч перестал мечтать о несбыточном и постарался стать человеком.
Глава вторая
ПТИЦА КИРА
По сей день стена над его письменным столом увешана картинками с птицами и самолётами, на гвозде висит лётный кожаный шлем, а на столе стоит модель “кукурузника” рядом с чучелком серенькой птички, нос в нос.
Одно время Сан Саныч ненавидел птиц. Возненавидел. С тех пор, как его оставила Кира. Она была балериной и подавала надежды. Балету и Сан Санычу...
Он познакомился с ней в выпускном классе. То есть, он учился тогда в выпускном классе. Хотя, нет, она – тоже в выпускном, только в другой школе, балетной.
Как-то приятель потащил его смотреть экзамен в балетке, – сказал, что сестра там учится, заканчивает, – он и пошёл.
Танцкласс сверкал зеркалами, многократно копирующими окружающий мир. У Сан Саныча даже голова закружилась от такого изобилия. А потом выпорхнула она. Нет, не то чтобы она была одна, их было много, но Сан Саныч видел только её. Стройную тоненькую девушку с русыми волосами и немного птичьим лицом. Когда она начала танцевать, Сан Саныч оторопел и не приходил в себя до конца экзамена. Она не танцевала, она делала что-то такое невероятное, что Сан Саныч мгновенно вспомнил всю свою любовь к птицам и мечту воспарить над крышами города.
После экзамена товарищ познакомил Сан Саныча со своей сестрой Кирой. Сан Саныч молча держал её руку, разглядывая узкую ладошку с длинными пальцами – так, будто ждал, что прямо сейчас, в его руке она превратится в птичье крыло. Он осторожно любовался девушкой, как любуются сокровищем или диковинной птицей заморских краёв.
Рука, лежащая на ладони, превращается в птичье крыло. Сан Саныч удивлённо смотрит на девушку. Он одет примерно так же, как его приятель, молодой парень, учащийся одного из старших классов, но при этом Сан Саныч – пожилой. Ни девушка, ни парень этого не замечают. Более того, парень по-свойски хлопает Сан Саныча по плечу, что-то говорит ему с глумливой ухмылкой, буквально выдёргивает руку балерины из его ладони и тащит Сан Саныча к выходу. Сан Саныч не сопротивляется, только продолжает изумленно смотреть на девушку, которая с улыбкой машет ему вслед.
Уже потом, много месяцев спустя, когда они гуляли вдвоём по паркам и скверам, улицам и переулкам, она вспомнила их первую встречу, а он признался, что ему в тот момент показалось, что вот сейчас, прямо на его глазах она превратится в птичку и упорхнёт в открытую форточку гримёрки. Она засмеялась.
Спустя некоторое время после знакомства он стал называть её Птицей. Она не возражала, только улыбалась и склоняла аккуратную головку на бок, точь-в-точь как маленькая канарейка. А он чувствовал, что вот она – та частица его души, которая может летать, его Птица, которая материализовалась в образе самой восхитительной девушки в мире. И только с ней возможен полёт его птичьей души.
Однажды они решили пожениться. И обязательно поженились бы, да ей нужно было улетать на гастроли с театром в Японию. Он провожал её в аэропорту и когда она, нежно чмокнув его, упорхнула за неумолимые ворота терминала, глупо и по-детски заплакал, размазывая слёзы ладонью.
А потом, уже на улице, ему показалось, что оторвавшийся от земли самолёт превратился в огромную птицу и взмахнув крыльями, исчез в облаках.
Кира к нему не вернулась. Она не вернулась совсем. Никогда и ни к кому. Она только взлетела. Неизвестно, что произошло с самолётом. Он просто пропал. Кирин брат принёс Сан Санычу телеграмму. Ничего конкретного: самолёт исчез, соболезнуем… Птица вернулась в свои небеса. И, несмотря на горе, которое навалилось на Сан Саныча, в глубине души он чувствовал: птице – птицево.
Глава третья
ЖИЗНЬ БЕЗ
Сначала он решил умереть. Поднялся на крышу высотки и глянул вниз. Рассудок запаниковал, а душа распахнулась. Сан Саныч подумал даже, что может быть, так же как Птица, шагнув в небо, больше никогда не коснётся земли. Поднял ногу, чтобы сделать шаг и тут над головой пролетел самолёт. Сан Саныч замер, долго смотрел вслед металлической птице, похожей на ту, что унесла от него Киру и пытался понять, почему не возненавидел этих чудовищ. И почти сразу же понял. В тот момент он был почти убеждён, что именно самолёты помогут ему найти его Птицу.
На следующий день он убрал подальше все Кирины фотографии, купил макет самолёта и повесил в своей комнате, ещё купил лётный кожаный шлем, оклеил стены картинками с изображениями самолётов, несколько дней пролежал на кровати, рассматривая все эти признаки новой жизни, а потом собрал вещи в небольшой чемодан и уехал поступать в лётное училище.
Его не взяли, он не прошел медкомиссию, у него нашли какое-то патологическое искривление носовой перегородки и сказали, что лётчиком ему не стать никогда.
Страшная птица вонзает клюв в переносицу.
Он странно жил потом. Закончил институт гражданской авиации, устроился на какую-то работу поближе к самолётам и с частыми командировками; каждый раз, оказавшись в салоне пассажирского самолёта, внимательно вглядывался в небесные дали, надеясь отыскать среди белоснежных полей облаков Птицу, которая улетела от него, но оставила в его сердце тоску и только одну половинку души.
Он сидит в кресле самолета, склонившись к иллюминатору. Разглядывает облачные просторы, холмы и замки из белоснежной воздушной ваты. В какой-то миг ему кажется, что по сверкающему плато кружится в танце маленькая фигурка балерины. Он кладёт ладонь на стекло, словно хочет его выдавить. Приглядевшись внимательнее, видит, что это всего-навсего соринка прилипла к стеклу. Стирает её и смотрит опять. Среди облаков летит птица...
...Сан Саныч дремлет в кресле. С внешней стороны к стеклу прислоняется раскрытая женская ладонь. Сан Саныч резко открывает глаза. Вытерев лоб ладонью, сбрасывает сон, почти раздражённо затеняет иллюминатор шторкой и, отвернувшись от окна, снова закрывает глаза.
Постепенно он перестал искать её в небесах, стал в самолетах спать, а ещё через несколько лет отказался от полётов совсем, воспринимая призывы Аэрофлота летать – как издёвку.
Сан Саныч снял со стен изображения самолётов и остальную лётную чепуху.
*
Жизнь стала бесцветной. Правда, в ней появилось больше опасностей. Окружающие не знали, чем именно он теперь занимается, но всё равно жалели – такой уж был у Сан Саныча вид. Потом, правда, жалеть перестали, потому что он замкнулся в себе и не нуждался в жалости. Женщины его раздражали, а мужских дел и интересов он не понимал.
Прошло много лет.
Как-то раз Сан Саныч отправился в парк покормить птиц. Сидел на скамейке и крошил хлеб себе под ноги, а голуби и воробьи, сперва с опаской, а потом осмелев, суетились рядом и напоминали о Кире.
Он часто размышлял о том, в какую именно птицу она могла превратиться там, в небе, – он не сомневался, что у неё выросли крылья и теперь она летает там, ловит воздушные потоки и наверное даже поёт иногда.
Сан Саныч стал приобретать все книги по орнитологии, какие попадались, а потом скупать самих птиц. Комната наполнилась клетками и птичьим гамом. Он пытался разговаривать с ними, в каждой новой пичужке хотел узнать свою Киру.
Птицы внимательно смотрели на него круглыми глазками, но отвечали всегда невпопад. Тогда он отнёс их на рынок и отдал какому-то торговцу, всех, кроме одной маленькой незаметной пичуги, которая и на птицу-то не походила, – просто какой-то мягкий молчаливый комочек. Фотографии он снял со стен и сжёг. Это были не его птицы. Его Птица улетела и никогда не вернётся. Так он думал тогда.
Он ошибался. Птица жила в нём, точнее, какая-то её часть, просто она была заперта в клетку его тоски и не откликалась. Немного подумав, он отнёс на рынок и птичку-комочек.
Он возненавидел птиц. Даже жареных и варёных в супе, даже утку, тушёную с яблоками. Хотя и ел иногда. Ожесточённо вонзая вилку и нож в сочную ненавистную плоть. Наверное, ради этих мгновений и ел он их, всех этих птиц. И это тоже снилось Сан Санычу. А ещё снилась музыка. Неясная, только фрагменты.
Он готовит яд, смешивает с зерном; кормит воробьёв и голубей, сидя на лавочке в парке, – полный человек со светло-синими большими глазами на добрым умилённом лице.
Глава четвертая
ОХОТА!
В тот день он проснулся не рано и сразу достал из ящика стола пистолет. Разобрал его и протёр все детали промасленной тряпочкой, потом собрал, прикрутил глушитель и с удовольствием подержал на ладони тяжёлую машинку с дарственной надписью: "А.А.Ползунову – заслуженному..." Дальше было не прочитать, кто-то сточил надпись то ли надфилем, то ли наждачкой. Приставил чёрный длинный ствол к крохотной голове птички-чучела и улыбнулся. И сделал губами: “Пук”. И тихо захохотал.
Потом он тщательно умывался, завтракал и одевался. Но это не важно. Главное, что перед уходом он не забыл положить пистолет в кобуру, уже закреплённую под пиджаком, и несколько сменных обойм рассовал по карманам.
На улице было тихо. Правда, птиц было много. Но Сан Саныч привык. Почти не реагировал. Ну, подумаешь, погнался за голубем в сквере, так это недалеко, всего метров десять, да и мало кто видел, только одна старушка посмотрела предвзято (пожилой человек, а ведёт себя, как ребёнок), – так она сама на птицу похожа, вертит головой, как голубка.
Сан Саныч подошёл ко входу в зоопарк, остановился, достал несколько фотографий: мужчина в сером костюме стоит на фоне пруда... а вот покрупней, но размыто, в фокусе – лебедь на воде, но лицо мужчины разобрать можно, серьёзное большое лицо. А вот тот же мужчина беседует с одним из смотрителей. Сан Саныч улыбнулся, не зло прошептал: “Уничтожу...”, деловито спрятал фотографии в карман и, взяв билет, прошёл на территорию. Купил мороженое и направился к пруду.
Щебетали птицы, орали животные вдалеке; Сан Саныч щурился и улыбался весеннему солнцу. Он обошёл весь зоопарк несколько раз и наконец нашёл подходящее место рядом с ночной сторожкой. Когда до закрытия осталось несколько минут, Сан Саныч спрятался в это убежище и быстро заснул.
Глубокой ночью услышал он мужские голоса. Где-то недалеко разговаривали. Один – с сильным восточным акцентом. Второй – непонятный, только мычал, да поддакивал. Снаружи ярко светила луна.
“...такое слово... э-э-э... сё равно ни вспомню. Карочи, ущёл этот мужик, а я сматрю на парашок, – какой-та серый, тъёмный, – и Халифу рассказываю щьто к чиму. А он мне гаварит: давай нюхнём. Тока праснулся и уже – нюхнём, а! Прикинь!.. Я гаварю: спирва нада к какой-нибудь клетка идти, или к вальеру. Щьтобы рядом с кем-нибудь. Он тагда паднимаица и идёт. Я за ним. Приходим на прут. Стаим, сымотрим. Лэбиди плавают, утки, фламинги ходют. Красыва. Халиф гаварит: давай здес. А я ни протыв, я питиц лублу. Свирнули бакс, как для кокса, нюхнули, слово сказали. Стаим, жьдём. Чувстую, нос у миня витягиваица и твирдеет, ноги тонкие становяца, как у Галки уборщицы, дажи тоньши, перья лезут из кожи и вакруг всо миняэца, как будта миня в стиклянный шар пасадыли. Сматрю на Халифа, а он на фламингу стал похошь, точна как фламинга, ноги тонкии, как красние спичкы, паднимает и ходит... так важна, я чут ни уписился. А он килюв раскриваит и гаварит: "Ти щьто, Мансур, тащищься? Думаещь, лючьше виглядзищь?.." – "Тиха, – я гаварю, – слушай. Прислушалис: вес заапарк базарыт. Ни па чилавечьи, – па своиму. Но я всо панимаю. Правда, звэри далико – толка “бу-бу-бу” слышин и некатарыи слава разабрат можна: нидаволны звэри, крови хатят, мяса хатят, а их тряпками кормет. Я всигда знал, щьто звери нидаволны. Но мне гаварили: "Ты стораш? Вот и старажи, а в чужой миска нос нэ сувай. Карочи, пашли ми к сваим паближи, к фламингам. Сматрю, одна красотка мине замэтила, – и так и сяк – панаравица хочит. Я долга тирпет ни стал, прыжал иё пад стенкай домика, ну и... Харошая деванька аказалась, гарячий. Птычка... В общим, килюнул я иё на пращание в красивий затылок, и пашёль Халифа ыскать. А он, сматрю, к цапле пиристроилса и жарит иё са страшнай сылай. Вдруг вижю, ихние мужыки, цапьльние, сабралис, – и к Халифу и падружке его бигут. Я иму курлычу: "Халиф! Вали суда, завалят!" Он услищал, цаплю сваю кинул и – ка мнэ. Забижяли мы в старошку, отдышаца ни можым. Ну щьто, гаварю, ибун, даигралса? Да сам ты, отвичает, мудила, нюх патирял. Я гаварю: ни сабака, щьтоб нюх тирять, я розавый, блят, фламинга. Ах ты, ищак, он отвичает... Ну и так далше. Чут ни закливали друг друга. Патом успакоилис, он гаварит: давай абратна привращаца. И тут я вспомнил, щьто мужык этат сказал, каторый мне паращёк впарил. А сказал он, щьто матирица нилзя ни в коим случии, када ты ни чилавэк, а если хот слова матирнае скажыш – всё – астанишся навсигда фауной. “Чиво? – гаварит. – Чем астанишься?!” – “Ну, звэрем... – отвечаю, – Чем-чем... Животным...” Халиф как саабразил эта всо, стал апять матирица, кливал меня, лапамы бил, крьлъями, а патом убижял куда-та. И нэ вирнулса. Наутра гаварили, щьто какой-та бэщиный фламинк улитэл на волью. Вот и всо. А я чириз пару днэй стал чуток на чиловека смахиват, прищёль к Питровичу, всо абиснил, мол, так и так, ну он миня сильна абижят ни стал. Щьто ж, гаварит, Мансур, суп типер варит из тибе, если ты фламинга? Работай, старажьи. Можыт и вспомниш слова своё мудрёная, или снова тот паринь придёт. А я тибе напарника дам. Есть тут адын. Дущевный очин. И нищасный. Тожи какой-та хэри нанюхалса. Вот и дал. Тибя. Так щьто ты ни сматри, щьто я на питицу пахошь, я скора эта слова всыпомню. Ты, кситати, и сам-та, вроди как из бирлоги вылиз. Да ни обижяйса, щючю я. Как жи иво, билин... На “мухамор” похоже... э-э-э... махаон, лахатрон, биламор, ни помню...”
Когда сторож угомонился, Сан Саныч стряхнул остатки сонливости, вылез из укрытия и пошёл прямо к пруду. Было прохладно. Скоро утро. Постоял, облокотившись на ограду, полюбовался грязновато-розовыми фламинго, перешёл в другое место, присмотрелся хорошенько. Потом осторожно достал пистолет и, чуть-чуть присев, стал стрелять. Стрелял до тех пор, пока не израсходовал все обоймы. Выстрелы были едва слышны, но зато истерически хлопали крылья и надсадно кричала какая-то птица плачущим голосом.
Множество лебединых и фламинговых трупов плавало в пруду, среди расплывающихся пятен крови, когда Сан Саныч спрятал пистолет и пошёл к выходу. Его окликнул мужчина в сером костюме. Сан Саныч побежал.
За ним гнался мужчина в сером, ещё несколько работников зоопарка, один фламинго и какое-то серое, мохнатое совсем непонятно что. А ещё преследовали его короткие рваные фрагменты мелодии, которая никак не могла прорваться сквозь что-то вязкое, что есть в человеческом мире.
Сан Саныч высоко подпрыгивал на ходу и значительно обгонял преследователей. Когда подбежал к остановке, дверь первого утреннего троллейбуса начала закрываться. Почти на ходу Сан Саныч втиснулся в салон и сразу же встал к заднему стеклу. За троллейбусом бежало несколько мужчин из зоопарка, а Сан Саныч, тяжело дыша, корчил им рожи и взмахивал крыльями... то есть, руками, как крыльями, улетая прочь, подальше от них. Он смеялся и радовался, как ребёнок. И уже думал о настоящей охоте. Преследователи со злобными лицами быстро отстали.
Сан Саныч выбрал место и сел. Ехать ему было далековато.
Глава пятая
ЛЁТ
Как-то раз, разбирая вещи, он наткнулся на клочок киноленты. Повесил на стену белый экран, достал бобину с 8-миллиметровой плёнкой, на которую сам когда-то снимал, зарядил в проектор, включил...
На мерцающем экране танцевала его Кира, любимая, чудесная Птица.
Сан Саныч остановил запись, снял бобину, сломал и стал ожесточенно рвать ленту. Рвал долго, точнее – мял, затем достал из недр шкафа белоснежную балетную пачку, пуанты, поджёг их прямо в комнате, а потом, опомнившись, приволок ковшик воды, залил огонь, бросился к плавающим в воде обрывкам, принялся рассматривать плёнку на свет и склеивать клочки прозрачным скотчем. Ничего не получалось. Тогда он позвонил.
Благодаря некоторым связям, его пустили в ту самую гримерку, где они познакомились.
Он не понимал, зачем так поступает, но чувствовал, что это – единственный правильный его поступок с тех пор, как Кира исчезла.
За окном постепенно темнело. Его никто не беспокоил. Он сидел перед зеркалом и неумело, мазок за мазком, закрывал лицо гримом, лицо старика с глазами старика, к которым никак невозможно привыкнуть. Гримировался и вспоминал свою жизнь. С Кирой и без.
*
Голый пожилой Сан Саныч сидит перед зеркалом в своей комнате за столом и пристально смотрит в глаза отражению. Улыбается. Берёт в руки и примеряет маску птицы. Снимает.
Выдавливает из тюбика капельку клея; капнув на перо, прикладывает его к лётному шлему; прижимает. Одной рукой достаёт из пачки сигарету; щёлкнув зажигалкой, с удовольствием затягивается; ещё несколько раз щёлкает, подносит огонёк к чучелу птички, которую ставит на медный поднос. Птичка вспыхивает.
Сан Саныч в чёрном балетном костюме лебедя, в кожаном лётном шлеме с пером, с магнитофоном в руке, стоит на лестничной площадке и ждёт лифта. С верхнего этажа спускается кошка; испуганно смотрит на странного. Появляется девочка лет трёх-четырёх. Улыбается и смотрит на Сан Саныча чуть насмешливо, но почти восхищённо. Открываются двери лифта. Быстро юркнув в кабину, Сан Саныч облегчённо вздыхает.
“Лебедь” выбирается на крышу, ставит магнитофон и включает. Над городом льётся Сен-Санс, та самая музыка, которая наконец-то вырвалась на свободу. Сан Саныч вспоминает глаза соседской девочки.
Он начинает танцевать. И вдруг кажется ему, что танцует он не на крыше, а на сцене, на тёмной сцене, в ярком луче прожектора, где-то неподалёку от той самой гримёрки.
Танец его завораживает.
Сан Саныч запрокидывает голову и снова видит над собой ярко-синее небо в облаках. К нему слетаются птицы. Окружают его и поднимают, танцующего. А потом исчезают, тают, все, кроме одной крошечной птички. А она, плавно взмахивая крыльями, проникает в его грудь и там остаётся. Появляется Кира, появляется в танце, тут же, в том же пространстве, что занимает Сан Саныч, она отделяется от него, и если бы кто-нибудь из людей находился в эти минуты рядом, он увидел бы их обоих: Киру и Сан Саныча, кружащих в одном фантастическом танце, перекрывая друг друга, но не соприкасаясь, словно два призрака. А потом она исчезает, растворяется в нём, сливается с ним в одно существо, волшебное и крылатое, как ангел. И тогда, впервые за всё время, которое Сан Саныч прожил без Киры, лицо его озаряет улыбка настоящего счастья.
*
Он лежал на асфальте лицом вверх. Ноги были плотно сжаты, а носки пуант разведены; руки Сан Саныч раскинул в стороны и чуть вверх, глаза восхищённо вперились в тёмные небеса, на губах застыла улыбка. А ещё ко лбу его прилипло крохотное серое пёрышко. На груди, на уровне сердца Сан Саныча, под одеждой, начинается какое-то движение. Это не сердцебиение – кажется, кто-то хочет выбраться из-под матерчатых пут. И выбирается. Маленькая птичка освобождается из складок одежды, расправив крылья, взлетает и быстро превращается в точку. Куда она полетит и что увидит со своей высоты? Птица, летящая наверху... О чём она думает? Кем хочет быть? Может – часами?..
Сон это или нет – поди разбери, когда в упор на тебя смотрит огромный птичий глаз – таинственный и страшный, как сон. Секунду, секунду... глаз превращается... Это не птица. Это же Сан Саныч, это его глаз. Его лицо. Его улыбка. Куда он смотрит? Вслед птице? Да нет. Он почти забыл о ней, они расстались по-доброму. Он смотрит на тебя. И улыбается. Браво, Сан Саныч!..
*
Ты уходишь от фотографии балерины. Ты медленно отступаешь спиной к выходу. За гримёрным столиком никого нет. Ночной ветер налетает порывами и своевольно стучит створкой распахнутого окна.
"ОХОТА И СОН"
Завершающая
Представим себе, что к исходу какой-нибудь осени сценарист Иван Рогов оказался на охоте в странноватой компании. С другом-режиссером, приятелем-бизнесменом, (который прихватил с собой старшего менеджера, компанейского человека в очках), с одним инспектором ГАИ, молодым следователем из уголовки, странноватым полковником ФСБ, иностранцем-рекламщиком, малоизвестным актером, и, разумеется, егерем и рыбинспектором – куда ж без него – бывшим кинематографистом по имени Францевич. Где-нибудь на Селигере. Места там загадочные, таинственные, всякое может случиться. А даже если не случится, то такое пригрезится…
Об особенностях национальной охоты сказано много, поэтому повторяться не станем. Хотя охота, о которой речь в этой сказке, откровенно сказать, состоялась в таком времени и пространстве, что никак не может состязаться с предметом реального киноискусства.
Охота была птичья, в прямом смысле слова, с собаками и на лодках. Водки было не много, но было.
Сначала поплавали по заводи, постреляли, набрали в сапоги стылой воды, чуть не утопили тулку-горизонталку, едва не застрелили русского спаниэля по имени Грэй и только тогда (а уже прилично посерело вокруг) решили вернуться.
Рогов хлюпал ногами в высоченных резиновых сапогах по зыбкой блёклой траве, что русалочьими волосами (как в фильме Тарковского) устилала болота Тверской земли.
Рогов был тих и задумчив. Какие-то неясные чувства волновали его. Объяснить их он вряд ли бы смог, – неспокойно и всё.
Охотники негромко переругивались и шутили. Скоро вышли к деревне. Перелезли через горизонтальные длинные жерди, увидели несколько тёмных изб, похожих на валуны, окружённые высоченными липами, два-три уютно светящих окна, маленькие, с рамами крестом, с кустами алоэ и ситцевыми занавесочками, услышали деревенских собак и новости по радио – невнятные, но до счастья уютные.
Францевич толкнул тяжелую дверь. Тёмные сени. Ступеньки скрипят.
В избе, где печка, тепло – загодя натопили.
Умылись, переоделись, сели за стол – большой прямоугольник, выскобленный до белизны, до живого узора. И собаки тут же, рядом: поели, лежат – сыты, довольны.
На столе по-охотничьи: несколько плохо прожаренных уток с дробинками в плоти, водка, картошка, квашеная капуста, солёные огурцы, лук, грибы, чёрный хлеб.
Выпили. Закусили. Закурили. Выпили. Выпили. Перекусили. Закурили.
Пошли разговоры. Режиссёр – об актёрах, актёр – об актрисах, инспектор – о детях, бизнесмен – о политике, менеджер – о какой-то компьютерной игре, рекламист – о себе и рекламе, следователь – об отморозках, полковник – о птицах, егерь – о кинематографе.
Рогов помалкивал и делал какие-то заметки в блокноте.
Оперу пишешь? – попытался шутить Францевич.
Шутка не прижилась. Тогда егерь рассказал какую-то мутную байку про парня, который в воде видел, как в воздухе. Над егерем посмеялись и продолжили пить.
Рогову не пилось, он рано ушёл из-за стола и забрался на печку, игнорируя ворчание Францевича, державшего тёплое место для своего ревматизма. Апатичной спиной Рогов слышал, как на егеря наехал режиссёр, и старик легко переключился на тему попроще.
Заснул Рогов быстро, убаюкали его монотонный гул компании, тёплые волны, исходящие от массивного печного тела, да гул ветра в трубе.
Раннее утро. Идут с ружьями. Та же компания и другие, чужие, непонятно откуда, даже дети идут. Места вокруг вроде знакомые. В общем. А в деталях – другие. Например, черепа.
Дальние пейзажи видны хорошо, ближние – будто размыты. Солнце висит как на ёлке игрушка... И вдруг... Солнце-то не на востоке, на западе... Вечер, что ли?.. Так вроде бы утро... Присмотрелся подольше. Да нет, восходит солнце-то. Странность какая. Всё перепутал, стороны света забыл. Или в зазеркалье попал...
Присмотрелся Рогов к спутникам, а те бледные, угрюмые, неразговорчивые. И идут машинально, как роботы; такое впечатление, что цели у них нет никакой, хоть и ружья и сапоги...
Прислушался Рогов к шагам – чавкающие, гулкие, за каждым по эху. А откуда – неясно – болото... Прислушался дальше – никаких других звуков: ни птиц, ни собак – ничего.
А солнце уже в полдень залезло – ну и шустрит... Только не греет.
Окрестности дальние ещё больше размылись.
Прошли расстояние. В сторону леса. Всё молча. А лес не приблизился.
Мокро под ногами, и – русалочьими волосами трава (как в фильме Довженко).
Солнце на восток повлеклось.
Вдруг ближе к лесу увидел Рогов избу. Одна стоит, в окнах свет, дым не то из трубы, не то в трубу... Пока дошли до избы, стемнело. Выглянула луна – громадная, синяя.
Присмотрелся Рогов и обомлел: не Луна это, а Земля, шар земной, глобус. Взошёл над горизонтом и светит спокойно. Вид такой, будто с Луны сфотографировано.
Затосковал Рогов. Спрашивает одного попутчика:
Где это мы?
Тот смотрит угрюмо и глаза опускает.
Где, спрашиваю?!.
Обступают его, смотрят в упор. Не то робко, не то как на чужого.
– Мы в разных местах. Мы здесь, а ты пока там. Но всё равно, ходи уже с нами. Так надо.
И пошли в дом. Дверь отворили, а оттуда вдруг вылетела птица, с овчарку размером, чёрная вся, не понял Рогов какого она вида, показалось, голова у неё человеческая, женская, седовласая, хищная. Вылетела бесшумно, два раза крыльями огромными взмахнула и исчезла во тьме.
Вошли в дом, идут тёплыми сенями. Рогову страшно, чужое мерещится в тёмных углах, завыванья слышны, вроде как ветер, но по-другому.
Прошли в избу. Расселись все за столом, а Рогов на печку полез. Влезает и видит, человек там лежит. Вроде мёртвый. Хотел Рогов крикнуть, а потом понимает – это он сам. Тогда взял Иван, да и лёг сам в себя, словно слился с собой.
*
Было раннее утро. Рогов отодвинул рукой занавеску и глянул с печи вниз, в избу. За столом уже сидели Францевич, полковник и следователь. Пили чай с чёрным хлебом и негромко беседовали.
Рогов слез, умылся под алюминиевым умывальником с крышкой и палкой, на которую надо снизу нажимать, чтоб вода полилась, почистил зубы над звонкой эмалированной раковиной, подсел за стол; Францевич молча налил ему чаю и пододвинул сахарницу с кусковым рафинадом и маленькими щипцами. Рогов неумело наколол себе сахару и приступил. Скоро встали и остальные. Умылись, позавтракали, собрались, взяли ружья и вышли в утренний окружающий мир.
© 2016 - С.Буртяк
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




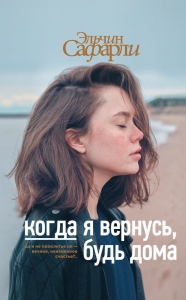







Комментарии к книге «Сказки тесного мира», Сергей Витальевич Буртяк
Всего 0 комментариев