Юрий Брезан
Крабат, или Преображение мира
BERLIN 1976
Роман Перевод с немецкого
МОСКВА
"ПРОГРЕСС" 1979
Перевод Е. Михелевич (гл. 1-9), Я. Щербаковой (гл. 10-18)
Предисловие Е. Книпович
Редакторы А. Гугнин, Л. Смирнова
Юрий Брезан. Крабат, или Преображение мира
Роман. Пер. с нем.
Юрий Брезан - один из наиболее известных писателей ГДР, трижды лауреат Национальной премии. Его новое произведение - итог многолетних творческих поисков - вобрало в себя богатый фольклорный и исторический материал. Роман, отмеченный антивоенной и антиимпериалистической направленностью, содержит глубокие философские раздумья писателя и является значительным событием в современной литературе ГДР.
(c) Verlag Neues Leben, Berlin 1976
(c) Предисловие и перевод на русский язык издательство "Прогресс", 1979
ПРЕДИСЛОВИЕ
Среди ведущих писателей ГДР Юрий Брезан занимает особое место. По рождению он сорб (Сорбов называют также лужицкими сербами, - Прим. ред.), т. е. представитель национального меньшинства, проживающего на западе республики, у самой границы с ЧССР.
"Малая родина" Брезана по культуре, языку, традициям принадлежит к славянскому миру. Она оставалась инородным телом как в Германской империи, так и в буржуазно-демократической Веймарской республике. В годы фашизма сорбы ощутили на себе всю бесчеловечность "национальной политики" третьего рейха.
Дарование Юрия Брезана сформировалось на перекрестке славянских и германских культурных традиций. Причем его восприятие культуры немецкого народа, вполне естественно, было свободно от малейших признаков германского национализма, не было "сращено" не только с понятием "государство", но и с понятием "большая родина".
Сын сорбского крестьянина-бедняка и каменотеса, в шестнадцать лет участник антифашистского сопротивления, эмигрант (в Чехословакии и Польше), арестованный и затем принудительно мобилизованный в армию рейха, Юрий Брезан с первых шагов своей сознательной жизни был против фашистского государства. Поэтому в творчестве его нет лично окрашенной темы "преодоления прошлого", "расплаты", столь характерной для писателей так называемого "поколения вернувшихся". Об этом своеобразии своего общественного и творческого пути Юрий Брезан очень точно сказал в речи на VI съезде писателей ГДР, проходившем в год двадцатилетнего юбилея республики.
"Особые обстоятельства моего происхождения и первые три десятилетия моей жизни сделали факт образования Германской Демократической Республики главным переживанием в моей сознательной жизни. Это событие, это глубочайшее переживание привело к тому, что не в третий, пятый пли седьмой год существования нашей республики, а уже в самый год ее рождения мне была дана возможность не только измерить истинной мерой вещей уже прожитое время, но и сохранить эту истинную меру для оценки событий тех лет, которые еще предстоит прожить, для оценки деяний и злодеяний, для определения истинной цены и ценности всех личных устремлений".
Творческий путь Юрия Брезана начался со стихов и рассказов, написанных еще в довоенное время на сорбском языке.
Но зрелость и самостоятельность утвердились в его творчестве в годы жизни и работы в ГДР, когда он не только обрел "большую родину", но ощутил естественную и органическую связь ее с "малой родиной" - сорбским краем. Как писатель Юрий Брезан "двуязычен": с равной выразительностью и свободой он создает книги и на сорбском, и на немецком языках. Случай по-своему примечательный, хотя и не единичный в литературе ГДР, не редкость и в советской многонациональной литературе. Достаточно назвать таких очень крупных художников, как Чингиз Айтматов, Василь Быков, Ион Друцэ.
Связь с "малой родиной" ощущается и в том глубоком, "изнутри", знании, с каким Брезан воссоздает образы своих земляков - крестьян сорбского края. Но фотографии, прямой очерковой связи с фактом в рассказах и романах Брезана нет. "Правда" характеров и обстоятельств подчинена "поэзии". О забавном бунте "правды" против "поэзии" и о победе "поэзии" над "правдой" Юрий Брезан рассказал на одной из традиционных встреч советских и немецких писателей на примере цикла новелл "Старуха Янчева" - может быть, лучшего из его ранних произведений.
Янчева, в прошлом батрачка, а ныне - общественница, "власть", охотно делилась с подругами и товарками по работе своими суждениями и воспоминаниями. Это и легло в основу новелл Брезана. Героиня, познакомившись с рассказами о себе, сначала ославила писателя на всю округу, как бессовестного лгуна: и не так она говорила, и не то с ней было.
Однако Янчева - неутомимая рассказчица всюду: и за копкой картофеля, и за сортировкой свеклы - вдруг стала замечать, что в ее правду все более властно вторгается брезанова "поэзия", и тут она снова напустилась на земляка: "Ты меня совсем запутал - я теперь уж и не знаю, что со мной было и как было".
Такая победа, по справедливому мнению Брезана, объясняется тем, что, отступая от "правды факта", он делал более точной "правду характера". "Преображенная" поэзией героиня стала еще более "собой", чем "непреображенная". Вот почему эта хорошая старуха и стала воспринимать "поэзию" как "правду".
Однако право на такое обращение с "правдой" дает только глубокое и доскональное знание ее и ощущение той глубочайшей связи с "материалом", со всеми сторонами жизни той среды и народа, о которых идет речь.
Именно таковы взаимоотношения Брезана с его "малой родиной". Но эта глубокая связь отнюдь не ведет художника к узкой замкнутости, "провинциализму". "Малая родина"... ее пути и судьбы в его творчестве всегда соотнесены не только с "большой родиной" - ГДР, но и со всей жизнью нашей планеты.
Именно об этом говорил Брезан в той же речи на VI съезде писателей ГДР: "...в малое наше мы должны привнести великое наше, овладевая всем миром и его историей; все, что в мире сейчас есть хорошего, - это наше, все, что было хорошего, - это наша история... Из этого не следует, что, породнившись с нашим миром и историей, мы тем самым привнесем это свое и в рассказ о другом мире. Но где бы ни происходило действие нашего повествования - в деревне, например в Беркштедте, или на индустриальном комбинате, например в Биттерфельде, - где бы рассказываемые нами истории ни протекали, они должны быть причастны мировой истории, если мы хотим включить в повествование историю всего мира. Нам необходимо знать больше, чем мы знаем. Мы должны знать Беркштедт и весь мир, и прежде всего как Беркштедт соотносится со всем миром".
Именно так соотносит Брезан в своем творчестве "малую родину" - сорбский округ, "большую родину" - ГДР - и "весь мир". Именно так построена его автобиографическая трилогия ("Гимназист", "Семестр потерянного времени" и "Пора зрелости"), созданная между 1958 и 1964 годами, сочетающая в себе черты "романа воспитания" и "романа пути", столь традиционных для классической и современной немецкоязычной литературы.
Повествование во всех трех книгах ведется не от первого лица, но люди, события; конфликты тесно и неотрывно связаны с судьбой героя, и мир Феликса Хануша читатели видят в значительной мере глазами самого Хануша, хотя авторская "рука" и авторская "воля" порой вносят в повествование свои коррективы. И несмотря на живость и пластичность действующих лиц, окружающих героя в деревне и городе, в школе, эмиграции, на войне, - это и крестьяне сорбской деревни, и рабочие, интеллигенты, коммунары, нацисты - они все же существуют скорее как подсобный материал для всестороннего раскрытия устремлений, замыслов, ошибок героя, нежели как самостоятельные носители различных исторических тенденций и конфликтов.
"Пора зрелости" - роман, созданный в 1964 году, - шире по идейно-художественному охвату действительности, чем первые части трилогии. Герой его Феликс Хануш, если можно так сказать, "дорос" до своего создателя. И они вместе и в полном единении познают окружающий мир, оценивая людей и события той высочайшей мерой, какую дает человеку и художнику марксистско-ленинское мировоззрение, активное участие в строительстве нового, социалистического общества.
В этой последней части трилогии с большой силой звучит тема идейной борьбы, борьбы с буржуазно-идеалистической философией в сложных условиях освоения и построения нового. Роман "Пора зрелости" читатели и критика ГДР по праву считали наиболее значительным произведением Юрия Брезана, пока в 1976 году не вышла в свет его новая книга, "Крабат, или Преображение мира", встретившая всеобщее и горячее признание.
"Малая родина" Брезана богата традициями народного творчества. В песнях, сказках и сказаниях - героических и комических - живет душа трудолюбивого и вольнолюбивого народа. И в творчестве Юрия Брезана, в целом ряде его стихов, пьес и рассказов оживают эти традиции и герои народного творчества, по-своему обогащенные воображением автора, человека сегодняшнего дня.
Прежде всего это Крабат - дух сорбского народа, подобно тому как Уленшпигель был духом Фландрии, легендарный борец против феодального и национального гнета, защитник обездоленных и участник многих героических и комических приключений.
Обращение к фольклору, связь с народной фольклорной традицией - в наши дни не такое уж частое явление в литературах Европы, в частности в литературе ГДР. Но в многонациональной литературе Советского Союза обращение к фольклору - явление не только широко распространенное, но и закономерное. Первозданное поэтическое мироощущение, присущее народному творчеству, для младописьменных литератур нашей страны - совсем недавнее и еще живое прошлое, и оно, естественно, обогащает художественное мироощущение сегодняшнего дня, помогает глубинному и всестороннему познанию действительности.
Не менее уверенно входит фольклорная поэтика и в те национальные литературы, где лишь сравнительно недавно укрепились основы "широкоформатной" повествовательной прозы. Об этом свидетельствует, например, творчество Чингиза Айтматова, Гранта Матевосяна и многих других.
История западной литературы начала века знает немало примеров иронического, нарочито наивного, я бы сказала, этакого снисходительного использования мотивов и героев национального и чужеземного фольклора.
Юрий Брезан связан в своем творчестве с совсем другой, романтико-героической традицией восприятия народного творчества. И не случайно, начиная разговор о герое его последнего романа - Крабате, - тут же вспоминаешь образ бессмертного героя Фландрии - Тиля Уленшпигеля. Конечно, Юрий Брезан, как и Шарль де Костер, "переосмыслил" образ народных сказаний, дал ему во многом другую "биографию" и придал его решениям и поступкам целенаправленность и сосредоточенную силу, какими его фольклорный прообраз не обладал.
К теме "Крабат", как она звучит в его последнем романе, Юрий Брезан пришел не сразу. Первым подступом к ней был перевод сорбского сборника сказаний о Крабате, который Брезан издал в 1955 году. Второй этап - повесть "Черная мельница" - книга, которую лишь формально можно числить по ведомству детской литературы. На деле же это книга и для детей и для взрослых, живая, занимательная и полная глубокого смысла,
Однажды с неба упал камень и раскололся - начинает свое повествование Брезан, - из осколков вышел Крабат и пошел по земле; когда-нибудь другой камень вознесется на небо и в нем будет Крабат. Но в промежутке Крабат-человек станет делать все то, что должен делать человек.
А знаем ли мы, что должен делать человек?
Наверное, он должен дать имя своему "откуда" и "куда". И взять с собой первое, и всегда видеть второе.
Ребенок, естественно, будет с увлечением читать сказку о том, как храбрый Крабат, защитник обездоленных, боролся со злым мельником из "Черной мельницы", который ежегодно в определенный день на семижды семь часов оборачивается волком, прячет у себя ларь с семью замками, где лежат семь книг мудрости. За этой сказочной символикой, за сложной цепью намеков и ассоциаций взрослый осознает общий смысл книги (ребенок впитывает его бессознательно), заключающийся в том, что самоосвобождение человека достигается только в борьбе за всеобщее освобождение и борьба за свободу включает в себя и борьбу за право на знание - на семь книг мудрости.
Эта тема борьбы за народное, а тем самым и свое счастье и свободу, по справедливому мнению критики ГДР, вводила в повествование о Крабате фаустовскую тему, которая годы спустя со всей силой прозвучит в "итоговом" романе о Крабате.
Мотив захватчика - "потенциального" волка, оборотня, который в дни творения обвел вокруг пальца самого господа бога, присвоив все лучшее из созданного, - появляется в чудесной истории "Конь и пес, корова и кошка", рассказанной Брезану, когда он был еще ребенком, его дедом, сорбским крестьянином.
Роман "Крабат, или Преображение мира" стоит в ряду тех произведений социалистического реализма, авторы которых делали своим оружием и условные формы изображения, гротеск, гиперболические обобщения, сложную образность.
Прежде всего, когда происходит действие романа? В дни сотворения мира библейским богом? Или в годы Тридцатилетней войны? Наполеоновских войн? Или в наши дни, точно в 1973 году?
Ответить на эти вопросы не так-то просто. Все экскурсы в прошлое - историческое и "сказочное" - отнюдь не ретроспекция. События прошлого и настоящего, дела и приключения героев не то чтобы происходят одновременно, по порой как бы наплывают одно на другое. Так, вечный спутники друг Крабата - трубач и мельник Якуб Кушк (добрый мельник!) в 1908 году попал под суд, потому что ревом своей трубы напугал лошадь императора Вильгельма Второго. Впрочем, может быть, это была не лошадь Вильгельма, а белый конь императора Наполеона? И судья, слушая рассказ об этом происшествии, вдруг чувствует, что с ним творится что-то странное. Он не знает, в какой он действительности - в прошлом, в 1908, 1813 году, или в настоящем. Действительности наплывают одна на другую, смешиваются. Так бывает, говорит автор, когда щука-охотница нечаянно собьет кувшинку и опавшие лепестки то сближаются, то отдаляются друг от друга, а иногда прячутся друг под другом, становясь как бы одним лепестком.
В романе сплетаются, "пронизывают" друг друга два повествования. Одно из них - весьма современная история гениального биолога-генетика Яна Сербина, открывшего формулу жизни: ее применение дает возможность "перестраивать" человеческую биологию, физиологию, психику, влиять на поведение человека. Время действия этой "современной истории" - наши дни, 1973 год, а место - глухая деревенька в сорбском крае ГДР, Швеция, где Ян Сербин получает Нобелевскую премию, и Рим, где он вступает в поединок с темными силами капиталистического мира, которые стремятся завладеть его открытием.
Второе повествование начинается с сотворения мира, с того дня, когда господь бог поделил (согласно сорбским легендам) землю и тварь земную между "знатным" и "мужиком".
Впрочем, в изложении Брезана день творения больше похож на аукцион, и участвуют в нем отнюдь не двое, и раздает бог (бесплатно!) очень широкий ассортимент всякой твари, вручая каждую тому, кто раньше других крикнул "мне!".
Когда же на аукционе дело дошло до пожеланий "знатного" (впоследствии он принял имя графа Райсенберга) и "мужика" Крабата, "знатный" логически убедил простоватого господа бога в том, что все лучшее должно принадлежать ему, а то скудное, что следует уделить Крабату, пусть он получит из рук "знатного". Для верности "знатный" тут же наложил клеймо - "разверстая волчья пасть и перед ней гора" - на домашний скот, а впоследствии на землю, на плечо мужика и его жены Смялы.
Так Крабат познал страх и ненависть, ощутил пылающую рану - клеймо на своем плече - и вступил в борьбу со "знатным", волком Райсенбергом.
"Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер" (В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Издание пятое, т. 16, с. 40.) - эта ленинская формула определяет глубинный смысл той борьбы против "волка", "знатного", "носителя власти", которую ведет (с помощью доброго мельника) Крабат.
Борьба эта носит былинно-сказочный характер и ведется, так сказать, с переменным успехом, потому что Крабат никак не может пригвоздить к дереву волка Райсенберга, но и волк Райсенберг не может убить Крабата.
Эта сказочная борьба вплетена в борьбу историческую, реальную - многовековую борьбу с графом Райсенбергом крестьянского рода Сербинов, участников всех бунтов и восстаний начиная с крестьянских войн XV века. Мартиролог колесованных, утопленных, повешенных, четвертованных повстанцев очень велик. Но Сербины не сдавались.
"Правда, во все времена смешно было бы говорить о вражде между замком Райсенбергов и двором Сербинов на холме со старой липой - слишком уж величествен был первый и слишком уж жалок второй. Тем не менее выкрикнул же однажды Каспар Сербин в лицо своему палачу Райсенбергу: "Вражда посеяна между мной и тобой, и дана нам вечная жизнь, пока один из нас не вздернет другого на древе истории и синий язык не вывалится у него изо рта!"
Повесть о Крабате и повесть о Сербинах сближаются все теснее и теснее. И вот уже наш современник, дед знаменитого ученого Яна Сербина - Петер Сербин, дружка на всех деревенских свадьбах, становится для народа двойником Крабата, а его друг мельник Кушк - двойником другого мельника, того, который появляется как спутник Крабата то ли в дни сотворения мира, то ли во время Тридцатилетней войны.
Но и маленький Ян, внук Петера, мечтает стать Крабатом, открыть "Страну Счастья", "Страну Без Страха". И его трудную и высокую судьбу предскажут многие конфликты, возникшие между носителями сказочно-фольклорной темы романа еще в дни сотворения мира. Прежде всего, это недоверие к "чуду" - волюнтаристскому насилию над действительностью для осуществления личных, мелких целей. Люцифер, постоянно находящийся в оппозиции к богу и небесному синклиту, подверг резкой критике результаты божественного аукциона. И чтобы несколько умерить нанесенный интересам Крабата ущерб, он украл для него у господа бога один из волшебных жезлов, с помощью которого можно творить чудеса. Однако на деле занятие это становится весьма опасным. Что, казалось бы, может быть невиннее "сотворения брусники", но вместо нее почему-то вырастает волчья ягода, вместо черники - бузина. А когда Крабат пытается наколдовать себе помощников для постройки жилья, из-под земли выходят целые роты ландскнехтов Валленштейна, которые своими бессмысленными действиями превращают всю округу в пустыню.
Тема обоюдоострой природы "чуда", опасностей, какие таит в себе потенциальная власть над действительностью, со всей остротой встанет в современной истории романа, в повествовании о судьбе Яна Сербина.
Один из любимых образов Юрия Брезана (он упоминает его в своих речах и в своих книгах, в том числе в романе "Крабат") - голова Медузы на щите Афины Паллады - власть над жизнью и смертью, отданная в руки мудрости. В романе об этом говорит Ян Сербин, отдавший жизнь защите этой мудрости.
Современная история реалистична и полна самого острого и актуального содержания. Возможность использовать в условиях капиталистического общества плоды научно-технической революции во вред человеку, ответственность ученого, возросшая тысячекратно сейчас, когда то или иное открытие может стать угрозой для самого существования человечества, разоблачение всех форм насилия и агрессии - вот сущность современной истории в романе.
Нет, формула жизни, которую открыл гениальный биогенетик Ян Сербин, как будто бы никому не грозит гибелью, а, напротив, сулит благодеяния людям. С ее помощью - как мы уже говорили - можно "перестраивать человеческую биологию, физиологию, психику, влиять на поведение человека.
Все дело только в том, кто и для чего будет это делать.
"Можно с ее помощью излечивать рак?" - спрашивает Яна Сербина Каминг, он же "Третий", он же глава, административный и идейный, засекреченного центра биологии и состоит на службе у самых черных сил милитаризма и реакции, он же бывший эсэсовец и убийца младшего брата Яна Сербина - двенадцатилетнего Матти (о чем Сербин не знает).
"Да", - отвечает Сербин на его вопрос.
"И восстанавливать ампутированные конечности?"
"Да".
"И уничтожать наследственные болезни?"
"Да".
"И ликвидировать дефекты мозга?"
"Да", - в четвертый раз отвечает Сербин.
И Каминг, уже ранее предложивший Сербину в обмен на его формулу заключить союз "знания и власти", с деланным удивлением спрашивает ученого, почему тот не принимает его предложение.
"Потому, - отвечает ученый, - что с помощью этой формулы можно делать обратное: заражать людей раком, перекраивать мозг, создавать сверхмозг вне человеческого тела..."
Каминг содрогнулся.
"Какая жуткая идея, - сказал он. - Кто же способен на такое?"
"Вы, например", - справедливо отвечает ученый.
Об опасности и обратимости всякого волюнтаристского "чуда", переделки мира, в основе которой не лежит уважение к человеку, народу, реальной жизни и действительности, прежде всего об активности самих масс в творчестве "чудес" - вот о чем говорит современная история романа.
"Третий" с помощью формулы и ученых своего центра может создать целые армии рабочих или солдат, безмозглых и покорных и при этом "счастливых", то есть лишенных малейших внутренних поводов к конфликтам и недовольству.
Взрыв бомбы над Хиросимой побудил Бертольда Брехта дать новый, и последний, вариант пьесы об отце современной физики - по существу, не только об ответственности ученого, но и "народности" науки. Пьеса "Жизнь Галилея" говорит не о "вульгарной" опасности научного своекорыстия, а, так сказать, о высокой опасности служения науке для науки, оторванной от подлинных интересов человечества.
Заключительный монолог Галилея обращен не только к его ученику Андреа Сарти - устами отца современной физики говорит с носителями и деятелями современной культуры мудрый и проницательный художник Бертольд Брехт.
"Я полагаю, - говорит Галилей, - что единственная цель науки - облегчить трудное человеческое существование. И если ученые, запуганные своекорыстными властителями, будут довольствоваться тем, чтобы накоплять знания ради самих знаний, то наука может стать калекой и ваши новые машины принесут только новые тяготы. Со временем вам, вероятно, удастся открыть все, что может быть открыто, но ваше продвижение в науке будет лишь удалением от человечества. И пропасть между вами и человечеством может оказаться настолько огромной, что в один прекрасный день ваш торжествующий клич о новом открытии будет встречен всеобщим воплем ужаса" (Бертольд Брехт. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. М., "Художественная литература", 1972, с. 776-777.).
Это мудрое, брехтовское, исторически точное понимание ответственности современной науки со всей силой звучит в романе Юрия Брезана.
До того, как Ян Сербин вступит в поединок с властью капиталистического мира, сложит голову и победит в этой борьбе, Юрий Брезан расскажет о нем еще многое: о приключениях героя в Стокгольме, на севере Швеции, в Италии. Параллельно, а иногда и "наплывом" читателю откроются приключения Крабата и Кушка в "безумном, безумном, безумном мире" современного капиталистического государства, чей образ к тому же окрашен в сатирически-сказочные тона.
Пойдет в современной истории речь и о родителях Яна - двух старых сорбских крестьянах, доживающих свой век в домике на холме со старой липой.
Дети - далеко, и у сына, и у дочерей своя судьба, но они живут в памяти стариков, в рассказах матери. И в этих главах Брезану удалось по-своему и высокопоэтично воплотить бессмертную тему Филемона и Бавкиды.
Но центральной линией современной истории романа остаются судьбы науки и ее адептов в современном капиталистическом обществе.
Проблема формулы, которую нашел Ян Сербин, уже как бы "висела в воздухе". На пути к ней осуществлял свои работы старший по возрасту, опыту, стажу Линдон Хоулинг - ученый-гуманист, антимилитарист, защитник жизни, прямой, смелый, веселый, даже озорной.
Может быть, всего на несколько шагов отстав от Яна Сербина, идет к тому же открытию испанец Лоренцо Чебалло - антагонист Хоулинга, потенциальный и опасный противник Сербина. Фашист? Милитарист? Опора реакционных сил старого мира? Нет, у Лоренцо Чебалло нет ни политических симпатий, ни убеждений. Для него существует только наука, наука для науки. Но для того, чтобы беспрепятственно развивать возможности своего огромного мозгового аппарата, он пойдет на союз с любой реакционной силой, потому что человек и человечество с его стремлениями, интересами, жизнью - это всего лишь помеха для осуществления сверхчеловеческих потенций оторванной от человечества и человечности науки.
Конечно, достижения биологии и генетики, о которых говорится в романе Брезана, в действительности еще не существуют, но направление поисков бесспорно, и опасности, которые они в себе таят, реальны. Характерная черта: в решающем разговоре Сербина и Чебалло последний с усмешкой говорит, что его боится даже сам Каминг - "Третий", на службе у которого он состоит. Каминг полагает, что, окружив находящегося за рубежом Яна Сербина "живыми" и механическими шпионами, он заманил его в ловушку, обманом завлек в свой подземный научный центр.
На деле это не так. Ян Сербин сознательно пошел в ловушку, чтобы вступить в поединок с Лоренцо Чебалло - единственным, кто может рано или поздно пройти по его стопам к финишу.
Так в сказке поступал Крабат, борясь с волком Райсенбергом, так в истории поступал весь род Сербинов, род замученных, убитых, по непокоренных защитников народных прав. И недаром дед Яна дружка Петер Сербин (которого в народе отождествляли с Крабатом) научил внука любви и преклонению перед народным сказочным героем.
Ян в детстве мечтал стать Крабатом, и в тяжелый час он становится им. С противником говорит уже не Ян, а Крабат, и это Крабат отстаивает свое право не отдать формулу - народное достояние - во власть злу и насилию. И это Крабат своей сказочной властью и силой заклинает и уничтожает не Чебалло, а "сверхмозг Райсенберга".
Может быть, перенеся победу добра и правды в область сказочной символики, Юрий Брезан чуть облегчил себе задачу разрешения конфликта между двумя равными по силе интеллекта и таланта деятелями современной науки.
В заключительных главках романа есть упоминание о том, что Лоренцо Чебалло отказался от поисков формулы и ушел из научного центра Каминга. В этом случае сила заклинания, произнесенного Крабатом, не в ладах с реальной действительностью. И вероятно, здесь не хватает какого-то промежуточного звена, которое раскрыло бы более земные причины поражения идеологии науки для науки, волюнтаристски совершаемых чудес. Смысл сказочно-легендарной и современной линии романа един. Достичь "страны счастья", "изменить мир", "убить страх", повесить на древе истории волка Райсенберга, принимающего все новые обличья, можно не с помощью тех или иных чудес науки или техники, а лишь с помощью "преображения" мира, совершенного усилиями всего трудового человечества, в братской солидарности покончившего с эксплуатацией, угнетением, войнами, поставившего науку и ее "чудеса" на службу всеобщему счастью.
Е. Книпович
Глава 1
Как раз в самом центре нашего континента - многие в наших краях ошибочно полагают, что, значит, и в центре мира, - берет свое начало речка Саткула, весело журчащая мимо семи деревень, чтобы сразу же за ними нырнуть в большую реку. Ни океан, ни море ведать не ведают об этой речке, но море было бы другим, не вбери оно в себя и Саткулу.
Все семь деревень в ее долине уютные и опрятные, однако населены не слишком густо, - правда, и люди здесь живут не совсем такие, как везде, да и в мировой истории они не оставили сколько-нибудь заметного следа, хотя история эта не обделила их малыми и большими войнами, грозными битвами, зловонными чумными эпидемиями, великими страхами и столь же великими надеждами; она же и перебрасывала деревеньки из одних господских рук в другие, по случаю чего на каком-нибудь холме на правом или левом берегу речки всякий раз ставились виселицы.
Войны, битвы и чума поросли быльем, господские косточки сгнили в сырой земле, холмы висельников стали обычными пригорками и ничем не отличаются от прочих, так что мировая история и не знала бы о деревеньках на речке Саткуле, когда бы не жил тут Крабат.
Правда, рождение его нигде не отмечено, да и умереть он вряд ли мог. А вот о жизни его есть множество самых разных суждений: то он герой, то плут и мошенник; то весельчак и гуляка; то философ, не знавший поцелуя женщины, то странствующий певец, не пропускавший ни одной юбки; то человек, покинувший землю ради звезд, то открывший звезды на земле; то не стареющий от жизни юноша, то утомленный жизнью старец, жаждущий смерти, - короче говоря, сколько людей, столько и суждений. Причем большинство высказывают свое мнение не так, как философы и другие ученые мужи, досконально изучившие в жизни все ее уголки и закоулки, столбовые дороги и кривые тропки, то есть кратко и прямо, без обиняков и уверток, в четких, продуманных и ясных выражениях, а потчуют пространными - а нередко и престранными - историями, в которые сами верят и хотят, чтобы и другие поверили; а то даже слагают притчи, где высказывают то или иное мнение о Крабате, причем притчи эти порой похожи на незрелые орехи, еще висящие на ветке. И тем не менее любая притча и история сама по себе кажется вполне разумной и правдоподобной. Но стоит лишь попытаться собрать их все воедино, как сразу оказывается, что они не только не вяжутся между собой, но и противоречат самой жизни, - так предмет неправильной угловатой формы не влезает в обувную коробку того же объема.
Однако и ныне - как и во все времена - встречаются люди, которые почитают обувную или, к примеру, шляпную коробку чуть ли не священным саркофагом и объявляют ересью все, что в ней не помещается. Эти-то люди и завладели свидетельствами о жизни Крабата; они кромсали, пилили и рубили до тех пор, пока то, что осталось, не уложилось без труда в шляпной коробке их реальности.
Из этого жалкого обрубка явствует, что Крабат родился вскоре после Тридцатилетней войны, что детские годы его прошли в деревне под названием Итк, а родители были честные, хотя и бедные люди. Юношей Крабат выучился черной магии у одного мастера этого дела, большого специалиста по чудесам, впоследствии победил своего учителя в поединке не на жизнь, а на смерть и стал сам веселым и добрым волшебником, другом бедняков и короля, которого он предостерег от кубка с ядом и освободил из-под ига турецкого султана. Потом он мало-помалу отошел от чародейства и прибегал к нему, так сказать, лишь в самых крайних случаях, а под конец и вовсе забросил черную магию и умер почтенным старцем. В знак того, что душа его спасена, на коньке крыши явился белый голубь.
Все это звучит вполне правдоподобно и убедительно для людей, предпочитающих иметь дело с гладким и округлым плодом чьей-то фантазии, а не с грубой и шероховатой плотью реальности и считающих жизнь волшебника Крабата всего лишь нарушением нормального хода вещей, по которому заключительное "спасение" его души, в сущности, не имеет никакого отношения к Крабату и пришивается белыми нитками лишь для того, чтобы в конечном счете свести необычайное к обыкновенному, - этакая манная каша с изюмом и цукатами, в которой бесследно тонет капля темной и загадочной плазмы.
Жизнь Крабата, поданная в виде сказки для детей, вероятно, устраивает и тех, кто не знает, например, хотя бы о таком случае из времен Тридцатилетней войны, когда Крабат в день заключения мира в Оснабрюке жарил ежа в песчаном карьере и на запах жареного сбежались трое мальчишек из ближней деревни. Деревня называлась Розенталь, ее, единственную во всей долине, пощадила война, а вокруг все поросло лесом и обезлюдело, да и в этой деревне остались лишь женщины и дети. Крабат разделил свою трапезу с опухшими от голода ребятишками; в результате и досыта никто не наелся, и голодным никто не остался. А кого не грызет голод, тот интересуется кое-чем еще, кроме собственного желудка. И вот один любопытный мальчишка потянулся к дорожной палке Крабата: палка была черного дерева с круглой тяжелой рукоятью из слоновой кости. На рукояти и на самой палке были вырезаны Адам и Ева, змей-искуситель и древо познания. Дети ничего не знали об этой истории, и Крабат ее им рассказал.
"Если бы ты был Адамом, - спросил мальчик, - ты бы тоже откусил от яблока?"
"А ты?" - вопросом на вопрос ответил Крабат.
"Нет, - сказал мальчик. - Мы все остались бы в раю, тогда к нам не пришли бы солдаты и не закололи наших отцов".
В жалких лачугах, лепившихся вокруг церквушки Девы Марии у Леса, кое-как сложенной из нетесаных камней, после ухода из этих мест последнего отряда солдат не осталось в живых ни одного мужчины - даже старика.
"Волки уже и днем приходят, - добавил мальчик. - Ведь нас они не боятся".
Крабат взял в руки палку, с которой никогда не расставался во время своих странствий по земле людей и которая служила ему то посохом, то дубиной от волков всех мастей, воткнул ее в песок и спросил мальчиков, каким им видится тот рай, что потерян для них по вине Адама и Евы.
Первый ответил: досыта еды; второй: нету солдат; третий: нету волков.
Крабат кивнул и подумал: Страна Без Страха.
Он велел детям расходиться по домам, а когда они ушли, палка его превратилась в крюк, на котором повисла темная монашеская ряса.
На исходе дня в пустующую хижину рядом с заброшенной церковью вошел монах-доминиканец, и примерно в то же самое время на другом конце деревни появился оборванный бородатый солдат, изможденный долгими годами войны. Солдат был достаточно молод, чтобы, сбросив солдатскую лямку, прожить еще много лет, он был весел и нес в руках блестящую трубу.
Монах повстречался с солдатом и, когда посторонние уши не могли его услышать, назвал солдата Якубом.
Назавтра солдат сыграл на трубе "сбор", созвал всех женщин и детей в церковь, а монах прочел им проповедь на тему: Нужно вкусить от яблока, ибо это нужно. "Таких слов нет ни в католической, ни в лютеранской библии, и слова эти человеческие, а не божьи", - сказал монах. И стал говорить им об их деревне, а не о рае небесном, и после его проповеди на душе у паствы стало скорее радостно, чем благостно. Он уступил солдату одиннадцать молодых женщин и созревших для любви девушек, а сам занялся остальными.
Меньше чем через год с того дня монах занес в церковную книгу восемнадцать крещенных им детей: одиннадцать под фамилией Швед, поскольку солдат назвался шведом по рождению, а семь под фамилией Доманья, поскольку монашеская ряса на нем принадлежала не ему, а святому Доминику.
Столь же дружно монах и солдат возделали и другие залежные земли, посеяли просо и коноплю, повыбили волков и прогнали в три шеи кое-кого из ловкачей, зарившихся на чужое.
В один прекрасный день собрались они наконец на поиски образа Девы Марии у Леса, похищенного из церкви последним шведским отрядом. Одна старуха, долго кравшаяся за солдатами, чтобы спасти мадонну, рассказала, что образ, хоть и был невелик, с каждой милей становился все тяжелее. И к тому часу, когда один солдат заметил старуху и отбил ей ноги, чтобы не шастала, где не надо, шведам уже пришлось запрячь в легкую повозку с мадонной шесть пар лошадей. И осталось у них всего две пары; значит, далеко они со своей добычей не ушли.
Монах Крабат и солдат Якуб Трубач нашли образ в целости и сохранности под большой липой. Эта липа с могучим стволом и раскидистой кроной росла на холме висельников, и Крабат знал ее, и Якуб Трубач тоже, и Крабат сказал: "Живое умирает, а мертвое оживает", а его друг Якуб заиграл на трубе песню, неистовую гуситскую песню, которую в тех краях уже больше двухсот лет не слыхивали. Они вбили в ствол дерева толстый гвоздь и повесили на него образ Девы Марии у Леса.
Для бедной пустой церквушки Якуб Трубач написал новый образ. У его мадонны были длинные темные волосы, и по глазам ее было видно: она знала, что такое страх. Но кое-кто, в страхе прибегавший к ней за помощью, видел, как она улыбалась.
А украденный образ и по сей день висит на той липе, и люди говорят, что когда-нибудь будет такая война, что никому не удастся спастись. Но под липой с древним образом встретятся двое. Один придет с востока, другой - с запада, и у первого в руках будет богато украшенная резьбой палка, у второго - труба, и они спросят друг друга: "Как же ты спасся, брат?"
И оба ничего не смогут ответить, просто будут знать, что белый голубь не сидит на коньке крыши, еще - все еще - не сидит, и что все надо начинать сначала, с самого начала, с начала всех начал: земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною.
Во всем этом кое-что верно, а в целом все неверно.
Верно, что Крабат и Якуб Трубач встретятся под липой и что один придет с востока, другой - с запада, один принесет с собой сердце убитого страха, а другой - его голову. И все же брат Крабата созовет своей трубой все четыре ветра, чтобы еще раз спросить у них, и ветры скажут: страх мертв.
Тогда Крабат зароет под липой останки страха, как зарывают убитого волка, а Якуб Трубач сыграет на трубе мелодию, про которую одни скажут: свадебная песнь, а другие: эту песнь никто прежде не слыхивал. И с каждым ударом заступа оба они все больше станут превращаться в землю, а может, в кору и ствол дерева, никто этого в точности не знает.
Останутся от них лишь палка черного дерева с рукоятью из слоновой кости да труба, которая сперва была просто листком, поющим листком, зажатым между пальцами.
На дереве же будет сидеть белый голубь; а что бы это значило, нынче никто не скажет, ведь до той поры еще много воды утечет.
Посох, может, опять превратится в сук, а труба - в лист, ветер веет, а сказка сказывается:
Вначале было так, как и представить себе невозможно. Потом вдали замерцал маленький светлячок. Он все приближался и приближался, а когда подлетел совсем близко, оказалось, что это солнце. Солнце взошло, и стал День Седьмой.
В этот день Творец создал все сущее: женщин и мужчин, горы и моря, небесное воинство и себя самого, ненасытную жадность и страсть к познанию, рыб и птиц, хлеб и соль, все, что можно себе представить и чего представить нельзя, а также водку для выпивки и табак для курения.
Сам Творец и его свита разместились на небе, а все прочее валялось как попало, без всякого порядка и присмотра, и никто не знал, что к чему. Мужчины даже не знали, что им делать с женщинами. А Творец, устав от трудов, прилег отдохнуть.
Когда он проснулся, дым стоял коромыслом, кто-то побросал всех рыб в водку, они перепились и горланили срамные песни. Творец прикрикнул на них: "Тихо!", и рыбы навеки потеряли дар речи.
А женщинам захотелось звезд с неба, чтобы воткнуть их себе в волосы или еще куда, и мужчины вскарабкались наверх и уже успели срезать несколько звезд - ведь Творец развесил их на небе, как на рождественской елке. А когда он прикрикнул на рыб, мужчины со страху выпустили звезды из рук, никто их уже не стал привязывать, вот они и плавают теперь по небу и выныривают то тут, то там. Сколько Одиссеев скорее вернулось бы домой на свою Итаку, если бы женщины не заставляли мужчин хватать звезды с неба.
Творец, поначалу разработавший свод законов только для рая небесного, теперь почесал за ухом и сказал решительным голосом: "Внимание! Сейчас буду раздавать все подряд; кому что надо, пусть крикнет "это мне!". Поняли?"
Люди поняли. Творец выхватил из общей кучи, что под руку попалось. Первым попался слон. Негр крикнул: "Это мне!" - и получил слона.
Вторым был конь. Крабат стоял рядом с человеком в богатом охотничьем наряде, и оба одновременно крикнули: "Это мне!"
"Кто крикнул первый?" - спросил Творец. Но никто не мог ответить с полной уверенностью. Поэтому он сказал: "А ну-ка, еще разок: кто крикнет громче, тому и конь".
Благородный господин крикнул громче, все это слышали, он и получил лошадь.
"А тебе зато достанется корова", - сказал Творец и дал Крабату корову.
Теперь на очереди была собака. И опять оба захотели ее иметь.
Охотник сказал: "Собака нужна мне для охоты, где конь, там и собака".
Творец согласился: "Верно говоришь", дал ему собаку и сказал Крабату: "А ты зато получишь кошку".
Под конец он стал раздавать поля, луга и леса. Благородный господин высказался в том смысле, что по логике вещей все это должно достаться ему. Ибо если поля, луга и леса будут не его, как же он сможет свободно охотиться на зверя. Тут он прав, подумал Творец.
Но Крабат сказал: "А где мне тогда взять корм для коровы? Ведь я крестьянин и знаю толк в своем деле!"
Благородный господин возразил: "И корм для коровы, и крестьянскую работу ты получишь из моих рук".
Господь был милостив от природы, и торг показался ему не совсем честным, но время было позднее, день клонился к вечеру, и ему хотелось поскорее покончить с этим делом. "Ну ладно, - заключил он вяло, - будь по-твоему".
Он увидел, что Крабат огорчен, нагнулся к нему и прошептал на ухо: "Даю тебе вечную жизнь - до тех пор, пока..." Тут неподалеку взревел лев, и никто не расслышал конца фразы, в том числе и сам Крабат.
Под самый конец, уже уходя, Творец сунул руку в карман и протянул Крабату жаворонка.
"Этот знает все песни до единой, - сказал он. - Дарю его тебе".
И улыбнулся еще раз на прощанье, кажется, ему было немного грустно: раздача прошла не совсем так, как ему бы хотелось. И наверняка приведет к неурядицам. А что охотник под шумок отхватил заодно и ненасытное всё-больше-всегда-мало, Творец даже не заметил.
Библейская гора Арарат еще была залита солнцем, а здесь внизу левкои и полынь благоухали уже по-вечернему.
Владелец лошади подошел к Крабату: "Подержи-ка коня!"
Крабат взялся за недоуздок, а тот выжег на ноге лошади свое клеймо - разверстая волчья пасть и перед ней гора.
Лошадь захрипела и рванулась, запахло горелым мясом. Крабат хмуро буркнул:
"Зачем ты это делаешь?"
"Затем, что она моя".
Охотник сгреб в охапку собаку, собака взвыла, когда раскаленное железо подпалило ей шкуру, но тут же лизнула руку своего господина. Тот дал ей пинка, и собака завиляла хвостом.
Крабат погладил ноздри лошади.
"Когда у нее родится жеребенок, - сказал он, - дай его мне".
"За хвост жеребенка заплатишь одним глазом, за его голову - другим", - ответил тот.
Крабат презрительно рассмеялся, взял кошку и посадил ее корове на спину, потом взял жаворонка и посадил его на правый рог, сам взялся за левый и тронулся в путь вдоль ограды рая. Когда из-за горы Арарат показалась луна, он остановился на ночлег.
А между тем в раю во время вечернего ритуала архангел Люцифер затеял распрю с Творцом. Сначала он критиковал лишь некоторые частности творения, возможно и впрямь не слишком удавшиеся: например, он считал запланированное открытие Америки настолько преждевременным, что из-за него и тысячу лет спустя хлопот не оберешься. Кроме того, он назвал дешевым балаганом мелодраму с запретным плодом, намеченную к постановке в раю на завтрашний день: по его мнению, надо не запрещать Адаму вкусить от яблока, а дать Еве противозачаточное средство.
Как бы в противовес этим придиркам архангел Михаил затянул бесконечный хорал: Господь, благи твои деянья. Такой образ действий уже в ту пору скорее разжигал, чем умиротворял вольнодумцев, и в конце концов Люцифер напрямик заявил, что имеет принципиальные расхождения с Творцом, в особенности в вопросе распределения благ. И если говорить начистоту, без обиняков и прикрас, то Господь уже одним сотворением этого Райсенберга - так Люцифер назвал благородного охотника, - а также явным пособничеством ему в ущерб Крабату взвалил на людей такую тяжкую ношу, что они в три погибели согнутся и все жилы из себя повытянут, пока наконец не догадаются ее сбросить.
Онемев от гнева, Господь только потряс кулаками, а святой Михаил затянул новую строфу: Лишь нужда учит молитве - Райсенберг, мол, и есть тот человек, который научит людей молиться. Уж он позаботится о том, чтобы они не закоснели в тупом довольстве и не сочли земную жизнь слишком приятной, чтобы стремиться попасть на небо. При этом Михаил поднял свой огненный меч и встал в позу, которую впоследствии поколения Райсенбергов воспроизводили на памятниках, а также при выборах императоров, объявлении войн и прочих райсенберговских апофеозах.
Люцифер в сердцах сплюнул на огненный меч, отчего Михаил окутался облаком пара, и заявил Господу, что за этой парочкой - воинствующим фанатиком Михаилом и горлохватом Райсенбергом - нужен глаз да глаз, дабы мир до поры не пошел прахом.
Однако Господь остался глух к словам Люцифера и лишил его всех привилегий, в частности права носить перед Господом семисвечник и распоряжаться его волшебными жезлами: в свое время Господь заказал себе - скорее для забавы, чем по необходимости - разные волшебные жезлы для сотворения разных чудес; некоторые из них были гладкие, как дирижерская палочка, другие богато украшены резьбой.
Люцифер, не желая, чтобы его окончательно загнали в угол, не только тайком сохранил за собой власть над змеем-искусителем, но и похитил самый красивый и один из самых могущественных волшебных жезлов Творца. Он вложил в руку спящему Крабату рукоять из слоновой кости. Пусть этот волшебный жезл будет его дорожным посохом, не без злорадства решил он.
Этот жезл, кстати сказать, служил Творцу для совершения забавных чудес, и хотя тот не заметил его исчезновения, но с тех пор больше уже не создавал таких смешных или диковинных тварей, как динозавры, драконы или кенгуру, разве что Гаргантюа да еще, пожалуй, последний кайзер Вильгельм, который ему, впрочем, не удался, с какой стороны ни глянь.
Рано поутру Крабат обнаружил в своей руке чудесную палку, повертел ее так и сяк, прикинул в уме то и это и, рассмотрев как следует вырезанную на палке Еву, подумал, что не прочь бы иметь жену. При этой мысли его охватило такое томление и в то же время такая тоска, что душа его словно раздвоилась, и непрерывные трели жаворонка стали так раздражать его своей слащавостью, противоречившей этому состоянию, что он вновь улегся и уснул.
Когда он проснулся, рядом с ним сидела девушка.
Оправив платье из грубого холста и откинув назад длинные темные волосы, она с любопытством, а может, просто внимательно оглядела его и сказала: "Здравствуй!"
Крабату ужасно хотелось дотронуться до нее, но он поостерегся - может, она ему только снится, а сны нельзя трогать руками. Он подоил корову и дал девушке молока, она выпила; значит, это был не сон.
Она сказала: "Меня зовут Смяла".
Когда они тронулись в путь, она спросила: "Куда мы идем?"
Но, поскольку нечего спрашивать "куда", не сказав "откуда", Крабат отвечать не стал. Правда, он и вообще счел за лучшее помолчать и послушать, что она скажет, чем болтать попусту, как ветер болтает с травой и деревьями.
Девушка играла с кошкой и пела вместе с жаворонком, но о вопросе своем не забыла и как бы между прочим сказала: "Куда-нибудь, где мы будем счастливы".
Она знает так много слов, и слова всё такие диковинные, подумал Крабат, а вслух сказал: "Хочу поискать для нас обоих Страну Счастья".
"А она далеко?" - встрепенулась девушка.
"Раз есть название, значит, есть и страна", - уклончиво ответил он.
К вечеру они добрались до быстрой речушки шириной в два хороших шага; вода в ней была прозрачная и чистая. Смяла, дававшая имена всему, что ей приходилось по вкусу, - вероятно, и собственное имя она тоже сама придумала - назвала речушку "Саткула".
На берегу им почудилось, будто где-то неподалеку работает мельница, и они поднялись на пригорок с раскидистой липой наверху. Пригорок этот, едва достигавший пяти ржаных колосьев в высоту, очень понравился Смяле, но имя для него почему-то не придумалось.
Потом с ясного теплого неба стал накрапывать дождик. Они уселись под липой, кошка устроилась рядом, а корова предпочла остаться под дождем и укрыла своим телом курицу, склевывавшую с нее черных, отливающих зеленью мух. Луга, полого спускавшиеся к Саткуле, заволоклись легкой дымкой. Крабат сказал: "Это будет наша земля".
Смяла кивнула в знак согласия - то ли потому, что место ей тоже понравилось, то ли потому, что липа источала сладкий аромат; потом она запела песню без слов, радостную и в то же время печальную. Крабат нахмурился - ему очень хотелось сказать что-нибудь такое, что бы подходило к песне, но звучало бы вполне разумно. Таких слов у него не нашлось. Подумав, он чуть было не сказал, что Смяла ему кого-то напоминает, но удержался - это было бы ложью, а ко лжи у него не лежала душа. Еще не ясно, не сон ли она, да и чувство его только что зародилось. Все будет напоминать мне тебя - вот это было бы правдой, но правдой о конце, а не о начале. Поэтому он промолчал.
Смяла, легкая и гибкая, одним движением поднялась с земли, Крабат попробовал было встать, как она, но завалился на бок и, лежа, подхватил ее песню без слов, но теперь у этой песни появились слова. О Смяла, до чего же ты хороша.
Смяла перебросила на грудь свои темные волосы - знала, для чего: для этого теплого дождика, а может, для аромата липы или для хриплой песни Крабата, - она перебросила волосы на грудь, и дождик смыл и унес ее платье. Иди ко мне, сказала она, а может, и не сказала, но Крабат это услышал.
Иди ко мне, поманила она и побежала, легко отрываясь от земли, но потом вдруг вскрикнула и остановилась. Она села на камень и, закинув правую ногу на левое колено, низко склонилась над ней и принялась искать занозу в ступне поднятой ноги, придерживая ее за щиколотку. Крабат смотрел на ее выгнутую дугой спину, на округлую линию бедер, мягко переходящую в очертания ноги, напряженной от неудобства позы, и заноза в ее ноге колола его больнее, чем десять заноз в собственной груди; он опустился на колени и хотел вытащить занозу. Но Смяла проворковала что-то ласковое - а может, вовсе и не ласковое, - обвила волосами его шею и вскочила так внезапно, что он покатился в траву, а она пустилась прочь, пританцовывая на бегу. Заноза впилась не в ее ногу, а в его живую плоть, он погнался за ней, и, хотя она звонко смеялась, дыхание ее уже стало прерывистым, а темные волосы разлетелись по ветру.
Внизу у пригорка стояла яблоня, ее раскидистые ветви свисали почти до самой земли. Смяла обвила руками кряжистый ствол и, когда Крабат догнал ее, соскользнула на землю; над ее головой дерево зазеленело. Под ними высохла трава, над ними дерево покрылось плодами.
Из лесу выехал всадник, он был при оружии и с собакой. Собака залаяла, Крабат поднялся с земли. Всадник оглядел местность и одобрительно кивнул - ему она тоже понравилась. Он подъехал поближе и, не обращая внимания на парочку под деревом, сорвал яблоко и впился в него зубами.
"Вы здешние?" - спросил он. И, не спеша доедая яблоко, стал в упор разглядывать Смялу. Глаза его сидели как-то слишком близко друг к другу - на широком лице узкие, жесткие глаза. Собака почесывалась, свесив влажный язык.
Крабат ответил, что они живут на этом холме.
Всадник соскочил с коня и захлестнул поводья вокруг ствола яблони. Смяла увидела, что на левой задней ноге лошади выжжено клеймо: разверстая волчья пасть и перед ней гора. Она рассмеялась прямо в лицо чужаку - волку, мол, не проглотить гору.
Крабату очень хотелось, чтобы всадник поскорее уехал, и он сказал: "Возьми себе горы, этот холмик наш".
Но всадник топнул ногой, и на земле отпечаталось его клеймо. Смяла уже не смеялась, и Крабат понял, что такое страх.
Когда стемнело и они занялись любовью, Крабат увидел волчье клеймо на плече Смялы, а она - такое же на его плече; они слились в одно целое, грудь к груди, он ощутил себя в ней, а глаз на затылке у них не было.
К ним на холм поднялся мельник, тоже меченный волчьим клеймом; мельник сорвал листок с липы, зажал его между пальцами, и листок запел: мельник охранял их любовь.
Смяла лежала рядом с Крабатом, а над ними нависал страх. С каждым вздохом они вбирали его в себя.
Когда занялось утро, Крабат оставил Смялу и подсел к мельнику. Они сидели рядом, плечо к плечу, и не было нужды говорить какие-то слова или клясться кровью в знак вечного братства.
Жаворонок взлетел ввысь.
Крабат сказал: "Дарю его тебе".
Мельник поглядел вслед взмывшей в небо птице и кивнул. Листок, певший ночью в его пальцах, превратился в трубу. Он приложил трубу к губам и заиграл, но песня не получилась.
Смяла проснулась, подсела к ним и нарекла мельника Якубом Кушком. "Якуб звучит надежно, а Кушк - весело", - заявила она.
Может, оно и так, а может, и нет, ведь каждый слышит по-своему, но эта выдумка Смялы привела впоследствии к некоторой путанице.
Ибо некий Якуб Кушк, мельник и мастер играть на трубе, привлекался к суду низшей инстанции за сидение со своим инструментом в стоге сена, что и засвидетельствовано документально летом 1908 года.
Согласно его собственным показаниям, этот Якуб Кушк мирно спал в том стоге, не замышляя ничего дурного, пока какая-то лошадь не сунула морду в сено. С перепугу мельник затрубил что было силы, не подозревая, что на лошади той восседает сам кайзер Вильгельм Второй, который в свою очередь принял трубу мельника за библейскую трубу Иерихона.
Во время судебного процесса не удалось, однако, с полной достоверностью установить причинно-следственную связь между подлинной или мнимой иерихонской трубой, с одной стороны, и пугливой лошадью императора - с другой, и в силу этого обстоятельства судья, засадивший мельника Кушка за решетку по обвинению в злоумышлении против Его Величества и нарушении порядка во время маневров, говорил не о библейском событии, а об искусствах. Искусства, доказывал он, если им предаются, так сказать" необузданно, не сдерживая себя благонадежным образом мыслей и уважением к всевидящему оку закона, в состоянии разрушить и не такие твердыни, как стены какого-то захудалого городишка, к тому же еще и иудейского.
Сев на своего конька, судья уже не мог с него слезть и в конце концов договорился до революции 1848 года, в которой были замешаны как мельник Кушк, так и некий субъект по имени Крабат - а в высших инстанциях доподлинно известно, что эти неразлучные друзья при любом удобном случае науськивают народ против властей.
Люди, которые - по личной ли склонности или по долгу своей профессии - часто витийствуют публично, очень любят уснащать свою речь образными выражениями; по, поскольку эта любовь не всегда бежит в одной упряжке с правдой, они невольно смешат своих слушателей. Вот и тут публика, заполнившая зал участкового суда, покатилась со смеху, и только защитник злоумышленника, посягнувшего на жизнь кайзера, одобрительно кивал головой, с серьезным и глубокомысленным видом внимая словам оратора. Но именно это и заставило судью покраснеть: по-человечески он уважал этого защитника больше, чем полагалось судье по должности.
Защитник этот, по профессии вовсе не ученый адвокат, а простой каменщик по имени Петер Сербин, был знаменитым дружкой, то есть распорядителем на свадьбах, а кроме того, еще и выборным и признанным властями представителем деревень из долины Саткулы.
Это последнее обстоятельство и впрямь имело некоторое отношение к революции 1848 года.
В ту пору люди из этих деревень пришли толпой к воротам замка и потребовали, чтобы их делегатов впустили внутрь. Поскольку замок не подавал признаков жизни, они начали кричать и кричали до хрипоты, но замок оставался глух и нем. Графиня Райсенберг продолжала раскладывать пасьянс в парадной зале, выходящей окнами в сад, время от времени серебряной ложечкой кладя себе в рот селедочьи глаза: от всех других яств у графини делалась мигрень. Граф же читал семейную хронику.
Перед замком главарь делегации Бастиан Сербин закурил трубку, и дым потянулся к замку - ветер дул восточный, что было редкостью в это время года.
"Раз мы охрипли, пусть-ка и он покашляет", - сказал главарь. Сельчане натащили к замку, старой соломы и прелых листьев, дым и чад поднялись такие, будто черти поджаривали грешников в аду, так что у графини, несмотря на селедочьи глаза, все же разыгралась мигрени, а от короля Саксонии так и не прискакали ни гонец, ни отряд кавалерии. Тогда Бастиан Сербин за воротами замка затянул песню: ...Вольф Райсенберг был жестокий господин. "Песне этой много сотен лет, а они все учат ей своих детей с колыбели, хотя она давно уже устарела", - проворчал граф. Наконец кузнецу удалось установить у ворот таран, и Фридрих Вильгельм граф Вольф Райсенберг приказал открыть перед революцией двери замка.
Тем не менее революция продолжала напускать на замок дым и вонь, пока граф не поставил своей подписи под ее условиями - семнадцать пунктов, какие пустяковые, а какие и нет: право пасти скотину на большом заливном лугу после дня святого Михаила, отмена выкупных долгов, право ловить рыбу в Саткуле и собирать грибы в лесу, запрет замку нанимать мастеров со стороны, если по этому ремеслу имеются мастеровые в деревнях, и так далее, я тому подобное, а под конец торжественное заверение в том, что каждый волен держать собаку и называть ее, как ему вздумается - хоть Вольфом, - и что все деревни выбирают одного представителя, который станет защищать их интересы в споре по любому из семнадцати пунктов, буде таковой возникнет, даже и перед судом, коли того пожелает одна из сторон.
Граф - все еще волчья шкура, но давно уже не волчье сердце - подписал бумагу, Бастиан Сербин тоже нацарапал свое имя, и сперва хотел было поставить точку, но потом передумал. Еще не пришло время ставить точку, решил он, ставить точку и подводить черту.
Когда Бастиан Сербин умер - а время ставить точку и подводить черту все еще не пришло, - деревни выбрали своим представителем его сына Петера, и вот он-то и представил теперь судье официальную бумагу, удостоверявшую, что к тем событиям мельник Кушк опоздал родиться на целых восемь лет.
Что касается Крабата, то он и впрямь при них был.
"Ага, значит, все-таки был!" - воскликнул судья.
"Ясное дело, - ответствовал защитник и дружка, как бы в подтверждение своих слов подняв над головой самый красивый из пяти жезлов, который всегда имел при себе в торжественных случаях: черное дерево, окованное серебром, рукоять из слоновой кости, а чеканкой по металлу и резьбой по кости - история Адама и Евы. - Ясное дело, - повторил он, - но ведь тут и Наполивон ничего поделать не мог".
Люди в зале суда задвигались, усаживаясь поудобнее, а кое-кто даже еще и приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать, мельник Кушк подмигнул своему другу, а судья переспросил: "Наполеон?"
Петер Сербин, начав издалека, рассказал, как в мае 1813 года, после битвы под Бауценом, союзники потому лишь успели убраться подобру-поздорову, что Наполеон вместо того, чтобы отдать приказ об их преследовании и добиться его выполнения, по воле Крабата всю ночь протанцевал с девицей Любиной в парадной зале богатого дома Хартманов на Лауэнгассе.
После этого Петер Сербин собирался поведать, как и у наполеоновского белого коня, уж наверняка набравшегося боевого опыта в сражениях и войнах, тоже иногда сдавали нервы, а затем перейти от одной императорской лошади к другой и таким образом доказать невиновность Якуба Кушка.
Но едва он приступил к обстоятельному рассказу, как неподалеку на башне ратуши пробило четыре раза. В четыре часа суд обычно заканчивал работу, судья и без того считал свой труд низкооплачиваемым, и, не видя достаточных оснований, чтобы перерабатывать лишнее, он, не говоря худого слова, поднялся и огласил приговор: злоумышлявшему на кайзера по распоряжению свыше полагалось не меньше года тюрьмы, однако судья - вероятно, по ассоциации с числом только что пробитых ударов - засадил Якуба Кушка за решетку всего лишь на четыре недели.
В скором времени судья воспользовался каким-то пустяковым предлогом, чтобы заглянуть к Петеру Сербину, жившему на холме, и послушать историю про Наполеона и девицу Любину.
Петер Сербин - он как раз вязал метлы, а это занятие беседе не помеха - рассказывал, смакуя все сочные и скоромные места, а судья слушал затаив дыхание; однако чем дальше, тем яснее возникало в нем странное ощущение: казалось, он одновременно и видел своими глазами события столетней давности там, в парадной зале, и сидел здесь на деревянной скамье под липой, напротив Петера Сербина. Тот оседлал деревянную колоду и перевязывал пучки прутьев гибкой хворостиной; а судье казалось, что напротив него на широком подоконнике удобно устроился Крабат и помахивает жезлом то совсем медленно, то быстрее, и точно так же - то совсем медленно, то быстрее - двигается Наполеон в паре с девицей, танцуя вокруг стола, заваленного военными картами.
В некотором смятении судья попрощался, сам не зная с кем: то ли с Крабатом, то ли с Наполеоном или же с дружкой; конфискованную трубу мельника он без всяких объяснений оставил на скамье.
Судье не случалось бывать в доме, где в тот раз останавливался Наполеон, теперь он туда поехал и под каким-то предлогом попросил показать ему парадную залу: она оказалась в точности такой, какой виделась ему во время рассказа о событиях той майской ночи 1813 года.
Судья никому не сказал, что однажды побывал одновременно в двух местах и двух временах, мало-помалу ему удалось даже забыть об этом, но он никогда больше не расспрашивал о Крабате, а о дружке Петере Сербине говорил как бы между прочим, что тот умеет так рассказывать разные истории, что в конце концов кажешься себе своим собственным прадедом.
Петер Сербин никому не навязывал своих историй, тем более о Крабате, но, когда его спрашивали, он отвечал.
Никто не расспрашивал его так много, как внук Ян: он спрашивал о звездах на небе и о камнях в земле, о воде в колодце и о листьях на дереве.
В ответ дед всегда рассказывал длинные истории, и сами эти истории вначале были для мальчика многоцветной действительностью; спустя какое-то время их краски постепенно поблекли, и проступила серая явь, а спустя еще много времени - когда дед уже давно лежал в могиле - явь снова стала играть и переливаться всеми цветами, как радуга, которая ведь не что иное, как проявление целого через части.
Это проявление началось - не замеченное Яном - очень рано, когда все невероятное казалось простым и свободно перемещалось во времени и пространстве, когда слово еще обозначало лишь один предмет и каждый предмет был только самим собой. В ту пору Крабат был для внука Петера Сербина и Али-Бабой, и Синдбадом Мореходом, и Тилем Уленшпигелем - плутом и насмешником, и Тилем - свободным гёзом, и победителем дракона, и благородным принцем; он был для него могучим богатырем - вершителем великих дел.
Но только когда Крабат отправился на поиски Страны Счастья, он стал Яну близким и родным, он начал взрослеть вместе с мальчиком, и преграды на его пути стали преградами и для Яна. Этот новый - и близкий - Крабат познал глубь веков, пустыни бессилия, океаны бесправия, бескрайние дали вечного возрождения и горизонты счастья. Он участвовал и в открытии Америки, и в сражениях с турками под Веной, и в штурме Бауцена гуситами. Он изобрел колесо и солнечные часы, поднялся на Гаури-Санкар, открыл северный полюс, завел шведов в болота, штурмовал Бастилию и был похоронен на кладбище Пер-Лашез.
Но он не был бездомным перекати-поле: здесь, на холме у Сербинов, была его родина. Здесь он копал колодец и сеял рожь, здесь он умом и хитростью, а то и с оружием в руках боролся с Вольфом Райсенбергом. Здесь он был не раз убит и вновь оживал, умирал и был своим собственным сыном. Здесь он установил моровой столб и подновлял его раз в столетье. Для Яна Крабат принял образ дедушки, и их жизни были как опавшие лепестки кувшинки, которую щука нечаянно сбила хвостом: лепестки эти то сближаются, то отдаляются друг от друга; случается, что некоторые лепестки прячутся под другими и кажутся одним лепестком.
Мальчику всегда хотелось быть Крабатом, а однажды, в день похорон дедушки, ему захотелось стать таким, каким был его покойный дед.
В деревню, где его отпевали, съехалась вся округа, и тот судья тоже приехал проводить Петера Сербина в последний путь. Власти прислали два грузовика с полицейскими - для поддержания порядка, как поговаривали в народе. Остальные деревни в долине Саткулы настолько обезлюдели, что цыган Богаз имел полную возможность спокойно прибрать к рукам знаменитую трубу мельника Кушка. Он играл на ней два года, потом она развалилась, и цыган опять взялся за точильное ремесло.
Но труба была совсем не та, настоящую-то мельник Кушк взял с собой на похороны и ее звуками проводил своего друга в могилу; в полицейском рапорте властям отмечалось, что он вопреки христианскому обычаю играл что-то неподобающе веселое.
Мельник Кушк и не подумал объяснять властям, почему он играл именно так, а не иначе. За три дня до этого он зашел утром к Петеру Сербину, принес миску вишен,
"Хорошо, что ты пришел, Якуб, - сказал тот, - я как раз собираюсь в путь-дорогу. Похоронят меня в будущий вторник, в этот день я справлял свадьбы, всего их было тысяча четыреста сорок девять, и, чтобы вышло круглое число, сыграй на моих похоронах, как на свадьбе".
Мельник Якуб Кушк пообещал, они выпили по рюмочке, и мельник пошел домой. А дед позвал внука и протянул ему самый красивый из своих свадебных жезлов, обвитый синими, красными и белыми лентами, с рукоятью из слоновой кости. "Этот жезл знает все, что я не успел тебе рассказать, храни его как зеницу ока", - сказал он и кивнул внуку, чтобы тот уходил, потом съел несколько вишен из миски и стал перебирать в уме, не забыл ли чего, - оказалось, вроде все сказал и все сделал; он откинулся на подушку и умер.
Яну было тогда десять лет; много людей собралось, чтобы проводить в последний путь своего верного защитника и знаменитого дружку, и внук тоже бросил три пригоршни земли на гроб того, кто был для него в детские годы великой книгой жизни. Священник сказал, что покойный был человеком мудрым, справедливым и не ведавшим страха перед людьми, которые ставят свое право выше справедливости, - при этих словах полицейские на всякий случай взяли резиновые дубинки в руки, а внук посмотрел на белых голубей, сидевших на крыше церкви: дедушка, а как это - быть мертвым?
И тут мельник Кушк весело и торжественно ответил за деда: когда меня опускали в могилу, мельник Кушк играл свадебную песню - значит, мертв тот, кто не жил.
Мальчику почудилось, будто эти слова произнес Крабат, и это не особенно удивило и ничуть не смутило его, и, когда все голуби взлетели с крыши, а один остался, в его глазах это был голубь Крабата, а сам Крабат стоял рядом с ним, и дедушка не был мертв, и они переходили друг в друга, а потом стали им самим. Но и это не смутило его и не показалось странным - просто мир был так устроен, что его не всегда удавалось понять.
Он понял его позже, имея за плечами тысячу снов и дел, мыслей и впечатлений, переплетавшихся друг с другом, многослойных и многоликих. С годами из этой мешанины все четче выделялся один слой, который он называл про себя "реальностью Крабата" и который включал антивремя и антипространство. Он был уверен, что эта реальность в тысячах точек пересекалась с его собственной и в тысячах точек отклонялась от нее - вплоть до обращения в полную противоположность.
Иногда ему казалось, что стоит лишь протянуть руку - и прикоснешься к Крабату. Но так ни разу и не протянул: не видел в том нужды.
А иногда казалось, что он может и должен проникнуть в эту другую реальность, стать Крабатом и, взмахнув волшебным жезлом, совершить чудо спасения.
Такие и подобные мысли и чувства заставили его однажды сделать в своем дневнике, который он вел от случая к случаю, следующую запись: "Но если когда-нибудь День Седьмой придет к концу, то станет необходимо - последним актом свободного разума - овладеть также и несвязанным временем, чтобы всё время взять с собой в День Восьмой, который начнется с того, что человек окончательно решит, кем он станет: НИКЕМ или наконец-то ЧЕЛОВЕКОМ без страха перед жизнью и без надежды на спасение от нее".
В другом месте он назвал Седьмой День периодом несамоопределения человека, за которым последует период полного самоопределения. День этот может продлиться и века, и несколько секунд самоуничтожения - это будет зависеть от того, будут ли моральные качества человечества в тот момент не только уравновешивать, но и превосходить его технические возможности.
Он, бывший свидетелем того, как одна Великая война закончилась атомной бомбой, а другая благодаря ей же не состоялась, как в пробирках и ретортах готовилась третья, бескровная, по еще более ужасная, а дух смертельного соперничества уже заразил своим семенем землю, и чрево ее вздулось от бомб и ракет - почем знать, когда оно лопнет? - он шаг за шагом растерял былую веру в глобальность воздействия идей и нравственных принципов, якобы способных идти в ногу со стремительным развитием техники. С утерей этой веры укоренилось в нем убеждение, что именно его наука, биология, призвана спасти человечество. Она откроет главные принципы жизни, выяснит все детали ее структуры и научится синтезировать ее элементы с равноценным качеством - для того, чтобы в конце концов ген за геном создать нового человека, запрограммированного на овладение своим собственным будущим. Этот человек будет, как утверждал Ян Сербин, и разумным, и нравственным, - правда, не разумным от нравственности, а нравственным от разума.
Поэтому он трактовал "несвязанное время" как то, что иногда им же самим обозначалось термином "антивремя", но одновременно и как всю совокупность проблем и опыта прошлого. Он исходил при этом из того, что, если хочешь вообразить себе будущее как можно более осмысленным, прошлое не может представляться абсолютно бессмысленным. Если отказаться от этого условия, то и настоящее неизбежно окажется сущей бессмыслицей, а с ним и все бытие, и несовершенство сущего мира предстанет как непреложный закон хаотического нагромождения случайностей.
Эти соображения подтолкнули Яна Сербина к тому, чтобы наряду с изучением человека как биологической категории заняться им как категорией нравственной, и в ходе этих исследований картины, впечатления и представления его детства и ранней юности как-то незаметно для него самого стали занимать все больше и больше места в его мыслях.
Среди немногих вещей, которые остались у него от тех лет, были свадебный жезл из черного дерева и толстая тетрадь в черном картонном переплете с записями его деда и мельника Якуба Кушка.
Последняя запись, сделанная рукой деда, гласила: "Я видел странный сон. На одичавшей яблоне висело три одинаковых яблока. Под деревом сидела Смяла и играла моими часами. Одно из яблок можешь сорвать, сказала она. Я не знал, какое выбрать. Она сказала, одно из них солнце. Когда оно взойдет, настанет ночь. Второе - земля. Правильно выберешь - не потеряешь. Третье - твои часы. Они идут или стоят. Я должен был сорвать яблоко и не знал какое. Я сорвал одно, оно оказалось таким тяжелым, что двумя руками не поднять, - это была земля. Смяла обрадовалась, а я стал совсем молодым. Я все молодел и молодел и наконец превратился в своего внука Яна. Мои часы тикали на дереве. У меня осталось совсем мало времени".
Ниже Ян Сербин приписал: "У нас осталось совсем мало времени на размышления - взять землю в свои руки или позволить Черному Солнцу взойти. Наше время сокращается, как шагреневая кожа, - каждый день наполовину".
Глава 2
Смяла была плодом первой любовной тоски Крабата: жизни было всего сутки, и до рая рукой подать. Потом рай куда-то исчез, словно его и не было, а однажды осенью Крабат потерял и Смялу. Одни говорят: задолго до изобретения колеса, другие - во время всемирного потопа.
Пустое это дело - спорить о точной датировке событий, которые с таким же успехом могли случиться вчера или тысячу лет назад; важно, чтобы об этом событии помнили; а помнится то, что не утратило значения для настоящего. Важно еще и то, почему это событие случилось. У "почему" больше корней, чем у человека зубов, и корни эти поглубже, чем у мха на скале. "Где" тоже имеет значение, хотя и подчиненное.
Нельзя, к примеру, рассчитывать, что тебе поверят, если скажешь: в год сорок четвертый до рождества Христова во время мартовских ид Крабат сеял просо на южном полюсе. Во-первых, потому, что в ту пору земля еще была тарелкой, заполненной до краев водой, в которой плавали континенты, а значит, о полюсах и речи быть не могло; во-вторых, потому, что и в ближайшем будущем о возделывании проса на южном полюсе говорить не приходится; а в-третьих, потому - и это главное, - что Крабат в тот самый день вонзил кинжал в грудь Цезаря - в надежде, что пролитая им кровь сможет повернуть вспять мельничное колесо истории, что обожествление и всемогущество одного человека - бесчеловечное даже тогда, когда оно не зиждется на жестокости, - всего лишь плод усилий и замыслов этого человека.
Еще накануне вечером он был у Цезаря и умолял его: "Прикажи разбить твои статуи, о Цезарь, прежде чем тебе придется жертвовать людьми, чтобы их защитить!"
Ответ Цезаря не был записан, возможно, он лишь пожал плечами. Позднейшие цезари в ответ на такие просьбы кивали палачу, но Кай Юлий Цезарь спустя несколько часов стал мертвым человеко-богом, а мертвые человеко-боги из мрамора или золота причиняют меньше вреда, чем гипсовые статуи живых.
Итак, Крабат был у Цезаря, а где же была Смяла? Некто высказал краткое соображение, что в мужском мире неразумного разума не оказалось места для Смялы - Девы Чистой Радости.
Второе столь же краткое сообщение гласит, что Смяла сбежала от Крабата из-за того, что он стал философом.
Бросается в глаза, однако, что оба мнения не подтвержу даются ни притчами, ни сказаниями; это свидетельствует о том, что они родились не в гуще народа, который, кстати, отнюдь не считает профессию философа чем-то безусловно постыдным, правда, и противоположного мнения тоже не придерживается.
Конечно, во всех сословиях попадаются люди, которым еще ни разу в жизни не довелось встретиться лицом к лицу с философом, занятым полезным делом, и которые о Сократе знают лишь, что его жену звали Ксантиппой, о других же и вовсе ничего не знают, и потому в целях самозащиты утверждают, что философ - это человек, ищущий ответа на запутанные и заумные вопросы, которые либо никому не интересны, либо ответа не имеют, а значит, нечего и искать.
Утверждение, что Крабат был философом - и, конечно, именно такого склада, - содержится в записях одного из райсенберговских летописцев, именовавшего Крабата еще и "шутом гороховым с берегов Саткулы" и выдумавшего в оправдание этого титула множество небылиц. Летописец этот жил во времена Бисмарка и свыше девяти лет ежемесячно получал так называемый "саткуловский талер", специально введенный для такого рода услуг.
Но из грязного источника чистой воды не зачерпнешь.
Попадаются, однако, и такие места, где чистая, прозрачная вода бьет ключом, а ключа и в помине нет: под землей лежат трубы, имитируя первозданность там, где надо скрыть подделку.
Именно так и обстоит дело со вторым сообщением о том, отчего Крабат потерял свою Смялу, - а ведь сколь многие доброжелательные люди приняли его на веру!
Наутро после пятой ночи со Смялой Крабат отправился за водой на речку - колодец на холме еще не был вырыт - и вышел на берег как раз в ту минуту, когда в воду входила обнаженная дева. Волосы ее - у Смялы они были темные - отливали чистым золотом, груди светились мраморной белизной, а соски, алели столь призывно, что Крабат, не теряя времени на раздумья, прыгнул в воду. Дева плавала как рыба. Крабат выдрой устремился за ней, выдра потащила рыбку на берег, кровь у рыбки оказалась отнюдь не рыбьей, речная прохлада вмиг улетучилась, и до того, как наверху, на холме, трижды прокричал петух, рыбка внизу у реки трижды обретала дар речи и трижды вновь его теряла.
Ночью Крабату думалось, что темные волосы, что там пи говори, все же теплее светлых, а утром уже казалось, что светлые ярче и радостнее на солнце, чем темные при свете звезд.
Начав сопоставлять и сравнивать - в силу врожденной любознательности, свойственной каждому настоящему мужчине, - он стал ходить по воду все дольше и дольше, оставляя Смялу страдать от жажды.
Но однажды утром он далеко обошел то место, где купалась светлокудрая дева, и направился вверх по реке к тем лесистым холмам на юге, что издали казались высокими, как горы. Там, уже зайдя в чащу, он встретил деву, собиравшую ягоды. Тяжелая коса, черная как смоль, соскальзывала со спины и свисала до земли, когда она нагибалась; бедра у нее были округлые и упругие, а темные глаза показались Крабату совсем черными, когда он отведал ее ягод. Ягоды были сладкие и туманили голову, как вино; вот почему у Крабата все поплыло и завертелось перед глазами, так что он не нашел дороги домой и заблудился в лесу.
Когда солнце зашло, он оказался на поляне и увидел домик, утопавший в море цветов, а перед домиком на скамеечке из молодых березок сидела дева и расчесывала свои длинные волосы, горевшие багрянцем, как вечерняя заря.
Дева пела о Лорелее, и Крабат по морю цветов поплыл к деве, как рыбак в песне, и утонул, как рыбак, но не в водах Рейна, а в багряных волнах ее волос и аромате тысяч цветов, источаемом ее кожей. Всю ночь он считал ее веснушки и семь раз сбивался со счета. На восходе солнца он, шатаясь, вышел из домика, отыскал Саткулу и уныло побрел по берегу восвояси - то ли гуляка после пирушки, то ли казнокрад после растраты.
Когда он добрался домой - даже кувшин для воды он забыл у Лорелеи, - оказалось, что колодец выкопан и выложен нетесаным камнем, и камни эти в прохладной глубине уже поросли зеленым мхом, а липа мощно разрослась, и ее дуплистый ствол дал новый побег; из дома же вышел мужчина - Крабат готов был поверить, что видит самого себя.
"Ты кто?" - спросил Крабат этого другого, похожего на него как две капли воды, но еще никогда не видевшего своего отражения в зеркале и потому ничуть не удивившегося при виде Крабата. "Я - это я, - ответил тот, - люди называют меня Сербином".
Крабат попросил напиться. Человек протянул ему кружку, вода из глубокого колодца была чистая и холодная, как капля росы в октябре.
Крабат сидел у колодца и смотрел на далекие голубые холмы и близкие луга, полого спускавшиеся к Саткуле, на семь деревень, раскинувшихся в ее долине.
Так он и сидел, пока над рекой не заклубился туман, потом встал и пошел вниз к мельнице. Мельник оказался веселым человеком, пришлым из других мест.
Крабат сел у самой реки и смотрел, как жуки-плавунцы снуют по ее поверхности, словно плетут сеть для воды. Но вода уплывала из-под сети, не остановить, не удержать.
Когда сыч отправился на охоту, а филин поплыл над полями, на дуплистую иву уселся водяной и, отламывая от ствола кусочки коры, стал бросать их в воду, бормоча что-то себе под нос.
"Брат водяной..." - начал было Крабат.
Сорок три, сорок четыре, сорок пять... Бормотанье стало отчетливее, и Крабат понял, что водяной не желает пускаться в разговоры.
Последний кусочек коры плюхнулся в воду - сто, сказал водяной, сто лет; потом сорвал с ветки листок и пустил его плыть по течению - и еще один день. Ни следа на воде, ни следа в воздухе. Водой унесло, ветром развеяло.
И Крабат понял, что Смялу он потерял. Но боль еще не пришла, ибо не так она скора на подъем, как мысль.
"Зачем же я вернулся?" - спросил он.
Но водяной перебирал свою зеленую бороду, будто и не слышал вопроса.
"Отвечай! - вдруг налившись яростью, завопил Крабат, вскочил на ноги и рванул того за бороду. - Где Смяла?"
Водяной соскользнул в реку, и в руке у Крабата остался лишь пучок прутьев.
"Сто кусочков коры по воде, сто слов по ветру, брат Крабат", - сказал водяной. Река слегка замутилась, а когда прояснилась вновь, водяного и след простыл.
"Сто кусочков коры по воде, сто слов по ветру", - повторил Крабат, и то ли в ту же ночь, то ли наутро, а может, и много дней спустя отправился искать свою Смялу - где вода течет, где ветер веет.
Иногда вместе с ним был Якуб Кушк, иногда он был один. Он встречал много девушек и спал с ними, где и как придется: на пуховых перинах или на соломе, в пахучем сене или на молодом смолистом еловом лапнике, на мягких перинах Принцессы-на-горошине или на земляном полу Золушки, на теплом песке морского пляжа или в надушенной воде кафельной ванны; одна из них спросила, встав перед ним во весь рост и сбросив одежду, - кожа ее горела, а руки поддерживали грудь: "Что было у Смялы такого, чего нет у меня?"
Общей со Смялой у нее была судьба: Крабат покинул ее, как покинул Смялу, как покидал и будет покидать всех остальных, а время шло, и постепенно стиралась сама память о потерянной деве.
Даже имя ее стерлось в памяти, и он стал называть ее "моя светлая, моя темная ложбинка". Наконец он опять попал на ту поляну в лесу, опять бросился в море цветов, и чем глубже заплывал, тем дальше отступали берега, а песня Лорелеи доносилась отовсюду и ниоткуда.
Что стало потом с Крабатом, не знает никто.
Одни полагают, что он и есть тот старик, что каждую субботу продает цветы в нише за колоннами собора, - никто не видел, как он приходит и когда уходит. Говорят, что время от времени кто-нибудь из его покупателей находит в букете скромных астр диковинный цветок несказанной красоты, похожий по форме на звезду и не числящийся ни в одном из справочников.
Другие уверяют, что Крабат так и не выбрался из моря цветов и должен оставаться у рыжеволосой девы до тех пор, пока не вспомнит и как звали Смялу, и что именно шептала она ему на ложе любви, и каков был вкус ее слез.
А мельник Якуб Кушк всю жизнь твердил, что, как ни правдоподобен тот или иной конец этой истории, она все равно не более чем сказка, выдуманная людьми, не знающими, что вся красота жизни заключается в тайне женщины и в жажде мужчины ее разгадать.
Тем не менее он сделал из этой сказки песню и сто девушек проводил с этой песней на брачное ложе, где, по его словам, и надлежит быть сказке - одну ночь, а то и три.
Истина выяснилась однажды, когда мельнику Кушку нечего было молоть и он отправился поболтать, а если судьба улыбнется, то и опрокинуть чарочку с дружкой Петером Сербином, и от него узнал, как на самом деле случилось, что Крабат потерял Смялу.
Поначалу они говорили вовсе не о Крабате, а о графе Цеппелине, за день до этого пролетевшем над их головами на север, чтобы предстать пред кайзером Вильгельмом.
Петер Сербин в тот день никому не понадобился ни для свадьбы, ни для кладки дома, поэтому он вооружился красками и кистью, чтобы подновить Святого Георгия с конем и драконом, украшавшего западную сторону морового столба и потому более выцветшего.
Петер Сербин стоял на лестнице, а Якуб Кушк подавал ему ту или другую краску, смотря по тому, что предстояло подкрасить - Добро или Зло. Когда обновитель святого воина дошел до дракона, Якуба Кушка осенила блестящая мысль. Он протянул другу черную краску и сказал: "Подрисуй ему усы".
Петер Сербин подумал: Георгию.
"Дракону, - сказал мельник, - получится вылитый кайзер".
Дружка не стал подрисовывать дракону кайзеровские усы, но согласно кивнул, когда Якуб Кушк заявил, что если кайзер заполучит в свои руки дирижабль, то руки у него наверняка зачешутся, и тогда войны не миновать.
И потом, когда они уселись на траву у столба и стали ждать, когда солнышко, еще горячее в этот послеобеденный час, слегка подсушит Святого Георгия с драконом и можно будет еще до вечерней росы покрыть его защитным лаком, разговор у них все еще шел о великих людях и великих открытиях, а также о том, почему для маленьких людей эти открытия оборачиваются то добром, то злом.
Со времени тех злосчастных маневров мельнику за каждым кустом чудился кайзер, а с тех пор, как он узнал из газет, что кайзер за обедом запросто пожаловал Круппа наследственным званием пушечного короля, за каждым кайзером мерещился свой Крупп. Поэтому он утверждал, что на свете есть только два изобретения, которые коронованные особы не присвоили себе, а уступили простым людям: мышеловка и деревянный протез.
Дружка Петер Сербин слушал мельника, смотрел, как солнышко одинаково ласково пригревает и святого воителя, и злобного дракона, и думал, что Добро и Зло кроются не в вещах, а в людях - у шулера монета всегда падает орлом вверх.
"Вещи сами по себе такие, какие они есть", - сказал он вслух. Покуда Крабат не знал, какой чудесной, таинственной силой обладает его посох, он считал его просто деревянной палкой, на которую удобно опираться и приятно смотреть, сравнивая вырезанную на ней Еву со Смялой - пусть даже у Евы нос был красивее, зато Смяла была живая и теплая, что снаружи, что внутри. Но потом, когда солнце склонилось к закату, Смяла стала зябнуть в своем легком холщовом платье, под которым ничего не было. Ей бы надо что-нибудь теплое, подумал Крабат и представил себе пушистое и яркое шерстяное покрывало - может, даже с бахромой, сгодилось бы и без бахромы, главное, чтобы теплое.
Не так-то просто было представить себе такое покрывало, если он его никогда в глаза не видел, за исключением разве того, которым Господь под конец Дня Великой Раздачи укутал себе колени - по черному полю шитые золотом мудреные системы небесных светил. Крабат воткнул свой посох в землю и поплелся с холма - ему казалось, что на ходу скорее что-нибудь придумает, чем сидя на месте.
Но и на ходу он ничего не придумал, как ни хотелось ему найти для нее что-нибудь теплое; тогда он повернул назад и уже издали заметил, что на его посохе висит нечто странное - вроде медведя, из которого вынули нутро. Когда он подошел поближе, оказалось, что это нечто походило на медведя лишь лохматостью и мягкостью, а больше ничем, ибо медведь ни за что не смог бы вылезть из этой шкуры: ни входа у нее не было, ни выхода.
Смяла заплясала от радости и, спросив: "Откуда у тебя такая прелесть, Крабат?", не дожидаясь ответа, заявила: "Я сошью себе из этого шубку, вечера нынешним летом такие прохладные".
Крабат пропустил мимо ушей ее вопрос - ведь женщины все равно не верят удивительным происшествиям, которые на каждом шагу случаются с мужчинами, - и сказал: "Я думал, может, тебе это понравится".
Целую неделю Смяла кроила, скалывала и шила, и наконец шубка была готова. Спереди она доходила до колен, а сзади немного свисала углом; Крабат заметил это и мог бы указать, если бы его спросили, но его не спросили.
Хотя в то лето вечерами и впрямь было довольно прохладно, но комаров развелось такое множество, что с каждым словом заглатывалось штуки по три; правда, Крабату, если он не собирался беседовать с самим собой, некому было и слова сказать: мельник с недавних пор завел себе подружку, молол вместе с ней день и ночь без продыху и на глаза не показывался, а Смяла со вчерашнего дня по какой-то непостижимой женской причуде вдруг онемела и оглохла. Крабат, из чистого любопытства заглянувший накануне на мельницу, позволил себе заметить, что та девица свое дело знает.
Но человек не рыба, вот Крабат и сказал своему посоху - или, вернее, просто так, в звенящий комарами воздух: "Хоть бы их птицы сожрали". Только он это вымолвил, налетели откуда ни возьмись какие-то невиданные суетливые пташки и набросились на комариный рой, как впоследствии Святой Михаил на гуситов под Бауценом.
Смяла подошла взглянуть и сказала, что это летучие мыши.
Крабат чуть было не возразил, что это козодои и что он сам их создал, но, обрадовавшись, что Смяла заговорила, удержался. А себя самого убедил, что молчит потому, что еще не совсем уверен, вправду ли его посох волшебный и может творить чудеса.
Эту уверенность он приобрел на следующий день. Войдя в лес, он сжал посох в руке и промолвил: "Пусть на одних деревьях растет черника, а на других брусника". На обратном пути он увидел на опушке рябину и бузину и понял, что посох и впрямь творит чудеса, хоть и не совсем такие, каких от него ждут: вместо брусники получилась рябина, а вместо черники бузина.
Выбрав удобную минуту - волосы Смялы разметались по его груди, их сердца еще учащенно бились, но темная волна уже схлынула, - он заговорил об этом со Смялой. Теперь чудо казалось ему не таким уж и чудом, и что получилось не совсем то - не таким уж и важным, а главное, неопасным. Он слегка пофилософствовал на тему о несовершенстве мира, установил непреложную логическую связь между собственным разумом и нравственностью - с одной стороны, необходимостью доделывать мир за Творца - с другой, и непонятной чудодейственной силой резной палки - с третьей, и в конце концов убедил себя, что достаточно хотеть добра, чтобы и получилось добро.
Но Смялу убедить не удалось, ею овладел страх, - неодолимый, идущий откуда-то из глубины страх. "Почем знать, что получится, когда несуществующее осуществится? Я видела во сне ужасных драконов, похожих на твоих летучих мышей, только те во много раз больше и летают со страшным грохотом. А главное, - она вздрогнула, - главное, они охотились за нашими детьми".
"Это только сон", - сказал Крабат и погладил ее плечо.
Но Смяла сказала: "На опушке леса рядом с бузиной теперь появились кусты с ягодами, похожими на бруснику. Но это волчьи ягоды".
Крабат подумал, еще не доказано, что мой посох сотворил именно волчьи ягоды, а вслух сказал: "Как это ты сразу придумываешь подходящее название, я просто восхищен".
"Не хочу придумывать подходящие названия для ужасных вещей, которые ты творишь, - сказала Смяла. - Не хочу жить в страхе перед твоими творениями".
Ночь была длинная и теплая, и темная волна вновь накатила на Крабата, мысли о волшебном посохе и его своевольной чудотворной силе напрочь вылетели из его головы, а руки сами пустились на поиски чуда, и всюду, где они касались тела Смялы, взметывались такие фонтаны брызг, что вскоре волна захлестнула его с головой.
Но Смяла осталась на берегу: плотина страха отгородила ее от волны. Как ни крутились бурунчики пены, как ни шипели и ни бились волны, она оставалась на берегу.
"Поклянись", - прошептала она, и он поклялся не вмешиваться в ход вещей и не пользоваться чудо-посохом, не творить за Творца.
Но нечаянно Крабат нарушил клятву.
Чтобы добыть камней для постройки дома, он примялся дробить огромный валун с красивыми прожилками. Недели тяжкого труда ничего не дали - Крабат выбился из сил и вконец испортил ломик, а получилась лишь тачка обломков. Разъярившись на проклятый камень, Крабат воскликнул в сердцах: "Пусть каждый отбитый осколок оживет и станет мне помощником". Едва он это сказал, как тут же захотел взять свои слова обратно; однако любопытство взяло верх, он удержался и ощутил и ужас, и восторг, когда желание его исполнилось: вокруг валуна как из-под земли выросло целое войско пестро разодетых, грубых, неотесанных бородачей; один держал штандарт, другой бил в барабан, и. все хором горланили песню: Наш кайзер греет задницу у а Валленштейн бьет шведа. Платите чистым серебром - получите победу.
Вожак отряда - кираса заляпана грязью, а гульфик величиной с окорок расшит шелком - надвинулся на Крабата: "А ну, ставь нас на работу, дерьмоед, не то дух из тебя вон".
Один бородач, ухмыляясь во весь рот, приволок откуда-то козу, дожевывавшую кустик черники. "Вот надраим солью пятки, олух ты деревенский, да заставим козу слизывать, - нахохочешься у нас, как грешник в аду, которого ведьмы щекочут!"
Крабат собрался с духом - уж если творить чудеса, так хоть с толком - и, держа посох перед собой словно скипетр, приказал: "Раздробите валун на мелкие части! А козу пока привяжите к дереву!"
В тот же миг оружие ландскнехтов превратилось в рабочий инструмент, барабанщик забил в барабан, вожак гаркнул: "С нами бог и Валленштейн, ребята!", и вся орава с гиканьем набросилась на огромный валун. Канонир в красно-синем мундире велел набить порохом щели и трещины, и валун мигом разнесло на десять тысяч кусков - многие даже отлетели далеко в чащу леса.
Там лежат они и поныне, а ученые ломают голову над острыми краями этих осколков: ведь если ледник протащил их с собой больше двух тысяч километров, то у них должна быть округлая форма. А какой-то геолог самолично раздробил один такой камень, взвесил кубический дециметр полученной пыли на ювелирных весах, изучил под мощным микроскопом и обработал всевозможными кислотами, потом поехал на Шпицберген, а точнее, на Западный Шпицберген, высадился на берег в Хорнсунне - дело было в августе, погода приятная и море гладкое, как зеркало, и взобрался на гору Хорнсунтинн высотой тысяча четыреста метров. Когда до вершины было уже рукой подать, ученый геолог отбил от голой скалы кучу осколков, затолкал их в рюкзак и с превеликим трудом, но благополучно доставил сперва на корабль, потом домой, а потом и в свою лабораторию; там раздробил, взвесил, изучил под микроскопом, обработал кислотами и установил со всей научной достоверностью, что лесной валун с острыми краями, лежащий на расстоянии двух и трех десятых километра к западу от среднего колена реки Саткулы, ведет свое происхождение от горы Хорнсунтинн на" Западном Шпицбергене. А округлой формы не имеет.
Ученый геолог сделал из этого вывод, что в прежние времена камни тоже были лучшего качества, чем нынешние.
Из чего в свою очередь можно заключить, что даже его наука, имеющая дело лишь с мертвым камнем, может и заблуждаться, коли сбрасывает со счета знания, почерпнутые простым народом из каких-то таинственных источников.
Но в ту пору Крабат наорал на канонира за его пороховые забавы - не из-за возможных затруднений для ученых мужей будущего, а просто потому, что ему не хотелось собирать и стаскивать в кучу разлетевшиеся обломки. Однако ландскнехты, не обращая на него внимания, продолжали изо всех сил колотить в такт барабану по остаткам валуна до тех пор, пока не превратили их в щебень.
Тогда Крабат в бешенстве вырвал у барабанщика обтянутый телячьей кожей барабан и напялил его на голову вожака, или как он там у них назывался.
Вожак отшвырнул барабан барабанщику, и тот спокойно натянул на него новую шкуру.
Крабату же он сказал: "Телячьих шкур в запасе больше нет. И если еще понадобится, натянем на барабан твою, баранью!"
Вся его рать покатилась со смеху. А вожак продолжал: "Мы и сейчас сдерем с тебя шкуру, коли не обеспечишь нас немедля работой. На восемь часов, включая перерыв на обед и на полдник. И на полдник, - повторил он, - неплохо, верно? Мы в твоем распоряжении, господин полковник. А может, ты генерал?"
Растерявшись от такого натиска, Крабат не мог придумать ничего путного и приказал собрать щебень и вымостить дорогу через лес.
Он надеялся, что таким манером отделается от них; попутно - так сказать, как побочный продукт - ему пришла в голову мысль, что, если использовать ландскнехтов для таких работ, и от них будет хоть какой-то прок.
К полудню все было собрано до камешка и лесная дорога вымощена - насколько хватило щебня. Она и теперь существует и посреди леса неожиданно кончается предупреждающим знаком с изображением человека, сломавшего себе шею.
Вожак пристроился к дереву рядом с Крабатом, отстегнул гульфик и стал мочиться. При этом бормотал, как бы ни к кому не обращаясь: "Если теперь этот маг-недоучка заставит нас считать сосновые иглы или собирать голубику, он попадет в рай быстрее, чем Тилли (Тилли (1559-1632) - полководец германского императора в период Тридцатилетней войны. - Здесь и далее примечания переводчиков.) в Магдебург". Потом вдруг направил струю на Крабата и заорал: "Давай настоящую работу!"
Крабат отвесил ему такую затрещину, что струя мигом иссякла, и сказал: "Мне нужен холм под виноградник, настоящий большой холм с крутым спуском к югу. Немедля соорудите такой холм, а чтоб земля не осыпалась, поставьте через каждые десять метров по человеку - пусть подпирают холм изнутри".
Вожак трижды топнул, потом широко расставил ноги и рявкнул: "Слушаю и повинуюсь, господин полковник!" Получив такой приказ, он уже всерьез поверил, что Крабат никак не ниже чином.
Новое задание явно пришлось ему по вкусу, он энергично забегал вдоль строя, от полноты души ругаясь на чем свет стоит и назначая очередников к закапыванию заживо.
Ландскнехты только плечами пожали - приказ есть приказ. Когда они закопали первого, Крабат бросился наутек. Где-то в самой чаще он опустился на землю, закрыл глаза и заткнул уши. Но мало-помалу ощущение вины как-то притупилось и уступило место простой и ясной мысли - ведь ландскнехты были все ж таки не настоящие люди, а всего лишь куски камня, обращенные им на короткое время в людей.
Какие возможности тут открывались! Чего он только не мог совершить! Он почувствовал, что превращается в великана - и в то же время как бы теряет вес и отрывается от земли, взмывает ввысь и возносится на вершину высочайшей горы; где-то далеко-далеко внизу океаны и континенты, он повелевает морскими течениями, обращает вспять реки, осушает болота, орошает пустыни - сколь жалкими по сравнению с этим покажутся подвиги Геракла!
Но тут прямо сквозь заросли к нему проломился вожак и доложил: "Виноградник готов, господин полковник! Прошу дать новое зада..."
Не договорив последнего слова, он начал сокращаться в размерах и прямо на глазах растаял; рыжий муравей побежал по траве, мышь зашелестела в зарослях черники, маленький осколок сверкнул под ногами. Крабат поймал муравья, тот заметался по его ладони - ничтожная, невесомая тварь. Он поднял с земли осколок - холодный мертвый камень. А мышь уже юркнула куда-то. Медленно, словно с тяжким грузом, он поднялся с земли и поискал глазами козу. На дереве висел обрывок веревки, рядом валялся жеваный кустик черники.
Он посмотрел на свой чудо-посох и подумал, чего же он с его помощью добился: валун развалил, но камней для постройки дома так и нет; дорогу проложил, но она вела в никуда; холм под виноградник насыпал, но виноград с этого холма не мог бы взять в рот.
Он пошел домой и был счастлив, что с его пригорка не виден тот холм. Смяле он сказал, что выбился из сил, и сразу лег в постель. А когда она прилегла рядом, он постарался дышать глубоко и ровно. Она заснула, а он смотрел в темноту, следя, как ночь каждый миг меняется. Правой рукой он судорожно сжимал посох и пытался вновь взлететь мысленно в горные выси грядущих подвигов, но выси всякий раз оборачивались холмом под виноградник с заживо похороненными в нем людьми, и его ноги вязли в свежевскопанной земле.
Повернувшись к холму спиной, он хотел было бежать туда, где за далекой линией горизонта надеялся найти решение, - раньше он знал, какое решение, но теперь, именно теперь, он этого уже не знал, оно скрывалось за горизонтом, который при приближении удалялся. Бежать стало трудно: земля была изрыта воронками и кратерами - глубокими, величиной с дом, и мелкими, в рост человека, заполненными гнилой водой, а серая, разъезжающаяся под ногами земля была пустой на поверхности, но не в глубине: из нее там и сям торчали то балка, то бедренная кость человека или животного, то рукоятка плуга, то ржавая железная труба.
На краю одной воронки сидел вожак с летным шлемом в руке; при виде Крабата он вскочил, приложил два пальца правой руки к виску и отрапортовал: "Все сровняли с землей, господин генерал".
ВСЕ СРОВНЯЛИ С ЗЕМЛЕЙ.
На рассвете Крабат глубоко закопал свой чудо-посох в сухую каменистую землю.
Крабату не удалось хотя бы на один день забыть о таинственной, непостижимой силе резной палки. Его мучили не столько честолюбивые помыслы - быть хозяином этой силы, творить новое, изменять по своему усмотрению уже существующее, - сколько загадки и тайны, с которыми он сталкивался повседневно и решение которых он считал похороненным вместе с чудо-посохом. Все вокруг было для него загадкой и тайной: почему капля росы сверкает всеми цветами радуги, хотя вода не имеет цвета, почему звезды исчезают, как только появляется солнце, откуда берется и куда девается ветер, как из розового цветка получается желтое яблоко - каждый предмет и каждое явление взывало к нему, требуя ответа.
Иногда Крабату казалось, что голова его вот-вот лопнет от этих вопросов, потом ему вдруг мнилось, что в его голове смогут уместиться не только тысяча вопросов, но и тысячу раз тысяча и еще тысячу раз тысяча ответов. Вопросы жгли ему душу, и, чем дольше он думал, тем тверже становилась уверенность в том, что путь в Страну Счастья не пройти ногами, что она откроется как на ладони вслед за ответом на последний вопрос, а вопросы - это дорожные указатели на пути туда.
Как-то ночью Крабат осторожно выбрался из хижины и выкопал из земли свой чудо-посох. Руки его дрожали, и сердце колотилось.
Он поднес палку к самым губам и прошептал: "А говорить ты умеешь?"
"Мелешь", - прозвучало в ответ из лесу.
Крабату не хотелось, чтобы кто-нибудь подслушал этот разговор.
"Да тише ты", - сказал он и откашлялся.
"Ишь ты", - расслышал он слова, сопровождаемые глупым хихиканьем.
"Шепчи мне прямо в ухо, не кричи так", - попросил Крабат и прижал палку к уху. Палка безмолвствовала, а из лесу отчетливо донеслось: "Чудак".
Крабат заподозрил обман. Он засунул палку в поленницу за хижиной, сел на прежнее место и прошептал тихо, точь-в-точь как в первый раз: "Отчего нынче узколица луна?"
"Веселится она", - раздалось из лесу.
Но Крабату было не до веселья: мало того, что чудо-посох оказался тупым чурбаном, слова путного не добьешься, он вдобавок еще и плут: обзавелся эхом, сказанное шепотом разносит по всей округе и повторяет готовые ответы как попугай.
Содержать эхо в услужении будет прерогативой более поздних эпох, а в эти поздние эпохи - прерогативой тех, кто боится всех ответов, кроме своих собственных.
Но Крабат все еще верил в полезность вопросов, и на следующий день, зайдя на мельницу, он объяснил Якубу Кушку, в чем состоит сущность эха и в чем его вред.
Кушк - тощий, как отшельник в пустыне или как манекенщица на помосте, истомленный, как солнце в ноябре, и игривый, как ручей в марте, - мельник Якуб Кушк покатился со смеху, услыхав про эхо, и тут же решил, что надо бы ночью сходить туда с подружкой: пускай эхо орет себе в свое удовольствие, может, Смяла пробудится от сна; пора и ей наконец вновь услышать, как звучат любовные речи.
Крабат даже вспылил - дескать, у него в голове вещи поважнее, - и, поскольку Якуб Кушк в своем ослеплении отрицал, что есть вещи поважнее любви, Крабат повел его к холму под виноградник, насыпанному ландскнехтами Валленштейна. Холм, все еще голый, был усеян повторяющимися через равные промежутки кочками и бугорками. Крабат объяснил, отчего и как это получилось, рассказал о раздробленном на щебень валуне, о бесполезной дороге, ведущей в никуда, а заодно и о том, как он во сне бродил по местности, которую сровняли с землей.
Мельник слушал внимательно, но, когда огромная бабочка, порхавшая в двух шагах от него, опустилась на цветущую мальву, он вдруг присел на корточки перед цветком.
"Что с тобой?" - спросил Крабат.
"До чего же она красива, эта бабочка", - прошептал мельник.
"Красива? Верно, красива, - согласился Крабат. - Но откуда у гусеницы берутся такие краски? Я разрезал сто гусениц, и у всех одна и та же серая мякоть".
Бабочка взлетела. Якуб Кушк сказал: "В этом-то все дело, брат. Я вижу, что она красива. А ты хочешь знать, почему она красива. Вечно тебе надо докапываться, почему все так, а не эдак, и, если тебе что-нибудь не по вкусу, ты норовишь это переиначить на свой лад".
"Чистая правда, - удивленно откликнулся Крабат. - Но откуда ты это знаешь?"
Якуб Кушк воздержался от ответа - он бы все равно не удовлетворил пытливого Крабата, - поднял с земли комок красновато-желтой глины и стал мять его пальцами.
Но Крабат не отставал: "Ну хорошо, бабочка красива, признаю. Но на что нужна гусеница? Разумно было бы устроить так, чтобы бабочки получались без гусениц. Или, если это невозможно, обойтись вообще без бабочек".
Комок глины в руках мельника становился все податливее и постепенно приобрел матовый блеск. "Поищи-ка щепку и какую-нибудь косточку", - попросил он.
Крабат нашел щепку, а косточку отломил от обглоданного скелета птички. Сперва хмуро, потому что друг увильнул от серьезного разговора, потом с некоторым любопытством и наконец застыв в восхищении, он следил за тем, как кусок глины превращался в человеческую голову - голову девушки - и под конец стал Смялой. Правая бровь - дугой, левая - с легким изломом посредине, тонко и плавно очерченный нос, широко поставленные глаза, а рот...
"Рот у Смялы не был такой печальный", - сказал Крабат.
Ничего не ответил на это мельник, только прикоснулся косточкой к губам Смялы, и они заулыбались, но печаль в них осталась, и Крабат вдруг увидел перед собой живую Смялу и понял, что правда на стороне мельника.
"Но я не хочу, чтобы она была печальной", - сказал он.
Якуб Кушк опять промолчал; он осторожно поставил свое творение на камень, натаскал еще камней, сложил их стенкой вокруг первого камня и разжег небольшой костер.
"Если не дашь огню погаснуть до вечера, глина затвердеет, и ты сможешь взять эту голову с собой". Он хотел, чтобы Крабат остался у огня и имел время подумать.
Крабат сидел и понемногу подбрасывал сучья в костер, окружавший глиняную голову Смялы в середине каменной чаши. Он смотрел, как глина постепенно теряла свой матовый блеск, как она мало-помалу застывала и как изображение все меньше и меньше походило на живую Смялу: получался застывший слепок, безнадежно далекий в своей неподвижности от ее подлинного лица.
Чем дольше он наблюдал за процессом превращения живой копии в мертвый слепок, тем больше его мысли сосредоточивались на чем-то круглом, что он сначала принял за газовый шар, бешено вращающийся вокруг какого-то твердого ядра. Но потом газ как бы взорвался, твердое ядро его мыслей выбросило наружу, и Крабат наполовину прочел, наполовину догадался, что содержалось в этом ядре: если бы мир был неизменен, то можно было бы раз и навсегда упорядочить его по законам разума, и тайны умерли бы, не родившись, и на каждый вопрос был бы готов ответ, и всякая случайность была бы предусмотрена, а неразумное - немыслимо. Не было бы ничего вечного, кроме бытия и его законов, и я был бы сам себе господин. Не было бы ни рая, ни ада. Не было бы и страха. Правда, надежды тоже бы не было. Да и зачем надежда людям, не ведающим, что такое страх?
Он выпрямился, потому что, сидя на корточках перед костром, не мог смотреть в лицо этой мысли, этому выдуманному им самим миру, вот он и поднялся и тут же встретился глазами с Вольфом Райсенбергом, который размеренным шагом приближался к огню.
Райсенберг бросил взгляд на голый холм, насыпанный ландскнехтами. "Удачное место для замка", - промолвил он.
Крабат объяснил, что этот холм могильный, что под ним покоится целый отряд солдат Валленштейна.
"Может, это и суеверие, - улыбнулся Райсенберг, - но сам я и впрямь считаю, что фундамент должен закладываться на человеческих костях. Тогда стены стоят куда прочнее".
Тут он заметил глиняную голову в середине примитивной печи для обжига. Он спрыгнул с лошади и присел на корточки, чтобы лучше рассмотреть лицо девушки.
"Отлично, просто отлично, - пробормотал он. - Твоими руками сделано?"
"Ее сделал мельник и подарил мне, - ответил Крабат. - Это моя жена".
"Я поставлю ее на почетном месте, - сказал Райсенберг. - Твой мельник - большой мастер, пусть как-нибудь зайдет ко мне".
Чуть тлевший костер совсем было потух, и Крабат нагнулся, чтобы подбросить щепок, но Райсенберг остановил его, мол, хватит уже. Пусть остынет. Он вскочил в седло, тронул рысью и поскакал вдоль подножия холма.
Провожая его глазами, Крабат внезапно вновь почувствовал на своем плече клеймо: это была даже не боль, а скорее ощущение какой-то тяжести, словно он нес на плече тяжкую ношу или же смутно чуял опасность, не понимая, откуда она грозит.
Он взял себя в руки и попытался думать о том, как это получилось, что мягкая, податливая глина стала твердой и ломкой, причем вместе с податливостью утратила и свой блеск. Но как ни старался, не мог сосредоточиться на этом: ему уже не терпелось, чтобы глина поскорее остыла и он мог бы отправиться восвояси.
Как бы нечаянно его взгляд задержался на Еве из слоновой кости, украшавшей рукоять его палки; он сравнил ее лицо с лицом глиняной Смялы и нашел, что Смяла красивее - да, красивее, несмотря на легкий оттенок печали в ее улыбке. Или, может, именно благодаря ему? Он смутно чувствовал, что и за этим таится какая-то загадка - почему плотская и пустая красота Евы с ее идеальной и гладкой соразмерностью кажется ему чужой, - загадка, которую мог решить Якуб Кушк, но не он. Впервые он понял, что он беднее друга.
Объехав холм, Вольф Райсенберг вернулся. "На южном склоне я разобью виноградник, - заявил он. - Сними рубаху и заверни в нее глиняную голову. Я беру ее себе".
Крабат рывком вскочил на ноги.
"Спокойно, без шума", - предупредил Райсенберг.
"Ни за что!"
Райсенберг не торопясь, слез с коня и вытащил меч из ножен.
Крабат замахнулся посохом.
Рассмеявшись, Райсенберг слегка ударил мечом по палке, и раздался звон металла о металл. "Убивать тебя было бы глупо с моей стороны, - сказал он. - Я только раскрою голову твоей жене, если ты будешь упрямиться".
Трясясь от гнева, Крабат обеими руками вцепился в посох и весь сосредоточился на мысли: пусть мой враг станет гусеницей. Я раздавлю ее.
Но чудо-посох задрожал в его руке: он был бессилен.
Прикоснуться и проклясть! Крабат бросился с палкой на Райсенберга и выкрикнул проклятье ему в лицо, но чудо-посох отскочил, словно отброшенный невидимой рукой, и воздух не принял в себя слова Крабата.
"Терпенье не входит в число моих достоинств", - ровным голосом промолвил Райсенберг и взмахнул мечом над головой Смялы.
Клеймо на плече Крабата загорелось огнем, глаза ослепли от слез стыда, боли и ярости. Чудо-посох был бессилен против Вольфа Райсенберга. Медленно, словно не сознавая, что делает, он снял с себя рубаху и осторожно завернул в нее глиняную голову Смялы. "Не забудь прислать ко мне мельника!" Вольф Райсенберг кивнул на прощанье и ускакал.
Крабат не смотрел ему вслед, он стоял незрячий, окаменевший и в то же время пронзенный новым чувством, которое, как он позже - намного позже - понял, было возрождением его любви к Смяле.
Он нагнулся и поднял с земли свою палку, к ней прилип комочек глины. Он хотел было смахнуть его, но комочек прилип и к руке. В задумчивости он принялся мять его в пальцах, пока не почувствовал, что комочек стал податливым, мягким, живым. Все еще без всякой цели он мял и жал живую плоть, давил и растирал ее пальцами, сжимал и катал в ладонях, и вдруг словно молнией его озарила мысль - он понял скрытый смысл своих действий, и безжалостная, почти безумная ненависть толкнула его на новый шаг. Дрожа от нетерпения, он принялся лепить из комочка глины нечто похожее на человеческое существо, какое-то корявое тельце с двумя ножками, двумя ручками и головкой шаром.
Крабат положил человечка на еще теплый камень в самодельной печи, взял в руку свой чудо-посох и приказал ему превратить крошечного нескладного глиняного человечка в грозного великана, способного растоптать Райсенберга как гусеницу.
"Как серую мерзкую гусеницу!" - завопил он вне себя, и крик его разнесся над бескрайней солнечной равниной, на которую в тот же миг легла густая удушливая тьма - какое-то чудовище пробило своим черепом все мыслимые своды, время и пространство взорвались, их обломки дождем посыпались на землю, и Крабат жарил в песчаном карьере ежа, деля его с тремя опухшими от голода ребятишками, для которых рай считался утерянным, хотя никогда не был найден, потом снял рясу монаха-доминиканца с крюка-посоха и вечером, лежа в траве неподалеку от бедной и голой церквушки в деревне Розенталь, сказал Якубу Трубачу: "Нарисуй мне портрет Смялы, брат. Будет мне путевым знаком, пока ее не найду".
Небо было усыпано звездами, где-то вблизи, у церковной стены, благоухала жимолость, на опушке леса выли волки.
Якуб Кушк запел: О мадонна у холодного ключа, согрей бедных ландскнехтов в солнечных теплых лучах, потом напился из родника, бившего из земли возле церкви, и вновь улегся в траву.
"Люди верят, что этот родник чудотворный, - сказал он. - Я боюсь чудес. Солнце должно греть, когда ему приходит пора, и портрет - не путевой знак".
Крабат мог бы возразить: что мы знаем о прошлом, то ведет нас в будущее. Или объяснить, что он не собирается сперва убить Райсенберга, а потом искать Смялу, а хочет искать Смялу, и оттого должен убить Райсенберга; но он промолчал, потому что где-то совсем рядом защелкал соловей - может, в той жимолости у стены.
Глава 3
Дабы избежать весьма вероятных недоразумений и предостеречь читателя, чтобы он, упаси бог, не спутал уже упомянутых мельника Якуба Кушка, напугавшего самого кайзера, и его защитника в суде дружку Петера Сербина, с одной стороны, с Крабатом и его другом, на беду нареченным Смялой тоже Якубом Кушком, - с другой, придется уделить первым двум больше места, чем мыслилось в начале. И прежде всего, пожалуй, из-за того, что многие люди, рассказывая о Крабате, и впрямь валят все в одну кучу и путают Крабата с кем-либо из Сербинов, а уж двух мельников по имени Якуб Кушк и подавно не различают.
Этой непозволительной игре с временем и пространством, возможно, способствует то обстоятельство, что благородный господин, которого Люцифер окрестил Райсенбергом, тоже не остался в раю, а появлялся всякий раз там, где Крабат пытался найти Страну Счастья - какой бы она ни была, и там, где Крабат - или Сербин - строил себе хижину, Вольф Райсенберг возводил замок или крепость.
Правда, во все времена смешно было бы говорить о вражде между замком Райсенбергов и двором Сербинов на холме со старой липой - слишком уж величествен был первый и слишком уж жалок второй. Тем не менее выкрикнул же однажды Каспар Сербин в лицо своему палачу Райсенбергу: "Вражда посеяна между тобой и мной и дана нам вечная жизнь, пока один из нас не вздернет другого на древе истории и синий язык не вывалится у него изо рта!" Случилось это, видимо, в гуситские времена, и как раз эти слова, как утверждают некоторые, и были сказаны Крабату Творцом, когда неподалеку взревел лев, и никто не расслышал конца фразы. Многое говорит за то, что люди эти правы. К тем, кто был полностью убежден в их правоте, принадлежали дружка Петер Сербин и его друг, мельник, сообразно с этим они и действовали - каждый на свой лад, но не упуская древо истории из виду. Ибо когда повиснет на нем тело Райсенберга, исчезнет его клеймо с их плеч, и кончится нескончаемо долгий день поиска, и они найдут то, что искали.
Мельник Якуб Кушк не позволил своему разуму пылиться и ржаветь среди мешков с мукой, он гонял его во все концы, по всему белу свету за знаниями, а принесенную им добычу сперва сваливал в кучу, потом бережно раскладывал - зернышко к зернышку - и таким способом без помощи пророков пришел к убеждению, что Седьмой День не вечен и, значит, нужно вовремя подготовиться - не к концу, конечно, а к новому началу, утверждал он, дабы не повторить промахов, допущенных при сотворении мира. Людей не будут спрашивать: что ты хочешь иметь? А спросят: как вы хотите жить? Обжоры захотят жить среди молочных рек и кисельных берегов, а глупцы - как в раю, но свершится, слава богу, не их воля, а воля тех, кто обладает знанием.
Чтобы оказаться в их числе, а не среди невежд, Якуб Кушк завел по образцу своей амбарной книги, куда записывал цифры помола, отходов и налогов, еще одну - Книгу о Человеке, которая ему сможет пригодиться, когда возникнет необходимость творить человека заново. В этой книге взвешивались и оценивались не только человеческие свойства с точки зрения их пригодности для будущего, но и все то, что неотделимо от человека, как река от мельницы. И взвешивались и оценивались эти свойства не на эфемерных весах чистого разума, а протравливались кислотой накопленного житейского опыта. Ведь Якуб Кушк по собственному опыту знал, что человеческий разум в состоянии выкидывать самые невероятные номера и выдумывать самые несуразные вещи. К примеру, незадолго до того власти прикрыли поблизости гончарную мастерскую только за то, что в ней изготовлялись совсем простые и легкие вазы вместо тяжеловесных и богато изукрашенных (их любил глава государства), а это, как следует из официального документа, создает угрозу существующему строю. Такие и подобные выкидыши человеческого разума не заставили, однако, мельника занести сам разум в графу "отрицательные свойства". Он лишь приписал, что при сотворении человека заново необходимо предусмотреть изоляционную прокладку между разумом и послушанием. И добавил в скобках, что разум не должен быть холопом у послушания.
Когда по берегам Саткулы распространилась весть, что предстоят маневры с участием кайзера, мельник достал из ящика заветную Книгу. Маневры имели к ней отношение постольку, поскольку на них должен был присутствовать император, а величества всех мастей в Книге мельника значились под номером один в графе бедствий, от которых вновь создаваемого человека нужно во что бы то ни стало оградить. Что бы там Творец в свое время ни замышлял, создавая эту породу, ничего путного из его затеи не вышло, сказал Якуб Кушк десятку своих клиентов-булочников. Какого ни возьми: саксонца Оттона, побившего гуннов в битве на реке Лех, или пруссака Вильгельма, бравшего пример с гуннов и посылавшего своих солдат в Китай, или любого другого, - все они в общем и целом ошибка мироздания.
Как во все времена и во всех странах, так и здесь тоже нашлись люди, готовые лизать императорский зад и подбирать крохи с его стола; они повскакали с мест и хором обрушились на мельника. Но автору Книги о Человеке ничего не стоило доказать справедливость своего мнения.
Сначала на примере пресловутого Оттона. Когда тот прибыл на берега Саткулы, дабы лично удостовериться в том, что крест превосходно может служить двойной виселицей, Райсенберг устроил в его честь сражение не на жизнь, а на смерть между сотней безоружных язычников, отказавшихся целовать крест, и двадцатью волками, тоже нехристями. Три волка выжили, и император даровал им свободу. Правда, предание умалчивает, признал мельник Кушк, на каком именно коне восседал император во время увеселительного зрелища.
Потом мельник привлек в качестве доказательства прусского Вильгельма. Дело и впрямь не в том, на какой лошади будет гарцевать кайзер во время предстоящих маневров - с помощью фотографий и последовавшего затем судебного процесса будет задним числом доказано, что столь пугливым оказался великолепный белый жеребец чистых кровей, - а в том, что вред от его прибытия намечается уже теперь, еще до того, как этот злополучный жеребец вместе с кайзером отправится в поход на Саткулу. Ибо Райсенберг опять готовится по-своему встретить кайзера и на случай, если его величеству во время пребывания в замке Райсенберг потребуется посетить такое место, куда ходят пешком и без адъютанта, приказал оборудовать современный благоухающий клозет со смывом.
Не дав ему договорить до конца, сторонники кайзера подняли крик: никто не имеет права отказать Его Величеству в привилегии пользоваться именно таким клозетом. (Насколько они были правы, выяснилось впоследствии, когда после испуга, пережитого из-за мнимой иерихонской трубы, новое устройство не только было благосклонно принято к высочайшему сведению, но и достаточно часто - причем иногда даже с некоторой поспешностью - использовалось.)
Как только мельнику снова удалось завладеть инициативой в споре, он заявил, что повелители мира сего опасны не своими благоухающими клозетами, а тем, что самим фактом своего существования нередко побуждают даже порядочных людей считать воплощением права не закон, а уста повелителя. Так, граф Райсенберг, затеяв еще кое-что обновить в замке, нанял на работу столяра со стороны. И если с точки зрения права, добавил он, возразить против забавы того, прежнего Райсенберга, в сущности, было нечего, ибо уничтожение волков и язычников считалось заслугой перед богом и императором, то с затеей нынешнего графа дело обстоит по-другому: новый столяр Бенно Либескинд нанят противозаконно.
Лучшего доказательства вреда, причиняемого императорами, мельник Кушк не мог бы привести: все его слушатели, в том числе и сторонники кайзера, закипели от возмущения.
Местный глава столяров Пауль Сокула бросился с места в карьер к Петеру Сербину, дружке и защитнику, и спросил без обиняков, разве их отцы зря делали революцию. Петер Сербин ответил на этот вопрос отрицательно, надел чистую рубаху, вычесал из бороды последнюю ухмылку, вспенил кровь порцией ярости и отправился в замок. В это время мельник как раз стоял возле мельницы и плевал в реку, но воды в ней тем не менее не прибавлялось, а если у мельника нет воды, то есть время, вот Якуб Кушк и вынул свою трубу из мешка и присоединился к Другу.
Перед домиком графского садовника чужой столяр сгружал свою мебель; садовник был со странностями: зимой спал в оранжерее, летом где попало и отведенным ему жильем не пользовался. Мельник остановился, направил трубу в сторону пронырливого столяра и заиграл: Уж как город мне покидать-покидать... Столяр Либескинд был человек обходительный, а кроме того, наслышался, видимо, об отсталости местного населения; он решил, что трубач просто по темноте своей счел эту песню подходящей к случаю, вынул из кармана монетку и сказал: "Добрый человек..."
Мельник тут же отдал монетку подмастерью, а дружка и каменщик Петер Сербин сказал столяру: "Не ходи, не придется возвращаться".
Труба фыркнула, а столяр Либескинд сказал, обращаясь к своей жене: "Мы имеем дело только с замком".
Это было ошибкой, потому что революция 1848 года не прошла бесследно, перед замком стоял представитель деревни, и черепица на крыше замка была долговой распиской, наследством старой графини-матери, той самой, которая от мигрени ела селедочьи глаза.
Мельник Кушк прямо на лестнице, ведущей к воротам, протрубил: Восстаньте ото сна, господь стоит у порога; это прозвучало неуместно, во-первых, потому, что играл он за воротами, во-вторых, потому, что в замке никто не спал: граф размышлял над своим будущим романом, графиня разглядывала семейные фотографии из Голландии, а ее четырнадцатилетняя дочь Моника, такая тоненькая и бледная, словно ее морят голодом, в глубине парка сооружала из речных камешков крошечную церковку. Камешки она набрала собственноручно в Саткуле и привезла в парк на собственной козьей упряжке. Козлики Адриан и Хуго вели себя при этом так послушно и смирно, как будто и впрямь принимали близко к сердцу благочестивые труды бедной чахоточной графини, унаследовавшей болезнь от своей матушки, тоже худосочной и малокровной, несмотря на свое голландское происхождение. Девочка, заслышав мелодию, хорал а, сложила руки как для молитвы и запела, а граф нахмурился, музыка мешала течению его мыслей, и он послал слугу к воротам узнать, в чем дело. Вернувшись, слуга доложил, что дело в старинном праве деревни и новом столяре.
А граф уж и сам догадался, в чем дело, - ведь после революций всегда долго еще идут круги по воде; он велел слуге выйти к воротам и объяснить Петеру Сербину, что маневры с участием кайзера не какое-то там дешевое зрелище, а серьезное общенациональное событие, требующее от каждого гражданина определенных жертв. Слуга вышел за ворота и сказал Петеру Сербину, с которым двадцать три года простоял плечом к плечу в ряду баритонов певческого союза "Липа": "Придется нам с тобой немного подрать глотки, чтоб он услышал, как я ради него стараюсь".
Мельник заиграл туш, а Петер Сербин произнес с присущим ему достоинством, но и с явным нажимом в голосе: "Дай тебе бог пшенной каши с кислой капустой! Когда яблони цветут, скоро лето тут как тут!"
Графский слуга возразил с не менее важным видом и с таким же нажимом: "По грибы пошел зимой - значит, ты совсем косой".
Представитель деревни энергично опроверг это утверждение, изложив представителю графа основы добротной каменной кладки. При этом он дважды выделил слово "революция" с такой силой, что граф обеспокоился и подошел к открытому окну. Его слуга, ощутив моральную поддержку с тыла, стал теснить своего противника не столько аргументами, сколько энергичными пинками, пытаясь спихнуть его с лестницы на площадку перед замком. Аргументы же его сводились главным образом к тому, что неизвестно, доведется ли ему когда-нибудь хохотать над комедией, которую они оба здесь ломают, но иначе никак нельзя, а то хозяин у окна, чего доброго, еще смекнет, что к чему.
Граф не смекнул; во-первых, потому, что был от природы детски простодушен и доверчив, а во-вторых, потому, что хотя и говорил бегло по-французски и английски, да и голландскому без особого труда выучился от своей супруги, но ему, несмотря на некоторые демократические замашки, ни разу не пришло в голову усвоить хотя бы одно словечко из языка саткульцев.
И теперь, слушая, как яростно бранятся два солидных и почтенных человека в тех же летах, что он сам, граф чувствовал себя даже неловко из-за того, что слуга так ради него усердствует. А тот уже совал кулаки под нос своему противнику и вопил, явно войдя в раж, что уже окончательно решил сыграть свадьбу дочери в следующем месяце.
Дружка в ответ вопил с такой же силой и яростью, что у него остался незанятым один-единственный день. Очевидно, это было его последним аргументом в споре, поскольку, как своими глазами увидел граф - и напуганный, и несколько польщенный всем происходящим, - спор перешел в драку, противники сбросили куртки и наставили друг на друга кулаки.
Граф хотел уже покинуть "позицию стороннего наблюдателя и вмешаться, но тут заметил, что внизу у лестницы исход спора решает уже не сила кулаков, а всего лишь крепость кончиков пальцев - своего рода божий суд, подумал он.
У графского слуги после третьей сшибки из пальцев брызнула кровь; тем самым спор был решен, граф отошел от окна и. сказал супруге, что столяру Бенно Либескинду, к сожалению, придется покинуть замок.
Графине это было более чем безразлично, она только что опять кашляла кровью, ее мучила мысль о близкой смерти и страх за дочь, такую хрупкую и тщедушную. Граф вздохнул, выпил рюмочку мадеры и послал своего храброго побитого слугу к столяру, снабдив его заранее оговоренной суммой отступного. Столяр вновь погрузил в телегу свой скарб и не проронил ни слова, зато жена его бранилась без умолку; но, когда мельник Кушк повстречался ему на обратном пути и опять заиграл свою прощальную песню, столяр Бенно Либескинд все же ее выдержал. "Чудные у них тут графья", - сказал он.
И опять ошибся. Франц Амадей граф Вольф Райсенберг отнюдь не был чудаком, он был широко образован, благочестив без тени ханжества, добр без слащавости и честен до самозабвения, в деревнях не нашлось бы ни единого человека, который бы плохо о нем отозвался. Он был первым из Райсенбергов, кого запросто, по-соседски, пригласили на свадьбу, как полагается в деревне по обычаю.
Приглашение передал по заведенному порядку дружка Петер Сербин.
Граф - графиня с дочерью были на юге - любезно согласился, вероятно, ему даже немного льстило, что отец невесты, чья усадьба вплотную примыкала к ограде графского парка, приглашает его запросто, как сосед соседа. Он явился точно ко времени и принес с собой, как и полагалось по обычаю, свой столовый прибор из массивного серебра. Девушка, прислуживавшая за столом, ударила ложкой из этого прибора по руке Якуба Кушка, которая оказалась не на том - а может, как раз и на том, это уж как кому угодно, - месте, из-за чего мельник потом испытывал некоторое неудобство при игре на трубе.
Графу предоставили место за столом невесты, и он принялся подробно расспрашивать обо всех обычаях и обрядах, решив', что сведения такого рода наверняка пригодятся ему при работе над романом.
После застолья граф подошел к Петеру Сербину, вынул кожаный портсигар с голландскими сигарами, взял одну себе, другую предложил дружке, а потом завел с ним беседу. Беседа была довольно необычная и не слишком уместная в перерыве между говядиной в сметанном соусе с хреном и кофе со сладким пирогом с корицей.
Граф спросил: "Чем занимаются ваши сыновья?"
Петер Сербин рассказал, чем они занимаются.
Граф заметил: "У вас их пятеро, если я не ошибаюсь. Да еще и внуки".
"Внуков покамест двое, - ответил дружка, - но я намерен помереть не раньше, чем наберется дюжина".
"Это такая редкость", - удивился граф.
Дружка отнюдь не считал это редкостью. Граф промолчал, сосредоточенно раскуривая сигару, дружка тоже раскурил свою - она была недурна, но его собственная трубка была ему все же больше по вкусу. Граф первым нарушил молчание: "Я собираюсь писать книгу. - Он откашлялся, пристально разглядывая свою сигару, и добавил: - С этой целью я недавно изучал нашу семейную хронику. Там встречается и ваше имя".
Петер Сербин кивнул - мол, представителю деревень, естественно, выпадает случай попасть в графскую хронику.
"Я имею в виду ваших предков", - сказал граф. Он что-то никак не мог справиться с сигарой и опять долго откашливался. Дружка молча ждал.
"В 1391 году был колесован некий Венцель Сербин", - сказал наконец граф.
"Колесовали многих, - заметил Петер Сербин. - И за что же его?"
"За участие в бунте, - ответил граф. - Я хотел только подчеркнуть, что наша хроника дает мне возможность проследить семь веков семейной истории, а об остальных двух столетиях составить хоть какое-то представление на основании разрозненных и неполных сообщений". И он стал рассказывать об истории Райсенбергов - теперь ему уже не приходилось ни откашливаться, ни разглядывать то и дело свою сигару.
Петер Сербин, на голову выше графа, смотрел сверху вниз на увлеченного своим рассказом собеседника и ждал, что тот в конце концов непременно начнет перечислять всех своих предков по очереди - Иуда родил Фареса, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, - хотя бы просто в противовес его, Петера Сербина, череде сыновей и внуков. Однако граф не стал перечислять своих предков, он лишь назвал одного-двух, с именами которых в хронике были связаны либо забавный случай - всем на потеху, либо геройский подвиг - всем на удивление, либо слава певца и поэта - всем на восхищение.
Петер Сербин отложил сигару в сторону, взял свой резной свадебный жезл и оперся на него: по видимости - как на скипетр, а на самом деле - как на дорожный посох, политый потом и отполированный до блеска тысячами миль пути, и каждая миля оставила зарубку: каждая потеха оплакана, каждое удивление оплачено, а восхищение смыто кровью. Поэт поэтом, но я, Крабат, сын Каспара Сербина, городской писарь и брат магистра Яна Гуса, я убил его, а он убил меня.
Стоял ясный осенний день. Октябрьскими красками пылали кроны деревьев, и нити паутины переливались всеми цветами радуги в солнечных лучах; я сидел на пне, рядом, на другом пне, сидела Анна с ворохом осенних листьев на коленях; две наши козочки щипали горькую траву на опушке. Сосновыми иглами Анна скрепляла сухие листья, получалась длинная золотая цепь, я ей что-то рассказывал, может быть сказки: "Было время...", а может, и мечты: "Будет время..." Но и в сказках, и в мечтах вставали одни и те же вопросы - "почему", "куда", "откуда". И главный среди них - "почему".
Из лесу вдруг выскочили охотники, наши козочки мигом прыснули в поле, граф Вольф с хохотом и улюлюканьем - за ними, его копье проткнуло мою козочку, и потроха потащились вслед за ней по земле.
И всего-то коза - серая косматая тварь, злобная, может быть, и коварная даже, но я на следующий же день побежал к монаху в деревню Розенталь, чтобы спросить у него - почему?
Он стал учить меня грамоте - писать и читать буквы, и, когда я прочел Нагорную проповедь Господа нашего Иисуса Христа, он шепнул мне, что магистр Ян Гус знает ответ на мой вопрос. И что он учит - нельзя подчинять всю жизнь власти господ. Ибо если жизнь подчинится их власти, древо истории станет нашей виселицей. Или его вообще не станет. Ничто, оно и есть ничто, и ничего из него не будет. Не будет и принципа, который я не решаюсь назвать, ибо другими он, вероятно, совсем по-другому называется, и слово, каким я его назову, не следует произносить вслух. Этот принцип - власть. Она страшнее ада и темнее смерти. Когда мы с Анной лежали в камышах и любили друг друга, я верил, что мне ведом свет. Ее поцелуи были мне луной, руки мои на ее груди - солнцем. Я срубил ель и устроил для нас ложе - для луны, для солнца, а может, и для солнца всех солнц. Я играл для нее на зажатой в пальцах травинке песнь о солнце всех солнц, и не было девушки прекраснее ее; я раскрасил наше брачное ложе красным и синим, и мирт покрылся белыми цветами. А липа еще не цвела.
Была ночь, когда Райсенберг забрал у меня Анну. Он праздновал с друзьями день Святого Героса, они горланили свое ferro ignisque (Огнем и мечом (лат.)), нацепив на головы волчьи маски - волки в честь Святого Волка. Их было одиннадцать, и, когда они досыта натешились Анной, на нее набросились их слуги, после волков - псы.
Ночь была и когда я пробрался в сад при замке. Райсенберг сидел на пне у подножия башни и ждал, когда защелкает соловей, он любил соловьиные трели и делал из них свои песни. Я воткнул ему под ребра мой плотницкий нож. Липа еще не цвела.
Я бросился прочь и вверх по мелкому руслу Саткулы добрался до тропки, ведущей через лес Бедных Душ на юг. Я прошел весь лес в полночь, не испытывая страха перед Бедными Душами, моими предшественниками, за которыми я собирался последовать. Меня не напугала встреча с безъязыкими детьми, приветствовавшими меня как нового члена их братства. Я увидел немую речь их рук, а закрыв глаза, услышал: Вольф-Волк вырвал у нас языки, и устлал ими свое ложе.
Не испугался я и отрубленной головы с пустыми глазницами, назвавшей меня своим сыном. Голова пропела:
Вольф-Волк унес мои глаза в свое логово, чтобы они видели только его, только его одного, чтобы для них Волк и был всем миром. Я нашел свою Анну, она лежала в зарослях мха на болоте и рожала раба. Она не кричала при родах, ее рот был набит миртом, а груди черны и тело послушно волчьей воле. Я помог ей произвести на свет мертвую жизнь и поцеловал ее в губы.
На поляне Больших Камней под открытым небом, усеянным звездами, сидел Райсенберг, отбрасывая красную тень. Он был в праздничном наряде, и нож, торчавший в его груди, был мой нож. Он выхватил его из груди - одну рукоятку без клинка - и кивнул мне, мол, присаживайся, писарь.
И я опустился рядом - я, городской писарь из Бауцена, тайно присягнувший знамени с чашей, взявшийся подмочить порох в пороховой башне и открыть городские ворота войску братьев гуситов, а Райсенберг сказал: "Твой ключ никаких ворот не откроет - посмотри, у него нет бородки". Он вновь укрепил на груди мой нож без клинка и засмеялся; Большие Камни вокруг затряслись и сложились в светящиеся книги, затмившие звезды. Одна книга раскрылась и запела песню "Друг мой соловей" - Райсенберг сочинил ее перед тем, как я его заколол. Песня была так хороша, что я уже хотел было подтянуть, как вдруг рядом со мной безглазая голова одного из моих предков запела другую песню. "Вынь свой нож из моей груди, - сказал Райсенберг, - и тебе откроются все книги, и ты станешь певцом и поэтом, более великим, чем я сам. А его песни больше не услышишь".
Светящиеся книги сомкнулись в хоровод и стали в пляске теснить меня со всех сторон, но безглазого не слепил их свет, и он вывел меня из крута. Оглянувшись, я увидел лишь разбросанные по поляне серые камни, служившие жертвенниками в те времена, когда добрый Белый Бог еще был нашим богом.
Я добрался до южной опушки леса, роса переливалась на солнце, в траве лежала Анна, грудь ее была белой, а девственное лоно покрыто нежным темным пушком. Нагой, как и она, я опустился рядом с ней на траву, на шее у нее было ожерелье из крашеных вишневых косточек, подаренное мной на пасху. Тело ее выгнулось подо мной и перекинуло светлый мостик от леса Бедных Душ к этой ночи, последней в моей жизни, когда прошлое проходит перед глазами. Острыми краями наручников я выцарапал на толстых дверных брусьях своей темницы три фразы:
"Всякое слово немо, если слышит только себя.
Всякий рай - ад, если не объемлет и землю.
Всякая вера пуста, если не ищет правды".
Прошлое ожило, стало настоящим и не хотело уходить в небытие, и завтра, когда палач сделает свое дело, прошлое не прервется на мне и не умрет, а будет жить и черпать силы в том осеннем и в том весеннем дне. Даже когда меня четвертуют и тело бросят на съеденье волкам, а голову приколотят гвоздями к тем самым воротам в городской стене, которые я собирался открыть братьям Яна Гуса, это прошлое не замкнется на замок.
Когда волки изорвали в клочья мое растерзанное тело, липа с могучим стволом и раскидистой кроной, росшая на холме висельников, вдруг расцвела, и кому был ведом час, тот мог увидеть висящего в ее ветвях мертвеца с вывалившимся изо рта синим языком.
Лицо, выбитое в камне стены над городскими воротами, - мое лицо, так значится в хронике Райсенбергов, об этом сообщают все путеводители по городу, умиленно и романтично или же сухо и враждебно; этому учат все школьные учебники, значит, так оно, вероятно, и есть. Но где говорится о безъязыких детях, о безглазых головах, о черной груди Анны в лесу Бедных Душ? И где сказано, чье лицо было у мертвеца, свисавшего с могучей липы на холме висельников?
Райсенберг велел записать в хронике, что и у того было мое лицо. И у каждого повешенного - а всех их повесили, конечно, за дело - было мое лицо. А у всех певцов и поэтов, сочинявших песни о соловье, - его лицо, лицо Райсенберга. Целая вереница моих предков, умерших насильственной смертью, - я знаю их всех поименно, так же, как он своих. У него есть хроника, а у меня сыновья.
Петер Сербин спросил: "И часто встречается в вашей хронике имя Сербин?"
Граф замялся, он изучал свою хронику совсем под другим углом зрения, поэтому ответил уклончиво: "Да нет, не очень. Правда, иногда упоминаются "люди на холме", может быть, имеются в виду Сербины".
"А что именно о них говорится?" - настаивал дружка.
"Всякое. - Граф вновь принялся пристально разглядывать свою сигару. - Вероятно, не стоит ворошить давно минувшее". Он хотел сказать: что прошло, то забыто и быльем поросло.
Но ведь на краю поля все еще стоит одичавшая яблоня, не приносящая плодов. А пруд с большим валуном в середине, не доходящим до поверхности на высоту человеческого роста, расположенный сразу за опушкой леса и носящий теперь имя Хандриаса, отнюдь не всегда так назывался. Не забыто и быльем не поросло.
Было объявлено, что война кончилась и заключен мир.
Наш господин и мой молочный брат Вольф Райсенберг вернулся домой. Рассказывали, что он убил на войне тысячу солдат Валленштейна, а потом, уже на стороне кайзера, еще тысячу шведов. Он привел с собой с войны десяток ландскнехтов для услужения и одну девицу для кухни и постели. Девица была очень молода и испорчена, как десять старых чертей. Мы отстроили разрушенный замок заново.
На третье лето я, Хандриас Сербин, пошел в замок, чтобы испросить разрешение на рубку деревьев для постройки дома: наш двор на холме у Саткулы уже больше десяти лет назад был превращен в пепелище. Все эти годы мы ютились в хижине на болоте за прудом, который в ту пору еще назывался "господским". У нас с женой было двое сыновей, родившихся на болоте и не знавших, что такое настоящий дом.
"Можешь взять себе десять деревьев на выбор, - сказал Райсенберг. - За это пришлешь ко мне в замок жену. Моя треклятая девка ходит брюхатая".
Я выбрал в лесу десять деревьев потверже и попрямее и. велел жене идти в замок.
Через четыре дня она наотрез отказалась туда идти и приспустила рубашку с плеч; я увидел синие пятна на ее груди.
"Слуги?" - спросил я, еще на что-то надеясь. "Он сам", - ответила она. Надежды не было.
"Не ходи, - сказал я. - Пускай и этот родится здесь, на болоте".
Она была беременна уже несколько месяцев.
Я заторопился в лес - первое дерево из моих десяти я еще раньше почти повалил и хотел теперь скорее покончить с ним, пусть себе лежит, а там видно будет.
Дерево рухнуло на землю, а я встретился глазами с графем.
"Сегодня я ввел новые наказания за воровство, - сказал он. - За срубленное дерево - голова с плеч".
В руке он держал рогатину, я - топор, он был один, и болото рядом - чем не могила.
"Не для меня твое болото, братец", - улыбнулся он, и улыбка его была как волчий оскал. Отскочив за ствол, он затрубил в охотничий рожок. В ответ из чащи донесся собачий лай, а где собаки, там и слуги.
Я бросился бежать и ступил на тропку в болоте раньше, чем они успели меня схватить.
Больше десяти лет болото укрывало нас, зимой и летом, и собаки еще пи разу не шли по нашему следу. Поравнявшись с хижиной, я услышал, что лай собак и крики слуг доносились уже с нашей тропинки.
"К камню, - крикнула мне жена, - скорее!"
Посреди господского пруда под водой лежал большой валун, не доходивший до поверхности почти на рост человека. Кому удавалось добраться до этого камня и выстоять на нем семью семь часов, освобождался от любого наказания, какой бы проступок он ни совершил. Считалось, что и сам камень, и этот неписаный старинный закон существуют столько же, сколько длится над нами власть Райсенбергов.
Я бросился в воду, поплыл и достиг камня как раз в ту минуту, когда собаки, слуги и сам Райсенберг появились на берегу.
"Он стоит на камне, господин, - сказала ему моя жена. - Ты чтишь старинный обычай?"
"Райсенберги обычаи вводят, Райсенберги их и чтут. Пошла прочь, женщина!" И он толкнул ее рогатиной в грудь.
Слугам он велел рассыпаться по берегу вокруг пруда.
А мне крикнул: "Погрейся у огонька, Сербин! Октябрьские ночи прохладные!"
Не надо было мне прибегать к спасительному камню. Каждый такой камень спасает от какой-нибудь одной беды. Один спасает только от волков, но ведь есть еще и медведи, а им дела нет до твоих прав, медведь сомнет тебя, вот и будет право соблюдено, а тебя не станет. Другой спасает от любой угрозы твою плоть, но в грудь к тебе вползает волчье сердце, ты и жив, и в то же время мертв. Не надо было мне прибегать к спасительному камню.
Наступила ночь - холодная, холоднее воды. Луна выплыла над прудом, а по берегам вокруг запылали теплые звезды - костры Райсенберга. Стужа пронизала меня насквозь. Когда лупа закатилась за лес, а сторожевые костры на берегу уже едва теплились, собаки вдруг подняли страшный лай. Слуги замахали факелами, Райсенберг что-то грозно прорычал. Но потом рассмеялся.
Пока он смеялся, я разглядел на воде какую-то тень.
Это был плотик из тростника, плывший ко мне. На берегу Райсенберг уже хрипел от смеха.
Вязанки тростника, приготовленные мной для крыши нового дома, мои сыновья, плывя, толкали перед собой. Сверху камыш был покрыт толстой медвежьей шкурой, а на шкуре стоял горшок с пшенной кашей.
Сыновья смеялись - медведя мне тоже не след бояться. На берегу Райсенберг хохотал: "Кто спасается на камне, не должен сходить с него семью семь часов".
Сторожевые костры вновь разгорелись. Еще до рассвета сыновья попытались выбраться на берег. Оба плавали, как рыба, и ныряли, как лысуха, но собаки Райсенберга были начеку.
Я завернул сыновей в медвежью шкуру и положил на две связки тростника, им было сухо. Остальные связки я подложил под себя на камень, так что мог сидеть, оставаясь по горло в воде, а казалось, что я по-прежнему стою.
Солнце взошло, и Райсенберг с берега крикнул: "Кто на тростнике лежит, тот закону не подлежит".
Грохнул мушкет, и пуля пропела над нашими головами.
"Это я пошутил, - крикнул Райсенберг. - Но теперь шутки в сторону".
Слуги загоготали, собаки залаяли.
Я крикнул: "Выхожу на берег!"
Райсенберг ответил: "Старинный закон есть закон. Кто до срока выходит на берег, попадает прямиком на виселицу".
Тут я понял, что медведь все же сомнет нас, меня и сыновей - одному было девять, другому восемь лет от роду.
И все же я решился на последнюю попытку - переборов себя, я завопил что было силы: "Мы с тобой молочные братья, господин..."
Сербин не сказал бы того, что сказал: "Когда пробьет ваш смертный час, господин граф, я и пятеро моих сыновей проводим вас в последний путь, так сказать, по-соседски".
Граф, растерянный и уязвленный, из вежливости побыл еще немного на свадьбе, потом пронес свою обиду через калитку в ограде парка и выложил ее перед богом в домашней церкви, моля его простить Петера Сербина. Молитва немного помогла, обида жгла уже не столь нестерпимо, боль улеглась. Но растерянность осталась: какая причина заставила Петера Сербина желать смерти ему, последнему из графского рода Райсенбергов? Конечно, все не без греха, но - господи, прости мне мою гордыню! - не знаю я за собой вины перед людьми. Он покопался в своей душе еще некоторое время и обнаружил в ней один-единственный тайный грех - зависть. Он завидовал тому, что у Петера Сербина пять сыновей. Вины его в том никакой не было, но граф, преисполнившись смирением, покаялся и покинул церковь с душой покойной и печальной, и, лишь спускаясь по крытому красным ковром переходу к библиотеке, он вдруг вспомнил, что не помолился за жену и дочь. Он не вернулся в церковь и впервые подумал с тоской, что уж если сухой воздух пустыни не поможет им, то его ничтожная молитва и подавно не вернет здоровья их больным легким.
В библиотеке на столе лежала раскрытая хроника, он немного полистал ее, это его и впрямь утешило: пустыня сделает свое дело, его собственный легкий кашель и вовсе не в счет - вот кучер Иоганн Ренч в свои семьдесят четыре года сделал второй жене двоих сыновей-близняшек, а мы ведь тоже как-никак не рыбьих кровей. На ум пришло одно место в хронике, которое он тут же нашел: графиня Леони, родившаяся в день битвы под Ваграмом, в мирное время пропала без вести восемнадцати лет от роду - вероятно, как сказано в хронике, утонула, катаясь на парусной лодке в устье Шельды. Граф усмехнулся: его дед предпочел лучше выдумать всю эту историю с лодкой, чем примириться с довольно разгульной жизнью дочери в буржуазном обществе города Бостона, ставшей, правда, впоследствии пуританской.
Граф знал историю своей тетки Леони, которая была на восемь лет старше его отца, лишь по язвительным намекам двоюродной бабушки Адели Хонсброк, в свои семьдесят лет еще самолично управлявшей табачными плантациями на Суматре и двумя сигарными фабриками в родной Голландии - причем вполне успешно - и называвшей всю свою родню "тупицами".
Она имела обыкновение говорить, что единственной нетупицей в роду Райсенбергов была ее кузина Леони, которую символически утопили в Шельде, только чтобы не благословить на брак с ее избранником - рыцарем первой ночи.
Этим "рыцарем первой ночи" был Христиан Сербин, поэт и студент-медик Лейпцигского университета, впоследствии ставший первым доктором на берегах Саткулы и не оставивший своих занятий поэзией.
Графу были известны лишь жалкие крохи из романтической истории этой пары: они полюбили друг друга, когда графине едва минуло семнадцать, а студенту двадцать один; летней ночью он проник к ней в спальню, осенью юбки графини спереди стали короче, и ее срочно отправили в Голландию к тетушке Генриетте. Пытались ли там и вправду заточить Леони в монастырь, как требовал того отец, или нет, неизвестно, но дело кончилось тем, что графиня предпочла взять курс на запад, за океан, что и осуществила с помощью кузины Адели и - как поговаривали - некоего купца из Амстердама, бравшего плату за свои услуги в такой форме, которая при сложившихся обстоятельствах уже не могла причинить заметного ущерба. Там она освободилась - как выразилась ее кузина Адель - сначала от восьмифунтового мальчугана, а позже от остатков райсенберговской тупости, так что по прошествии нескольких веселых лет вновь выплыла на поверхность в Бостоне не как падшая графская дочь, а как вдовствующая графиня Райсенберг, а затем путем выгодного замужества стала обладательницей незавидного муженька и завидного состояния.
До нынешнего дня граф лишь изредка и весьма неохотно вспоминал о событиях, приведших к изгнанию Леони из отчего дома, мысли его куда чаще занимал ее сын, а его кузен, о котором графу удалось лишь узнать, что в 1849 году тот был исключен из Йельского университета. Но теперь, под влиянием обиды, нанесенной графу Петером Сербином, история тетушки Леони и Христиана Сербина представилась ему как нельзя более подходящей для того, чтобы лечь в основу будущего романа, над которым он трудился столь долго и тщетно. Он закурил сигару и принялся обдумывать эту мысль.
Весьма вероятно, что граф не счел бы эту историю столь знаменательной, если бы знал, как сильно над ней потешались в свое время. И еще вероятнее, что он не стал бы всерьез размышлять над ее воплощением в книге, если бы ему было известно, что историю эту уже давно и неоднократно излагали, правда лишь в устной форме. При случае ее и теперь еще кое-кто рассказывает, к примеру, тот же Петер Сербин.
Юный Христиан Сербин с лицом нежным, как у девочки, лежал в траве у морового столба, пас овцу и гусей и напевал песенку. Христиан граф Вольф Райсенберг, романтик и демократ, совершая свою ежедневную прогулку, остановился и прислушался к его пению. Но поскольку песня, слов которой он не понимал, все лилась и лилась, он в конце концов тихонько кашлянул, подошел поближе и приветливо заговорил с мальчиком. То ли из-за того, что певец складывал свою песню явно на ходу - мальчик сказал, это не песня, а просто рассказ о моем прадеде Бастиане и генерале Лаудоне из Вены, - то ли из-за совпадения имен, то ли, наконец, потому, что графу пришло в голову записать за мальчиком и издать еще один сборник совершенно новых и необычных народных песен под названием Волшебный рог мальчика, а скорее всего, все вместе сыграло свою роль во внезапно принятом графом Христианом решении: взять юного Христиана Сербина под защиту и покровительство. Ему пришелся по нраву прямодушный и доверчивый мальчик, а кроме того, почудилось, что здесь в тиши зарождается, быть может, настоящий талант, и ему захотелось поддержать его и вывести на широкую дорогу.
В течение года Христиан Сербин брал уроки у графского капеллана, для чего регулярно четыре раза в неделю являлся в замок. В темном коридоре, что вел из вестибюля к комнатам священника, нередко пряталась маленькая Леони - кареглазая и темноволосая дочь графа, озорная и проказливая, как двое мальчишек, - поджидая его, чтобы напугать. Если затея удавалась, она приходила в бурный восторг, если же Христиан не пугался, она злилась и осыпала его оскорблениями. Однажды она прямо во время урока принесла ему чашку шоколада, в который подмешала соли. Капеллан, большой охотник до сладкого, отобрал шоколад, и маленькой графине пришлось в наказание за соль целую неделю пить молоко без сахара. Со злости она зашвырнула деревянные башмаки мальчика в глубокий колодец.
Через год благодаря ходатайству графа Христиан получил епископскую стипендию в семинарии города Бауцена, а кроме того, граф сам награждал его за каждую хорошую оценку серебряным талером. Христиан Сербин прилежно учился и частенько голодал, а к тому времени, когда он из семинариста превратился в студента, озорная дочка графа стала красивой и благовоспитанной девицей.
Всякий раз, как студент приезжал на каникулы в родные места, он почти ежедневно встречал ее где-нибудь: то в графской библиотеке, где ему разрешалось работать в любое время; то в лесу, где он рубил дрова на зиму для родителей; то на какой-нибудь тропинке вблизи холма, где молодая графиня имела обыкновение любоваться открывавшимся видом. Порой она сидела у древнего морового столба и рисовала с натуры или же стояла с этюдником у пруда Хандриаса, где Христиан любил купаться. Она была с ним то мила и приветлива, то надменна и высокомерна.
В тот год, когда ей исполнилось шестнадцать, она сменила карандаш и кисти на перевитую яркими лентами лютню; перебирая пальцами струны, она наигрывала грустные мелодии и пела; голос у нее был низкий и звучный. Частенько она приглашала протеже своего отца покачаться на качелях в парке, а бывало, что и увязывалась за ним ловить раков в Саткуле. Как-то раз она призналась, что ей скучно без него: соседи помещики грубы и необразованны, а братья еще очень малы.
Христиан Сербин изо всех сил старался быть с ней сдержанно вежливым, но она была не слепая и ясно видела - за ловлей раков или на качелях в парке, - как темнели его глаза, а голос срывался и слабел. Ей это нравилось, и она раздувала тлеющие угли чтобы поджаривать его на медленном огне, не замечая, что искры, разлетаясь, опалили и ее нежную девичью душу. Теперь она чаще скакала бешеным галопом по лесным дорогам и чаще забивалась со своей лютней куда-нибудь в укромный уголок, где плакала от необъяснимой тоски.
Когда Христиан Сербин вновь отправился в Лейпциг, наступила осень, за осенью пришла зима, потянулись нескончаемые серые, пасмурные дни, и весна тоже никак не кончалась и была до краев заполнена тревожным ожиданием.
А летом, как-то ранним утром, когда его родители, как ей было известно, убирали в поле рожь, а он приехал накануне и еще не выходил из дому - известно ей было и то, что он каждое утро умывался холодной водой из колодца прямо под навесом во дворе, - она по лесной дороге подъехала к холму, привязала лошадь к одичавшей яблоне и села под липой. Она слышала, как распахнулась дверь дома, как он сказал что-то кошке, как заскрипела рукоятка насоса, как струя воды ударила по дну ведра, а чуть повернув голову, увидела и его самого: он стоял под навесом, сильный, с крепкими ногами и волосатой грудью, обернув полотенце вокруг бедер.
Он заметил ее, только когда выплескивал воду на траву за воротами. Немного погодя он подошел к ней и поздоровался, она ответила - почему-то очень сухо - и не взглянула в его сторону. Голос ее дрожал, когда она стала довольно сбивчиво объяснять, что только теперь обнаружила это местечко, самое живописное во всей округе. Послезавтра у нее день рождения, она попросит отца купить и подарить ей все это - и она обвела рукой вокруг.
Христиан Сербин возразил, вежливо улыбаясь, что все это - он повторил ее жест - не продается. Он видел, что она стала еще краше, плечи ее округлились, а грудь налилась, и она - как будто нарочно, чтобы все это ему показать, - низко наклонилась, завязывая шнурок на ботинке.
Он присел на корточки, чтобы ей помочь, она отстранилась, выставив ножку, и шепнула, чтобы в день ее рождения он пришел в замок, когда гости разойдутся, и - тут она чуть помедлила - продал ей этот холмик.
В день своего рождения графиня Леони Райсенберг поздно вечером сидела за секретером в новом сиреневом пеньюаре, накинув на плечи лисье боа, и записывала в дневник полученные в этот день подарки: кобыла-четырехлетка, серая в яблоках, которую она облюбовала еще в прошлом году; пеньюар, весь в рюшах и воланах; три романа сэра Вальтера Скотта, иллюстрированные гравюрами на меди, вызвавшими ее особое восхищение. Чем длиннее становился список и чем незначительнее перечисляемые в нем предметы, тем яснее ощущала она, насколько лишено смысла то, чем она занималась, насколько по-настоящему важно лишь одно: Христиан Сербин не пришел.
Она зажгла все свечи, какие смогла найти, и разделась, а потом принялась пристально разглядывать свое отражение в полированной дверце шкафа вишневого дерева и даже нахмурилась, силясь смотреть на себя придирчиво, как бы глазами мужчины. Она пришла к выводу, что тело ее прекрасно: плоский упругий живот, округлая линия бедер, плавной дугой спускающаяся вниз к ногам. Она нежно провела ладонями по шелковистой коже там, где ноги, бедра и живот переходят друг в друга, и улыбнулась своим мыслям. Она знала, что на самом-то деле хочет завладеть Христианом Сербином, но, раз это оказалось за границами возможного, ей загорелось взамен получить тот холмик, что с незапамятных времен принадлежал его семье. Усадьбу надо будет снести и на ее месте построить дом - маленький уютный замок, приют счастья и любви, шептала она своему отражению в дверце.
В эту минуту из глубокой ниши между шкафом и камином вышел - одни говорят: Христиан Сербин, другие: Крабат; испугавшись, графиня хотела было закричать, но он уже зажал ей рот рукой.
"Не надо, Леони! - прошептал он очень нежно и вместе с тем насмешливо. - Кто поверит, что я здесь без приглашения?"
Она укусила его в руку.
"Подлец!" - прошипела она злобно, но тихо.
Она отбивалась, когда он попытался ее обнять, и кончила отбиваться, как только он разъяснил, что на шум и возню наверняка прибежит матушка. Он отнес Леони на кровать, но она плотно завернулась в одеяло и разразилась потоком ругательств, среди которых попадались и довольно замысловатые. Но даже ругательства, когда их произносят шепотом, звучат безобидно, а если к тому же еще и свечи погашены - кроме одной свечи на каминной доске, - то, вероятно, даже нежно. Да и пугать всеми карами, которые граф-отец обрушит на голову наглеца, тут уж, пожалуй, поздновато, и, даже если угрозы эти произносятся всерьез, в них не верит ни он, ни она. Может, в них и поверят, но потом, не теперь, когда он лежит с ней в постели и шепчет что-то о холмиках, то об одном, то о другом, и она уже чувствует, что слабеет от этого хриплого и напористого шепота, придвинувшегося вплотную к ее лицу.
В тоне Леони уже не угроза, а мольба, когда она силится прикрыть руками грудь, не подозревая, что он имеет в виду совсем другой холмик, а когда это выясняется, ей уже не хватает рук, чтобы прикрыть все, и нет возможности просить о чем-либо, потому что его губы плотно запечатали ее рот.
Не плачет она и потом, лишь дивится, познавая, в чем различие между мужчиной и женщиной, и, поелику свеча на камине погасла, а рукам уже нет надобности что-либо прикрывать, она использует их в процессе познания с таким увлечением, что в конце концов никак не может взять в толк, как это там, в полях, уже звенит жаворонок, когда здесь, в ее покоях, все еще поет соловей.
Никем не замеченный, Христиан Сербин выбрался из замка, а назавтра отправился с двумя приятелями в Прагу, Он больше никогда не видел Леони Райсенберг, горевавшую по нем не только и не столько из-за утерянной с его помощью девственности.
После его смерти у него нашли два любовных стихотворения, посвященных той ночи или, вернее, девице Леони в ту ночь.
Еще одно стихотворение, написанное по пути в Прагу, называлось "Безумная ночь" - явный намек на "Безумный день" Бомарше, - гордое торжество строптивца, возглашающего от имени хижин войну дворцам.
Граф Франц Амадей ровно ничего не знал о существовании этих стихотворений, но весьма вероятно, что они скорее укрепили бы, чем поколебали его намерение сделать Леони Райсенберг и Христиана Сербина счастливыми героями своего романа. Ему казалось, что эта пара как нельзя более подходит для того, чтобы навеки покончить со старинной враждой и междоусобицей их семей - так он это называл, - посеять любовь там, где веками произрастала лишь ненависть, и вытеснить счастьем и согласием всякое воспоминание о былых обидах. Такая задача трудновата даже для романа. Однако после долгих раздумий граф нашел наконец спасительное решение: в лунную ночь Христиан Сербин откопает из-под корней старой липы, растущей на его холме, древнюю серебряную корону, которая некогда украшала чело короля Милидуха, а теперь по старинному праву достанется Христиану, и это сделает его достойным руки Леони Райсенберг и счастья.
Если обстоятельства мешают счастью людей, люди должны искать его вне этих обстоятельств, записал граф в свою рабочую тетрадь, и эта мысль показалась ему настолько глубокой, что он решил начать роман этой фразой.
Роман вышел в свет и до слез растрогал многих читателей, живущих далеко от Саткулы, даже кайзер Вильгельм ознакомился с книгой и одобрительно о ней отозвался, однако ни умильные восторги читателей, ни высочайшее одобрение не спасли сиятельного автора от печальной участи, и он в первый же год своей писательской славы последовал за супругой в фамильный склеп серого мрамора.
Восемнадцатилетняя графиня Моника, превосходившая красотой всех женщин в роду Райсенбергов, одиноко стояла у могилы, поглотившей ее отца, последнего графа Вольфа Райсенберга. Она видела, как дружка Петер Сербин и пятеро его сыновей повернулись и пошли прочь от ямы, не поклонившись и не бросив в знак сочувствия пригоршню земли на гроб покойного. Они на своих плечах принесли тело к могиле, а опустив гроб в яму, отошли в сторону и скинули парадные черные сюртуки. Под черным сукном на них оказались сильно накрахмаленные синие фартуки, у которых левый утолок был заткнут за пояс, а из-за па-грудника торчал большой пестрый платок: ни дать пи взять отцы семейства, гуляющие на свадьбе или веселой ярмарке.
Петер Сербин повел сыновей в трактир, где все было уже готово для пира: хозяин, пиво, шнапс, сало и хлеб, а на лавке сидел мельник Кушк со своей трубой. Трактирщик налил всем по рюмочке - как раз довольно, чтобы помянуть графа, сказал Петер Сербин и попросил мельника обойти с трубой деревню из конца в конец и созвать всех в трактир.
Собрались жители из семи деревень, что в долине Саткулы, дабы отпраздновать победу над последним Вольфом Райсенбергом и над тридцатью, что ему предшествовали. В этот день Петер Сербин и впрямь был королем, а мельник Кушк его герольдом, трактир был битком набит, и полы трещали от веселой пляски, но вместо победного гимна мельник Кушк тут же сочинил простую, бесхитростную балладу об одном из Райсенбергов, направившем ручей на пшеничное поле Сербинов, и об одном из Сербинов, вместе с сыновьями вернувшем ночью ручей в его прежнее русло.
Когда сто глоток грянули гимн, Петеру Сербину показалось этого мало - не так звонко, да не так громко; он вскочил с места и загорланил во всю мочь на мотив старинного и страстного пасхального хорала: "Пятеро сыновей у меня, а последний граф в могиле, аллилуйя!"
Мельник Кушк подыграл ему на трубе, и в тесном трактире мужской хор в сто глоток рявкнул "Аллилуйя!", да с такой силой, что у восемнадцатилетней дочки кантора, жившего по соседству, случились преждевременные роды, в остальном обусловленные вполне естественным ходом вещей.
Пирующие и не думали считаться ни с внуком кантора, ни с самим кантором, которые надрывались изо всех сил, но так и не сумели переорать громовое "Аллилуйя!", сотрясавшее трактир. Кантор проклинал свою дочь, а Петер Сербин праздновал победу над Райсенбергом - свою и своих сыновей.
Заслышав торжествующие клики, доносившиеся из трактира, графиня укрылась в церкви и принялась молиться. Она не просила господа: прости их, ибо они не ведают, что творят; она молила: прости нам грехи наши. Месяц спустя, достигнув совершеннолетия, она послала за нотариусом и завещала деревне замок Райсенберг вкупе со всем достоянием "на пользу бедным и больным и на их благо".
В тот же день она велела запрячь шесть пар волов и вытащить на берег огромный валун, с незапамятных времен лежавший на дне пруда Хандриаса, распорядилась вытесать из него огромную плиту и прикрыть ею семейный склеп Райсенбергов вместе со старой плитой. На новой она приказала выбить лишь одно слово: Misericordia (Милосердие, жалость (лат.)).
Кто должен сжалиться и над кем, спросил Петер Сербин мельника Кушка, когда два года спустя молодая графиня скончалась в монастыре от недуга, который, как она думала, ей уже больше не угрожал; примерно в это же время двое сыновей Петера Сербина сложили головы: один на Марне, другой в болотах Восточной Пруссии, - хотя никого из Райсенбергов уже не было в живых.
Мельник Кушк не знал, что ответить, не нашлось ответа и в его Книге о Человеке, и он сказал, что при сотворении мира, видимо, была допущена ошибка, кабы не она, нам не пришлось бы жалеть самих себя. Петер Сербин публично заявил, что был неправ: Вольф Райсенберг не в могиле, он жив и по-прежнему несет и будет нести смерть, пока его самого не убьют. За это Сербин заработал два года тюрьмы, но новоявленная республика отменила приговор, а в конце его долгой жизни та же республика под конец своей короткой жизни даже не пожалела средств на почетный эскорт из семидесяти полицейских - вероятно, с целью иметь надежных свидетелей того, что знаменитый распорядитель свадеб и хитроумный защитник саткуловцев Петер Сербин действительно покоится на глубине двух метров под землей. Мельник Кушк на этих похоронах играл на трубе свадебную песнь, а когда вернулся домой, на траве под липой, венчающей холм, сидел Крабат и смотрел, как его друг трубач подходит все ближе и ближе по проселочной дороге. Перед моровым столбом, на земле Сербинов мельник остановился и протрубил серенаду неизвестно кому - может, тем, чьи имена высечены на цоколе, а может, и четырем символам надежды, запечатленным в камне: вечному возрождению человека, конечной победе над драконом, торжеству терпения над насилием и воцарению на земле триединства - дела, надежды, познания.
Так можно было предположить, и Крабат, вероятно, так и подумал, но на самом деле мельник Кушк трубил свою серенаду в честь Святого Георгия и его коня, и если приглядеться внимательней, то можно было увидеть, что у коня было человечье лицо, причем не чье-нибудь, а именно трубача, Святой Георгий был как две капли воды похож на Крабата, а уж в драконе любой с первого взгляда узнал бы Райсенберга.
Любой, только не Райсенберг. Он даже не заметил, что моровой столб был поставлен на полдороге между замком и холмом Сербинов, он просто приказал привести к нему мельника Кушка и велел тому высечь его статую из глыбы песчаника. Мельник отказался, поскольку умел-де изображать лишь святых и чудищ, но святыми становятся только после смерти, а чудищем никому быть не охота.
Если он не хочет уже завтра оказаться в сонме святых, ему придется поскорее одуматься, заявил граф Дитрих Вольф Райсенберг.
Якуб Кушк испросил время на обдумывание, побежал назад к моровому столбу, сел на траву - справа замок Райсенберга, слева старая липа, перед глазами Саткула, - взял в руки трубу и заиграл; чужаку ни за что бы не попять, что хотел он сказать этой мелодией, но Крабат, сидевший под липой, сразу понял, поднялся с земли и пошел к нему - всего четыре сотни шагов, много это или мало, зависит от того, как относишься к Злу и знаешь ли, что у него четыре лика и семь рук-щупалец.
Но мельник уже ушел - только что или пятьсот лет назад, какая разница? Что значат пятьсот лет, если чумные бубоны все еще множатся в арсеналах - пусть иначе, чем раньше, но в чем-то и очень похоже, а давние надежды так и остаются надеждами, - итак, мельник отправился к Райсенбергу. "Я передумал, господин, - сказал оп, - если считать тебя чудовищно святым, то я, может, и справлюсь".
Райсенберг согласился, и мельник Кушк принялся за дело, чтобы превратить глыбу песчаника, валявшуюся в саду замка, в лик Святого Чудища. Два года сряду трудился он, вырубая нимб, - трещина в камне впоследствии придала ему форму петли на шее висельника. Три года ушло на меч справа под нимбом, пять лет на то, чтобы высечь в камне языки пламени с левого края. Вдвое больше времени понадобилось на фигуру человека в центре; за это время граф Дитрих Вольф Райсенберг успел почить с миром, и Железный Человек между огнем и мечом так и остался без головы. Правда, один раз в году, в день Святого Героса, Святое Чудище обретает голову. Одни не желают этого замечать, другие боготворят его, третьи проклинают. Живая голова сидит на каменной шее. Но говорят, что когда-нибудь Крабат снесет эту голову с плеч.
Мельник Кушк доиграл свою серенаду, подошел к Крабату и сел рядом, плечо к плечу. У Крабата в мисочке еще оставалось немного вишен, и они стали есть их, не говоря ни слова и выплевывая косточки в сторону колодца. Никому не ведомо, о чем они оба думали в эти минуты, но кое-кто утверждает: думали они о жизни и смерти. Оно, может, и верно, да уж больно расплывчато. Вернее - и всего вероятнее, - что думали они над вопросом, который дружка Петер Сербин унес с собой в могилу, но который тем не менее не похоронен с ним. Думали они думали, да так ничего и не придумали, и мельник Кушк опять принялся листать свою Книгу о Человеке, хоть в ней и было написано, что Страна Без Страха находится там, где нет Райсенберга, но как узнать, где его нет и кто он теперь, после того как выяснилось, что под могильной плитой с надписью "Misericordia" покоится лишь его имя?
Когда Хандриас Сербин со своей семьей вернулся с похорон отца, его сын Ян побежал к старой липе: ему почудилось, будто дедушка сидит под деревом. Он убедился, что там никого нет, но Крабат, посмотрев на мальчика, сказал: надо искать, покуда земля круглая и покуда еще есть время. При этом он легонько коснулся одной рукой плеча мельника, другой - плеча мальчика.
Потом Крабат взял из рук друга-мельника Книгу о Человеке и записал в ней - почерком деда - несколько слов, сказав: пусть внук допишет, что следует дописать.
Ян, внук Петера Сербина, собрал в пригоршню последние вишни из мисочки деда и стал их есть, выплевывая косточки в сторону колодца. Один раз доплюнул до него, встал и измерил шагами расстояние. Так далеко у него еще никогда не получалось. Он сходил за гвоздем и выцарапал дату на каменной кладке колодца.
На закате вокруг солнца появился желтый венец. Перед вспышкой чумы вокруг заходящего солнца всегда появляется желтый венец.
Глава 4
Профессор Ян Сербин, биолог и химик, почетный доктор многих университетов, ступил на трап, поданный к самолету, и, спускаясь по нему к группе встречающих его представителей города, университета и Комитета по Нобелевским премиям, вдруг остановился на последней ступеньке и с застывшей улыбкой на лице обернулся, чтобы, взглянуть на самого себя, еще сидящего в самолете: заметная сутулость, горькие складки в углах узкого, как щель, рта, тусклые серые глаза, на вид не совсем здоровый человек - вероятно, язва желудка или болезнь почек, а мажет, и не в здоровье дело; просто человек только что осознал, что жизнь его, как ни верти, не удалась. Пятидесятилетний мужчина, затративший много усилий и не дождавшийся их плодов.
По дороге с аэродрома в отель он еще раза два-три оборачивался и всякий раз видел себя на углу улицы терпеливо ожидающим зеленого светофора: зеленый свет открывает путь, и я иду, я применяю свои знания - на пользу себе или во вред, выяснится позже, когда дело будет сделано.
Та ночь, та бесконечно долгая короткая ночь. Свободные и раскованные картинки прошлого - обрывочные, сумбурные, едва различимые, навевающие мысли о самом разном, без всякого порядка и препон. Старая яблоня на краю, прилегающего к дому поля, обреченная на бесплодие, Моровой столб на поле, жук с красными крапинками на спинке, карабкающийся вверх и вновь сползающий по гладко отполированному временем камню, вверх-вниз, вверх-вниз. Один из рода Сербинов, Венцель Сербин, укладывает плоский камень - порог дома, 1385 год.
Невысыхающая кровь на кладбище. Пер-Лашез. Окаменевшая девушка на коленях прикрыла руками лицо, это в Помпее. Антон Донат, просунувший ногу в дверную щель, знать можно только то, что положено. Мы в последний раз печем хлеб в своей печи. Война кончилась, и я думал: люди победили раз и навсегда.
На исходе той ночи не было ни колокольного звона, ни пения ангелов, - но передо мной на столе лежал листок с формулой, моей формулой. Не философский камень, а всего лишь разгадка химического процесса, но что тобой познано, то тебе и подвластно. Я возношу человека на предельную высоту, и Лоренцо Чебалло уже не страшен, в моей власти очеловечить его, прежде чем он превратит всех нас в смирных и счастливых идиотов-роботов. Я проверяю свою способность к преображению людей, применяя свою формулу к себе самому, проникая в реальность Крабата, овладевая ею, оставляя себя в прежней реальности и превращаясь в Крабата со спасительным чудо-посохом в руке; формула дает мне для этого силу, а мои представления о нем - форму.
В отеле он первым делом стал под душ и взглянул на себя в зеркало: никак не больше сорока, крепкий жизнерадостный мужчина с серо-голубыми живыми глазами, волевой линией рта и открытым высоким лбом. Он наслаждался, стоя под ледяными струями и ощущая всей кожей приятное покалывание, он даже застонал от удовольствия и с наслаждением растерся жестким цветастым полотенцем. Вдруг он замер в тревоге, волнении, испуге, хотя знал, что сейчас в нем, уже не во внешности, а внутри, происходит по его собственной воле им же самим запрограммированный процесс перехода из одного "Я" в другое, процесс превращения его, Яна Сербина, в его второе "Я", в Крабата. У него появилось жуткое ощущение, будто его мозг отделился от него и уплыл в некую беспредельность, слегка покачиваясь, словно влекомый покатой волной. Но потом вдруг вновь вернулся, как маятник, подвешенный в какой-то точке вне его самого, без видимого смысла и толка, выхватывая на лету разные предметы. Но и маятника на самом-то деле не существовало, это была лишь игра, правда несколько абсурдная, но игра, а вот два его мозга действительно существовали, они наблюдали друг за другом и гнались друг за другом в бешеном круговороте, сменяясь и меняясь исходными точками, я-ты-он-она-оно сломя голову мчались по автостраде вперед. А может, назад? Стрелка компаса лопнула, как стальная рессора от перегрузки. - Да ведь никакой автострады и не было, Она еще только строилась. Он шел, нет, это я шел, шел пешком, - утро, длинные косые тени, пять дубов, стоящих особняком, у одного из них ствол расщеплен молнией, тут же рядом небеленые лачуги местных крестьян, вдали господский дом - по-прусски уродливое строение семидесятых годов. А потом - песчаный карьер. Наверху, у его краев, пятнистые доги и черные карабины, кажущиеся такими мирными и даже сонными в лучах раннего солнца. Кто-то играет на губной гармошке. По дну карьера суетливо, как муравьи, ползают с лопатами и тачками те, другие, полосатые и нумерованные, в деревянных башмаках, и насыпают полотно для автострады. Я с девушкой. У нее были каштановые косы, и она не смотрела в ту сторону. Я держал ее за руку и смотрел. Я видел сторожевую собаку на поводке и слышал игру на губной гармошке. Мы прошли мимо, по краю блеклого ржаного поля, сверкающего каплями росы, у девушки тоже оказалась с собой губная гармошка; она достала ее из сумки и заиграла, я не умею так, как он, сказала она, и мне на миг показалось, 'что все люди делятся на муравьев с лопатами и тачками и музыкантов-любителей с собаками и карабинами. В этом я целиком согласен с Линдоном Хоулингом, которого мучает совесть из-за участия в создании бомбы: мир без собак и карабинов! Мы с ним зрители на параде военных министров, у каждого из них, как у Катона в Карфагене - или его звали Сципион? - под туникой война. Теперь у них вместо туники адъютант с черной папкой, собаки виляют обрубками хвостов и восторженно тявкают, приветствуя хозяев мира. "Взгляни только на их рожи, - сказал Хоулинг. - Как только я буду в состоянии это сделать, я первым делом - прежде чем лечить какого-нибудь горемыку - выкраду из их мозга тягу к власти".
А девушке я сказал, что пойду на биологический факультет. Мария рассмеялась: "Считать лепестки и открывать неизвестную бабочку? Это не для тебя".
Я сорвал стебелек ржи и сказал: "Тут целый химический комбинат, и в тех дубах, мимо которых мы прошли, тоже. Почему не предположить это же и о людях с собаками на поводке, охраняющих карьер?" "А как же я?" - спросила она. То ржаное поле кончилось, другое началось, межа между ними - глубокое теплое ущелье, взлетающая ввысь гондола огромного, до неба, голубого колеса, ощущение чужого тела под моей сразу взмокшей рукой, необозримая даль, посреди которой раздвоившийся "Я" - и едва заметная точка, и ее наблюдатель.
Моя рука знает свое дело - откуда, собственно? - а глаз у меня две пары, одна закрыта и вслепую пробирается сквозь свой первый раз, вторая открыта и видит, как тот охранник с гармошкой оскалил свои собачьи клыки - один из нумерованных потерял деревянный башмак, и я говорю себе - не тогда, в ущелье, а много позже, - что собачью натуру надо хирургически удалять из человека, как опухоль.
Мария, нежная, мечтательная Мария, смотрит не на меня, она смотрит на Лоренцо Чебалло, сидящего в тени, отбрасываемой зеркалом, - грубо скроенное, почти квадратное крестьянское лицо, крутой и холодный, как ледяная глыба, лоб, он улыбается - это видно только тому, кто его знает. Мне видно, и я его боюсь. Вернее, я ненавижу его за то, что боюсь. Его улыбка предназначается, вероятно, Марии, глаза у нее все еще такие, какие были до первого раза. "Таких, как она, миллионы, - говорит Чебалло, - разобрать ее на части и вновь собрать мне легче, чем дешевый будильник-штамповку".
Вероятно, его улыбка относится и к Хоулингу, пригласившему нас, своих коллег, сюда, чтобы за круглым столом обменяться мыслями о моральных и этических аспектах наших исследований и выяснить, насколько соответствуют истине слова, сказанные одним из нас: каждый следующий шаг в этом направлении приближает человечество к той черте, за которой начинается крутой спуск в преисподнюю. Он закрыл свой институт, потому что не хочет участвовать в этом. На призыв последовать его примеру мы пожимаем плечами: разве это выход?
Может статься, что Чебалло усмехается и в мой адрес, ибо я по-прежнему стою на своем и считаю, что в человеке сохранилось слишком многое от стадии недочеловека - мысленно я все еще называю весь этот комплекс свойств "собачьей натурой" - и что целью наших исследований должно быть освобождение его от этой двойственности и превращение человека-зверя в истинного Человека. Господи, спаси нас.
"Спасение человека, - говорит Чебалло, а в это время в тумане за окнами Большой Бен отбивает очередной час, со скрежетом разводится Тауэровский мост, и Мария, смиренно сложив руки на коленях, ждет своего благовещения, - произойдет в тот момент, когда то, что принято называть его сущностью, станет управляемым, как детская заводная игрушка, то есть когда появится возможность сделать человека счастливым. Но счастье состоит из двух компонентов, внутреннего и внешнего. Внутренний означает довольство. Внешний же заключается в устранении конфликта между человеком и средой. Поскольку историей доказана невозможность существования человека вне конфликта со средой, осознание конфликтности придется изъять из человека. И такая возможность уже намечается".
Буря негодования гонит Чебалло прочь из зеркала, на его месте возникает Линдон Хоулинг, всегда самый веселый из нас; но сейчас ему не до веселья - он даже побагровел от ярости...
"Вместо того чтобы сделать мир вещей достойным человека, вы хотите человека сделать вещью! Превратить его просто в форму проявления научной формулы! Это означало бы его самоуничтожение и свело бы тысячелетия, его истории к какому-то паноптикуму абсурда, а сумму человеческих устремлений - к интегралу сплошной бессмыслицы.
Если бы наша наука, господин Чебалло, в конечном счете неизбежно вела к обрисованной вами цели, нам стоило бы уничтожить собственный мозг, чтобы спасти человечество от нас самих!"
Линдон Хоулинг тоже удаляется в глубь зеркала и, энергично вышагивая на своих ходулях, приближается к краю бесконечной плоскости, становится все меньше, и меньше, спотыкается о волосок на коже Марии и проваливается в одну из пор...
Я все еще околдован ее телом, и у меня все еще две пары глаз: одна видит ее грудь, знает, что ее отец дежурит ночью внизу в аптеке, мать уехала куда-то на воды лечиться, а служанки нет дома; вторая видит чистоту и целомудрие ее девичьей комнатки, где все сверкает белизной, а на стене над кроватью висит кирпичного цвета маска. "Незнакомка с берегов Сены" - эту книгу, я читал, мне подарила ее Мария. Этакий словесный клейстер для души, заваренный на сахарном сиропе чувств. "Не хочу, чтобы она на нас смотрела", - говорю я и поворачиваю маску, лицом к стене.
Но эта маска уже часть Марии, ибо Чебалло врастил в ее мозг устройство, улавливающее импульсы, посылаемые Чебалло, теперь они управляют Марией, она сидит на кровати с побелевшим от обиды лицом, потому что я задел это устройство. Она жаждет телесной близости, а я испытываю такую телесную боль, как будто с меня содрали кожу, ибо жажду совсем иного.
Боль есть боль, а мне всего девятнадцать, и я еще не научился ее скрывать. "Разве на ней свет клином сошелся, - говорит отец, - чем она лучше других?"
Она ничем не лучше других, и нет в ней ничего особенного: не у нее одной толстая каштановая коса свисает справа на грудь, не у нее одной наивные детские глаза, ничего особенного, - кроме того, что она была у меня первой и что я хочу ее изменить по избранному мной образцу.
В мечтах я никогда не представлял себя ни Зигфридом, ясноликим героем в белоснежных одеждах, ни Хагеном фон Тронье, черным злодеем с мечом в руках; однажды в Брюсселе - я был там с Линдоном Хоулингом - я вновь представил себя Крабатом с чудо-посохом в руке и решил воспользоваться его волшебной силой: вот генерал одевается или, вернее, его одевают, ведь генеральский адъютант наверняка всегда стоит наготове, чтобы в любую минуту натянуть на генеральский зад генеральские штаны. Итак, по порядку: генеральские штаны, генеральский мундир, генеральскую фуражку - вот Ахилл и готов, можно подступать к стенам Трои с победными кликами и триумфальными знаменами - "В моем сердце нет места жалости", - последний взгляд в зеркало, все ли в порядке; но тут вступает в силу мое волшебство и срывает с генерала все генеральское, он остается в одних кальсонах - потешных мешковатых подштанниках, завязанных у щиколоток тесемками, - и в грубой нательной рубахе - ни дать ни взять маленький человек с улицы или конторский служащий, куда подевались блеск и слава.
Генерал вынужден достать из кладовки пропахший нафталином коричневый или голубой мундир, он хмуро смотрится в зеркало - от Ахилла не осталось и следа; я не могу удержаться от смеха, Линдон Хоулинг тоже покатывается; у нас на душе так хорошо, будто мы с ним навсегда покончили с войнами.
Мы ненавидим войну, потому что ее успехи исчисляются убитыми на полях сражений, разрушенными городами и голыми пустошами на месте тучных нив; это победа зверя над человеком; ничего удивительного, что нам не нравится и ее реквизит, говорит Хоулинг. Ничего удивительного, подхватываю я, что мы стремимся сделать неактуальным древнее изречение Si vis pacem, para bellum (Хочешь мира, готовься к войне (лат.)), но оно для нас актуальнее, чем было две тысячи лет назад, поэтому-то я и вгрызаюсь в свою работу, чтобы найти ключ к решению, то есть к спасению. Этот ключ не в забавном фокусе с раздеванием Ахилла до кальсон, здесь не помогут ни волшебство, ни молитва, ни заповедь "Не убий", ни благие намерения, ни благонамеренные заклинанья, поможет лишь надежная и ясная химическая формула: она превратит человека в истинного Человека, homo sapiens humanusque (Человек разумный и человечный (лат.)), искоренит в нем саму идею организованного человекоубийства.
Нет, я никогда не мнил себя героем с мечом, а всегда лишь тем, кто выбивает меч из рук, поднявших его, и, когда я стремился изменить Марию, я рвался вовсе не к коровьему счастью - мирно пощипывать сочную травку, потом долго и жалобно мычать по теленочку, уведенному из стойла на убой, чтобы вскоре завести еще одного и вновь жалобно мычать, а в конце концов смириться и покориться высшей воле - таков, мол, порядок вещей.
Мы тащились по раскаленной, выжженной солнцем степи, полмиллиона обыкновенных усталых людей, охотящихся на других людей, и я уже представлял себе множество трупов, занесенных в степи метелью. Я и призывал мысленно эту метель, и холодел от панического ужаса - не перед самой смертью, а перед бесследностью жизни. Будущим летом кучка выбеленных солнцем костей в жухлой степной траве, фотография на комоде матери, с каждым годом все больше теряющая связь с реальностью, - расплывчатое, постепенно тускнеющее воспоминание.
Почему я не сделал ребенка какой-нибудь девушке, все равно какой, когда для этого еще было время...
Прямо на марше меня вдруг выхватили и отправили с востока на запад; по дороге я отлучился на один день, чтобы разыскать Марию, несостоявшуюся наследницу, работавшую где-то ученицей аптекаря. Озлобленный и хмурый горбун, новый владелец аптеки, сжалился надо мной и названивал по телефону, пока ее не нашел.
Мария в белом халате стояла за прилавком и, увидев меня, вся залилась краской, лишь на скулах остались светлые пятна. У нее был ключ от садового домика, домик находился недалеко от памятника Великой Битве, туда можно было отправиться только с наступлением темноты, из-за соседей. В ожидании вечера мы уселись на ступенях перед памятником, за нами - каменная громадина, воздвигнутая во славу войн и подавляющая своим безвкусным и лживым пафосом.
Прошел год после торжественного открытия этого памятника павшим под Лангемарком, моим сверстникам, студентам, как и я. "Цвет немецкой молодежи погиб под Лангемарком", учили мы в школе, и никто никогда не подсчитывал, сколько убитых на совести у этого памятника, - у этого и у других, ему подобных. "Биология - наука о жизни, - сказал я, - когда война кончится, я ничего не буду знать о жизни. Только о смерти".
"Не думай об этом, - сказала она. - Тебе повезет, ты вернешься, я уверена. - Она взяла мою руку и положила на свой живот. - Может, у нас тогда уже будет ребенок. А когда ты получишь ученую степень, мы обзаведемся еще пятью. Вместе со мной у тебя будет семь жизней - семь раз биология! - а войну ты забудешь. Забудь о ней и теперь",
Я уставился на нее; мельник Кушк был прав, записав в своей Книге: человек устроен неправильно. И на ступенях памятника в честь битвы, где сто восемьдесят семь тысяч матерей потеряли своих сыновей, я дал себе клятву - не из-за этой битвы и не из-за войны, из которой я только что вырвался и в которую опять возвращаюсь, а из-за Марии - найти и уничтожить проклятую ошибку в матрице человека.
Я встал и пошел куда глаза глядят, оставив позади и памятник, и пустое женское лоно, и фотографию на комоде матери, и тяжесть вопросов на ветвях старой яблони на краю поля, и моровой столб с его каменными символами надежды, оставив позади все, в том числе и тот единственный, заполненный звенящей пустотой день, когда свалили в кучу гипсовые статуи и власть над людьми вновь превратилась в ответственность перед людьми, а я распрощался со всеми своими идолами и дал себе зарок впредь не быть больше никем, а только самим собой.
И все же у меня теперь два "Я", я и Я, я сам и мое отражение в зеркале, я удаляюсь к краю огромной плоскости, которая теперь уже не кожа Марии, - я, сын, любовник, а вероятно, и отец, иду по плоскости одиночества, как Спаситель по пустыне, а мое второе "Я" говорит матери: что мне в тебе, женщина? И отцу: возьми свою жизнь и просей ее годы сквозь крупное сито разочарований. Я посвятил себя великой, величайшей цели, и это второе "Я" отражается теперь в зеркале ванной.
Он отбросил полотенце, подошел вплотную к зеркалу, выключил свет и вновь включил его, еще и еще раз - рефлексы нормальные, в голове ничего не плывет и не качается, не два, а один мозг, самый лучший в мире, вчерашние метания между раем и адом теперь лишь яркий воздушный шарик, проблема, жерновом висевшая на его шее, стала резиновым надувным кругом, с ним на шее можно пуститься в плавание по любому океану, теперь тайфуны и ураганы ему нипочем. Совершенно ясно и не вызывает и тени сомнения то, что его открытие принадлежит ему, только ему одному, и никому больше, и что никто - ни его ассистенты, ни кто-либо из сотрудников его научного института, ни комиссии, ни коллеги, ни власти - не имеет ни малейшего права рассчитывать на какую-либо информацию о его открытии, не говоря уже о детальном знакомстве в полном объеме, пока он сам этого не пожелает.
А до той поры пусть удовольствуются тем, что получат результаты его исследования о регенерации поврежденных генов, превознесут эти результаты как "веху на пути к разгадке тайны жизни" - так их назвали в одной из официальных речей - и дадут ему, Яну Сербину, Нобелевскую премию.
Никто не должен знать, что к тому времени, когда были опубликованы эти результаты, он ушел уже далеко вперед по "пути разгадки". Смешно, конечно, что они присудили ему эту премию за такую безделицу, за такой, в сущности, пустяк по сравнению с его новым открытием. Правда, теперь ему казалось смешным и то, что он чуть было не уничтожил найденную формулу.
Все это теперь как-то подернулось туманной дымкой и лишь с трудом восстанавливалось в памяти, как будто речь шла о ком-то постороннем: был человек, который открыл возможность не только ограниченного воздействия на определенные гены, но и целенаправленного вмешательства в самую сущность человека и держал в руках "счастье" в трактовке Чебалло, но затем, осознав возможные последствия своего открытия, окаменел от ужаса, как жена Лота, обратившаяся в соляной столб после того, как оглянулась и узрела огненный дождь, испепеливший Содом и Гоморру.
Рай или ад, вопрошал себя тот человек; за короткое или долгое, никем не измеренное время, пока обдумывал этот вопрос, он постарел на годы, соизмеримые с трудностью вопроса.
Теперь, сидя на краю ванны и тщательно вытирая полотенцем ноги, он мог бы еще вполне точно реконструировать свои тогдашние мысли, но они остались бы лишь абстрактными мыслями, лишенными всякого нравственного содержания, - как если бы, глядя на луну, начать прикидывать, на что можно употребить этот вечный спутник земли, если бы вдруг получить его в подарок.
Он нагнулся, чтобы повесить полотенце, и уже хотел было, крадучись, прошмыгнуть мимо зеркала, но потом со смехом распрямился; глаза его оказались на уровне верхнего края зеркала, он пригнулся и с некоторым интересом заглянул в него - в полной уверенности, что не увидит ничего, кроме собственного лица, но обнаружил там себя, одиноко спящего - уже без багажа - в кресле совершенно пустого самолета. А может, его там и не было.
Конечно, не было, ведь он здесь. И он, находящийся здесь, подумал, чего ждет он, находящийся там. Вероятно, отлета; но куда?
Теперь в самолет вошел Чебалло, держа в руке букет странных цветов со стеблями, похожими на кошачьи лапы. "Моя работа, - сказал он, кивнув на цветы, - поздравляю вас с успехом. Кто-нибудь теперь наверняка начнет болтать, что вам просто повезло, а мне нет. Везенье в науке, уважаемый коллега, не что иное, как другое название для успеха, венчающего напряженный труд".
"Вот именно - напряженный", - повторил он громко и ткнул пальцем в телеграмму, только что принесенную служителем отеля на посеребренном подносике: "Поздравляю более удачливого".
Старина Хоулинг!
Хотелось бы посмотреть на него в ту минуту, когда он узнал, что мне удалось открыть то, над чем он бьется вот уже десять лет. Держу пари, что от злости и обиды он
4 Брезан 97 выпил целый литр минеральной воды, но, уже делая последний глоток, проворчал: "Браво, бандит!" В его устах это означает, что своим успехом я обязан ему. Хоулинг - старая лиса, но и старая лиса может попасть в западню, сказал я себе в один прекрасный день, поняв, что он топчется на одном месте, и решил начать поиск в противоположном направлении.
Мы подружились на том конгрессе в Брюсселе, в канун которого мы с ним наблюдали парад военных министров. Программой конгресса предусматривалась трехдневная экскурсия по стране. В одной деревушке кто-то из нас обнаружил кегельбан - один-два шара, брошенные наугад, пробудили в солидных, взрослых мужчинах воспоминания детства; программа поездки полетела к чертям, мы вовсю веселились на деревенском кегельбане: скинули пиджаки, закатали рукава и вошли в такой раж, что все взмокли и буквально наизнанку выворачивались, стараясь хоть взглядом подправить отклонившийся в сторону шар; мы вопили от радости, когда кто-нибудь мазал, и ликовали от восторга, когда старина Линдон Хоулинг, самый известный и уважаемый среди нас, сбивал все девятки. Мы пили пиво и ели сосиски, махнув рукой на роскошный ужин, ожидавший нас в городе Левене, и наутро явились к завтраку согнутые в три погибели, словно всех одновременно сразил ишиас. Лишь у Линдона Хоулинга не было ни мышечных болей, ни ломоты в пояснице, он весело вертел своей квадратной головой щелкунчика, встречая каждого из нас с нескрываемым злорадством, и вместо утреннего приветствия продекламировал во всеуслышание по-немецки со своим утробным произношением: Каждый выделит охотно раз в неделю день для спорта - стишок, который за много лет до этого, во время посещения Дрезденской картинной галереи, беспрерывно попадался ему на глаза, в том числе и в самых неподходящих местах. На вымученную улыбку незадачливых игроков он отвечал милостивым кивком доброго короля из сказки, потом присел за мой столик, выпил стакан минеральной воды - эту свою прихоть он удовлетворял везде, вероятно, и на луне потребовал бы минеральной воды - и сказал по-английски: "Немцы просто неподражаемы. Никакому другому народу не перещеголять их по части лозунгов. И Шиллер, и Гёте - все идет в дело". Он вдруг вскочил и начал по-немецки декламировать стихотворение "Лесной царь" перед собравшимися, которые были заняты поглощением яиц и булочек. Он сделал из этого стихотворения мастерский эстрадный номер, видимо не раз и с неизменным успехом исполнявшийся им в самых разных местах. Все смеялись и аплодировали, в том числе и немцы, и только Лоренцо Чебалло буркнул себе под нос: "Комедиант!"
Некоторые утверждают, что та антипатия - чтобы не сказать: ненависть, - которую Чебалло питает к Хоулингу, вспыхнула во время давнего конгресса во Флоренции, когда они оба наперебой добивались благосклонности светловолосой дамы-распорядительницы, в конце концов остановившей свой выбор на Хоулинге. С тех пор Чебалло не упускает случая прилепить удачливому сопернику ярлык комедианта, что Хоулинга отнюдь не сердит, а, наоборот, забавляет, он и сам утверждает, что мог бы стать величайшим актером, если бы, на свою беду, не обручился с наукой.
Хоулинг в свою очередь с той поры на каждом конгрессе, удостоверившись, что Чебалло где-то поблизости и сказанное наверняка достигнет его ушей, взял в обычай приветствовать старых друзей и знакомых пожеланием, чтобы предстоящий конгресс не был таким утомительным, как в свое время флорентийский, после которого он, Линдон Хоулинг, спортсмен и трезвенник, предпочитающий всем напиткам минеральную воду, буквально вполз в самолет на карачках. Он рад вновь встретиться со всеми, в том числе и с Чебалло, которому он энергично трясет руку и говорит "Привет!", добавляя несколько слов по-португальски, из-за чего Чебалло выходит из себя, ибо гордится тем, что он испанец, во-первых, и по рождению гражданин той же страны, что и Хоулинг, во-вторых.
Хоулинг же вовсе не собирается выводить его из себя" он просто все путает, потому что некогда вбил себе в голову, что поголовно все испанцы и португальцы обожают бой быков, который он лично считает злодейством, и с той поры не желает делать какое-либо различие между теми и другими. Точно так же он считает совершенно излишним вносить какие-либо коррективы в свое крайне смутное представление о географии Европы, озадачивающее любого европейца. "Мне пока еще не случалось приземлиться не в том городе, - говорит он, - летчики знают, куда меня везти, на то они и летчики".
Чебалло утверждает, что и тут Хоулинг ломает комедию. Может, так оно и есть. Ибо Хоулинг несомненно - даже Чебалло не решается высказать на сей счет каких-либо сомнений - обладает необычайной эрудицией в нашей науке, он и сам при случае говаривал, что этот том энциклопедии держит в голове. Выступая на конгрессах, он всегда говорит без бумажки. Причем никогда не путает фамилии ученых или даты важных открытий, но старательно избегает приводить названия каких-либо мест, расположенных за пределами северной половины его родного континента. Чебалло утверждает, что Хоулинг в состоянии пригласить всех на однодневную экскурсию из Рима в Гибралтар на верблюдах, поскольку и Рим, и Гибралтар входят, по его понятиям, в Средиземноморье, а значит, от одного до другого рукой подать.
Несмотря на все это, старина Линдон Хоулинг лучше ориентируется в мире, чем Лоренцо Чебалло, и в этом подлинная причина вражды между ними, как и моей дружбы с Хоулингом.
Чебалло - единственный из корифеев нашей науки, который не подписал знаменитое обращение ведущих ученых мира, адресованное всем тем, на ком лежит ответственность за дальнейшее развитие событий на нашей планете, - как правителям, так и исследователям. Он обосновал свой отказ в сенсационном интервью, где назвал такие обращения пустой болтовней, поскольку машина агрессии и контрагрессии давно приобрела самодовлеющую силу и вышла из-под контроля даже самых влиятельных людей в мире. "Механизмы, - сказал он, - окончательно завладели положением, и человек, объект их произвола, напрасно тратит силы, ломая себе голову над тем, как следует жить дальше и стоит ли жить вообще".
Хоулинг, бывший одним из инициаторов обращения к разуму планеты, ответил Чебалло с кафедры Калифорнийского университета одной-единственной фразой: "Думать о жизни не имеет смысла только в том случае, если ты уже мертв".
Ян Сербин чувствовал себя сейчас бодрым, как никогда; он подошел к большому зеркалу в прихожей, и оно с присущей зеркалу достоверностью зеркально воспроизвело мужчину средних лет, приглаживающего щеткой густые, слегка тронутые сединой волосы и вполне довольного своим видом.
Он знал, когда и почему появилась эта седина - наивные тревоги той мучительной ночи, которых могло и не быть. Не было причины, из-за которой стоило бы поседеть.
Он надел коричневый костюм и нашел его унылым и старомодным, а галстук пошлым и безвкусным. Все равно теперь придется покупать фрак, подумал он, куплю заодно и костюм, так что и времени лишнего почти не уйдет, надо только узнать, куда за всем этим ехать.
Он обратился за справкой к первому попавшемуся служащему в сервис-бюро отеля, и тот, казалось, уже знал, когда и зачем этому постояльцу понадобится фрак. Не прошло и пяти минут, как он сидел в такси, водитель которого, одетый лишь с намеком на форму, обладал столь высоким профессиональным уровнем, что прекрасно говорил на двух иностранных языках и вполне мог служить гидом для интеллигентных иностранцев или же компетентным советчиком для приезжих, желающих сделать покупки в здешних магазинах. Благодаря этим его достоинствам удалось купить все необходимое - и даже лишнее - за очень короткое время, а на прощанье гид и советчик заметил, что ходить по магазинам с Сербином - одно удовольствие, поскольку он точно знал, что ему надо, и при его идеальной фигуре не возникало никаких проблем.
Ян Сербин усмехнулся - знал бы он, что моя идеальная фигура не старше этого костюма.
Он спустился в ресторан - вдруг захотелось выпить рюмочку коньяку и выкурить хорошую сигару. Огромный зал производил приятное и успокаивающее (Сербин чуть было не подумал: уютное) впечатление благодаря расчлененности помещения и умелому расположению столов и кресел, а может, также и благодаря ненавязчивой простоте обстановки, подобранной с большим вкусом; он сел за столик у окна.
Наискосок от него, ближе к середине зала и недалеко от бара, сидели две молодые женщины, беседовавшие как-то вяло; ни намека на веселость, грусть или волнение, они вполне могли бы и помолчать - время от времени они и впрямь замолкали. Та, что была поменьше ростом и потоньше - вероятно, еще совсем молодая девушка, подумалось ему, - почему-то привлекла его внимание, хотя ни в ее внешности, ни в манере держаться не было ничего такого, что могло бы привлечь внимание. Отнюдь не броская прическа - темные, слегка волнистые волосы коротко подстрижены; скромное, даже простенькое платье. Ничем не примечательна, только успел он подумать, как она на него взглянула.
В ее глазах читалась спокойная, уверенная в себе грусть.
Может ли грусть быть уверенной в себе? Линия рта у девушки не была грустной. Теперь она внимательнее слушала свою соседку, вероятно близкую подругу, разница в возрасте скорее всего невелика, вторая просто кажется намного старше. Холодные блестящие глаза, сильные кисти рук с короткими пальцами, на запястье широкий золотой браслет; беседуя, она рассеянно вертела в руках зажигалку, видимо машинально. Под шафрановой блузкой без рукавов ясно обрисовывалась высокая грудь; холеная кожа, покрытая южным загаром, крупный, беззаботно улыбающийся рот. Он задумался, подбирая эпитет, наиболее подходящий к ней, и остановился на слове "роскошная". Он горько усмехнулся. На месте Париса он бы наверняка вручил яблоко не той, какой следовало. Что он и делал, как только для этого представлялся приятный случай - впрочем, достаточно редко, а в последние годы и того реже. Приятность всегда оборачивалась для него неприятием, а иногда и неприятностями, о которых он, правда, довольно быстро забывал. Как если при сильном морозе схватиться мокрыми руками за железную ручку: лоскуток кожи непременно останется на ней.
Шафрановая блузка поднялась и пошла к выходу. Она была превосходно сложена и превосходно одета, но он даже не попытался представить себе, как она выглядит без одежды.
Пока она была тут, он чувствовал себя в безопасности, как бы по ту сторону решетки. В детстве он как-то оказался в зоопарке один у клетки с тигром. Я могу делать все, что захочу, а ты, тигр, ничего мне сделать не можешь. Теперь решетки не было, девушка могла делать с ним все, что захочет. Он вымученно улыбнулся ей и покинул поле боя, медленно переставляя негнущиеся ноги и втянув голову в плечи. Не заметив ступеньки, отделявшей эту часть зала, он споткнулся и чуть было не растянулся во весь рост на полу.
Наверху, в номере, он стал ругать себя за постыдное бегство, но тут зазвонил телефон.
Ее голос звучал прерывисто, как будто она еще не успела отдышаться после бега: "Я тоже порядочная трусиха. Но по телефону вам, наверно, легче быть храбрым".
Он спросил: "Не хотите ли поужинать со мной?"
"С удовольствием", - откликнулась она.
Но какая-то искра уже погасла.
Они сидели у окна в ресторане на телебашне Какнес, на высоте ста двадцати метров. "Хороший вид отсюда", - заметил он, и она принялась оживленно показывать ему все, что можно было увидеть: ярко освещенный город внизу, иллюминацию в парке Дьюргарден, озеро Мэлар на западе и архипелаг из десяти тысяч островков на востоке; но то, что он на самом деле хотел бы увидеть, наглухо захлопнулось для него из-за этой неожиданной близости. Ощущение чего-то родного и далекого, которое пробудило его интерес к ней и любопытство, куда-то улетучилось, и теперь девушка показывала ему город, а он показывал ей себя - этакий самоуверенный и опытный мужчина, знающий наперечет все правила игры и все станции, вплоть до конечной. Неторопливо выбирая вино и обдумывая все это, он уже знал, что будет спать с ней, - не потому, что этого желал, а просто потому, что это было конечной станцией того маршрута, по которому уже катил его поезд.
Но она отказалась от вина и вообще от крепких напитков и пила только грейпфрутовый сок, так что теперь, когда оживление ее прошло, поскольку показывать было больше нечего, а он растерялся, поскольку все станции перепутались, он вдруг почувствовал, что к нему медленно возвращается ощущение чего-то далекого и родного.
Или скорее все же родного и далекого. Его так и тянуло сказать ей: я вас уже где-то видел. Мне знакомо это лицо, кажущееся геометрически правильным овалом из-за того, что щеки, подбородок, надбровные дуги и сами брови имеют одинаковый округлый изгиб. Знаком мне и голос - низкий, мягкий, временами почти теряющий четкость звучания.
Он смотрел на ее руки, спокойно и уверенно орудовавшие ножом и вилкой, отламывавшие хлеб: ногти были холеные, но без лака, и никаких колец. Только теперь он заметил, что на ней вообще не было украшений и что она, по-видимому, не пользовалась ни губной помадой, ни карандашом для бровей,
Она рассказала забавную историю про барельеф из меди, никеля и эмали, висевший в вестибюле и, по замыслу автора, изображавший человека в мире сложнейшей техники будущего. При открытии барельефа некое важное должностное лицо заметило, какая жалость, что прекрасное произведение искусства так сильно пострадало при транспортировке. Она рассказывала, не стараясь развлечь и развеселить, с выражением грустной покорности судьбе. Или как бы раздваиваясь: одна развлекает мужчину беседой, вторая думает о чем-то печальном, не имеющем никакого отношения к ее рассказу. Потом она пошла звонить по телефону, а когда вернулась, сказала: "Ресторан скоро закроется. Если вы хотите побыть со мной еще некоторое время, мы могли бы уже сейчас уйти". Говоря это, она смотрела в окно, вероятно на озеро Мэлар, в котором он однажды чуть было не утонул. Голос ее звучал тускло и невыразительно.
Станции вновь выстраивались в правильной последовательности. Мелькнула мысль о том отвращении, которое он всегда испытывал к чужим, не совсем свежим постелям; в такси ему пришло в голову, что не исключена и попытка похитить его, ведь кто-нибудь мог кое-что заподозрить. Например, у Лоренцо Чебалло на такие вещи особое чутье, как говорят. Вполне вероятно также, что чьи-то глаза и уши наблюдают за каждым его шагом. Такси остановилось перед лодочным домиком, у причала стоял наготове катерок и рядом человек, явно их поджидавший. Он не был похож на гангстера, скорее на морского капитана в отставке.
Девушка ответила на его вопрос, прежде чем он успел его задать, - катер и все остальное принадлежит ее подруге. Дом на острове тоже.
Они добрались туда за полчаса - в низкий бревенчатый дом на скалистом острове. В двух шагах от него небольшой плавательный бассейн, вырубленный в скале; вероятно, вода подогревается, подумал он, иначе какой от него толк при здешнем климате.
Катерок отчалил. Они вошли в большую комнату, где в огромном камине у продольной стены едва теплился огонек.
Девушка сразу же присела на корточки перед камином и подложила в огонь несколько поленьев. Потом застыла в этой неудобной, неустойчивой позе - колени прижаты друг к другу, а весь вес приходится на носки ног - и молча уставилась невидящими глазами в огонь, яркими языками лижущий свежие поленья.
Обняв ее за плечи, он заметил, что ее бьет дрожь.
"Ты чего-то боишься?" - спросил он.
Она отрицательно покачала головой.
"Как тебя зовут?"
"Как хочешь, так и называй".
"Айку", - сказал он, подумав.
"Разве есть такое имя?"
"Не знаю. Но тебя могли бы так назвать".
Его рука, помедлив немного, стала спускаться ниже.
"Ты должен дать мне деньги заранее", - пробормотала она.
Он вздрогнул от неожиданности. "Сколько?" - спросил он громко, как в лавке.
"Сколько есть, - ответила она, не глядя на него. - Сколько захочешь". Она выпрямилась, взяла протянутые им деньги, сунула их в сумку и подошла к нему.
Ему пришлось самому нащупать застежку-молнию у нее на спине, платье распалось до пояса.
Они лежали на огромной, очень низкой квадратной тахте, стоявшей в углу. В комнате было тепло, огонь в камине то разгорался, то опадал в каком-то беспокойном ритме, отбрасывая на балки потолка пятна света, судорожно и как-то устало боровшиеся с мраком. Огромные и темные окна тоже отбрасывали внутрь комнаты пятна отраженного света, которые, сталкиваясь с отсветами огня в камине, только усиливали причудливую пляску теней. Это не наши тени, мы лежим неподвижно, нас вообще нет. Мы то ли были когда-то, то ли еще только будем, я не знаю наверное. В детстве я мечтал найти живой свет, в котором мы не отбрасывали бы тени. Дедушка сказал, что тогда свет должен струиться вокруг. "Вокруг всей земли?" - спросил я. "Может, и всей земли, - ответил он, - но главное, вокруг нас самих. Но такой свет никому не нужен. Без тени ты был бы не ты и я не я".
"А кем бы мы были?" - спросил я. Дедушка не сказал: без тени мы были бы нелюди, он не знал такого слова, да я бы его и не понял. Он просто рассказал мне притчу, содержание которой, складываясь в пестрый мозаичный узор, отвечало на мой вопрос.
Крабат повстречался с Вольфом Райсенбергом на меже, разделяющей ноля ржи. Солнце клонилось к закату. Райсенберг нес на плече ружье, Крабат держал в руке оглоблю, только что окованную кузнецом. Оглобля отбрасывала длинную тень, и в тот момент, когда тень легла на Райсенберга, он споткнулся о камень и упал.
"Твоя тень меня толкнула", - сказал он.
"Коли так, - возразил Крабат, - пристрели ее. По греху и кара".
Райсенберг выстрелил, но не в тень от оглобли, а в тень от Крабата. Тень раскололась, осколки полетели в Райсенберга и уничтожили его, он исчез.
Крабат пришел домой без своей тени, свет струился вокруг него и сквозь него. Жена и дети слышали, что он говорит, но его самого не видели. Они заплакали с горя, решив, что он умер.
Крабат пошел и перекопал участок пустоши; камни он вытаскивал из земли, а чертополох вырывал с корнем. Потом сложил из камней стенку, а чертополох свалил кучей у подножия холма и, когда стемнело, поджег эту кучу; огонь, сожравший чертополох, вернул ему тень.
На следующий день Крабат вновь повстречался с Райсенбергом, сидевшим в засаде у пруда Хандриаса, - он вовсе не был уничтожен.
Ничто не уничтожается и не исчезает без следа, в том числе и та мозаичная истина, которую я могу по своей воле собрать воедино и вновь разобрать: человек без тени перестает быть человеком. А я-то собрался лишить его частички этой тени. Разве тень можно делить на части?
И я сам не уничтожен. И не уничтожен Крабат.
Когда я понял, что умею делать свет, струящийся вокруг нас и сквозь нас, но еще не понимал, рай это сулит или ад, я сломал ту проклятую стену, и Он предстал предо мной. Мы уставились друг на друга, и наши лица, отраженные в мутном зеркале наших представлений, слились в одно лицо, то же и не то, слегка искаженное, разъединенное лишь тонким покровом кожи.
Мы могли бы быть близнецами, не будь я седым, а Он - полным жизненных сил красавцем во цвете лет. Я чувствовал себя раздавленным судьбой, предназначившей мне совершить невозможное, и был готов призвать на помощь бога, давно позабытого мной, а Он казался мне и богом, и безбожником, и это было одно и то же. Я был похож на утопающего, который с трудом добрался до берега, а берег оказался не берегом, а коралловым рифом, крошечным пятачком в океане безумия. Однако, ступив на риф, я смог распрямиться, а распрямившись, оглянуться и увидеть самого себя, ясно различимого на фоне горизонта незнания. Ты задаешь днем ночные вопросы, сказал мне как-то дед, но я искал дневных ответов, и чем больше я спрашивал, тем короче становилась ночь. Но все, что было, не может стать небылью, и часы, на которые укоротилась ночь, улеглись в высокую колонну, выросшую теперь над всеми горизонтами, - значит, ничто не пропало зря. Не пропало и наше безумство: такие уж мы озорники и любители головоломок, что и впрямь ломаем себе головы, - публика хлопает в ладоши, фокус удался на славу.
Я достиг высшей цели, сказал я Ему: с помощью моей формулы мы можем избавиться от телесной оболочки, как если бы нас нет и не было. Стать бескровными, беззвучными, не чувствительными к боли и не знающими раскаяния. И никто не сможет этому помешать.
Он, Крабат, ответил: да, это в твоей власти.
Я возразил: что открыл я, может открыть и Лоренцо Чебалло.
Возможно, я и промолчал, но это имя горело в моем мозгу, как горит воспаленная рана.
Крабат бросил на меня какой-то странный взгляд: словно он все знал, и это всё было одновременно и хорошо, и плохо, или словно он смотрел на меня, а видел Чебалло - может, всего лишь в самом зачатке, которого не было, но который должен был быть.
Он склонился над моим столом, где лежали кристаллы, сложившиеся в слова: гены, генезис, немезис (Немезис - распределение, воздаяние по заслугам, кара (древнегреч.)). Он перемешал кристаллы, но они тотчас же опять выстроились в прежнем порядке. Он хотел, чтобы я это видел. Трижды смешивал он кристаллы, словно не замечая, что именно мой страх заставлял кристаллы складываться в эти слова.
Потом подошел к потертому кожаному креслу, которое уже скрипит от старости, - в нем я обычно сижу, когда мне не хочется думать.
Он уселся в кресло, старая кожа заскрипела и захрипела, ритмично, словно живое существо, которое дышит.
Книжные полки за его спиной вдруг распались, и из хаоса беспорядочно взметнувшихся книг постепенно сложились небо и земля, суша и море. Море вздымалось и опадало, словно живое.
На берегу сидел Крабат и от нечего делать переливал воду из ладони в ладонь. На горизонте солнце медленно выплывало из моря. Он почувствовал спиной слабое движение воздуха раньше, чем лыко, привязанное к его палке, воткнутой в песок, приподнялось и потянулось в сторону моря. Крабат уставился на лыко, он знал: сейчас должен подуть ветер, он дул и вчера, и позавчера, и двумя днями раньше, и каждый день с тех пор, как Крабат привязал лыко к палке, а палку воткнул в песок. Ветер подул, и дул он с суши, как всегда, и, когда лыко вытянулось горизонтально в сторону моря, Крабат сделал засечку в сером камне точно на том месте, куда падала четкая тень от палки. Она не совпала с засечками предыдущих дней, это было непонятно, но не имело значения; Крабату нужно было лишь убедиться, что ветер есть. Он сел теперь спиной к морю, чтобы видеть голый беловато-серый скальный массив, обрамляющий узкую полоску степи. Когда крутая стена скал вспыхнет в лучах солнца, а небольшая ниша под огромным выступом покажется черной и глубокой пещерой, лыко сперва вяло заплещется на ветру, потом опадет и повиснет неподвижно, а потом опять поднимется в воздух, но уже в обратном направлении. Ветер подует уже с моря, и степная дичь сможет почуять охотников, если они появятся со стороны берега.
Крабат ждал, ниша еще не казалась черной пещерой, и тень от палки еще не укоротилась до нужного размера. Он сидел и вспоминал тот день, когда солнце не выплыло из моря, палка не отбросила тени, крутая стена скал не вспыхнула и сильный ветер дул вдоль берега. Мы идем на охоту, ищем оленя и говорим "повезло" или "не повезло"; а сейчас от меня зависит, чтобы повезло. Он произнес эти слова вслух и гордо вскинул голову. Но тут он услышал голос жены, она звала его; пусть оставит меня в покое, сегодня мне обязательно повезет. Но жена не оставила его в покое, в доме пусто, хоть шаром покати, большой сосуд для съестных припасов разбился, два кувшина для воды тоже, за что ни возьмись, кругом одни нехватки, а ты тут сидишь сложа руки. Он не слушал ее, завороженно уставясь на скалы, - сейчас первый ветер должен был улечься, - но жена опустилась на песок, повалив палку, и зарыдала, набежали дети и принялись вопить и хныкать, потому что их мать плакала. Забыв себя от ярости, Крабат схватил жену за волосы, поднял с земли и прогнал вместе со всем выводком прочь, а когда поглядел плачущему семейству вслед, понял, что жена права, и ярость его улеглась, как улегся в тот же миг и береговой ветер, и внутри его все умерло и погасло, как умер и погас ветер; руки не доходят до большого дела, потому что вся жизнь разменивается на пустяки. Он взял свое оружие и потащился в степь без всякой надежды: какая тут может быть охота, раз ветер подул с моря.
На третье утро он повстречал человека; чужак оказался слабее, Крабат поборол его и хотел уже убить, как поступал обычно с врагами, но вдруг вспомнил о плачущей жене и погнал побежденного через степь к себе домой.
Он перерезал ему жилы на ногах и отдал в распоряжение жены, чтобы это домашнее животное впредь выполняло его работу, а сам вернулся на берег моря следить за привязанным к палке лыком и перемещением тени по серому камню до той поры, когда удастся точно предсказать час великой охоты.
Теперь у них в доме было вдоволь мяса и на еду, и на припас, и, бросая кусок несчастному калеке, он думал: потому и вдоволь, что я перерезал ему жилы.
Значит, может и Лоренцо Чебалло, переспросил он и вновь посмотрел на меня тем же странным взглядом. Словно все еще не знал наверняка, кто кому перерезал жилы. Не я, подумал я про себя, а он спросил: тогда кто же?
Он подошел ко мне, взял среднее из лежавших на столе кристаллических слов и втер - или вжал - его в слоновую кость рукояти своей палки из черного дерева.
Это была моя палка, она висела над моей кроватью, не знаю, почему я не расстался с ней, как расстался с другими вещами, навевавшими ненужные воспоминания. Но Крабат сказал, такое же не значит то же самое, и эта палка знает не больше, чем я, а я ничего не знаю из того, что мне хотелось бы знать.
На какой-то миг меня вновь захлестнула волна блаженства, в которую я однажды уже погружался с головой; это было, когда я нашел решение того, что с чьей-то легкой руки получило название "загадки жизни"; название это всем поправилось, поскольку "загадка" звучит вполне невинно и легко укладывается в ложе человеческого разума. Волна блаженства поглотила меня, а очутившись на дне и обнаружив над головой беспросветную толщу воды и ни проблеска жизни вокруг кроме меня самого, я поверил, что мое решение означает спасение.
Поэтому я и сказал: я спасу людей от незнания.
Крабат рассмеялся; он смеялся долго, его смех отскакивал от книжных полок, заполнявших стены, и под раскаты этого смеха я очнулся от наваждения и впервые спросил себя вполне осознанно, не следует ли нам вообще смириться перед непознаваемостью Начала, остающегося и поныне не более чем нашей гипотезой, и Конца, лежащего за пределами нашего понимания. Тогда уж просто пустим Альфу и Омегу плыть по кольцу реки, не имеющей ни истоков, ни устья, и назовем эту реку Богом. Или же отменим Начало всех Начал и заново сотворим мир - и духовный, и материальный.
Хорошо, сказал Крабат. Вероятно, это зависит от пути.
Что зависит и от пути куда, только хотел я спросить, но он исчез, я вновь был один на рифе в океане безумия и гибельной мечты о спасении человека от его жребия - быть человеком, и все наши попытки взорвать рамки человеческого бытия - смешное ребячество и пустая игра словами, самообман и борьба с призраками. Призываются на помощь и рай, и ад, и Нерей, и Протей, и гомункулус в колбе, городятся горы слов и на поиски Венеры спускаются в глубочайшие из глубин; как принято полагать, это возвышенная и возвышающая деятельность: души утопают в блаженстве, но остаются прежними.
И в конце концов, "кто жил, трудясь, стремясь весь век, достоин искупленья" (И.В. Гёте. Фауст, ч. 2, перевод Н. Холодковского). Искупленья - от чего и для чего? Чем дольше я об этом думаю, тем меньше я понимаю как раз это место, я всегда подозревал, что Фауст выступает здесь в роли Геракла и в награду за сверхчеловеческие усилия милостиво возводится в ранг полубога или вроде того, миф и выдумка - в ранг решения, а человек остается человеком - ибо прах ты и в прах возвратишься.
Библия тоже не знает иного выхода: сын человеческий в Гефсиманском саду средь олив, его "Бодрствуйте со мной!" и кровавый пот страха перед распятием - разве даже здесь живое существо не покоряется своей животной сути? А Адриан Леверкюн? От союза с потусторонним миром ему остается в конце концов лишь "Песнь к печали" - печали, к которой не подберешь даже приблизительно подходящего эпитета в человеческом языке. Несмотря на все позерство и весь напыщенный пафос превращения "Бодрствуйте со мной!" в "Оставьте меня одного!", эта неописуемая печаль по напрасно растраченной человеческой жизни простирается в надчеловеческие сферы.
Но там не найти спасения, я давно это предчувствовал, а теперь знаю наверное. Я всегда верил в человеческий мозг, в точность и тонкость его работы, в науку, остающуюся в границах живой природы. Я был свидетелем открытий, взрывавших общепринятые рамки, я приветствовал их, восторженно, как и все, а потом вынужден был признать, что и они не могли сделать человека свободным, потому что объектом поклонения по-прежнему были лики богов и статуи героев, а вовсе не чистое знание.
На столе передо мной лежали кристаллы, они были чистым знанием, лишь пока принадлежали только мне, мне одному; они были реальностью, и их значение было реальностью, и что никто не мог его постичь - тоже. Я не хотел погибнуть в безумном мире ирреальности, не хотел отдаться во власть галлюцинаций, не хотел влезать в четвертое измерение, как в клетку, ячейки которой состоят из моего непотерянного времени - заблуждений, надежд, разочарований, блаженства и отчаяния, и моего потерянного времени - тупого ритмического тиканья маятника. Какое из них реальное и какое действительно прожитое время?
В моих кристаллах содержался ответ. Я не собирался упрятать их в амулет или в колбу. Я хотел знать этот ответ. Я не хотел, чтобы Конец и Начало текли по реке без истоков и устья и впадали друг в друга, я выбрал второе: я сотворю мир заново. И начну с себя, его творца, сотворив себя по избранному мной образцу. А мой образец - Крабат, который сотрет волчье клеймо с наших плеч.
Я думал не о клейме, я думал о Чебалло и о том, что никакие укоры совести не помешают мне обезвредить его знание, я думал не о том, что в моих руках теперь голова Медузы, а о том, что она не в его руках.
"Ты скрежещешь зубами, как злой волк из сказки, сказала Айку. - Кого ты собираешься проглотить?"
"Красную шапочку", - ответил он.
Он погладил ее грудь, и она тихонько, почти беззвучно застонала и заметалась головой по подушке.
Голубой язычок пламени вдруг с шипеньем взметнулся в камине и косо лизнул черно-зеленый полированный гранит.
"Расскажи мне о себе", - попросил он, начисто забыв, что она лежала рядом с ним только потому, что он ей заплатил.
Она промолчала и, казалось, прислушивалась к шипению пламени в камине. Она не двигалась; по белой, слегка розоватой коже время от времени пробегала дрожь, как будто ее знобило. Перед ее глазами стоял другой человек, он любил Баха и любил охотиться один в северных лесах, а по воскресным дням любил бога. Деньги он не любил, если верить его словам, но они давали ему возможность любить то, что он любил. В том числе, вероятно, и дочь. Когда он почувствовал, что она не знает, что в этой жизни достойно ее любви, он взял ее с собой на охоту в северные безлюдные леса.
"У одной сосны был необыкновенный сук, - начала она. - Он рос на такой высоте, что я не могла до него дотянуться, в середине свисал почти до земли, а конец опять поднимался вверх на высоту моего роста. Сук был очень длинный. Как ему удавалось нести свой вес с таким изяществом!" Чувствовалось, что она заново переживала свой восторг и удивление. "И я ничуть его не боялась". И в этом тоже чувствовалось давнее и все еще не забытое удивление.
Он рассматривал ее, поглощенный мыслями о ней.
"Я знаю одну церковь, там висит очень земная мадонна. Триста лет назад ее написал один деревенский богомаз. Ты на нее похожа", - сказал он.
Она повернула голову и посмотрела ему в глаза. "Ты тоже боишься? Ты боишься Чебалло?"
Он растерянно уставился на нее.
"Ты так произносил это имя, словно..."
"...словно я его боюсь?" Он рассмеялся; теперь он уже ничего и никого не боялся.
Огонь в камине угасал. Айку встала и подложила дров.
"Сколько времени у нас еще есть?" - спросил он.
Она разворошила угли, потом подошла к столу, порылась в своей сумке и в его вещах, вернулась и присела на краешек тахты. Он потянулся к ней, но она перехватила его руку - не защищаясь, а легко и почти весело, словно ей было важно в эту минуту удержать его на расстоянии; но ее ответ - лодка придет за ними, когда они захотят, - так ничего и не прояснил. Не выпуская его руки, она соскользнула с тахты, и ему тоже пришлось подняться. Она сказала: "Деньги я положила обратно в твой карман".
Не верю больше, что это поможет, думала она. И все начнется сначала, так или иначе. Сосновый сук имел форму идеальной дуги. И теперь я тоже ничего не боюсь.
Она повела его в сауну - массивная дверь из толстых брусьев и несколько ступенек вниз.
Глава 5
Несколько ступенек, вытесанных прямо в скале, спускалось к неглубокой речушке. Речка вывела Крабата и мельника Кушка к городу Безглазых, обнесенному двумя рядами высоких крепостных стен с валом и рвом. Между речушкой и стеной ютилась кучка жалких лачуг. Возле них сидели согбенные старики и играли худосочные дети, грязные и оборванные, но весьма дружелюбные. Все они с живейшим интересом уставились на двух чужаков, которые по узким деревянным мосткам через ров подошли к городским воротам и попросили их впустить.
Слепой стражник спустил на веревке корзину: "Положите в нее свои глаза".
Мельник Кушк подобрал с земли четыре камешка и положил их в корзину. Стражник поднял корзину, ощупал камешки и тотчас затрубил в рожок. В городе забили в набат, и на крепостные стены, насколько хватал глаз, высыпали солдаты - они стали сплошной шеренгой, плечом к плечу, и все до единого со стеклянными глазами. Позади каждой сотни стоял офицер; офицеры были зрячие, но смотрели только вперед, на противника, поскольку не могли вращать ни головой, ни глазами. На самой высокой башне замка, являвшего собой как бы город в городе, взвился флаг и замер, распростершись на ветру, как приклеенный: четкие черные зубцы крепостных стен на желтом фоне. Старики и дети тотчас бросились сломя голову к реке, и красный петух вскочил на крыши их лачуг. Очевидно, им было приказано поджечь дома, как только противник появится у стен города.
Мельник Кушк достал из кожаного мешка трубу и заиграл. Об этой трубе люди рассказывали чудеса, и зрячие офицеры, увидев, кто трубит, испугались, что он сдует крепостные стены, как случилось некогда в городе Иерихоне. Но мельник Кушк трубил не воинственный сигнал к атаке, а веселую мелодию народного танца "Как у нас за печкой пляшут комары". Комары, как известно, пляшут быстро, трубач играл все быстрее и быстрее, воздух завихрился, образовался гигантский смерч, он втянул в себя воду из речки, выплеснул ее на горящие лачуги и свернул шею красному петуху.
Теперь мельник играл уже шестой куплет "Как у нас в болоте квакают лягушки", лягушачий концерт в темпе prestissimo (Очень быстро (итал.)): смерч двинулся на город, офицеры ухватились за зубцы крепостных стен, но смерч нацелился только на городские ворота. Он приподнял их вместе с массивной надвратной башней - лишь на один миг и лишь настолько, чтобы под ними мог прошмыгнуть человек. После этого труба умолкла, смерч улегся, башня вновь стала на свои опоры, а противник исчез так бесследно, что даже натренированные глаза офицеров нигде не могли его обнаружить.
Крабат и мельник направились к центру города по мощенной булыжником улице. Никто не обращал на них внимания, никому не было до них дела. Улицы, широкие и гладкие, как смазанный маслом пирог, и узкие переулки в ухабах и рытвинах были забиты деловито снующими людьми, лишь немногие неторопливо прогуливались либо благодушно беседовали, собираясь небольшими группками. Не было видно ни одной повозки, жители этого города, казалось, и слыхом не слыхивали о существовании колеса.
Во всю ширину главной улицы были натянуты на равных расстояниях друг от друга яркие транспаранты, метровыми буквами возвещавшие жителям: ТЕЛЕВИЗОРЫ "КОРНЕЛИЯ" ЛУЧШИЕ В МИРЕ! ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ - С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ! КИНОЛЮБИТЕЛЬ ЖИВЕТ И ЧУВСТВУЕТ ЗА ДВОИХ!
Кричащие плакаты на афишных тумбах и дощатых заборах, ограждавших строительные площадки, повторяли на разные лады призывы транспарантов, навязчиво выпячивая цены на эти и многие другие товары, скидку при распродаже и условия покупки в рассрочку.
Другие транспаранты - белыми буквами по синему фону - предназначались для воздействия на сознание граждан. Эти плакаты воспроизводили тезисы, вполне уместные в катехизисе, но на самом деле почерпнутые из преамбулы к городскому уставу.
Эти тезисы гласили:
"Наше высшее право - равные возможности для всех".
"Наш высший принцип - единство".
"Наш высший закон - свобода!"
Только теперь Крабат и Якуб Кушк поняли, что означали три буквы ПЕС в розетке из ярких цветов, которые бросались в глаза повсюду, куда ни кинешь взгляд, - на стеклах витрин, на пестрых бумажных флажках, на галстучных булавках, на брошках пожилых женщин.
Эти буквы воплощали символ веры города.
Крабат с мельником остановились на самом оживленном перекрестке и принялись внимательно разглядывать сновавших вокруг людей, стараясь уяснить, замечают ли они эти безмолвно кричащие отовсюду призывы. Крабат попробовал было замахиваться палкой на проходивших мимо, но ни один человек не отшатнулся, а Якуб Кушк достал зеркальце и стал наводить солнечные зайчики на глаза прохожих. Глаза вспыхивали и светились всеми цветами радуги, но никто не жмурился. И они поняли, что у всех поголовно жителей этого города глаза были искусственные - стеклянные или в лучшем случае из каких-то драгоценных камней, настоящих или синтетических. Друзья пошли дальше и наткнулись на группу мужчин, оживленно обсуждавших вчерашнюю финальную встречу двух ведущих команд первой лиги по игре в бабки. Все единодушно признавали, что встреча была интересной, но яростно спорили об отдельных фазах игры, и прежде всего об ее исходе. Когда мужчина, видимо не состоявший в болельщиках ни той ни другой команды, желая урезонить споривших, примирительно заметил, что голубым просто больше везло, все как один, в том числе и приверженцы побежденных желтых, набросились на него: как он смеет болтать о каком-то везенье, когда всякому известно, что всегда побеждает достойнейший. Тот не знал, куда деваться со стыда, и униженно просил прощения за эту нечаянную оговорку, так сказать ляпсус, ведь он, как и все, убежден, что всегда побеждает достойнейший.
К нему-то и обратился Крабат с вопросом, приобрел ли он уже телевизор "Корнелия". Тот ответил, что, к сожалению, в последнее время его преследовали неуда... но тут другой мужчина перебил его наставительным восклицанием "Но-но!", после чего первый, смущенно улыбнувшись, закончил начатую фразу - ...преследовали неудачи с его старым телевизором "Юлия", и добавил, что при некоторых дополнительных усилиях у него, вероятно, в этом же месяце появится возможность приобрести "Корнелию".
Оказалось, что телевизоры имелись у всех присутствующих, но вот последней моделью многие еще не успели обзавестись.
Позади них раздался скрипучий голос: "А у меня и вовсе никакого нет. Пожалейте меня!"
Почти все тут же сунули руку в карман и бросили по монетке через плечо - там у цоколя Каменного Роланда примостился человек, собиравший деньги в старую шляпу.
Одет он был ничуть не хуже тех, что, праздно болтая, стояли перед ним. И он был зрячий!
Мельник Кушк заметил: "Тут самые бесспорные пословицы переворачиваются шиворот-навыворот".
Нищий заговорщицки приложил палец к губам, поднял с земли последнюю монетку и заскулил: "Уважаемые горожане, подайте на стаканчик вина!"
Все громко расхохотались, а один сказал: "Ишь чего захотел! Вода из колодца - вот твое вино. Смотри - пей, да не пьяней!"
И опять все покатились со смеху, а нищий пальцем поманил чужаков и прошептал: "А уж вам-то наверняка придется раскошелиться".
Это прозвучало как угроза, но его единственный глаз - друзья только теперь разглядели, что правый глаз у нищего был все-таки стеклянный, - подмигнул им вполне дружелюбно; кивком головы нищий пригласил их следовать за ним.
Они пересекли просторную квадратную площадь, на гладком темном покрытии которой через равные промежутки четко выделялись шесть кругов, выложенных белым мрамором. На восточной стороне площади стояло здание ратуши, обрамленное высокими флагштоками, на которых не висело никаких флагов; над порталом сверкали золотом три буквы - ПЕС - в искусно выполненной розетке из голубого мрамора. Вслед за нищим Крабат и Якуб Кушк спустились в погребок при ратуше. В нос ударило смесью винных и пивных паров с отвратительным чадом, который всегда поднимается там, где готовится сразу множество блюд. Зал был полон, но не до отказа, так что они легко могли бы найти свободный столик; тем не менее нищий с ходу направился в глубь помещения, откуда каменная витая лестница вела во второй погребок - "для отцов города". "Тут и вино получше, и народу поменьше, и можно потолковать без помех", - пояснил он.
Этот погребок был вдвое меньше первого, однако устроен так, что можно было и отгородить клиента от остальных гостей, если он хотел побыть в одиночестве, но ничего не стоило и сдвинуть к стенам легкие перегородки, и тогда все отцы города и их супруги могли просторно расположиться за большим общим столом и пировать в свое удовольствие.
В этот час дня зал был пуст, лишь в одной нише сидел человек, потягивая вино прямо из кувшина.
"Это советник городской управы, ведающий жильем; а пьет он от скуки, - сказал нищий. - Всех и дел у него, что раз в месяц подсчитать число бездомных и число пустых квартир".
Якуб Кушк возразил, что для этого приходится, наверно, немало побегать по городу, ведь как-никак...
Но нищий только рассмеялся: "Как-никак числа эти никого не интересуют, поэтому господин советник не утруждает себя подсчетами, а просто в нужный день приглашает нищего к себе в кабинет и считает, сколько монеток набралось в его шляпе, а потом выдает это за число свободных квартир. А число бездомных устанавливается таким же манером на следующий день".
В зал вплыла кельнерша с могучими формами и подала им меню; на семи страничках не значилось ни одного блюда. Нищий полистал меню с таким видом, словно внимательно его изучал, и наконец заказал для всех "парадный обед бургомистра": мозельское к рыбному блюду, красное бургундское к жаркому и на десерт бутылку старого арманьяка. "Обед этот, правда, дороговат, но обошелся бы им куда дороже, если сообщить кому следует - ну хотя бы вот этому советнику, пирующему в одиночестве, - что глаза у них зрячие", - заметил нищий, когда кельнерша удалилась. Якуб Кушк не имел ничего против вкусного обеда, а тем паче против хорошего вина, но его разозлило, что этот тип пытается их шантажировать. Не рой другому яму, заявил он, ведь и ему, мельнику, не заказано встать, подойти к советнику и просветить его насчет нищего,
Нищий опять весело расхохотался, предложил мельнику встать, подвел к столу советника и знаком показал - говори, мол.
Мельник Кушк сказал: "У вашего нищего один глаз зрячий".
"Милый ты мой, - заплетающимся языком пробормотал в ответ советник, - неужто ты так нализался, что забыл: все нищие слепы, иначе и быть не может. - Потом он вдруг ухмыльнулся во весь рот, словно его осенило. - Ага, догадался: ты советник по делам Золотого Пса и хочешь взять меня на пушку. Знаешь что, милый ты мой, я могу пить сколько влезет и валяться под столом, но вера моя непоколебима. Нищий есть нищий, и все нищие слепы, иначе и быть не может. - Он сделал большой глоток из своего кувшина, громко рыгнул и засмеялся злым смехом. - Меня не подловишь, милый ты мой, не на такого напал! Ибо, даже лежа под столом, я твердо знаю, что Золотой Пес - венец творенья, а все нищие слепы".
Когда они вернулись к столику, Крабат сжал в кулаке рукоять своей палки и спросил: "Сделать его зрячим?"
"Даже если бы это было в твоей власти, - ответил нищий, - для него ничего бы не изменилось. Он бы и собственным глазам поверил не больше, чем словам твоего друга. Так что оставьте его в покое, ешьте и пейте, а потом я сведу вас в одно веселенькое местечко".
Они ели и пили, но Крабат, не утерпев, спросил, что такое Золотой Пес. Оказалось, никакого Золотого Пса на самом деле нет, но люди твердо верят, что он существует и перегрызет глотку всякому, кто осмелится усомниться в трех основных принципах ПЕС из преамбулы к городскому уставу.
"Понятно, - заметил Крабат, - пес сожрет отступника, отступник сожрет пса, а что останется?"
Нищий рассмеялся: "Останется порядок!"
Они ели и пили, и нищий спросил о цели и причине их появления в городе; вообще-то он не любопытен и без того слишком много видит и знает, но, весьма вероятно, сможет сослужить им службу.
Крабат ответил, что службу им служат труба и кларнет, - он поднес к губам свою палку и надул щеки, кларнет заиграл, - куда им идти, они чуют нюхом, а откуда идут, не знают, ибо глаза у них спереди, а не сзади,
"Но сейчас, - подхватил Якуб Кушк, - мы пожаловали прямиком из Италии, а именно из города Пизы. Там на всех углах и перекрестках как раз возвестили, что герцог обещает мешок золота художнику, который сумеет верно написать его портрет. Мы отправились к герцогу, и Крабат сказал: "Мой друг берется написать твой портрет". Герцог ответил: "Если он напишет меня таким, каким я отражаюсь в зеркале, я велю отрубить вам обоим голову. Если приукрасит, велю вздернуть обоих на виселице; но если напишет меня таким, каким я сам себя вижу, получите мешок золота и должность придворного живописца. - Потом подвел нас к окну и показал семь рядов могил. - Там лежат живописцы, которые, к сожалению, не справились с заданием", - сказал он и засмеялся.
Герцог был безобразен до ужаса: левого глаза нет, на спине горб, как у верблюда, тело великана, а ноги карлика, да еще и косолапые. Мы посовещались, после чего я сказал: "Вели наполнить мешок золотом, господин герцог". И принялся за работу. Через неделю картина была готова: опустившись на колено, герцог натягивал лук и целился в турка - левый глаз прищурен, плечо выдвинуто вперед, так что горба не видно. Ничего не добавил, ничего не убавил, он был такой, как есть, но его уродства видно не было.
Герцог долго разглядывал картину, потом удовлетворенно пробурчал: "Ты изобразил меня таким, каков я есть на самом деле. И за это получишь обещанное золото. Но прежде вы оба должны построить рядом с собором колокольню, высокую, тонкую и устремленную ввысь, как благородный дух, живущий в моей плоти".
Так он сказал, а потом велел принести два паланкина, в первый поставил картину, которую я написал, во второй он уселся сам и приказал слугам нести оба паланкина через все герцогство. Всем жителям надлежало высказать свое мнение о картине; кто ее хвалил, платил серебряную монету за то, что удостоился чести лицезреть столь великое произведение искусства; кто не хвалил, лишался всего имущества за то, что осмеливался видеть своего повелителя не таким, каким он сам себя видел.
Целый год разъезжал герцог по своим владениям, обирая подданных. Когда он вернулся в город Пизу, башня, высокая и тонкая, как его душа, была готова: она стояла рядом с собором, сильно накренившись набок, и из всех ее сводчатых окон торчали ослиные головы. Герцог взвыл от бешенства, как ваш Золотой Пес, и грохнулся оземь замертво".
"А вы?" - спросил нищий.
"А мы перелезли через Альпы, что оказалось весьма затруднительно. При случае мы просверлим в них дыру, тогда будет легко ездить в Пизу, чтобы поглядеть на косую башню. Вот только ослов не всегда застанешь на месте".
Нищий нашел этот рассказ очень забавным и заметил как бы между прочим, что тоже хотел бы иметь свой портрет.
"У тебя паланкина нет", - отрезал Крабат и спросил, где тут нужное место, здешнее вино, мол, действует на почки, как июльское солнце на глетчеры.
Нищий указал ему дорогу, а Якубу Кушку сказал: "Твой приятель строит из себя весельчака, да только вид у него такой, будто его последние волосы сдуло ветром и теперь они растут на чужих головах, а он их ищет. От этого и впрямь кровь может скиснуть в жилах. Уж коли ты лысый, то и тверди себе, что самое милое дело, когда башка как коленка, - глядишь, ты и счастлив".
Якуб Кушк подумал: может, мы и вправду ищем то, что ветром унесло. Страна Счастья! Он вздохнул. К примеру, не далее как вчера вечером я ведь был вполне счастлив, когда сидел на старом мельничном жернове у речки, поджидая Крабата и наигрывая от нечего делать на трубе. И вдруг почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Обернувшись, я увидел автомобиль, подъехавший, видимо, уже давно, и молодую женщину рядом; она ободряюще улыбнулась мне и взглядом попросила сыграть что-нибудь еще. Я заиграл, а она подошла ближе и уселась против меня на старой тачке для мешков с мукой. Тачка была слишком низкая, и женщина это понимала.
Ее интерес ко мне был чисто профессиональным: она хотела привлечь меня к участию в ансамбле народной музыки, как сама призналась потом, когда уже давно привлекла меня к себе и мы с ней на два голоса пели песнь царя Соломона; у нее была копна густых черных волос и черные дуги бровей над карими глазами, которые никак не хотели закрываться. Я люблю саму любовь, сказала она мне тогда.
"Знаешь что, - сказал Кушк, - на сегодняшнюю ночь хорошо бы нам найти юбку с блузкой, конечно вполне заполненные, но не дополна".
Нищий заверил, что этого товара здесь полным-полно, и он ставит свою старую шляпу против их зрячих глаз, что при таком большом ассортименте они еще помаются, выбирая между вполне и дополна. И он стал подробно описывать и сам ассортимент, и надежные способы не ошибиться в выборе.
Крабат вернулся к столику и некоторое время сидел, слушая его речи, а потом сказал: "В этих делах ты ориентируешься, как блоха в собачьей шкуре. А в прочих всех тоже?"
"А ты спроси - вот и увидишь", - ответил нищий.
"Я ищу Чебалло, - сказал Крабат. - Лоренцо Чебалло".
Нищий отрицательно покачал головой, человека с таким именем в городе нету, есть только Себальдус, Оскар Себальдус. И еще Клеменс Леверенц. Только у этих двоих имена звучат хоть немного похоже.
Они подозвали кельнершу и потребовали счет. Вместо того чтобы ужаснуться при виде кругленькой суммы, проставленной там, Якуб Кушк взял счет и отнес его советнику по жилищным вопросам.
"Ты позволил себе насмехаться над Золотым Псом, приятель, - сказал он строго. - За это тебе придется оплатить мой счет".
Советник вскочил как ужаленный и принялся благодарить, то униженно кланяясь, то вытягиваясь по стойке "смирно". "Я тебе чрезвычайно признателен за твою доброту", - пробормотал он.
Он все еще кланялся, когда они были уже на винтовой лестнице. Обернувшись, нищий рассмеялся, а Якуб Кушк спросил, может, Золотой Пес все-таки существует, если его так боятся.
"Я вам его покажу, - ответил нищий. - Единожды в час Пес изрыгает лай".
Он бесцеремонно проталкивался сквозь густую толпу, незадолго до закрытия магазинов заполнившую торговые улицы и растекшуюся плотными группами по главной площади. Крабат и мельник с трудом за ним поспевали. На последнем отрезке пути - просторной, мощенной грубо отесанным камнем и почти безлюдной площади - нищий припустил рысью, и они побежали за ним вдоль стен огромного собора в стиле ранней готики к громоздкой башне, покоившейся на квадратном основании и примерно на середине принимавшей круглую форму, чтобы затем, постепенно сужаясь, легко взмыть в небо острым, как игла, шпилем.
На лестнице внутри башни, по которой они теперь взбирались, ступеньки кое-где были пропущены: видимо, кто-то счел это самым простым способом преградить посторонним доступ на колокольню. "Десятка два молодых людей, которым втемяшилось послушать вблизи лай Золотого Пса, свернули себе шею на этой лестнице", - на ходу бросил нищий.
Еле переводя дух, они добрались до колокольни и увидели один-единственный, хотя и огромный колокол. В нем оказалась большая трещина, проходившая от края почти до середины. Массивный, тяжелый язык колокола свисал вертикально, но крепление, к которому он был подвешен - то ли расшатанное временем, то ли неверно прикрепленное с самого начала, - примерно на сорок пять градусов отклонялось от горизонтального положения.
Едва Крабат и мельник Кушк осмотрели громадный колокол, как откуда-то сзади раздалось жужжание не замеченного ими часового механизма, тяжелый язык подтянулся к стенке колокола и слегка коснулся ее - послышался звук, очень похожий на глухой и протяжный зевок, - потом язык откачнулся к противоположной стенке, пришелся точно по трещине и - оттого, что висел криво, - лишь шаркнул по ней. Раздался короткий грозный лай, сменившийся постепенно затухающим злобным рычаньем.
Золотой Пес смолк; нищий бросил на своих спутников странный торжествующий взгляд - будто гордился и тем, что открыл им тайну Золотого Пса, и тем, что такая тайна существует в их городе. В то же время было видно, что, показывая механизм действия Золотого Пса, он тем не менее сам склонен был верить в существование Пса, как в некое духовное и нравственное начало, к которому, очевидно, считал и себя причастным.
И как бы отвечая на вопрос, которого ему никто не задал, или опровергая упрек, которого ему никто не бросил, он объяснил: "Во-первых, ни одна живая душа не пошла бы со мной на башню. Во-вторых, я не могу показать слепым то, что можно лишь увидеть. И в-третьих, - он рассмеялся, - щедрее подают те, у кого есть тайные причины бояться Золотого Пса. Так что пускай себе лает, тем более что я все равно не в силах заткнуть ему пасть. К тому же мне достаются лишь жалкие гроши от тех барышей, которые благодаря Золотому Псу загребают другие".
Спустившись по лестнице до того места, где сваливались вниз и ломали себе шею молодые люди, которые хотели посмотреть вблизи на Золотого Пса, они увидели в проем башни крыши и стены замка.
"Кто в нем живет?" - спросил Якуб Кушк.
"Замок пуст и мертв, - ответил нищий. - Но нужно, чтобы он был и чтобы над ним взвивался флаг".
"А где Себальдус?" - спросил Крабат.
Они нашли его в маленьком кафе, где он играл в шахматы с аптекарем; Себальдус оказался местным трубочистом в черном люстриновом пиджаке; он бережливо прихлебывал пиво и щедро сыпал скандальными историями, добытыми им из черных каналов его профессии.
Крабат отрицательно покачал головой, и они отправились искать Клеменса Леверенца. Тот стоял в высоком поварском колпаке под статуей Роланда у фасада ратуши и продавал горячие сосиски. Занимался он своим делом хоть и добросовестно, но без всякого интереса. Страстью его были органные трубы, и он весьма словоохотливо поделился своими заботами: ему посчастливилось придумать совершенно новую конструкцию; три трубы по этому принципу он уже изготовил и приступит к четвертой, как только подкопит необходимую сумму. На горячих сосисках, к сожалению, далеко не уедешь, еле хватает, чтобы сводить концы с концами, а до искусства так руки и не доходят.
Крабат заплатил за три порции, дабы материально поддержать искусство, и торговец с особым тщанием выискал для него в своем котле самые толстые сосиски, не забыв и о горчице, которую он специальной ложечкой с педантичной точностью разложил по тарелочкам.
В очереди за Крабатом стоял человек с аккуратно подстриженной черной бородкой. Глаза у него были из великолепно отшлифованных агатов с отверстиями посредине величиной с булавочную головку. Человек этот одну сосиску съел, а другую сунул в трубу Якуба Кушка.
Крабат, который все это время расспрашивал органного мастера-самоучку о сути его нового принципа, но толком так ничего и не выяснил, проходя мимо человека с черной бородкой, вдруг заметил, что нос у того непомерно велик, уши оттопырены и мотаются, как лопухи, а голова все время опущена книзу, как у страдающих специфической болезнью позвоночника.
Обогнув ратушу, они наткнулись на компанию молодежи в необычных нарядах. Молодые люди, собравшиеся там, производили впечатление театральной труппы, репетирующей пьесу-аллегорию из жизни цветов. Большинство молодых людей были в костюмах васильков, многие - в основном девушки - наряжены красными полевыми маками. Попадались также ромашки и маргаритки, но гвоздик было мало, и роза только одна.
Люди-цветы не обращали внимания на прохожих, те в свою очередь не замечали их. Живописными группами они располагались прямо на мостовой и беседовали друг с другом, поглощая принесенную с собой еду и запивая ее водой из колодца на площади; светловолосый кудлатый юноша в костюме розы тихонько напевал мелодичную песню о ветре и солнце, подыгрывая себе на гитаре: И солнце пригреет, и дождь напоит, и ветер погладит цветы. А где это все, и где они все, того не узнаешь ты. У ног певца рыжий парень-василек занимался любовью с девушкой в костюме полевого мака, растерявшего почти все свои лепестки. Она тихонько повизгивала в ритме песни, словно исполняя своеобразный рефрен к ней. На углу, у ратуши, пристроились еще несколько молодых людей из той же компании: они разложили на грубых одеялах или старой мешковине самодельные и довольно оригинальные украшения для продажи - кольца, пряжки, цепочки, по большей части из латуни или меди, филигрань и чеканка; попадались тут и деревянные резные ложки, черпаки и светильники. Вежливо и ненавязчиво они предлагали свои изделия, а цену называли в продуктах: пряжка шла за буханку хлеба, светильник за фунт сала, кольцо за пачку сахара; брали и деньгами. Они не торговались и не проявляли недовольства, хотя покупателей было мало.
Живописная компания являла собой вполне мирное, вернее, безмятежное зрелище. Даже увлеченно предававшаяся любви парочка почему-то отнюдь не противоречила общему впечатлению покоя. Вероятно, это объяснялось тем, что при всем разнообразии индивидуальностей выражение лиц у всех было на удивление одинаковое: спокойствие с налетом какой-то - отнюдь не трагической - меланхолии, по настроению соответствующее песне светловолосого юноши с гитарой.
Крабат купил кольцо у молоденькой девушки-маргаритки. Девушка была нежная и хрупкая; ее темные волосы, разделенные четким пробором посередине, свободно рассыпались по спине и плечам, а светлая льняная блуза, вся в складках наподобие лепестков, была приспущена с правого плеча так низко, что обнажала маленькую полудетскую грудь, почти целиком умещавшуюся в руке юноши тоже в костюме маргаритки, на коленях которого она сидела. Юноша не гладил и не сжимал рукой ее грудь, а просто держал в ладони, то ли согревая своим теплом, то ли защищая от чего-то, а скорее всего, просто в знак их принадлежности друг другу. Глаза у девушки были из дорогих топазов, у юноши же из простого светло-голубого стекла.
Нищий прошептал Крабату на ухо: "Хочешь вот эту малышку? Но она стоит дорого, целый мешок сахара".
Юноша поднял голову; "В этом месяце ей хватит на жизнь, нищий". И он обнял другой рукой бедра девушки.
Она прильнула к нему и сказала: "Говорят, у совы отец был хлебник. Господи, мы знаем, кто мы такие" но не знаем, чем можем стать" (В. Шекспир. Гамлет. Перевод М. Лозинского).
Отойдя от них, нищий рассмеялся и сказал Крабату: "И кроме всего прочего: никакого тебе удовольствия. Ты трудишься в поте лица, а она лежит себе, как бревно, и цитирует Офелию. Тут кто хочешь собьется с ритма".
Улица, спускавшаяся прямиком к трактиру "Волшебная лампа Аладдина", была перегорожена. Стена высотой в два человеческих роста, тянувшаяся раньше вдоль левого тротуара, была с помощью огромных кранов, работающих почти бесшумно, перенесена на правую сторону улицы. Эта стена состояла из громадных - снаружи черных, внутри светло-зеленых - тесаных глыб, между которыми кое-где были вмазаны небольшие кубики из толстого розового стекла. Этих стеклянных кубиков, позволявших заглянуть сквозь стену, не было в старой кладке; наружная поверхность у них была выпуклой. Вмазаны они были на таком расстоянии от земли, что при желании посмотреть сквозь них приходилось становиться на колени. Под таким углом зрения всё в городе - и люди, и дома - виделось в розовом свете и намного крупнее, чем было в действительности.
За линией старой стены, подступая к ней почти вплотную, лепились приземистые, подслеповатые бараки, меж которыми вздымались вверх коробки двух одинаковых зданий без окон, производивших тем не менее отнюдь не мрачное, а скорее даже приятное впечатление. Оба здания были окрашены в золотисто-желтый цвет и отличались лишь изображениями на огромных декоративных фризах. На одном здании фриз представлял веселых пекарей за работой, на другом восхвалял в цветной эмали труд плотников.
Нищий не мог решить, хорошо ли, что стену перенесли, или плохо: с одной стороны, сказал он, хорошо, что горожане потеряли улицу, так им, болванам, и надо; с другой стороны, "окраинные" тем самым продвинулись в глубь города, а это настораживает.
"Окраинные", то есть жители лачуг за городом и приземистых бараков по ту сторону стены, такие же зрячие, как и он, что само по себе в какой-то степени естественно и, - разумеется, cum grano salis (Буквально: с зерном соли - то есть с некоторой иронией, язвительно (лат.)) - представляют собой чуждый, потенциально опасный для города элемент, без которого город, однако - и это также вполне естественно, - не может обойтись, ибо некому будет печь хлеб и стругать доски. К сожалению, этому симбиозу, хорошо сбалансированному и полезному для обеих сторон, в последнее время все чаще угрожают экспансионистские или даже аннексионистские поползновения "окраинных". Подавай им то пол-улицы, то целую улицу... Доступ в город, само собой разумеется, открыт для всех, нужно только временно сдать свои глаза. Есть специальная мастерская, где глаза им подбирают по желанию даже из полудрагоценных камней - в кредит и при предоставлении достаточных гарантий. Некоторые пользуются этой возможностью, но большинство хочет невозможного: сохранить свои глаза и стать полноправными гражданами города. В результате возникла бы полная неразбериха и... Тут ему пришла в голову такая потешная и нелепая мысль, что он весь затрясся от хохота и вынужден был прислониться к стене.
Сквозь смех он наконец выдавил: "Представьте себе, какая бы заварилась каша!"
Видимо, он сам попытался это представить, потому что вдруг сразу помрачнел и даже не на шутку забеспокоился.
Оглядевшись по сторонам и не обнаружив никого поблизости, он все же придвинулся вплотную к Крабату и Кушку и прошептал: "Ну ладно, нищий станет императором, хорошо - то есть ничего хорошего я тут не вижу, - но ПЕС этого не потерпит, и тогда повешенных не оберешься!"
Он увидел по их лицам, что они ничего не поняли. Тогда он поднял с земли острый камешек и нацарапал на тротуаре шесть кругов, но, едва закончив, испугался и хотел все стереть.
Однако Крабат и Якуб Кушк уже подошли и стали смотреть вниз, - вниз на главную площадь, на темном покрытии которой четко выделялись шесть кругов, выложенных белым мрамором. Посреди площади стоял герольд, разряженный, как попугай; герольд возвестил: "Граждане, выбирайте выборщика!"
В сумятице голосов, выкрикивавших разные имена, все чаще и громче звучало одно имя, которое в конце концов стали скандировать все горожане - там были одни мужчины, - столпившиеся вокруг огороженного пространства с шестью кругами: Се-баль-дус.
Трубочист Себальдус, видимо, предчувствовал свое избрание, потому что вынырнул из толпы, как только герольд, словно ища его, подошел к краю ограждения; на трубочисте был уже не люстриновый пиджак, а голубой сюртук хорошего покроя на желтой шелковой подкладке, как и полагалось по обычаю. В сопровождении герольда он торжественным и неспешным шагом совершил круг почета по огражденному пространству; толпа замерла в молчании, и над головами поплыли звуки органа в тональности до мажор и до минор, долго еще висевшие над площадью и после того, как орган умолк.
Герольд и выборщик возвратились на середину площади, и Себальдус, не сходя с места, трижды медленно и неуклюже повернулся кругом, очень смахивая при этом на танцующего медведя, а потом под звуки органа, игравшего в той же тональности, зашагал вперед. Невидимый орган умолк, когда он приблизился к первому кругу, а как только он в него вступил, зазвучал вновь, теперь уже в тональности фа мажор. Герольд возвестил: "Круг нищего!"
Толпа зааплодировала. Себальдус снова трижды повернулся кругом, прежде чем двинуться дальше, ко второму кругу.
На этот раз орган заиграл в тональности си мажор, и герольд выкрикнул: "Круг крестьянина!"
Вновь раздались аплодисменты, и опять выборщик Оскар Себальдус двинулся дальше, выполняя свой почетный долг: найти шесть звучащих кругов и назвать их - круг нищего, круг крестьянина, горожанина, дворянина, короля и императора, чтобы выборы в городскую управу происходили в точном соответствии с уставом города.
Наконец последний круг был найден и назван. Теперь музыкантская команда парадным маршем продефилировала по площади и заняла место на трибуне возле ратуши. Грохнули пушечные залпы, взвились в небо и разорвались на умеренной высоте ракеты, из которых на землю дождем посыпались пластмассовые бутылочки с водкой и коньяком. В ликующий рев толпы вплелась мелодия наимоднейшей песенки "И ангел вдруг с небес ко мне на лошадь влез", исполняемой музыкантской командой, а с крыш всех зданий, обрамлявших площадь, на огромных парашютах-крыльях прямо в толпу мужчин опустились девушки в костюмах ангелов и фей.
Только после того, как музыканты повторили мелодию песенки три раза вместо положенных двух, восьмерым фанфаристам, стоявшим на балконе ратуши, удалось в какой-то степени привлечь внимание толпы к герольду, чтобы он мог возвестить о начале выборов.
Распорядители выловили в толпе и удалили с площади растрепанных фей и ангелов, и из дверей ратуши торжеств венным шагом вышли прежние отцы города - бургомистр, комендант и казначей, которые по уставу имели право заново выставить свои кандидатуры на выборах, а от трех групп избирателей - город делился на три округа - выступили вперед еще три кандидата, уже отобранные на предварительных выборах. Все они были в одинаковых спортивных костюмах из голубого и желтого шелка. В задних рядах шумно суетились букмекеры, принимая последние ставки.
По сигналу герольда шестеро кандидатов под звуки органа, игравшего в первоначальной тональности, двинулись на середину площади, где выстроились в кружок лицами к толпе, словно для хоровода наизнанку. - Под те же звуки органа они стали исполнять диковинный танец, плотным кольцом медленно и торжественно двигаясь по кругу и низко кланяясь через каждый шаг.
Тем временем выборщик Оскар Себальдус, двигаясь в том же ритме и тоже низко кланяясь через шаг, внес игральный мяч величиной с кокосовый орех в "круг нищего". Едва выборщик, положив мяч в середину круга, вышел из него, как орган смолк, странный хоровод в центре площади распался и танцоры бросились врассыпную, чтобы найти для себя круг; орган вновь заиграл, отмечая успехи каждого из них.
Взрывами хохота и злорадных рукоплесканий толпа наградила бывшего бургомистра, угодившего в "круг нищего", а ободряющие выкрики адресовались главным образом кандидату третьего округа, самому знаменитому спортсмену города, попавшему в "круг короля". Кое-кто из букмекеров под шумок еще принимал высокие ставки на этого человека, хотя после занятия кругов это запрещалось уставом.
Смех вызвал и городской казначей Фаллориан, оказавшийся в "круге императора": Фаллориан на всех семи предшествующих выборах вначале всегда занимал этот круг, а в конце неизменно скатывался в третий - "круг дворянина". Поскольку за четыре года, прошедшие со времени последних выборов, Фаллориан сильно разжирел и нажил астму, никто не верил, что он и в восьмой раз сумеет добраться до этого круга.
Опять выступил вперед герольд; он огласил "Положение о выборах", которое и так все знали наизусть, спросил, как полагалось по закону, не желает ли кто-либо опротестовать процедуру подготовки и хода выборов на данный момент, - желающих не оказалось, - назвал имена кандидатов в алфавитном порядке: Бетиус, Мунк, Ракиа, Сартори, Фаллориан, Эрасмунт - и произвел пушечный выстрел, возвещавший начало решающей игры.
В течение десяти минут воздух над площадью кипел, бурлил и клокотал от рева болельщиков, имевшихся, по-видимому, у всех кандидатов, за исключением разве что Эрасмунта, коменданта; но самыми горластыми приверженцами, вне всякого сомнения, располагали Мунк - спортсмен и Бетиус - глава гильдии мясников.
Мяч, дававший о себе знать пронзительным свистом, перелетал из конца в конец огороженного пространства, кандидаты, соблюдая правила игры, с большим рвением и хитростью боролись за круги, и, когда новый пушечный выстрел возвестил последнюю минуту матча, Мунк оказался в "круге императора", Бетиус рядом с ним в "круге короля", а Фаллориан, бывший бургомистр Ракиа и Эрасмунт почти безнадежно застряли на последних кругах. Площадь ревела и бесновалась, теперь уже только имена спортсмена и мясника гремели в воздухе. Но когда грохнул третий и последний выстрел, пригвоздивший каждого кандидата к тому месту, где он стоял, и толпа замерла затаив дыхание, а орган заиграл бравурное вступление, сменившееся затем тональностью ре мажор, выбранной Себальдусом для "круга императора", то оказалось, что последняя минута смешала все карты: в "круге императора" стоял плюгавый, неказистый и тощий Эрасмунт, бывший комендант. По уставу и обычаю он стал на четыре года бургомистром города.
Раздались аплодисменты в его честь и выкрики "долой".
Орган заиграл в тональности до мажор для "круга короля". В этом круге стоял Ракиа, прежний бургомистр и новый комендант города.
Тональность ля мажор означала "круг дворянина"; кто злым, а кто и веселым смехом встретил известие, что жирный астматик Фаллориан в конце концов добился-таки опять должности городского казначея.
Тем самым триумвират городской управы был полностью укомплектован, а игра в выборы была проведена в острой и напряженной борьбе; правда, ее исходом горожане были не совсем довольны. Но поскольку все правила были соблюдены, начиная с тайных выборов Оскара Себальдуса выборщиком, а спортсмена Мунка, мясника Бетиуса и директора гимназии Сартори кандидатами округов и кончая подготовкой и проведением решающей игры, они удовольствовались тем, что громкими рукоплесканиями еще раз выразили свои симпатии потерпевшим поражение кандидатам.
Высшее право - равные возможности для всех - было соблюдено, а что побеждает всегда достойнейший, тоже было каждому известно, и, значит, торговец Фаллориан, хлебозаводчик Ракиа и владелец мебельной фабрики Эрасмунт оказались достойнейшими, и было бы в высшей степени неразумно и вредно для всех, если бы вдруг к власти пришли менее достойные.
Теперь горожане столпились вокруг букмекеров. Выигрыши были невелики, поскольку большинство участников заранее сделали ставку на поражение своих кандидатов, которых они сами выбрали и во все горло старались поддержать.
Новый бургомистр тут же на площади назначил спортсмена Мунка советником по жилищным вопросам, главу гильдии мясников - советником по народному образованию, а филолога Сартори - комиссаром по ценам и заработной плате. Все три назначения были встречены бурными аплодисментами, а несколько самых уважаемых горожан в порыве энтузиазма даже внесли в ратушу на своих плечах трех только что избранных правителей города, в том числе и толстяка Фаллориана.
Якуб Кушк в сердцах уже открыл было рот, чтобы напрямик спросить нищею, знает ли хоть кто-нибудь в городе, что у этой досточтимой троицы глаза настоящие, но вдруг заметил, что воробей, взлетевший в тот момент, когда нищий нарисовал круги на тротуаре, а потом испугался и хотел их стереть, всего два-три раза взмахнул крыльями: значит, время почти стояло на месте.
Крабат примирительно положил руку на плечо друга, словно желая его предостеречь, и сказал нищему: "Вол сидит на дереве, целый день умещается в спичечном коробке - все на свете относительно. Часы перемалывают время, мельница отсчитывает урожай, кровать служит опарой, а хлеб замешивают в гробу. Или наоборот. Все можно вывернуть наизнанку, главное, чтобы у тебя были хлеб, кровать и гроб. У кого хлеб, тот бог для тех, у кого его нет".
Нищий, вначале немного смутившийся, теперь оправился и весело подхватил:
"И если у тебя есть брачное ложе, то и невеста найдется. И если у тебя есть гробы, то чужие слезы обратятся в вино на твоем столе. Старо как мир! На этом держится жизнь. Там, - он показал на два высоких здания без окон, - все это известно. Ракиа печет хлеб для всего города. А Эрасмунт производит только кровати и гробы, лишь он один во всем городе. У него погреб полон самых лучших вин, а уж насчет женщин... Сам он похож на обглоданную селедку, но известно, что супружеской кровати не приобретешь, пока невеста не даст ему задаток".
От городских ворот к главной площади тянулся длинный караван тяжело нагруженных ослов.
"Фаллориан, наш бог торговли, видимо, опять заключил выгодную сделку, - тоном экскурсовода сказал нищий и вдруг ехидно ухмыльнулся. - Кстати, только одних ослов впускают в город, не заставляя сдавать глаза на хранение".
Якуб Кушк спросил его с такой же ухмылочкой: "А почему бы тебе не принять участие в игре и не стать, например, бургомистром?"
Нищий подумал немного, потом пожал плечами.
"Уж ты скажешь тоже! Мне - бургомистром! Зачем, скажи на милость, для чего? Да мне и некогда. "Волшебная лампа" съедает уйму времени, ведь трактир принадлежит мне. Зря, что ли, я городской нищий? Любому городу нужен свой нищий, без него счастье горожан было бы неполным. И мое жалованье стоит у казначея отнюдь не в самом конце выплатной ведомости!"
"Но на самом деле, - продолжал он, уже на ходу, - все гораздо сложнее, чем кажется вам, зрячим, и проще пареной репы, как кажется им, незрячим. И если не принимать близко к сердцу, то иногда даже забавно взглянуть на все это одним глазком. - Он рассмеялся, заметив невольный каламбур. - Теперь мне и впрямь пора взглянуть одним глазком на свое хозяйство. Само собой разумеется, что вы - мои гости".
Глава 6
Трактир "Волшебная лампа Аладдина" располагался в узеньком заасфальтированном тупичке - там, где сходились городская стена, замок и фабричная ограда. Над тяжелой сводчатой дверью из мореного дуба, которая вела в трактир - а в него упирался тупичок, - медленно вращался, мерцая то красным, то зеленым, большой кованый фонарь; он был соединен с музыкальным ящиком, из которого раздавалась какая-то странная, словно вихляющая мелодия, настолько резавшая слух, что Якуб Кушк в ужасе зажал уши руками.
Нищий улыбнулся и, войдя в дверь, которая сама собой распахнулась перед ними, нажал на какую-то кнопку. Фонарь начал вращаться в обратную сторону, и звуки сложились в мелодию танца из оперы "Калиф Багдадский". Через несколько тактов нищий снова переключил ящик на обратный ход. "Приевшиеся вещи вновь становятся привлекательными, если подойти к ним с обратной стороны, - заметил он. - Эта житейская мудрость, кстати сказать, основа моего увеселительного заведения".
Не только манера говорить и двигаться, но и весь его облик изменились до неузнаваемости: нищий остался за дверью, а перед ними стоял уверенный в себе хозяин дома, скупым жестом приглашая гостей войти внутрь. Они вошли и увидели просторное помещение, сильно смахивавшее на костюмерную солидного театра. Трое муж-чип средних лет и две женщины, намного их моложе, громко и весело болтая, раздевались догола и сдавали одежду гардеробщицам, а те вешали ее на плечики и подтягивали на блоке под самый потолок. Оставив при себе лишь бумажники или сумочки, гости выбирали из нищенских лохмотьев, имевшихся здесь в большом ассортименте, то, что приходилось им по вкусу; одна молодая дама ограничилась рваной бумазейной рубашкой и обтрепанной шалью, которую повязала вокруг бедер.
Хозяин заведения с привычной: учтивостью приветствовал гостей и, расхваливая только что полученную зернистую икру, запустил руку под бумазейную рубашку молодой дамы. Та как ни в чем не бывало продолжала приводить в беспорядок свою тщательно уложенную прическу, болтая без умолку о предстоящем вечере по случаю дня рождения ее супруга, который они весело проведут сегодня в "Аладдине".
Хозяин дома поздравил виновника торжества, пожелал всем приятно провести вечер и сделал Крабату и Якубу Кушку знак следовать за ним. Миновав короткий и узкий переход со сводчатым потолком, они попали в другой вестибюль, куда выходили еще две двери: одна - для гостей из-за городской стены, другая - для жителей огороженной части города; обе двери были такие крохотные, что войти в них можно было только боком и пригнувшись.
Гардероб здесь был невелик, но зато совсем иного свойства: костюмы из самого тонкого сукна, дорогие вечерние туалеты, белье в кружевах, блестящие мундиры и ко всему этому богатству еще два сундука с драгоценностями, настоящими и поддельными.
Здесь гостей встречали пятеро гардеробщиков ростом никак не ниже метр девяносто и таких дюжих, что каждый из них играючи мог преградить вход в любую из дверей.
"Гости, прибывающие в заведение с этой стороны, - сказал хозяин дома, чтобы объяснить или оправдать присутствие в гардеробной этих чемпионов по боксу и борьбе, - приходят сюда зрячими, выбирают туалеты и украшения и лишь после этого сдают на хранение глаза. И слабосильными этих плотников и пекарей или крестьянских парней из-за городской стены никак не назовешь, так что здешние молодцы отнюдь не лишняя мера предосторожности". По его знаку один молодец открыл железный ящик, и перед ними засверкали, заискрились двадцать четыре пары глаз из великолепных драгоценных камней, уложенных по цветам и размерам. С этой стороны в заведение не впускали сразу большого числа гостей. Из внутренних помещений дома появился красивый юноша в белых шароварах и красной феске и что-то шепнул шефу на ухо, тот кивнул и обратился к Крабату и Якубу
Кушку: "К сожалению, мне придется покинуть вас на время, - сказал он. - Но мой дом в вашем распоряжении. Как только освобожусь, непременно присоединюсь к вам, если, конечно, вы, - он любезно улыбнулся, - до тех пор не найдете более приятной компании".
Кусок стены со скрипом повернулся на невидимых и, по всей вероятности, ржавых петлях, и нищий исчез в образовавшемся проеме, тут же плотно закрывшемся за ним. В сопровождении молодого красавца в костюме турка Крабат и Якуб Кушк вошли во внутренние залы "Волшебной лампы Аладдина".
На первый взгляд казалось, что заведение это либо строилось без всякого плана, либо к первоначальному зданию впоследствии постепенно пристраивались новые помещения, так как все комнаты носили отпечаток разных эпох и разнобоя во вкусах строителей. Из ультрасовременного бара, сверкающего хромом и никелем, в котором за бокалом содовой сидели со скучающим видом лишь три плоскогрудые девицы, они спустились по витой каменной лестнице с выщербленными от времени ступеньками и оказались в караван-сарае, где два морских офицера - не то адмиралы, не то капитаны - громко торговались с несколькими весьма смазливыми погонщицами верблюдов. Денег у офицеров, по-видимому, было в обрез, как и предметов туалета у девиц. Из караван-сарая узкий, занавешенный старыми верблюжьими одеялами переход вел в средневековый винный погребок, а поднявшись по другой лестнице, они попали в типичную баварскую пивную. В обоих залах кельнеры и кельнерши стояли наготове в ожидании гостей. Якубу Кушку очень приглянулись кельнерши в винном погребке, но Крабат потащил его дальше.
Портовый кабачок, курильня опиума, японский чайный домик с улыбающейся гейшей Серебряный Серп Месяца, турецкая кофейня - они совсем заблудились и уже не понимали, что внизу, что наверху, что в самом заднем уголке, а что рядом с первой или второй гардеробной Якуб Кушк сказал: "Насчет девочек нищий не соврал, но в остальном его заведение сильно смахивает на мышеловку. Не пора ли сматывать удочки, брат, пока кошку не впустили!"
Крабат беззаботно возразил, что с удовольствием познакомился бы с кошкой, коль скоро она существует. О том, что охотно вернулся бы к гейше, он умолчал.
Они вошли в английский клуб: чопорный слуга, электрический камин, в глубоком кожаном кресле - лорд. Нос у лорда был непомерно длинен, а уши непомерно велики; он был, по всей видимости, глуховат: в правом ухе у него торчал слуховой аппарат величиной с пуговицу.
Крабат потянул Якуба Кушка за портьеру и вытащил из его трубы сосиску, которую этот лорд засунул туда перед прилавком Леверенца. Он снял кожицу с сосиски, прилипшей к трубе так прочно, словно она уже срослась с ней, и сосиска, оказалась крошечным радиопередатчиком.
Он поднес сосиску к губам Кушка и жестом дал понять, чтобы тот изобразил на трубе пистолетный выстрел - у него это очень похоже получалось. Якуб Кушк набрал в легкие побольше воздуха, вынул заглушку и дунул так, что ушастый лорд взлетел в воздух, как будто его катапультировали, плюхнулся обратно в кресло и замер в каменной неподвижности, словно соображая, жив он еще, хотя бы отчасти, или уже окончательно умер.
Крабат вновь сунул передатчик в сосисочную кожицу, а Якуб Кушк стал приглядываться, ища укромное местечко, куда можно было бы надежно спрятать аппарат. В переходе между венским кабачком с оркестром народной музыки и каким-то помещением, где они еще не были и где, судя по смеху и гомону, веселились вовсю, он обнаружил туалет и счел это место самым подходящим. Крабат прилепил передатчик под сиденье, ибо контроль за деятельностью кишечника граждан тоже должен входить в круг обязанностей их тайных соглядатаев.
Помещение, где столь шумно веселились, было самым большим в заведении и походило на деревенский трактир с полотен Брейгеля. Вероятно, в нем раньше и был трактир, положивший начало всему остальному.
Зал, уставленный грубо сколоченными тяжелыми столами, был набит битком; буфетчик и девушки, обносившие гостей кушаньями и напитками, буквально сбивались с ног.
Когда две девушки пронесли на подносе огромные глиняные миски с аппетитно дымящимися клецками, кислой капустой и копченой грудинкой, Якуб Кушк забыл все свои опасения и стал высматривать, нет ли где свободного местечка. За огромным круглым столом в углу зала, занятым изрядно захмелевшей и крайне разномастной компанией, он заприметил ту дамочку, что вырядилась в рваную бумазейную рубашку. "Там можно, пожалуй, выкроить местечко, - заметил он, - правда, только одно".
"Обо мне не беспокойся, - сказал Крабат, - побеспокойся лучше о том, как схватить кошку за хвост раньше, чем она тебя за горло!"
Якуб Кушк возразил, что именно это он собирается сделать и что это - та самая кошка, на которую у него руки чешутся. Он поднес к губам трубу и заиграл: О девица Мадлен... Лица всех гостей мгновенно повернулись в его сторону, а за круглым столом один весельчак тут же подхватил: Колышек с двери-то выбрось, у меня получше вырос, о девица Мадлен! Второй куплет пели уже все, а мельник Кушк направился прямиком к круглому столу и бесцеремонно втиснулся между дамочкой в бумазее и оборванцем пиратом; пират было заартачился, но дамочка с готовностью потеснилась, высвободив место веселому музыканту.
Наблюдая за происходящим, Крабат всем своим существом вдруг ощутил беспричинную, непонятную тревогу, какое-то смутное беспокойство, зародившееся где-то в глубинах подсознания, - необъяснимое, неосознанное и потому необоримое. Он вспомнил о нищем, так и не показавшемся больше на глаза, о большеухом лорде... А Якуб Кушк в веселой компании как ни в чем не бывало вовсю распускает руки и, кажется, не встречает препон или запретов. Слишком открытая местность, надо быть начеку, мне очень жаль, Серебряный Серп Месяца, очень жаль.
Отыскав свободное место неподалеку от круглого стола, Крабат взял с буфетной стойки большой стакан красного вина и уселся на лавку спиной к стене, обшитой деревянной панелью. Слева и справа от него за столом восседали почтенные дамы и господа с довольно кислыми физиономиями; кое-кто из них, правда, подпевал громкому хору за круглым столом, грянувшему теперь разудалую песенку о девице из Монтиньяка, которая "имела колодец лишь один, но вволю напоила всех жаждущих мужчин", однако пение их отдавало не весельем, а скорее потугами показать свою причастность к общему веселью. В числе подпевавших был молодой щеголь с очень красивым и сильным голосом, на звук которого обернулась красавица цыганка в отрепьях, сидевшая за соседним столом; цыганка коснулась ногой щиколотки певца, и он тут же пододвинул свой табурет, подсел к ней и обнял ее за оголенные плечи. Однако оборванка стряхнула его руку и заявила: "Поёшь ты недурно, только весь клеем провонял". Ее сосед, с виду похожий на жестянщика, проворчал: "Проваливай отсюда, гробовщик!" - и отпихнул табурет на прежнее место.
Молодой щеголь побагровел до корней волос и ретировался к стойке, а компания за соседним столом раскатистым хохотом встретила непереводимый каламбур французского анекдота. Там пустили по кругу большой кувшин, и цыганка хлебнула так, что красное вино потекло в ложбинку на ее откровенно обнаженной груди.
Крабат тоже осушил свой стакан, и вино привело его в такой восторг, что он тут же заказал еще, но, прежде чем пригубить, приветственно поднял стакан в сторону Якуба Кушка, успевшего уже окончательно оттеснить пирата - по крайней мере с палубы - и взять на абордаж бриг с парусом из бумазеи. В ответ Кушк подмигнул другу - есть, мол, тут и другие корабли, которыми стоит заняться, но Крабат колебался: гейша Серебряный Серп Месяца была красивее.
Тут он заметил девушку, сидевшую на верхней ступеньке невысокой каменной лестницы, что вела в трактир. Одета она была скромно - пи лохмотьев, ни бархата - в простое короткое платьице цвета янтаря и уличные туфли на толстой подошве. Ее темные волосы были коротко подстрижены и гладко причесаны, а на лице лежала тень грусти - той непоказной, так сказать, естественной и затаенной грусти, способной в любую минуту засветиться улыбкой, улыбкой Смялы, которую Крабат не сразу узнал, когда Якуб Кушк лепил ее голову из глины. Казалось, девушка почувствовала его взгляд и медленно, словно против воли, слегка раздвинула колени.
При этом она залилась краской, а может, на нее просто упал красный отблеск светильника из разноцветного стекла, плавно вращавшегося над стойкой. Но веки ее задрожали, это уж точно. Она подняла обе руки к горлу, чтобы расстегнуть пуговицы, но пуговиц не было, и пальцы ее нервно и как бы вслепую бесцельно блуждали по мягкой ткани.
Крабат подошел к ней.
Она прошептала так тихо, что он едва расслышал: "У тебя есть деньги?"
Наверно, они ей для чего-то очень нужны, решил он и сказал: "Я подарю тебе все, что тебе нужно".
Но она отрицательно качнула головой и сказала, на этот раз четко и ясно, и голос ее звучал холодно и тускло: "Я стою тридцать серебряных монет".
Поскольку он медлил, она встала со ступеньки - и отшатнулась в ужасе, увидев, что глаза у него зрячие. У нее самой только левый глаз был стеклянный.
Крабат поцеловал ее; она не сопротивлялась, но казалась безучастной, а потом вдруг потянулась к нему и тут же оттолкнула от себя.
"Что зрячему лабиринт, то слепому дворец; я на спине, твои деньги на моем глазу", - пробормотала она. Крабат поднял ее и понес по переходу, сам не зная куда; кабачок с народной музыкой он миновал - может быть, в караван-сарай, там пустовато. Девушка ткнула ногой в стену, открылась дверца, за ней вилась вверх узкая лестница, сложенная из неровных камней. Девушка соскользнула на пол и потянула Крабата за собой вверх по лестнице, все выше и выше, и, чем выше они взбирались, тем веселее она становилась. Она сбросила платье, размахивала им над головой, как флагом, и пела: Святой Мартин свой скинул плащ и скачет на коне. Так не угодно ль скинуть все и поскакать на мне...
Лестница привела их в круглую, совершенно пустую комнату без окон. Девушка, все еще смеясь и напевая, стащила с плеч Крабата куртку и бросила ее прямо на каменный пол рядом со своим платьем. Велев ему сесть на одежду, она сама тоже уселась перед ним и сильно откинулась назад, словно собралась кататься на санках; тут уж и Крабат заметил полукруглое отверстие в стене; в него они оба теперь нырнули и по гладкому полу, словно по ледяной горке, понеслись по наклонной узкой трубе все быстрей и быстрей, пролетели на бешеной скорости несколько поворотов, одолели крутые подъемы и почти отвесные спуски; девушка обхватила руками его лодыжки, а он - ее плечи, ни на минуту не забывая о своем чудо-жезле и опасаясь потерять его на этом адском пути. С последнего крутого спуска их вынесло на длинный и плавный подъем, и дьявольский лабиринт закончился большим бассейном с теплой водой, источающей дивный аромат.
Над ними в иссиня-черной бездонной выси сияли звезды, и призрачный серп молодого месяца смутно мерцал, чуть поднявшись над далеким горизонтом; от звезд и месяца струился еле заметный свет, придававший окружающей тьме глубину и прозрачность. Иллюзия была настолько полной, что лишь спустя некоторое время глаз начинал различать затянутые черным бархатом стены.
Девушка первой вышла из воды и, внезапно утратив былое веселье, молча дожидалась Крабата у массивной деревянной двери. Ночное небо позади вмиг погасло. В комнате, которая открылась за дверью, горел камин, рядом стоял роскошно сервированный стол, а посередине - огромное квадратное ложе, застланное волчьими шкурами.
Девушка сбросила с себя те лоскутки батиста, которые на ней еще оставались, и опустилась на ложе - белая, слегка розоватая кожа на фоне темных шкур.
Он увидел, что она очень похожа на Смялу, и лег рядом. Запах, исходивший от ее кожи, так походил на запах Смялы, что он сказал: "Не хочу тебя покупать".
"Так надо. - Она заплакала. - Разве ты не видишь, что у меня один глаз зрячий?"
У нас здесь соблюдается особый и хранящийся в величайшем секрете обряд вступления в совершеннолетие. Девочки готовятся к нему семь лет, мальчики восемь. Все это время они живут в специально отведенной части города, в строгой и с каждым годом усиливающейся изоляции от жизни за стенами их школ, интернатов, площадок для игр, стадионов и парков.
Там мы учимся верить, пояснила она, не отваживаясь говорить об этом подробнее.
Воспитание завершается большим и шумным праздником - праздником сожжения детских башмаков. Ему предшествует обряд "вручения глаз" - пятнадцатилетние получают из рук бургомистра символическую пару глаз из простого стекла, одну на всех. На самом же деле после того, как служитель в зеленом облачении соберет и сложит в золотую чашу зрячие - "делающие несчастными" - глаза подростков, другой служитель, в белом, вручает им новую пару глаз по выбору и в соответствии с имущественным состоянием их родителей.
Когда подошла ее очередь сдавать глаза, рядом с ней вдруг оказался нищий и вместо нее положил в чашу свой правый глаз. Он заговорщицки улыбнулся ей и сделал знак молчать.
В первый миг она застыла от ужаса, потому что на ум ей сразу пришла детская сказка "Об искушении" и бесчисленные литературные вариации на эту тему. О литературных вариациях они писали сочинения, а саму сказку все дети заучивали наизусть.
Жил-был на свете человек, он был весел, счастлив и всем доволен. Однажды он гулял в своем саду и вдруг услышал голос, который тихо шепнул ему на ухо: "Ты счастлив, но не видишь своего счастья. Если бы ты его увидел, ты был бы в десять раз счастливее".
Этот вкрадчивый и манящий голос принадлежал женщине. Вместо того чтобы броситься прочь, человек остановился и спросил: "Как же мне увидеть свое счастье?"
"Я дам тебе свой глаз, - ответил голос. - Вот, возьми".
Человеку очень захотелось увидеть свое счастье и эту странную, таинственную женщину. Он взял глаз.
И увидел на дереве змею; змея была одноглазая.
Змея сказала своим вкрадчивым, манящим голосом: "Кто умен, тот сильнее всех. А кто сильнее всех, тот и всех счастливее".
Человек вошел в свой дом и увидел, что дом его беден и грязен. Он увидел, что жена его некрасива и неуклюжа. Она показалась ему отвратительной, и он ушел из своего нищенского дома. Он увидел замок и захотел жить в нем.
Замок был пуст, и он завладел им. Все двери сами собой распахивались перед ним, и только одна оказалась запертой. Человек попробовал открыть ее силой. Дверь поддалась, и, войдя в нее, человек оказался за пределами замка и за пределами города. Увидев это, он заплакал от горя, и слезы его стали рекой, а тело превратилось в сухой песок.
Нищий догадался, о чем она думает.
Он прошептал ей на ухо: "Бабьи сказки! Кто умен, тот и счастлив. Ибо среди слепых одноглазый - король".
Она считала себя умной, да и заманчиво было взглянуть хоть одним глазком на мир взрослых. Она кивнула в знак согласия и протянула нищему, одетому лучше всех присутствовавших, свой второй глаз из драгоценного камня.
Она оказалась не так умна или не тем умом умна.
А может, то, что она увидела, разъело ее ум, как ржавчина разъедает железо.
Старая сказка для детей была права: зрение не приносит счастья. Семь лет она училась верить, семи месяцев хватило, чтобы утратить веру во все на свете; теперь она и правду принимала за ложь, честность - за лицемерие, а справедливость - за обман.
Она покинула родителей и друзей и стала прятаться по темным углам; один раз ночевала на колокольне собора и открыла тайну Золотого Пса.
Наутро она встала посреди главной площади и во всеуслышание объявила о своем открытии. Но люди большей частью просто не обращали на нее внимания, одни смеялись, другие угрожали, самые добрые предостерегали. И никто ей не поверил. Она отступилась и пошла к людям-цветам на углу за ратушей; она попробовала жить, как они.
Но зрячий не может не видеть, и она невольно заговорила с ними о том, что видела. Но и тут никто не хотел об этом слышать, а если и слушал, то не воспринимал. Город прогнил и разложился, говорили они, ну и пусть себе гниет и разлагается. Что тебе нужно от жизни - всего лишь лоскут материи, чтобы прикрыть тело, да немного еды, чтобы насытиться; иди ко мне, я спою тебе песню и, если захочешь, лягу с тобой, так будет сегодня и завтра, а до послезавтра еще столько воды утечет.
Девушка сбежала от этой слепоты и попыталась прибиться к людям, жившим за городской стеной. Там пахло потом и нищетой, на столе одна миска на всех, вздутые от похлебки животы, жесткие постели, ночлег вповалку и затхлая вода из речки. Люди там, правда, приветливы и добры, но крайне невежественны, и девушка принялась их учить, однако они не захотели учиться, и однажды она вновь пробралась в город.
Дома ее встретили радостно, и отец, управляющий делами на фабрике гробов и кроватей, устроил празднество в ее честь; хуже всего было то, что праздник ей нравился, и она чувствовала себя счастливой. Ведь знала же, что из-за этого праздника каждому обитателю лачуг за городом досталось на одну ложку меньше похлебки из общей миски.
Тем не менее она была счастлива и радовалась празднику; однако на следующий день взобралась на башню собора, не желая больше разделять с городом его счастье.
Но там, наверху, выглянув из проема в стене, она отшатнулась в ужасе, и смерть презрительно ухмыльнулась ей в лицо, а она отползла в безопасное место, и ее вырвало от отвращения к себе самой.
В переулке Благородных Рыцарей жила женщина, к которой многие обращались за советом. Считалось, что она - живая история города, а некоторые добавляли - и его совесть, а посему ей ведомо их общее будущее - пусть не в деталях, а только в самом общем виде. И отцы города - конечно, втайне от всех - прислушивались к ее советам, так что мнение этой женщины - ее звали Александра Цезарея - влияло на все, что исходило из ратуши.
Кому по плечу крупные проблемы, тот наверняка не хуже смыслит и в мелких, полагали жители города и шли к Александре Цезарее со своими житейскими заботами и тайными тревогами; и она никогда не отказывала в совете при покупке дома или заключении брака, в случае измены или надвигающегося банкротства; она разбиралась и в философии - как в житейской, для простых людей, так и в мудреной, для ученых философов; знала толк в медицине и объяснялась с медиками на ученом, тарабарском языке, а для простых смертных находила понятные им слова утешения.
К ней-то в конце концов и обратилась девушка за советом и помощью, но скрыла, что зрячая, а сказала лишь, что ей хотелось бы - поскольку другого выхода нет - быть слепой, верующей и счастливой, как все. Александра Цезарея знала, что среди стеклянноглазых завелись люди, которые опять обрели зрение, правда какое-то иное, с помощью новых или перестроившихся органов чувств. В ратуше с большим неудовольствием встретили эту весть.
Поэтому она начала с общих рассуждений о том, что знание неспособно сделать человека счастливым и что прогресс подобен двуликому Янусу: он несет в себе и улучшение, и разрушение всего сущего. Потом просто, душевно и мудро объяснила, как человек сам становится причиной своего несчастья. Привела много примеров из отдаленного и недавнего прошлого, и, когда общие вопросы были таким образом выяснены, было уже легче перейти к частному и конкретному случаю.
Она сказала: "Дитя мое, твое несчастье в том, что ты себя уважаешь больше, чем общество".
Девушка взволнованно возразила: "Но как же я могу уважать это общество, когда..."
Александра Цезарея мягко перебила ее: "Прибереги свой пыл для другого случая, дитя. Ты просила у меня совета, вот он: переступи через свою гордость, иди в "Аладдин", ляг на спину, и пусть сто мужчин положат за это деньги на твои глаза".
"Не знаю, что я ей ответила, - продолжала девушка. - Может, и ничего; я только тупо глядела на нее, как глядят на страшное чудище, не в силах отвести глаз. Но седая и добрая женщина отнюдь не была похожа на чудище, наоборот, она жалела меня, и я понимала, что она права. Плюнь сто раз на зеркало, и оно ослепнет".
"Пойдем! - Крабат поднялся и потянул ее за собой к двери, через которую они сюда вошли. - Как тебя зовут?"
"Айку", - ответила она.
В том месте, где только что была дверь, теперь оказалась глухая стена. Никаких дверей вообще не было. Яркий огонь в камине вдруг начал дергаться и гаснуть, словно задыхаясь. Стало темно.
Крабат левой рукой прижал к себе девушку, держа в правой посох наизготовку - он мог послужить и шпагой, и дубиной.
В темноте раздался смех - сердечный и дружелюбный, может, лишь с легким налетом иронии.
Погасший было огонь вновь затеплился, потом запылал ярко, как прежде. За роскошно сервированным столом сидел нищий и разливал по бокалам вино.
"Приветствую вас, дорогие мои! Я голоден как волк, - обратился он к ним как ни в чем не бывало и только тут заметил, что они оба голые. - О, прошу прощения!"
Он стащил с себя платье и кинул его на пол, туда, где лежала одежда Крабата и горстка батиста девушки.
Крабат не двинулся с места, прикрывая собой Айку.
"Где мы находимся и что все это значит?" - спросил он.
"Мы находимся в замке, - дружелюбно пояснил нищий, накладывая себе еще теплый паштет из рябчика. - А значит все это, что тебя принимают в игру. Жалованье можешь назначить себе сам. - Он положил в рот большой кусок паштета. - И смотри, не продешеви, это повредит нашему общему делу. Кстати, твой друг Трубач будет главным капельмейстером".
"Ты же говорил, что замок пуст и мертв и только флаг..."
"Паштет восхитителен, и я настоятельно рекомендую воздать ему должное, а то я один все съем, - ответил нищий. - Ну а что до флага... Фигурально выражаясь, флаг - это я". Он заразительно рассмеялся, встал и приветственно поднял бокал. Его тень легла между ними и чуть сжалась там, где коснулась резной рукояти на палке Крабата.
Крабат схватился за саму палку, а рукоятью проткнул тень нищего. Но тень не сжалась, а лишь навернулась на палку.
Нищий растерянно пробормотал: "Что ты делаешь? Все наоборот!"
Крабат сорвал с палки тень и швырнул в огонь.
Нищий стоял, словно окаменев, и все еще держал в руке бокал с вином, а тень его, дергаясь и кривляясь, убегала от него к пляшущим языкам пламени; стулья и стол по-прежнему отбрасывали свою обычную тень. Нищий подошел к огню так близко, что остался совсем без тени.
"Ты безнадежно глуп, Крабат, - сказал он. - Я думал, ты умнее".
Крабат поднял с пола свою одежду и оглянулся: девушки не было.
Нищий язвительно ухмыльнулся. "Я найду свою тень, скорее, чем ты эту девушку".
Крабат вышел из комнаты через дверь, которая теперь оказалась на прежнем месте. Бассейн за нею представлял собой огромный и пустой зал - ни блеска воды, ни черного бархата на стенах, которым раньше была прикрыта и тяжелая стальная дверь. Стоило Крабату постучать, как дверь распахнулась, открывая доступ в ярко освещенный коридор. Вдоль стен тянулись полки с множеством ящичков, как в магазине перчаток, и из всех ящичков выскакивали зрячие глаза. Веселым хороводом окружили они Крабата, своего освободителя, и слились в единый живой, пульсирующий и светящийся поток, устремившийся в глубину коридора. В конце его была другая стальная дверь; сорванная с петель, она валялась посреди деревенского трактира.
Поток живой плазмы произвел там жуткий переполох: многие глаза нашли среди гостей своих настоящих владельцев, и те, внезапно прозрев, тыкались, как слепые в незнакомой и чуждой им действительности, не узнавая ни предметов, ни связи между ними, ни себя, ни других людей в их подлинном виде.
Дамочка в бумазее, оседлавшая Якуба Кушка и только что подскакивавшая на нем, весело распевая во весь голос и запустив одну руку в штаны пирата, теперь завопила, что Трубач сорвал с нее платье и изнасиловал; визжа и захлебываясь от злости, она вцепилась в одного из хорошо одетых молодых мужчин, приняв его за своего супруга, и стала требовать, чтобы он отомстил за ее и свою поруганную честь.
Ее настоящий супруг подрался с пиратом из-за того, что тот отхлебнул из его бокала. Пират, начисто позабыв про свое бухгалтерское достоинство, опрокинул стол, перепрыгнул через буфетную стойку и принялся оттуда обстреливать противника горячими клецками. Поскольку он попадал и в других, то скоро у него уже было больше противников, чем клецок, которые продолжали поступать в буфет из кухни, где все еще шло заведенным порядком.
Якуба Кушка зажали в угол молодые хлюпики, которые не столько жаждали намять бока ему, сколько помять бумазейную дамочку, и полагали, что кто намнет, тот и помнет. Но Кушк, прорвав окружение, одним прыжком перемахнул через стойку, встал рядом с пиратом, схватил бочонок с вином и принялся лить его прямо в глотки атакующих.
Теперь супруг бумазейной дамочки узнал жену по голосу, он увидел ее с дюжим молодцом, который уже пытался обратить ее ошибку себе на пользу; со столовым ножом в руке он продрался к парочке, схватил жену за волосы, а молодца за горло и завопил: "Ах ты сука! Ах ты кобель!" Кушк направил струю вина в его орущую пасть, усеянную золотыми коронками. Совсем рядом с ним, на ступеньке, где раньше сидела девушка, стоял Крабат, не шевелясь и не участвуя в общей сумятице; в диком хаосе зала он искал глазами платье цвета янтаря. Из-за спины Крабата, задыхаясь и хватая ртом воздух, вынырнул большеухий лорд, крики его преследователей уже доносились сюда из винного погребка. Молодой денди с красивым голосом узнал большеухого и бросил в него бутылкой, но тот ловко увернулся, и бутылка пришлась Крабату в висок.
Увидев, что друг зашатался и упал, Якуб Кушк выхватил из-за спины трубу и заиграл городской гимн. При первых же звуках весь трактир разом оцепенел и застыл в молчании, но уже через минуту рты как по команде раскрылись и все до единого запели: дамочка в бумазее и ее супруг, все еще сжимавший в кулаке тупой столовый нож, ушастый лорд и его преследователи, буфетчик с дневной выручкой в кармане и бухгалтер-пират, бродяги и шлюхи, пьяные и трезвые.
Якуб Кушк стер красную жижу с лица Крабата - она оказалась вином, - взвалил его самого на спину и, пройдя со своей ношей через винные погребки, кафе, караван-сарай, чайный домик и бар мимо широко распахнутых ртов, истово исполняющих гимн, добрался до узкой и низенькой дверцы: он вынес друга из трактира и за пределы города.
Во время пения гимна из пустого коридора со стеллажами для глаз в пивной зал вошел нищий. Ни слова не говоря, поставил он на буфетную стойку золотую чашу, И гости, не прерывая пения, один за другим торжественно и чинно подходили к чаше и опускали в нее свои глаза.
Закончив гимн, они опять запели с начала и повторяли его до тех пор, пока не осталось ни одного зрячего. И ни одного недовольного.
Глава 7
В день вручения премии погода выдалась сырая и пасмурная. Холодный норд-ост с моря сильными порывами набрасывался на город. Собралась огромная толпа. Какая-то журналистка с телевидения споткнулась о кабель и сломала руку. Она плакала, и крупные слезы капали прямо в микрофон. Король слегка простудился накануне и слышал, вероятно, чуть хуже, чем обычно, но был приветлив, любезен и внимателен, как всегда.
Все было как всегда, и все было где-то вне его сознания или, вернее, вне происходящего и не имело к нему никакого отношения. Он где-то стоял, но не чувствовал под ногами пола, потом сидел, но не ощущал деревянного резного кресла, наблюдал за церемониалом и слышал речи; все это было и рядом, и в то же время не здесь. "Здесь" означало, вероятно, за неощутимо тонкой стеной. Он понял, что стена эта перестала быть для него преградой, он мог находиться здесь или там, но "здесь" и "там" менялись местами, играли с ним в прятки. Или же это его мозг играл с ними в прятки, не разобрать. Его обрадовало, что Линдон Хоулинг приехал специально, чтобы произнести в его честь хвалебную речь, но радость длилась минуты две, от силы пять, а потом все снова застлало дымкой, словно кто-то нарочно возводил вокруг него искусственную стену тумана. Он хотел порадоваться хотя бы предстоящей ночи с Айку; он надеялся провести с ней все ночи и все дни, но за стеной тумана не было Айку, а был Донат. Антон Донат, который сказал: я, рабочий, а может, и я, министр, этого тоже было не разобрать. Я сказал: я - это просто я. Донат усмехнулся, улыбка получилась кривая и сердечная - избавиться от кривизны ему так и не удалось, а сердечность достигается волевым усилием в точном соответствии с указом или постановлением. Или же - с теми двумя ступенями некой воображаемой лестницы, которые отделяют его, стоящего наверху, от меня, находящегося внизу; но для Антона Доната нет ничего реальнее этой лестницы, ее ступени не ведут ни к какой цели, они сами - и цель, и достижение, и свершение. Но и они реальны лишь относительно: я - тот-то, но ни в коем случае не я - просто я.
Я встретился с ним случайно в толпе, спускавшейся по лестнице кинотеатра; это было еще в ту пору, когда я только начал заниматься генетикой, а мушка дрозофила была предана анафеме. Фильм назывался "Великая сила" и повествовал о двух генетиках: один экспериментировал с дрозофилами, другой вывел более яйценоскую пароду кур. Донат спросил - мне казалось, просто так, как спрашивают знакомого, встретив его в кино, - понравился ли мне фильм. Актеры великолепные, фильм никудышный, ответил я и распрощался: я спешил на свидание с девушкой. Она пришла после вечерней смены на текстильной фабрике, мы встретились в маленькой закусочной, в этот час набитой битком. Едва мы уселись за столик, как появился Донат, теперь уже в кожаной куртке и мотоциклетном шлеме; он стоял в дверях и искал меня глазами. Привет, бросил он девушке, а мне сказал, что хотел бы еще кое о чем спросить - из чистой любознательности. Почему я считаю этот фильм никудышным? Я ответил, что противопоставлять генетика куроводу и взвешивать обоих на весах куроводства - примерно то же самое, что сравнивать Репина с маляром, считая критерием количество квадратных метров, которые каждый из них покрыл краской.
Тут Донат поднялся на ступеньку выше, и губы его сами собой сложились в улыбку превосходства, я, рабочий, довольствуюсь курятиной и яйцами, а тебе, интеллигенту, подавай тонкий деликатес - дрозофилу под маслом и уксусом. Потом взобрался еще на одну ступеньку выше - или даже на целый пролет лестницы - и с улыбкой снисходительного торжества добавил как бы между прочим, что великий вождь очень одобрительно отозвался о фильме и наградил его авторов премией своего имени. Донат взирал на меня со своей высоты так, словно я был дрозофилой, а он - недремлющим оком вождя.
Великого вождя давно не было в живых. Теперь Донат выступал не так, словно и ноги его были ногами вождя, он скромно вышел из тумана и сказал: я все знаю. Он и впрямь знал, и Ян Сербин не удивился этому. Для начала Донат осведомился о его самочувствии - внимательно, по привычке чуть наклонив голову, вправо (случалось, он и сам отпускал шутку по поводу этой привычки), потом похвалил Сербина: "Ты как ученый на высоте, молодцом, молодцом. Ну, теперь-то мы наведем в мире порядок".
"Как это?" - спросил Ян Сербин. Он все еще сидел в Голубом зале, король как раз произносил тост, снизу, из Красного зала, доносился шум, там собрались студенты; лауреаты этого года единодушно решили, что речь перед ними должен держать Сербин.
"Тем, что изменим людей, - ответил Донат. - Мы теперь - то самое бытие, которое определяет сознание". Было ясно, что он имеет в виду себя и кристаллы Сербина.
Ян Сербин хотел было спросить, собирается ли он, изменяя людей, измениться и сам, но тут король поднялся, внизу хором запели студенты, и Сербин вместе со всеми вышел из зала на широкую каменную лестницу. "Скажи им что-нибудь забавное", - шепнул ему Линдон Хоулинг.
Самое забавное, что я мог бы сказать, это повторить общеизвестное: знание - сила. В мире нет шутки забавнее этой. Когда я был на третьем семестре, сила сказала мне: молись на меня, и тебе откроется царство духа.
Я поехал домой. Там на краю поля стоит моровой столб - цоколь из местного гранита, на нем круглая, сужающаяся кверху колонна из красного шведского порфира, занесенного туда ледником вместе с обломками других горных пород, из которых состоит наш холм, а вверху - куб из гнейса. На четырех гранях куба вырезаны четыре тревоги или четыре надежды: Святой Георгий, пронзающий дракона, Святой Себастьян, подставляющий себя под стрелы, Святая Дева Мария, приносящая миру Спасителя, и Святая Троица, прочно и уверенно держащая в руках шарик-землю. Моровой столб восходит к тем временам, когда чума только разъедала человеческую плоть, но еще не умела сжигать ее в печах и когда еще была уверенность, что она косит не всех подряд, а отсчитывает - ене, бене, раба - и кое-кого оставляет в живых.
Я пошел взглянуть на моровой столб; он немного накренился в сторону поля, - может, от старости, а может, и оттого, что почву вспахали слишком глубоко и слишком близко к нему, и Святая Дева, приносящая миру Спасителя, наклонилась к земле, а дракон Святого Георгия поднялся к небу. Когда столб рухнет, дракон окажется наверху, а копье Святого Георгия-победоносца уже выкрошилось от ветра и непогоды. Вверх по столбу полз черный жук в красную крапинку; он легко преодолел цоколь из шероховатого гранита и теперь тщетно пытался вскарабкаться по гладкому порфиру, все время соскальзывая вниз. Я следил глазами за жуком, не оставлявшим своих попыток, и в моем мозгу возник образ гладкой стены, для того и созданной, чтобы ползучие твари не могли подняться по ней вверх. Образ этот, как и всякий плод воображения, - всего лишь слепок с действительности, верный или нет, но порождающий все новые и новые образы, пока не явится последний, в виде старой липы, черной на черном фоне, с которого любая мысль соскальзывает, как с гладкой стены антивремени и антипространства. Этот последний, непостижимый разумом образ, однако, вполне реален, хоть и имеет длинную вереницу нереальных прообразов Конца, и ложны те границы, в которые мы пытаемся его втиснуть, как ложны и наши попытки представить не пройденный нами остаток вполне конечного пути как бесконечность.
Я представил себе силу в образе головы Медузы: мы либо смотрим ей в лицо и обращаемся в камень, либо закрываем глаза руками и становимся червями на своем собственном теле. Но ведь Персей с помощью головы Горгоны спасся сам и спас Андромеду, и Андромеда родила ему четырех сыновей. У кого искать ответа?
Я поехал в город, где учился в школьные годы, и разыскал доктора Фрида, которого мы называли Фредди. Я вошел в его кабинет - одна стена сплошь занята книгами, три остальные бабочками - и спросил о Медузе. Фредди был химиком, но все силы души отдавал биологии. Его коллекция бабочек считалась одной из самых богатых в нашей стране, а две бабочки из семейства Кавалеров были названы его именем.
"Хочу по крайней мере еще три раза поохотиться на бабочек на Самоа и хоть один раз на Окинаве, - сказал он. - Я говорю "хочу", а это отнюдь не то же самое, что "я бы не прочь", надеюсь, вы понимаете разницу, Ян".
Я кивнул. Он стал прикидывать вслух, удастся ли получить заграничный паспорт и валюту и от чего это может зависеть, и сказал, что ради бабочек готов закрыть глаза на многое.
Тоже червь на своем собственном теле, подумал я, и вспомнил съезд студенческого союза, на котором присутствовал за две недели до этого; два или три десятка участников, председатель в мундире всеобщего ослепления - и не он один, - за окнами яркое солнце, в зале холодно. Я сел в дальнем углу и услышал речь: наше спасение - в силе! А редактор, подсевший ко мне, проворчал: пусть так, все прекрасно, может, это и выход, но не путь; нам нужен вождь, способный указать путь, а не хитроумец, умеющий найти выход. Я не представлял себе ни того ни другого, но тут встал тощий, как жердь, студент-юрист - двенадцатый, а то и пятнадцатый семестр, почти совсем уже лысый - и призвал нас изучать Библию Насилия, ибо, только овладев оружием силы, мы сможем защитить самих себя. Все встали и запели: Братья, сплотимся в едином союзе, а я спросил редактора, какой союз имеется в виду.
Вероятно, я это выкрикнул на весь зал, во всяком случае, председатель, лишь вчера избранный на эту должность, сразу забыл о своем свежеприобретенном достоинстве и стал попирать его сапогами, а заодно с ним и все проклятые вопросы - зачем ломать голову над жизнью и смертью жалкой сотни тысяч каких-то людишек, когда у, нас нет свободных рук - обе нужны, чтобы прикрыть глаза и не обратиться в камень. Но я вспомнил, что Персей догадался воспользоваться блестящим щитом Афины как зеркалом, чтобы видеть голову Горгоны Медузы, не глядя на нее; он вознес свой меч и отсек окаменевшую голову - не в зеркале, а в действительности, - а потом, отвернувшись, спрятал голову чудовища в кожаный мешок и крепко затянул узел, дабы навеки избавить мир от насилия. Однако сам же Персей и развязал узел, чтобы освободить Андромеду и спасти ее от нового плена, а себя от смерти. Лишь после этого Персей вернул Афине ее щит с головой Медузы в придачу, и богиня мудрости прикрепила ее к щиту. Блестящий щит знания - и отвратительное лицо силы, обращающее все живое в камень.
Самое забавное, что я мог бы сказать: знание - сила. Куда важнее сказать: знание должно стать силой, которую никто не сможет употребить во зло, в том числе и само знание, а это означает его саморастворение в разуме. Иначе жизнь на земле окаменеет и последняя мысль последнего из живых прочертит черную черту на черном фоне.
"Не очень забавно", - буркнул Линдон Хоулинг, а король спросил: "Что вы хотели этим сказать, я, вероятно, не все расслышал".
Зато Антон Донат расслышал все, что надо; он сказал с едва заметным нажимом в голосе: "Эти кристаллы ты нам, конечно... дашь или выдашь, - трудно было расслышать, как именно он выразился. - Мы сделаем людей такими умными, что они уже не смогут натворить глупостей".
"Я хотел сказать, - ответил Ян Сербин королю, - что самое страшное для меня - это противопоставление "мы" и "люди", кто бы ни были эти "мы".
Но и этот разговор, и сотня студенческих лиц, обращенных к нему, и их несколько растерянные аплодисменты, и отсутствие Айку в зале - все потонуло в тумане, белом и плотном, как вата. Да и откуда взяться здесь Айку, ведь она ничего не знает ни о премии, ни о нем самом, они называли друг друга просто "ты", когда уславливались встретиться вечером в вестибюле отеля.
Он искал ее два дня, на вечер второго дня он был приглашен вместе с Хоулингом к человеку, о котором говорили, что он богаче и влиятельнее короля. Среди сотни гостей - пианист из Москвы, дирижер из Вены и литератор, именовавший себя на визитных карточках и почтовой бумаге поэтом.
Дирижер с группой поклонников расположился в гостиной, стены которой украшали четыре фламандских гобелена. Шумный и жизнерадостный, он развлекал свою свиту, рассказывая забавные истории с обаятельной непринужденностью баловня славы. Две дамы помоложе нашли его очаровательным, а одна пожилая стала расспрашивать о его ощущениях во время концерта. Кто-то кисло заметил, что искусство чересчур легкий способ загребать деньги, а другой - вероятно, его приятель, тоже приверженец минеральной воды, как и Хоулинг, - возразил, сославшись на мнение крупнейшего денежного туза, который однажды сказал, что искусство в определенных случаях обходится дешевле икры и шампанского: накануне важных деловых переговоров он всегда приглашает одну или несколько знаменитостей, это создает непринужденную и даже теплую атмосферу, так что многим становится как-то неловко все время дрожать за свою шкуру. Рассказчик признался, что и сам опробовал эту рекомендацию: приглашение десятка хорошеньких балерин часто оказывается пустой тратой денег, а сорокалетняя оперная примадонна с мировым именем или какой-нибудь Пикассо, напротив, всегда окупаются. Враг искусств глубокомысленно покивал головой и вместе с приятелем вернулся к свите великого дирижера - теперь он тоже находил его весьма и весьма забавным.
Литератор прилип к хозяину дома и семенил за ним на коротких ножках, переходя от одной группы гостей к другой. Время от времени он извлекал из своих запасов очередную порцию меда и патоки, а если и добавлял каплю уксуса, тоже хранившегося в его кладовой, то тут же обильно заливал все блюдо жирным кремом или сахарным сиропом. Все эти шедевры кулинарного искусства он черпал из собственных многочисленных произведений - память у него была феноменальная, и он мог с легкостью цитировать самого себя целыми страницами. Странным образом - а может, в этом и нет ничего странного - его книги находили читателей и даже почитателей; но жил он все же в основном на щедрые дары богатых покровителей. Считалось, что теперь они его побаивались, поскольку раньше, поддерживая его всеми средствами в противовес одному подлинному таланту, были настолько неосмотрительны, что позволили ему сунуть нос в свою святая святых. Втайне больше всего боясь лишиться репутации опасного человека, он время от времени, в подходящих для этого случаях, изрыгал громы и молнии благородного гнева, причем всегда предавал огласке ровно столько правды, сколько нужно было, чтобы никого всерьез не задеть, но дать почувствовать истинный масштаб своих возможностей. Эти вспышки благородного гнева не только привлекали к нему всеобщее внимание, но и содействовали увеличению его текущего счета в банке. Он построил виллу на двадцать восемь комнат и мог позволить себе роскошь ловить рыбу на золотые крючки, изготовленные по его личному заказу: ему льстила репутация страстного рыболова. Излюбленной темой его высказываний в устной и письменной форме было установление социальной гармонии путем добровольного самоограничения богачей.
Хозяин дома со своей свитой - и литератором в том числе - задержался подольше в комнате, самым изысканным украшением которой было охотничье оружие короля Карла XII.
Там возле двери расположился в кресле знаменитый пианист, полноватый, молчаливый человек; подле него очень худенькая молодая девушка сидела на деревянном, богато украшенном резьбой сундуке, по слухам входившем в приданое Саскии, первой жены Рембрандта. Девушка рассказывала о трагически погибшем недавно космонавте, которого она хорошо знала. Это был обаятельный и жизнерадостный юноша, и поначалу он тоже считал, что в высадке на Луне заключен глубокий смысл. Пианист, видимо, слышал лишь звук ее голоса, но не слушал ее; по его лбу, изборожденному морщинами и не слишком высокому, пробегала тень. Когда он понял, что хозяин дома со свитой направляется в его сторону, он энергичным, почти грубым движением положил руку на плечо девушки и что-то сказал ей, - голос у него был низкий и хрипловатый. Она кивнула, открыла дверь и вместе с ним прошла в соседнюю комнату. Здесь стены были сплошь увешаны картинами - большей частью французских и английских импрессионистов, и среди них одна маленькая, потемневшая от времени работа Мурильо; в эркере комнаты, лишь наполовину умещаясь в нем, стоял открытый белый рояль. Пианист подошел к роялю, с трудом, словно нехотя, переставляя ноги, и застыл перед ним, тяжело ссутулясь, безвольно опустив руки и глядя на клавиши. Мало-помалу с его лица сбежала тень, лоб разгладился и стал как бы выше, чем казалось вначале. Все еще колеблясь, пианист медленно сел за рояль, но его руки как бы сами собой с необычайной легкостью вспорхнули и легли на клавиши - они существовали как будто отдельно от него и были скорее частью рояля. Его лицо замкнулось - и в то же время каким-то непостижимым образом открылось.
В ожидании первого звука девушка спокойно сидела у стены за его спиной, и в эти минуты ее юное, свежее лицо поражало удивительным сходством с лицом пианиста. После нескольких аккордов, принадлежавших только им одним, в комнате стали собираться слушатели, прокрадывавшиеся сюда тише и осторожнее, чем входят ночью в детскую комнату. В свите хозяина дома теперь не хватало лишь литератора, который, кроме маршей, никакой другой музыки не признавал: музыка опошляет душу, заявлял он не раз.
Хоулинг и Сербин тоже слушали игру пианиста. Когда он кончил, никто не захлопал - короткий жест хозяина дома своевременно предостерег от аплодисментов: маэстро их не выносил и мог бы тут же обратиться в паническое бегство. Великий дирижер, вероятно ближе всех знакомый с пианистом, подошел к роялю, улыбаясь и небрежно засунув руку в карман брюк. "Знаете ли, - сказал он, обращаясь только к пианисту, все еще сидевшему за роялем, словно в комнате никого не было, - а ведь Бетховен, когда писал эту вещь..." Забавный случай, подлинный или только что придуманный, но на лице маэстро расцвела неожиданно добродушная и простоватая улыбка, и он сказал: "Чертовски хороший инструмент, но до-диез здесь, вот послушайте..."
Ян Сербин обнаружил среди картин на стенах небольшой портрет дамы в шафрановой блузке, написанный крупными мазками. Но оказалось, что это была бабушка той дамы и что портрет принадлежал кисти Клода Моне.
Хозяин дома не видел своей дочери с позавчерашнего дня и не знал, где она сегодня. Личный секретарь пожал плечами - это наверняка выяснится через несколько дней.
"Он лжет, я вижу по его лицу, что он лжет", - сказал Сербин Хоулингу. "Естественно, - ответил тот, - ведь он должен сперва спросить у нее".
"Сам виноват, - пробормотал Сербин, - должен знать, кого пытается обмануть. Запрограммировать такого типа на правдивость, и на его карьере можно ставить крест". Хоулинг бросил на него испытующий взгляд. "Если бы это было возможно", - со значением протянул он и отвернулся, чтобы повнимательнее рассмотреть портрет.
Ян Сербин промолчал.
"Я знаю теперь вполне определенно, - той же ночью сказал Линдон Хоулинг своей жене по телефону, - что Сербин добился большего, чем я предполагал. Он производит впечатление человека, абсолютно уверенного в своих возможностях".
Жена поспешила его утешить: "Без тебя никто из них не продвинулся бы так далеко". "Да-да, конечно", - перебил он, и они заговорили о внуках.
Линдон Хоулинг долго не мог уснуть; какая-то тревога сверлила его мозг, и, чтобы отвлечься и успокоиться, он решил почитать роман, подаренный ему накануне литератором - у того всегда с собой случайно оказывалось несколько экземпляров собственных книг. Выяснилось, однако, что скука отнюдь не всегда успокаивает, и думы Хоулинга, несмотря на все его старания сосредоточиться на глубокомысленных банальностях романа, написанного к тому же в навязчиво эпигонской манере, легко, как по льду, соскальзывали на то, что его тревожило. Боже, спаси нас и помилуй, неужто и впрямь сделано открытие, к которому я стремился всю жизнь, думал оп, и ему не становилось легче, как ни старался он убедить самого себя, что нравственный облик и мироощущение Яна Сербина - надежная гарантия от попыток поставить его открытие на службу злу. Он поймал себя на мысли, что испытывает даже облегчение от того, что успех выпал не на его долю, и впервые в жизни ощутил нечто вроде жалости к более удачливому коллеге. Но все же самым сильным было смешанное чувство гордости и вины, поскольку именно он первым пошел по этому пути и проложил его для следующего поколения.
В ту же ночь в комнате, как две капли воды похожей на миллион таких же комнат во всем мире, некий человек размышлял над фразой, сказанной Хоулингом жене: Сербин добился большего, чем можно было предположить. Что предполагалось и что означало это "больше"? Вопрос был заложен в компьютер, и тот с готовностью и без всяких колебаний принялся за работу. Он знал все о Хоулинге, в том числе и то, что сам Хоулинг давным-давно забыл, и все о Яне Сербине; он знал и его принципы, и его сомнения, называл Айку ее настоящим именем, помнил, когда ей делали прививку, на каком курсе она училась, ее счет в банке и все четырнадцать этапов ее блужданий в поисках правды, красоты и смысла жизни; компьютер проследил каждую линию на фотографиях Сербина, выходящего из самолета, и Сербина, сидящего с Айку в ресторане на телебашне Какнес, проанализировал происшедшие изменения и начисто отверг возможность естественной регенерации после чрезмерного напряжения сил. Он долго считал и пересчитывал, сопоставил десять тысяч посылок и сделал тысячу выводов, и каждый вывод был еще одним ключом к тайнику, где хранился правильный ответ.
В конечном счете ответ компьютера гласил: Сербин может изменять живую материю, Сербин может/не может создавать живую материю. Тысяча: только Сербин знает формулу жизни. Один: Сербин депонировал формулу.
Человек срочно информировал ТРЕТЬЕГО, тот немедленно дал команду начать операцию "Творец". Целью ее было любой ценой и при любых обстоятельствах завладеть открытием и изолировать автора. Изоляция предусматривала в качестве крайней меры смерть.
Ян Сербин полулежал на чем-то бесформенном и мягком, лишенном ножек и подлокотников и потому ничем не напоминающем кресло, но идеально выполняющем его функцию. Перед ним на низком стеклянном столике стояла ваза, к вазе был прислонен листок бумаги - восемь-десять строчек значков и цифр.
Ощущение одержанной победы - додумался все-таки, как заставить того молодца дать мне адрес шафрановой дамы, а она наверняка знает, как зовут Айку на самом деле и где мне ее найти, - это ощущение улетучилось без следа. Или, вернее, стерлось в порошок от мыслей, тяжелых, как жернова, и бесформенных, как обрубки. И опять это раздвоение в мозгу, я - то Антон Донат, то Лоренцо Чебалло - шатаюсь, как пьяный, между счастьем того и счастьем другого. Счастье - как взлет под купол цирка: в трапеции там наверху заключено всё - и мужество, и страх, и напряжение, и вопль ужаса, и вздох облегчения, когда акробат ухватился за нее руками. Я директор цирка, шатер натянут, люди ломятся внутрь, входной билет конфетка, конфетка вручается каждому, в моем цирке есть и купол, и манеж, но нет сетки. Трапеция пуста. Мне не нужны акробаты: мужество, страх, напряжение, вопль ужаса и вздох облегчения - все это в моей конфетке. Я раскачиваюсь, стоя вверх ногами на стальной штанге, а Якуб Кушк играет на трубе Добрый вечер, маменька, где же твоя доченька. Доченька лежит на кладбище, я трижды объезжаю вокруг ограды, останавливаюсь у ее могилы, отчего ты исчезла, Айку. Но я ведь только формула, отвечает она.
Ну и что из того, возражает ей Якуб Кушк и спрашивает у меня, не сыграть ли вам свадебную песню: Один да одна будет трое, а не два. Он старается напрасно, могила пуста, я сажаю на ней три розы, и мы скачем дальше.
"Куда?" - спрашивает Якуб Кушк.
"Не знаю", - отвечаю я.
"Страна "Незнаю" - скучное место, - говорит Якуб Кушк. - Один раз я там побывал. Повстречалась мне девушка - в поясе гибка и тонка, как русалка, немного ниже - туга и пышна, как мешок с мукой; я и спроси, хочешь пойти со мной. Не знаю, говорит. Взял я ее за руку - а дело было летом - и спрашиваю, не желаешь ли чего выпить. Не знаю, говорит. Купил я ей бубликов и вина и повел в луга. Устроил ложе в стоге сена и спросил, не приляжешь ли. Не знаю, говорит. Раздел я ее - чулки снять сама помогла, потому как пряжа тонкая, а потом и еще кое-что, потому как неловок я, а она нетерпелива; я исцеловал ее от ушей до кончиков ног, снизу вверх и сверху вниз, а она свернулась, как еж, и лежит. Я и спросил, хочешь что ли навек девкой остаться. Не знаю, говорит. Завалил я ее сеном и ушел. "Незнаю" - самая скучная страна из всех, какие видел".
Мы скачем дальше, копыта моего Россинанта цокают. "Что же такое человек, скажи мне, Якуб", Опрошу я.
"Я знаю два сорта людей, брат, - отвечает Якуб Кушк, - у одних мир помещается промеж ног, у других - в голове. Одно хорошо, другое плохо".
"В голове - хорошо", - говорю я.
Якуб Кушк хохочет и рассказывает, что служил однажды придворным трубачом у короля: днем трубил на трубе, а ночью играл дуэты с его дочерью - он на арфе, она на флейте. Принцесса была красавица из красавиц, а король - добряк из добряков. "Почему мои подданные должны ютиться в хижинах, покосившихся от ветра, и спать на кроватях, источенных червями", - сказал король и повелел вырубить весь лес в королевстве, дабы каждый мог построить себе дом и смастерить новую мебель.
Тогда людям потребовались красивые краски, чтобы ярко раскрасить новые дома и мебель. Добрый король велел построить большую фабрику, чтобы делать на ней новые яркие краски. Фабрика выпускала столько красок, что хватало всем, а чтобы краски были яркие и сочные, их стали промывать в ручьях и в единственной речке королевства.
Когда пришла зима, люди стали мерзнуть в своих новых и красивых домах, а деревьев в лесу больше не было. Тогда добрый король приказал раскопать землю и поискать, нет ли в ней дров. Люди раскопали землю и вытащили из нее деревья, во время оно попрятавшиеся в песок и гравии от всемирного потопа. Но дрова эти были сырые, и король, у которого целый мир помещался в голове, велел построить громадные печи, чтобы сушить дрова и выпекать их ровными красивыми порциями. Печи засасывали чистый воздух, а выдували из ноздрей серый, желтый и черный дым.
Теперь у людей было все: красивые, новые и теплые дома, полные красивой, новой и модной мебели, были у них и самые яркие краски, чтобы покрасить и дома, и мебель, и платье в красный, зеленый или золотой цвет - как кто пожелает; у них теперь было больше красок, чем уместилось бы на небе, сплошь покрытом радугами.
Но леса у них больше не было, а значит, не было и сказок, ибо сказки испокон веку жили в лесу. И молодые парочки, не имевшие укромного уголка для любви, тщетно стали бы искать ароматное ложе из трав под темно-зелеными или нежно-салатными кронами сосен и берез. А поскольку для любви не было ложа, перестали появляться на свет новые песни, а старые чахли и блекли, наглотавшись дыма из печных труб.
Не было у людей и поля, а значит, не было и чуда, и нечему было дивиться, ибо дивное чудо жило раньше на пашне - в прорастающем семени, которое давало жизнь стеблю и колосу, а в колосе зрело зерно, зерно раздумья. И поскольку люди теперь перестали думать о себе, никто уже не писал новых книг и картин, а старые казались непонятными и скучными.
Не было у людей и водоемов с чистой и прозрачной водой, и они разучились мечтать, ибо мечты всегда искрились форелями в быстрых горных ручьях и шумели камышами по берегам озер.
Зато люди теперь были богатыми, они покупали в консервных банках и мясо, и песни, и хлеб, и мечты, и питьевую воду, и постепенно им стало казаться, что и людей можно покупать и продавать, как консервы. А их мозги, не запятые раздумьем, все больше и больше заполнялись желтым дымом печей.
"А ты?" - спрашиваю я.
"А я, - отвечает Якуб Кушк, - сделал принцессе тысячу детей и еще двоих в придачу; тысяча поверила в доброго короля, у которого весь мир помещался в голове, а двое убежали из страны, поселились в лесу и стали Гансом и Гретой из сказки".
"А я, где был я?"
"Ты, - говорит Якуб Кушк, - ты и был тот король".
Мы скачем через Шведские болота, где-то за кустами притаился в засаде шведский полковник, которого я тогда завел в трясину. Он подстерегает меня уже триста лет, стоя по пояс в тине, но нынче он не посмеет высунуться, ведь на моей груди орден, приколотый руками его короля.
Болото остается позади, лес раздвигается в стороны, местность полого спускается в низину. Перед нами церковь деревни Розенталь, мы входим внутрь, церковь покинута и богом, и людьми. Даже образа мадонны с темными длинными волосами нет - осталась одна рама. А мадонна сидит на ступеньке перед пустым алтарем, устремив на меня исполненный ужаса взгляд.
Якуб Кушк остается у двери, я медленно иду по проходу вглубь, орган теперь прямо над моей головой, он молчит, он не знает, что играть. Мадонна протягивает ко мне просительно сложенные ладони. Но, несмотря на длинные волосы, она слишком похожа на Айку, я уже прожил одну жизнь без Айку, вторую не хочу жить без нее. Я заставлю секретаря найти Айку, мадонна умоляет меня напрасно.
Орган, оказавшийся теперь уже позади меня, оживает и раздувает свои мехи, но все еще не знает, что играть. Одна грудь у сидящей мадонны обнажена, теперь я это вижу, на ней висит капля молока.
Почему твоя грудь плачет, Смяла, спрашиваю я.
Она показывает мне клеймо Райсенберга на своем плече, клеймо совсем свежее, рана покраснела и вздулась. Я пристально всматриваюсь в него и вижу, что это моя формула.
Орган заиграл, вернее, сразу два органа: первый - Dies irae, второй - Те Deum, знаменитость из Вены дирижирует, это Моцарт, говорит он и показывает руками на оба органа сразу. (Dies irae - День гнева; Те Deum - Тебе, Боже (лат.)).
Сколько времени играет орган? Сколько слез умещается в женской груди? Весь мир в лоне Айку, весь мир в моей голове, ах брат Трубач, что же такое мы ищем, чего нам найти не дано?
Может, мы ищем МГНОВЕНИЕ, без корней и ветвей?
А может, тот холмик, что некогда устоял против каменных гор Райсенберга, а теперь странствует по белу свету?
Глава 8
Холмик на берегу Саткулы, как и встарь, возвышался над местностью всего на пять стеблей ржи. Но с него вся округа лежала как на ладони, а маячившие вдали голубые холмы казались высокими горами. В ясные дни на одном из них удавалось различить телебашню - она поблескивала на солнце. Башня и голубые холмы не имели ничего общего с Саткулой, ее воды текли на юг.
Сегодня день выдался пасмурный, телебашни не было видно, но она никуда не делась - стоило нажать на кнопку, и невидимая башня доставляла к вам на дом представительного мужчину, вещающего о двухтысячном годе с таким видом, будто он не знает, что оставшийся до него срок длиннее, чем прожитый. Не исключено, что он и впрямь об этом не знал.
Зато моровой столб был хорошо виден.
Все имена, высеченные на его цоколе: Михаэль, Якуб, Бастиан и опять Якуб, - некогда носили мужчины из рода Сербинов. Давным-давно один Сербин посадил на холме липу, сверстницу морового столба, и, даже если липа была моложе, она все равно составляла одно целое со столбом, Саткулой и домом. Липа густым шатром осеняла двор, мощенный булыжником и заросший буйной травой, и роняла семена на дырявую черепичную крышу коровника - старинного строения из сквозных балок. Под прогнившими половицами сеновала окотилась бродячая кошка, трое котят пестрые, а один белый как снег. Железная рукоятка, большой маховик и три шестерни валялись под ногами, всего год назад они были соломорезкой с электроприводом. Минувшей зимой ее деревянными частями пять дней топили печку.
Телебашня, которой сегодня не было видно, теперь развернула прямо в комнате свою черно-белую картину мира. Может, мир и на самом деле черный и белый: подумал старик, выключил картину, вышел и встал на пороге дома.
Дырявая крыша давно уже сидела у него в печенках, и в свои семьдесят девять лет он еще лазил по трухлявым стропилам, прибивал куски толя к брусьям обрешетки и ставил на место разъехавшуюся черепицу, а за его спиной ветер тут же выгрызал новые дыры или раздирал старые; три года подряд латал старик крышу, теперь ему стукнуло восемьдесят, и он берег свою печенку, да и шею свернуть побаивался, почем знать, не понадобятся ли ему еще и печень, и шея - ну хотя бы ради жены.
Жена его, сухонькая и проворная старушка, сновала по двору, словно ей не было и семидесяти, а между тем глаукома застлала ей глаза, и видимый мир сузился до трех метров в поперечнике, а за пределами этих трех метров был затянут пеленой - паутиной, как она говорила. Однажды она споткнулась о такую вот паутину и разбила лоб до крови. Она не плакала и не жаловалась: она жила в ладу с миром, который сузился до трех метров в поперечнике, с мужем, чьи колени стали негнущимися, а ступни чугунными, с добрым боженькой, коему уж доподлинно известно, зачем понадобилось затянуть паутиной белый свет и что это за паутина такая, а также с множеством историй, которые суть ее собственная история. Но этого она не знала, она знала лишь сами эти истории.
Старушка вышла из кухни, они вместе поднялись по лестнице наверх - он медленно и тяжело, она, неловко суетясь и оступаясь; в каморке под крышей лежал наготове инструмент: топор, мотыга и длинный ржавый нож - последний остаток от соломорезки. Каморка была пуста, покрытый толстым слоем пыли сундук в углу лишь подчеркивал ее пустоту. Ровно сорок лет назад в этой комнатке под крышей тихо и мирно скончался дружка Петер Сербин, так и не успев доесть вишни из миски, стоявшей перед ним на одеяле; потом здесь спали дети. Их кровати и изъеденный червями шкаф давно пошли на дрова, да и сундук разделил бы их участь, не будь он доверху набит старым хламом, который старик не знал куда девать, - вот сундук и уцелел.
Старая женщина принялась крошить и отдирать ножом куски штукатурки со стены: толстые дубовые поленья, вмазанные между балками в глину, скрепленную камышом, казались чужими и не вызывали в памяти знакомых лиц - детей или деда.
Топором и мотыгой старик разбивал глину, вытаскивал из стены дубовые поленья и складывал их посреди комнаты. Дуб на эти поленья срубил тот Бастиан Сербин, который решил заново освятить моровой столб ради избавления от войны с Пруссией при Фридрихе.
"Вторую комнату порушим на будущий год", - сказал старик. "Если будем живы", - откликнулась жена.
Он хмуро буркнул что-то в ответ: нечего, мол, цепляться к словам, конечно, если будем живы, само собой понятно.
Они трудились молча: нельзя рушить свой дом изнутри, стараясь, чтобы снаружи ничего не было видно, и при этом беседовать как пи в чем не бывало, словно они еще молоды и собираются строить новый. И печень старика, еще год назад нывшая из-за дырок в крыше никому не нужного коровника, теперь молчала, потому что дубовые поленья, без всякой пользы сидевшие в стене, приобретали новый смысл, согревая их обоих в зимние холода - нынешний год, а может, и еще несколько лет, и какой-то из них будет последним. Не было на свете дров, которые бы больше годились для этого. Хандриас Сербин и его жена Мария, дожившие до глубокой старости и покинутые детьми, сами рушили свой дом; но снаружи ничего видно не было.
А во дворе под липой сидел человек, о котором нечего сказать, кроме того, что он смотрел на Саткулу и моровой столб, и был крещен этой водой, и знал о чуме и море больше, чем сам моровой столб, который ставили в те времена, когда чума еще была бичом божьим, а не розгой в руках Райсенберга.
Человек не может быть настолько своим и в то же время чужим; если к нему подойти и положить руку на плечо, он поднимет голову, и, взглянув ему в лицо, люди увидят самих себя, крещенных водой из Саткулы и больше знающих о чуме и море, чем моровой столб.
А в ушах отдаются удары топора - старый Хандриас и его жена рушат свое гнездо.
Хандриас Сербин с женой закончили дневные труды и спустились вниз. Жена вышла из дому и суетливо засеменила по двору, направляясь к липе; гостя она не заметила, но мы ведь знаем, что ее мир простирался всего на три метра в поперечнике. Она опустилась на грубо сколоченную скамью - отполированная за долгие годы дубовая доска на четырех чурбаках; она сидела прямо, и ее тусклые серые глаза ласково смотрели на мир, затянутый паутиной.
Старик подошел, тяжело опираясь на палку и с трудом передвигая ноги; он, кряхтя, опустился на скамью рядом с женой и тоже не заметил пришельца. Прислонясь головой к стволу липы, он глядел на голубоватую дымку, окутавшую дальние холмы. Паутина, все паутина, думал он, и не было покоя в его мыслях, не было смирения, во всем полагающегося на волю божью в этом мире, затянутом паутиной. Он взглянул на жену, на ее лежащие на коленях руки с высохшими пальцами и темными вздувшимися венами и заметил, что кончиками пальцев правой руки она беспрерывно поглаживает ладонь левой.
Солнце быстро клонилось к закату, а они все сидели и молчали; у людей находится время помолчать, когда пора вопросов и тревог давно миновала.
Гость пристально разглядывал лица стариков; пришел его черед взглянуть самому себе в лицо - все то же, каждая черта, каждая морщина, те же думы, вопросы, надежды, - так что теперь его можно и назвать по имени: это был отец старика, дружка Петер Сербин.
Дружка Петер Сербин умер ровно сорок лет назад, тихо и мирно, не доев вишен из миски, стоявшей перед ним на одеяле, значит, он не был здесь чужим.
Потом гость стал Яном, сыном Хандриаса Сербина и его жены Марии.
Ян Сербин взял с гостиничного стола лист бумаги, исписанный значками и цифрами - всего восемь строк, - сжег его над раковиной в ванной и смыл пепел водой.
Но если гость не был ни тем ни другим, хотя у него было их лицо, и он прислонился к стволу липы точь-в-точь как они и если он знал обо всем - и о дырах в черепичной крыше ставшего ненужным коровника, и о директоре школы, задумавшем построить новую школу здесь, на этом самом месте, как только Хандриас Сербин и его жена Мария переселятся в новое жилище на глубине двух метров под землей, - если он все это знал и все же не был ни тем ни другим, значит, он был лишь тенью, призрачным порождением мыслей старика, думавшего в эту минуту о том, что, если сын и теперь не приедет, он перестанет его ждать.
Края голубоватой дымки, окутывавшей дальние холмы, порозовели, Хандриас Сербин с трудом поднялся со скамьи, жена тоже встала, и они направились к дому: их день был окончен.
Они сели ужинать - хлеб, творог, два яблока и одна груша на двоих; старик привычно завел часы, хотя время супругов теперь не измерялось минутами и часами. Старая женщина опять - в который уж раз - достала цветное фото, вырезанное мужем из иллюстрированного журнала и ему опять пришлось надеть очки и рассказывать ей, как выглядит сын на снимке. Вновь ему бросилось в глаза поразительное сходство - сын был до того похож на своего деда Петера, словно они были близнецами.
"Ну, теперь-то он уж наверняка скоро приедет", - сказала жена; она говорила это каждый день с тех пор, как к ним в дом пришло известие о славе сына. Они легли спать в маленькой комнате тут же внизу, рядом с кухней, и гость с трудом расслышал глухое бормотанье ее молитвы: "...храни нашего сына и дочерей наших и даруй нам мир на земле". Голос ее звучал все глуше и глуше, и, когда наконец совсем умолк, мертвая тишина опустилась на старый дом с незапертой дверью и мощеным двором, мало-помалу зарастающим буйной травой.
Но не травой забвенья, упрямо, но без прежней обиды думал Хандриас Сербин, забвенья нет и не будет, пока я жив. И после меня его тоже не будет. Живут не для того, чтобы потом все быльем поросло. Он полусидел в кровати, подоткнув под спину четыре подушки, и, прикрыв тяжелыми веками глаза, спокойно ждал, когда придет сон. Но и в этом его ожидании не было смирения мудрой старости, не было тихого угасания мысли. Он просто использовал время, остающееся до сна, чтобы обдумать то, о чем он уже тысячу раз думал и передумал, но придумать так ничего и не смог. Думы его были как задача-головоломка, которая зацепилась где-то в мозгу и никак не решается; иногда мозгу удается как-то изолировать, отгородить и замуровать ее - правда, всегда с потерей чего-то важного, но это, пожалуй, все же лучше, чем открытая рана вопроса, который сверлит и сверлит мозг, не дает покоя и отказывается считать прошлое прошлым и неизбежное неизбежным.
В прежние годы Хандриас Сербин отлично играл в мюле; он не столько стремился побить одну за другой все шашки противника, сколько запереть, заблокировать их своими шашками, так что в конце игры те восемь, а то и все девять шашек, которыми еще располагал противник, хоть и лежали на доске, но в то же время их как бы вовсе не было, потому что, утратив возможность двигаться, они переставали существовать. В иные дни, когда одышка одолевала его и ему казалось, что он вот-вот умрет от удушья, старик вспоминал об игре в мюле и уже склонялся к тому, чтобы белыми шашками мудрого смирения блокировать черные шашки проклятых вопросов. Но как только приступ проходил и сердце переставало бешено колотиться от недостатка воздуха, эти вопросы вновь не казались ему призраками, пожирающими его прошлое и развеивающими по ветру времени родной холм - жалкие три пригоршни песка, и ничего не было, и ничего не осталось. Если же их замуровать, то все потеряет смысл - и он сам, и эти его вопросы. Ибо белые шашки, заперев черные, и сами утрачивают возможность двигаться: игра окончена.
В долгие часы, предшествующие тяжелому стариковскому сну, Хандриас Сербин играл сам с собой в мюле, где ставкой был смысл прожитой им жизни. И хотя казалось, что игра обречена на ничью, ибо с обеих сторон на доске оставалось всего по три шашки - прошлое, будущее и настоящее, - он спокойно проигрывал все возможные варианты на трех линиях своих двадцати четырех клеток: на ближней - свое прошлое, на дальней - свое будущее и на средней - свое настоящее, себя самого, преемника и продолжателя. Его шашками были не бессвязные картинки, быстро сменяющие друг друга, не пестрый калейдоскоп, роящийся в мозгу, не обрывки воспоминаний в виде отдельных лиц, событий, имен, но и не окаменевшие статуи или застывшие фотографии, раз и навсегда занявшие свое место в ряду семейных реликвий, подобно тем что выстроились на комоде его жены.
На этом комоде под зеркалом возле окна стояли четыре фотографии в одинаковых рамках. Каждый день она тряпкой смахивала пыль, которой не видела, с гладких бумажных лиц, которых не узнавала. Она просто знала этот ряд - два сына по краям, две дочери посредине, - и этого было достаточно, чтобы рука ее на ощупь стирала с них пыль: фотографии оборачивались историями, связанными с детьми, на каждую из них приходился один удар сердца и еще один - на переход к следующей, так что каждое фото стояло особняком"
Все истории начинались одинаково: "Помню, однажды...", а добавить к ним от себя ей было нечего, потому что мысль-вывод из каждой истории была замурована в ее мозгу, и слабые глаза женщины-матери уже не искали трещины в каменной кладке; слишком многое было потеряно, чтобы у нее достало сил связать отдельные истории в единое целое и оказаться лицом к лицу с неизбежными вопросами, все равно - разрешимыми или неразрешимыми.
За многие годы мозг ее измучился и устал от тысяч "когда", "что" и "как", сверливших его днем и ночью, хотя вопросы эти касались не мировых проблем, а всего лишь ничтожных и будничных забот матери - молоко и хлеб, здоровье и жизнь тех четверых, чьи фотографии стояли на комоде, а также ее мужа Хандриаса и - в самую последнюю очередь - ее самой; и никаких возможностей для их решения, кроме как молиться Господу и с кротостью, страхом и надеждой сносить его глухоту. С вечным страхом и вечной надеждой, а под конец еще и с мучительным "за что" в течение более двадцати лет, прошедших с того дня, как ее младшего, ее Мати, принесли домой белого как полотно и с круглой дырой в груди; круглая дыра разверзлась и в ее бедном мозгу, который чуть было не угас, но из последних сил все-таки затянул живыми клетками открытую рану вопроса. От всего этого остались лишь четыре одинаковые рамки с фотографиями на комоде.
На первой был запечатлен Мати, ее младшенький.
Мати было тогда двенадцать лет, и он навсегда остался двенадцатилетним. Серьезное детское лицо, большие мечтательные глаза под высоким лбом. Круглая дыра в его груди давно заросла, живая кровь вновь заструилась по жилам. Мати был жив и в то же время мертв вот уже больше двадцати пяти лет, и про него она никогда ничего не рассказывала. Потому что не смогла бы удержаться от слез. Взрослый застрелил ребенка, чтобы продлить еще на миг войну, уже захлебывавшуюся в пролитой крови.
Со второй фотографии смотрела младшая дочь Урсула.
Образ Урсулы с течением времени претерпел в рассказах матери странные изменения: сначала дочь потеряла лицо - мягкое, нежное лицо с глазами, затененными густыми ресницами, и наивно-чувственным ртом; потом утратила голос, низкий и вкрадчивый голос, который в минуты волнения менялся почти до неузнаваемости, и, наконец, весь свой живой облик; за многие годы его постепенно заслонил плотной, как плесень, пеленой дом дочери. Лицо дочери вытеснил дом дочери.
Рассказ старой женщины о младшей дочери Урсуле был зримо запечатлен на цветной фотографии, что хранилась в верхнем ящике комода вместе с письмами, открытками и всякими мелочами. Справа могучий дуб, слева, уже в саду, раскидистая голубая ель; между ними невысокие, ниже человеческого роста, кованые решетчатые ворота и ограда из светло-серого туфа. Мощенная плитами въездная дорожка, плавно изгибаясь, подползает к двухэтажному особняку, а его поблескивающая красновато-синим крыша широким крылом спускается над светлыми дубовыми воротами гаража. Перед фасадом дома и вдоль дорожки к небольшой теплице ("ранние огурцы и помидоры, главным же образом - цветы", - писала Урсула, она всегда любила цветы) пышно цветут темно-красные и желтые розы. На обороте фотографии Урсула добавила, что из окон второго этажа открывается великолепнейший вид на пролив Зунд.
На родине Урсула училась на физическом факультете - почему-то она выбрала именно физику, - а теперь жила там, в другой стране, посвятив себя дому, мужу и детям, их у нее было двое.
Каждый день старая женщина снимала с комода портрет младшей дочери и смахивала с него пыль, и казалось, что от этого плотная и переливающаяся всеми цветами радуги цветная пленка с изображением красивого дома дочери с каждым днем все плотнее заслоняет красивое лицо самой дочери.
На третьей фотографии была изображена Катя, ее старшая дочь.
Катин портрет занимал свое место на комоде лишь для полноты картины. Смахивая с него пыль, мать частенько говорила с ноткой обиды в голосе, что Катя почему-то долго не приезжает. Давно, когда порт еще только строился, Катя переехала из этих мест на север: ее муж, каменщик, родом с берегов Саткулы, стал там судостроителем. Раз в месяц она появлялась в доме - энергичная, краснощекая, крепко сбитая. Не переводя дыхания, она меняла постельное белье, обстирывала стариков, пила с ними кофе, терпеливо выслушивала рассказы матери, хотя давно зала их все наизусть, сообщала отцу новости о верфи и порте, ходила с ним по саду и огороду, хвалила образцовый порядок на грядках и обрезала розы у изгороди и виноградные лозы на шпалерах. Она видела, что дом постепенно и неудержимо разваливается, и думала об этом в ту мочь, которую проводила под родительским кровом, а потом уезжала и вновь окуналась с головой в свою будничную жизнь с ее будничными заботами - четверо детей и муж с больным желудком.
Какие уж тут истории рассказывать о Кате?
В последнюю рамку было вставлено сразу две фотографии, изображавшие Яна, ее первенца.
О топ, что была вырезана из иллюстрированного журнала и на треть заткнута углом за рамку, нечего было рассказать и потому лишь кратко сообщалось: здесь он со шведским королем. Его ведь наградили этой знаменитой премией. Король Швеции - во фраке, с широкой лентой через плечо и тремя большими орденскими звездами - был хорошо виден на снимке; он пожимал руку другому человеку, тоже во фраке. В этом втором, видном лишь вполоборота, люди, хорошо знавшие Яна Сербина, с готовностью узнавали своего земляка, который прославился на весь мир и за последние десять лет ни разу не навестил своих родителей.
К этой фотографии старая женщина относилась с известным почтением - оно передалось ей от посторонних людей, заходивших к ним в дом, - но и только. Зато другую, меньшего размера, менее четкую и наполовину выцветшую от времени, она любила всем сердцем, и у нее было что рассказать о бледном и серьезном, не вполне еще сложившемся девятнадцатилетнем юноше - на снимке он сидел с овчаркой под одичавшей яблоней на краю поля. Об овчарке - а также и о яблоне - она иногда рассказывала такую историю:
"Эта овчарка была у нас последней. Очень умная и добрая была собака. Как-то раз наша корова не пришла с пастбища, мы искали ее до полуночи, да так и не нашли. Перед тем как лечь спать, я отвязала собаку на ночь, как всегда. Наша корова пропала, сказала я ей, - просто чтобы с кем-то поделиться. На рассвете мы опять отправились на поиски. Но только вышли со двора, сразу увидели их обеих - корову и собаку. Собака держала в зубах привязь, а корова, завидев нас, подняла голову и замычала. Наверное, собака разыскала ее в лесу. Муж сказал, что собака будет жить у нас, пока не умрет своей смертью - прежних-то собак он обычно сам пристреливал. Под конец жизни овчарка ослепла. Но когда Ян после войны вернулся домой и еще из лесу дал знать о себе свистом, я ничего не услышала, а старая, слепая собака стремглав бросилась ему навстречу. Она упала в траншею, вырытую в войну солдатами, траншея была глубокая и полная воды. Я и не вспомнила сразу-то о собаке, очень уж сыну обрадовалась. А потом мы ее нашли, уже полуживую, - воды наглоталась. Ян вытащил ее, и собака тихонько заскулила, но так, что чувствовалось - это она от радости. Потом встала на ноги и залаяла; наверно, ей хотелось погромче, а получился лишь слабый хрип. Глаза широко раскрыла, словно она и не слепая, и тут же рухнула как подкошенная. Она была у нас последней, очень умное животное. И очень доброе".
О яблоне мать рассказывала только совсем посторонним людям, которые иногда наезжали к ним в дом, чтобы поглядеть на старинную крестьянскую усадьбу на холме и послушать ту или иную из ее историй; они говорили, что под этой крышей хранится такое собрание всяких былей, какого и в книгах не найдешь, и что рассказы ее восходят к седой старине и содержат много такого, чего уже никто в мире не знает.
"Яблоня стояла там испокон веку. Когда старый ствол дряхлел, из корней вырастал новый. Говорят, после долгой войны со шведами Райсенберг убил Хандриаса Сербина и двух его сыновей. Вдова похоронила их на краю поля и посадила на этом месте яблоню, а вскорости родила третьего сына и назвала его Яблук. Священник перекрестил его в Якуба. Этот Якуб был великан и силач, он ловил волков и душил их голыми руками. Мертвых волков он приносил в замок - ведь все зверье в округе принадлежало графу - и говорил: "Вот еще одного волка задушил". А ведь полное имя графского рода было Вольф Райсенберг. Но еще до того, как нести мертвого зверя в замок, Якуб вырывал из его груди сердце и закапывал под яблоней. Оттого-то яблоня и одичала". (Вольф (der Wolf) - по-немецки "волк").
Тут она умолкала и смотрела подслеповатыми глазами на слушателей, словно желая проверить, стоит ли рассказывать эту историю до конца, потому что конец был странный и, вероятно, звучал по-детски наивно для чужих ушей; иногда, довольно редко, она решалась продолжить свой рассказ, и тогда на ее лице появлялась смущенная и в то же время какая-то упрямая старушечья улыбка; кое-кому рассказчица казалась в эту минуту ясновидящей: лицо сморщенное и темное, как печеное яблоко, поднято к небу, невидящие глаза устремлены куда-то вдаль, за пределы ее мира, затянутого паутиной, слова подбирает неуверенно, как бы на ощупь; на самом же деле весь вид старой женщины выражал просто неловкость из-за того, что оставшиеся две или три фразы могут показаться неправдоподобными, а она сама свято в них верила - слишком уж много лет передавались они из поколения в поколение, чтобы оказаться бессмыслицей.
"Яблоня цветет каждый год. Цветы у нее красные, как солнце зимой, и не приносят плодов. Но говорят, что придет время, когда дерево начнет плодоносить, и тогда с холмов и гор, с морей и неба навсегда исчезнет клеймо Райсенберга".
Один приезжий - по слухам, он стал впоследствии хорошим поэтом, не из тех, что больше звонят, чем звенят, - решил, что сможет истолковать эти удивительные и, вероятно, детски наивные слова старой женщины. Он даже написал об этом, и напрасно, потому что всегда находятся люди, которые считают такие рассказы пустыми россказнями, противоречащими разуму, а себя - поборниками разума; завидев дикую яблоню, они тут же берут в руки топор, чтобы извести дерево, не приносящее никакой пользы. Всегда находятся и люди совсем иного толка, которые развешивают на ветвях такой яблони мыльные пузыри собственного изготовления и утверждают, что своими глазами видели на ней волшебные яблоки; эти легко хватаются за палку, завидев топоры в руках поборников разума. И те, и другие величают друг друга глупцами и вопят от взаимной обиды, а по сути, все они и впрямь не более чем глупцы: одни потому, что всерьез верят в вечную жизнь какой-то яблони, другие не могут понять той простой истины, что и дерево-пустоцвет посреди плодородного поля тоже плод земли. Яблоня режет им глаза, и они обращаются к ней примерно с тем же вопросом, которым Фридрих II однажды огорошил своих гренадеров: "Вы что, ребята, захотели жить вечно?"
Уже потом они могут и бросить взгляд окрест, и, завидев внизу, в долине, узенькую полоску мелкой и спокойной Саткулы, они обязательно недоуменно пожмут плечами: чудные люди живут в этой долине, не поймешь, чем приворожил их этот жалкий ручей - через него и перепрыгнуть ничего не стоит, - когда на свете есть широкие и бурные реки и берега у них куда живописнее. Некоторые люди, видимо, полагают, что Саткула нарочно прикидывается тихоней и скромницей. В этом они сильно схожи с теми, кому тесно в своем просторном доме, пока наверху, в каморке под крышей, живет одинокая старушка. Каморка ее никому не нужна, но ведь им, как порядочным людям, приходится, встретив ее на лестнице с ведром угля, нести его к ней наверх или на своей машине везти в ремонт ее радиоприемник, а в день ее рождения еще и дарить плитку шоколада. Вслух ей желают доброго здоровья, а в душе считают, что лучшим выходом для нее было бы отдать богу душу - конечно, тихо и мирно, это уж само собой. И кто-нибудь из детей, а то и бестактный взрослый из этой семьи возьмет да и брякнет ей прямо в глаза: бабуля, ты бы уж лучше померла, что ли.
Мельник Кушк спросил однажды одного из этой породы: "Разве тебе воздуха мало оттого, что и я дышу? - И сам ответил, как припечатал: - В крови, видать, сидит еще от короля Фридриха".
И потом записал в своей Книге о Человеке: "Самый злостный сорняк не пырей, а прусский дух. У него корни, как у дуба, а семена, как у чертополоха".
О сыне Яне мать тоже рассказывала несколько историй, но они не были столь многословны и темны, как история о яблоне. А одна история, связанная с фотографией сына, звучала так:
"В ту пору Ян сломал руку. Он залез на сосну, чтобы достать яйцо из вороньего гнезда. Хотел подложить его несушке, высиживавшей утиные яйца. Интересно ему было, что будет делать курица с вороненком и как он сам себя поведет, когда будет расти вместе с утятами, - если, конечно, не подохнет с голоду еще в гнезде. Такие уж фантазии были у мальчика. Он упал с дерева и сломал руку. А ведь мог разбиться и до смерти".
Иногда старая женщина рассказывала и другие истории, но, о чем бы ни шла в них речь, они все как бы висели в воздухе, наподобие сетки, натянутой под трапецией в цирке, - а вдруг сын свалится с высоты своей славы. Слишком уж высоко он вознесся, так высоко, что даже ее тревогам до него не достать. И она делала вид, что гордится сыном, раз люди говорят, что она должна им гордиться. Сын стал далеким и чужим, и случалось, что, вспоминая о его молодых годах, она путала его со своим давно уже умершим братом.
Ее настоящее все глубже врастало в прошлое и становилось от этого яснее и проще. Пугающая путаница и мучительная сложность пережитого обретала ясность и эпическое спокойствие сказки, в которой счастье и несчастье отодвинулись в глубь времени и не затрагивают настоящего.
Хотя Хандриас Сербин в долгие часы, предшествующие сну, тоже думал о детях, но картины, роившиеся перед его закрытыми глазами, были совсем не похожи на цветные кадры, хранящие в памяти эпизоды их детства и юности. Для него дочь и сын не остались навеки прежними, они давно выросли, и он требовал от них отчета, как от взрослых. Он вовсе не вызывал их на суд своей одинокой старости и тем более не обвинял их перед высшей инстанцией общечеловеческой морали. Он был слишком горд, чтобы страдать от одиночества, и слишком свободолюбив, чтобы претендовать на их свободу.
Он не жаловался на детей и ни в чем их не обвинял, даже дочь Урсулу, которая тайком покинула родительский кров, не простившись и не сказав доброго слова; а теперь у нее был свой дом, и она полагала, что этим исчерпываются все вопросы.
Но Хандриас Сербин хотел спросить ее о своей жизни. Всех их он хотел об этом спросить, и дочь Урсулу, и покойного Мати, и сына Яна, который где-то там, в своей лаборатории, не значащейся ни на одной карте, изучает тайны жизни, - его-то в первую голову он хотел бы об этом спросить.
Для начала хотя бы посоветоваться, как выразить сам вопрос, чтобы он звучал точно и четко, без сучка и задоринки. Своим умом Хандриас Сербин не мог с этим справиться и с непривычки терялся - ему, всю жизнь имевшему дело с деревьями, теперь приходилось охватить мыслью весь лес, а он по-прежнему видел лишь эти деревья и не видел леса. Думы его рвались далеко за пределы обыденных слов, которых ему вполне хватало в той простой жизни, которую он прожил, и теперь, так и не обретя четких очертаний, блуждали вслепую, словно в море густого тумана, чтобы в конце концов, выбившись из сил, вновь пристать к спасительному берегу близких и понятных вещей.
Где-то в этом море тумана плавал вопрос: а каков же смысл всех трудов и невзгод, что выпали на его долю и на долю тех, кто жил до него, раз в глазах детей все это стало пылинкой, которую можно смахнуть одним движением руки.
В этом и состоял вопрос, мучивший старика, но мысль его привычно соскальзывала к дому, в котором он прожил всю жизнь; он тщетно пытался представить себе, что этот дом опустеет, обветшает, развалится и на холме останется лишь груда мусора. Но на самом деле его тревожил не сам дом - дом казался ему еще новым: крыше едва минуло сто лет, верхнему этажу нет и двухсот. По-настоящему старой была лишь гранитная плита, некогда служившая порогом, однако при постройке нынешнего дома ее вмазали в стену над дверью. На плите все еще четко читалась дата 1385, причем цифра 3 лежала и была похожа на букву W, а 5 больше смахивало на S. Никто не считал, сколько раз за прошедшие века эту плиту, служившую порогом Венцелю Сербину, вновь извлекали из-под золы и обломков, дом никогда не был для них самым главным в жизни.
Главным и теперь был не сам дом, и Хандриас Сербин прекрасно понимал это; но, может, главным был теперь тот дуб, за который Бастиану Сербину пришлось отработать на Райсенберга сто тридцать дней и который Хандриас Сербин теперь выбивал из стены на дрова, полено за поленом.
Главным была и древняя гранитная плита над дверью дома, которую Катя уже обещала какому-то музею. Старик готов был сквозь землю провалиться от стыда, злости и бессилия, как только вспоминал об этом. Ему казалось, что это его самого собирались выставить в музее как немого свидетеля истории, заживо умершего даже для своих внуков, чья жизнь не имеет ничего общего с его собственной.
Жизнь всегда казалась ему отрезком пути, начало которого терялось где-то в немыслимой дали времен, и он никак не мог представить себе, что конец пути так близок.
Но этого не может никто, потому-то все и ищут некую бесконечность, скрытую за конечностью всего земного, и математики в этом, вероятно, схожи с вероучителями, поскольку и те и другие стремятся завершить и без того немыслимый, но все же конечный ряд столь же немыслимой, но зато спасительной и разрешающей все вопросы бесконечностью.
И у Хандриаса Сербина была своя бесконечность, спасительная и все разрешающая, таинственная и недоступная собственному разуму бесконечность. Она заключалась в картине без рамы и краев, которая была на самом деле намного глубже и шире, чем казалось, картина-воспоминание, вобравшая в себя все другие картины памяти, более старые и все дальше уходившие в прошлое.
Мне четыре года. Лето стоит жаркое и сухое. Наш колодец высох. Мы носим воду из родника в чаще леса. Дикая яблоня, которая не плодоносит, получает из каждого ведра один ковшик воды. Только ей достается вода, одной ей. Я спрашиваю отца, почему. Он берет меня за руку, мы спускаемся с холма к роднику в чаще леса, и по дороге он рассказывает о яблоне. Я вижу в лесу тысячи деревьев и слышу от отца, что все они могут и умереть. Мы возвращаемся на холм, и я вижу дерево, которому умереть нельзя. А то мы все умрем, говорит отец.
Однажды - вчера или завтра - яблоня принесла плоды. Крабат видел яблоки, но ему до них было меньше дела, чем до лопнувшего шнурка на башмаке. Сердце его умерло, а голова прокляла себя за то, что все еще крепко сидела на шее.
Кое-кто утверждает, что Крабат утратил надежду по вине Яна Сербина, который в океане безумия избрал своей путеводной звездой голову Медузы. А кто-то видит причину в том, что Райсенберг явился ему в своем подлинном обличье. Ростом он был с атомный гриб над Внутренней Пустыней и Внешним Атоллом. Одной ногой он попирал жалкие хижины, другой - радужные мечты и самодельные идеалы. Правой рукой он сжимал голодных, не довольствующихся подаянием, левой - сытых, отваживающихся на недозволенные мысли. Волосы его кишмя кишели военными заводами, грудь была закована в броню из священных заповедей, в животе плавали дворцы и тюрьмы, а диафрагма состояла из кодексов. Его глаза лазерными лучами вскрывали черепные коробки, а рот беззаботно распевал на всех языках мира: А Францию побьем и поставим на колени, причем Франция на каждом языке имела другое название.
Крабат не рухнул на колени и не закрыл лицо руками - чего не было, того не было, - он просто отшвырнул прочь свой посох, который умел творить чудеса, но справиться с Райсенбергом не смог, и распахнул пошире ворот рубахи, чтобы веревка плотнее обхватила шею. Ибо сказано было: "...пока один не вздернет другого на древе истории"; и вот этот день наступил.
За несколько дней до этого Крабат сказал Якубу Трубачу: "Мы с тобой находим лишь следы Райсенберга, брат, но ни разу еще не видели его самого. А все потому, что ты видишь лишь то, что видят твои глаза - сейчас это, потом то, - и не хочешь охватить мыслью целое. Но мне необходимо охватить мыслью всего Райсенберга, чтобы воочию увидеть его. Прощай, брат, и спасибо тебе за все".
Сказав это, он палкой очертил вокруг себя круг и остался в пустоте Истинного Размышления.
И вот теперь он воочию увидел Райсенберга, понял, что бороться с ним бессмысленно, и подставил свою шею для веревки. Но Райсенберг продолжал как ни в чем не бывало распевать на всех языках мира свою победную песнь, топтать хижины и мечты, душить сытых и голодных; и вдруг чем-то - может, исходившим от него густым смрадом - Крабата подхватило и отбросило на вполне реальный холмик у Саткулы, и он увидел, что под яблоней, чьи плоды должны были стать плодами победы над Райсенбергом, в усеянной солнечными заплатами тени сидел Якуб Кушк и держал на коленях посох Крабата.
И Крабат протянул руку, чтобы сорвать яблоко, - наивно, конечно, верить в его подлинность тому, кто воочию видел Райсенберга.
"Не спеши! - остановил его Трубач. - Однажды кто-то уже вкусил от яблока, не подумав. Правда, в тот раз на дереве сидел змей, искушавший: сорви плод, и станешь богом. А сегодня здесь сижу я и предостерегаю: сорвавшему плод придется в поте лица зарабатывать то, чем он уже владеет. По сути, это одно и то же, и разница лишь в том, что змей искушал, а я предостерегаю. Впрочем, змей и здесь имеется".
Он сыграл на палке Крабата короткую тягучую мелодию, и на нижней развилке сучьев лениво подняла голову змея. Она была сухая и сморщенная и сильно смахивала на государственного деятеля, скончавшегося незадолго до этих событий.
Крабат презрительно скривил губы. "А Ева?"
"Должна быть в одном из яблок, - отвечал Якуб. - А может, и во всех, не знаю".
Крабат вновь протянул руку за яблоком, и вновь Якуб Кушк предупредил:
"Смотри, что рвешь, брат, и поразмысли сперва хорошенько!"
"Зачем? - спросил Крабат. - Эти яблоки всего лишь красивая сказка, теперь я это знаю, и ты, мельник, и я сам - мы тоже сказка, и все наши усилия лишены смысла. Реален лишь Райсенберг, и никому с ним не справиться".
Ничего не ответил на это Якуб Кушк, лишь шепнул что-то палке Крабата - может, то были слова песни, а может, и напоминание о чем-то совместно пережитом и незабываемом, оставившем свой след в звуках, извлекаемых из палки.
А Крабат все говорил и говорил: земля круглая и вертится по кругу, все время возвращаясь туда, где уже была, и мы обманываем сами себя, надеясь, что сможем что-нибудь изменить, - ничто не вечно, кроме хаоса.
Он чувствовал, что устал и выдохся и что мысли его сами собой, как бы помимо его воли постепенно перестраиваются на новый лад, может быть противоположный прежнему. В мозгу вспыхивали обрывки воспоминаний без всякой связи друг с другом. Токи, порождаемые подсознанием, рисовали туманные картины, наползающие одна на другую, и хаотическое нагромождение и столкновение смутных представлений распирало мозг, просачиваясь до самых границ сознания. Но опыт веков вдруг ожил и, встав стеной, сдержал волну бессилия, отбросил прилив отчаяния и вновь установил реальные связи вещей: Один из нас...
Крабат отвел глаза и рассеянно огляделся окрест: темная стена леса, моровой столб, солнечные блики на глади пруда. В мозгу отпечаталось и кваканье лягушек, и вяз, наполовину лежавший в воде; ондатры подрыли берег, и вяз, могучее, вековое дерево, рухнул; посреди пруда плавали три черные точки, которые вдруг начали кричать и стенать, а потом так же внезапно затихли, - недвижные черные точки на недвижном сером зеркале воды.
Мы стояли уже в Истрии, в двух шагах от свободы. Оставалось лишь перейти границу. Я ощущал за спиной хриплое дыхание товарища, которого тащил на себе; он задыхался и ждал, когда же я сделаю эти два шага. Тогда он сможет сказать: целая армия рабов вырвалась на свободу.
Вполне естественно, что рабы время от времени вырываются на свободу. Их место заполнят новые. А для наших товарищей мы стали бы легендой: однажды многим из нас удалось спастись. Но уже внуки будут зевать от скуки, слушая об этом.
Мы повернули и зашагали назад. То, что казалось самым бессмысленным, на деле было исполнено глубочайшего смысла.
Крабат напрягся, и пространство передвинулось на ширину ступни, а время - на миг, и уже треск цикад раскалывал густую тьму калабрийской ночи, а когда они на секунду замолкали, слышался стук плотничьих топоров.
Моровой столб христиан вновь превратился в языческую статую двуликого бога Януса - один лик глядит вперед, другой назад, жизнь зачинается, жизнь угасает, справа лагерь восставших рабов, слева оливковый сад Тита Перперны. Он лежал под оливой, положив голову на колени девушки-сарматки, - возможно, ее звали Айку; она была очень похожа на Айку - рослая, с маленькими округлыми холмиками грудей, низким бархатным голосом и густыми, коротко остриженными волосами. Она открылась ему, божественная Гайя, всеохватывающая, всерастворяющая; она охватила его, но он не растворился в ней, он услышал, как дышит земля, увидел выжженное на ней клеймо и остался самим собой, о клейменая земля.
По ту сторону вала и рва, ограждавших лагерь восставших рабов, полыхали сторожевые костры легионов.
"Сможем ли мы победить?" - спросила девушка.
Сотни раз он побеждал на арене цирка, и каждая победа была его поражением - оттопыренные пальцы римлян в пурпурных ложах показывали вниз, и он убивал себя.
Он не ответил.
Тогда она сказала: "А иначе какой смысл? Победив, мы сделаем их рабами!"
Из густой тени, отбрасываемой полуразрушенной садовой оградой, вышел человек. Через час его труба поднимет воинов в бой. Он показал пальцем на голову Януса. "Что тут спереди и что сзади?"
Лежавший на земле поднялся, лицо его было серым от мучительных дум.
"Думал ли ты, Якобус, думал ли кто-нибудь вообще три года назад о том, что мир мог бы быть иным, не таким, каким мы его знали: мы - на арене, они - в ложах? Никто об этом не думал. Но такой мир был для нас невыносим, поэтому смерти мы не боялись - что так помирать, что этак. Мы поднялись на борьбу и принесли в мир надежду.
Слышите стук плотничьих топоров? Консул Марк Лициний Красс, которого они называют Богачом, поклялся, что увешает телами рабов все кресты вдоль Аппиевой дороги. Пусть так: надежда не умрет на их крестах! Надежда рождает действие, а действие - победу!"
"Я люблю тебя, Спартак", - сказала девушка.
"А как же мы?" - спросил Якобус.
"Мы, - отвечал Спартак, - лишь начало".
Где-то неподалеку в горах завыл волк. А может, то был вовсе не волчий вой, а зловещий хохот Сциллы и Харибды - до них ведь тоже было рукой подать: либо ползайте на животе, либо лишитесь живота своего.
Лежа в саду под оливой и положив голову на колени девушки, Спартак думал: где нет надежды, нет человека. Он вытер со лба холодный пот, непроглядный мрак ночи рассеивался, стрекот цикад уже походил на треск лягушек, стук топоров обернулся утиным кряком, и пруд возник вновь, смутно серея в тумане.
Только теперь заметил Крабат, что из яблок торчат проволочные ушки. Он посохом посбивал с веток поддельные плоды, развешанные для того, чтобы люди видели: дерево плодоносит, а в мире ничего не меняется. Яблоки оказались пустыми внутри - гладкая, благоухающая кожица без мякоти и семечек. Гладкая, благоухающая кожа человеческой плоти - жить МГНОВЕНИЕМ, и по ветру отмеренных лет развеяно прошлое.
Глава 9
Ян Сербин ехал на север страны. Природа здесь была суровая, но не унылая. Ни снега, ни мороза, на одном озере кувыркались дикие гуси. В купе был еще один пассажир - странный господин с непомерно большими ушами, который сидел в своем углу, так неестественно ссутулясь, словно у него был горб на шее, и читал тоненькую книжечку в черной обложке и с золотым обрезом. Читал он крайне медленно, то ли из религиозного пиетета, то ли из-за трудностей чужого языка.
Чтобы отвлечься от неотвязных мыслей, Ян Сербин полистал газету, где нашел и свой портрет; под портретом коротко сообщалось, что, выступая перед студентами, он говорил о знании и силе. В соседней колонке был помещен отчет о встрече представителей некоторых дружественных государств для обсуждения привилегий членов Высшего совета их содружества. Участники встречи были названы полными именами, об обсуждаемых или уже согласованных ими привилегиях не говорилось ни слова. "Знание и сила" - о его выступлении, список имен - о встрече представителей. Разве это информация для тех, кто там не присутствовал, подумал Сербин и отложил газету.
Сосед по купе тоже кончил читать; он приветливо взглянул на Сербина и сказал: "Странная зима в этом году".
Мало-помалу между ними завязалась беседа - спокойный, ненавязчивый обмен репликами по поводу мелькавших за окном пейзажей или достоинств кофе и легкой закуски, которую им предложили в купе-баре. Несколько позже, обратив внимание на одинокий и опрятный крестьянский двор, мелькнувший за окном в некотором отдалении от железной дороги, спутник Яна заметил, что он сам родом из такой вот крестьянской усадьбы, но уже много лет не был в родных местах. Сербин мельком подумал, что и он вот уже десять лет не был дома и еще неизвестно, не заговорит ли на своем родном языке с акцентом, как его спутник. Убаюкивающий комфорт купе-бара напомнил ему венскую кондитерскую, которая запечатлелась в памяти из-за невольно подслушанного им долгого разговора двух молодых людей: студента-медика и продавщицы из книжного магазина - они сидели за его столиком. Суть их разговора сводилась к скромной и несколько элегической мечте-утопии: чтобы у каждой молодой и влюбленной пары была своя крыша над головой, чтобы будущее просматривалось на многие годы вперед вплоть до старости, чтобы никто не имел права стеснять свободу человека и чтобы больше не было страха - если не перед смертью, то хотя бы перед жизнью. Молодые люди переживали, по-видимому, заключительный этап своего романа.
Спутник Яна, к сожалению, не бывал в Вене, но и он, само собой, был достаточно наслышан о страхе молодежи перед жизнью: ведь акты насилия, число которых все растет, порождаются именно этим страхом. И ему стало трудно говорить людям о небе, как того требует его долг священника, поскольку он не знает, как помочь им на земле. Сам он уже слишком стар - на вид он был ровесником Сербина, - чтобы утратить веру в Господа, но у него не хватает духу осуждать молодых за их неверие, потому что жизнь и впрямь опровергает существование всемогущего и человеколюбивого божества.
В речи его, звучавшей скорее сухо и сдержанно, чем жалобно или обиженно, не чувствовалось ни елея, ни пафоса, а только смирение и покорность судьбе.
Чем ближе к цели - здешние озера, мелькавшие за окном, были затянуты тонкой голубовато-серой корочкой льда, - тем тяжелее становилось на душе у Яна Сербина, без долгих раздумий решившегося на эту поездку к сестре Урсуле. Он ничего о ней не знал - кроме того, что она замужем, счастлива и имеет двоих детей: мальчика и девочку.
Когда он стал собираться к выходу, оказалось, что и его симпатичный спутник сходит на той же станции. Здесь живет после ухода на пенсию престарелый епископ, который в свое время наставил его на путь истины; нынче он отмечает свое восьмидесятилетие.
Сербин остановился в маленькой, уютной гостинице. Из окон его комнаты открывался вид на нарядную улочку, которая тянулась между двумя облицованными камнем заливами, узкими языками врезавшимися в сушу. Заливы эти, как и весь Зунд, были покрыты льдом, город ярко освещен, снега не было и в помине, а далеко над Зундом в небе сияли звезды. Время от времени мимо гостиницы с ревом проносился громоздкий лимузин, уже вышедший из моды, и, с воем беря крутой подъем, вырывался за пределы городка. Тишина, наступавшая после этого, ничем больше не нарушалась.
Город и гавань, Зунд и бескрайние леса вокруг были окутаны дымкой покойной и трогательной печали. Полная иллюзия доброго старого времени почтовых карет, подумал Ян Сербин и ощутил нечто вроде жалости к молодым, которые носятся в огромных лимузинах: боясь темноты, дети всегда стараются петь погромче. Сам бы он сейчас с удовольствием покатался на коньках - ледяной простор Зунда, звезды над головой...
За ужином в ресторане гостиницы - вареный лосось, бутылка шабли - он с живым интересом, чуть ли не с восхищением следил глазами за хорошенькой официанткой, сновавшей между столиками, покрытыми ярко-красным дамастом: ему нравились ее руки, ловко накрывавшие на стол, и длинные светлые волосы, вместе с большими зелеными серьгами придававшие ей сходство с русалкой; она улыбнулась ему - может, по долгу службы, а может, ей просто нравилось, что она ему нравится. Как все-таки приятна жизнь, если ее не усложнять, подумал он.
Обязательно надо будет покататься на коньках. Или на буере.
Он решил поскорее разделаться с визитом; если сестра узнает его, хорошо, а не узнает, еще лучше.
Он вышел и взял такси; когда Сербин назвал адрес, водитель понимающе кивнул и заметил, что добрый старый епископ и вправду заслужил это скромное торжество, которое устроил по случаю его юбилея председатель церковного совета.
Дом сестры находился на окраине городка и венчал высокую и крутую скалу над самым Зундом. Он сиял огнями, у подъезда скопилось несколько машин.
Широколицая девушка-лапландка приняла у него пальто и шляпу и провела в гостиную. Собравшиеся встретили позднего гостя удивленными взглядами. За креслом престарелого епископа стоял попутчик Сербина,
Красивая темноволосая дама поднялась и сделала несколько шагов ему навстречу, но вдруг побелела как полотно; он бросился к ней и обнял свою сестру, Урсулу Гёрансон, которая была ему чужой, хоть и узнала его с первого взгляда.
Косые лучи утреннего солнца, очень низко стоявшего над горизонтом, освещали замерзший Зунд, запертые купальни на пляжах противоположного плоского берега, сам городок и окрашенные в приятный светло-голубой цвет цеха завода, принадлежавшего Гёрансону.
Утренним солнцем залит был и дом над Зундом, и огромные, заросшие мхом валуны в просторном саду, и покрытая инеем теплица. Стайка пестрых соек гоняла от дерева к дереву двух ворон, с гомоном пикируя на них сверху. Вороны никак не решались оторваться от надежного укрытия в ветвях деревьев и взмыть на такую высоту, где сойкам бы их не достать. Очень крутая светло-серая железная лестница спускалась к лодочному домику - летом Гёрансон обычно ездит на завод в лодке, - длинный причал доходил до буя, теперь, зимой, похожего на огромный ледяной пузырь. На полпути между домом и заводом над гладью льда возвышался крохотный островок с группой сосен, укрывшихся от ветра за валом из камней. Два или три года назад Гёрансон купил этот островок, потому что молодежь, особенно летними ночами, устраивала там шумные сборища, носившие к тому же не слишком приличный характер, сказала сестра.
Он же дал возможность компании построить хранилище для бензина и нефти, продав ей участок земли на берегу моря, почти рядом с их домом. Правда, на очень выгодных условиях, добавила она.
Но теперь и эти выгодные условия, и островок, где прежде собиралась молодежь, и вообще все, что лежало за пределами их семьи, перестало их интересовать. Сестра ничего не знала о жизни брата и даже не спросила, почему он вдруг появился тут. Ее мир рухнул, а разве мир, который рушится, не застилает весь остальной мир?
Они были так безмятежно счастливы много лет - она, ее муж Том, сын Кристер и дочь Сигне. Завод процветал, дети радовали родительские сердца, сын рос деловым и толковым, дочь была мила и послушна.
"И вдруг дочь перестала быть милой и послушной. То есть она отнюдь не стала злой и строптивой, - поправилась сестра, - не в том дело, но с ней творилось что-то непонятное. Она не захотела жить, как живем мы, и стала жить по-другому, а как, мы не можем понять. С нами она об этом не говорит, тем более не пускается в споры и держится скорее замкнуто; вид у нее подавленный. Один раз пыталась покончить с собой, но в последнюю минуту передумала. Она изучает медицину в столичном университете и вот уже два года не приезжала домой. Мужа все это убивает: дочь была его любимицей".
На глаза сестры навернулись слезы жалости к дочери, покинувшей мир, где ей жилось бы так покойно и удобно.
Ян очень обяжет ее, если, вернувшись в столицу, разыщет Сигне и поговорит с ней по-хорошему. Может, ему она и откроет душу.
А теперь о Кристере, сыне. Он с такой энергией занялся делами, что выхватил фирму из рук отца. Тут сестра залилась слезами и ничего не смогла объяснить. Это сделал за нее Томас Гёрансон за чашкой шоколада и легкой послеобеденной сигарой.
Сначала Кристер откупил у Сигне ее долю в фирме, потом завладел теми пятью процентами, которые он, Гёрансон, пожертвовал церкви на благотворительные цели. Добрый старый епископ, к сожалению уже впавший в старческое слабоумие, уступил их ему в обмен на вполне надежные бумаги нефтяной компании, чем подвел черту под своей карьерой, после этой акции ему пришлось уйти на покой.
Все это, вместе взятое, дало бы Кристеру только сорок пять процентов, но потом они построили новый завод бетонных труб: представился случай купить участок земли по довольно сходной цене, а главное, он, Томас Гёрансон, хотел дать работу тем, кого пришлось уволить с основного завода фирмы после проведенной там автоматизации. Для этого они выпустили новые процентные бумаги и заключили ряд сделок, а когда все было закончено, в руках сына оказалось пятьдесят пять процентов капитала, и он из компаньона отца превратился в главу фирмы.
С деловой точки зрения Томас Гёрансон не мог не оценить по достоинству эту операцию сына, которая и с нравственной стороны представлялась ему вполне безупречной.
"Но для меня жизнь потеряла смысл и цель", - заключил он.
Ян Сербин сразу и без труда - ощущая смутное беспокойство по поводу этой новой для него способности - уяснил суть финансовых ходов, сделавших Кристера Гёрансона единоличным главой фирмы; зато лишь с большим трудом он уяснил, почему для сестры и ее мужа это означало конец их счастливой жизни. Разве их счастьем были деньги?
Дело не в деньгах, ответили оба в один голос. Да их и не стало меньше, вероятно, со временем будет даже больше.
"Тогда, значит, власть?"
"В моей власти было делать добро людям", - ответил Томас.
А сестра добавила: "Мы построили приют для престарелых" - и показала светлое пятно на фоне леса над городом.
"Хирургическое отделение в маленькой городской больнице было оборудовано скудно и скверно, я закупил для него самую лучшую современную аппаратуру, - заметил ее муж, - у меня были и еще кое-какие замыслы".
"Какие, например", - перебил его Сербин.
"Ну, например, я собирался привлечь рабочих и служащих фирмы к участию в прибылях".
"То есть в результатах их собственного труда", - вставил Сербин.
Зять возразил несколько взволнованным тоном: "Прибыли дает завод, а завод принадлежит мне, вернее, принадлежал, - с горечью поправился он. - Короче говоря, Кристер не возражал ни против больницы, ни против приюта, он возражал только против этих моих замыслов и называл их патриархальными". Горестно пожав плечами, Томас Гёрансон вернулся в дом, откуда вскоре донеслась органная музыка. Он играл Баха. "Его словно подменили", - сказала Урсула, родная сестра, каждый месяц посылающая родителям посылку: кофе, соки, шоколад, что-нибудь из теплых вещей - и письмо о своем счастье с цветной фотографией в качестве зримого доказательства этого счастья. Не посылать же старикам слезы!
Муж играл Баха, жена уехала в город - не могла пропустить собрания благотворительного общества, где была председательницей, - а сын вернулся из деловой поездки.
Кристер Гёрансон на первый взгляд казался намного моложе своих тридцати лет. На голову выше отца, в костюме свободного покроя из очень дорогой материи, мужественное лицо с красивым ртом, унаследованным от матери, жизнерадостный смех, не вяжущийся с жестким выражением живых карих глаз. Он был искренне рад познакомиться со своим знаменитым дядей, поздравил его с высокой наградой и спросил без обиняков, успели ли родители сообщить ему о своей мнимой беде.
"Беда моего отца в том, что его мучают угрызения совести, - сказал он. - Он так разбогател, что ему стало не по себе. Я освободил его от этих угрызений".
Кристер сделал себе коктейль, добавив в сок несколько капель виски. "Говоря начистоту, дядя, - сказал он, - мне рассказывали, что ты можешь сделать больше, чем все психотерапевты, вместе взятые. Мне портит настроение, что мои старики, и прежде всего мать, сейчас и впрямь чувствуют себя глубоко несчастными; но я не могу ничего изменить, недостаточно глуп для этого. Будь добрым дедом-морозом и сделай их счастливыми!"
"А что такое счастье?" - спросил Ян Сербин.
"Если я не ошибаюсь, когда-то на лекциях по философии нам говорили, что этого никто не знает, вернее, каждый понимает счастье по-своему. Но в данном случае - без всякой философии, дядюшка, - они будут счастливы, если перестанут думать о том, что делает их несчастными. Или еще лучше: пусть они радуются тому расцвету, к которому я веду фирму. А я и вправду приведу ее к расцвету".
"Ну хорошо, - сказал Сербин, - в этом состоит их счастье. А в чем твое? И твоей сестры Сигне?"
"С моей сестрой Сигне все очень просто: она стоит на голове и жалуется, что мир перевернут вверх ногами. А на голове она стоит оттого, что нормальный мир внушает ей страх. Она и к себе самой испытывает отвращение - мне кажется, иногда она сидит перед зеркалом и, фигурально выражаясь, плюет себе в лицо. Я не теряю ее из виду, как-никак она моя сестра, но, пока она не перестанет плевать в зеркало, мне вовсе не улыбается, чтобы она жила здесь".
Он допил свой коктейль и в раздумье повертел в пальцах пустой бокал. "Мне жаль сестру, - сказал он, - не ее вина, что она стала такой. Одно могу сказать наверняка: если у меня будут дети, никогда не возьму их с собой на завод и не стану показывать им, как люди там работают. Это только внесет разлад в их души и вызовет кучу вопросов, на которые детям не ответишь. По годовому балансу фирмы, случайно попавшему ей в руки, Сигне в пятнадцать лет занялась вычислением отцовских доходов... Вдобавок мать примерно в ту же пору начала приобщать ее к своей благотворительной деятельности. И когда она завела роман с каким-то автомехаником, родители хоть и удивились, но все же пригласили молодого человека к нам в дом. Он пришел один раз и больше не появлялся, зато Сигне с тех пор чаще бывала в его доме, чем в своем. Таким вот путем, дядюшка, шажок за шажком, на крупный-то шаг храбрости у нее не хватало. - Кристер ухмыльнулся и закончил с прежней иронией: - И свою долю в фирме она уступила мне отнюдь не задешево".
Он умолк и некоторое время прислушивался к звукам органа. "Эта фуга великолепна, - заметил он, - я тоже иногда ее играю, к сожалению не так хорошо, как отец. Если бы тебе удалось сделать так, чтобы он чувствовал себя счастливым, занимаясь игрой на органе, охотой, благотворительностью..."
"А ты ведь, наверно, тоже хочешь творить благо". Это прозвучало ненавязчиво, как полувопрос-полунамек, а поскольку ответа не последовало, то позже Кристер опять вернулся к этой теме, уже без всяких экивоков. "Например, тот, кто производит аспирин, - сказал он, - снимает зубную боль и тем самым приводит людей в состояние, которое ощущается ими - по контрасту с перенесенными только что муками - как счастье. Крупица счастья в пяти таблетках аспирина всегда идет нарасхват. А если бы можно было купить полный комплект счастья - скажем, из десяти тысяч таких крупиц, - тут уж и концерн "Байер" выглядел бы жалким крохобором. Я бы, например, согласился расстаться с кругленькой суммой ради того, чтобы мои старики были счастливы".
"Например, - перебил его Ян Сербин, - твои старики тоже могли бы сказать, что счастье их сына..."
Кристер Гёрансон рассмеялся. "Я сам кузнец своего счастья - есть такая поговорка. Но вообще-то в наши дни необычайно повысился спрос на этот товар, все просто с ума посходили, гоняясь за счастьем. Так что, дядюшка, - от волнения он даже встал, - сейчас ты запросто мог бы сойти за Иисуса Христа!"
Я, Иисус, стою на горе и молчу. Нагорная проповедь не получается, ибо мне неведомо, кому откроются врата в царство счастья: кротким, миротворцам, нищим духом - или же жившим, трудясь, стремясь весь век, и изгнанным за правду... Воистину, воистину вопрошаю я вас.
Меня ведут к Пилату, и он спрашивает: Ты царь счастья? И я отвечаю: Это ты говоришь. И не могу добавить, как Иисус: Царство мое не от мира сего. Он выражает сожаление, умывает руки и велит распять меня на кресте моего неведения.
"Твое царство - весь мир, дядя, если в твоей власти делать людей счастливыми - каждого на свой лад! Я человек сухой и трезвый, но перспективы, которые тут открываются, не дают мне усидеть на месте. - Тем не менее он не вскочил с кресла, а, наоборот, вжался в него и даже весь подобрался, как кошка перед прыжком. - Для этого надо, естественно, чтобы твое открытие попало в хорошие руки..."
Чем дольше Ян слушал его, тем дальше уходил от него смысл его речи и, чем дальше он уходил, тем знакомее казался.
Однажды Крабат отправился в дальнее плавание и привез из Америки мешок картофеля.
"Какие странные яблоки", - заметил Райсенберг.
"Это земляные яблоки", - пояснил Крабат.
Райсенберг взял одну картофелину, надкусил и, сплюнув, заорал: "Разве что для свиней!"
"Может, и для свиней тоже, - спокойно сказал Крабат. - Если эти яблоки сварить, то одним горшком можно накормить досыта десять голодных ртов".
"Коли так, - отступил Райсенберг, - дай их людям, сытые мне больше по душе, чем голодные".
"Но у них нет земли", - возразил Крабат.
Неподалеку было большое поле - бросовая земля, глина пополам с галькой, так что и плуг ее еле брал, все борозды вкривь и вкось. Просо там вообще не росло, а хлебные злаки чахли и хирели - косуля могла заскочить в спелую рожь, не сломав ни стебля.
"Говоришь, одним горшком можно накормить десять голодных ртов?" - переспросил Райсенберг.
Крабат подтвердил.
"Пусть возьмут себе это поле, - сказал Райсенберг, - и набьют свою утробу. Дарю им эту землю".
Люди хвалили Крабата, но еще больше хвалили они Райсенберга: он перестал быть волком, говорили они.
Осенью, когда убрали урожай и оказалось, что одним горшком картофеля и впрямь можно накормить десять голодных, а с солью картофель так вкусен, что того и гляди - с руками проглотишь, люди принялись на все лады превозносить доброго Райсенберга. Но когда, отработав на его полях, пришли в замок за похлебкой, большой котел в людской кухне был пуст и огонь под ним не разведен.
Тогда люди отправились к Райсенбергу: "Мы хотим есть, а котел в кухне пуст, и огонь под ним не разведен".
"Я дал вам землю, чтобы вы были сыты, - сказал Райсенберг. - Так что с меня взятки гладки".
Они были сыты только до сретенья, а где особенно много рук тянулось к горшку с картофелем, то и до крещенья, и люди сказали: был волк, волком и остался.
Вольф Райсенберг прослышал, что из картофеля можно гнать спирт и делать водку. Он призвал Крабата к себе и сказал: "Ты меня обманул! Почему не сказал сразу, что картофель очень полезная вещь".
"Ты еще захлебнешься в своей водке, Вольф Райсенберг", - ответил на это Крабат.
Но тот только рассмеялся: "Один из нас, Крабат, один из нас!"
Крабат пошел к своему другу Якубу. Мельник сидел на груде мешков с отрубями и играл на трубе воинственную песню - про звон мечей и геройскую смерть на поле боя. Бутыль, присланная ему Райсенбергом, стояла рядом пустая. Глаза у мельника были стеклянные, и песню он играл с чужого голоса.
Племянник все говорил и говорил, но не просто так, без всякой цели, он давно знал, что картофель - полезная вещь, если попадет в хорошие руки. В пальцах он держал карандаш, и карандаш быстро и ловко набрасывал на бумаге цифры, а сам он продолжал говорить, прикладывая карандаш к губам. Но Ян Сербин уже не слушал его, он прислушивался к спору между Лоренцо Чебалло и Антоном Донатом. "Один эксперимент еще ничего не значит, - говорил Чебалло, - ничего еще не доказано".
"Доказано, что мир должен быть изменен, - возражал Донат мягким проповедническим тоном, который он усвоил с тех пор, как перестал в глубине души сомневаться в своем учении. - Доказано также, что людям не на кого надеяться, сделать это должны они сами. Не бог, не царь и не герой. Значит, надо изменить людей".
"Эксперимент на себе самом в этом случае, возможно, не что иное, как самовнушение, - сухо возразил Чебалло. - Если не шарлатанство и дешевый ярмарочный фокус", - язвительно добавил он, не удержавшись.
"Вы оскорбляете моего друга точно так же, как его оскорбляет его собственный племянник. Сербин вел свои исследования в интересах всего человечества, ради того, чтобы оно изменилось к лучшему, он заставит таких людей, как вы и этот парень, петь с его голоса!"
Ян Сербин не дослушал Доната до конца, он сказал: "Хорошо, я сделаю твоих родителей счастливыми".
"Это и вправду в твоей власти?"
"Вполне".
"Только чтобы они ничего не заметили".
"Люди меняются, не подозревая об этом".
"Великолепно, - сказал Кристер Гёрансон. - Но в то же время и как-то страшно".
"Не страшно, если это делается ради их блага", - ответил Ян Сербин.
Что понимать под благом, он знал теперь совершенно точно, сомнений больше не было.
Симпатичный сосед Сербина по купе, приезжавший отдать дань благодарности старому епископу, после этого разговора в тот же вечер улетел частным самолетом. Он увозил с собой запись беседы.
После его внезапного отъезда бывший епископ спросил у своей супруги, которая была на несколько лет моложе, не помнит ли она этого человека по прошлым годам.
Супруга ответила, что он очень многим помог стать на путь истины.
"Я счастлив этим сознанием", - сказал епископ. Он взял со стола тонкую фарфоровую чашку со слабым чаем и поднёс ее к губам. Рука его немного дрожала, и чаю в прозрачной чашке передавалась эта дрожь.
Глава 10
Если люди не видят того, кто постоянно вторгается в их жизнь, они создают образ этого человека в своем воображении. Поэтому одного из ПЯТИ или всех пятерых вместе часто принимали за Райсенберга. Но еще чаще, чем эта путаница или почти мистическое совпадение, возникавшие не случайно - скорее всего, кто-то намеренно вводил людей в заблуждение, - полмира будоражили разные слухи о Райсенберге. По одним - это был больной раком старик, ожидающий своей смерти где-то во дворце, или на бороздящей моря роскошной яхте, или в простой охотничьей хижине; по другим - меланхоличный молодой человек, который носился с мыслью передать все свое состояние - как предполагали, оно равнялось сумме национального дохода четырех богатейших стран - на благотворительные цели, а самому улететь на космическом корабле к звездам, в их туманную беспредельность. Во всех этих слухах не было ни малейшего намека на то, что ПЯТЬ имеют какое-то отношение к Райсенбергу и что между самими пятью существует связь.
На самом же деле, связь ПЯТИ - СЕМИ или ДВЕНАДЦАТИ, кто, кроме НЕГО, знал их точное число? - с Райсенбергом походила на связь архангелов с Иеговой: они были на короткой ноге со своим господином, но ОН видел в них только говорящее орудие, выступая от ЕГО имени, они были безымянны перед НИМ; под номерами они были вездесущи, но в человеческом обличье боялись зубного врача; обладали частицей ЕГО всемогущества, но все пятеро были бессильны; они были необходимы ЕМУ, но заменяемы, как лопнувшие шины, - короче, это были ЕГО творения, созданные, чтобы каждый день воскрешать ЕГО заново.
Они были безымянны, но обладали множеством имен, ТРЕТИЙ, например, называл себя Фридрихом Иоханесом Камишом, друзья звали его Ф. И., а его сотрудники - Человеком Будущего. Он был сгустком энергии, его девиз: час потерянного времени в сутки создаст в итоге дефицит в три года - был широко известен во всем мире, так как он при каждом удобном случае напоминал об этом. В отличие от тех людей, что руководствуются нравственными принципами, Каминг строго придерживался только своего девиза: спал шесть часов в сутки и не тратил зря ни одной минуты остального времени.
Он и сейчас не тратил его впустую - дважды внимательно прочитав донесение СПУТНИКА, он распорядился: замок в горах и дом на Голубом острове должны быть готовы, чтобы принять ученого, - и вылетел в Форт исследований Омега Дельта.
Форт, расположенный в труднодоступной местности, занимавшей десять квадратных километров, находился под слоем земли и бетона, который лифт преодолевал за тридцать секунд, и был защищен сверхмощными лучами, не пропускавшими внутрь ничего, даже бабочку или маленького жучка. Лучи ловили все живое и превращали в неорганическую субстанцию.
Очень мало людей знало о том, что происходило на Омеге Дельте, всего не понимал даже ТРЕТИЙ, он мог лишь догадываться, что будущие научные открытия ученых форта должны затмить все, чего достигли атомная физика и космонавтика. Здесь работали над тем, чтобы в неслыханных масштабах ускорить процесс эволюции и создать в лабораториях формы жизни, на которые природе пришлось бы затратить миллионы лет.
С ощущением триумфа, к которому все же примешивался оттенок подавленности, ТРЕТИЙ наблюдал, как возникают предпосылки для осуществления его формулы: "Человечество сможет выжить, только если люди будут счастливы, а счастье - это когда все довольствуются тем, что у них есть". Возможность получения счастья биологами и химиками из реторты теперь не была уже фата-морганой. Мир, возвращенный к порядку, в котором живут только довольные люди, - это мир счастливых людей, думал ТРЕТИЙ, и начал во время полета диктовать новую главу своей книги, над которой работал уже несколько месяцев. Книга пока носила условное название "Мысли об идеальном устройстве общества". ТРЕТИЙ не сформулировал еще ясного и точного определения структуры этого общества: все бывшие в употреблении термины казались ему тривиальными, а он стремился найти слова, которые, с одной стороны, могли бы стать священными, с другой стороны, четко обозначили бы основные принципы этого общества: неприкосновенность собственности, бесклассовость, разделение общества на четыре группы - потребителей, деятелей искусства, производителей и правителей.
Хотя он чувствовал, что в данный момент сумел бы доходчиво осветить весьма сложный вопрос, как соединить незыблемость установленного порядка с довольством всех граждан, и разъяснить все это миллионам людей из самых низших слоев общества, он не включил стоящий всегда наготове диктофон. По его часам, которые он никогда и нигде не переводил на местное время, наступило время сна, а он считал, что работать в эти часы непродуктивно.
Однако нечего было и думать о том, чтобы заснуть в самолете. Он откинулся в кресле, сложил руки на животе и, прикрыв глаза, стал перебирать в уме возможности, которые дает человеку ночная жизнь. Не ему самому, а человеку вообще. Ему доставляло удовольствие и даже, пожалуй, приносило душевное успокоение, когда он позволял своим мыслям скользить без определенной цели, широко и свободно. Журналисты, возможно, назвали бы его рассуждения циничными, но что они знали о том, каков ТРЕТИЙ на самом деле, что они знали о душе Великого Человека, который лежал сейчас, вытянувшись в кресле и сложив руки на животе, обтянутом жилетом.
Ночью можно делать многое: спать или не спать, рассуждать об относительности теории относительности, каяться в грехах, замышлять преступления, надеяться на то, что будет мир, или бояться, что прекратится война, произносить или слушать речи, вспоминать, какие речи ты слушал в своей жизни, подсчитывать, сколько пользы или вреда может принести человеку одна минута услышанной им речи. Можно думать - и говорить - вне времени и пространства все в одну ночь, как будто ты Христофор Колумб или Пауль Клинкербюль, умерший в тысяча девятьсот пятьдесят первом году и похороненный на северном кладбище своего родного города, блок Ц, ряд девятнадцать, могила номер семьдесят три, все аккуратно, в строгом порядке, как в театре: партер, ряд, место - или как "а большом конгрессе: ярус А, второй ряд, кресло пять.
Все аккуратно, в строгом порядке, прочно и просто смехотворно, по-детски смехотворно, в сравнении, например, с тем моментом, когда два космических корабля обнаруживают друг друга где-то около далекой звезды Веги и сообщают по радио свои координаты во времени и пространстве, и в одну и ту же секунду у одного оказывается ночь, а у другого день, и их сутки по земному времени пробегают за восемьдесят восемь минут.
Иногда ТРЕТИЙ воображал, будто он всевидящее и всезнающее око где-то во вселенной и будто он исчезает в черном пространстве антибытия...
Наконец ТРЕТИЙ все-таки заснул, он проснулся, когда самолет уже шел на посадку. В проходной его опознало электронное устройство, и лишь после этого перед ним открылись двери лифта. Внизу его встретил молодой, но уже лысый биолог.
Этот ученый был известен в научном мире под именем Ибу Ямато, так ли его звали на самом деле, знал только Центр. Ямато провел посетителя в лабораторию Малых Клеток, в которой помещалось двенадцать клеток с частой решеткой, расставленных в ряд, одна за другой, и, когда в этих клетках открывались дверцы, образовывался длинный коридор, который замыкала тринадцатая клетка, круглая, почти в высоту человеческого роста. В каждой клетке металась голодная, разъяренная крыса.
Ямато, указав коротким жестом то ли на клетки, то ли на шум, доносившийся оттуда, то ли на бушевавших крыс, сказал: "Восемнадцать дней без корма". ТРЕТИЙ кивнул, у него возникло странное чувство, которое он попытался в себе побороть, ему показалось, что клетки увеличились до гигантских размеров, а крысы вдруг перестали быть крысами и сделались людьми или похожими на людей; у них не было лиц, это были великаны, может быть, даже циклопы. Но и это не страшно, нас никакой Полифем не запрет в своей пещере, ведь Одиссей хоть и был мал ростом, но у него был мозг человека. Учитель греческого сказал мне однажды: переводите, что вы уставились на меня, как безмозглый циклоп. Четырнадцать лет спустя я пощелкал перед его носом пальцами: ну, кто здесь теперь циклоп, а кто Одиссей? И крысы снова стали крысами.
Ямато открыл дверцу между первой и второй клеткой, и обе крысы бросились друг на друга, как выстреленные из рогатки. Силы их были равными, и, не издавая никаких звуков, они пожирали друг друга. Вскоре от обеих крыс остались лишь передние части, видны были доли легких. Половина одной крысы пережила другую на сорок три секунды, но казалось, это мгновение длилось в десять, в сто, в тысячу раз дольше, потому что в эти секунды половина крысы начала жалобно свистеть. Ее жалкие судороги сопровождались бешеным писком остальных десяти крыс, которые почуяли запах крови, но не могли выбраться из своих клеток. Ямато дал каждой по кукурузному зерну, вынимая его пинцетом из стакана. ТРЕТИЙ произнес при этом одну из своих обычных шуток: "Ага - конфетки" - и рассмеялся тихим гортанным смехом. Было слышно, как последняя крыса догрызла свою "конфету". Они смотрят на меня, как послушные ученики на своего учителя, - что-то в этом духе успел подумать ТРЕТИЙ, но в это время Ямато открыл одну за другой дверцы во всех клетках и десять крыс послушно направились по образовавшемуся коридору - как дрессированные львы, шествующие на манеж, - в последнюю, самую большую клетку. Без спешки, в образцовом порядке они взобрались на лестницу, сверху на крюке висел кусок свежего сырого мяса, но крысы не обращали на него никакого внимания, они скатывались с горки, вновь влезали вверх по лестнице и опять скатывались вниз, тихо шурша по отполированному металлу.
ТРЕТИЙ не был молчальником, он даже слишком много говорил, руководствуясь своим принципом "Я-тоже-только-человек", поэтому он сказал: "Как-то, когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в церковь. В церкви мне стало плохо, я не мог выносить запах ладана". С тех пор, чувствовал ли он этот запах или слышал слово "ладан", ему приходил на память старый Великий Комтур (глава округа духовно-рыцарского ордена) - в те времена ТРЕТЬИМ был он, - который, склонив птичью голову набок и подняв вверх указательный палец цвета пергамента, говорил: Никогда не кури фимиам самому себе, даже если считаешь, что тысячу раз достоин, никогда не делай этого! Кури фимиам Святому Граалю! Если ты не веришь в него, выдумай! И кури ему! Люди верят фимиаму больше, чем собственным глазам. Людям нужен Святой Грааль, дай им его, и ты дашь его, если воскуришь фимиам.
"У церкви была ярмарка, мне разрешили сыграть в лотерею, и я выиграл серую резиновую крысу, которую можно было заводить. Ваши крысы похожи на заводных резиновых крыс".
Ямато - он любил повторять: если я когда-нибудь действительно создам человека, избави от этого боже, я вложу в него несколько генов, которые позволят отключать его речевое устройство, - не вслушивался в то, что говорил ТРЕТИЙ. Ямато сказал: "Они запрограммированы. На десять часов, максимальное отклонение во времени полпроцента".
"А потом они опять станут обыкновенными крысами?"
"Если будут жить, да. Сейчас они расходуют свои последние резервы".
Крысы залезали на лесенку, скатывались вниз с горки, вновь залезали и вновь скатывались, они были усердны, дисциплинированны, счастливы. ТРЕТИЙ пристально смотрел на крыс, сейчас они были так забавны, что ему стало жаль их. Ему захотелось попросить Ямато прекратить опыт, хотя он понимал всю нелепость подобной просьбы.
Он спросил, есть ли возможность сократить эти десять часов или изменить программу в рамках отведенного времени.
Ямато не совсем понял его вопрос: нет оснований экспериментировать в этом направлении, объяснил он, как известно, цель всех опытов его отдела - научиться закладывать уже в эмбрионы такую программу, чтобы животные с момента рождения были лишены инстинкта самосохранения.
ТРЕТИЙ долго и тщательно сморкался, чтобы справиться со смущением: одно дело - давать необходимые указания, другое дело - наблюдать, как они проводятся в жизнь. Особенно если ты сам не ученый. "Конечно, - ответил он и добавил: - Они появляются на свет только для того, чтобы добровольно сдохнуть".
Ямато спросил, казалось, совершенно безучастно: "Хотите еще посмотреть?"
ТРЕТИЙ бросил взгляд на круглую, похожую на маленький цирк клетку с довольными крысами: нет, спасибо, больше ему смотреть не хотелось.
Ямато взял бутылку с опрыскивателем и опрыскал животных в круглой клетке. Они погибли так же, как жили эти последние минуты, счастливые и довольные.
ТРЕТИЙ, все еще погруженный в свои мысли, вздрогнул: "Что это значит?"
"Они нам больше не нужны, - сказал Ямато. - Эмбриональная программа выполнена: мы научились выводить крыс, не обладающих инстинктом самосохранения и размножения. Поедают корм и спариваются только по химическому сигналу".
"Применимо?.."
"Применимо к людям, - сказал Ямато. - Но вам не удастся это использовать".
Его слова позабавили ТРЕТЬЕГО. Уже не первый раз Ямато оказывался восприимчивым к нравственной инфекции. ТРЕТИЙ находился в прекрасном расположении духа и с удовольствием завел бы сейчас спор о соотношении между рвущимися вперед естественными науками, оставшимися далеко позади социологическими исследованиями и совершенно запутавшейся философией. Он хорошо в этом ориентировался, и ему доставляло истинное удовольствие заставить человека, обладающего знаниями лишь в одной из этих областей, признать свою однобокость - а следовательно, и некомпетентность - и убедить его в том, что ни ученые, занимающиеся естественными науками, ни философы, ни социологи, ни комитет, куда входили бы и те и другие, не могут и не должны распоряжаться результатами своих исследований - этими полномочиями должны обладать люди компетентные, ответственные, иначе человечество будет ввергнуто в хаос и погибнет.
Он не захотел употребить вместо слова "ответственные" термин "правители" - в соответствии с классификацией его новой книги, так как считал это несвоевременным; данный термин мог вызвать новую - ненужную - дискуссию.
ТРЕТИЙ ждал, что Ямато, как уже не раз бывало, заявит для начала, что лишь ученый вправе решать дальнейшую судьбу своего открытия.
Ямато сказал: "Я все уничтожил". Он легонько постучал указательным пальцем себе по лбу. "И здесь тоже". Он улыбнулся странной - угрюмой и одновременно довольной - улыбкой.
Биолог тотчас же был подвергнут медицинскому обследованию, которое показало, что он говорил правду: он на самом деле стер свою память. Ямато был передан тому же специалисту по мозгу, который, конечно по неведению, помог ему нарушить контракт. В течение месяца удалось впрыснуть ему новую, в научном отношении еще более обширную память, не содержавшую, однако, формулу, которая устраняла инстинкт самосохранения, ведь эта формула существовала только в уничтоженных биологом записях и в его стертой памяти. ТРЕТИЙ отдал специальное распоряжение строго проследить за тем, чтобы при восстановлении памяти в нее не были снова включены рудиментарные социальные и нравственные моменты. Теперь это был лишь вопрос времени, и, вероятно, очень короткого времени, пока новый Ямато во второй раз выведет уничтоженную им формулу.
В других отделах ТРЕТЬЕГО также проинформировали о том, как идут исследования: наряду с достигнутыми успехами были допущены и весьма досадные промахи. В одном отделе удалось создать вирус, который оказывал парализующее действие на работу конечностей человека, или, точнее сказать, в сто раз замедлял их деятельность. Этому открытию ТРЕТИЙ придавал огромное значение, особенно после того, как убедился, что новый вирус и распространяется и подвергается уничтожению быстро и легко. ТРЕТИЙ распорядился поместить вирус в потенциально необходимом количестве в "Арсенале" - подвалах Омеги Дельты.
На фоне этих успехов особенно бросалось в глаза то жалкое положение, в котором все еще находился Второй отдел. На пути создания идеально функционирующей искусственной плаценты постоянно возникали трудности, которые никак нельзя было предугадать заранее. Число эмбрионов, достигавших созревания, колебалось от двух до семнадцати процентов - при этом никак не удавалось выяснить причину столь резких колебаний, - остальные погибали не позднее шести-восьми недель. Только один эмбрион созрел полностью и нормально развивался до своего "рождения" на двести семьдесят пятый день после его имплантации в искусственную плаценту. Яйцо было взято от мисс Уорлд, завоевавшей на всемирном конкурсе титул королевы красоты пять лет назад, а семя принадлежало Лоренцо Чебалло. Для зарождавшегося существа был выбран мужской пол, с этой целью в яйцо и семя были с большой осторожностью введены соответствующие гены.
Как можно было судить по прошествии трех лет, эксперимент в основном удался: первое созданное таким образом существо было, с одной стороны, невероятно уродливо, с другой стороны, обладало очень низкими интеллектуальными показателями, то есть возникло нечто обратное тому, что могло бы образоваться естественным путем.
Это существо, названное Адам 1, содержалось на верхнем этаже Омеги Дельты, в среде, чрезвычайно способствующей развитию интеллекта, чтобы проверить, насколько оно невосприимчиво к подобным влияниям. Надеялись, что воздействие на его интеллект будет минимально. Само собой разумеется, создание уродливых и лишенных интеллекта младенцев не было конечной целью экспериментов, проводимых во Втором отделе, скорее наоборот, однако эти результаты, столь противоположные естественным, позволяли лучше всего определить, в какой мере решена проблема отбора желаемых качеств, так как все возможные изменения прослеживались в данном случае наиболее отчетливо. Однако, каким бы легким ни казалось решение этой части программы, предпосылки для решения всей программы в целом отсутствовали, пока не была создана идеально функционирующая плацента.
ТРЕТИЙ - в качестве Ф. И. Каминга - был особенно заинтересован в исследованиях, проводимых этим отделом: у него не было детей. Это было его уязвимое место, его болевая точка: с одной стороны, в своих выступлениях он много раз заявлял, что люди Запада никогда не станут рисковать всем ради идеи, они неспособны на это потому, что у них перед глазами всегда будут стоять их дети, забота о потомстве заставляет их идти на один сомнительный компромисс за другим и жертвовать будущим из-за животной любви к детям.
С другой стороны, у него было почти маниакальное желание самому иметь ребенка. Это болезненное раздвоение было только кажущимся, потому что на самом деле для Каминга был важен не ребенок сам по себе, он хотел сбросить с себя впившееся в него, как стрела, проклятие, над которым он когда-то посмеялся. Если бы у него был ребенок, то проклятие оказалось бы просто ерундой и такой же ерундой оказались бы все проклятия на свете. А проклинали его много раз, и Каминг - или ТРЕТИЙ, тут он был неразделим, - не мог смеяться над этим до тех пор, пока с него не было снято проклятие того старика, образ которого никак не стирался из памяти Каминга. У старика была белая борода, и он пришел из деревни на наши позиции вместе с толпой женщин и детей. Они пели: господи, помилуй, и требовали, чтобы мои солдаты сдали деревню врагу: война проиграна, будьте милосердны к живым, если вам не жаль мертвых. Они вцепились в солдат и стали вырывать у них оружие. Убивать белобородого не имело никакого смысла, поэтому я застрелил его внука, которому было лет двенадцать. Бунт был подавлен, и мы защищали деревню до тех пор, пока не получили приказа об отступлении.
То, что мне пришлось убить мальчика, который, как выяснилось, вовсе не был внуком старика, было самым тяжким из всего, что мне было предначертано. А будь у меня одно из кукурузных зерен, приготовленных Ямато, мне не пришлось бы этого сделать. Старик с белой бородой стоял у края дороги и, подняв костлявый кулак, проклинал меня: "Будь проклято твое семя! Да не родит тебе сына чрево женщины!"
Каминг, который тогда носил другое, обычное и давно забытое имя, засмеялся в ответ на эти слова, и, будь время, он с ходу сделал бы ребенка первой попавшейся девке. Однако, когда для этого нашлось время и представилась возможность, оказалось, что проклятье старика так глубоко проникло в его плоть, что парализовало ее. Ни один врач и ни один священник, изгоняющий дьявола, не мог помочь ему, так что под конец он попытался исцелиться в постели самого дорогого борделя его родного города, богатого подобными заведениями. Но и это место пришлось ему покинуть неисцеленным, его жестоко высмеяли: иди в монастырь, толстячок, ты просто старый мерин.
Эти обидные слова еще звучали в его ушах, когда он произносил с трибуны свою речь, получившую впоследствии известность, как речь в духе Катилины: Мы не позволим себя околдовать, мы не боимся проклятий, мы никогда не сдадимся, и то, что сейчас бессильно лежит, тут он оговорился и сказал: висит, - восстанет вновь во всей своей силе и блеске. И мы еще посмотрим, кто кого вздернет на древе истории, не мы будем висеть на нем с прикушенными языками.
Но ему не удалось победить зародившийся в нем с тех пор страх, ведь смысл жизни для него теперь был лишь в самосохранении, а не в продолжении рода, с годами этот страх становился все глубже и превратился в комплекс, в котором его импотентность стала общим бессилием: бездетный Каминг заразил ТРЕТЬЕГО глубоко пессимистическим взглядом на будущее.
Никто не замечал, что его все чаще и чаще мучили мрачные мысли, похожие на приступы боли, при которых человек сначала терпит, потом заглушает боль таблетками, а в конце концов ему не помогает даже морфий.
Приступы пессимизма, одолевавшие ТРЕТЬЕГО, достигли уже второй фазы, но он все-таки не мог принимать таблетки, потому что должен был - прямо или косвенно - получить их от Чебалло, который из-за своих знаний казался ему фигурой опасной и даже зловещей. Вместо этого ТРЕТИЙ прятался в своем замке в горах, где никто не мог нарушить его уединения и где на консоли стояла деревянная раскрашенная фигурка мадонны - молодая, очень красивая беременная женщина, с детской улыбкой сложившая руки на животе. Не достигавшая и трех пядей в вышину фигурка, источенная древесным червем, служила ему фетишем, она охраняла его от кошмара, посетившего его в первый раз во сне и с тех пор прочно поселившегося в его подсознании: он выходил из лифта в Омеге Дельте и шел по длинному коридору, в который слева и справа вливались другие коридоры. Никого не было видно, и ничего не было слышно, только где-то очень медленно капала вода из крана. Это напоминало звук маятника старинных башенных часов. ТРЕТИЙ шел по пустому коридору и отсчитывал капающее время, звук становился громче и громче, и, когда все вокруг наполнялось страшным звоном, в одном из боковых коридоров вдруг возникал Лоренцо Чебалло, руки у него были спрятаны за спиной. ТРЕТИЙ знал, что Чебалло держал в руках что-то страшное, он кричал: убирайся, исчезни, но из его широко раскрытого рта не вырывалось ни единого звука, все заглушал звон. ТРЕТИЙ хотел бежать, но срабатывал магнетизм Омеги Дельты, и он не мог сделать ни шагу. А Чебалло приближался, он вынимал обе руки из-за спины: в правой оказывалась сумка с инструментами, какую обычно носят механики, а в левой - целая пригоршня крошечных металлических деталей.
ТРЕТИЙ, находясь в полном сознании и понимая все, что происходит, наблюдал, как Чебалло, усердно и мрачно работая, превращал его в химеру - полумашину-получеловека, человеческого в нем оставалось только руки и мозг.
Самым страшным в этом кошмаре было то, что ТРЕТИЙ не мог считать свои страхи совершенно беспочвенными, потому что сам распорядился начать исследования именно в направлении создания человеко-машин, а Чебалло - в качестве дополнительной нагрузки - возглавил и этот отдел.
Лоренцо Чебалло был гениальным ученым, поэтому какое-либо вмешательство в его мозговую деятельность с целью направить ее - или хотя бы проконтролировать - совершенно исключалось: можно было повредить важные, в силу своей уникальности не исследованные области мозга, а разрушить подобный мозг нельзя было ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому ТРЕТИЙ во время приступов пессимизма все чаще ловил себя на том, что ему хочется попросить деревянную мадонну, чтобы в сердце Чебалло не возникла жажда власти. Теперь, когда надежда заполучить открытие Яна Сербина стала реальной, Чебалло сделался для него не столь опасен. Как можно было судить по полученной информации, формула Яна Сербина давала возможность целенаправленно изменять человеческие свойства, не повреждая при этом мозга.
Чебалло проинформировал ТРЕТЬЕГО о положении дел в двух находящихся в его ведении отделах. Его поведение показалось ТРЕТЬЕМУ - как, впрочем, всегда в последнее время - вызывающим, но ТРЕТИЙ и на этот раз не выказал своей неприязни. Однако сегодня он впервые не испытал перед Чебалло страха. Скоро я освобожусь от этого комплекса, порожденного страхом или только беспокойством, станет легче дышать, и боязнь, что кто-то может и мне подсунуть кукурузное зерно Ямато, рассеется как дым - подумать только, что со мной могут поступить, как с резиновой крысой!
ТРЕТИЙ внутренне содрогнулся, потом весело кивнул на прощанье Чебалло.
Он вылетел обратно и в воскресенье утром - уже в качестве Ф. И. Каминга - был дома. Он поцеловал в щеку жену, завтрак был накрыт в залитом солнцем Голубом салоне, из окон открывался вид на горы. Он с аппетитом принялся за хрустящую булочку, густо намазал ветчину горчицей и заел все это полной ложкой меда, зачерпнув его прямо из баночки.
Его жена удивленно подняла брови. Он засмеялся, дочиста облизал ложку и сказал: "Когда я был еще мальчишкой и чувствовал себя чертовски хорошо, я всегда слизывал мед прямо с ложки"; вдруг без всякой связи он вспомнил, что того мальчика звали Мати, но это не имело никакого значения. Он провел весь день в прекрасном расположении духа, рассматривая в библиотеке свою коллекцию гравюр, эротики он сегодня не касался, его переполняла почти детская вера или благодарность за то, что вскоре он будет исцелен. В сумерки пошел дождик, Каминг натянул кожаные брюки и позвал собаку: он любил гулять под дождем.
По дороге он завернул на крестьянский двор, который купил четыре года назад и превратил в домик для гостей. Этот двор прежде был островком в его владениях, и хозяин двора - упрямый крестьянин - отвергал самые выгодные предложения до тех пор, пока в ходе судебного процесса о праве проезда не лишился не только въезда на хутор, но и самого хутора. Каминг выпил кружку пива и разговорился с управительницей, крепкой нарядной пятидесятилетней женщиной - ей вменялось в обязанность постоянно носить праздничную одежду, в которой ходили крестьянки этой местности в начале века. Когда Каминг сидел здесь за грубым столом и пил пиво из кружки, у него порой возникало чувство, что тут он может быть самим собой; может немного погрустить о своей жизни и о жизни вообще, быть кротким, как мудрый отшельник, и непритязательным, как старый пастух.
Женщина пожаловалась ему на учителя, который избил ее младшего так, что у того все руки в кровоподтеках. Она несчастна, подумал Каминг, потому что ее сын не поладил с учителем, а она встала на сторону мальчика и таким образом тоже выступила против власти. Люди с такой легкостью могли бы быть счастливы, если бы были довольны.
"Что такое счастье", - спросил он ее, не отрываясь от своих мыслей.
Женщина, опустив глаза, ответила, что она была бы счастлива, если бы учителю запретили бить детей.
Весь обратный путь Каминг думал над ее ответом. Его очень огорчало, что счастье этой женщины возможно лишь при ликвидации существующего порядка.
Это было второе обстоятельство, нередко омрачавшее его душу: ему казалось, будто он участвует в гонке, стараясь обогнать ход истории, грозивший поставить с ног на голову те принципы идеального общественного устройства, которые он пытался утвердить в своей новой книге. Он уже давно не сомневался, что если допустить естественный ход вещей, то со скоростью, растущей в геометрической прогрессии, начнется переоценка ценностей, и что единственная возможность притормозить это развитие и постепенно повернуть его вспять базировалась на тех исследованиях, которые проводились на Омеге Дельте.
Если в течение одного или максимум двух десятилетий не удастся создать легкие в употреблении приборы, регулирующие и направляющие поведение человека - они должны быть несложными, так как предназначаются для глобального применения, - если это не удастся, дальнейшее будет лишь вопросом времени - ТРЕТИЙ никогда не позволял себе заглядывать в будущее, потому что мир без него, без ПЯТИ, без РАЙСЕНБЕРГА был немыслим.
Но нужно и даже необходимо было думать о том, что, чем больше средств и умов концентрировалось на Омеге Дельте, тем больше их не хватало где-то в другом месте, это вызывало недовольство, и, чтобы справиться с недовольством, нужно было еще интенсивнее проводить исследования на Омеге Дельте, и опять где-то не хватало средств, и опять росло число недовольных, и колесо крутилось все быстрее и быстрее. В хорошие минуты у ТРЕТЬЕГО возникало чувство, что стоит ему сунуть палец между спицами - и колесо остановится. В такие моменты он смеялся над своими страхами и подтрунивал над хвастовством ЧЕТВЕРТОГО.
Но иногда в тяжелые минуты ему казалось, будто его самого колесовали, странным образом он не испытывал никакой боли, он был как будто мертв, но в полном сознании. Освободиться от этого он мог, только колесуя других.
И действительно, какие-то люди были привязаны к колесу, и откормленный человек в яркой одежде (на груди и на спине у него была нашита красная цифра 3) выкрикивал: Люди, остановитесь, посмотрите на них. Он кричал, как ярмарочный зазывала, расхваливающий свой товар: Они взбунтовались, и закон их покарал.
"А кто это, закон", - спросил Крабат.
"Закон - это закон, - ответил человек. - У него нет имени".
Они пошли дальше по дороге, которая пролегала между морем и пустыней, и еще долго слышали человека, кричавшего о безымянном законе... Потом море осталось позади, и пустыня, которая не была песчаной пустыней, это была плодородная, но заброшенная и потому мертвая земля, стала еще пустыннее и скучнее без живого моря, пустота переливалась на солнце, и наконец далеко впереди возник цветущий оазис.
Проделав долгий путь, они и впрямь достигли оазиса, может быть, это был вовсе не оазис, а лишь последний клочок плодородной земли, на котором пока еще росли пальмы, оливковые деревья, цитрусовые. Всюду под деревьями валялись лопнувшие, гниющие плоды, буйно, как сорняки, разрослись яркие цветы. Оросительные канавы высохли и местами осыпались, лопасти водяных колес продырявились и поломались. Со всех сторон, как парша, в эту землю въедалась пустыня.
Из глубины пальмовой рощи доносился стук топора; Крабат и Якуб Кушк направились в ту сторону и вскоре наткнулись на группу солдат, рубивших деревья. Они орудовали не топорами, а мечами, с великим трудом, пядь за пядью врубаясь в твердые стволы. Другая, вдвое большая группа, надзирала за работой или за работающими. Три капитана и около дюжины офицеров младших званий руководили операцией и наблюдали за надзирающими. В полуоткрытой палатке за карточным столом сидел полковник с адъютантами, а перед палаткой лежали связные, готовые согласно уставу немедленно выполнить поручение.
Крабат и Якуб Кушк были тотчас взяты под стражу, обысканы с ног до головы и после этого доставлены к полковнику.
У полковника был гладко выбрит подбородок, а концы усов перекинуты за спину и завязаны узлом. От правого уса были отделены пятьдесят волосков и скручены в шнур, на котором висел монокль. Полковник вставил монокль, бросил небрежный взгляд на задержанных и вопросительный на Третьего адъютанта.
Третий адъютант проскрипел: "Нет доказательств, что это шпионы".
"Поджаривать их, - приказал полковник, - пока не сознаются".
"Не стоит тратить дрова, - сказал Якуб Кушк. - Я сознаюсь, что ношу тайное оружие". И он показал на свою трубу.
Четвертый адъютант осмотрел инструмент и доложил, что это самая обыкновенная труба.
Полковник приказал подуть в нее.
Вперед вышел войсковой трубач и дунул в трубу. Раздался такой звук, будто слон выпустил газы, и сильная вонь распространилась в воздухе.
"Свинья, - сказал полковник, - тридцать розог".
Тридцать ударов были нанесены войсковому трубачу страусовым пером по голой спине.
"Мы можем позволить себе лишь символические наказания, - грустно объяснил полковник. - К сожалению. Но с вами, - добавил он дружелюбно, - дело обстоит совсем иначе".
"Разреши моему трубачу сыграть на трубе", - сказал Крабат.
"Разрешаю, - буркнул полковник. - Пусть это будет, так сказать, ваше последнее желание. Но потом мы вас поджарим".
Якуб Кушк взял трубу и заиграл веселую песенку: Настанет день святого Иоганна, и розы расцветут, монокль полковника сразу же стал подпрыгивать в ритме вальса, войсковой трубач обнял Третьего адъютанта и, вальсируя, вылетел вместе с ним из палатки, полковник подхватил бледнолицего связного, солдаты, рубившие деревья, побросали свои мечи, громкие, лающие голоса капитанов и других офицеров включились в общий хор, они не знали слов, поэтому пели просто: марш, марш - и, взявшись за руки, кружились в хороводе.
Якуб Кушк играл до тех пор, пока полковник не засмеялся так, будто ему устроили "шведскую козу" (пытка, применявшаяся в Тридцатилетнюю войну: ступни посыпали солью и давали слизывать козе).
Полковник упал в траву и, все еще сотрясаясь от смеха, выдернул из своих усов два самых длинных волоса - один справа, другой слева. К нему сразу же подскочил Первый адъютант, но, слегка поколебавшись, полковник небрежным жестом отослал его и собственноручно вручил оба волоса Крабату и Якубу Кушку как награду за доставленное удовольствие и в память о нем. "Одна дама, - сказал он, чуть улыбнувшись, - оправила мой волос в серебро и носит его на шее. Мой волос служит пропуском для любого караула: в поле, у городских стен, в самом городе. Каждый солдат знает мои усы", - сказал он, и капитаны в подтверждение его слов кивнули головами.
Полковник пожелал друзьям счастливого пути, потом огляделся, вид у него все еще был довольный: казалось, он замечал теперь вокруг себя не одних лишь военных. "Оставьте эти красивые деревья, - сказал он, - все равно у нас нет больше катапультистов".
Крабат и Якуб Кушк, предъявляя волосы из усов полковника, без труда прошли сквозь бесчисленные полевые караулы, посты, заставы, проволочные заграждения, минные поля, через рвы и насыпи, через тройную охрану у ворот и увидели на насыпях, за деревьями, на площадях, на каждом углу катапульты, нацеленные во всех направлениях. Даже если бы нашлись катапультисты, для новых катапульт не хватило бы места.
Крепость была большая, как город, и в самом деле многое говорило о том, что это и есть город, превращенный в крепость. Окна домов были на скорую руку заделаны, чтобы служить бойницами, кусты шиповника, когда-то посаженные в образцовом порядке, одичали, канализационная система была разрыта и превращена в траншеи высотой в человеческий рост.
Несмотря на то что все вокруг прямо кишело солдатами и офицерами всех званий, крепость - или город - производила впечатление покинутой и заброшенной; не было ни женщин, ни детей, повсюду распахнутые настежь мясные лавки без мясников, булочные без булочников, парикмахерские без парикмахеров и даже бордель с пустыми койками. После захода солнца весь город погрузился в кромешную тьму и почти зловещую тишину. На ночь Крабат и Якуб Кушк забрались в один из немногих запертых домов, где не были расквартированы солдаты.
Дом был богатый и обставлен с большим вкусом. Мраморные полы повсюду, за исключением кухни, были устланы персидскими коврами, столы из кедра, а вся остальная мебель из полированного красного дерева. Раскрашенные фризы, яркие сукна и блестящие шелка украшали стены, в атриуме они увидели мозаику из голубовато-фиолетового берилла и желтоватого мрамора. Стоявший в нише домашний алтарь из золота и слоновой кости был настоящим произведением искусства. Перед ним висела потухшая серебряная лампадка, Крабат влил в нее масла и зажег.
Поднявшись наверх, они обнаружили широкие удобные кровати, покрытые прекрасно выдубленными, мягкими львиными шкурами. "Не хватает только девчонки", - сказал Якуб Кушк, по в это время у него заурчало в животе, и он решил удовольствоваться малым: холодной индюшкой и парой бутылок вина.
В подвале всего было вдоволь, запасов хватило бы на целый год. Головка сыра, казалось, была кем-то только что надрезана, свежий срез источал тонкий аромат. Наверное, какой-нибудь солдат улучшил свой паек, решили они.
Якуб Кушк отрезал порядочный ломоть ветчины и оглянулся в поисках подходящего гарнира - может быть, в подвале найдутся маринованные огурчики. В самом темном углу он обнаружил огромную бочку с квашеной капустой и запустил туда руку, чтобы достать полную пригоршню, но вместо капусты его пальцы ухватили чьи-то волосы. Эти волосы принадлежали мальчишке, который удобно устроился в кожаном мешке прямо в квашеной капусте. В руке он держал только что отрезанный кусок сыра.
Мальчишка - ему было лет четырнадцать - пожал плечами: нашли все-таки, а я думал, что в доме генерала никто не догадается искать.
Оказывается, он жил здесь уже несколько месяцев в полной безопасности, кожаный мешок понадобился ему сегодня в первый раз. Генерал появляется дома раза три в неделю, ночует и снова исчезает.
"Ты ведь местный, - обратился к нему Якуб Кушк, - объясни, что тут происходит". Мальчик просветил их, рассказав очень запутанную историю о том, почему он спрятался и что случилось с городом: "Во всем виноваты Те-за-границей, у них беспорядок, а у нас порядок, и они хотят у нас устроить такой же беспорядок, они все отобрали у своих хозяев и хотят все отобрать у нас. Чтобы защищаться, мы должны покупать оружие, а оно очень дорогое, а так как денег у нас больше нет, мы расплачиваемся людьми. Когда мальчику исполняется пятнадцать лет, он может стать солдатом, и тогда его не продадут. Мне скоро исполнится пятнадцать".
Крабат спросил: "Откуда ты все это так хорошо знаешь?"
"Мы проходили это в школе, когда она еще была, а теперь всех учителей, слава богу, продали, - объяснил мальчик. - Началось все с цитрусовых". Те-за-границей стали подстрекать наших сборщиков, которым не разрешалось есть плоды, что они собирали. И вот сборщики, взбунтовавшись, потребовали себе право съедать каждый тысячный плод. Это им разрешили, но одновременно запретили собирать в день больше чем девятьсот девяносто девять плодов и установили, что счет ежедневно будет начинаться сначала.
Те-за-границей выставили вдоль всей границы плакаты, на которых было написано: кто не сеет, тот не ест, сборщики имеют право есть те плоды, которые собирают.
Тогда генерал выступил с армией, чтобы проучить Тех-за-границей, но у них было слишком много солдат и слишком много оружия, поэтому генерал приказал превратить в пустыню всю нашу землю вдоль границы, чтобы сборщики не читали больше тех плакатов и не заражались вредными идеями.
Генерал сказал, если у Тех-за-границей так много солдат и оружия, что нам не удалось даже уничтожить их плакаты, выставленные вдоль границы, то совершенно ясно, что солдаты нужны им для того, чтобы навязать нам свой беспорядок. Поэтому нам необходимо как можно больше оружия и солдат.
Сначала генерал продал тысячу сборщиков, потому что они взбунтовались первыми. За это мы получили пять самых современных катапульт, которые стреляли очень далеко. Чтобы испытать их, мы один раз выстрелили через границу. Они ответили нам, их снаряды долетели почти до нашего города, и генерал сразу же понял, что они хотят всех нас перебить, и купил новые катапульты, а за них мы расплатились остальными сборщиками.
Тогда в городе не стало больше фруктов, и люди начали роптать. А когда люди недовольны, врагам очень легко завоевать город. Поэтому генерал должен был купить еще больше оружия и расплатиться..."
Людьми, хотел сказать мальчик, но в это время открылась входная дверь - генерал вернулся домой. Он был не слишком высокого роста, но широк в плечах, с крепкими ляжками. Его мундир сверкал блестящим металлом, и при ходьбе генерал тихонько позвякивал, как рождественская елка. На голове у него был шлем, сделанный из препарированного особым способом львиного черепа.
Пока генерал поднимался по лестнице, мальчик, широко раскрыв глаза, шептал: "Наш спаситель". Лестница скрипела, но, может быть, это кряхтел генерал, который останавливался на каждой пятой ступеньке, чтобы перевести дух.
Наверху, в своей спальне, он снял шлем, маленькая, почти лысая голова на могучем теле делала его похожим на ящера. Подбородок генерала, не поддерживаемый ремешком от шлема, сразу же обвис, маленькие глазки казались воспаленными и усталыми.
Кряхтя - значит, это не лестница скрипела, - он опустился на кровать и начал расстегиваться и расшнуровываться: под генеральским мундиром оказался старик. Зевая, он принялся расчесывать седую растительность на груди, потом шершавой ладонью растирать худые, покрытые синими венами ноги, раздался такой звук, будто провели по мешку из джута, меланхолично и бездумно погрузился в созерцание жировых подушек на своих ляжках, вдруг замер, словно напряженно прислушиваясь к чему-то, выпустил газы и облегченно вздохнул. Ногой он нашарил под кроватью шлепанцы и натянул измятую черную с белыми полосками ночную рубашку. Она была ему слишком длинна, поэтому он подобрал ее и, подойдя к столу, стал внимательно разглядывать свой язык в серебряном ручном зеркале.
"Ихтиозавр", - сказал Якуб Кушк.
Они вошли в спальню, и ихтиозавр нисколько не удивился, обнаружив здесь чужих. Он повернулся к ним и спросил властно и нетерпеливо: "Так будете вы нам поставлять или нет?"
Якуб Кушк, более опытный, чем Крабат, по части торговли, к тому же он никогда не лез за словом в карман, ответил: "Но вам ведь нечем платить".
"В кредит, - сказал генерал, - мы даем гарантии".
"В кредит даже черт душу не отпустит", - возразил Якуб Кушк.
"Но мне нужны самого дальнего действия и не меньше двадцати штук, - прорычал генерал. - В качестве гарантии я предлагаю Тех-за-границей".
Теперь в игру вступил Крабат. В ответ на слова генерала он язвительно рассмеялся. "Ну хорошо", - сказал генерал. Внезапно он преобразился, вместо нелепого старика в чересчур длинной ночной рубашке перед ними возник генерал: он выпрямился, лицо его сделалось сухим, нос узким, похожим на ястребиный клюв, взгляд, несмотря на мешки под глазами, стал холодным и пронзительным. "Мы заключаем контракт, - произнес он скрипучим голосом, - вы поставляете оружие, которое мне необходимо, и за это получаете оливковое масло: у Тех-за-границей много масла - пять миллионов оливковых деревьев".
На улице стало светло, как днем. "Мы договорим позднее", - сказал генерал, снял с вешалки мундир из голубого сукна, сильно заношенный, с пятнами от табака, на груди с правой стороны красовался золотой орден в форме звезды, нахлобучил на свой почти совершенно голый череп пудреный парик вместе с треуголкой, достал палку с серебряным набалдашником, подошел к окну и открыл его. Раздалось троекратное тысячеголосое "ура". Величественная фигура в окне поднесла правую руку к треуголке в знак приветствия, в то время как внутри, в комнате, старик в ночной рубашке почесал левой ногой в войлочном шлепанце зудевшую правую икру. Перед домом на большой квадратной площади выстроился полк, сводный оркестр сыграл марш Смерти-и-Дьявола, началась торжественная церемония Большого ночного парада. Застывшая фигура в окне смотрела вниз, неподвижно стояли на трибуне почетные гости: Крабат узнал Ганнибала, Монтгомери, Юлия Цезаря, Гинденбурга, Фрундсберга (Фрундсберг (1473-1528) - полководец, предводитель ландскнехтов), Тилли, Александра Македонского, принца Евгения Савойского и Наполеона. Они были в первом ряду, а за ними в тени Крабат насчитал добрую дюжину других, среди которых он смог узнать только персидского царя Ксеркса.
Это только казалось, что почетные гости безучастно наблюдают за церемонией парада. Когда солдаты блестяще выполнили последний поворот и военный оркестр покинул площадь, они выразили свое одобрение стуком мечей - грохот был такой, будто телега с железным ломом проехала по булыжной мостовой. При этом они дружески кивали друг другу, гордые и довольные.
Генерал захлопнул окно. "Некоторые из них добираются издалека, - сказал он. - Верные сердца. Это зрелище придает им силы".
Якуб Кушк не мог все подробно разглядеть со своего места, он распахнул окно, чтобы крикнуть что-то Гинденбургу, с которым у него были старые счеты, но шутка замерла у него на губах, когда он увидел, что происходило внизу: солдат, только что участвовавших в параде, у выхода с площади разоружали, связывали по десять человек и грузили в большую, крытую решеткой машину.
Генерал, стоявший опять в одной рубашке у стола, держал в руках контракт на поставку оружия в обмен на масло. С угрюмым видом он гнул свою линию: если мне и дальше придется оплачивать ваши проклятые счета моими прекрасными солдатами, то очень скоро я не смогу развлекать своих почетных гостей подобными зрелищами. Он пришел в ярость. Вы проглатываете моих людей - сегодня один полк, завтра другой... Но потом генерал поклялся, что, если будет нужно, он вслед за солдатами продаст все дома, один за другим, чтобы купить оружие. "Оружия! Оружия! - Кричал он. - Я буду защищать город. Даже если вы меня вынудите прибегнуть к крайним мерам..."
Крабат и Якуб Кушк слышали его крики, когда ужо вышли на улицу и забрались в крытую решеткой машину, битком набитую связанными солдатами, которая тут же тронулась.
Один солдат удивленно спросил: "И до вас, трубачей, добрались?"
"Добрались до того, у кого на шее петля", - ответил Якуб Кушк и перерезал всем веревки.
Прежде чем солдаты смогли понять, что произошло, их сковало, как параличом, они заснули мертвым сном. Крабат и Якуб Кушк напрасно пытались бороться со странным, постепенно овладевшим ими оцепенением, сознание их угасало.
Они очнулись от громкого смеха. Смеялись они сами. Одни хлопали себя по ляжкам, другие держались за животы, а у бравого фельдфебеля от смеха текли по щекам слезы.
Они уже не сидели и не лежали вповалку, тесно прижатые друг к другу в закрытой машине, а удобно разместились в автобусе со сверкающими стеклами, который катил по гладкой дороге как по маслу. Все вокруг казалось веселым и приветливым, в бледно-голубое небо были вкраплены облачка, нежные и воздушные, как зефир. По обочинам дороги там и сям стояли большие яркие плакаты, которые давали всем проезжающим добрые советы: пить только этот ароматный кофе, облачаться на ночь именно в эти прозрачные рубашечки, ездить только на этом супербензине, спать на божественно-мягких кроватях именно этой фирмы. Порой далеко слева возникал кусочек моря, один раз дорога повернула прямо к морю, оно было зеленоватым, и на берегу лежали огромные каменные глыбы. С правой стороны возвышалось большое здание, не то замок, не то крепость, стены этой крепости, казалось, были сложены из тех огромных глыб, которые лежали у морского берега. Высокий, звонкий женский голос, доносившийся из вмонтированных в автобусе динамиков, рассказывал в связи с этим замком о Гамлете, но солдаты не слушали, они смотрели на громадный, величиной с летний домик плоский камень у берега, на котором расположилось несколько загорелых обнаженных девушек, весело махавших вслед автобусу.
Ярких плакатов по обочинам дороги становилось все больше, ряд белоснежных домиков с зелеными ставнями и красными черепичными крышами становился все теснее и теснее, море осталось далеко позади. Наконец автобус медленно въехал в парк: грабы со светлыми стволами, черно-белые березы, словно покрытые коростой дубы, красноствольные сосны, укатанные дорожки цвета охры, темно-зеленые газоны, а в центре луга, усыпанного маргаритками и голубыми колокольчиками, могучий, но как будто согнутый подагрой бук, листва которого казалась почти лиловой.
Автобус остановился перед низким, крытым камышом рестораном. На площадке, посыпанной белым гравием, для гостей были уже накрыты разноцветные пластиковые столики, две светлокосые девушки в стилизованных костюмах рыбачек разносили еду: рыбу, поджаренную на грилле, с картофелем фри. На сервировочном столике хозяин развозил напитки: узкие бутылки с колой и пивом, графины с вином.
Мужчины ели и пили молча, все еще находясь в каком-то оцепенении, и даже Якуб Кушк, который никогда не ел рыбы - за исключением тех случаев, когда сам ее ловил, а рыба в ресторане показалась ему превосходной, - никак не смог выразить свое восхищение, язык у него словно присох к нёбу. Крабат вспомнил про посох, но с таким трудом, словно вспоминал уравнение Эйнштейна. Он пошел к автобусу, там лежал его посох и труба мельника. Якуб Кушк уставился на трубу, будто видел ее впервые, он все еще не мог выразить словами, какой вкус был у жареного палтуса.
После еды они во главе с водителем автобуса углубились в парк, куда уже стекались люди, привлеченные звуками музыки. Водитель автобуса показывал в толпе то на одного, то на другого и называл: слесарь, портовый рабочий, бухгалтер, школьники со своей учительницей, король и королева - оба довольно молодые, без скипетра и короны, у нее на голове легкая летняя шляпка, а он курил маленькую коричневую сигару. Они увидели банкира, продавщицу, устроительницу благотворительных базаров - эта дама была так худа и суха, что, казалось, сама нуждалась в благотворительности, - рыбака, министра, служащую таможни - у этой на носу были очки со стеклами толстыми, как в лупе, и она недоверчиво заглядывала за каждый кустик, - увидели полицейского, бизнесмена, который в этот момент как раз подошел к игральному автомату, где нужно было торпедами попасть в быстро проплывающие корабли.
Вместе с водителем автобуса они быстро прошли вдоль длинного ряда самых разнообразных игральных автоматов, одни были просто для развлечения, другие для игры на деньги. Седовласая дама, курившая такую же сигару, как король, выиграла столько металлических жетонов, что ей пришлось насыпать их в юбку, и, подобрав ее, как фартук, она направилась к кассе, чтобы обменять свой выигрыш на настоящие деньги. Устроительница благотворительных базаров, пробивая себе дорогу острыми локтями, устремилась к этому "счастливому" автомату; мальчика, подошедшего раньше ее, она отодвинула со сладкой улыбкой, строго указав при этом на его слишком юный возраст.
За игральными автоматами они увидели длинный ряд баров, где продавали не только жареную рыбу, но и сосиски, цыплят, жареное мясо и, конечно, золотистый хрустящий жареный картофель. Водитель автобуса опять стал называть профессии попадавшихся им навстречу людей, получалось нечто вроде социального каталога, перечисление было так же длинно, как и скучно, так же пестро, как и монотонно: от ловца угрей до владельца цементного завода.
Постепенно, шаг за шагом, бывшие солдаты вновь становились самими собой или, может быть, постепенно осваивались со своей новой сутью, во всяком случае, они начали произносить короткие фразы, и то, что они говорили, напоминало звуки речи, слышавшейся вокруг. Тот - бывший - солдат, которого Якуб Кушк освободил первым, попробовал даже пошутить, но его шутка получилась такой же неуклюжей, как дама, занимающаяся благотворительностью, - в этот момент она как раз положила в шапку слепого скрипача билет вещевой лотереи.
Якуб Кушк наконец сумел рассказать, что жареный палтус напомнил ему по вкусу только что вынутую из кастрюли домашнюю колбасу, начиненную кашей. Он хотел сказать, что рыба была такая же вкусная, но Крабат его не понял, он напряженно вслушивался в мелодию, которая все явственнее пробивалась сквозь общий шум. Казалось, она доносилась из гигантского Колеса обозрения, нижняя часть которого была чем-то завешена и виден был лишь очень узкий, ниже человеческого роста вход. Колесо крутилось, и пустые, висящие в воздухе гондолы слегка раскачивались на ветру.
Неожиданно Крабат узнал мелодию, он слышал ее в деревенском трактире "Волшебная лампа Аладдина" - это была песенка о девице из Монтиньяка. Он не понимал причины охватившего его беспокойства, но постепенно оно все больше и больше овладевало им, сначала он ощутил зуд и весь покрылся гусиной кожей, потом у него возникло чувство, будто он по колено стоит в муравейнике, у него начался озноб, пробиравший его до костей, и когда наконец все это прекратилось, он услышал только свое сердце, оно стучало сильно и: громко, как молот по наковальне, и Крабату казалось, что этот стук должны слышать все.
Но даже его друг, стоявший подле, ничего не слышал, вместе с остальными он во все горло распевал песню.
Водитель автобуса, разыгрывая из себя Доброго Волшебника, смеясь, вталкивал одного за другим в узкий вход Колеса обозрения, Колесо двигалось толчками, по мере того как пассажиры заполняли гондолы, и такими же толчками поднималась вверх завеса. Предпоследним в гондолу влез Якуб Кушк, за ним Крабат, и водитель автобуса запер вход.
Кричаще яркая завеса изнутри казалась черной. Крабат не мог разглядеть даже края своей гондолы, но он сразу почувствовал, что он не один, и услышал чье-то учащенное дыхание, словно после очень быстрого бега. Колесо обозрения начало крутиться, гондола поднялась, и кто-то уселся рядом с ним, он никого не видел, но почувствовал всей кожей.
"Смяла", - сказал он уверенно, как будто нашел то, что искал.
"Если хочешь, то и Смяла тоже", - ответила она, и он догадался, что она улыбнулась.
Беззвучно, а может, шум заглушила музыка, спала черная пелена, и яркие веселые гондолы засверкали на фоне зеленых деревьев и бледно-голубого безоблачного неба. И рядом с ним - Айку. Он робко поцеловал Айку, это был ее рот, но что-то чужое было в ней, не потому, что она была в белом, с мелкой плиссировкой платье и красных сандалетах на высоких каблуках. И не потому, что она улыбалась, а за этой улыбкой стояли слезы.
"Они соединились со своими женами и детьми", - сказала она, и он увидел, что люди во всех гондолах сияют от радости.
В гондоле мельника сидела ее подруга в шафрановой блузке и рассматривала Кушка спокойно и холодно, но очень подробно: с головы до ног. Якуб Кушк позволил себе проделать по отношению к ней то же самое. Закончив свой осмотр, он сказал: ах да - и показал ей волос из усов полковника во всю его длину. Девица в шафрановой блузке уставилась на него, как будто он держал в руках Святой Грааль, а Айку сказала, что Якуб Кушк нравится ее подруге. Когда они опустились, она выпрыгнула из гондолы, и Крабат последовал за ней.
Крестьянский двор, низкая крыша из коричнево-красной черепицы, пол из белых клинкерных кирпичей, крутая дубовая лестница, в каморке внушительный, ярко раскрашенный платяной шкаф, такой же расписной ларь, служащий ночным столиком, высокая и широкая кровать с богатой резьбой, на окнах, голубые занавески из набивного ситца, и солнце еще высоко в небе.
Айку была бледна, казалась усталой и подавленной. Она присела на ларь; задерни занавески, попросила она, не поднимая головы.
Теперь в комнате был полумрак, он сел к ней и поцеловал, ее губы были сухими и потрескавшимися, словно у нее был жар. Она обвила его руками и заплакала или засмеялась: ее всю трясло. "Я не хотела тебя видеть и искала тебя".
Позже, когда наступил вечер и окно было широко распахнуто, он заметил, что оба глаза у нее зрячие. Вдруг она сказала: "На следующий день я увидела в газете твою фотографию".
Он спросил ее о нищем.
"Разве там был нищий? - удивилась она. - У нас каждый может стать нищим, если захочет. Каждый может стать всем, чем пожелает. Водитель автобуса назовет вам профессии, на которые спрос. Только солдатом здесь никто не может стать. Я ненавижу войну".
"Я тоже, - сказал он. - Но вы поставляете генералу оружие".
"Но за это мы выкупаем у него солдат. - Она покачала головой, удивляясь его непонятливости. - Как же он сможет воевать! А у нас запрещено учить людей убивать".
Крабат сказал: "Если я не узнаю, как убить его, он убьет меня".
"Кто?" - спросила она.
"Райсенберг", - ответил он.
"А зачем ему это?" - спросила она и, приподнявшись, посмотрела на него сверху вниз, грудь ее сама собой легла в его ладони.
"Из нее будет пить твой сын", - произнесла она, и каждое слово прозвучало раздельно.
"Я сделаю для этого все от меня зависящее", - проговорил он.
Она слабо улыбнулась: "Я это знаю",
Время текло темным потоком, и течение это было прервано лишь один раз: во дворе или в доме раздался крик - может, это было ржанье кобылы, призывающей жеребца. Но, может, само время остановилось. Оно стоит на месте, а мы изменяемся в силу определенных химических процессов. Синтез и распад; как справедливо сказано в библии: Ибо прах ты... Она прошептала: "Я люблю тебя, ты любишь меня, по все законы запрещают это. А если мой сын когда-нибудь спросит, кто его отец, что я ему скажу?"
Я свой отец, и я свой сын. Если бы я не был своим отцом, я не был бы я, и если бы я не был своим сыном, для чего мне быть самим собой?
Крабат потянулся за посохом, который лежал на расписном ларе. "Взяв его, - сказал он, - я отправился искать Страну Счастья. Но я хотел отыскать ее как можно скорее, быстрее, чем это было возможно, поэтому я потерял Смялу. Но настанет день, и я воткну свой посох в землю, и из него вырастет дерево, и каждая ветвь станет такой крепкой, что на ней можно будет повесить его, и синий прикушенный язык будет вываливаться у него изо рта. Мне придется затянуть петлю и вздернуть его. И никакой волшебник не совершит этого за меня, и никакая вера не избавит меня от этого".
Девушка пристально вглядывалась в него, но оба ее глаза были незрячи, а в сердце жила наивная надежда, что она, слепая, создаст себе новый мир, потому что не будет видеть старого.
На дворе все еще стояла зима, серая и бесснежная. Якуб Кушк сказал: "Она ржала, как кобыла, призывающая жеребца".
Крабат молчал, и до слез наивной показалась ему вера в то, что Райсенберг повесится сам, если вытянуть из его одежды шерстяную нитку и сделать из нее петлю.
Его глаза вглядывались в темноту, прежде чем он ступил в нее. Это была та самая темнота, воспользовавшись которой генерал - ДОВЕДЕННЫЙ ДО КРАЙНОСТИ - напал на эту страну и захватил ее. Часть проданных солдат перебежала к нему добровольно, другие встали в строй, подчинившись его приказу. Солдаты были одеты в серо-зеленую форму, и на параде Победы военный оркестр - тысяча музыкантов - играл марш Смерти-и-Дьявола.
А в остальном в стране не произошло существенных изменений, и каждый все равно мог стать всем, чем пожелает, от ловца угрей до мастера кнута и пряника.
И Колесо обозрения продолжало крутиться, под ним стояла Айку, не вооруженная ничем, кроме добрых намерений.
Но она не плакала, и ее подруги в шафрановой блузке рядом с ней не было. Одну руку она крепко сжала в кулак - там было то, что она не хотела утратить.
Глава 11
У мельника Кушка в его Книге о Человеке тоже можно отыскать кое-какие истории про Крабата. Вероятно, мельник записал их сразу же после того, как услышал; в этот момент у него не было наготове свежих мыслей, касающихся новой "редакции" человека, и он, возможно, запечатлел в Книге эти истории в качестве иллюстрации важных тезисов, как комментарий, но скорее всего потому, что содержащаяся в них мысль засела так глубоко, что он вырезал застрявший крючок вместе с мясом.
В одной из этих историй говорится о том, как Крабат украл у Райсенберга первую брачную ночь.
Однажды Крабат решил распахать клочок невозделанной земли, чтобы посеять просо. Едва он успел выкорчевать три куста терновника, появился Вольф Райсенберг и сказал: "Ты опоздал, Крабат. Это земля для моих фазанов, они будут здесь вить гнезда".
Крабат взял мотыгу и пошел в другое место, но и туда явился Райсенберг. "Ты опоздал, Крабат. Я посеял здесь семена сосны. Тут будет прекрасный лес", - сказал он. И в третий и в четвертый раз приходил Райсенберг и говорил: "Ты опоздал, Крабат".
В лесу Крабат приметил заболоченный луг и стал рыть канавы, чтобы осушить его. Но и там отыскал его Райсенберг. "Ты опоздал, Крабат, - сказал он. - Этот луг специально оставлен для чибисов. Моя невеста обожает яйца чибисов, да и мужчине перед свадьбой они очень полезны".
"Я хочу посеять просо", - сказал Крабат.
"Я ничего не имею против. - Вольф Райсенберг засмеялся. - Только ты долго копаешься и все время опаздываешь".
Крабат пришел в ярость: "Жри чибисовы яйца, но гляди, как бы и тебе не опоздать!"
Он швырнул обломанный черенок мотыги в Райсенберга, но промахнулся, и Райсенберг захохотал так, что закачались осины.
Крабат побежал на Саткулу к мельнице.
Он сказал мельнику: "Вольф Райсенберг собирается жениться. Так пусть же он опоздает на свою брачную ночь!"
Мельник понял Крабата без долгих объяснений. "Если красота невесты равна твоему гневу, пусть Райсенберга опередят дважды", - сказал он.
Крабат прикинулся хромым стариком, играющим на кларнете, а Якуб Кушк - его женой, которая гадала на картах и предсказывала будущее по руке. Вдвоем они направились прямо в замок, где жила невеста.
Неподалеку от замка росла развесистая ива; устроившись в тени дерева, Крабат стал играть на кларнете самые грустные на свете песни, а Якуб Кушк держал корзинку для подаяний. Из замка украдкой выбежали две служанки: одна вынесла под фартуком кусок хлеба, а другая две морковки. Они глотали слезы, потому что кларнет играл очень жалобно, но сразу же позабыли про свою печаль, когда старуха предсказала им по руке прекрасное будущее: одной хорошего дружка, другой красивого жениха и, конечно, и той и другой, что всю жизнь у них в доме будет вдоволь хлеба и каши.
Вслед за этими служанками прибежали другие и наконец появилась хорошенькая, с бархатной кожей камеристка и повела их к невесте.
Красота невесты была вдвое больше, чем гнев Крабата, а высокомерие вдвое больше красоты. В своих шелковых туфельках на высоких каблучках она едва доставала Якубу Кушку до подбородка, но он смог все же разглядеть, что крылья ее носика были нежными и прозрачными, как уши новорожденного поросенка. Но не все в ней было нежным и воздушным, то, что полагалось, было упругим и крепким, и Крабат, играя не слишком грустную песенку, подумал, что женская красота тем прекраснее, чем больше эпитетов требуется, чтобы выразить все, из чего она складывается.
Якуб Кушк был ближе, чем Крабат, к тому, что соответствовало эпитетам нежный и упругий, а не острый и угловатый; глядя на ладонь ее левой руки, он бормотал всякую абракадабру, уверяя, что для верности гаданья эта рука должна находиться как можно ближе к сердцу.
Он слышал, как бьется ее сердце, оно билось скорее от любопытства, чем от высокомерия, и благоухало, по словам Кушка, как алые розы и белые гвоздики. По тонким линиям тонкой ручки он предсказал невесте большую радость и радость от чего-то большого и твердого, направленного на нее, но не против нее, и обещал ей супруга, который по великим праздникам в полночь будет обладать способностью видеть самого себя в будущем.
Невеста, выслушав все это, наморщила носик, прозрачный, как крылья бабочки, и сказала: "От тебя воняет, старая, поди прочь, пусть с кухни тебе вынесут репу".
Ее рот был красив, даже когда она произносила эти слова, а голос напоминал самые нежные звуки, какие Крабат извлекал из своего кларнета.
Крабат и Якуб Кушк возвратились домой и стали совещаться, потому что знали, что нужно сделать, но еще не придумали, как это сделать.
Крабат не хотел прибегать к помощи своего посоха - кларнет снова превратился в посох, - хотя, по мнению Якуба Кушка, немножко волшебства им не помешало бы. Но Крабат решил воспользоваться сверхъестественной силой посоха только в самом крайнем случае, если не будет другого выхода.
Они сидели у мельничной плотины, свесив ноги в прохладную воду речушки. Крабат заметил, что его пальцы в воде казались больше и были погружены в воду глубже, чем на самом деле. Он хотел обратить внимание своего друга на это странное явление - тот, как всегда, когда нужно было что-нибудь серьезно обдумать, беззвучно дул в свою трубу, - но внезапно обнаружил, что на блестящей поверхности трубы - их ноги в воде, сами они на берегу, ивы у речки, мельница отражались удивительным образом: близкое казалось маленьким, а далекое большим, и не было пространства между далеким и близким.
"Что сумела вода и блестящая труба, смогут зеркало и отшлифованное стекло", - сказал он.
Они принялись за работу и очень скоро, стоя у мельницы, увидели самих себя со спины и все, что было за ними. Якуб Кушк быстро сообразил, как ему держать трубу, чтобы изогнутая сверкающая медь превратилась в настоящее волшебное зеркало.
Затесавшись в дворню Райсенберга, они помогали белить стены, чистить печи, расставлять мебель и таким образом удачно завершили свои приготовления: стоя в нише парадного зала, в блестящей воронке трубы можно было увидеть покои, где стояло брачное ложе.
В день свадьбы они проникли в замок под видом музыкантов - мельник с трубой, а Крабат с кларнетом.
На мельника Вольф Райсенберг не обратил внимания, а Крабату сказал: "Давно бы так, Крабат. Этим путем ты скорее доберешься до своего проса. - И он протянул ему наполовину опорожненный кубок: - Знай мою доброту".
Крабат сдержал свой гнев и проговорил спокойно: "Люди рассказывают, что ты можешь видеть себя в будущем".
"Ты опять опоздал, Крабат, - ответил тот насмешливо. - Я уже знаю это от своей невесты".
Крабат сказал: "Я не верю, что тебе это удастся. Ведь я же этого не могу".
Вольф Райсенберг покатился со смеху. "Ты дурак, Крабат, - произнес он дружелюбно. - Что позволено одному, того нельзя другому. Я могу тебе это и по-латыни сказать: Quod licet Jovi... (начало латинской поговорки: "Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку") да только ты, остолоп, все равно не поймешь".
Придя в отличное настроение, он похлопал Крабата по спине рукой, затянутой в перчатку, и сам себе удивился: как милостиво он обращался сегодня с Крабатом. Правда, его немного смутило, что Крабат был нынче так кроток. Должно быть, дело в празднике, подумал он.
Пир становился все веселее и шумнее. Якуб Кушк, играя на трубе, заставлял красивую и веселую невесту кружиться по залу все быстрее и быстрее, она охотно бы передохнула, но, пока играла труба, не могла остановиться. Разгорячившись, она утоляла жажду крепким вином. Когда невеста сообразила, что еще одна рюмка может переполнить чашу, она приказала отвести себя в брачные покои. Вольф Райсенберг обещал вскоре последовать за нею, но прежде хотел убедиться, правду ли ему нагадали, ведь часы скоро пробьют полночь.
Камеристка невесты была племянницей мельника - у того повсюду были племянницы и кузины; она провела Крабата к невесте. Без платья, в бледном свете луны, он мало отличался от Райсенберга. Невесте было велено не открывать глаза и не мешать жениху болтовней. Поэтому она не удивилась молчанию Крабата, тем более что его действия отвечали всем ее ожиданиям.
Когда дело дошло до того, чтобы в третий раз ответить ее ожиданиям, пробило полночь, и Якуб Кушк отвел Вольфа Райсенберга, которому очень хотелось увидеть себя в будущем, в нишу. Райсенберг отчетливо увидел брачное ложе, которое почему-то приняло странную овальную форму.
"Видишь ли ты себя?" - вкрадчиво спросил мельник.
"Черт побери, - ответил Райсенберг, - как в зеркале!"
Предвкушая грядущие события и понимая, что такой великий праздник случается не каждый день, он в течение целого часа наслаждался будущим, позабыв о настоящем. В это время Крабат и Кушк поменялись местами, и, пока Крабат держал перед глазами Райсенберга трубу, в которую тот смотрел, как в зеркало, мельник крутил свою мельницу, и невеста пила вино там, чтобы освежиться, а Вольф Райсенберг здесь, чтобы распалить себя.
Когда пробил второй час нового дня, он отправился на место своих грядущих дел. Однако невеста заснула от праведной усталости крепким сном, и Вольфу Райсенбергу с большим трудом удалось разбудить ее.
"Уже поздно, - пробормотала она, на мгновение приоткрыв глаза, - меня как будто размололи".
Вольфу Райсенбергу, захотевшему наутро узнать во всех подробностях про свои ночные подвиги, ничего не оставалось, как, отбросив собственные сомнения, разделить веру невесты в его чудесное раздвоение. Потому что все, что выделяло Райсенберга из обычных людей, усиливало его могущество.
Создатель Книги о Человеке тут же записал, что хитрость - это острый осколок стекла в кармане, а шутка - целебные капли для глаз в мире слепых, где господствует Райсенберг, и все, что можно использовать против Вольфа Райсенберга, годится в качестве строительного материала при новом создании человека.
8. 227
Пусть шутка хороша, как средство, исцеляющее от слепоты и покорности, а хитрость годится, как осколок стекла, который может перерезать веревку палача, но дружка Петер Сербин, сидя в крепости, написал на дощатом столе - поскольку бумаги у него не было - следующие слова:
Горькая земля тысяч смертей!
Просо, пустившее ростки, и жалкая смерть от голода.
Просо, поднявшееся из земли, и смерть в реках крови.
Рот забит землей, и трудно выпрямить спину.
Соленый пот сделал сладкой землю и горькой траву под виселицей.
Цветущее просо, и смерть в битве, о которой поют в песнях.
Горькая земля тысяч смертей, и трудно выпрямить спину.
Созревшее просо, и изжеванная горькая, сладкая земля.
Стражник принес свекольную баланду, прочитал написанное на столе и спросил, что это значит. Заключенный пристально посмотрел на него, ответил, а солдат, чья левая нога гнила где-то на Дуомоне (форт под Верденом, где в 1916 г. шли кровопролитные бои), увидел на стене камеры - а может быть, стены и не было - человека по имени Крабат, который распахивал участок невозделанной земли. Он вырубал заросли терновника, вырывал с корнями чертополох и пырей, собирал камни и складывал из них невысокую - по колено - ограду.
На закате пришел Вольф Райсенберг. "Посади назад терновник, - приказал он, - и пусть чертополох и пырей растут на своих местах! Чтобы все было как прежде!"
Крабат сказал: "Я хочу посеять просо".
Вольф Райсенберг приказал: "И камни отнеси туда, где они были". Он взял камень и швырнул его на середину поля.
Крабат бросил камень обратно.
"На будущий год я запашу землю, на которой ты сейчас стоишь", - сказал он.
Вольф Райсенберг перескочил через каменную ограду.
"Ты не будешь стоять там, где стою я", - сказал он и изо всех сил толкнул Крабата в грудь.
Всю ночь они боролись друг с другом. Трижды пригибал Вольф Райсенберг голову Крабата к земле - жри свое поле! - и трижды поднимал на спине Крабат Райсенберга вверх и бросал вниз. Наконец, когда уже начало светать и запел первый жаворонок, Крабат высоко поднял своего врага и перебросил его через каменную ограду. "Пускай бы мне пришлось жрать землю, - сказал он, - тебе не топтать больше моего поля!"
Но стена вновь стала стеной камеры, и стражник протер глаза, кто знает, может, он вдруг прозрел. Петер Сербин понимал, что один ответ - это не волшебное заклинание, которое сделает слепых в слепом мире Райсенберга зрячими. Их нужно учить видеть, учить терпеливо, потому что снова кто-нибудь из них станет слепым, и долго еще люди будут верить в детскую сказочку про коварную змею с древа познания. И снова кто-нибудь из нас продаст оба своих глаза, чтобы проникнуть в замок нищего, и напишет книгу о вечном проклятии зрения и о блаженстве слепоты. И каждому из нас придется отдать один свой глаз слепому, чтобы тот прозрел. Горькой землей часто будет забит рот, и трудно будет выпрямить спину.
Тогда, конечно, станет известно, какую информацию получил ТРЕТИЙ от симпатичного спутника Яна Сербина, какие выводы сделал на основании этих данных его компьютер и какие указания дал в связи с этим ТРЕТИЙ: завладеть открытием и изолировать ученого.
Об этом стало известно еще до того, как самолет, в котором летел ТРЕТИЙ, набрал высоту; было принято решение любой ценой помешать тому, чтобы ТРЕТИЙ захватил Яна Сербина и завладел его открытием.
Конечно, напрашивались вопросы. Неужели такой человек, как Ян Сербин, не понимает, что он делает, давая ТРЕТЬЕМУ хоть один шанс? Можно ли, обладая могучим мозгом, вести себя с врагом столь наивно? И не в наивности ли сказывается свойственная гениям ограниченность, а гениальность подчиняется ли законам разума?
У одного из совещавшихся, немолодого человека с седыми волосами, тщательно зачесанными с висков на почти голый череп, возник перед глазами образ, может быть, до смешного примитивный: нормальное, разумное мышление он представил себе, как перевернутую миску, а гениальное, как такую же миску, но с трещинами. Он нарисовал в своем блокноте миску с множеством трещин, в которые просачивалась гениальность, изображенная им в виде пара, а сверху прикрыл ее другой, целой, - это был он и мы, защитники Яна Сербина.
Он вспомнил легенду о' создателе Черного Камня, его охраняли, а он ворчал, что ему не дают жить так, как ему хочется: "Еда кажется мне невкусной, когда кто-то все время смотрит мне в рот. Я не могу спокойно спать, когда знаю, что чужой человек слышит мой храп. Я не могу даже..." Он хотел сказать, что чувствует себя импотентом, потому что за ним постоянно наблюдают, но они не дали ему выговориться, погладили его по спине, похлопали - осторожно, кончиками пальцев, - по плечу: нет, упаси бог, сказали они, не думай о том, что тебя охраняют, думай лишь о том, что ты находишься в полной безопасности, как у Христа за пазухой.
Он попытался чувствовать себя как у Христа за пазухой, но увидел Лилит и, как сказано в старинных книгах, возлюбил ее. Он позабыл про то, что его охраняют, потому что видел только ее юбку, но, когда она наконец подняла юбку - это было на высоком лугу и кругом никого и ничего не было, - он вдруг понял, что здесь она охраняла его, и она - в юбке или без юбки - стала ему безразличнее, чем трава на этом лугу.
Он кинулся в город прочь от нее, крича, что они лишили его свободы, лишили возможности быть человеком и даже мужчиной. Он бушевал, он плевал на мраморный пол в Доме Высокого Совета. Они удрученно молчали и, когда он затих в изнеможении, попросили его подняться вместе с ними к Озеру Вечной Теплоты. С молчаливым безразличием он согласился.
Они шли по городу, по оживленным улицам, мимо университета, где студенты узнали его и хором приветствовали, мимо научной библиотеки, где стоял его бюст из мрамора; он не любил памятников живым, но и он был всего лишь человеком и принимал почести. Их путь лежал мимо шести одинаковых бассейнов с лазурной водой, бассейнов Радости и Свежести, посреди обширного парка с зелеными лужайками, цветочными клумбами, экзотическими кустарниками и искусно скомпонованными группами хвойных и лиственных деревьев.
Парк был открыт для всех жителей города, бассейны, разделенные цветной проволочной сеткой, были предназначены для шести "Размеров". Каждый взрослый житель города входил в одну из шести групп в соответствии со своим размером обуви, для краткости эти группы в повседневной жизни называли просто "Размеры". Это деление, над которым одни посмеивались, другие считали доброй традицией, было пережитком тех давно ушедших в прошлое времен, когда в этом городе были богатые и бедные, оливковые деревья принадлежали не тем, кто собирал оливы, а те, кому они принадлежали, не гнули спину на сборе олив.
У этих шести "Размеров" были не только различные бассейны Радости и Свежести, но и различные морские пляжи с одинаковым песком и одинаковой водой. Каждый "Размер" был прикреплен, хотя и чисто символически, к определенному магазину, аптеке, больнице, теннисному корту - этот вид спорта был особенно популярен в городе - и, наконец, каждому "Размеру" отводился специальный участок за пределами города, где в теплое время года жители ставили палатки. Если заключившие брак принадлежали к разным "Размерам", они могли по желанию выбрать группу мужа или жены. Это иногда приводило к тому, что особенно холодные и расчетливые люди подбирали себе супругов среди малочисленных, самых больших или самых маленьких "Размеров", потому что все обслуживавшие их учреждения и магазины были гораздо менее переполнены, чем те, которыми пользовались люди с нормальными ногами. Вот и теперь в первом и шестом бассейнах Радости и Свежести было совсем мало народу, люди там плавали свободно, в то время как в других кишмя кишели купальщики. Зато и радости там было больше, во всяком случае, она была заметнее.
Казалось, члены Высокого Совета специально шли по тем улицам города, которые напоминали об Озере Вечной Теплоты; дома на этих улицах были без дымящих труб, а фабричные кварталы не были покрыты грязью и копотью. Они прошли через широкую зону огромных теплиц, скотоводческих и земледельческих ферм, к которым примыкали плантации фруктовых и оливковых деревьев.
За последним оливковым деревом начиналась голая, каменистая пустыня. Никто из Высокого Совета не стал объяснять, что город превратился бы в пустыню, если бы не Озеро Вечной Теплоты, - ученый знал это так же хорошо, как и все.
Озеро лежало вблизи горной цепи, с самых высоких вершин которой языками сползали ледники. На месте озера раньше был огромный каменный кратер, на дне которого весной, до первого летнего месяца, скапливались талые воды, уровень их поднимался настолько, что достигал порой взрослому человеку до подбородка.
Теперь же кратер до краев был наполнен горячей водой изумрудного цвета, такой прозрачной, что видно было дно.
На дне в огромной широкой и плоской чаше из свинца лежал Черный Камень.
Пришедшие молча ждали, когда Черный Камень выдохнет, его дыхание образовывало девятьсот расходившихся кругами волн, они постепенно поднимались со дна, равномерно распространяясь во все стороны. Когда последняя волна достигала поверхности, клокочущая вода доходила до ледника почти двухкилометровой ширины и то же самое количество воды, которое поступало через автоматически действующую систему труб со дна озера в город, вливалось ледяным потоком сверху в озеро.
Кто-то назвал Озеро Вечной Теплоты сердцем города. Это не было ошибкой, хотя на самом деле Черный Камень создал само озеро и подогрел его.
Никто, кроме ученого, не знал секрета дышащего Камня. Он говорил, что нашел этот Камень - нашел или создал, - но он один знал секрет его происхождения и придумал, как использовать его страшное дыхание на пользу городу, только у него хранился ключ от свинцовой пещеры, где был спрятан запасной Камень.
Члены Высокого Совета попросили отломить от него небольшой кусочек. Выполняя их желание, он принес на свинцовой тарелке маленький кусочек - не больше кончика пальца - и поставил тарелку под нависающий каменный утес высотой в человеческий рост. Почти в то же мгновение утес начал таять. Вместе с дымящимся каменным потоком этот черный осколочек (на воздухе его дыхание было незаметно) устремился в озеро. Поток застыл, а осколочек все быстрее и быстрее погружался на дно к Черному Камню и соединился с ним.
"Мы используем дыхание Черного Камня для общего блага, - сказал Высокий Совет ученому. - Мы не хотим, чтобы кто-нибудь с помощью твоих знаний разрушил наш город".
Ученый проворчал: "Вы не доверяете мне".
Они ответили: "Мы доверяем тебе. Но ведь тебя могут похитить. А под пыткой человек всего лишь человек".
Он посмотрел на них: "Я скорее умру".
"Но мы не хотим, чтобы ты умирал", - ответили они.
"Но я умру, - закричал он, стуча себе кулаком по лбу, - умру здесь, потому что вы меня охраняете. Я больше не могу выдержать. Я прыгну в кипящую воду озера или прижму к своей груди Черный Камень".
На следующий день Высокий Совет принял решение несколько ослабить охрану ученого, чтобы он не чувствовал постоянного наблюдения.
Ученый расправил плечи, грудь его задышала свободнее, он уже давно не чувствовал себя так хорошо, и каждому, кто спрашивал, что с ним произошло, он отвечал, что наверху наконец признали, что он вышел из детсадовского возраста, что он мужчина и может сам за себя постоять; на одиннадцатый день свободной жизни мужчина, который мог сам за себя постоять, очнулся после странного обморока в незнакомом доме. Он чувствовал себя разбитым, голова у него кружилась, покрытое львиной шкурой ложе, где он лежал, он видел впервые в жизни. Ученый с трудом поднялся и, шатаясь как пьяный, подошел к окну. Он увидел большую квадратную площадь, где у огромных, стоящих в боевой готовности катапульт маршировали солдаты.
За его спиной отворилась дверь и вошел могучего вида военный в блестящем мундире, на голове у него был львиный череп.
"Я Тот Самый Генерал, - сказал он. - Вы можете называть меня просто "генерал". Вы мой гость, мой дом - ваш дом".
Генерал был в прекрасном настроении: он явился без всякого приглашения к девице в шафрановой блузке на чашку чая, и она приняла его, правда очень холодно и сдержанно, но все-таки не враждебно. У нее в гостях был и хозяин "Лампы Аладдина": он, видимо, был в приятельских отношениях с владелицей катапультных заводов. Он исподтишка насмехался над генералом, говоря, что мир для этого солдафона прекрасен только в том случае, когда полон оружия. Конечно, говорил он, все заинтересованы в том, чтобы вернуть Тех-за-границей к порядку. Но методы у этого мясника... от отвращения он скорчил гримасу и рассказал про генерала анекдот.
Из презрения к шутнику - владельцу "Лампы Аладдина" - генерал сдержался и не сказал хозяйке дома в шафрановой блузке, что у него и у одноглазого дамского угодника один и тот же хозяин.
Утром того дня, когда ученый проснулся в чужом доме и Высокий Совет узнал, что тот, кто открыл - или нашел - Черный Камень, похищен, Крабат и Якуб Кушк пришли в город, который генерал называл Те-за-границей. Высокий Совет принял решение, чтобы из каждой тысячи совершеннолетних жителей города был выделен один представитель для обсуждения создавшейся опасной ситуации. Крабат тоже был избран делегатом.
Общее собрание единогласно постановило, что город в опасности, и объявило осадное положение.
Вторым на Общем собрании обсуждался вопрос, как не допустить, чтобы генерал, похитивший ученого, захватил и Черный Камень.
Было решено попытаться освободить похищенного.
Но что делать в том случае, если - а это было вполне возможно - попытка окончится неудачей, спросил Высокий Совет у Общего собрания.
Никто не просил слова, потому что альтернатива была всем известна: либо смерть и разрушение города, либо надо помешать ученому раскрыть тайну. Он и сам сказал, что скорее умрет, чем раскроет секрет Черного Камня. Но ему не предоставят такой возможности, пока не опорожнят его мозг.
Молчание царило на Общем собрании более двух часов. Искали иной выход и не находили, однако это не означало, что его не существует.
Наконец встал тощий человек - желтые, глубоко сидящие глаза, тонкая линия губ делали его похожим на фанатика аскета - и сказал: "Кстати, я убежден, что мы должны вздернуть Вольфа Райсенберга".
Раздались одобрительные возгласы.
Человек, который уже многие годы произносил эту фразу на всех собраниях, поднялся снова. "Есть люди, которые советуют быть осторожными, - произнес он резким, высоким голосом. - Разве мы не прогнали волка из нашей страны? Конечно, и нам досталось, и нам пришлось залечивать раны, но мы победили его".
"Прогнали, но не победили!" - выкрикнул кто-то.
"У труса трусливые доводы, - насмешливо заявил оратор. - Я говорю: возможно, он расцарапает нам кожу, зато он будет висеть на дереве! Может быть, он даже отрубит нам руку или раздробит ногу, но разве у нас не две руки и не две ноги? Зато этот гниющий труп будет качаться на ветру!" Он сделал маленькую паузу и, увидев, что число сочувствующих увеличилось, с еще более ожесточившимся лицом продолжал: "Трусы говорят, что мы слишком слабы. Если это так, мы обязаны искать союзников. Я хочу от вашего имени начать переговоры с генералом..." Раздался гул возмущенных голосов, но он перекричал его: "Если с его помощью мы уничтожим Райсенберга, генерал станет овечкой".
Председатель Высокого Совета крикнул: "Он предлагает уговорить левую руку Вольфа Райсенберга отрубить правую".
Тощий фанатик, окруженный своими приверженцами, покинул зал. В дверях он обернулся и, подняв кулак, выкрикнул еще раз: "Кстати, я убежден, что мы должны вздернуть Вольфа Райсенберга".
Когда в зале вновь воцарилась тишина, встал Крабат. Он сказал: "Дерево, на котором будет висеть Вольф Райсенберг, еще очень молодо, ветви его не выдержат такой тяжести. Но с каждым днем крепнут ветви и глубже уходят корни..."
Он подумал: мы - корни, мы - ствол и мы - ветви; ему захотелось рассказать собравшимся, как он пытался уничтожить Райсенберга и разбил время на тысячу кусков: чистое добро и чистое зло, чистое Я в Смяле, Деве Чистой Радости, и чистое Анти-Я в Вольфе Райсенберге, реальном, осязаемом; рассказать, как он в огромной, давящей тени Райсенберга увидел и свою собственную тень, она была одновременно и тенью Райсенберга.
Крабат сказал: "Я попытаюсь его спасти". Он не сказал - Яна Сербина.
Крепкий, сильный человек - у него был насмешливый рот и глаза укротителя тигров - подошел к Крабату, назвал его братом и сказал: "Мы дадим тебе все, что нужно".
У Крабата на мгновение возникло чувство, будто он разговаривает с самим собой.
У цветочной клумбы сидел Якуб Кушк и кормил воробьев хлебными крошками. Крабат подсел к нему и поведал о том, что было на собрании.
Якуб Кушк сказал: "Жаль, что у нас нет волос из усов полковника - ты свой выбросил, а я вплел той, похожей на молодую кобылицу, в волосы. Сейчас бы они нам пригодились".
Крабат вспомнил про кристаллы Яна Сербина, которые были в его посохе.
"Ради бога, брат, не трогай их, - взмолился Якуб Кушк, - вдруг они сделают так, что у тебя ноги начнут расти из головы. Или рога! - Он ухмыльнулся: - Хотя рога наставить я и сам могу. Вот послушай..."
Но Крабат был настроен серьезно, и ему не показалась сейчас уместной история о том, как Якуб Кушк наставил кому-то рога.
"Только в Пруссии считают, что смеяться грех, - возразил Якуб Кушк. - Я знал одного человека, который никогда ни над чем не смеялся. Он думал, что, если будет над чем-то смеяться, значит, он будет смеяться над самим собой, и тогда над ним всякий посмеется. Этот человек умер. Он очень удивился, что никто о нем не горевал. Сидя на облаке, он недоумевал по этому поводу и спросил расположившегося на соседнем облаке поэта - тот курил сигару и все время смеялся над анекдотами, которые люди внизу рассказывали о нем: "Почему они не горюют обо мне?" "Потому что они не смеялись над тобой, - сказал поэт, отхлебнул глоток кофе из чашки с отбитыми краями и обломанной ручкой и добавил: - А главное, потому что ты не смеялся".
Якубу Кушку так и не удалось рассказать историю о том, как он наставил кому-то рога, потому что человек с глазами укротителя тигров не зря пообещал, что им дадут все необходимое. У обочины их уже ждала машина, Якуб Кушк спрятал свою трубу в багажник и сел за руль. На сиденье лежали какие-то бумаги. Крабат, не глядя, сунул их в багажничек. На северо-западе блестел тонкий серп только что народившейся луны.
Была уже ночь, когда перед ними на дороге возник патруль: вооруженные, одетые в форму люди - солдаты или полицейские. Якуб Кушк вынужден был остановиться. Крабат вынул бумаги из багажничка и протянул их офицеру, не подозревая, что таким образом выдает себя за профессора Яна Сербина. Хотя это всемирно известное имя, по-видимому, не произвело на молодого офицера никакого впечатления, он не стал требовать документы у мельника Кушка, бросил лишь небрежный взгляд в багажник и внутрь машины. Трубу, судя по выражению его лица, он счел самым обычным предметом, который берут с собой в дорогу такие корифеи науки, как Ян Сербин.
Вскоре они подверглись еще одному, в точности такому же контролю: даже выражения лиц и голоса начальников патрулей были совершенно одинаковыми, и своей, казалось, непоколебимой строгостью и почти святой верой в то, что успех их деятельности как представителей власти может быть поставлен под угрозу, если они позволят себе обычное удивление, невинное любопытство, немножко гордости, неприкрытое уважение - вообще хоть сколько-нибудь заметную человеческую, индивидуальную реакцию, - даже этой бесстрастной манерой они настолько походили друг на друга, что мельник Кушк долго думал над тем, нет ли тут какой-нибудь чертовщины и не вернулись ли они на прежнее место, сделав круг. Но километровые столбы не обманывали.
Из темноты на освещенную фарами дорогу вынырнул человек и помахал им, чтобы они остановились. Крабат велел затормозить. Человек был в длинном черном пальто, но босиком. Он попросил подвезти его. Проехав всего несколько километров, он вылез из машины перед каким-то мостом, пробормотал слова благодарности и стал торопливо взбираться на железнодорожную насыпь.
Когда они отъехали, Якуб Кушк сказал: "Наверное, это был тот самый человек, которого ищут патрули. Может, он убежал из тюрьмы, где сидел ни за что. А может, он убийца".
Крабат подумал: мы всегда сочувствуем тому, кого преследуют: ведь волк гонится за человеком. И Райсенберг играет на этих наших чувствах, когда мы ловим кого-нибудь из его стаи.
Они свернули с автострады и въехали в большой город. Светало, город просыпался. Там и сям в темных окнах вспыхивал свет, на пустынных улицах перед магазинами с ярко освещенными витринами загремели ящики с молоком, громко заспорили двое рабочих, разгружавших жестяные коробки с булочными и кондитерскими изделиями, подъехал автобус, девушка бросилась бегом, чтобы успеть на него, из ее сумки выпало яблоко и покатилось, на мосту в ряд сидели чайки, повернув головы на восток. Со скрежетом остановился грузовик, из него выпрыгнул водитель и высыпал из пакета в канал остатки завтрака, половина чаек набросилась на еду, а другие, не шевелясь, стойко ждали восхода солнца, поливальная машина, обрызгала велосипедиста, он погрозил ей кулаком и засмеялся, а водитель приветственно загудел. Улица, по которой они ехали, кончалась заграждением. Они вышли из машины и огляделись. Широкая полоса колючей проволоки, за ней - высокая стена, без проходов и щелей, тянувшаяся так далеко, что конца ее не было видно, справа и слева противотанковые надолбы, и ни единого человека крутом.
"Может, здесь идет война?" - спросил Якуб Кушк, невольно переходя на шепот.
Над ними пролетел ревущий самолет, он мигал красными и зелеными огнями, никто не преследовал его, никто не стрелял по нему. Когда гул самолета смолк, они услышали звон колоколов, раздававшийся очень отчетливо по ту и по эту сторону стены, колокола звонили благонравно и по-детски весело: бим-бам-бом. Солнце, которое наконец взошло, казалось, разносило этот звон по всему городу, по его бесконечным улицам, дворам, виллам, музеям, по лабиринтам административных комплексов, по университетам, фабрикам, казармам и паркам. Звон плыл над высокими деревьями, газонами, розовыми клумбами, цветущими кустами, над маслянисто поблескивающими лентами каналов и реки, над серовато-серебристой водой озер на окраинах и прежде всего над стеной, над колючей проволокой, над противотанковыми надолбами, переплескиваясь то на одну, то на другую сторону, туда и сюда.
Этот веселый звон долетал до двух флагов - те же четыре цвета, но в другом порядке - один по ту, другой по эту сторону стены.
Солнце поднималось все выше и выше, вскоре мелодичный звон церковных колоколов сменил колокол городского шума, хаотических диссонирующих звуков, которые сами собой сливались в странно гармоничный, лишенный пауз гул.
Вверх на стену вела лестница, по ней поднималась пестрая толпа: яркие ткани, сверкающий металл.
Якуб Кушк и Крабат, завороженные этим зрелищем, смотрели, как толпа шаг за шагом, ступенька за ступенькой взбиралась по лестнице. Они как будто вместе со всеми поднимались наверх. Они не были в этой толпе, не были действующими лицами этого спектакля, но участвовали в нем как зрители.
Стена была широка, и гулять по ней можно было без боязни упасть, наблюдая во время прогулки за тем, что происходит здесь и там и самого себя посередине - жизнь шла по ту и по эту сторону.
Верх стены не был утыкан осколками, а покрыт зеркальным стеклом, возникало чувство, будто стоишь ногами на собственных ногах, если нагнуться, можно было увидеть свое лицо, но тогда тело казалось скрюченным, а, так как сверху светило солнце, лицо оказывалось в тени и его нельзя было ясно разглядеть. Находились люди, которым это нравилось, потому что при ярком свете отчетливо видна была их незначительность, а в тени и в ореоле Возвышенного (на самом деле это было не что иное, как голубая дымка, окутывавшая затененное лицо) глаза, отражающиеся в стекле, казалось, смотрели в бесконечность Чистых Духом. Другие больше всего любили ночные прогулки по стене: ноги касаются звезд - здесь пустота и там пустота.
Эта стена была удобной дорогой и для Крабата с мельником Кушком, которые не стремились в голубую дымку Чистых Духом и не воображали, как любители звездных ночных прогулок, что они - пуп земли. Им надо было туда, куда и вела их стена: так можно было попасть в любое место, ведь стена огибала весь мир, Вперед и Назад бежали вместе с ними по кругу и только остановки были расположены в обратном порядке.
Это было особенно важно, потому что остановки не зависели от движения времени, от пересечения параллелей и меридианов, порядок их определялся теми вопросами, которые ты ставил, и тем, что ты хотел услышать в ответ: правду или пророчества Пифии, сотканные из голубой дымки безответственности. Неразумной была любая попытка признать или не признать какую-то остановку, потому что так удобнее, потому что так легче скрыть правду.
Крабат и Якуб Кушк бежали по стене Откуда-Куда, шаг за шагом приближаясь к неизвестной цели, которая перестанет быть неизвестной, как только они достигнут ее. Наверху дул слабый теплый ветер.
С той стороны по лестнице поднималась другая группа людей - тоже яркие ткани и блестящий металл. Подзорные трубы были наведены друг на друга, во все глаза высматривались и подсчитывались чужие недостатки.
Друзья подумали, что не знают, с чем сравнить происходящий на их глазах спектакль. Крабату пришло на ум: может, это троянская стена, он представил себе Гектора и Ахилла... но ведь это седая древность; Якуб Кушк размышлял над тем, не рассыпается ли стена и не направляют ли толпы людей наверх, чтобы утрамбовать ее.
Но все это были глупые рассуждения, потому что вскоре огромный снаряд, пущенный из катапульт генерала ЧЕТВЕРТОГО, ударил в стену, и толпа по ту сторону радостно воздела руки, а по эту - довольно закивала, потому что огромный снаряд отскочил от стены, как камешек.
Якуб Кушк помолчал в задумчивости, а потом сказал: "Я знал одну девушку, у нее была такая шея - красивее ты никогда не видел".
Он заметил, что Крабат улыбнулся. "Над чем ты смеешься, брат?" - спросил он настороженно.
"Я не смеюсь, я только удивляюсь, сколь разнообразны были прелести девушек, которых ты знал".
"Кое-что у них совпадало, - возразил Якуб Кушк, - но не об этом речь. Речь идет о красивой шее, на которую девушка постоянно накручивала уродливый толстый шерстяной платок, потому что у нее очень часто болело горло. Но она не кричала повсюду: люди, посмотрите, какой уродливый толстый шерстяной платок у меня на шее! Она мне всегда говорила: не смотри на эту дурацкую тряпку на моей шее, она, к сожалению, необходима".
Может быть, Якуб Кушк еще долго распространялся бы о красивых шеях и необходимых, но некрасивых платках, заматывающих шеи, если бы не заметил, что Крабат его не слушает.
"Где ты, брат? - спросил он. - Наверху или внизу, спереди или сзади?"
"Я в середине, и все вокруг меня, - ответил Крабат, - иногда мне хотелось бы быть с краю".
"Ты просто устал, брат, - сказал Якуб Кушк. - Давай немного передохнем".
Они уселись на стену и стали болтать ногами.
"Я старик, - сказал Крабат прерывающимся, полным печали голосом, - на холме, где растет липа, я жду своего сына".
Мы всегда ждем сыновей, чтобы свершилось то, что ждет свершений.
"Мои ноги тоже иногда устают, - проговорил Якуб Кушк. - Я хотел бы быть липой, чтобы белый голубь сидел на моих ветвях".
Они молча смотрели, как заходило солнце и как оно вновь взошло, и где-то под этим солнцем был Райсенберг, и где-то под этим солнцем была Смяла.
Они поднялись, пошли дальше и через некоторое время добрались до аэродрома. Якуб Кушк спрыгнул с лестницы на землю, Крабат подал ему трубу и тоже спрыгнул. Якуб Кушк показал на самолет, который ему особенно понравился: "Вот на этом мы полетим".
Крабату было все равно на каком. Они пробились сквозь толпу мужчин, которые усердно целовались. Приветливо улыбающаяся девушка в синей форме преградила им дорогу: "Вам нужно выполнить все формальности". Якуб Кушк посмотрел на целующихся, его передернуло, и он спросил: "А что, это обязательно должны быть мужчины?"
Девушка, кажется, не поняла его вопроса, она, приветливо улыбаясь, показала, куда им необходимо обратиться.
Уже при первом контроле Якуб Кушк не выдержал экзамена. Никаких документов в его пустых карманах не оказалось. Крабат предъявил им те бумажки, которые он при повторной проверке на автостраде по рассеянности сунул в свой карман: бумаг было много, может, на нас обоих хватит? "Он мой друг", - добавил он.
Однако его слова не только не были приняты во внимание, но произвели неприятное впечатление, а когда Крабат выразил желание купить для Якуба Кушка необходимые бумаги, все вокруг насторожились. Какой-то человек с холодной вежливостью попросил их пройти в его кабинет и, наморщив лоб, снова принялся тщательно изучать документы Крабата.
Из соседней комнаты вышла молодая полногрудая женщина в темно-зеленой блузке и в розовой чесучевой юбке. Якуб Кушк заметил про себя, что одно не подходило к другому. Женщина шепнула что-то человеку, сидевшему за столом, тот, кивнув, встал и уже с более приветливым видом протянул Крабату его документы: "Пожалуйста, поторопитесь, рейс задерживается только из-за вас".
Но когда поднялся и Якуб Кушк, чиновник с металлом в голосе произнес: "Этот человек останется здесь".
Крабат объяснил, что лететь без друга не может, пусть ему выдадут как можно быстрее все бумаги, если они так нужны. Чиновник уставился на него, заморгал глазами, провел ладонью по лицу, по ни Крабат, ни Кушк не растворились в голубой дымке.
Заикаясь от волнения, он проговорил: "Но ваша машина сейчас должна взлететь!" Это звучало почти как мольба.
Крабат повторил, что не хочет и не может лететь без друга.
Чиновник опустился в кресло, а Крабат и Якуб Кушк снова уселись, думая, что он сейчас выпишет им нужную бумагу. Однако после довольно долгого размышления чиновник исчез в соседней комнате. Снаружи доносился гул взлетающих и садящихся самолетов.
Прошло несколько томительных минут, и чиновник появился снова; вместе с ним вошла молодая женщина в зеленой блузке и мужчина приятной наружности, с волевым лицом, коротко стриженными волосами, тронутыми сединой, и веселыми карими глазами. Вежливо поздоровавшись, он уселся в глубокое кресло, закинул ногу на ногу, закурил тонкую сигару - видимо, он не имел никакого отношения к тем формальностям, о которых здесь шла речь.
Когда наконец выяснилось, что у Якуба Кушка вообще нет никаких документов, чиновник объяснил, что в таком случае придется установить его личность.
Якуб Кушк охотно назвал свою фамилию, имя и профессию. На вопрос, нет ли у него еще имени, кроме Якуба, он ответил отрицательно. Однако, когда его спросили о месте и дате рождения, он замялся.
У женщины в зеленой блузке от изумления глаза полезли на лоб. Вопрос явно поставил Кушка в тупик. Он спросил: "Надо ответить абсолютно точно?"
Человек, сидевший в углу, ухмыльнулся, а чиновник с терпением, готовым лопнуть в любую минуту, подтвердил: "Да, уж будьте любезны".
"Итак, - начал Якуб, - после того как ГОСПОДЬ прилег отдохнуть..."
Женщина в зеленой блузке в замешательстве посмотрела на чиновника, а тот резко перебил Кушка: "Какой еще господь?"
Якуб Кушк удивился: "Тот самый ГОСПОДЬ".
Человек с проседью, сидевший в углу, вмешался в разговор и сказал, обращаясь к женщине: "Записывайте!" - и к Якубу Кушку: "Продолжайте, пожалуйста".
Якуб Кушк продолжил свое правдивое повествование о том, где и когда он появился на свет.
"Итак, после того, как ГОСПОДЬ прилег отдохнуть, от всего творения остались только маленькая речушка и мельница, которые никому не были нужны. Я-то, может, и согласился бы их взять, но прозевал, потому что, когда ГОСПОДЬ распределял блага мира, я сидел за большим баобабом и считал ребра у Евы, все были на месте и красивее всех пятое снизу. Адам целый день вертелся возле ГОСПОДА - видно, хотел получить что-то вроде замка с секретом, чтобы запирать Еву, но ничего такого у ГОСПОДА не было.
Я все считал у Евы ребра, вот и оказался ни с чем. Когда я пришел, все уже было разобрано. Поэтому я взял себе речушку и мельницу, а на следующее утро Смяла окрестила меня Якубом Кушком".
После того, как Якуб досказал свою историю, отягощенную массой очень точных, но совершенно не относящихся к делу подробностей - может, они бы и пригодились, если бы надо было помочь девушке победить свою робость, но в данном случае были совершенно излишни, - он с приветливой улыбкой приготовился отвечать на следующие вопросы, потому что догадывался: для того чтобы получить одну бумажку, нужно исписать очень много бумаги.
Человек, сидевший в углу комнаты, внимательно рассматривал свою потухшую сигару, женщина в зеленой блузке с нескрываемым отвращением взирала на стенограмму, чиновник за столом злился на самого себя за то, что допустил этот фарс, оскорбляющий честь его мундира. Он погрузился в упрямое молчание - пусть шеф сам с ними разбирается, раз уж вмешался в дела, находящиеся в ведении его сотрудников.
И действительно, шеф явно намеревался сам разобраться, он опять зажег свою сигару и сказал Якубу Кушку: "Две или три ваши книги стоят в моем книжном шкафу, я прочитал их с удовольствием. В самом деле, - подтвердил он, улыбаясь, заметив на лице своего собеседника выражение удивления и недоверия, - они мне очень понравились".
Он встал и протянул Якубу Кушку руку: "Очень рад с вами познакомиться". Крепкое рукопожатие подчеркнуло его радость. Он улыбнулся и сказал: "А ваша сегодняшняя устная новелла просто восхитительна! Это был удачный розыгрыш, и я подозреваю, что вы хотели таким оригинальным способом проверить литературу жизнью".
Якуб Кушк понял, что даже чистая правда при неблагоприятных обстоятельствах может быть принята за выдумку писателя и эта опасность особенно реальна, когда авторы книг приукрашивают вполне благопристойную действительность: тогда за чистой правдой начинает мерещиться красный фонарь борделя - мечта и кошмар филистера.
Якуб Кушк подумал, что симпатичный человек с волевым лицом, перепутав его с каким-то писателем, тем самым невольно вызвал новые и, возможно, еще худшие осложнения, а так как мельник по своему опыту знал, что за ошибки начальства расплачиваются маленькие люди, он кивнул всем троим - теперь все они приветливо улыбались, даже чиновник, правда, улыбка у него получилась немного вымученной - и закрыл дверь за собой и Краба-том, не потрудившись даже объяснить этот внезапный уход.
Он увидел, что самолет, похожий на птицу с острым клювом, все еще стоял на поле, взял из рук Крабата все бумаги, сунул их в свою трубу, дунул в нее, раздалась строгая, чтобы не сказать официальная, мелодия, вероятно звучавшая так по-канцелярски сухо из-за того, что труба была набита бумагой, и вытащил то, что он засунул, уже в двух экземплярах. Они побежали к самолету, девушка в мини-юбке и синей шапочке все еще улыбалась, но уже явно через силу, она попросила быстрее занять свои места. Но Якуб Кушк стоял внизу до тех пор, пока она не поднялась по трапу наверх; прекрасное начало, сказал он и протянул ей свой документ, в котором была указана его профессия - музыкант.
"Музыкант, - сказал он, усевшись рядом с Крабатом, - всюду войдет и через все пройдет".
Земля удалялась от них. И чем выше они поднимались, тем большее пространство могли охватить взглядом, тем меньше становились все предметы, и, чем шире открывался перед ними горизонт, тем яснее они видели, что земля кругла и мала, очень мала.
Глава 12
В тот год и зимы настоящей не было, обычного запаса дров хватило бы на две таких. У жены старого Сербина стало хуже с глазами, теперь она уже не рассматривала каждый вечер цветную фотографию, вырезанную из иллюстрированного журнала, а просила рассказать, как выглядит на ней ее сын, и муж говорил: "Пусть, если хочет приезжает, а не хочет - не надо; я его больше не жду".
Сын Ян прислал короткое письмо: в двух строчках он скупо описал семейное счастье своей сестры Урсулы и прибавил, что надеется скоро увидеть родителей живыми и здоровыми.
Дочка Урсула тоже прислала письмо, очень слезливое, она сообщала, что у нее случилось большое несчастье. Это письмо Хандриас Сербин спрятал от жены: что они могли знать о счастье или несчастье чужой им дочери Урсулы - может, от нее просто ушла кухарка и ей приходится готовить самой, а может, ее послушная дочка Сигне вышла замуж за бедного - у богатых ведь и несчастья не такие, как у других людей. Поэтому Хандриас Сербин спрятал письмо дочери Урсулы в ящик комода, где лежали другие ее письма, и не думал больше о слезах, пролитых госпожой Урсулой Гёрансон.
Он не хотел думать и о сыне, но ему каждый день приходилось рассматривать его цветную фотографию, да и никогда прежде не бывало у них столько народу - всем хотелось расспросить о Яне.
Даже старый Николаус Холька, за день до своей смерти. Он, правда, пришел не сам, а в качестве гонца и извозчика прислал своего внука с машиной.
Николаус Холька сидел в старом, вытертом кресле, держась очень прямо, его рука, протянутая для пожатия была холодной, а ноги плотно закутаны в два одеяла.
"Ноги уже похолодели, - сказал он, - завтра или послезавтра в дорогу". Глаза его были ясными.
Однажды они были застланы пеленой смертельного страха, такими же слепыми были тогда и глаза Хандриаса Сербина - они чуть не убили друг друга в рукопашном бою на Сомме, столкнувшись во время ночной контратаки в затянутой илом воронке от снаряда, и только по ругательствам узнали друг друга.
В первые послевоенные годы они иногда рассказывали эту историю: это был, пожалуй, веселый эпизод из той страшной военной жизни, рассказать о которой невозможно.
"Помнишь, как мы тогда, на Сомме?" - спросил Холька.
Хандриас Сербин помнил смутно: смертельный страх вовсе выветрился из его памяти, но он хорошо запомнил чувство облегчения, когда узнал приятеля, а еще лучше, как они потом вместе выкурили нашедшуюся у Хольки трубочку.
Зато он в точности запомнил другой день, четырнадцать лет спустя, запомнил даже паузы в разговоре. Они все сидели тогда у костерка на вырубке. К ним подошел лесник и сказал: "Вас пятеро, я могу оставить одного. Договоритесь между собой".
И они договорились между собой. Николаус Холька, у которого было семеро детей, сказал: "У Хандриаса сын в университете". И четверо потеряли работу, а Хандриас Сербин сохранил. Сын в университете был их общим сыном.
"Человек должен умереть, потому что живет, - прервал его мысли Николаус Холька. - И потому, что он живет, он не хочет умирать".
"Все там будем", - сказал Хандриас Сербин.
Николаус Холька помолчал немного, глаза у него были полузакрыты, а кончики пальцев на зеленом одеяле казались восковыми. Он вновь открыл глаза. "Я этого не боюсь, - сказал он. - Тогда мы чуть друг дружку не убили".
"Если бы не начали ругаться, так и не узнали бы друг друга", - подтвердил Хандриас Сербин.
Казалось, Николаус Холька уснул, но он просто задумался: может, над тем, как мужчинам узнавать друг друга, чтобы не доходило до смертоубийства.
Дверь распахнулась, и в комнату вбежал трехлетний правнук Хольки, в руках у него была палка, изображавшая автомат, он спрятался за ножку стола и прицелился в своего старшего брата, стоявшего в коридоре.
"Поди-ка на улицу", - проворчал Хандриас Сербин.
Мальчик послушно направился к двери, прицелился с порога в стариков, крикнул: "Вы оба убиты" - и захлопнул дверь.
"Говорят, - сказал Николаус Холька, - твой сын сделал какое-то открытие. Вроде бы с его помощью все люди могут стать хорошими".
Хандриас Сербин упрямо вскинул тяжелый подбородок, ему было стыдно, что он ничего не знает о сыне и о каком-то его открытии.
"Нельзя сделать так, чтобы люди не умирали, - сказал Николаус Холька. - Но надо сделать так, чтобы они не убивали друг друга. Скажи это своему мальчику".
Он очень ясно увидел тех двух молодых парней - чужих, незнакомых, - в затянутой илом воронке от снаряда один нацелился штыком, другой замахнулся прикладом. Почему? Миллиарды рыбешек огромным косяком плывут по океану, плывут час, два, вдруг резко поворачивают вправо, влево, послушно, все как одна. И когда огромная хищная пасть заглатывает миллион рыбешек, остальные продолжают плыть, как ни в чем не бывало, все как одна: вправо, влево, прямо.
"Убивают друг друга и делают вид, будто ничего не происходит", - пробормотал Холька.
Хандриас Сербин кивнул. Немного погодя он тихонько поднялся, потому что Холька и в самом деле уснул. Он осторожно положил ему руку на плечо и пожелал с миром отправиться в дальний путь. Когда он открывал дверь, Николаус Холька сказал: "И расскажи ему про лесника и про то, что нас было пятеро".
Внук Хольки, который доставил Хандриаса Сербина к деду и отвез его назад, тоже услышал эти слова.
Дня через два или три после похорон он снова поднялся на холм, потому что эти слова были последними словами его деда и он хотел узнать, что они значили.
Хандриас Сербин работал во дворе, его жена сидела на пороге дома в складном шведском кресле из алюминия и грелась на солнце; дни уже были по-весеннему теплыми.
Почти одновременно с внуком Николауса Хольки по лесной тропинке на холм поднималось пятеро мужчин. Они громко и весело разговаривали, нарушив покой стариков, повесили свои охотничьи ружья на торчавший рядом с дверью в хлев деревянный крюк, где раньше висели хомуты, и с какой-то трогательной и все же само собой разумеющейся почтительностью по очереди подошли к старой женщине, поздоровались с нею и назвали свои имена.
Троих она узнала по голосам: главного врача маленькой больницы, в которую по желанию последней владелицы был превращен замок Райсенбергов, каменщика Доната, к семидесяти годам сделавшегося вдруг страстным охотником, и каменотеса Хитцка - он сидел с Яном Сербином в школе за одной партой и теперь, возвращаясь с охоты, частенько захаживал на холм поболтать немного со стариками.
Двух других - молодого крестьянина и грубоватого шофера - она даже по имени не знала.
Каждый охотник - казалось, сегодня они решили просто проветрить свои зеленые куртки и охотничьи ружья - отыскал себе местечко, где бы усесться. Каменотес, чувствовавший себя свободнее других, принес из кухни треногий табурет для старика, а внук Николауса Хольки, не зная, оставаться ему или уходить, прислонился к стене.
Врач достал оплетенную кожей бутылку с можжевеловой водкой и пустил ее по кругу, начав с Хандриаса Сербина. "За ваше здоровье, - сказал он, - и за вашего сына!"
Старая женщина тоже отхлебнула крошечный глоток. "Если бы я только получше видела", - сказала она.
Грубоватый шофер - голос у него был такой, будто он говорил из пустого пивного бочонка, - сказал: "Черт побери, хотел бы я иметь такого сына".
Все они обсуждали предполагаемое открытие Яна Сербина, только врач и учитель биологии Холька не принимали участия в общем разговоре. Хандриас Сербин хмурился, а его жена дружелюбно и робко улыбалась сменявшим друг друга голосам. Собеседники спорили по поводу неясных для них в открытии Яна Сербина вещей, пока наконец каменщик Донат не обратился к учителю: "Ты ведь должен все это лучше знать".
Узкоплечий, маленького роста учитель так увлекался генетикой, что считал уроки - те, что должен был проводить по учебной программе, - помехой своим научным занятиям. Уже на третьем слове он оглянулся, привычно ища школьную доску. Они сняли с петель дверь и прислонили се к стене, а жестяная коробка с цветными мелками всегда была у учителя с собой в машине. Цветные мелки писали очень бойко и, видно, хорошо знали свое дело. Шестеро мужчин удивлялись, качали головами, говорили о Яне Сербине и его науке и забыли про стариков. Старый Сербин пошел в огород взглянуть на парники, а его жена вздремнула. Учитель знал о слухах, которые ходили вокруг открытия, но не стал их касаться. "Цель, - сказал он, - раскрыть тайну жизни". Эту фразу он часто встречал в книгах, и она казалась ему очень убедительной.
Но каменотес сразу же придрался к его словам: "Это похоже на строчку из стихотворения, ты не можешь объяснить попроще?"
За учителя ответил врач: "Всякая жизнь - химический процесс. Если постичь его законы, можно научиться им управлять".
У каменотеса в голове застряли слова "всякая жизнь".
"Например, я и заяц?" - спросил он.
"Вы и дождевой червяк", - ответил врач, а учитель добавил: "Ты и дерево. Или ты и картофелина". Крестьянин спросил: "Что значит управлять: сделать корову, которая будет давать вдвое больше молока?"
Шофер сказал: "Когда я кручу руль, машина едет, куда я хочу. Разве я тоже машина и кто-то управляет мной, как он хочет?"
Учитель сказал с оттенком гордости: "В принципе да, - и добавил с едва заметным сожалением: - Но на практике нет".
"Пока еще, слава богу, нет, - сказал врач. - Но все-таки рак был бы тогда побежден".
Каменщик Донат - про его сына когда-то думали, что он хочет обязательно стать министром, только ветер собственного честолюбия ему мешает, слишком сильно дует навстречу, к тому же сын считал себя олицетворением того Мы, которому должны подчиняться "люди", - так вот каменщик Донат сказал: "Не пожелаю Яну Сербину это открыть".
Если бы каменщика Доната спросили, почему он не желает этого Яну Сербину, он не сумел бы найти точного ответа. Может, ответ его был бы столь же смутным, как те слухи, которые дошли до них, слухи о том, что Ян Сербин каждого человека может превратить в ангела или черта.
Но может, он сумел бы объяснить, что у него возникло такое ощущение, будто ему постепенно, палец за пальцем, разжали кулаки, и из его раскрытых рук выпала власть, власть распоряжаться самим собой, и ею завладел компьютер, не важно, один или десять компьютеров. Мне только кажется, что меня зовут Франц Донат, на самом деле я - двенадцатизначное число. Когда я кричу, кричит число, а разве число может кричать?
Четвертая часть миллиардной доли неба - мое небо, и я не хочу, чтобы самолеты своим гулом ежечасно нарушали его тишину, у меня болит от них голова. Но самолеты летают в соответствии с международными правилами, и небо зависит от международного положения, и я - двенадцатизначное число - тоже завишу от международного положения; компьютер знает, каково оно в данный момент, а я, Франц Донат, - здесь вновь человек я, здесь быть им могу - верю ему (И.В. Гёте, Фауст).
Я верю тем, кто в соответствии с полученными в компьютере данными хочет изменить международное положение, но это надо делать очень осторожно, ведь четыре миллиарда людей могут скатиться в черную пропасть небытия и тогда среди других звезд погаснет маленькая голубая звездочка.
Я представляю себе нашу планету как огромную плоскую тарелку, может, раньше она была из олова, теперь - из тонкого стекла. У меня дома есть такая тарелка; когда на нее попадают солнечные лучи, она отливает чудесным голубым светом. Я никогда не дотрагиваюсь до нее - опасаюсь, как бы она не выскользнула из рук. Достаточно одного неловкого движения, и она разобьется вдребезги.
Если то, что рассказывают люди об открытии Яна Сербина, правда, то он один из тех людей, кому пришлось взять в руки эту чудесную голубую стеклянную тарелку. И четыре миллиарда людей могут соскользнуть в пропасть.
Я простой человек, у меня грубые руки, пригодные для грубой работы, и, может быть, мысли, которые приходят мне в голову, тоже такие. Я представляю себе, будто у меня есть волшебное средство, с помощью которого я могу превратить человека в ангела или в черта, - и вот я сделаю так, что все люди в нашей деревне всегда станут приносить одну лишь пользу. Они и сейчас не бездельники, но я хочу, чтобы ни минуты у них не пропадало зря.
Взять, к примеру, кузнеца, который приносит пользу только зимой. В это время он выковывает ограды, и решетки у него получаются очень красивые. Но летом ищи его рядом с ульями. Он сидит там, смотрит на своих пчел, и, если ты захочешь, он расскажет тебе, как по-разному жужжат пчелы, когда они за работой, веселы, разочарованы, утомлены или разгневаны. Он собирает больше всех меда в деревне и половину раздаривает. Он хороший кузнец, ему нет пятидесяти, он здоровый и сильный человек. Я сделаю так, чтобы он работал в кузне круглый год, ведь пчелы соберут свой мед и без него.
Ну а как быть с теми историями о пчелах, которые знает только он? Кто их расскажет? А как быть с человеческой радостью? Разве она не нужна людям?
Я не могу ответить на этот вопрос, поэтому пусть кузнец зимой кует ограды и решетки, а летом сходит с ума по своим пчелам. Я выброшу, пожалуй, волшебное средство в речку Саткулу.
А как быть с Розой Якиш?
Роза Якиш хороша собой, этого не отрицают даже те женщины, которым она разбила семью, но она дрянь. Даже те мужчины, которые готовы ради нее на все, боятся ее, как колдуньи, и говорят, что она дрянь.
Всегда ли она была красивой и дрянью? Сначала она была только красивой. Потом она стала еще и дрянью. А если бы она не была хороша собой? Люди не зря говорят - и мне тоже так кажется: то, что она стала такой, на совести мужчин. Но всему виной все-таки ее красота. Поэтому я отниму у нее красоту, чтобы... Нет, я оставлю Розе Якиш ее красоту, которую сотни раз проклинали, но которой тысячи раз восхищались: вот каким красивым может быть человек!
Я не знаю, сколько потянет красота Розы Якиш на весах полезности. Может, эти весы не выверены и вообще никуда не годятся.
Например, наш председатель упрятал под землю Саткулу - правда, не всю речку, а только там, где справа и слева по ее берегам лежат поля. В этих местах он пустил речку по подземным трубам, выкорчевал прибрежный кустарник и сделал огромное поле, удобное для машин. Им нужно огромное поле, сказал председатель, потому что они - великаны. Так машинам легче работать, говорит он, а когда машинам легче, люди становятся богаче. А может, людям больше хотелось сохранить извилистую речушку, но председатель решил: пусть они лучше станут богаче - и пустил Саткулу по трубам.
Не пожелаю я Яну Сербину открыть то, что заставит его взвешивать на невыверенных весах - что хорошо для человека, а что плохо.
Так мог бы сказать каменщик Донат, потому что думал он именно так - пусть не столь гладко и, уж конечно, не этими словами, - но тут старая женщина проснулась и сказала: "Я о нем так тревожусь, так тревожусь".
Все заверили ее, что никакой причины для тревоги нет, и громче всех говорил каменотес Хитцка, которому как раз пришла на ум история о человеке, открывшем Черный Камень, Крабат не смог его спасти, и он погиб мучительной смертью, но тайны своей не выдал.
Старая женщина на мгновение утешилась, потому что ее надежда жила и малым, но, уходя, охотники услышали, как она, вздохнув, сказала: "Если бы только он приехал".
Если бы он приехал, все стало бы хорошо, все бы поправилось, и иногда Мария Сербин верила, что, если бы сын вдруг появился, она увидела бы его совершенно ясно, без пелены и паутины, разве что сквозь слезы.
Учитель Холька стер мел с двери и повесил ее на место. Старая женщина забыла, что его дедушка умер, и спросила, как он поживает.
Вышедший из сада Хандриас Сербин ответил ей. Ему хорошо, сказал он, у него там много старых приятелей, сидят себе посиживают и рассказывают разные истории.
Тут наконец учитель смог задать свой вопрос о последних словах деда: расскажи ему про лесника и про то, что пас было пятеро.
И старик рассказал ему историю о том, как пятеро мужчин, сидя в обед у костра, решали, кому теперь по пятницам приходить за получкой к леснику.
А как было на самом деле, рассказала старая женщина:
Райсенберг приказал построить для людей, живших на Саткуле, загон, как для скота. Вся изгородь была утыкана шипами ядовитых насмешек и прочно заперта злым смехом. Райсенберг часто приводил своих друзей к изгороди, чтобы они могли полюбоваться на нищету людей, живших в загоне. Они увидели свадьбу: у невесты не было обручального кольца и золотого обруча на голове, цветные стеклянные бусы украшали ее волосы, в руках она держала белый платочек с розовой и зеленой вышивкой, на девушке была грубая льняная рубашка и шерстяная юбка - шелковой и бархатной на ней была только ее кожа, но, если смотреть из-за изгороди, этого не увидишь. Впереди невесты шел скрипач, у его скрипки было только три струны (имеется в виду трехструнная сорбская скрипка - народный инструмент), и звуки этой скрипки были странными и пронзительными. Варварство, говорили гости, стоявшие за изгородью, а Райсенберг объяснил им, что четвертой струны нет потому, что эти люди умеют считать только до трех.
Гости увидали голодных детей и спросили у одного мальчика, знает ли он число "пи", а у другого - что ему известно о великом полководце Ганнибале из города Карфагена. Мальчики не знали, что ответить, и Райсенберг сказал, что они тупы и невежественны. Гости убедились, что он говорит правду, и возблагодарили бога за то, что он не создал их такими.
И тогда люди, жившие в загоне, собрались и решили отправить кого-нибудь учиться, чтобы он узнал про число "пи" и про полководца Ганнибала из города Карфагена и выучил других.
Но Райсенберг сказал: "Для чего вам число "пи", к чему вам полководец из города Карфагена, вам достаточно знать, что я ваш господин, и уметь считать до трех, потому что есть только три добродетели: почтение, любовь и повиновение".
Люди в загоне снова посовещались и сказали Райсенбергу: мы хотим послать кого-нибудь учиться, чтобы было кому читать нам проповеди в церкви. Райсенберг подумал, что божье слово наполовину слово господина, а если так не будет, то не услышат люди в загоне этого слова, и согласился.
И вот люди пошли к мальчику, которого они выбрали. Мальчик сказал: "Я хочу узнать про Ганнибала и про число "пи", но больше всего мне хочется прочесть великих поэтов. Но я не хочу всегда носить черное платье священника и быть покорным Райсенбергу".
Тогда люди показали ему на изгородь, где висело черное платье, сшитое по его мерке. Без него тебе не выйти отсюда, сказали они. А там учи, что хочешь, великих поэтов или святых апостолов - откуда нам знать, что правильнее?
Но прежде чем мальчик надел черное платье - только оно могло его вывести на свободу, - люди задумались: ведь он будет теперь есть хлеб Райсенберга, так останутся ли его уши глухи к словам Райсенберга?
И тогда каждый отломил краюху от своего хлеба и отдал ему. Запах хлеба бедных остался в складках одежды, он чувствовал его, когда читал о деяниях святых апостолов и когда писал стихи, и постепенно этот запах проник в его стихи. Он возвратился домой и стал читать проповеди людям, и его божье слово не было словом Райсенберга, а по ночам он писал стихи, и, когда он их писал, казалось, что изгородь вокруг загона начинает шататься.
Райсенберг опять привел своих друзей к загону, чтобы они посмотрели на нищету живших в нем. И когда они спросили одного мальчика, знает ли он число "пи" и великого полководца Ганнибала из города Карфагена, тот не промолчал, а ответил словами из стихотворения; пусть в нем говорилось о любви, или о ночной тишине, или о хлебе бедных, но эти слова были подобны камням, брошенным в изгородь.
Тогда Райсенберг приказал привести к себе поэта и сказал ему: "Если ты не перестанешь сочинять стихи, похожие на камни, брошенные в изгородь, я прикажу содрать с тебя черное платье и голым отправлю в загон". "Даже если ты прикажешь содрать с меня кожу, - сказал поэт, - я не перестану писать стихи. В них есть и число "пи", и полководец Ганнибал, они как камни, брошенные в твою изгородь. Мои стихи разносит ветер, отними их у ветра, если сможешь!"
Голым возвратился поэт к людям, и каждый дал ему кусочек своего нищенского платья, а стихи, которые он теперь писал, стали похожими на каменные глыбы, брошенные в изгородь.
Райсенберг велел отнять у него перо и бумагу, чтобы заставить его замолчать, но тогда поэт стал читать людям свои новые стихи наизусть. Они были как буря в горных лесах, как гроза на морском берегу, и Райсенберг приказал заткнуть ему рот тряпкой, намоченной в крови, и держать до тех пор, пока тот не задохнется.
Люди положили поэта в могилу, и Райсенберг испугался их сжатых кулаков. Изгородь уже прогнила, и он знал, что они снова и снова будут тайно отправлять кого-нибудь из загона, собирая для него хлеб бедняков, и, чтобы разрушить загон, каждый отломит кусок от своего хлеба.
Все трое замолчали. Учитель Холька подумал: я знаю, как звали этого поэта, я знаю дом, где он родился, могильный камень, под которым он похоронен. Старая женщина вспоминала, сказала ли она, что тем поэтом был Крабат. Хандриас Сербин заметил, что видел похороны поэта по телевизору.
Все смешалось: Canto general (имеется в виду поэма Пабло Неруды "Всеобщая песнь"), и пятеро мужчин у костра, и тот, кого люди из загона послали учиться, - старая женщина сказала, что они затыкали ему рот до тех пор, пока он не задохнулся.
"Стало холодно, пойдем в дом", - сказал старый Сербин.
Они вошли в дом, и Сербин налил себе и ей по чашке полуостывшего кофе. "Никакого вкуса в нем нет", - проворчала его жена. Но это неплохо, что нет, потому она пила слишком много жидкости, а врач запретил ей много пить из-за глаз.
По телевизору выступали молодые люди - они очень громко пели, сопровождая свое пение какими-то немыслимыми телодвижениями. Когда Хандриас Сербин смотрел на них, ему всегда казалось, что они пляшут на горячей доске; ребенком он видел однажды медведя, его заставляли танцевать на железном листе, под которым стояла маленькая жаровня. Он выключил телевизор и взял газету. Но о том, что происходит в мире, он прочитал еще утром, а речи, заполнявшие газету, были похожи на речи, которые он читал раньше. Одна или две новые фразы в них, может, и попадались, но читать всю речь целиком, чтобы отыскать эту новую фразу, слишком утомительно.
Он часто думал о том, почему умным и опытным людям требуется такое большое количество бумаги, чтобы сообщить то немногое - новое и важное, - что они хотят сказать. Думая об этом, он вспомнил, как однажды получил ко дню рождения объемистую посылку от своей дочери Урсулы, тогда еще студентки. Пакет был похож на русскую матрешку: он разворачивал бумагу, а под ней оказывалась еще бумага. Развернув штук десять, он наконец обнаружил крошечный пакетик с двумя пачками жевательного табаку и фотографией смеющейся дочери.
Потом он вспомнил лето, когда градом побило весь хлеб. Он убрал поле, но на сто колосьев ему попадались два-три, уцелевших от града. Целый воз соломы пришлось ему сжать, чтобы собрать полмешка зерна.
И все-таки Хандриас Сербин не мог поверить, что посылка с жевательным табаком или урожай, загубленный градом, могут служить трафаретом для изготовления таких речей, и всякий раз раздражался, когда не мог отыскать в них зерно. Подложив газету под чистый лист бумаги, он стал писать письмо своей дочери Кате: у нас все хорошо, чего и вам желаем. Сегодня здесь были охотники и много всего порассказали. Умер старый Холька. Больше никаких новостей нету...
"Напиши ей, что у нас хорошая погода", - сказала женщина.
"Послезавтра, когда она получит письмо, у нас, может, снег пойдет", - ответил он.
Когда наступило послезавтра, снег не пошел, но все небо было словно завешено мокрой серой пеленой. Хандриас Сербин сидел дома и вязал первый в этом году веник из прутьев. Его попросила об этом молоденькая продавщица деревенской лавки, которая, возвращаясь на своем мопеде после работы домой, каждый день заезжала к старикам и привозила им все необходимое.
Занявшись веником, он не заметил поднимавшихся на холм председателя, упрятавшего Саткулу в подземные трубы, и директора школы, решившего выстроить здесь новое школьное здание. Директор школы остановился на минутку у одичавшей яблони, которая никогда не плодоносила, оглядел дерево и укоризненно покачал головой, но председатель, кажется, не обратил внимания ни на дерево, ни на директорский укор кому-то. Они поднялись на холм, посмотрели на дырявую крышу заброшенного хлева, увидели доску, наполовину оторвавшуюся от обшивки второго этажа дома, отметили, что дом источен древесным червем, что крыша прогнила; даже трава, прораставшая во дворе между каменными плитами, подтверждала их точку зрения или говорила им что-то, с чем они оба соглашались, чему радостно кивали. Они думали о девушке из магазина, которая приезжала сюда в любую погоду, а что будет, если она вдруг заболеет, да и вообще надо бы позаботиться о том, чтобы врач чаще заглядывал к старикам: они ведь очень стары, правда, пока еще не беспомощны, но беспомощность, так сказать, на пороге и это может случиться каждый день. Председатель сказал: "Я рад, что мы с вами одинаково оцениваем ситуацию". И директор школы кивнул: "Я считаю, что нам необходимо что-то предпринять".
Хандриас Сербин мог бы увидеть их и услышать, о чем они говорят, но он был занят вязанием веника и сидел дома, потому что на дворе все было затянуто серой пеленой. Его жена слушала негромко игравшее радио и посредине "Маленькой ночной серенады" Моцарта сказала: "Звучит как будто весело, а на самом деле грустная ведь музыка".
Помолчав она добавила: "Обещай мне, что, пока мы живы, мы не уйдем из этого дома, пусть нас отсюда вынесут на кладбище".
"Да", - сказал Сербин, она просила его об этом, наверно, в десятый раз. В эту минуту он увидел их и услышал, о чем они говорили. Но он продолжал тщательно отбирать березовые прутья: продавщице из лавки надо связать хороший веник. По радио передавали негромкую музыку, и весь мир был завешен серой пеленой.
Председатель сказал: "У нас готов новый жилой дом, семь квартир мы уже заселили, восьмую, на первом этаже, мы предоставим им. У наших людей сейчас есть время, они перевезут стариков. Перенесем осторожненько, как ласточкино гнездо с только что вылупившимися птенцами",
"Это ты мог сделать, пока еще косой косил, а теперь под твои комбайны не только ласточкины гнезда попадают, а даже косули", - сказал директор школы.
Председатель оставил без внимания насмешку и продолжал: "Перенесем их осторожненько, как ласточкино гнездо, а на следующий день мои машины снесут весь этот хлам. Потом я сдеру кожу с холмика, сниму сантиметров сорок грунта, выкопаю отсюда весь гравий, тут великолепнейший гравий залегает, хватит на фундамент для двух жилых домов, потому что наши люди хотят жить в приличных квартирах, и они их получат. Потом мы перепашем дорогу, и тогда мне, то есть моим машинам, будет наконец где разгуляться".
Кровь прилила к лицу председателя, и директор испугался, что его, чего доброго, хватит удар. Он сказал: "Машины, машины... Разве все это, - он обвел вокруг рукой, - принадлежит машинам? Ты никогда не задумывался над тем, какую красоту ты уничтожаешь?"
Председатель сунул таблетку под язык. "Задумываюсь я или не задумываюсь, не имеет значения, - ответил он спокойно, - но я знаю точно, что люди хотят от меня прогресса, движения вперед. Прогресс - наш конек, но он у нас еще и всадник, и он подгоняет меня, как лошадь, шпорами и хлыстом".
Директор уселся на край каменного колодца, он не хотел затевать спор о том, что такое прогресс, и вовсе не собирался выяснять, кто в этом случае был всадником, а кто лошадью. Вполне вероятно, что председатель специально хотел затеять этот спор, чтобы отвлечь от волновавшей их обоих темы. Директор вытащил из кармана какие-то бумаги: "Мое предложение построить здесь школу одобрено".
"Только не мною, а этой землей я распоряжаюсь", - сказал председатель с невозмутимостью полновластного хозяина.
"И квартиру для старичков я тоже приискал, - продолжал свое директор. - Это бывшая квартира садовника при замке, главврач будет их соседом. Она с центральным отоплением, горячей водой, а больничная кухня обязалась доставлять им каждый день обед".
"Прекрасно, - сказал председатель. - Твой вариант, без сомнения, более удачный. Но строить тут школу я тебе все-таки не дам".
У директора были хорошо продуманные аргументы в защиту того, что школу следует строить именно здесь; но не все хорошо продуманные аргументы годятся для того, чтобы их широко обнародовать, они доступны лишь тем, кто может смотреть в будущее. Однако люди с этим не рождаются, а приобрести такую способность - смотреть в будущее - нелегко, удается это только тем, кто привык мыслить в крупных масштабах, поэтому, чтобы получить согласие и поддержку общественности, необходимы простые, всем понятные аргументы.
У директора и они были наготове: прекрасный вид сверху из окон классов, позволяющий даже в плохую погоду делать наглядными занятия по природоведению, чистый, богатый кислородом воздух повышает усвояемость учебных предметов на пять - десять процентов, строительство спортплощадки не потребует больших капиталовложений, пруд, который расположен на расстоянии пятисот метров от будущей школы, при минимальных затратах летом может служить для купания, а зимой использоваться как каток. Следует добавить отсутствие шума, пыли - короче говоря, получается лучшая в мире школа для детей с Саткулы, очень долго бывших пасынками.
Но тот, кто побывал в роли пасынка, знает почем фунт лиха и опасается, как бы и директор тоже не загнал Саткулу в подземные трубы, чтобы можно было идти дорогой прогресса легко и свободно, не обращая внимания на своеобразное и необычное. Слова, в которые директор школы облек свои хорошо продуманные, но не предназначенные для широкой публики аргументы, были взяты им из философского словаря и сами по себе не вызывают возражений, пока их видишь на бумаге. Но если с книжных страниц они вторгаются в реальную жизнь - скажем, в жизнь старика на холме, - то может случиться, что движение вперед они превратят в движение от человека, помогут содрать с холма верхний слой, вынуть все, что лежит под ним, но холма-то уже не будет.
Что же касается Хандриаса Сербина и его жены Марии, достигших весьма преклонного возраста и оставшихся на старости лет одинокими, то было весьма просто перевезти их, осторожненько, как ласточкино гнездо. Но ведь делалось бы это не для них, а для удобства и для прогресса, который уселся на лошадь, пришпоривает ее и погоняет хлыстом, но весь вопрос в том, кто же тут лошадь?
Хандриас Сербин внимательно со всех сторон оглядел веник, остался доволен своей работой и сказал: "Мы отсюда не уйдем, пока нас не вынесут ногами вперед".
Если два охотника гонятся за одним медведем, то может случиться, что медведю удастся сберечь свою шкуру, и тогда его дружелюбно станут величать даже Топтыгиным или Михайло Ивановичем.
Конечно, холмик Хандриаса Сербина не был медведем, и, хотя прогресс и смахивает на одноглазого охотника, который уж очень высоко занесся на своем скакуне, не все дают скакать на себе так, будто нечистый их попутал.
Председатель прислал машину, которая отвезла стариков в больницу, где их тщательно обследовали. Вернувшись домой, Хандриас Сербин разложил все лекарства на столе и подсчитал, во сколько один день их жизни обходится государству. Сумма получилась внушительная и наполнила его гордостью; у него полегчало на душе, и он решил снабдить и больницу, и председателя вениками собственного изготовления.
Встретившись с бургомистром, директор не упомянул в разговоре про одичавшую яблоню, с которой, по его мнению, были связаны мистические и лишенные смысла легенды, препятствующие прогрессу, а сказал только про липу на холме, потому что такое старое и красивое дерево должно охраняться. Бургомистр - то ли из-за липы, нуждающейся в охране, то ли по другим причинам - однажды в полдень появился на холме и, выпив с Хандриасом Сербином и его женой по чашке кофе, заговорил о моровом столбе, о его культурно-историческом значении и о том, что его надо подновить; он обещал позаботиться об этом, а также о том, чтобы кое-что починить в доме Сербинов.
Этот бургомистр, не любивший выставлять напоказ своих талантов, отличался от других бургомистров содержимым верхнего ящика письменного стола. Этим он и приобрел известность. В ящике лежало семь медалей, которыми он был награжден за отличную работу, а также семь официальных, полученных им в письменном виде выговоров за невыполнение директив и распоряжений вышестоящих органов. А сверху этих порицаний и поощрений лежал листок со списком четырнадцати "святых чудотворцев". Термин этот был заимствован бургомистром из книг духовных, однако сами чудотворцы были вполне земными: это были дочери и сыновья Саткулы, которые занимали ответственные посты в разных сферах или были какими-нибудь знаменитостями, во всяком случае, они выручали бургомистра не из четырнадцати, описанных в священном предании, а из гораздо большего числа бед. Думая про моровой столб, бургомистр вспомнил о директоре музея, который тоже был включен в этот список.
Но Яна Сербина среди этих четырнадцати не было. Если бы бургомистра спросили: почему, он бы ответил, что у него нет сомнений по поводу того, что Сириус светит ярче нашего солнца, но ведь не он согревает своими лучами и картошку, и картофельных жучков, и людей, которые научились бороться с этими жучками.
Что же касается великого открытия, сделанного Яном Сербином, о котором все вокруг говорили, то бургомистр опасался, как бы с помощью этого открытия не вывели породу таких бургомистров, которым ничего не нужно будет хранить в верхнем ящике письменного стола. Никаких медалей, никаких выговоров и никакого списка святых чудотворцев. Что за радость тогда быть бургомистром!
Посидев еще немного у Хандриаса Сербина и его жены за спокойной беседой, он встал и, прежде чем усесться на свой мопед, подошел к липе. Был ясный день, дул сильный ветер, и старое дерево и впрямь выглядело очень красивым. Здесь наверху вообще было очень красиво, даже в это время года. Бургомистр целиком отдался этому не случайно возникшему у него чувству прекрасного.
Неясное ощущение родило мысль: нельзя, чтобы эта красота пропадала зря.
Мысль стала четче: может быть, этот старый двор стоит переделать в дом для престарелых?
Или отдать его молодежи, чтобы она здесь что-нибудь организовала?
Потом, уже подъезжая к деревне, бургомистр сообра-8ил, что лучше всего сделать тут ресторан, в нем можно будет отмечать юбилеи и праздники, а летом устраивать танцы на свежем воздухе.
В своем рабочем кабинете он написал на листе бумаги: "Крабатов колодец" - вот и название для ресторана - и положил листок в самый верхний ящик. Так ощущение родило идею. Бургомистр достал свой список. Пока еще не было нужды в "чудотворцах", но ведь многие беды можно предотвратить, если "чудотворцы" заблаговременно сотворят свое чудо.
Бургомистр не боялся ни председателя, ни директора школы с их планами. Оба они были достаточно влиятельны, чтобы мешать друг другу до тех пор, пока он не достигнет цели. Он еще раз прочел список, представив выбитое красивыми буквами на доске название будущего ресторанчика, и поздравил себя, мысленно пожимая сам себе руку. Он отмахнулся от смутного предчувствия, что этим он вызовет новый поток медалей и выговоров, и решил для начала послать старикам на холм магнитофон. Пусть они расскажут все, что знают о Крабате. На новом объекте можно будет хорошо использовать фольклор.
Он представил себе зал с камином, по не с изысканным мраморным, нет, у них будет имитация деревенского очага, который когда-то можно было встретить здесь, да и в других местах, в каждом доме. По стенам развешана старинная домашняя утварь, стулья и столы такие, какие были, в крестьянских домах на рубеже века.
Все гости приезжие, может быть даже иностранцы, и директор ресторана "Крабатов колодец" приветствует гостей на их языке. Директор - бывшая продавщица из их лавки: это место для нее подойдет, решил бургомистр, она неглупа, изучает уже второй иностранный язык, надо послать ее в соответствующее училище.
Конечно, гости явились к ужину, сегодня традиционный праздничный ужин, когда-то дружка Петер Сербин ввел его для всех свадеб. Обязательный атрибут ужина - густой соус с хреном золотисто-желтого цвета и такой остроты, что, чем больше его съешь, тем мягче он щекочет горло, и по-настоящему умеют готовить его только здесь, секрет изготовления этого соуса переняли у Сербинов, вместе с их холмом.
А потом кто-то включит магнитофон, и зазвучит песня, может быть та, что сочинил мельник Кушк, когда Петер Сербин праздновал свою победу над Райсенбергом, и поет ее слаженный мужской хор - голоса в нем, конечно, поставлены лучше, чем у тех, кто когда-то чуть было не разнес трактир и вызвал роды у канторской дочки, но ведь поющие верили, что воспевают победу.
Пылает огонь в камине, тени пляшут на стенах, и Хандриас Сербин рассказывает - но сначала не о Крабате, нет, мы видим Якуба Кушка и рядом с ним девушку, у нее очень смуглая кожа, а на лбу красное пятнышко - знак касты.
Девушка поет незнакомую песню:
Велик или мал урожай,
Только-только рис уберу я -
Горсть зачерпнет раджа,
Джунгли возьмут другую.
Тигр крадется в лесу,
Чтобы третью горсть добыть,
Четвертую горсть донесу
Голод мой усыпить.
"Не пой мне грустных песен, Сунтари, - говорит Якуб Кушк, - мне и так грустно".
"Тебе грустно потому, что ты хочешь меня покинуть, - говорит девушка, - зачем ты тогда меня покидаешь?".
Якуб Кушк молчит, ведь всю ночь этот вопрос лежал между ними на циновке.
"Гора как тысяча тигров, - говорит Сунтари, - она убьет вас прежде, чем вы увидите ее вершину".
В низкую бамбуковую хижину входит Крабат, скоро наступит утро. Крабат говорит: "Горсть земли с самой высокой вершины, горсть со дна самого глубокого моря, горсть влажной земли из джунглей, горсть песка из пустыни, горсть глины, горсть чернозема, земля из больших городов и из бедных селений - это будет самая плодородная почва, и на ней вырастет посаженное мною дерево".
"Я плачу", - говорит Сунтари.
"Твоя слеза согреет нас в снегах высочайшей вершины и даст нам прохладу в горячих песках пустыни", - говорит Крабат.
"Дурга - дочь самой высокой вершины - смочит вашей кровью жертвенный камень, а Ракшаса захочет вашего мяса", - говорит девушка.
Крабат откидывает циновку, которая закрывает вход в хижину. Солнце уже взошло.
Сунтари встает, она складывает руки на груди и говорит: "Пусть Видья даст вам свою мудрость и укажет дорогу, и пусть сопутствует вам Лакшми и принесет удачу".
Сорок дней ждала Сунтари возвращения Крабата и Якуба Кушка. Богиня мудрости указывала им путь, и богиня счастья не покидала их. Крабат прогнал своим посохом страшную Дургу, а пожирающая людей Ракшаса убежала, заслышав звуки трубы мельника Кушка. Крабат поднялся на самую высокую вершину и отколол от скалы камень величиной с кулак. Сунтари заплакала от радости, и камень впитал ее слезы, как губка. "Пусть не засохнет дерево, которое ты посадишь", - сказала она.
Крабат поблагодарил ее и нашел для камня, политого слезами девушки, место под корнями дерева, и, когда он соберет тысячи пригоршней земли из тысячи мест, на этом дереве вырастет могучая ветвь, достаточно крепкая для того, чтобы привязать к ней веревку с петлей для Вольфа Райсенберга.
Гости, сидящие у камина в ресторане "Крабатов колодец", спрашивают, кто такой Райсенберг.
Бургомистр медлит, он не знает, стоит ли ему рассказывать, что последний Райсенберг лежит под могильной плитой, на которой написано "Misericordia", или ему нужно объяснять, что такое притча и в. чем ее смысл? Он облегчает себе задачу и говорит, что за последнюю сотню лет миллионы людей были убиты людьми же и что это дело рук Райсенберга.
Но вот с магнитофонной пленки опять раздается голос Хандриаса Сербина.
Райсенберг узнал, что ему придет конец, как только Крабат соберет тысячу пригоршней земли из тысячи мест. Тогда Райсенберг позвал Первого слугу и спросил его: "Скажи мне, бессмертен ли я?"
И Первый слуга ответил: "Ты бессмертен до тех пор, пока на дереве не вырастет могучая ветвь".
"На которой я буду висеть?" - спросил Райсенберг.
"Когда ты будешь на ней висеть, тебя уже не будет, следовательно, ты не будешь на ней висеть", - ответил Первый слуга.
Вольф Райсенберг это понял: "Но ведь то, что предначертано мне, предназначено и Крабату. Скажи мне, до каких пор он сохранит свое бессмертие?"
"Пока он не повесит тебя, - ответил Слуга. И медленно, словно в глубоком раздумье, прибавил: - Или пока ты не повесишь его".
Вольф Райсенберг снял с пальца кольцо с большим бриллиантом: "Это кольцо будет твоим, если ты узнаешь, как погубить Крабата".
Первый слуга, который собрал всю мудрость мира, чтобы она служила Райсенбергу, взял кольцо. "Меня прельщает не его цена, - сказал он, - а его красота. Когда Крабат перестанет быть Крабатом, ты сможешь убить его таким способом, каким тебе вздумается. На дне моря лежит зеленый кристалл. Если ты разобьешь его, ты узнаешь, где смерть Крабата".
Вольф Райсенберг приказал хранителю всей мудрости отыскать кристалл истины, пустив в ход любые средства.
Громадные насосы выкачивали со дна моря песок и пропускали его через огромные фильтры, покрывавшие целую страну; водолазы на дне проникали в самые глубокие впадины и пропасти, а искусственные глаза невероятной зоркости обшаривали все укромные уголки. Море уже совсем обмелело, а зеленый кристалл так и не был найден. Тогда Слуга, собравший всю мудрость, чтобы служить своему господину, приказал поймать водяного. "Где зеленый кристалл, водяной?" - спросил он.
Водяной затряс волосами из камыша и ничего не ответил. Первый слуга думал целый день и целую ночь, а потом приказал убить водяного и разрезать ему грудь. И сердце водяного оказалось зеленым кристаллом.
Первый слуга принес сердце-кристалл Вольфу Райсенбергу, и тот разбил его молотком из белого золота. Осколки кристалла сами собой выстроились во фразу: ЕСЛИ КРАБАТ ПЕРЕСТАНЕТ ИСКАТЬ СМЯЛУ, КРАБАТ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ КРАБАТОМ.
Собиратель мудрости узнал истину и исполнил свою службу.
Вольф Райсенберг позвал Второго слугу и приказал ему: "Сделай так, чтобы Крабат перестал искать Смялу".
У Второго слуги один глаз был настоящий, а другой из драгоценного сапфира. Он так широко раскрыл оба глаза, что сапфир выпал. Слуга поймал его, сунул в рот и в то же мгновение сапфир оказался на прежнем месте, в глазнице.
"Эта задача не труднее, чем тот фокус, который я только что проделал, - сказал он. - Я с удовольствием постараюсь для тебя. У меня возникает тогда приятное чувство, будто я - это ты или почти что ты".
Райсенберг улыбнулся: "Ты большой мастер, но, чтобы выполнить эту задачу, тебе понадобится все твое умение, весь твой ум".
"Ставлю свой глаз, что сведу его с ума, - сказал Второй слуга. - А ты что поставишь?"
"Какой глаз? - спросил Райсенберг. - Правый или настоящий?"
"Я горжусь тем, что ты снисходишь до моей болтовни, - сказал Второй слуга. - Мне доставляет удовольствие беседа с тобой. Что же касается моих глаз, то мой правый - правильный, видит только правду, врать не станет, но, если взглянет налево, обманет, где тут правда, где тут ложь, этим глазом не поймешь. Так что ты поставишь?"
"Десять процентов дохода от твоего кабачка пойдут тебе", - сказал Райсенберг.
"Двадцать", - торговался Второй.
Райсенберг добродушно засмеялся: "Хорошо, бери двадцать, попрошайка!"
"Пари заключено. А на какой срок?"
"Дерево Крабата становится каждый день вдвое больше, а твой срок уменьшается каждый день наполовину", - сказал Райсенберг, его вдруг разозлило наглое шутовство Второго слуги, и он жестом приказал ему удалиться.
Он тщательно собрал осколки разбитого зеленого кристалла. Может, когда-нибудь ему удастся размолоть эти осколки в муку и запечь их в хлеб, а потом сделать так, чтобы Крабат съел сердце своего брата. Тогда Второй слуга, мастер всяких подлогов, заставит своих писак выдумать историю, которая сделает Крабата чудовищем в глазах людей.
Вдруг Райсенберг почувствовал в груди толчок. Он посмотрел в зеркало и увидел, что его сердце, источник его силы, растет. Вместо сердца у него тоже был кристалл, желтый кристалл: всё-болыше-всегда-мало.
Слушавшего эту историю бургомистра охватило смущение, он почувствовал себя чуть ли не осквернителем праха из-за того, что задумал использовать рассказ Хандриаса Сербина для развлечения посетителей будущего ресторана "Крабатов колодец". Он запер ящик стола и отправился к Донату, каменщику и охотнику, который к тому же еще и плотничал. "Посмотри-ка, что там можно подлатать в домике на холме, и сделай это", - сказал ему бургомистр.
А в это время на холм поднялся другой, седой, холеный человек, оставив свою роскошную машину внизу. Этот человек сказал, что его зовут Брода, он врач и когда-то дружил с Яном Сербином. Хандриас Сербин смутно припомнил его историю: однажды жена Броды сказала мужу, ты пойдешь туда, куда пойду я, и он последовал за нею в поисках свободы, простора и прекрасного будущего, но будущее оказалось перекрашенным в другой цвет прошлым, а свобода и простор - тем узким тупиком, который вел к "Волшебной лампе Аладдина". И вот через много лет он заболел той болезнью, которая зовется ностальгией, и приехал на родину как турист. Он очень огорчился, что та часть Саткулы, где он мальчишкой ловил раков и форелей, была упрятана в подземные трубы. Старый дом на холме ему так понравился, что он высказал желание пожить здесь несколько дней в настоящих деревенских условиях. Он назвал Хандриаса Сербина и его жену Марию Филемоном и Бавкидой.
Филемон и Бавкида, с простотой и радушием принявшие Зевса и Гермеса, посетивших их в образе утомленных путников, получили за это от Зевса в награду одновременную смерть. Может, стареющий врач и считал себя чуть ли не богом, сошедшим с высокого Олимпа слишком дешево проданной жизни к жалким смертным, но какую милость он мог им оказать?
В ответ на его просьбу Хандриас Сербин промолчал и подумал, что по прошлому тоскует только тот, кто ничего не видит для себя впереди.
И вот, когда оторвавшиеся доски обшивки были прибиты, а директор музея сфотографировал моровой столб, чтобы в подходящую погоду подреставрировать четыре каменные фигуры, изображавшие страх и надежду, девушка из лавки зашла к Сербиным позднее обычного и не торопилась, как всегда, уходить.
Она сидела в кухне на табуретке и теребила в руках пестрые вязаные перчатки, пока Хандриас Сербин сторожил молоко, уже собиравшееся закипеть. Девушка говорила о разных пустяках, рассказывала мелкие новости, потому что крупные старикам сообщал телевизор. Молоко поднялось, и старик перелил его в белый с синими горошинами кувшин, сполоснул кастрюлю и собрался было пригласить девушку в комнату, как она сказала: "Я хотела вас кое о чем спросить, дедушка".
Посмотрев на нее, он понял, что она хочет спросить о чем-то серьезном, сел на скамеечку возле печки - сюда они прежде ставили тяжелые чугуны, в которых варили картошку на корм скоту. "Спрашивай", - сказал он.
Она перестала перекладывать перчатки из одной руки в другую и держала их теперь двумя руками, вернее, держалась за них.
"У меня есть друг, - сказала она, - мы познакомились на фестивале и провели вместе только один день. - Она на секунду задумалась. - Может быть, мы поженимся".
Но во всем, что она рассказывала, пока еще не было вопроса. Ей скоро двадцать, пусть себе выходит замуж, подумал Хандриас Сербин.
"Он из Индии", - сказала она. Письма есть письма, одно дело переписываться, а другое - увидеться, и она пригласила его сюда на две недели. Она могла бы взять отпуск и уехать вместе с ним куда-нибудь, но ведь отпуск - это как воскресенье, а разве воскресенье похоже на будни? Если она поселит его у себя - это уже будет означать, что дело почти решенное, а ее иногда все-таки берут сомнения.
"Может он у вас пожить, дедушка?"
Мудрая старость никогда не спорит с доводами правнуков, их образы мышления дальше друг от друга, чем Хандриас Сербин и страна Индия.
"Пусть приезжает", - сказал он.
Она убрала комнату по своему вкусу, привела его и осталась ночевать. Его звали Рамеш, он был очень смугл и высок, ему приходилось нагибаться, чтобы пройти в дверь. Девушка из лавки была маленькой, худенькой и очень белокожей.
- Хандриас Сербин сидел в своей кровати и ждал, когда придет сон. Он слышал ритмы любви над своей головой, сон спустился к нему и окутал его покоем, он подумал, что Сунтари - его сестра и тысячи рук из тысячи мест принесут по горсти земли.
Глава 13
Могучая ель, свободно расположившаяся посреди лужайки, дугой раскинула нижние ветви и даже безветренным вечером покачивала их, сдержанно играя своей силой. На каменистом утесе несколько высоких сосен образовали одинокую группу. Их голые стволы терялись на темном фоне дальнего леса, а верхушки, казавшиеся черными на зеленовато-пастельном небе, выстроились в строгие геометрические фигуры, причудливо, хаотически соединяющиеся. За ними с юго-запада на северо-восток медленно-медленно плыла узкая вереница рваных облаков, напоминающих буксир, тянущий баржи по реке. Редкие звезды на небе мигали, одна звезда, стоящая почти в зените, чуть к северу, смотрела вниз отчужденно и холодно.
Холодным и чужим - прежде всего чужим - было здесь все: деревянная стена хижины, к которой он прислонялся; стоявшая перед ним глиняная миска - из нее он черпал густую простоквашу; гладкая деревянная ложка в руке; ботинки на ногах, одежда на теле, сосны на утесе, ель, прохладный пьянящий воздух, но самым чужим здесь был он.
Он не считал дни и не знал, сколько времени прошло с того утра, когда он, как обычно, проснулся, может, с мыслью о поездке домой, а может, о Кристере Гёрансоне. Он сделал его родителей счастливыми, ведь Кристер этого хотел, но ему пришлось запрограммировать и самого Кристера. Возможно, в то утро он с особым нетерпением ждал, каким образом это проявится в Кристере. Внезапно, когда он брился перед зеркалом, у него вновь возникло чувство, будто он размеренно, как маятник, качается между двумя точками, которые находятся очень далеко друг от друга. Все окружающее воспринималось им по-прежнему ясно и отчетливо - это не были стремительно сменяющие друг друга картины и не раздвоение личности, - казалось, что постепенно смещаются плоскости и углы, и, хотя нельзя было уловить самого движения, а только его результат, перспектива становилась иной.
Одеваясь, он заметил, что воротник рубашки слишком свободен. Он взял другую, но и эта оказалась велика, он взглянул на размер, цифра ничего ему не говорила, пришлось пересмотреть все рубашки, чтобы определить забытый размер.
На мгновение ему показалось удивительным, что человека таким образом подгоняют под какой-то определенный стандарт, но потом он подумал, что это рационально и что различные размеры человеческого тела можно привести в систему логической зависимости друг от друга.
Он записал эту мысль и, одеваясь, отметил с холодным удовлетворением, что ботинки болтаются на ногах, а перчатки сваливаются с рук. Правда, его смутило, что шапка из выдры оказалась мала. Но потом он сообразил: все логично - мозг увеличивается, а человек усыхает. Он захотел стать Крабатом, и вот с помощью своей науки он постепенно сбрасывает с себя Яна Сербина, как старую кожу, проникает сквозь непроницаемую стену, чтобы свободно перемещаться в пространстве, в котором заключено время.
Где-то внутри, в неконтролируемой частице его человеческой сути, родилось сожаление, что он ошибся, предположив, будто возможен синтез или по крайней мере симбиоз Яна Сербина и Крабата. То ли это сожаление вызвало протест в его еще не разрушенном нравственном сознании, то ли в этот момент маятник оказался в нулевом положении, но, когда он вышел из комнаты и горничная-лапландка посмотрела на него с недоверчивым изумлением, его вдруг пронзила мысль, что, сбросив оболочку Яна Сербина, он утратил и его нравственные принципы, и невероятной силы страх и отчаяние овладели им и погасили его сознание.
Когда все это прошло, он понял, что ничего не случилось; он увидел, что находится в охотничьем домике, принадлежащем Томасу Гёрансону, где все было чужим и холодным, но он уже знал: я обладаю властью над людьми, способностью изменять их, а через них и вещи, я выбрал эту хижину, чтобы заточить в ней себя и эту мою власть, пока мы не сгнием здесь, не превратимся в травинку или в маленький проросток сосны.
На пороге хижины позади меня сидит какой-то человек, я оборачиваюсь, в руках у него блестящая труба. Почему она блестит, ведь сейчас не светит ни солнце, ни луна? "Она блестит сама по себе", - говорит человек, и я спрашиваю его: "Ты Якуб Кушк?"
"Если ты Крабат", - отвечает он.
Я - это я, мне не нужно имени, я не хочу быть Крабатом, бессильным Крабатом, который гонится за фантомом - Райсенбергом, пытаясь догнать его, но ничего не меняется и ничего не изменится, потому что Крабат - это всего лишь сказочный герой детских снов.
"Я - это я", - говорю я громко, пожалуй, слишком громко.
"Тогда я тот, кого ты хочешь во мне видеть", - отвечает человек, сидящий на пороге. Он подносит к губам свой инструмент, раздаются воющие звуки, теперь у него в руках не труба, а саксофон, его мелодии разнообразнее, объясняет человек и подмигивает.
"А ты, наверное, веселый парень?" - спрашиваю я, сам не зная зачем. Вместо ответа он бросает свой саксофон на лужайку, и она вдруг наполняется людьми - почтенными бородатыми господами в темных сюртуках и черных в белую полоску брюках и дамами в розовых и голубых платьях с рюшами и высокими затейливыми прическами. У всех в руках бокалы на длинных ножках. Какой-то господин беззвучно - видно только, как у него шевелятся губы, - произносит тост, а затем медленно и торжественно выливает содержимое своего бокала на полуобнаженную грудь дамы в розовом, швыряет пустой бокал в стоящего неподалеку господина, у которого тут же вырастают на лбу козлиные рога. Оскорбленный с ревом бросается на того, кто наставил ему эти рога. И вот уже все благородное общество завертелось в бешеной драке, слышится звон разбитых бокалов, у мужчин растут козлиные рога, дамы хватают камни, которые превращаются в торты с кремом, и кидают их. Торты летят по воздуху и залепляют физиономии с разинутыми ртами, торты уже на козлиных рогах. Дамы подтыкают длинные юбки, их высокие затейливые прически развалились, поток крема поднимается все выше и выше, дерущиеся мужчины - их руки похожи на надутые резиновые перчатки - стоят уже по пояс в креме, время от времени кто-нибудь падает, выныривает, отплевывается, выпуская изо рта радужные пузыри, огромные, как воздушные шары. Кремовый поток доходит мужчинам уже до верхних пуговиц жилетов, дамы обрывают рюши с платьев, бросаются в желтовато-молочную реку и привязывают розовые и голубые ленточки из своих рюшей на козлиные рога каждому господину, а потом тащат и тянут ленточки до тех пор, пока всех не накрывает поток крема. Из этого месива всплывают предметы туалета, они держатся на поверхности, как листья кувшинок, а обвязанные ленточками козлиные рога торчат между ними, как перископы, и всюду возникают пузыри: розовые, голубые, черные в белую полоску, иногда какой-нибудь пузырь подымается в воздух, но большинство лопается.
"Смешно, но не весело, - говорю я. - Кроме того, у меня нет никакой охоты веселиться".
"Тогда другое дело", - говорит человек. Он издает резкий свист, и крем исчезает, как будто его и не было, а на большом камне на лугу сидит сурок и свистит. А у человека опять саксофон в руках.
Я снова спрашиваю, кто он такой.
"Я частица тебя, та самая, которой не хватает тебе для совершенства, - говорит он. - Вместе со мной ты свершишь великое".
"Ну, это уж ты чересчур", - говорю я.
Он качает головой: ты разгадал загадку жизни, теперь по праву власть над жизнью в твоих руках. Кому же она должна принадлежать, как не тому, кто обладает Знанием?
Конечно, кому же еще, его аргумент убедителен. Но я должен сначала привыкнуть к тому, что я всемогущ.
"Почти всемогущ", - говорит он, читая мои мысли.
"Как тебя зовут?" - спрашиваю я.
"Букя", - отвечает он и прогоняет сурка.
"Букя, - говорю я, и мне становится смешно. - Ты мог бы зваться Помпеем. Или Помполиусом, Помполианусом, Помполианинусом..."
"Меня зовут Букя", - говорит он мягко, но настойчиво.
Я разглядываю его. Он среднего роста, не толстый и не худой, кожа у него красноватая и блестит, как глянцевая бумага. На руках только по четыре пальца, глаза - черные пуговицы и безгубый рот, как щель под острым, хрящеватым носом. Он мне противен.
Он встает и идет в домик, а может быть, еще куда-то, я не смотрю ему вслед. На том месте, где он сидел, остается грязно-желтое пятно.
Но небу с юго-запада на северо-восток медленно-медленно плыла узкая вереница облаков. Она показалась Яну Сербину похожей на саму жизнь: бесконечно медленное движение от неразличимого начала к неразличимому концу, подчиняющееся собственным законам.
Он почувствовал, что растворяется в природе, его наполнил почти радостный покой, он разжал руки, чтобы из них вытекло его почти-всемогущество. И это всемогущество впитала чужая земля, которую не чувствовали его ноги, или чужое небо, которого на самом деле не было, или сосна, которая была. И не было для него иного спасения, кроме растворения.
Вновь появился Букя, он мне не противен, я ошибся. У него обычное лицо, нос немного толстоват, он похож на Якуба Кушка, но это не Якуб, ведь я не Крабат.
Пусть он идет спать, если устал, а я не устал.
"Завтра рано утром я начну", - говорю я. Мои маленькие руки сжались в кулаки, так что побелели суставы.
"Что начнешь?" - спрашивает мягко Букя.
Я совершенно точно знаю что, но опасаюсь произнести эти слова: преобразовывать мир. "Начну работу", - говорю я.
Букя играет длинную вопросительную музыкальную фразу.
"Я знал одного человека, - рассказывает Букя, - когда ему предстояла важная работа, он накануне ложился спать раньше обычного. Но вместо того, чтобы спать - так рано ему уснуть не удавалось, - он думал о предстоящей работе, и, чем больше он о ней думал, чем темнее становилось за окном, тем труднее казалась ему задача, и в конце концов он приходил к выводу, что никогда с ней не справится, бессмысленно вообще браться за нее. Но он понимал, что все-таки возьмется за бессмысленное дело и что из одной бессмысленности возникнет целая цепь их. Потом он засыпал, и всю ночь ему снилась глубочайшая тьма, в которой нужно отыскать маленькую черную брючную пуговицу. Он просыпался разбитый и угрюмый и приступал к своей работе с таким чувством, будто он мышь, которая должна родить гору. И ничего у него не получалось".
Букя смотрит на меня искоса; правильная подготовка - это полработы, добавляет он и начинает наигрывать скачущую мелодию, на огромной ели появляются рыжие белочки, которые скачут вниз с ветки на ветку.
На самой нижней ветке они сбрасывают меховые шкурки и превращаются в девушек, рыжеволосых и очень белокожих. Они сидят на длинных раскидистых ветках и качаются. Они мне нравятся, по их белые тела кажутся слишком холодными.
Букя играет на своем инструменте какую-то мелодию, я не сразу догадываюсь, что это Стравинский, я знаю эту вещь, но никак не могу припомнить ее название, вместо этого вспоминаю, при каких обстоятельствах впервые услышал ее: я шел с Артуром Кунингасом по Понто Веккьо, были уже сумерки, но многие ювелирные лавочки еще торговали. Кунингас хотел что-нибудь купить, маленький сувенир для Джамили, она уже работала в нашем институте, может быть, он любил ее. Кунингас никогда об этом не говорил, но все замечали, что в ее присутствии он становился церемонным и даже неловким. Мы долго разглядывали витрины и обнаружили несколько чудесных вещей. Наконец Кунингас выбрал золотой крестик величиной с ноготь, украшенный шестью крошечными рубинами. Про себя я немного удивился такому выбору, но Кунингас рассказал, что у его матери был такой же маленький золотой крестик, она отдала его, чтобы ей разрешили передать мужу в лагерь посылку с продуктами и теплыми вещами. Позже от лагерной охраны стало известно, что ее мужа в это время уже месяц как не было в живых.
Мне пришла в голову мысль, что в этих и других похожих событиях его жизни следует искать причину того, почему он с такой непреклонной решимостью, которую не могли поколебать никакие аргументы, отвергал мои исследования. Я решил при случае поговорить с ним об этом. Его отрицательное отношение никоим образом не влияло на меня, но он был самым чистым человеком из всех окружавших меня людей, и мне хотелось обсудить с ним проблемы, которые возникнут, если я или кто-нибудь другой достигнет цели. Он упорно настаивал на том, что ответственность, которая лежит на биологах, требует, чтобы они прекратили генетические исследования. А разве это не означало для нас самоубийство, пока существовал Лоренцо Чебалло, вернее, пока существовали такие, как Чебалло!
Едва речь заходила об этом, Кунингас сразу становился резким. Дело не в плохом или хорошем характере человека, говорил он, а в том, что существует определенный общественный строй, при котором из любого достижения человеческого разума извлекается прибыль, и в том, что власть имущие могут использовать его во зло. Как только человечество освободится от этого, оно выбросит ваши исследования вместе с бомбой на свалку истории. Когда мы проходили мимо палаццо Питти, нас снова поразили гармоничные пропорции прекрасного здания - за день до этого мы внимательно его осмотрели, - и вдруг я стал постигать смысл многих наших парадных построек, потому что понял купца по имени Лука Питти, который непременно хотел сделать свой дворец самым красивым и роскошным во Флоренции, где господствовали Медичи: как вызов или как предвосхищение триумфа буржуа над своим господином-князем.
Мы вошли во внутренний двор палаццо - сад Боболи, и там - наступил вечер, и в саду уже горели свечи - я услышал концерт, теперь я вспоминаю, что это была "Le Sacre du Printemps" ("Весна священная", балет И. Стравинского), и балетная труппа танцевала перед маленьким египетским обелиском. Музыка и танец глубоко меня взволновали, я был захвачен вихрем чувств, вызванных разными, так сказать непараллельными, впечатлениями, которые воспринимались зрением и слухом. Эта музыка ассоциировалась в моем сознании с необузданным и воинственным Лукой Питти (наверное, он не был таким на самом деле) и одновременно с событиями, происшедшими в Петербурге в 1905 году, с восстанием пробудившихся угнетенных масс и - без всякого перехода - с эпизодом, о котором я часто слышал в детстве, о нем рассказывали просто и скупо, но теперь я увидел эту сцену так ясно, как будто пережил ее сам: два солдата ночью в рукопашной схватке в воронке от снаряда едва не убили друг друга - это мой отец и Николаус Холька; то, что они были одеты в одинаковую форму и родом из одной деревни, не имеет особого значения, лишь доводит абсурдность сцены до предела. В связи с этим эпизодом возникает в моем воображении маленький золотой крестик матери Артура Кунингаса: жопа кладет крестик в волосатую алчную лапу, а в ней уже лежит мертвый человек - его убили или заморили голодом.
Артур Кунингас нагнулся ко мне и зашептал, он был, как и я, взволнован: "Вы ищете для человека пути бегства из его человеческого состояния. Ваш путь ведет в тупик, он кончается пропастью, в которую человечество свалится и погибнет. Выживут мутанты, похожие на людей, здоровые, сильные, крепкие, умные - и еще бог знает какие, - но они будут необратимо возвращены в звериное состояние. Без возможности самоусовершенствоваться".
Я не впервые слышал от него подобные мысли и промолчал, ожидая, что сейчас он, как обычно, процитирует "Фауста", скажет, что лишь тот достоин званья человека, кто жил, трудясь, стремясь весь век, а он сказал: "Вы думаете, что вы Фауст. А на самом деле вы Мефистофель. И в этом пари вы проиграете самого себя".
Я слышал его слова, но в тот момент был не в состоянии вникать в их смысл, меня все сильнее захватывало то, что я видел и слышал, - стремление хореографа, режиссера или кого бы там ни было навязать мне с помощью танца иные ощущения, чем те, которые пробуждала во мне музыка.
Артисты почти обнажены. Белая кожа девушек отражает красный свет, который отбрасывают три костра, горящих по краям лужайки. Девушки все еще сидят на ветках ели и качаются; мужчины, разделившись за кострами на три группы, медленно, как бы в нерешительности приближаются. На их пути возникает невидимая преграда, и, соединившись в одну группу, они отходят в центр освещенного треугольника - кажется, будто они совещаются. Девушки спрыгивают с дерева и образуют хоровод, но это не круг, а тоже треугольник, в центре которого возвышается египетский обелиск. Внезапно хоровод распадается, девушки разбиваются на пары, лишь у одной нет партнерши, она, танцуя, ищет кого-то и приближается к обелиску - столбу. Вот она дотронулась до него, в страхе отпрянула, но другие девушки, все еще обнимающие друг друга, теснят ее к столбу. В такой же по форме столб сгруппировались танцоры, как тараном, пробивают они невидимую преграду, отделяющую их от девушек. Преграда разбивается, и столб врезается в дымящееся облако девических тел.
"Скучно", - говорю я, оркестр умолкает, и под елью стоит Айку, она обнажена и, поднявшись на цыпочки, старается ухватиться за самую нижнюю ветку.
Я окликаю ее. Она приближается и останавливается передо мной, улыбаясь и поддерживая руками грудь.
Я касаюсь девушки. Она отшатывается: ты холоден.
Я холоден, потому что вижу статую, это не шедевр, у нее низкая грудь, острые ключицы и слишком плоский живот.
"Ложись на нее", - говорит Букя.
Зачем мне ложиться на нее, ведь я мозг, зачем мозгу женское лоно. Я вижу буксир, тянущий баржи облаков, но, если смотреть сверху, облака не похожи на баржи, они напоминают лежащую девушку с развевающимися пепельными волосами. Медленно поворачивается мне навстречу земля, и на той половине, где ночь, видны темно-красные разгорающиеся точки костров, а на той половине, где день, - черный стелющийся дым.
"В твоих руках власть", - говорит Букя.
В моей власти погасить огненные точки.
Я указываю на одну из горящих точек.
Там каменистая полупустыня, кое-где растут пыльные кактусы. Они выше человеческого роста, один куст поблизости от меня цветет, его розовато-красный цветок величиной с тарелку на небольшом зеленовато-желтом стебле увядает на моих глазах - лепестки сохнут, чашечка постепенно сморщивается, становится некрасивой и жухлой.
На востоке голые скалы упираются в яркое безоблачное небо, у подножия гор - селение или маленький городок, над ним возвышаются две огромные круглые, похожие на силосные, башни из алюминия, впрочем, может быть, лишь внешняя оболочка из этого металла. В городе неспокойно, повсюду собираются группы встревоженных, возмущенных, разгневанных людей, руки сжимаются в кулаки, слышны проклятья и угрозы, толпа скандирует, выкрики ударяют в грязные, желто-коричневые фасады домов с маленькими окошками. На перекрестках клубится пыль.
Площадь перед ратушей бурлит, волнение грозит перерасти в восстание, с балкона перед толпой выступает бургомистр, и громкоговорители разносят его речь по всей площади, слова разбиваются о каменные стены и исковерканными падают в толпу.
У дверей одного дома какой-то человек старается, насколько возможно, спрятаться в тень. Я спрашиваю его, что здесь происходит. Он представляется мне, как "водный инспектор", и из его слов я узнаю, что в его ведении находится какой-то, водопроводный кран. Обе круглые башни служат цистернами для воды, они снабжают весь город и принадлежат, как объясняет этот человек, "шефу". До полуночи ведро воды стоило один талла, теперь шеф поднял цену в четыре раза, а когда люди отказались платить, приказал закрыть краны.
Водный инспектор осторожно высказывает свое мнение: четыре талла - деньги немалые, но, с другой стороны, у шефа, видимо, есть причины для повышения платы. Бургомистр обещает начать с ним переговоры.
Но люди на площади не хотят переговоров, они грозят, что возьмут башни штурмом и утопят шефа в его собственной воде.
Букя, кажется, находит все это забавным, бургомистр вызвал полицию, сообщает он. Полицейские с водометами и легкими бронированными машинами широким кольцом окружили дом шефа. Водяные цистерны не нуждаются в охране, они надежно защищены проволокой, по которой пущен ток высокого напряжения.
На меня и Букя полиция не обращает внимания, и мы беспрепятственно подходим к вилле шефа. Она огорожена стеной выше человеческого роста. Виллу окружает необычайной красоты сад, огромный, как парк. "Мне кажется, он похож на Никитский сад в Ялте", - говорю я.
"Ты прав, - отвечает Букя. - Таким он был во времена, когда Толстой..." Он обрывает себя на полуслове; я останавливаюсь и пристально смотрю на него: откуда он знает, как выглядело что-то во времена Толстого? Он улыбается и говорит: шеф вон там.
Шеф - человек моего возраста, у него густые седеющие волосы, он ведет за руку маленькую девочку, которая держит в руках корзинку. Такие корзиночки носят в католических странах дети, разбрасывающие цветы во время праздника Тела Господня. Только вместо цветов у девочки в корзинке белый хлеб.
"Добрый день! - говорю я. - Я хотел бы с вами познакомиться, и как можно ближе".
"Убирайтесь!" - говорит он.
"Для вашей же пользы", - говорю я.
"Сколько процентов?" - спрашивает он.
"Девять", - отвечаю я наугад, я родился девятого числа.
"Лиана, дитя мое, - говорит шеф девочке. - Поди пока поиграй. Мы покормим твоих уточек попозже".
Девочка в коротеньком белом платьице в голубой горошек делает мне книксен и послушно уходит, кажется, немного огорченная.
"Она немного огорчена, - объясняет шеф. - В этот день мы всегда вместе кормим ее китайских уток. Вторник, знаете ли, у меня детский день. Я довольно поздно женился. Она у меня самая старшая".
Дружелюбно, но лениво разговаривая, он ведет меня на приятно затененную высокими деревьями террасу, расположенную на задней стороне дома. Он предлагает мне кресло, отсюда хорошо виден парк, полого поднимающийся вверх. Это настоящее буйство пышной сочной зелени - невозможно себе представить, что находишься в желто-сером городе, покрытом пылью, как коростой.
"В городе восстание", - говорю я.
Появляется слуга с сервировочным столиком.
"Виски или фруктовый сок? - спрашивает шеф, и, когда я выбираю виски с соком, он добавляет: - Я, с вашего разрешения, только сок, в это время дня я не употребляю алкоголя".
"Восстание, - повторяет он, - я надеюсь, бургомистр знает, что ему делать. Вы из прессы?"
"Это я из прессы", - вмешивается Букя и точно воспроизводит характерную для журналиста мину, в ней нагловатое всезнайство и знающая пределы пронырливость. Шеф подзывает слугу: "Выведите этого человека вон".
Букя, не сопротивляясь, дает себя вывести, это меня удивляет.
"В детский день я не хочу видеть газетчиков, - объясняет шеф, - и не хочу слышать о делах. - Надеюсь, вас привели ко мне не дела?"
"Вы в четыре раза повысили цену на воду", - говорю я с нажимом.
"Несколько недель не было дождя, и все метеорологи предсказывают, что лето будет очень засушливым, - отвечает шеф, - спрос на воду стремительно возрастет".
"Я понимаю. Вы хотите приучить людей бережно обращаться с водой?"
Он смеется: "Это их забота. Я хочу, чтобы они платили мне четыре талла".
Он откидывается назад и отпивает глоток фруктового сока рубинового цвета. В моем бокале жидкость изумрудно-зеленого цвета и чудесного вкуса.
"Если вы опасаетесь нехватки воды, зачем вы так ее расходуете в вашем саду", - спрашиваю я.
"Я опасаюсь нехватки воды? - В его голосе удивление. - Мои источники абсолютно надежны".
"И приток воды постоянен?"
"По меньшей мере!"
Вновь появляется Букя, его никто не прогоняет. Он стоит у меня за спиной. "Не делай такого глупого лица, - шепчет он мне, - шеф не выносит глупости". "Но зачем же вы тогда повышаете цену?", - спрашиваю я и пытаюсь сделать лицо, как у математика, который объясняет ученику младших классов, что такое нуль и бесконечность. Маленькая девочка Лиана выходит из дома и тихонько подходит к нам. Шеф вздыхает, его вздох относится не к дочке, а ко мне.
"Может быть, вы интересуетесь утками?" - спрашивает он.
Меня интересует он, даже когда кормит уток. Девочка берет нас за руки, и мы идем. Букя усаживается на стол и играет на своем саксофоне мелодию из Седьмой симфонии Бетховена: он пародирует общий настрой, педалирует не те места, что надо, вставляет даже мелодии детских песенок.
Шеф возвращается к моему вопросу.
"Во-первых, потому, что, как я уже сказал, возрастает спрос, - отвечает он мне устало, сдерживая раздражение. - Во-вторых, потому, что владелец источников - мы с вами их посмотрим, - по всей вероятности, не сегодня-завтра потребует полталла себе. Бургомистру тоже придется дать полталла, в противном случае он не может гарантировать охрану моего имущества. Услуги полиции тоже не обходятся даром, и в конце концов резко возрастут все цены, начиная с хлеба и кончая водой, необходимой для моего сада. Поверьте мне, все скалькулировано с точностью до одного пфеннига, и в этих условиях я не уверен, что смогу сохранить бесплатное водоснабжение больницы".
Вопрос о снабжении водой больницы, кажется, и впрямь тревожит его.
Утки плавают в бассейне причудливой формы, облицованном белым туфом. Завидев маленькую девочку, они так громко крякают, что я не слышу ни мелодии, которую играет Букя, ни слов шефа, но по его жестам догадываюсь, что он представляет мне любимцев своей дочери, называя по-латыни породу каждой утки и ее цену. Возможно, что те цифры, которые я все же разбираю, относятся к краскам оперения или к численности потомства у одной парочки.
За зеленой в два человеческих роста бамбуковой стеной, окружающей бассейн с трех сторон, - площадка для гольфа, там стоит вертолет. Шеф в нерешительности переводит взгляд с вертолета на свою прелестную дочку, кормящую уток.
Я смотрю на хлеб: маленькие розовые ручки вынимают его из корзиночки, кусочки хлеба летят по воздуху, падают в прозрачную, как стекло, воду и исчезают в клювах великолепных уток.
Хлеб станет дороже, думаю я, потому что станет дороже вода. Подорожает все, что нуждается в воде: салат, рубашка, билет на поезд, почтовая марка, футболисты, тореро, бургомистр, молоко, слуга шефа: а раз слуга, то и ложь; а раз рубашка, то и любовь; раз бургомистр, то и смерть; и раз салат, то и правда. И поскольку цены вырастут, шеф скажет: в таком случае должна подорожать и вода, и вода снова станет дороже, и еще больше будет стоить хлеб, и голубые горошины на белом, платьице маленькой девочки, и холодный пот, и ночные заботы, и проклятье, и глупость, и шеф, невероятно дорогим станет шеф.
Подешевеют только люди: бургомистр, тореро, футболист, полицейский, дешевой станет человеческая жизнь, но жить будет дорого.
Я решил вмешаться и сделать так, чтобы людьми управлял разум. Букя соскакивает со стола и одним прыжком оказывается рядом со мной.
Мы набираем высоту, Букя в фуражке пилота с золотым кантом небрежно управляет машиной, зеленый цветущий парк под нами становится все меньше, он кажется еще прекрасней на фоне грязно-серого города.
Мы видим водометы полиции в действии: водой, вытекающей из четырех бассейнов для водоплавающих птиц и из отделанного розовым кафелем плавательного бассейна, разгоняют людей. Сверху это выглядит смешно, кажется, что люди широко раскрыли рты от смеха.
Маленькой девочке тоже разрешили лететь, ведь сегодня у шефа детский день, и он с удовольствием замечает, что она всерьез интересуется всем, что под нами.
Мы видим две гигантские цистерны посреди ровной, залитой бетоном площадки, электрическую ограду в форме огромного туннеля, напоминающего проход, который ведет с циркового манежа в клетки диких зверей: эта ограда поднимается в гору и служит защитой для двух покрытых асбестом труб.
Девочка задает разумный вопрос: почему трубы не лежат под землей, ведь так было бы надежнее. Шеф хвалит дочку за сообразительность. "Трубы, что лежат над землей, пусты, вода течет по другим, подземным. Но если случится землетрясение, а они здесь бывают часто, подземные трубы могут выйти из строя, и, чтобы город не остался без воды, я проложил другие трубы, надземные", - объясняет он дочке. Теперь девочка хвалит отца, и он радуется.
За первой горной цепью простирается мертвая долина. Когда вертолет снижается, я вижу следы растительности, засохший лесок, голые, лишенные веток стволы деревьев, кактусы на прямоугольном участке, видимо, когда-то это было орошаемое поле, об этом свидетельствуют высохшие, наполовину обвалившиеся оросительные каналы и сломанное черпальное колесо. Валяется старый плуг, похожий на издохшую скотину.
В тени выступа, по форме напоминающего нос и разделяющего долину на две части, смотрит на нас двумя большими дырами в крыше разрушенный, грубо сколоченный дом. Мы огибаем выступ, и маленькая девочка от изумления хлопает в ладоши, потому что она видит нечто, вблизи напоминающее ее собственный дом, каким он выглядит с большой высоты. Конечно, здесь нет ни прудов для уток, ни фонтанов, невелик плавательный бассейн, и все в целом меньше, чем площадка для гольфа у ее отца.
Мы кружим, потому что девочка никак не может насмотреться, она сравнивает то, что видит, со своим домом, здесь все миниатюрнее, а чего-то совсем нет, она перечисляет каждый предмет, какого здесь не хватает, и то, что внизу стоит вертолет такой же, как и тот, в котором мы летим, разочаровывает ее и даже обижает.
Шеф улыбается и рассказывает, как все было: город страдал от нехватки воды, колодцы иссякли, городу грозила смерть. Я поднялся в горы и нашел эту долину, где, перебиваясь с хлеба на воду, жили две крестьянские семьи. В изобилии у них была одна вода, прекрасная, чудесного вкуса питьевая вода. Они орошали ею свои жалкие поля. Источник принадлежал им совместно, а долина пополам. Я целыми днями наблюдал за похожим на колодец источником: сколько бы из него ни черпали, уровень воды оставался неизменным. Заплатив каждому крестьянину по два талла, я получил разрешение пробурить в долине десять скважин. Бурение прошло успешно, оказалось, что вся долина представляет собой тонкую каменистую корку, покрывающую озеро с пресной водой.
Я предложил владельцам контракт на право пользования на девяносто девять лет, один из крестьян понял свою выгоду, другой был упрям и ограничен. Еще до завершения наших переговоров тот, что оказался несговорчивым, погиб в результате несчастного случая; его жена утверждала, что это было убийство, она отправилась в город, чтобы возбудить дело против своих соседей. Но прежде чем она достигла горного перевала, ее случайно застрелил один незадачливый охотник - тот самый, который теперь у нас водный инспектор. Во время расследования, которое проводилось мною вместе со вторым крестьянином, он сумел доказать свою невиновность. Я похоронил женщину рядом с ее мужем, и, чтобы искупить свою вину, охотник установил плиту на их могиле.
Теперь источник принадлежал только одному крестьянину, и мы с ним быстро поладили. Я протянул трубы, город был спасен, и с той поры крестьянин живет, как маленький король.
"Город должен поставить тебе памятник", - говорит девочка.
"Люди - странные создания, дитя мое", - невесело говорит шеф. Вид у него подавленный, может быть потому, что водометы не помогли и полиции пришлось пустить в ход пулеметы. Скрючившись, лежат убитые на улице, что ведет к вилле.
Я достаточно изучил шефа. Характер у него неплохой, ошибка сидит где-то в мозгу.
Букя кивает и неожиданно начинает говорить так, будто стоит за профессорской кафедрой: ошибка всегда связана с мозгом, плохой характер зависит от того, что мозг не в порядке, но мозг можно исправить, ведь в твоих руках власть. В мире нет порядка, но это дело поправимое, если исправить мозги, а это в твоей власти.
В моих руках власть, и я исправлю мозг шефа, он даже не заметит этого, и с завтрашнего утра станет разумным человеком, а послезавтра в этом городе будет порядок.
Потому что сила твоя и слава твоя, говорит Вукя, - и это воистину так: я открыл Великое ДДТ, посыпаю им Зло и уничтожаю его.
Мне смешно, что я думал, будто мал и слаб, я Геракл, и я отсеку все головы на змеином теле гидры, а обрубки прижгу не горячими стволами деревьев, а разумом, и ни одна змеиная голова не вырастет снова.
Я соединяю в себе власть и разум, и, когда я свершу то, что предначертано, я устрою Новые Олимпийские игры, и, кто бы ни победил в состязании, для всех будет подниматься одинаковый флаг: из светло-серого блестящего шелка со сверкающей голубой звездой - нашей землей; и Смяла - Дева Счастливого Смеха увенчает победителей лаврами, и на ее плече не будет клейма Райсенберга. И в мире не будет страха. Останется разве что страх влюбленного перед расставанием.
Мне смешно, что я думал, будто мал и слаб.
Букя выносит из домика телевизор. Это парадоксально, но я отчетливо вижу все в целом, а мелкие детали попадают в поле моего зрения, только если оказываются непосредственно перед глазами, как теперь в телевизоре.
Сначала на экране сплошной туман, наконец из волн и полос возникают лица, удивленные, неверящие, испуганные, придурковато-насмешливые, готовые озлобиться, если выяснится, что с ними разыгрывают глупую шутку, все лица повернуты к трибуне, на которой стоит Кристер Гёрансон и говорит. На экране видно, как он говорит, но не слышно, что он говорит, - слышен комментарий другого, невидимого человека.
Оп говорит медленно и с удовольствием, эта история развлекает его, и он хочет, чтобы телезрители развлекались вместе с ним:
Нам явился новый святой, Иисус, но не тот, о котором так прелестно поется в последнем шлягере: Jesus, I love you, I'm your fan, oh Sir... (Иисус, я люблю тебя, я твой поклонник, о сэр... (англ.)) нет, это не достойный любви и не любящий Иисус, а настоящий красный мессия - жестокий разрушитель и осквернитель храмов.
Этот человек вдруг пришел к убеждению, что он гнусный капиталист, эксплуататор, раковая опухоль на теле общества, и теперь он хочет удалить эту опухоль - самого себя - и стать бедняком.
Конечно, конечно, говорю я, блаженны нищие духом, но возникает вопрос, не является ли этот человек... впрочем, об этом еще слишком рано спрашивать.
Другой вопрос возникает у простого человека, наблюдающего эту сцену: хозяин дарит рабочим свои предприятия - они производят девяносто восемь процентов промышленной продукции города. Слова и выражения, которые он использует, нам очень хорошо известны благодаря Марксу и всем его последователям. Итак, этот человек раздаривает все - как же дорого ему за это платят?
Я сказал: Иисус. Но Иисус в таком случае облачился бы во власяницу, обул ноги в деревянные сандалии, питался бы плодами лесов и полей, запивая их родниковой водой.
А этот, хотя и создает на своих предприятиях коммуну, оставляет за собой кресло шефа и, конечно, оклад шефа, а рабочий Свенсон, или Йохансон, или Сёдерблом снова будет пересчитывать свои гроши в получку, ему не прибавится нисколько, хотя он как будто стал совладельцем - и так далее. Зато теперь он не может бастовать. Кто же устраивает сам себе забастовку, говорит наш Иисус - Герансон.
Эта песенка нам хорошо знакома, и мы знаем, кто написал для нее ноты.
Но тут встает вопрос - я обошел его в самом начале, но все же он должен быть поставлен в интересах общества, и прежде всего в интересах рабочих и служащих предприятий Гёрансона, имеющих право на социальную защиту, - вопрос, который нам не так легко и просто задать, он столь тяжел, что под его тяжестью можно сломиться, вопрос к другому человеку: как помешать осуществлению этого - напрашивается слово "преступного" - плана?
Голос комментатора смолкает, камера ищет другого человека, скользит по глуповато-озабоченным, испуганно-вопрошающим лицам толпы, все время одни и те же лица, пять или десять, остальные в тумане, и вот на экране возникает стерильный белоснежный кабинет; у врача, сидящего за письменным столом в белом халате, широкое, меланхоличное лицо и очки, а перед ним в темном костюме Томас Гёрансон, на его лице следы перенесенных страданий, но он сохраняет выдержку.
Комментатор продолжает: "Этому человеку досталось самое тяжкое, что только может выпасть на долю отца. Он заслуживает нашего глубочайшего уважения, потому что чувство ответственности перед обществом заставило его принять это решение".
Голос комментатора дрожит, он глотает слезы, он растроган и полон сострадания.
Камера следует за Томасом Гёрансоном, который отправляется домой и там садится за орган, склонив голову. Его руки - узкие, с длинными пальцами, на правой широкое обручальное кольцо - машинально и бессильно опускаются на клавиатуру, и словно издалека возникают первые звуки, они нарастают, черпая силу в самих себе, и наконец выстраиваются во вступительную тему к Страстям по Матфею, а обретя в ней опору, уже увереннее выливаются в гениальный псалом мессы си минор.
Звучит Иоганн Себастьян Бах, его "Господи, помилуй" сопровождает четырех человек в белых халатах, один из них тот самый меланхоличный профессор психиатр, которого мы видели раньше, они входят в дом, поднимаются по ступенькам наверх, видны только их ноги, из них три пары в крепких, но стоптанных казенных ботинках. Ноги шагают торопливо, распахивается дверь, ботинки устремляются через порог. Псалом звучит щемяще и тоскливо, и шприц впивается в человеческое тело.
Сильные волосатые руки поднимают носилки, наплыв, и на экране руки, играющие на органе, все еще звучит "Господи, помилуй", звучит до тех пор, пока не захлопывается тяжелая дубовая дверь портала.
На экране долго - целую вечность - тяжелая дубовая дверь портала: она навсегда захлопнулась за Кристером Гёрансоном, которого я сделал разумным, а его родителей счастливыми.
Я смотрю на портал, не воспринимая того, что в заключение сообщает комментатор: Томас Гёрансон взял на себя управление гёрансоновскими предприятиями вместо своего сына Кристера, у которого помрачился разум. Человек побеждает судьбу, принимая ее вызов.
Светлый экран. Изображения нет, теперь все в курсе дела.
"Но как же шеф?" - с трудом выговариваю я.
"Шеф?" - переспрашивает Букя, делая вид, будто он никогда не слышал о таком человеке.
"Да, шеф!" - кричу я.
"Ах, тот самый шеф, продававший воду, которого ты сделал разумным, - припоминает Букя и сочувственно пожимает плечами. - К сожалению, с ним произошел несчастный случай. У полицейского джипа лопнула передняя шипа, автомобиль въехал на тротуар, четверо пешеходов были ранены, один из них смертельно. К несчастью, это был тот самый, которого ты... Но теперь у них снова есть шеф: начальник полиции женился на вдове погибшего, вода опять стоит четыре талла: очень больших затрат потребовали похороны, пришлось купить две новые бронированные машины с пулеметами для обеспечения законной системы водоснабжения города".
"Однако, - говорит Букя, и в голосе его звучат ноты искреннего сочувствия, - памятник, о котором мечтала его маленькая дочка, город ему поставил. Очень красивый памятник".
Мы долго молчим.
Потом я спрашиваю: "Что такое человек, Букя?"
Букя отвечает: "Человек - это иллюзия для создания иллюзий, снабженная механизмом агрессии, направленным против себе подобных, и вследствие этого уникальная. Гениальное, но ошибочное направление развития. Он скоро добьется своего".
"Чего добьется?" - спрашиваю я.
"Устранит самого себя из этого мира. - Букя улыбается, ему в голову пришла забавная мысль. - Без человека мир был бы вполне сносен", - объясняет он.
Я хватаю камень и хочу бросить его в Букя. Но камень чересчур тяжел, он падает мне на ногу.
"Даже самый лучший мозг, - говорит Букя, насмешливо или задумчиво, трудно разобрать, - все-таки страдает от человеческого, пока он еще связан с телом. Только чистый мозг был бы совершенно свободен от аффектов. Подумай-ка, ведь у него нет семьи, он не принадлежит ни к одной национальности, ни к одной расе, ни к одному классу, он был бы воплощением чистого разума. Ведь это твоя цель!"
Он прав, но я не хочу с ним соглашаться. Пока я человек, я с ним не соглашусь.
"Человек только в том случае является человеком, если он старается преодолеть в себе низменное!" - кричу я.
"Браво!" - раздается чей-то голос: охотник в зеленом костюме идет к нам по лужайке. Я узнаю его, это тот самый писака, который на визитных карточках и на почтовой бумаге именует себя поэтом.
"Браво! - повторяет он и усаживается против меня на большой камень. - Человек действительно достоин звания человека лишь в том случае, - говорит он взволнованным, но менторским тоном, - если он помогает человечеству подняться на свою собственную ступеньку, причем сам он всегда должен карабкаться на ступеньку выше".
Он задумывается, можно ли в данном случае употребить слово "карабкаться" и достаточно ли точно оно отражает его мысль, потом кивает: да, карабкаться, потому что это слово выражает и напряжение, и стремление вверх.
Он прислоняет к камню свое отделанное серебром ружье, достает из кармана зеленой шерстяной охотничьей куртки синюю записную книжку величиной с осьмушку листа - в такие школьники обычно записывают слова - и заносит туда свою мысль.
"Дорогое ружье", - говорю я.
"Пушка, - поправляет он, - у нас говорят: пушка, когда..."
Меня не интересует, как называются различные механизмы, предназначенные для убийства, и я спрашиваю его: "Вы любите ходить на охоту?"
"Охотиться", - поправляет он и заканчивает процесс фиксирования в записной книжке своей мысли.
Я слышал, что люди, которые постоянно заносят свои мысли или зачатки мыслей в записные книжки, либо обладают плохой памятью, либо относятся к себе с очень большим почтением. Мне интересно, к какой категории принадлежит он. Он замечает мое любопытство и неверно его истолковывает.
"Конечно, такая тетрадочка может потеряться, - объясняет он. - Есть клептоманы, ворующие мысли, существуют и страстные коллекционеры подобных записей. Например, недавно на одном аукционе четверть миллиона выложили за автограф Софокла. У меня уже сто тридцать семь тетрадей, полных мыслей".
Он смотрит мимо меня вдаль, вероятно умножает четверть миллиона на сто тридцать семь. Результат его удовлетворяет, он улыбается и рассказывает: дома я записываю свои мысли на магнитофон, так они будут сохраннее.
Я беру в руки отделанное серебром ружье и повторяю свой вопрос: "Вы любите ходить на охоту?"
"Я очень люблю охотиться", - отвечает он, и я замечаю, что от волнения он начинает косить.
Почему?
Он поворачивается к Букя и подзывает его хорошо заученным, еле уловимым жестом. "Как зовут вашего слугу?", - спрашивает он.
Вместо меня отвечает Букя: "Кшук".
"Кшук, - повторяет охотник, - это звучит очень по-восточному", - говорит он мне или себе. Он обращается к Букя: "Принеси мне стакан воды".
Букя застывает в лакейской позе. "Водки?"
"Я сказал: воды, - резко повторяет охотник и вновь обращается ко мне: - Вы знаете, у меня аллергия к этой теме, я терпеть не могу всю эту однообразную болтовню о капитализме. Разумный предприниматель сегодня так же мало похож на эксплуататора, как ремесленник средневековья, когда царили патриархальные нравы. Дело в характере человека".
Букя приносит воду.
"Болтовня от постоянного повторения не становится правдой", - говорю я.
Охотник поперхнулся, Букя стучит его по спине. Отдышавшись, он решает истолковать мою последнюю фразу как подтверждение собственных слов. Откашлявшись, он продолжает: "Почему я люблю охоту... Представьте себе, стою я в засаде, и на меня выходит могучий олень, на рогах, ну скажем, шестнадцать концов. Вы знаете, что это за чудо?" Охотник смотрит на меня с восторгом, как будто этот олень - я. "Вот где мощь и красота, - говорит он, - кровь и почва. Этот олень у меня на мушке, он прямо передо мной, стоит только согнуть палец и... Понимаете, он у меня в руках, да что я говорю! Мне достаточно пошевелить пальцем - в моей власти уложить его или отпустить. Это чудо, этот великолепный экземпляр..."
"А я вас видел однажды, - говорю я. - Вы сидели за штурвалом истребителя и охотились за моим другом, это было в Нормандии, летом сорок четвертого года, нас было только трое: вы в воздухе, он на окруженном изгородью выгоне, а я во рву, под крошечным мостиком, меня вы не заметили.
У моего друга был опыт, четыре года войны и до этого пять лет лагеря. Но вы выискивали его за каждым кустиком, за мертвой коровой, в пруду, где поили скот. Я мог разглядеть ваше лицо, когда вы, как ищейка, выслеживали его в десяти метрах от земли: вот олень, а вот вы. Сколько раз вы согнули палец, пятьдесят, сто раз? Пока не уложили моего друга.
А помните, что вы сделали после этого? Вы сделали мертвую петлю от радости".
Но он не слушал меня, возможно, эта история произошла и не с ним.
Его история, может быть, висит, как флаг - символ власти, - высоко на старой сосне у края вырубки. Светит солнце, пахнет смолой, прислонившись к стволу дерева, спит охотник с отделанной серебром "пушкой" в руках, он на несколько километров углубился в чужое лесничество и заблудился. Лесник, обнаруживший его, думает, что перед ним браконьер, он не замечает хищного флага власти, обрывок которого висит на дереве. Это его вина, и за это он должен заплатить кусочком самоуважения или собственного достоинства величиной с сердце, или как иначе можно назвать то, что он выдавливает из себя, становясь на колени перед браконьером и прося его о прощении: у меня жена и ребенок, о господин, и я не знал...
Браконьер или охотник позволяет себя умолять и упрашивать и заворачивается во флаг власти, как в плащ. На плаще написан номер телефона секретаря того человека, которого некоторые считают могущественнее короля. "Я прощаю вам, - говорит браконьер, - но пусть это послужит вам уроком, и в будущем обращайтесь с людьми по-человечески".
Он завороженно вслушивается в свою последнюю фразу. Букя, прислонившись к стене дома, ухмыляется.
У охотника, видимо, глаза на затылке, он замечает это и говорит мне: послушайтесь моего совета, гоните прочь этого типа, и чем скорее, тем лучше. Он поднимается и вешает на плечо свое ружье. Он смотрит на меня внимательно, испытующе. "Пойдемте со мной, - говорит он. - Тут неподалеку вверх по течению ручья есть луг. Там пасется косуля, я предоставлю ее вам".
"Не пасется там косуля, - вмешивается Букя, - там лежит труп животного, которого вы недавно подстрелили".
Лицо охотника наливается кровью, глаза косят: ложь, хрипит он и уходит, тяжело переваливаясь. На краю лужайки он оборачивается и кричит что-то, звук его голоса отскакивает от деревьев, и я слышу: арь, арь.
"Что он кричит?" - спрашиваю я.
"Он призывает на твою голову секретаря, - говорит Букя и спрашивает: - ну что будем делать дальше?"
"Не знаю", - отвечаю я.
Букя кивает. Не знаю - лучшее место на свете, я однажды там побывал. На дороге я встретил девушку, от которой голова шла кругом. Я спросил: куда ты идешь? Не знаю, ответила она. Я спросил, куда ведет дорога, она пожала плечами, не знаю. Я сел на обочину и спросил, зачем же ты по ней идешь? Не знаю, сказала она и остановилась. Она внимательно посмотрела на меня и сказала: мы могли бы заняться любовью. Зачем, спросил я. Не знаю, просто так, сказала она, мы можем остаться здесь. А потом, спросил я. Не знаю, сказала она, может, мы умрем. Для чего умирать, спросил я. Она легла рядом со мной на дорогу. Не знаю, для чего жить, сказала она. Не знаю - самое приятное место, которое я знаю.
Я пробую встать, но ноги мои слишком тонки и слабы, чтобы выдержать меня - Большой Мозг.
"Зачем ты отпустил его?", - спрашивает Букя и показывает в том направлении, куда исчез охотник.
"Его мозг в порядке", - говорю я.
Букя берет свой саксофон. Звуки кувыркаются, как будто ходят на руках. Они причиняют мне боль.
"Все идет кувырком", - кричу я и затыкаю себе уши.
Букя откладывает свой инструмент в сторону, ты это понял наконец, замечает он. А как же с нравственностью от разума - разве это не твоя программа?
Я молчу. Я не сдамся, пока во мне есть хоть частица человеческого.
"Ты должен был все-таки превратить охотника во что-нибудь, - говорит Букя задумчиво, - может быть, в гнома. Или в круглого дурака. Ведь это он упрятал Сигне Гёрансон за решетку", - добавляет он.
Я не знаю Сигне Гёрансон, может, она провозила контрабандой гашиш или застрелила своего любовника, у богатых ведь не так много возможностей.
"Она публично обвинила охотника в том, что своими книгами он вводит людей в заблуждение, - говорит Якуб Кушк. - Ведь это он был водителем автобуса, который гулял с нами по парку Свободного Выбора и показывал всех - от ловца угрей до мастера кнута и пряника. У неё должен родиться ребенок".
"В тюрьме?" - спрашиваю я.
Якуб Кушк качает головой. Она на свободе.
Он подносит к губам свою трубу и играет на ней странную мелодию, кажется, будто звуки карабкаются с большим трудом друг другу на плечи.
Иногда они соскальзывают, падают и снова начинают карабкаться.
Глава 14
В списке вполне земных "чудотворцев", выручавших бургомистра из разных бед, одолевавших его на трудном посту, значился и один писатель. Правда - хотя об этом никогда не говорилось вслух, даже намеков таких не высказывалось, - он внушал подозрение, ибо в его книгах чистая правда так тесно переплеталась со свободным вымыслом, что отделить эти составные части официальным инстанциям никак не удавалось. С другой стороны, писатель иногда приносил практическую пользу, например, он написал стихи в честь открытия нового флигеля местной больницы.
Не посвящая писателя целиком в свои планы, бургомистр - он собирался привезти Хандриасу Сербину магнитофон, чтобы старик записывал свои истории для будущих посетителей ресторана "Крабатов колодец", - стал расспрашивать его, как в этом случае правильно связать поучение с развлечением, ведь и то и другое необходимо, "Человек любит посмеяться, - сказал при этом бургомистр, - но умный и смеется по-умному; и хотя говорят, что, если есть рыбу, ума прибавится, но по-настоящему верят в это только жители Залова".
Раньше, когда все речки еще были богаты рыбой, в Саткуле ее водилось особенно много, а больше всего там, где на обоих ее берегах раскинулась деревня Залов.
Но деревня возникла на этом месте не потому, что рыбное богатство обещало заловцам сытное житье, нет, это сами рыбы плотно набились в мелкую речушку, когда узнали, что жители Залова занимаются рыбной ловлей собственным, очень странным способом.
Однажды заловский староста, очень деятельный и мудрый человек, простояв с утра до вечера рядом с рыболовом, обнаружил, что тот ничего не поймал.
Когда рыболов стал складывать удочки, староста спросил его: "Ты просидел здесь весь день и ничего не поймал. Почему?"
"Потому что рыба не клюет", - ответил рыболов.
Староста задумался. "Ты прав, - сказал он, - я видел собственными глазами, что она не шла на крючок".
В глубоком раздумье староста отправился домой и, придя, уселся в свое кресло. Во втором часу ночи он разбудил служителя общины, написал записку и, прикрепив ее к дубовому жезлу, приказал немедленно обойти с этой запиской все дома. Для верности - поскольку служитель общины и в обычное время читал плохо, а в такой час вообще ничего не мог разобрать - староста заставил его повторять написанное до тех пор, пока не убедился, что его послание если не все увидят, то хотя бы услышат.
Послание гласило: "Все жители деревни, которые не носят юбку, в возрасте от четырнадцати до восьмидесяти одного года, если они еще не умерли и не похоронены, должны без проволочки, натянув штаны и протерев глаза, явиться на двор к старосте".
Когда все явились, староста обратился к собравшимся с речью: "Из-за постоянного соседства с нами рыбы в Саткуле поумнели и не попадаются на удочку, потому что знают, что у наших удочек есть крючки. Если мы срежем крючки, то перехитрим рыб, и у нас будет богатый улов. Тогда все сковородки и кастрюли в нашей деревне благодаря мудрости вашего старосты будут полны рыбой. Поэтому давайте сразу же возьмемся за дело".
Он направился к речке, а за ним двинулись все жители Залова, знавшие, какого деятельного и мудрого человека они избрали в старосты. Поэтому они последовали за ним без возражений и забросили свои удочки, на которых не было крючков, в Саткулу. Они, правда, ничего не поймали, но через некоторое время заметили, что их речка наполняется рыбой, и сказали: пускай мы ничего не поймали, зато в нашей речке теперь гораздо больше рыбы, чем прежде, и да здравствует наш староста!
Когда слава о мудром старосте поплыла и вверх по реке, Крабат сказал: раз его так хвалят, значит, он заслужил, надо бы познакомиться с этим старостой. Но Якуб Кушк заметил: там, где один человек думает за всех, любую его глупость встречают колокольным звоном, поэтому в церковь с такими звонарями и ходить не стоит. Но все же закинул за спину кожаный мешок с трубой и отправился в путь вместе с Крабатом.
Когда они пришли в Залов, все жители деревни усердно трудились - строили по указанию старосты общинный амбар для зерна. Каждый принесет туда десять мешков зерна, чтобы у нас были запасы на черный день, сказал староста, и жители Залова начали складывать толстые стены из нетесаных камней, ничем не скрепляя их.
"Вы забыли сделать дверь", - заметил Крабат.
"Все хорошо продумано, - ответил староста. - Туда, где нет дверей, не влезет вор".
"А как же вы без дверей сами туда войдете?" - спросил Якуб Кушк.
"Наш амбар надежно защищен от воров, - возразил староста, - а что касается нас самих, то нам ни к чему забираться в собственные закрома".
Жители Залова на минуту оторвались от работы и три раза громко хлопнули в ладоши, а служитель общины выкрикнул неожиданно резким голосом: "Да здравствует наш староста!" После этого жители Залова снова трижды хлопнули в ладоши, и староста снисходительно похлопал вместе с ними. Потом он пригласил Крабата и Кушка к себе на обед - будет рыба, пообещал он.
Действительно, была подана рыба, хоть и испеченная из теста, и к ней великолепный укропный соус.
"Мы всех гостей кормим рыбой, - объяснил староста, - недаром мы самая богатая рыбой деревня".
Рыба так рыба, Якуба Кушка больше интересовало, кто приготовил укропный соус, и он обнаружил на кухне дочку старосты, которая не была костлявой, как рыба, и в ее жилах, как видно, текла отнюдь не рыбья кровь.
"Будь вежливым гостем, - сказал он Крабату, - а я побегу на кухню, чтобы быть у девушки под рукой, когда ей понадобится помощь". Но он не стал подручным у девушки, а сразу же пустил в ход руки, пока наконец не насадил червяка на крючок или щука не попала в сети.
А Крабат тем временем, сидя за столом, расспрашивал старосту. "Ты очень мудрый человек, - говорил он старосте. - Можешь ты мне сказать, сколько времени нужно, чтобы стать умным?"
"Конечно, могу, - ответил староста, - столько, сколько надо, чтобы стать старостой".
Крабат лишился дара речи, но из вежливости сделал вид, что поперхнулся костью от рыбы из теста.
Староста похлопал его по спине, а потом сказал: "Конечно, могут сказать, что не только среди старост попадаются умные люди, но не в нашей деревне, а если где-то, может, и попадаются, то ум таких людей все равно не приносит никакой пользы, потому что только староста направляет на путь истинный, а мудрость тех, кто не облечен властью, - это не мудрость".
В кухне раздался грохот.
Староста крикнул: "Что случилось?"
"Стол перевернулся", - крикнула в ответ его дочка, с трудом переводя дыхание, словно только что вынырнула из воды.
"Стол не рыба, потому что у него четыре ноги и нет хвоста, - глубокомысленно произнес староста, вытер рот и поднялся. - Теперь пойдем и посмотрим, как кроют крышу на нашем амбаре".
Он взял шляпу и пропустил Крабата в дверь впереди себя. Из кухни доносилась аллилуйя, причем дочка старосты брала высокие ноты, а Якуб Кушк вел партию в низком регистре.
Сразу же за деревней поднимался высокий, поросший травой холм, на вершине которого стоял общинный лес. Деревья для крыши были уже срублены, и, взявшись по шестнадцать человек за каждое бревно, жители Залова с великим трудом и осторожностью тащили их по крутому косогору вниз к амбару.
"Собачья работа", - говорили они, весело улыбаясь, потому что стропила поднимались все выше и выше.
"Осталась уже только половина", - крикнул им староста, чтобы подбодрить. От радости кто-то споткнулся, и бревно, лежавшее на шестнадцати плечах, соскользнуло и покатилось вниз по косогору до самого амбара.
Старосте понадобилось немного времени на размышление, после чего он распорядился разобрать стропила и все бревна спустить таким же образом вниз с крутого холма. "Зачем нам надрываться, раз это можно сделать без труда", - объяснил он.
Жители Залова радостно разобрали наполовину готовую крышу, кряхтя втащили бревна обратно на крутой холм, а потом смеясь смотрели, как они сами собой катятся к амбару. Крабат спросил своего друга, который теперь совершенно точно знал, как приготовить укропный соус: "Сколько времени, Якуб, нужно человеку, чтобы стать умным?"
"Послушай, брат, - ответил Якуб Кушк, - я знаю два сорта людей: одни считают себя умными и никогда ими не будут". И так как он замолчал, Крабат спросил его: "А другие?"
Они сидели на косогоре и смотрели, как жители Залова под руководством старосты крыли крышу на своем пустом, без окон и дверей, амбаре. Якуб Кушк увидел, что на колокольчик, который рос неподалеку, села пчела. Она нырнула глубоко в голубую чашечку, вылезла и полетела к следующему цветку.
Якуб Кушк сказал: "Она собирает всю свою жизнь - несколько недель - и умирает. Ее медом кормится потомство".
Крабат улыбнулся. "Всякий раз, перевернув стол, - сказал он, - ты говоришь так, будто лежишь под столом и хочешь узнать, чем наполнены миски".
"Это неверное наблюдение, брат, - возразил Якуб Кушк. - На самом деле, даже когда я пробую еду из какой-нибудь миски, запах жаркого не затемняет моего разума".
"Да здравствует каждая миска, из которой тебе приходилось есть!" - сказал Крабат.
"И да здравствует запах жаркого!" - подхватил Якуб Кушк.
Перед ними уходила вдаль и терялась в белесом тумане дорога, которая вела из Залова в большой мир. В еще не сгустившемся тумане смутно что-то виднелось, может быть, куст, может, грубый каменный крест, а может быть, человек.
"Если это человек, - сказал Якуб Кушк, - сумеешь ты разглядеть, идет он навстречу своей мудрости или убегает от нее?"
"Он узнает это там, куда придет", - ответил Крабат. Неизвестно, произнес он эти слова тогда или в другое время, может, эта фраза записана в Книге мельника о Человеке, или это пришло в голову Сигне Гёрансон, когда она отправилась в путь, еще в тумане, но туман этот уже начал рассеиваться.
Она знала, что у нее будет ребенок и что у нее есть еще время решить, появится он на свет или нет.
Он будет жить, если она сумеет сберечь крошечный кусочек надежды, зажатый в ее кулаке.
Он не будет жить, если ей придется разжать кулак, палец за пальцем, и рука окажется пустой.
У Сигне Гёрансон не было никого, кроме нее самой. Томас и Урсула Гёрансон проиграли свою дочь, когда обменяли сына на кучку жетонов. Они поставили на Zero и выиграли целую гору жетонов, но никто не обменял им на эти жетоны сына и дочь.
Сигне попыталась взломать дубовую дверь, за которой был спрятан от мира ее брат, но гора жетонов, загораживавшая эту дверь, грозила засыпать и ее.
У нее были: она сама, шесть лет учебы и диплом, она могла назвать по-латыни каждую частицу человеческого тела, но на вопрос, как жить дальше, она не могла ответить.
У нее были деньги, и она знала, что есть вещи, которые нельзя на них купить, позади были годы, прожитые ею без вопросов, и годы полувопросов и полуответов, а теперь оставалось совсем немного времени, чтобы спросить себя, было ли ее животное желание иметь маленькое существо разумным материнским чувством. Невысокая и хрупкая, не вооруженная ничем, кроме добрых намерений, она вовсе не была грустной или подавленной, скорее веселой и радостной, и в этом заключалась ее жалкая, как нищенский грош, но прекрасная и драгоценная неразумность. В одной руке она крепко зажала крошечный кусочек надежды, с которым ни за что не хотела расстаться по собственной воле, пока ее не захлестнул поток покорности и смирения, и тогда ни один Ноев ковчег не спасет ее и не появится на небе голубь с оливковой ветвью.
Ничего не найдешь, если не ищешь, поэтому я вопрошаю. Я не спрашиваю, в какой части мира, я спрашиваю, в каком мире? Потому что мир будет неделим, когда мой ребенок будет вдвое моложе, чем я сейчас, - да разве и теперь мир можно разделить?
Я не спрашиваю про ясли и детский сад, про хорошую школу, про бесплатное обучение, не спрашиваю про устойчивость экономики, про библейские семь тучных и семь тощих лет, не спрашиваю почему и зачем, а спрашиваю только: сохранится ли тот кусочек надежды, который я кладу в банк, чтобы получить проценты - пусть самые крошечные, или мне грозит потеря внесенного капитала?
Много есть у меня путей, может быть и этот:
Я раздеваюсь и надеваю на себя другую одежду. Под кожей я - это еще я, но у меня уже чужое имя, все равно какое.
На мне длинное, до полу, свободно ниспадающее платье из золотой и алюминиевой сетки, сзади, чтобы было удобно сидеть, кусок мягчайшего леопардового меха, грудь обтянута белым шелком, металл сделал бы ее плоской и исцарапал. Под платьем у меня только кожа.
Я скучаю. Мы все скучаем.
Генри развалился у камина и считает: один миллион двести сорок три тысячи сто семьдесят четыре, один миллион двести сорок три тысячи сто семьдесят пять, один миллион двести сорок три тысячи сто семьдесят шесть, он не играет в покер и не пьет, потому что это мешает ему считать. Он хочет считать до тех пор, пока не умрет, ему тридцать четыре года, он здоров, как тюлень. В прошлом году мы охотились на севере, там невероятно много тюленей. Я хотела сосчитать, много ли подстрелила, по Генри стоял рядом со мной и бормотал свои идиотские цифры, а когда он замолкал, то записывал получившиеся у него миллионы в дешевую голубую тетрадку, и я не могла сосчитать, скольких я уложила.
Анжелика и Дейв в этом году снова там были, а я нет, это скучное занятие, даже когда такой идиот, как Генри, не мешает считать, много ли ты уложила. Что с того, если знаешь сколько - сто или пусть даже тысячу, с таким же успехом можно валять дурака у камина и бормотать, цифры.
Рядом сидит Лил, на которой всегда есть что-нибудь шафрановое, если бы она вдруг надела на себя белое или синее - вот была бы сенсация, сюда кинулись бы все репортеры. Лил в шафраново-желтой блузке и зеленой, как биллиардное сукно, юбке сидит, окруженная целой горой фотографий. Она где-то услышала или прочитала, что на царице Савской, когда она лежала в постели с Соломоном пли с кем-то другим из библейских царей, было надето украшение, взглянув на которое Давид - или кто там с ней был - от удивления оказался не на высоте. Лил распорядилась сфотографировать драгоценности всех музеев мира, чтобы достать себе такое же украшение, если она все же выйдет замуж за Гунтера; Лил ненавидит мужчин, а Гунтер просто кобель, и она хочет, чтобы в их брачную ночь он был посрамлен, как тот библейский царь.
Мой муж не кобель, как Гунтер, на нем протертые почти до дыр матросские штаны, его всегдашняя куртка из серой шерсти широко распахнута на груди, так что видны седые волосы на медной коже, он сидит рядом с Генри, бормотание которого не мешает ему. Мой муж уставился на огонь и думает о своих танкерах, он всегда думает о танкерах, ему не бывает скучно. Его голова словно глобус со светящимися точками, которые передвигаются по морям. Может быть, я тоже танкер на этом его глобусе, и сегодня мой путь случайно пересекся с его путем, поэтому он здесь, что бывает очень редко. Он похож на пирата, но никто не нагоняет на меня большей скуки, чем этот человек, только похожий на пирата, ведь на самом деле его голова - это глобус со светящимися точками.
Он мой третий муж, а я его четвертая жена. Мы отпраздновали свадьбу на белоснежной яхте, и десять танкеров вокруг нас ревели, как быки, а ночью у меня была истерика от смеха. Диди хотел сделать из этого пьесу: самые дорогие декорации в мире, а на сцене ничего не происходит.
Диди очень популярный драматург, когда он напивается, то говорит: мои пьесы имеют успех, потому что на сцене я, вместо того чтобы вас всех гильотинировать, только вытираю вам задницы наждачной бумагой, а вы думаете, что у меня очень шершавый язык. Гильотинировать, думаю я, гораздо увлекательнее, можно было бы, например, заключать пари, чья голова дальше откатится. Или как кто будет вести себя перед казнью: ругаться, плакать или молиться. Я бы не стала молиться. Когда мне пришла в голову мысль, что душа какой-нибудь уборщицы будет на небесах рядом с моей, облаченная в то же ангельское одеяние, я сразу же отправила господа бога на пенсию. Для чего же ты тогда ходишь в церковь, спрашивает Дейв, а для чего ты стал олимпийским чемпионом, отвечаю я ему. Диди верит в бога, в рай и ад, я хотел бы увидеть, как черти в аду будут поджаривать на огне весь ваш клан, говорит он, а иначе и жить не стоило бы.
Диди уже несколько недель лежит в клинике и ждет, когда ему смогут пристегнуть новую ногу. Он вдруг сошел с ума, купил себе старый катер, самое современное водолазное снаряжение и решил, вооружившись ножом, охотиться на акул. Потом в горячечном бреду он все время кричал, что это мой муж откусил ему ногу.
Иногда у меня возникает интерес к Диди: мужчина с одной ногой. А пластмассовый протез я ему отстегну.
Ко мне подходит Мария-Грация с рюмкой виски. Она устраивает культ из своей выпивки: полбутылки в день, не больше и не меньше, я ни разу не видела ее пьяной. Она только что написала письмо своей дочери, которая где-то изучает историю искусства или что-то в этом роде и живет в коммуне: четверо парней и две девушки.
На коммуну Мария-Грация готова смотреть сквозь пальцы, но моя дочь не моется, мне придется лишить ее благословения. Мария-Грация обожает библейские выражения. В самом деле, говорит она, могу ли я завещать той, которая не моется, мои двадцать восемь процентов мирового производства мыла?
Это она и написала в своем письме, и проблема дочери была решена. Однако лучшему в мире мылу все равно будет нанесен урон, потому что, когда Диди выйдет из клиники, я расскажу ему эту историю, и он наверняка сделает из нее пьесу, может быть, она будет называться "Чистая Клаудиа и грязное мыло": дочку Марии-Грации зовут Клаудиа.
Как она ее заполучила, для всех загадка. Не иначе как из пробирки, потому что даже такому кобелю, как Гунтер, не приходит в голову мысль переспать с ней, несмотря на ее двадцать восемь процентов мирового производства мыла. Кроме того, Мария-Грация повсюду подбирает чужих дочерей, она отправляется туда, где идет война, и выискивает среди сироток самую красивую девочку, по возможности лет двенадцати.
Она усаживается рядом с моим мужем и шепчет что-то ему на ухо, наверное, спрашивает о том, где теперь разразится война. Мой муж всегда знает это заранее, у него хороший нюх; если у человека в голове одна нефть, он прекрасно чует, где затеваются грязные дела.
"Эй, Дейв", - окликаю я.
Дейв сидит где-то позади меня и тянет свой гренадин. Он не курит, не пьет, зато он так управляет своим парусником, что получил уже три золотые медали. Ему хочется завоевать еще две, и он наверняка их добудет.
"Что, Джекки?", - спрашивает он.
"Где будет следующая маленькая война?" - спрашиваю я. Дейв обиженно молчит: он настоящий спортсмен, и больше ничего. Тысячи грязных пальцев, которые он сует в тысячи грязных дел по всему земному шару, всего лишь неизбежное зло. Распространителям новостей нужны собиратели новостей, говорит он и умывает руки, как Понтий Пилат. Для многих людей нравственность слишком большая роскошь, а Дейв во время парусных гонок и охоты на тюленей ведет себя в высшей степени нравственно.
На террасе появляется Гунтер, он поет фашистскую песню - ностальгия, говорит он, от нее нет лекарства; у него сильный мужской голос, сейчас он звучит хрипло: Гунтер выпил, он любит низкого пошиба кабаки и шнапс. Он останавливается на пороге, ухмыляясь, смотрит на Лил и кричит: сегодня Вальпургиева ночь, если вы, невежды, знаете, что это такое. Фауст, первая часть, и это мы сейчас сыграем: К вершине ведьмам путь лежит средь гор и скал, с метлой, с козлом, - и вонь и гром стоят кругом, улиткой наши все ползут, а бабы все вперед бегут. Где зло, там женщина идет шагов на тысячу вперед - правда, Лил? - не будем в споре тратить слов, нужна им тысяча шагов, а некоторым и миллион, мужчина вздумает, - и в миг одним прыжком обгонит их. Он смотрит на меня, я стою, опершись на стол, и идет ко мне, по-матросски широко ставя ноги, рывком поднимает меня и швыряет на стол. Он знает, что молния на моем платье расстегивается снизу вверх, он раскрывает ее до колен, дальше не удается, ведь я сижу. Двумя пальцами он медленно стягивает шелк с моей груди, прекрасный сон я раз видал, хе, хе, я перед яблоней стоял, хе, хе, вверху два яблочка на ней, да это же дыни - я даже текст забыл, эй, Джекки, рычит он, ты же ведьма, ложись на стол, я посажу тебя на метлу.
"Не хочу, ты пьян, - отвечаю я и болтаю ногами. - И мой муж на нас смотрит".
Кто-то позади меня, кажется Дейв, говорит, ведь он твой супруг, Жаклин, он имеет право хотя бы один раз посмотреть. Лил расстегивает шафранно-желтую блузку, протягивает мне свою маленькую грудь, не разрешай ему, Жаклин,
Все называют меня Жаклин, но я не Жаклин и не лежу на столе, я стою на пороге, я знаю, что мне не надо их спрашивать, но все-таки спрашиваю.
Какие у нас шансы?
"В яхте пробоина", - говорит старик в куртке из серой шерсти.
Гунтер опять вспомнил "Фауста": воняют, брызжут, светят. Ух! Вот настоящий ведьмин дух!
Генри заткнул уши и бормочет свои цифры.
Лил видит мой сжатый кулак, раскрой его, просит она, я ведь тоже с пустыми руками.
Дейв, настоящий спортсмен, похожий на Аполлона Бельведерского, поднимает вверх мой кулак, она угрожает нам, говорит он, и ломает мне мизинец.
Теперь они видят, что я зажала в кулаке, и хохочут, хохочут, Жаклин дрыгает ногами, Генри забывает про свои цифры, они держатся за животы и хохочут.
Потому что я, у которой ничего не было, держу в руке кусочек надежды.
Я тоже смеюсь, смеюсь над собой, ведь я думала, что мне и у них надо спросить о том, как жить.
Когда я стою на улице - ярко освещенный дом в глубине сада все еще сотрясается от смеха, - мне приходит в голову, что Мария-Грация коллекционирует девочек, осиротевших во время какой-нибудь войны, и, чтобы пополнить коллекцию, ни перед чем не остановится.
Жаклин лежит на столе, Диди показывает это на сцене, и зрители смотрят и думают, что это ВСЯ правда, но они должны были бы знать, что у старика в шерстяной куртке голова полна нефтью, Гунтер - кобель, который от ностальгии поет фашистские песни, Генри - психопат, который считает миллионы, а Дэвид - настоящий спортсмен, который ради шутки ломает людям пальцы.
Старик в шерстяной куртке читает Софокла в оригинале, и, если собеседник кажется ему достойным, он поговорит и о величии античности, и о том, как царь Эдип невольно все больше и больше запутывается в собственной вине, каждый из нас царь Эдип, и, даже если мы ослепим себя, чтобы больше не видеть самих себя, это нам не поможет, Мойра, говорит он, - так хотел рок.
Жаклин трясется от страха за жизнь своих детей, когда разверзаются пещеры с ракетами и небо ощупывают водородные глаза. Гунтер знает наизусть "Фауста" и любит Гёльдерлина, Лил ненавидит войну и строит больницу и убежище для дезертиров, а Мария-Грация субсидирует институт, занимающийся проблемой рака, и жертвует мыло для армии. Все они люди. Но кто же они такие, если смеются над маленьким кусочком надежды в моей руке? А если бы такой кусочек был у каждого, люди посмеялись бы над ними - над кланом Больших Денег.
Но их нельзя высмеять, а у меня на руке только четыре пальца.
Обрубок мизинца кровоточит, капли крови падают на белый, с голубыми прожилками мраморный пол атриума, теперь на нем появляются и красные прожилки, которые, соединяясь, образуют мое имя - Айку.
Надо мной темное небо, а в той стороне, где мертвый город Помпея, оно освещено и похоже на отверстие в очаге, в котором затухает огонь. Внутри в зале слышен хохот; Юлия, лежа на столе, визжит, как перегревшаяся втулка колеса. Под столом облизывается пес Кустос, он надеется, что ему позволят откусить еще один палец.
Они развлекались, и я должна была стоять возле Руфуса, которому принадлежат девяносто из ста кораблей с зерном, приходящих в Остию. Рядом со мной лежал Кустос. Иногда Руфус похлопывал собаку, иногда - меня, собаку нежно, меня больно. Потом он бросил собаке кусок мяса, а мне - баранью кость. Они поставили меня на возвышение, голую, и танцевали вокруг меня, а Дидус сочинил эпиграмму на кость, которую швыряют человеку, и тогда я крикнула: раб тоже человек.
Они катались от хохота, а потом Руфус позвал Кустоса, это легко проверить, сказал он, человечьего мяса он не ест, и велел мне положить руку псу в пасть. Он укусил меня, и Дидус сочинил новую эпиграмму о том, что собака вынесла окончательный приговор - кто человек, а кто нет.
Медленно засыхает кровь на моей руке, на ней теперь только четыре пальца, стихает боль, и мои глаза спрашивают голову, они видели все, но ничего не поняли.
Они верят в то, что Руфус может заставить голодать всю страну, потому что ему принадлежат девяносто из ста судов, привозящих зерно. Но почему Дидус сочиняет эпиграмму о справедливом приговоре собаки, а не о Руфусе, который считает, что собака может выносить приговор человеку? Ведь он обладает силой слова, почему же он кричит: я тоже собака, почему он не крикнет: я человек?
Мои глаза только видят и вопрошают разум, а я спрашиваю друга веселого трубача: разве знание - сила?
Ответ на обратной стороне луны, говорит он, сбивает замок с двери и освобождает меня. Я боюсь темноты и дальней дороги, и я боюсь прийти туда, куда иду. Но у меня нет выбора.
В негустой тени березы сидит человек и пишет. За ним его дом в один этаж, а может, под крышей уместились еще две каморки со скошенными стенами. Пластмассовый желоб под крышей в одном месте треснул.
Я спрашиваю: "Что вы пишете?"
Вместо ответа он задает вопрос: "Вы здесь чужая?"
Конечно, я здесь чужая, но, может быть, я просто пришла с чужбины.
Я говорю ему: "Мне нравится ваш сад".
Я думаю над тем, что ответить, если он спросит, почему мне нравится его сад. Может быть, потому, что ограда сада только обозначает его границу, а не отгораживает его, она включает в себя весь ландшафт. И наоборот, сад органично вписывается в ландшафт как его естественная часть, оставаясь при этом садом.
"Не ищите символов, - говорит человек. - Вещи есть лишь то, что они есть". Он дает мне спокойно осмотреть сад, проверить, прав ли он: дерево - это дерево, стебелек плевела - это стебелек плевела, и стена леса справа, за которой уже ничего не видно, - это стена леса, а на переднем плане он и я.
Нас это не касается, мы ведь не вещи, которые есть лишь то, что они есть. Мы на самом деле одно, а изображаем совсем другое. Например, теперь я изображаю защитника - он постукивает пальцем по блокноту, - здесь моя речь в защиту проселочной дороги. А вы будете судьи ей, потому что вы не причастны к этому делу.
Я причастна ко всему: где бы ни сдирали кожу с человека, ее сдирают с меня.
Он читает в блокноте: проселочная дорога начинается за постройкой, которая когда-то служила амбаром - теперь наверху квартира, внизу два гаража - и выбегает ив деревни. Вырвавшись на свободу - справа и слева ячменные поля, - проселочная дорога бежит спокойно и весело; немного попетляв, она прямо и не спеша приводит в соседнюю деревню.
"Я плохой защитник", - говорит человек.
"Это ваша дорога?" - спрашиваю я.
Нет, наша. В общем, бесполезная. Как картина на стене. Или как стихотворение в газете, которое отнимает место у чего-то полезного, скажем, здесь можно было бы поместить кулинарный рецепт или что-нибудь поучительное.
Мы оба молчим растерянно, а в его молчании мне чудится бессильный протест.
Он смотрит на меня, видит, что я держу в руке, на которой только четыре пальца, и говорит об этом, или о себе, обо мне; его "я" предстает в разных ипостасях: повсюду, где я бывал, рассказывает он, я видел маленьких мальчиков, которые играли в убийство. Их Добро и Зло были еще Добром и Злом из сказки, они мечтали о любимом пудинге или о мороженом, и вся их жизнь еще была игрой; с игрушечным оружием или просто палкой в руках они преследовали и убивали врагов. Но завтра один из них бросит в другого комком земли, а когда он рассыплется, крикнет: атомный взрыв, вы все убиты, и пятилетний вытянется перед семилетним, приложив маленькую испачканную ручку к забавной шапке с помпоном. Все превращено в пустыню, генерал.
Тогда у него и отломился палец, думаю я.
Нет, не тогда, говорит он. Это произошло позже, когда здесь в саду рядом со мной сидел мой друг, был конец мая, цвела вон та акация, развесистое одинокое дерево, за ним - широкое поле; на востоке светилась красноватая луна, и где-то, может быть на акации, пел скворец. Если бы здесь еще были соловьи, я бы поклялся, что это соловей. Мой друг - мягкий, добрый человек, не очень здоровый, с целым грузом забот на своих покатых плечах - рассказывал об учениях, на которых присутствовал в качестве наблюдателя. "Огневой удар, - говорил он, - в течение то ли трех, то ли тридцати минут на икс километров вглубь и на икс километров вширь уничтожает все живое, вплоть до жука и дождевого червя. Все превращается в пустыню", Рассказывая, мой друг содрогался, но и он, добрый, мягкий человек, был полон гордости, что мы можем уничтожить одним ударом столько врагов, если они нападут на нас.
"Ты лишаешь меня мужества", - говорю я ему.
"Разве тебя не было, - спрашивает он, - когда генерал, завоевав страну с помощью танков с непробиваемой броней и недосягаемых для зениток самолетов, поставил закон к стенке, а тех, кто был живым олицетворением закона, он тоже поставил к стенке; и они, глядя на кровавую усмешку генерала в черных очках, в этот момент больше всего на свете хотели бы обладать таким мощным огневым ударом, - разве тебя при этом не было?"
Я все это видела: снова земля тем, кто ее не обрабатывает, снова хлеб тем, кто топчет его ногами, а молоко - черным дулам винтовок. И Мария-Грация впервые в жизни выпила целую бутылку за здоровье генерала, а Жаклин, которая уже не дрожала за жизнь своих детей, опустила большой палец вниз: смерть тем детям, которые хотят отнять у моих детей принадлежащие им танкеры. Гунтер тоже опустил палец вниз, и цена на медь стала такой же высокой, как прежде, и медь опять засверкала кроваво-красным цветом. Я это видела, но это не вселяет в меня мужество, а рождает вопросы.
"А при чем здесь проселочная дорога?" - спрашиваю я.
"Она имеет к этому самое прямое отношение, - отвечает он. - Каждый кусочек прекрасного, который принадлежит нам, заставляет нас еще больше любить жизнь и еще больше ненавидеть волка".
Какого волка, хочу спросить я, и тут перед моими глазами встает генерал: черные очки - может быть, для того, чтобы спрятать желтые волчьи глаза, белые перчатки - может быть, для того, чтобы никто не видел его когтей? Ведь семеро козлят спаслись только потому, что это была сказка.
Человек выводит меня из сада на шоссе.
Мы идем бок о бок, пока его чуть не сбивает проезжающая мимо машина. Теперь мы уже идем друг за другом и молчим, потому, что все слова заглушает шум проносящихся мимо машин. К тому же рот лучше держать закрытым, чтобы вдыхать поменьше выхлопных газов.
Трудно идти по самому краю дороги, левая нога ниже правой. Иногда на шоссе встречаются два грузовика с прицепами, оттесняя нас в придорожную канаву.
Чем дольше мы молча идем друг за другом, тем сильнее у меня ощущение, что я маленькая, как букашка, слабая, беззащитная и, главное, чужая здесь. Маленький комочек - человек, мешающий машине.
Мы входим в деревню. Я устала от ходьбы по неровной обочине дороги, лицо покрыто пылью, которая забила и легкие.
Мой спутник выносит мне из какого-то дома стакан воды, я прополаскиваю рот. Я прошу его раздобыть где-нибудь машину, ведь по этой дороге нельзя гулять. Он берет меня под руку, и я, слегка сопротивляясь, все же покорно даю вести себя. Мы сворачиваем с шоссе и, пройдя между двумя крестьянскими дворами, выходим на узкую, здесь едва ли может проехать даже одна машина, дорогу. Минуя огороженные и неогороженные фруктовые сады, она выводит нас из деревни. Иногда мы касаемся друг друга плечами, иногда места хватает только для меня. Эта дорога не такая ровная, как шоссе, ноги порой вязнут в песке, то там, то тут встречаются гладкие валуны и галька, которой в древности играли ледники; добрая половина дороги покрыта тонким слоем дерна, идти по нему мягко и приятно.
Мы никого не встречаем - ни пешего, ни на колесах. Впереди на расстоянии двадцати шагов ковыляет семейство куропаток, спокойно, без суматохи; справа и слева растет ячмень, он достаточно высок, чтобы в любую минуту птицы могли в нем спрятаться.
Мне опять хорошо, я уже не чувствую себя ничтожной, маленькой букашкой, как это было на шоссе, моим ногам легко. Мы следим за навозным жуком, который хочет сдвинуть с места крошечный камешек, но это ему не удается: камешек слишком тяжел.
Потом все-таки появляется машина, она едет нам навстречу - чудовище, выкрашенное, однако, в приятный для глаз цвет. Человек за рулем прикладывает два пальца к фуражке и сворачивает в сторону, как будто эта дорога специально для нас, и я не чувствую себя ничтожной. Я - человек, и все вокруг принадлежит мне: в колосьях мои зерна, на небе мое солнце, для меня из тучи идет дождь, и чудовище, которое теперь заворачивает в деревню, знает, что я его хозяйка, и навозный жук трудится для того, чтобы я поняла, что большое возникает из малого, и дорога мягка под моими ногами для того, чтобы я почувствовала, что земля служит мне, пока я служу ей, и никогда черный сапог не будет топтать ее. Созревшее просо и изжеванная горькая сладкая земля. В конце дорожки висит табличка, на которой четким бухгалтерским почерком написано, что на том месте, где теперь пролегает эта дорога, в будущем соберут пять центнеров зерна. Я знаю, эта табличка обманывает, утверждая, что необходимо уничтожить проселочную дорогу, что только асфальтированные дороги - и чем шире, тем надежнее - ведут в Страну Счастья, а все проселочные дороги уводят в сторону. Я стираю с таблички эти ошибочные расчеты бухгалтера. Мой спутник закончил речь в защиту проселочной дороги, и последнюю фразу он пишет на чистой доске: "Сумма таких ошибок создает машинного бога, а бог машин - электронный мозг, но он, как все боги, лишен человеческих чувств и думает только о себе".
"Вы верите, что ваша надпись что-нибудь изменит?" -• спрашиваю я. "Я лишь частица человеческого разума или разумной человечности, - отвечает он. - А она изменяет. Если бы я не был в этом уверен, разве я написал бы хоть слово? Например, о танкерах старика в шерстяной куртке, которые развозят чуму по морям, или о проселочной дороге - распахав ее, люди станут, правда, богаче, но в чем-то и беднее. Для чего я стал бы писать, если бы не был уверен в силе моих слов? Конечно, что касается этой дороги - и тысяч других дорог, - то гораздо важнее иметь хороший доступ к ушам на высокопоставленных головах, чем уметь хорошо писать, а боги и случай открывают этот доступ кому придется".
"А вам?" - спрашиваю я.
"Я, - отвечает он, - никогда не пытался направлять волю богов или использовать случай и не собираюсь этим заниматься".
Кажется, ему грустно оттого, что он этим гордится.
Грохоча, приближается бульдозер, его ножи со скрежетом вгрызаются в дорогу, которую два столетия полили потом и утрамбовали до твердости бетона.
"Напрасно вы писали свою речь", - говорю я этому человеку.
"Прежде, - отвечает он, - я думал, что писаниями можно создать нового человека, это было простительное заблуждение начинающих. Сегодня я знаю, что человек творит себя сам, тяжким трудом и так медленно, что никакая кинокамера для замедленной съемки не сможет запечатлеть эти изменения. А мое участие в этом деле состоит в том, что я размышляю над ним, и среди моих мыслей попадаются такие, которые могут облегчить кому-то процесс самостановления, пусть хотя бы на один миллиграмм".
"Нравственный - от разума или разумный - от нравственности?" - спрашиваю я.
"Разумный от разума", - говорит он.
"А нравственность?"
"Есть одна история, ее знают очень немногие, загадочная история о Крабате и Райсенберге", - говорит он и смотрит на меня: готова ли я выслушать эту историю?
Однажды Крабат и Вольф Райсенберг встретились посреди большого торфяного болота, на единственной с севера на юг тропинке, шириной в шаг, по которой можно было перебраться через болото, если зорко смотреть и твердо шагать. Солнце стояло высоко, и тень Райсенберга скользила по мху и камышам, а тень Крабата крепко уцепилась сзади за его спину. Но вдруг, когда между ними оставалось не больше пяти шагов, тень Крабата выпрыгнула вперед и слилась с тенью Райсенберга.
Райсенберг крикнул: "Убери свою вонючую тень!"
Крабат крикнул в ответ: "Твоя зачумленная тень лежит на моем пути!"
Райсенберг, сколько мог, наклонился влево, потом вправо, но тень его, как будто вцепившись в тень Крабата, лежала между ними, на разделявших их пяти шагах мха и камышей.
Оба они знали, что к тропинке с обеих сторон подступало бездонное болото и любое насилие грозило смертью.
"Поворачивай назад, - спокойно сказал Райсенберг, - я тебе приказываю".
Крабат обернулся: "Разве здесь есть кто-то, кому ты можешь приказывать?"
Солнце на небе передвинулось на палец или на длину мысли, но двойная тень не шелохнулась.
"Прошу тебя, Крабат, поверни назад", - сказал Райсенберг.
"Не могу, - ответил Крабат, - и прошу тебя, Вольф Райсенберг, поверни назад".
"Это невозможно, - объяснил Райсенберг, - из-за морали. Я не могу повернуться и уйти, пропустив тебя вперед. Но тебе мораль это разрешает".
Крабат улыбнулся. "Да, твоя мораль. Но не моя. Моя разрешает тебе повернуть назад".
Через некоторое время, когда даже болоту стало прохладно в своей собственной тени, Крабат сказал: "Между тобой и мной лежат наши тени, они разделяют нас, а не мораль".
"Нет, тут действует моя мораль. Вообще существует только она одна. У тебя нет морали", - возразил Райсенберг.
"Что ты так волнуешься? - спросил Крабат. - Разве от этого твоя болтовня станет правдой?"
"Я сброшу тебя в болото! - закричал Вольф Райсенберг. - Чем поворачивать, я лучше сброшу тебя в болото!"
"Я знаю, что тебе этого хочется, - спокойно возразил Крабат. - Я бы тоже с удовольствием столкнул тебя в болото. - Он понизил голос, но еще громче в нем зазвучала ненависть. - С тобой будет покончено, Райсенберг! Раз и навсегда! Но если уж в болото, - продолжал он уже спокойно и без волнения, - так обоим. Поэтому оставим спор о морали и попробуем решить дело с помощью разума".
Когда солнце уже стояло над их головами, а двойная тень неподвижно, как мертвая или вросшая в землю, все еще лежала на разделявшем их кусочке тропинки, они все-таки с помощью разума нашли выход. Опустившись на четвереньки, один прополз над другим - Райсенберг над Крабатом; Райсенберг настоял на этом потому, что не мог уронить свое достоинство, а "достоинство" Вольфа Райсенберга Крабат не считал достойным поводом для спора.
На одно мгновение - а оно длилось дольше, чем вздох, - Крабат почувствовал, как Райсенберг на его спине напрягся: Райсенберг очень хотел сбросить в болото Крабата, но понимал, что выбрал худшую, чем Крабат, позицию.
Крабат изо всех сил прижался к земле, чтобы безрассудство Райсенберга не привело их к гибели, и сказал.
"Я должен передохнуть, Вольф Райсенберг". И чтобы чем-нибудь заполнить паузу, он стал рассказывать историю о скорпионе, который хотел перебраться через ручей, не нашел мостика и попросил лягушку перевезти его на другую сторону. Лягушка согласилась после того, как скорпион пообещал не жалить ее. Скорпиону было легко дать такую клятву, потому что он понимал, что утонет в быстром ручье, если убьет лягушку на полпути. Лягушка поверила в разум скорпиона, посадила его себе на спину и поплыла. Но на середине ручья скорпион почувствовал под собой ее упругое, мускулистое тело, не смог побороть искушения и ужалил лягушку. Она погибла от яда, и скорпион утонул.
"Если ты отдохнул, - проворчал Райсенберг, - ползи дальше".
Крабат пополз дальше, и Райсенберг пополз дальше, они отделились друг от друга, поднялись на ноги, спина к спине, а через некоторое время в душе Крабата родилось странное сомнение: была ли тень, которая теперь скользила по болоту и камышам, действительно целиком его тенью?
Он разными способами пытался доказать себе бессмысленность своих сомнений и посмеяться над ними, но это ему не удалось.
Наконец он решил объясниться со своим сомнением начистоту.
Сомнение сказало: "Я - это ты, брат. И я существую для того, чтобы существовал ты".
Может быть, так и закончилась эта история, а может быть, конец ее заглушил шум разбушевавшегося бульдозера, который в этот момент ломал табличку с надписью. Мой провожатый уводит меня прочь от машины; ею управляет молодой паренек, управляет сосредоточенно, с явной радостью, что ему подчиняется такая махина.
"Этот парень, - говорит мой спутник, - прочитал, что я написал на доске, и он задумается над этими словами, потому что где-то в глубине его души уже живет предчувствие подобной мысли. Когда-нибудь он - или его сын - проложит через густое и ровное ржаное поле дорожку, не слишком прямую, жарким летом пыльную, после дождя в лужах, нужную только для того, чтобы прохожий посмотрел на ползущего по ней жука, или для двух влюбленных - зреющая рожь и небо будут им райскими кущами, а единственной помехой - муравьи".
"Итак, у нас есть шанс?" - спрашиваю я.
"Кого вы спрашиваете? - отвечает он вопросом на вопрос. - Компьютер или меня?"
"Тебя", - говорю я.
Мы снова в его саду, он дает мне напиться и пьет сам.
"Пусть живет твой ребенок, - говорит он. - И пусть наши вопросы будут для него решенными, потому что мы уже задали их".
"А больше ничего?" - спрашиваю я.
"Больше ничего, - отвечает он. - Или все-таки вот еще что: разумная человечность изменяет человека".
Разумная человечность идет рядом со мной по стене Откуда-Куда, у нее серьезное и одновременно веселое лицо, волосы подстрижены по моде "как-я-хочу", платье сшито по фасону "как-мне-нравится", она поет песенку, не громко и не шепотом, не скованно и не развязно, просто так: ла-ла-ла, от радости. На ее плече мешок из небеленого грубого льна, наполненный зерном. Она разбрасывает семена (мне не видно какие) то широким взмахом, то будто кормит рыбок в аквариуме, то словно отщипывает от булки крошки голубям на площади.
И семена падают в заросли чертополоха и репейника, они взойдут не все: одни засохнут, другие сгниют, - но некоторые перерастут чертополох и репейник.
Порой семена попадают на скудную каменистую почву (может, пойдет дождь, а может, его и не будет), и медленно вырастает невысокая травка с красноватыми цветочками, кажется, она называется тимьян и полезна женщинам.
Но вот наконец семя падает на плодородную, хорошо обработанную землю. Репейник здесь весь выкорчеван, камни убраны, семена дают дружные всходы, а потом - налитые колосья, и разумная человечность приходит сюда, чтобы наполнить свой мешок новыми семенами.
Я иду рядом с ней, мои глаза зрячи, я вижу то, что я вижу; постепенно я теряю себя, чтобы вновь обрести; я вижу свое отражение в зеркале, картина меняется: вот я на аэродроме - встречаю Рамеша и продавщицу из деревни Хандриаса Сербина. Она беременна и боится незнакомой страны, она улыбается, а Рамеш обращается ко мне: Сунтари, сестра.
У Сунтарн черные волосы, а у меня волосы темно-русые, Сунтари нарисована на стене храма, ее левая нога - на бедре мужчины, и певец, сидящий под картиной на каменных ступенях, поет: Вечна йони и вечен лингам. Роза и шмель, погружающийся в нектар. Трещина в скале и корень, который прорастает в нее. Вечна йони в небе - мерцающие непостижимые звезды и лингам - неизмеримый Неизмеримого, проникающий в тайну звезд - самйога - о великий Ганг счастья.
Неожиданно певец обращается ко мне. Почему ты ищешь то, что нельзя найти, Сигне Гёрансон? Люби сама, и пусть тебя любят - в этом исход всего, в этом начало всех начал.
Он протягивает мне свою гитару, в ней отражаюсь я. Я вижу себя, меня обнимает мужчина. Кожа моя горит, я в испарине, грудь дрожит, но я шепчу - и это стоит мне невероятного напряжения:
"Я хочу не только такого, я хочу полного счастья".
Певец ударяет по всем струнам гитары сразу и громко смеется. Сунтари над ним в испуге прикрывает руками свое лоно.
"Что такое полное счастье?" - кричит певец, заглушая звуки гитары.
Он берет в руки микрофон, саксофон рядом с пим ревет, как дикие звери в джунглях, а ударный инструмент обрушивает ураган разорванных звуков, рояль дрожит от ярости, а две трубы поднялись вверх, полные презрения к толкающим, давящим друг друга, вихляющимся человеческим телам на танцевальной площадке. В чаду плавают обрывки мыслей и разорванные в клочья чувства, а певец, издеваясь, кричит опустошенным душам: жеребец с кобылой, волк с волчицей и даже день совокупляется с ночью, и одна половинка всегда находит другую.
Теперь он этой темы не оставит, думаю я, но он спрыгивает с маленькой сцепы обычного танцевального зала, полного обыкновенных людей, прямо ко мне на ступеньки храма: ну, Сигне Гёрансон, что же такое полное счастье?
Я не знаю, что это такое.
"Оно должно быть выше меня", - говорю я.
"Может, до самого неба? - спрашивает певец. - Это не в моей компетенции".
Он издевательски кланяется мне, я вижу его лицо совсем близко - один глаз у него сапфировый.
Сунтари спускается ко мне, обнимает по-сестрински и ведет в храм.
Жрец, не молодой, но еще не старый, ждет нас. У него розовое лицо и трезвые, как мне кажется, утратившие веру глаза.
"Благослови ее и ребенка", - говорит ему Сунтари.
Жрец улыбается отрешенно и благословляет меня именем господа. "Мое благословение - это лишь доброе пожелание, ведь она не верит в моего бога", - говорит он равнодушно. Сожаление в его голосе - это не сожаление о том, что я не разделяю его веру.
Прежде чем спросить о том мире, в котором жить моему ребенку, я спрашиваю его о рае.
Он медлит, но не потому, что ему трудно подыскать ответ, а потому, что все слова кажутся ему неподходящими.
Он говорит: может быть, рай - это только мгновение, когда человек умирает, зная, что он уходит из жизни, находясь на более высокой ступени человечности, чем при вступлении в нее.
"А бог?" - спрашиваю я.
На этот вопрос он отвечает без колебаний, он думал над ним с тех пор, как научился думать. Бог - это высшая человечность. Как же иначе понять это: и сотворил человека по образу своему и подобию, отвечает он заученно. По его тону никто не должен догадаться, как часто на пути к познанию он чувствовал себя приговоренным к вечному проклятию и как часто он на коленях выбирался из этого ада и возвращался в рай своей детской веры, но не мог выпрямиться на пороге, потому что его отягощали мысли. Пока он наконец не преодолел в себе рай и ад. Он не упразднил бога, бог - это имя, говорит жрец, и каждый, кто служит жизни, служит богу.
Я показываю ему, что зажато у меня в кулаке.
Он кивает, надежда - тоже одно из его имен, говорит он. Я благословляю тебя именем надежды.
"А больше ничего не скажешь?" - спрашиваю я.
Он снова медлит, его розовое лицо делается красным от смущения, потому что я требую от него мужества, на которое он не способен.
"Здесь нет никого из стоящих над тобой", - говорит ему Сунтари.
Он виновато улыбается мне, как бы прося прощения за то, что недостаточно мужествен, и берет мой кулак в свои руки. "Действие - вот дитя надежды, - говорит он и произносит уже в полный голос: - Благословляю тебя именем действия".
Сунтари кланяется, сложив руки на груди, и я вижу, что на ней уже нет знака касты.
Какое действие, хочу я спросить, но в это время за стенами храма, там, где одичавший сад переходит в джунгли, раздаются крики.
"В наших местах появился тигр-людоед, - объясняет со смехом жрец, - и трое солдат подстерегают его. Они уже два дня сидят и спорят, один верит в Вишну, другой - в аллаха, а третий называет всех богов чепухой. Каждый хочет обратить товарищей в свою веру, заставить поверить в Вишну, в аллаха, в то, что боги - чепуха, и все трое - фанатики".
Внезапно раздается крик и тут же смолкает.
"Это им принесли миску с рисом, - говорит Сунтари, - брюхо - единый бог для всех".
Но раздается женский вопль: тигр!
Жрец хватает копье - кем-то пожертвованное храму - и бросается в сад, мы бежим вслед за ним, вооружившись гонгами.
Тигр растерзал трех солдат, споривших о боге. И не узнать теперь, кто из убитых верил в аллаха, кто в Вишну, а кто в то, что все боги - чепуха.
Сунтари плачет, священник шепчет молитву - к какому он обращается богу? А мне страшно.
Медный гонг в моей руке тихонько позванивает, может, и он боится. Что за безумие - идти с гонгом против тигра, который растерзал трех солдат?
Сюда спешат люди, многие из них вооружены еще хуже меня, ведь гонг все же гремит и блестит. Беззубая старуха прибежала с жестяной канистрой и деревянной поварешкой.
Сунтари, рыдая, подбирает солдатские винтовки, одну протягивает жрецу, и тот берет ее медленно и неловко, другую оставляет себе, третью хочет дать мне, но я ненавижу оружие, и кто-то выхватывает винтовку у нее из рук.
Я остаюсь одна. Страх начинает исчезать, я выдыхаю его. Я слышу удаляющийся шум и вижу мертвых. Как бы против воли я опускаюсь на колени, достаю патроны у убитых солдат и иду вслед за остальными, медленно, неуверенно, иногда спотыкаясь, в руках у меня патроны.
И впервые меня охватывает страх, что и моему сыну еще придется носить винтовку и патроны. И он, ненавидя оружие, будет надеяться, что таким образом избавит своего сына от умения обращаться с орудиями убийства.
Странным образом мой страх становится агрессивным антистрахом. А разве иначе я решилась бы родить ребенка в том мире, каков он есть?
Глава 15
Якуб Кушк, мельник и мастер играть на трубе, встретил однажды парня с глазами младенца, лицо которого покрывала столь буйная растительность, что Кушк сразу смекнул, сколь полезной для будущего общества может оказаться такая маскировка физиономии. Поэтому он записал в Книгу о Человеке, что каждому, пока у него на лице нет следов житейской мудрости, следует прикрывать его волосами. Это особенно важно в связи с девушками, сделал пометку Якуб Кушк. Прочитав запись, дружка Петер Сербин сказал, что это место в Книге ему не совсем понятно.
Для пояснения своего теоретического обобщения Якуб Кушк рассказал историю про девушку, которая в темноте, не разглядев, спросила дорогу не у того, у кого надо было, и, сбившись с правильного пути, так упала, что не только сзади выпачкала юбку травой, но потом юбка стала топорщиться у нее и спереди. Поэтому, пояснил Кушк, если девушка, которая спрашивает в темноте дорогу, не видит того, к кому обращается, пусть она его хотя бы ощупает. Ведь борода служит маской не одному лишь деду-морозу.
Все это, конечно, чистая правда, хоть и грош цена всякой правде, застывшей на пьедестале, как памятник.
Но в данном случае Якубу Кушку пригодились его наблюдения: погрузившись в философское созерцание стройных ног и других прелестей стюардессы в мини-юбке и в синей шапочке, которая то наклонялась, то распрямлялась, обслуживая пассажиров, он вдруг обратил внимание на заросшую волосами физиономию одного пассажира. "Не нравится мне этот тип, - сказал Кушк Крабату, - он неприятен мне, как электронная какифония".
"Какофония", - поправил Крабат, и его глаза, не затуманенные философским созерцанием девушки в мини-юбке, остановившись на бородаче, мигом стерли с лица бороду, и Крабат узнал его: обвисшие щеки, унылый нос - это он стоял тогда за спинкой кресла старика епископа.
Он понял, что игры кончились, и, хотя уже тысячи раз умирал, каждая смерть была смертью, и каждая мука - мукой. Вот и сейчас у него от страха по всему телу поползли мурашки, лоб покрылся испариной, он мог вытереть пот со лба, но не мог преодолеть страха, и глупой показалась ему его безрассудная смелость. Он схватил посох, но это была всего лишь обыкновенная палка, украшенная резьбой, сентиментальная память Яна Сербина о деде Петере Сербине, политая потом и отполированная тысячами миль жизненного пути, где каждая миля оставляла зарубки; пальцы Крабата нащупали их, и внезапно он ощутил аромат, который источала кожа Смялы.
Она наклонилась к нему, он коснулся ее груди и почувствовал, что ее кожа впитала запах невысокой, с красными цветочками травы, которая росла под яблоней. Он поцеловал Смялу и погрузился в этот аромат.
"Как называется травка?", - прошептал он.
Она не знала, про какую травку говорит Крабат, и понюхала красный цветущий ковер под яблоней, а потом грудь и плечи Крабата. "К тебе не пристает запах", - удивилась она. "Зато к тебе пристает", - сказал он, обнимая Смялу.
"Она зовется тимьян, - решительно заявила Смяла. - Я брошу ее в воду, когда буду купаться".
"Ты знаешь все названия вещей, - сказал Крабат. - А знаешь ты, в чем их суть?"
С тех пор как она захотела, чтобы он привел ее туда, где они будут счастливы, и Крабат не долго думая пообещал ей найти Страну Счастья, он стал размышлять над тем, что такое счастье.
"Эта травка очень полезна для нас, женщин, - сказала Смяла, - кроме того, она приятно пахнет". Она встала и сорвала яблоко. Крабат наблюдал, как она, широко раскрыв белозубый рот, жадно вгрызлась в яблоко. Как людоедка, подумал он и в ту же минуту почувствовал с чисто мужским и в то же время детским удовлетворением ее укус на своем плече: ей все равно - я или яблоко, кажется, она не делает между нами разницы. "Хочешь?" - спросила она и протянула ему половинку яблока. Он кивнул, и она, улыбаясь, бросила в него яблоком. "Коварная", - сказал он и надулся от гордости, что ему пришло в голову такое: даже Смяле до сих пор не удавалось придумать более изысканного слова.
Смяла посмотрела на солнце. "Кажется, все происходит почти синхронно, - сказала она, - Адам и Ева наверху, а мы здесь, внизу. Разница только в том, что мы уже до этого... - Она сорвала еще яблоко. - Подумай только, - возмутилась она, - в нем уже червяк!"
"Что мы уже до этого?" - спросил Крабат.
"Ты набросился на меня, как людоед, - сказала она. - Удивляюсь, как я цела осталась. - Ее глаза блестели. - Ты всю меня искусал".
"Покажи", - сказал он, оживляясь, и его кадык задвигался. Она сделала вид, что не слышит, сорвала еще несколько яблок и подсела к нему. "Я ужасно голодна, - сказала она, - я могла бы съесть пол-яблони". Он смотрел на нее и думал: если блаженное ощущение, которое разлито у меня сейчас по всему телу, и есть счастье, то нам не нужно его искать. Думать так было очень приятно. "Мы будем всегда любить друг друга, есть яблоки и снова любить, и снова есть яблоки - это прекрасно, - сказал он. - Я чувствую себя превосходно".
От удовольствия он сладко потянулся, раскинув руки.
Смяла ела уже третье яблоко и собирала в руку зернышки, подобрав и те, что выбросил Крабат.
"Одного дерева не хватит, - заявила она. - Ведь у нас будут дети, и нам надо заранее обо всем позаботиться".
Крабат почувствовал, что приятное ощущение начинает улетучиваться. "Я только что был почти счастлив", - произнес он с мягким упреком и, приподнявшись, сел.
"Ну и что? - ответила она, подняв брови. - Я тоже была счастлива. Но ведь теперь у нас появилось..."
Она не знала, что именно появилось: нечто неосязаемое, чего прежде не было. И что нельзя было ни увидеть, ни услышать, без запаха и вкуса, что-то, чему она не могла подыскать названия.
Смяла могла бы, как это часто делают в газетах, запустить руку в большой мешок со словами и вытащить оттуда первое попавшееся. Оно, возможно, окажется лишь приблизительно верным, но это "приблизительно" легко устранить, если добавить еще с десяток других, тоже почти точных слов: с математической точки зрения десять или даже одиннадцать слов, соединенных вместе, должны дать верный результат. Газеты ведь существуют не для того, чтобы учить людей точным словам, а для того, чтобы сообщать им о событиях и явлениях, и, чем точнее их информация о событиях и явлениях, тем меньшее значение они придают отдельному слову, если газеты вообще придают какое-нибудь значение словам.
Но Смяла придавала значение словам и ночью, когда мельник стерег их сон, а над ними повис страх, который они вдыхали, и их счастье стало иным, она нашла это слово: теперь на нас лежит "ответственность", сказала она.
Она произнесла это и тут же кончиками пальцев нежно коснулась Крабата, и он понял, что "ответственность" похожа на кувшин, в котором счастье и страх перемешаны, как вино с водой, и нельзя отделить одно от другого.
Когда он рассказал мельнику Кушку об этом удивительном кувшине, тот заявил, что все это только слова и их можно перемешивать, как угодно: тебе они кажутся вкусными, а мне нет, в понедельник они комом застревают в горле, как "затируха" из муки, а в среду тают на языке, как королевский пирог.
В подтверждение своей правоты он сослался на то, что само слово "счастье", которое люди на Саткуле употребляют для обозначения некоего состояния или обстоятельств, чуть восточнее равнозначно хлебу, а чуть южнее - скоту.
Хотя Кушку никто не возражал, он все-таки не был полностью удовлетворен собственными выводами, и вечером этого или другого дня занес в Книгу о Человеке свои сомнения, поставив после всех вышеизложенных рассуждений о новой редакции человека громадный, на всю тетрадную страницу, вопросительный знак.
Ибо скот, хлеб или яблочные зерна, которые Смяла сажала в землю, - все это означало одно - не голодать.
Огромный, как земной, шар мыслей покатился на него, грозя задавить, а может, это ручей мыслей струился непрерывным потоком, и, какое бы место на водяной глади ни ловил Кушк взглядом, оно сливалось со всем потоком и нельзя было проследить за его движением. Якуб Кушк вынул из мешка свою трубу, поднялся на чердак мельницы, высунул трубу в круглое окошко и заиграл свадебную песню.
Был тихий вечер, и дружка Петер Сербин на своем холме услышал песню, а он знал, что в округе этой ночью не праздновалось ни одной свадьбы. Поэтому он отправился на мельницу, а там уже, сидя на старом жернове, поджидал его Кушк.
"У тебя на дворе живет лис-двухлетка, - сказал мельник, - он лежит и греется на солнце, как собака, почему он не таскает твоих кур?"
"Наверное, потому, что получает вволю корма", - ответил Петер Сербин и поморщился; вместе с туманом вполз какой-то неприятный запах.
"Неужели ты превратил лисенка в собаку?"
"Сегодня или завтра какая-нибудь лисица поманит его, и, не сказав спасибо, он убежит вслед за ней в лес, а как проголодается, может, и вспомнит про моих кур, - сказал Петер Сербин. - Зачем ты спрашиваешь меня о том, что тебе и так хорошо известно?"
Якуб Кушк показал ему большой вопросительный знак в Книге о Человеке: может, надо не человека, а мир устроить по-иному?
"Пахнет селедкой", - сказал Петер Сербин.
Но мельнику не хотелось сейчас говорить про тухлые селедки, которыми лавочник Хильман удобрял свое поле, он думал о голоде или о страхе перед голодом: если не все беды в мире идут от этого, то наверняка многие.
"Может быть, счастье, - сказал Петер Сербин, употребляя слово, которое где-то означало хлеб, а где-то скот, - нужно просто поделить справедливо, и тогда его хватит на всех". Он вспомнил о графских полях в те времена, когда еще жива была графиня, которая ела селедочьи глаза, иначе у нее разыгрывалась мигрень. Тогда графские поля удобрялись безглазой селедкой и приносили богатый урожай, а на вырученные деньги граф покупал новую селедку. Батрак по фамилии Цшоке имел право вынимать из каждой бочки десять селедок, а остальные поливал навозной жижей и разбрасывал на полях. Навозную жижу он придумал после того, как однажды поймал на месте преступления одного батрака, лакомившегося графскими удобрениями. Хотя эта селедочная привилегия не передавалась по наследству, дети Цшоке, награжденные графскими именами, были воспитаны в почтительном страхе перед мигренью и, когда умерла графиня, евшая селедочьи глаза, все шесть недель носили траур. Им казалось, что рухнул миропорядок, при котором они могли гордиться своим привилегированным положением, и только новый страх мог восстановить его.
"Возможно, - сказал Петер Сербин, - существует еще очень много людей, которые должны есть селедочьи глаза, иначе у них разыгрывается мигрень, и еще слишком многие слепо поедают безглазую селедку".
Они некоторое время молчали, склонив поседевшие головы, опустив плечи, и без того согнувшиеся под тяжестью лет, и думали о длинной веренице промчавшихся годов, которые многое перемололи, но сколько вышло муки, а сколько отрубей? "Умер Цшоке, умерли графы, и черви не делают между ними разницы, - сказал Петер Сербин, - но мы ставим нашим погибшим сыновьям памятники, прославляющие войну, и мне страшно за наших внуков. Ты веришь в то, что есть Страна Без Страха?"
"Ах брат, - ответил Якуб Кушк, - если бы мы сначала нашли Страну Без Голода и Страну Без Войны!"
Он поднял трубу и сыграл песню "Вечный покой". Петер Сербин откинул назад голову и обхватил свою палку: здесь вечерний покой, а где-то Райсенберг, я вижу его тень там, где светит солнце, там, где оно скрыто тучами, на сером хлебе, который я ем, и на том хлебе, который снится голодным, я вижу его тень на моих страхах и на моей вере в то, что круговорот жизни будет продолжаться вечно, пока кто-нибудь не станет Крабатом. И я, свой собственный внук, спрашиваю, когда наконец Крабат вздернет на дереве Райсенберга?
Кто кого, подумал Крабат, спина его одеревенела, он вцепился в посох, в котором давление его рук и биение пульса заставили пульсировать кристаллы Яна Сербина, как плазму. Пульс стучал все громче и сильнее, он морзянкой выстукивал цепочку слов в кристаллах, код Восьмого дня творения, и Крабат, у которого внезапно распух язык, попытался, с трудом ворочая им, пролепетать только нет и не я.
И Якуба Кушка рядом с ним не было: он, кажется, забавлялся со стюардессой; и не успеет трижды пропеть петух, как твой друг трижды предаст тебя, а я не хочу быть Яном Сербином, распятым на кресте собственного знания.
"Вам нехорошо, господин профессор? - спросил бородатый, наклонившись над ним. - Выпейте коньяку..."
Крабат выпил коньяк, и рюмка в его руке внезапно превратилась в странный, переливающийся осколок зеркала, разлагающий свет на дрожащие радужные линии.
"Это компьютер, - сказал бородатый, - в его память записана вся ваша жизнь, и теперь вы можете увидеть себя вплоть до самого первого дня, как будто время движется вспять. Вы узнаете себя?"
Крабат узнал: Ян Сербин, который остался в самолете. Который боялся не Райсенберга, а самого себя: СИЛА в его руках, а где же щит Афины?
Ибо прежде, чем в руках моих оказалась сила, я уже представлял себе, как ее использую. Каждый раз, когда Смерть раскрывала свою огромную пасть и в ней сверкали страшные зубы - ракеты - за чем еще в мире ухаживают так бережно, - ядовитая желчь смерти разливалась повсюду и повсюду распространялось грязное облако безумия.
Мы сидели у Артура Кунингаса, кто-то, кажется это был Репин, играл на рояле, не знаю, слушали ли его остальные, а я сидел и смотрел на селектор. Не помню, что было за окнами - между нашими коттеджами и красным кирпичным зданием дирекции института, - осень ли играла пожухлыми березовыми листьями или весна ароматом анемонов, лето ли запахами грибов или зима снежинками - мы сидели там очень часто, и кто-нибудь из нас смотрел, не загорится ли лампочка селектора.
Я уставился на селектор, Репин играл мазурку Шопена, она хромала и спотыкалась, как подстреленный лось. "Перестань", - крикнул я, он обернулся и, улыбнувшись, сыграл какую-то детскую колыбельную, что-то вроде баю-баюшки-баю-не-ложись-на-краю, сыграл точно и с большим чувством, а Кунингас сказал: давайте тоже сыграем. Он произнес это совершенно серьезно и достал с полки домино из слоновой кости.
В какой бы точке земного шара ни пролегал тогда бикфордов шнур и как бы ни называл себя тот, кто собирался поджечь этот шнур, я знал его настоящее имя и в сотнях разных лиц узнавал его лик: один глаз Всеболше, а другой Всегдамало. И я вдруг сказал громко: Андромеда родила Персею четырех сыновей.
Они посмотрели на меня, да, сказал Кунингас и стал складывать костяшки обратно в коробочку.
Она не родила бы ему детей, если бы у него не хватило мужества показать голову Медузы Кефею и Полидекту и обратить их в камень, чтобы спасти от гибели Андромеду и себя (имеется в виду греческий миф о Персее, с помощью головы Медузы обратившем в камень царя Полидекта и отца Андромеды Кефея).
Репин закрыл крышку рояля, подошел к столу и посмотрел на меня. "Ты стремишься, - сказал он, - обладать мужеством превратить в пепел четыре пятых человечества, чтобы оставшаяся часть вернулась к каменному веку? И мне надо радоваться, что у одного из моих пятерых детей будет шанс выжить?"
Он приписал мне совершенно чуждые мысли: нас много, и мы будем составлять большинство выживших. Поэтому давайте бросим бомбу, ведь она уничтожит не только людей, но и себя самое и превратит в пепел ту почву, которая питает ее.
Я молчал и молчал даже, когда Кунингас спросил: может быть, ты хочешь в реторте создать голову Медузы? Я молчал, ибо отчетливо видел перед собой цель: нужно стремиться к тому, чтобы человека можно было разобрать и вновь собрать, как часы, только устройство человеческого механизма должно быть еще проще. Я создам голову Медузы и, как Персей, покажу ее тем, кто угрожает Андромеде, матери еще не рожденных сыновей. Я вырву у них власть над людьми и Я, как Афина, богиня мудрости, возьму эту власть в свои руки. А их - сотню олицетворяющих собой насилие и поправших права человека - я изолирую. Я помещу их в резервацию, на остров, где будет достаточно места для Клана Больших Денег, и между ними и всем миром воздвигну непреодолимую стену, какую они сами соорудили между богатыми и бедными. Я оставлю им их золото и бриллианты, их ненасытность и жажду власти. Они сожрут друг друга, как волки в стае, которая не находит добычи. Я установлю на этом острове телевизионные камеры, и они разоблачат перед всем миром жалкую суть их стремлений: всё больше и всегда мало. Сколько раундов продержится стая, в которой волки пожирают ДРУГ друга?
Изолированные от человечества не будут страдать от голода и жажды, но в один прекрасный день в резервации какая-нибудь группа - Семь Сестер или Три Золотых Пальца или Те с Моста - захватит все продовольствие и начнет продавать кусочки хлеба за серебряный слиток, глоток молока - за унцию золота, банку тушенки - за знаменитый алмаз Кохинор, а тот, кому не на что будет купить еду, умрет с голоду или начнет убивать; продовольствие, которое не раскупается, станут сжигать или сбрасывать в море; их волчий мир будет существовать до тех пор, пока последний и предпоследний не убьют друг друга в борьбе за власть.
Нет, не то, я не Персей, и мне не нужна голова Медузы. Я никого не хочу превращать в камень.
"Ты утверждаешь, - обращаюсь я к Кунингасу, - что моя наука, достигнув своей цели, неизбежно должна создать мутантов homo sapiens, и думаешь, что это и есть окаменение. Я же считаю, что где-то в человеческом мозгу возникла неверная связь и она не дает человеку окончательно выйти из звериного состояния. Таким образом - это пришло мне в голову только сейчас, - я могу правильно интерпретировать твои любимые слова о спасении того, "кто жил трудясь, стремясь весь век": спасение человека - в окончательном преодолении в себе зверя. Конечно, не в биологическом смысле, а в том, что человек должен попасть под абсолютную и ничем не ограниченную власть собственного разума".
Они внимательно посмотрели на меня - три моих лучших друга, - и Кунингас торжественно, как заклинание, произнес: Ян Сербин, я желаю тебе, чтобы ты никогда не нашел того, что ищешь. Ради людей, ради тебя самого.
Он произнес эти слова с видом пророка из Ветхого завета, и я, уже уходя, сказал: для чего же мы тогда лечим шизофрению в мозгу какого-нибудь несчастного, если не хотим избавиться от Великого Безумия?
Я чувствовал, что могу отыскать путь к СПАСЕНИЮ, и не сомневался в своем праве на власть над людьми.
И мудрость моя пребыла со мною.
"Фантасмагория, - сказал Крабат бородатому, - это пучок сена, который суют в морду ослу, чтобы он шел не упрямясь".
"Позволю себе заметить, - прошептал бородатый, - что пучок сена стал теперь вполне конкретным, в погоне за ним вы сами его создали".
Зачем объяснять ему разницу между знанием и мудростью, подумал Крабат, и вообще какое он имеет ко мне отношение?
Но как оказалось, Он имел к нему отношение. "Я приставлен к вам на все время конгресса в качестве сопровождающего", - прошептал бородатый, и, когда самолет приземлился, он засуетился вокруг Крабата, а Якуба Кушка нигде не было.
Два услужливых молодых человека со значками конгресса на лацканах пиджаков и Ибу Ямато встречали его у трапа. Лицо у Ямато было как из латуни.
Они быстро, как по мановению волшебной палочки, прошли контроль, и, уже сидя в машине, Крабат спросил Ямато, как чувствует себя его сестра.
Во время их последней встречи Ямато рассказал Яну Сербину о своей сестре Кийо, которая родилась в сентябре 1945 года в деревне поблизости от Хиросимы, и теперь, спустя столько лет, в ее организме вдруг обнаружились вызывающие тревогу изменения. Ямато был в то время очень озабочен ее состоянием.
Его тогдашняя тревога оказалась необоснованной, все в порядке, ответил он с вежливым безразличием и добавил: какая великолепная сегодня погода.
Погода в тот день действительно была великолепной: с гор, овевая все семь холмов, дул прохладный ветер, который смягчал воздух, и дышалось легко. По городу ползла полувысохшая от летнего зноя река, оставляя на узких берегах маслянистые лужи: где-то звонили колокола - в этом городе всегда звонят какие-нибудь колокола. Вечный город, сказал бородатый, когда они стояли на улице перед гостиницей, и показал на знаменитый обелиск посреди широкой круглой площади, окруженной колоннами в четыре ряда; со стороны обелиска кажется, что ряд только один. Ими восхищаются туристы, их показывают гиды, как будто это какое-то чудо, а не простая геометрия.
Напротив отеля на другой стороне улицы, прислонившись к дверям, стояла булочница и, болтая с соседом справа, владельцем табачного магазинчика, с небрежной вежливостью кивнула соседу слева, маленькому седому кардиналу, который с неожиданной стремительностью, как фехтовальщик, делающий выпад, выскочил из тяжелой черной машины; одетый в темное слуга в белых перчатках распахнул перед ним необычайно высокую и узкую входную дверь.
Крабат медлил, он все еще надеялся, что появится Якуб Кушк, может быть, в обличье кардинала или владельца табачного магазинчика, но сопровождающие плотно обступили его и повели в отель, настолько изысканный, что в его прохладном вестибюле раннероманского стиля даже пожилые заокеанские дамы и молодцеватые господа в баварских шляпах с перышком разговаривали вполголоса, а телефоны жужжали приглушенно. Бородатый зашептал еще назойливее, и без того молчаливый Ямато окончательно умолк. Все было готово к приему профессора Яна Сербина, и, когда Крабат остался один в своем номере, открылась дверь шкафа и оттуда появился Якуб Кушк, ухмыляясь и прикладывая палец к губам.
С помощью своей трубы он исследовал комнату, труба протрубила шесть раз, и в шести местах отыскал Якуб Кушк крошечное чужое "ухо" и обезвредил его. "Даже если ты увидишь здесь муху, - сказал он, - убей ее, брат! Потому что, может статься, она перелетит в соседнюю комнату и сядет на ухо бородачу, а ведь он как две капли воды похож на ушастого лорда из "Волшебной лампы Аладдина".
"Где ты был?" - спросил Крабат.
"На седьмом небе, брат, - ответил Якуб Кушк. - Лорд дал мне хлебнуть глоток, и я очутился на седьмом небе, но девушка захотела вернуть меня, быстро дала мне выпить еще глоток, и я снова очутился на земле. Слава богу, иначе они бы тут тебя отделали!"
Мы не смогли спасти человека, открывшего Черный Камень, подумал Крабат, и не спасем Яна Сербина, если он не вернется домой, пока не поздно. Сколько у него еще есть времени?
"Пока ты - он", - ответил Якуб Кушк.
Пока я - он; и вновь раздался рев Сциллы и Харибды, вспыхнули сторожевые костры Марка Лициния Красса, которого они называют Богачом, плотники сооружали крест, на нем меня должны распять, а я всего лишь человек, и кровь стынет у меня в жилах. Я ложусь к Айку, ее лоно манит меня, ее грудь упруга, и я говорю ей: где-то далеко отсюда - Смяла, ее кожа благоухает, как твоя, ее любовь как твоя любовь. Я хотел найти для нее счастье, поэтому я изменял окружающее пас, и каждое изменение приближало меня к счастью и одновременно неосязаемой преградой, как тень, вставало на моем пути; счастье все отчетливее рисовалось впереди, но в конце я оказался пойманным в тень собственных поисков. Может быть, я искал не то или искал не так?
Но ведь мы уже были в Истрии, шепчет в ответ Айку, и ее прохладная рука лежит на моей груди, она чувствует, как спокойно и бесстрашно бьется мое сердце, но и в нем живет страх перед крестом Красса. Нам нужно было сделать только один шаг, перейти границу, и мы были бы свободны, шепчет она.
Тогда нам пришлось бы показать римлянам спину, и Красе смеялся бы над нами и вместо нас распял бы на кресте надежду. Отступая, не найдешь ничего, кроме прошлого, смириться - значит предать себя и свои мечты и отречься от собственных вопросов.
Отрекись! - крикнул Райсенберг. Уже сложен был костер, и палач держал в руке факел, а я стоял, привязанный к столбу. Райсенберг, облаченный в пурпурную мантию, подбитую горностаем, сидел среди архиепископов. На коленях он держал золотой крест, которым убивал тех, кто пытался взобраться по Святой Лестнице, что вела наверх к Святой Мельнице. Мельница была в облаках, разрежен там воздух, трудно дышать, и жалок плач обманутых, которые тащат тяжелый мешок, наполненный справедливостью, со ступеньки на ступеньку, стирая в кровь колени. Святая Мельница размалывает справедливость, как просяные зерна, и пропускает их сквозь сито для кукурузных зерен - что просыплется, то для господ; потом сквозь сито для пшеницы - что просыплется, то для слуг, и, наконец, сквозь сито для проса - что просыплется, то народу.
Я не призывал уничтожить Святую Мельницу или заменить одно сито другим; я знаю: Великая Справедливость не насытит никого, если не включает в себя тысячи маленьких справедливостей, я проповедовал одинаковое сито для всех, хотя господ гораздо меньше, чем нас.
Осудив меня на своем соборе, они свили из слов Нагорной проповеди господа нашего Иисуса веревку и привязали ею меня к столбу. Их страх перед моим словом был сильнее грохота Рейнского водопада.
Отрекись, крикнул Райсенберг во второй раз, но я не отрекся от своего учения: нельзя учить тем ответам, которые рождает покорность, а нужно учить тем вопросам, которые помогают нынешний день превратить в день грядущий. Они говорят, что я призываю к бунту и насилию, а я призываю лишь по-братски разделить хлеб и вино.
Отрекись, в третий раз проревел Райсенберг, голосом громким, как шум речного порога, но я не отрекся от своего учения: любая привилегия - несправедливость, большая или меньшая, но несправедливость.
Райсенберг поднял золотой крест, костер вспыхнул, они сожгли меня, сердце мое превратилось в пепел, пепел они бросили в речной поток. Река понесла его в море, солнце подняло в облака, облака вылили его на землю, и я стал бессмертен, частица меня в каждом, кто ищет справедливости, чтобы обрести счастье.
И Ян Сербин, который не верит в слова проповеди и в то, что с их помощью можно создать одинаковое для всех сито, тоже ищет справедливости. Пока я - он, его еще можно спасти.
"Помоги ему, - говорит Крабат, - отправь его домой".
Якуб Кушк долго сидел молча, за это время солнце сдвинуло тень обелиска на четверть окружности. Разве уже пришел час одному из нас отправиться на восток, а другому - на запад, чтобы убить страх? Или настало время вновь встретиться под липой, где висит образ Девы Марии у Леса, и спросить друг друга: как же ты спасся, брат? Или у них еще есть время предотвратить предсказанное?
"Только если мы отречемся от самих себя, кончится Седьмой День и не начнется Восьмой, - сказал Крабат. - Иди, брат!"
И Якуб Кушк пошел по улицам этого города, мимо развалин канувшего в прошлое мира, - цветные глянцевые фотографии этих развалин туристы увозили с собой в качестве сувениров, а не как частицу обдуманного прошлого. Он шел мимо людей с утраченными мечтами, мимо тех, кто носился с планами созидания нового мира, мимо купола Микеланджело, невозмутимо принимавшего святые молитвы и мирское любопытство, так же каменно недвижимо, как Мадонна с Пьеты, оплакивающая убитого сына.
В давящей недосягаемой пышности купола окаменела идея чистой справедливости, Нагорная проповедь превратилась всего лишь в образчик наивной поэзии, а церковная иерархия - священный порядок - превознесла саму себя, как высшую святыню. Ничего не изменилось в мире: вечное блаженство по-прежнему где-то на небе, а человек живет на земле.
Якуб Кушк слышал последний вздох и первый крик человека, который не по собственной воле начинает и прекращает свое существование, никто не спрашивает его, хочет он этого или нет. Мальчик просил милостыню, девушка предлагала свою любовь, хлеб наш насущный даждь нам днесь; один человек убивал человека, а другой возвращал мертвого к жизни, вставив ему чужое сердце; женщина кормила грудью ребенка, а другая обнаружила у себя в груди опухоль, и ей не помогло, что на шее у нее в несколько рядов висела нитка дорогого жемчуга; солдат учился стрелять в своих братьев, а две тысячи его братьев, сидя за грубыми столами, учились распознавать врага под любой маской; а в Колизее в трех шагах от императорской ложи из узкой трещины между двумя травертиновыми плитами проросла маленькая березка.
Якуб Кушк шел по городу и представлял себе, как из хаоса возникнет сложный, многоступенчатый порядок, а из пестроты - красота, и вот уже город стал прекраснейшим городом в мире. На Капитолийском холме Кушк прислонился к колонне на Тарпейской скале и сыграл песню в честь Тарпеи и всех женщин, которые любили своих сыновей больше, чем их воинскую славу. А когда город, окутанный дымкой, остался далеко позади, он увидел, как сокол бросился на голубя. Но он не отрекся от своей песни, посвященной Тарпее, потому что сокол - это сокол, и он убивает голубя, как человек - теленка. Якуб Кушк шел, погруженный в эти мысли, но так и не успел додумать их до конца; внезапно его арестовали и привели к судье.
"Ты играл песню, которая нам не нравится и потому запрещена", - сказал судья.
"Ты должен доказать, господин цензор, - возразил Трубач, - что твое недовольство совпадает с законом".
"Я не цензор, а претор", - надменно заявил судья.
Якуб Кушк взглянул на двенадцать плит, на которых были написаны законы. "Читай сам, господин цензор". И он указал пальцем на закон на первой плите, запрещавший всякое восхваление войны.
"Я вижу по твоему паспорту, что ты музыкант, - сказал претор. - В минорах и диезах ты разбираешься, не спорю, но я претор и слежу за выполнением законов, и тут ты со мной не спорь. Ведь и у музыки есть свои законы. Разве не так?"
Якуб Кушк поднял вверх указательный палец: "Послушай: поет жаворонок. Даже он соблюдает музыкальные законы".
Претор прислушался. "Тра-ля-ля, - сказал он презрительно. - Жаворонок - неразумная пичуга, она тирликает для всех: для праведных и неправедных, для нас и для наших врагов. А ты..."
Якуб Кушк перебил его: "А я, господин цензор, какую бы мелодию ни играл, я играю ее для нас, каждую песенку для нас, и все мои песни против Райсенберга. Моя песня для Тарпеи и для всех женщин, которые любят своих сыновей больше их воинской славы. И пусть тебе не нравится эта песенка, но она тоже горсть земли для того дерева, на котором будет висеть Вольф Райсенберг".
Претор или цензор - Якуб Кушк не разбирался в этих тонкостях, к тому же некоторые считают себя не тем, что они есть на самом деле, а некоторые на самом деле то, чем они себя не считают, - вышел из дому и смотрел вслед удаляющемуся трубачу, и кипарис почти у самого горизонта был похож на огромную ель, широко раскинувшую свои ветви на лужайке. Лужайка была словно выстлана пушистым зеленым ковром с белым и голубым узором. Ветерок ласкал, солнце пригревало человека, который сидел у ели и ждал, когда превратится в травинку или в крошечный проросток ели.
Якуб Кушк уселся рядом на плоский камень, опустив ноги в густую траву и прислушиваясь к жужжанию лужайки.
Через некоторое время он спросил: о чем ты думаешь?
"Ни о чем, - ответил Ян Сербин. - Я перестал думать".
"Какое же оно, это "ниочем"?" - спросил Якуб Кушк, изобразив на лице веселье.
Ян Сербин смотрел в сторону, он не видел веселого лица Якуба Кушка. "Ты мне не нужен, уходи!" - сказал он, и, что бы его друг ни говорил и ни делал, он не слушал и не замечал его.
Теперь Якуб Кушк понял, почему Крабат просил его привести Сербина домой: дома нельзя делать вид, будто ничего не видишь и не слышишь. Дома ты сам с собой, и, чего бы ни касались твои руки, они касаются себя самого, куда ни пойдешь, повсюду встречаешься с самим собой, и на всем печать твоего времени, и это время бежит назад к Смяле, еще не потерянной, и вперед к Смяле, обретенной вновь. И во всем твоем времени главный враг - Райсенберг.
Якубу Кушку пришло в голову, что мысль ни о чем - это младшая сестра скудной мысли, и они обе бегут, одна быстрее, другая медленнее, к Городу Слепых. Стражник у ворот спускает корзинку, в которую они кладут свои глаза. Кто-нибудь, может ушастый лорд, а может одноглазый нищий, встречает пришельцев и ведет их в пустой замок Райсенберга, а этот замок как огромная воронка, которая всасывает знание и совесть и выбрасывает опустошенные души в трактир "Лампа Аладдина", чтобы они развлекались, как им вздумается: жизнь пестра - живи весело, жизнь коротка - прожигай ее.
От страха, что Ян Сербин попадет в этот замок, Якуб Кушк придумывал каждый день все новые и новые вопросы, он хотел, чтобы Сербин перестал думать ни о чем и снова стал разговаривать по-человечески.
Он спрашивал его о северном сиянии, которое сверкало ночью на небе, никогда прежде не виданное, завораживающее и подавляющее своим холодным блеском; он спрашивал об убитом шефе, продававшем воду, и о том, может ли человек, обретя разум, постоянно руководствоваться им, становясь еще более разумным. Он спрашивал о бесконечной равнине, которая была кожей Марии, и о великом одиночестве, которое затем последовало, спрашивал о Деве Марии у Леса и о том дне, когда хоронили дружку Петера Сербина; он спрашивал и спрашивал, но Ян Сербин оставался глух или, может быть, только нем?
Он вспомнил, что видел однажды философа, который был точно так же глух и нем, правда, этот философ был памятником и сидел на мраморном постаменте, но все-таки он очень походил на теперешнего Яна Сербина.
Кушку было нетрудно придумывать философские вопросы, ему было очень трудно находить для них соответствующие слова, и то, что он говорил - за это время кукушка прокуковала семьдесят три раза, - показалось ему столь философски туманным и многословным, что он почти поверил, что это дойдет наконец до ушей Яна Сербина. Очень возможно, говорил он, что вначале человек не убивал себе подобных, как сокол не трогает сокола, а волк - волка. Значит ли это, что, когда человек вышел из звериного состояния, он снял с себя и запрет не убивать сородичей? Что мозг его, увеличиваясь, постепенно сломал изначальное табу и, придумав для человека Высшие Ценности, санкционировал убийство человека человеком и даже освятил его?"
Но какие высшие ценности дороже человеческой жизни?
Ты, Ян Сербин, думаешь, что человек, развивая свой мозг, достигнет самой высшей ступени человечности. Разве не на этом пути человек стал убийцей себе подобных?
Ян Сербин молчал.
И Якуб Кушк понял, что человека, который думает ни о чем, очень трудно, почти невозможно снова заставить мыслить, если стараться думать за него. Это только отучит его размышлять, и Восьмой День никогда не наступит.
Всегда, когда он вспоминал о Восьмом Дне, его охватывало чувство голода. Возникала обратная связь: высокие парения духа вызывали низменные гастрономические желания. Вот и теперь ноги сами понесли его на кухню. Он начистил большую сковородку картошки, чтобы пожарить ее с салом и луком на медленном огне в духовке. Через час запах жаркого проник из хижины на лужайку, заглушив все ароматы лета, и, когда еще через час Якуб Кушк поставил перед Яном Сербином полную тарелку жареной" картошки, приправленной ложкой простокваши, Сербину вдруг расхотелось стать проростком ели, и он сказал: "Однажды в детстве я упал с дерева и сломал руку. От боли или страха я потерял сознание и пришел в себя, когда почувствовал запах жареной картошки. Никто не умел готовить ее так вкусно, как моя мать".
Якуб Кушк мог бы ответить, что поджарил ее в точности так, как делала это его мать, но он сказал только, что к картошке недостает соленого огурца, и Ян Сербин вспомнил, как солил огурцы отец, он почти священнодействовал, а Трубач спросил, как же его отец совершал этот ритуал?
Хотя Ян Сербин снова замолчал, но он уже перестал думать ни о чем. Иногда у него вырывались отдельные фразы - это был не бурный поток, размывающий плотину, его слова скорее походили на зеленые плоды, падающие с дерева и сгнившие, так и не успев созреть: трудно даже определить, какого они сорта.
Весь город пришел в возмущение, когда городской совет принял решение отравить десять тысяч голубей. Почему же не возмущаются все города мира, когда...
Такие вещи говорил он самому себе, про себя или обращаясь к себе, говорил неуверенно, прерывающимся голосом, удивляясь тому, что к нему возвращается утраченная способность говорить, и все еще не веря, что к нему вернулся дар речи.
Якуб Кушк побоялся спросить, что означали эти обрывки фраз; он чистил трубу, и в ее сверкающей воронке видел человека, сидящего у ели; его тело, отражавшееся в углублении трубы, казалось крошечным, а голова огромной, с мозгом, проникающим в галактики и отчуждающим самого себя. Трубач заговорил, он обращался к своей трубе, к качавшимся на ветру цветам, к муравьям, усердно сновавшим между камнями, к пчелам, перелетавшим с цветка на цветок, но он все-таки говорил, надеясь, что его простая история дойдет до ушей, оглохших от грохота глобальных проблем.
"Однажды мы пришли в город, которому подчинялись все деревушки на Саткуле. В этом городе искали нового бургомистра, потому что прежний потерял голову под топором королевского палача. И поскольку никто не знал, удовлетворится ли король одним бургомистром без головы или же под влиянием святой троицы - произвола, несправедливости и плохого настроения - ему понадобятся еще три головы, в магистрате сидели тихо, как лягушки зимой. Когда молчат лягушки, квакать приходится воробьям, сказал я Крабату, а он засмеялся и ответил, что из нашей затеи ничего не выйдет, это все равно что бить молотком мух, сидящих на оконном стекле, но мы все-таки отправились в ратушу и объявили, что готовы занять пост бургомистра: один из нас или оба вместе. В магистрате увидели мою трубу и сказали: ты музыкант, и в голове у тебя ноты, а мы в них не разбираемся. Поэтому ты не можешь стать нашим бургомистром. А Крабата они спросили, моет ли он ноги в Саткуле. Не только ноги, но и шею, и руки, и грудь, и живот, ответил он.
Тогда они велели опрыскать воздух благовониями. Вода в Саткуле ужасно воняет, сказали они. Ведь не хочешь же ты, чтобы мы, являясь к бургомистру, зажимали носы.
Крабат не стал объяснять им, что вода в Саткуле пахнет ничуть не хуже, чем в колодце да рыночной площади. Он сказал: у всех вас райсенберговский насморк, хорошо бы его вылечить.
Один из отцов города, который был очень образован, процитировал слова поэта: Наследовать достоин только тот, кто может к жизни приложить наследство, - и добавил: мы унаследовали свои носы от наших отцов, и, что для них дурно пахло, дурно пахнет и для нас. Аминь.
Семь недель город оставался без бургомистра, а потом появился новый претендент, тоже из деревушки, расположенной на Саткуле.
У отцов города и в самом деле было очень тонкое обоняние, и они спросили недоверчиво: ты тоже моешься в Саткуле?
"В Саткуле? - переспросил претендент. - В этой сточной канаве, куда я выбрасываю мусор? Как я могу в ней мыться? Каждую неделю я набираю для питья и умывания полный кувшин чистой воды из вашего колодца на рыночной площади".
Но твои мать и отец... - сказали отцы города.
Претендент перебил их: "Разве дети отвечают за своих родителей? Вот я, к примеру, слеп, когда вижу отца, и глух, когда слышу мать".
Отцы города благосклонно закивали, они охотно сделали бы его бургомистром, но, разговаривая с ними, он поймал трех вшей в своей бороде, а им не хотелось заводить у себя насекомых, поэтому они предложили ему высокую и хорошо оплачиваемую должность лизальщика сапог, причем сама процедура лизанья была чисто символической.
На пост бургомистра они в конце концов выбрали человека, который денно и нощно заботился о благе города, правда только на словах. Его собственные дети, оборванные и голодные, выпрашивали у соседей кусок хлеба, и в магистрате решили: раз человек не заботился о своих ближних, значит, он посвятит себя крупным общественным делам.
Этот бургомистр вскоре умер, толком не насладившись властью, и горожане, не успевшие, к своему счастью, разделить судьбу его детей, написали ему на могиле следующую эпитафию: "Его любовь к человечеству была и осталась лживой",
Собственно говоря, вместо слова "лживой" в надписи должно было стоять "живой", но резчику свой вариант показался уместнее, к тому же на плите оставалось еще немного места.
Якуб Кушк рассказывал бы свои истории и дальше: о другом бургомистре или о священных коровах, которые погибли во время войны и голода, осталась только одна телка. Сначала люди решили зарезать и ее, но потом пожалели и подумали, что, воспитываясь в одиночестве, она превратится в обычную молочную корову. Они забыли, что в их головах невольно сохранились образы священных коров, и эта неубитая телка стала родоначальницей нового стада священных коров. Для них воздвигались коровники, и из-за этого порой не строились детские сады. Это огорчало людей, но они были счастливы, что снова обрели своих священных коров, и тот, кто ругал их, попадал на заметку, а тому, кто сомневался в их святости, грозило изгнание. Якуб Кушк мог рассказать сколько угодно таких историй - лишь бы подсыпать пороха в гаснущий костер, - но заметил, что его слушают муравьи или пчелы, но только не Ян Сербин. Тот все еще производил впечатление человека, мозг которого заключен в почти непроницаемую для мыслей оболочку. У него вдруг вырвался обрывок фразы, еще один, - они как будто спешили занять пустые клетки в непрерывно меняющем свои очертания кроссворде.
Потом молчание и про себя, для себя даже: жалеют, что дети не появляются на свет в мундире... счастливы своим умом и своими детьми и несчастливы без пушек, но пушки постоянно ввергали их в несчастье... - слова входили в тот же кроссворд, но карандашом, осторожно, чтобы не ошибиться.
Якуб Кушк не приходил ему на помощь, он знал, что такой кроссворд человек решит, только когда перестанет наслаждаться сознанием его невероятной сложности. Но в обрывках фраз, которые бормотал Ян Сербин, слышался едва уловимый оттенок грусти, и это настраивало Кушка на веселый лад, ибо он был убежден, что грусть - предвестница надежды. Но тут его укусил комар, и он вспомнил песенку о том, как такой вот комарик укусил владельца замка Будусинк и лишил его разума, поэтому Кушк с легким сердцем соскользнул с холодной гладкой льдины философии на твердый берег обыденной жизни и обрызгал Яна Сербина смесью, состоявшей из Семи Запахов Благородной Жизни, собранных в зеленовато-черной бутылочке, которая случайно оказалась в хижине на подоконнике. Каждый из семи запахов притягивал сто комаров. Якуб Кушк присел в стороне на камень и стал ждать возвращения Яна Сербина к людям.
Его позабавила пришедшая ему в голову мысль: того, кто стремится защитить себя, еще можно спасти.
Крабат, может быть, нашел бы более умные слова, воспаряющие выше и проникающие глубже, но самые глубокие и высокие слова не могли бы изменить того, что человека, сидящего у ели, можно было спасти от Райсенберга только в том случае, если он по собственной воле решит встать и перестанет мечтать о том, чтобы превратиться в травинку или в проросток ели.
Небо стало прозрачным, как зеленоватое стекло, несколько сосен на его фоне играли ветвями, человек у ели, окруженный комариным роем, прихлопнул десятого комара, а когда одиннадцатый укусил его в нос, выругался.
Якуб Кушк поднял свою трубу и заиграл туш, который сам собой превратился в торжественную и веселую свадебную песню.
Ян Сербин встал и сделал несколько шагов, еще неуверенно и спотыкаясь, он вошел в хижину, взгляд его упал на часы с календарем, он вспомнил, что три дня назад у его отца был день рождения.
Глава 16
Проснувшись, жена поздравила его и пожелала ему здоровья, он взглянул на часы, они показывали полчетвертого, да, да, сказал он, поспи еще немного.
Он тоже заснул, а может, и нет, потому что какой же крестьянин летом в этот час спит.
Около полседьмого мальчик принес от булочника пакет с булочками, положил у дверей и исчез. Чуть позже появилась воспитательница детского сада фрау Кречмар со своими малышами. Дети пропищали поздравительную песенку и преподнесли ему семнадцать измявшихся в потных кулачках цветков: маки, васильки, маргаритки.
Около девяти явился бургомистр на своем мопеде, традиционная корзина с подарками и букет цветов висели у него через плечо на кожаном ремне, там, где обычно помещался портфель.
Хандриас Сербин считал, что поздравление с днем рождения, вероятно, входит в обязанности бургомистра, и поэтому принял поздравление от общины без особого удивления. Бургомистр выпил чашку кофе, съел три кусочка бабки, и на языке у него все время вертелась фраза: счастлив тот, у кого такие дети, но его язык так и не повернулся эту фразу произнести, и он завел разговор об урожае, хотя рассуждал о нем, как может рассуждать человек, мало что в этом смыслящий, а такой разговор никак не мог заинтересовать Хандриаса Сербина.
В десятом часу внизу за холмом первый комбайн проделал полосу в ржаном поле, а четверо его собратьев, похожих на слонов с поднятыми хоботами, еще стояли на дороге, как бы принюхиваясь. В полдень машины доберутся до холма, и тогда Хандриас Сербин подойдет к ним и возьмет горсть свежего зерна, по запаху он определит, хорошее оно или нет. Но скорей всего он не пойдет туда, чего доброго, те мальчишки еще поднимут его на смех - им ведь теперь вроде все равно, что возить: гравий ли, зерно ли.
Чуть позже на холм поднялись двое из этих парней, запыленные и вымазанные машинным маслом; один был в кепке, другой держал свою, пропотевшую и выгоревшую на солнце, в руках: она была доверху наполнена серыми матово-блестящими зернами.
Они начали с торжественного поздравления и всяческих пожеланий, но запутались, смешались, назвали его "дедушкой", перешли на "ты", и дело пошло легче. А когда паренек, сняв кепку, вынул из нее двойной колос - была ли хоть одна жатва в жизни Хандриаса Сербина, когда за полями его старой соломенной шляпы не торчал на счастье такой колос? - у старика запершило в горле (ведь в восемьдесят становишься более тонкокожим, чем был в сорок), и парни уже готовы были пожалеть о том, что им пришло в голову принести старику счастливый колос и первое зерно в кепке. От водки они отказались, но с удовольствием взяли с собой в поле кувшин малиновой воды, холодной, как из колодца.
Было уже около одиннадцати, когда на дорогу, что вела от сербиновского пруда к холму, свернула длинная черная машина. Когда-то эта дорога с твердой колеей, по обочинам которой и середине, на ширину телеги, росла трава, была очень хороша для воловьей упряжки, но тракторы и комбайны разбили ее, понаделали ям и колдобин. Черная машина подскакивала на ухабах, ныряла в рытвины; притормозив у морового столба, она поехала дальше и остановилась у холма.
Хандриас Сербин недоверчиво взглянул на машину - опять, наверное, какой-нибудь музейный профессор нацеливается купить моровой столб - и, рассердившись, решил: напишу в завещании, чтобы этот столб на мою могилу поставили. Он отвернулся, потому что не хотел даже взглядом встретить скупщика его истории.
Из машины вылез Антон Донат, шофер подал ему маленький сверток и большой букет роз. Сняв бумагу, Донат увидел, что розы в букете разных цветов: дело в том, что у него была новая секретарша, которая не знала, что Антон Донат всегда преподносил только темно-красные розы или алые гвоздики.
В данном случае это не имело особого значения, но ему было неприятно, что твердые установки нарушаются из-за обыкновенной нерадивости.
По поводу установок Антон Донат мог даже пошутить, если обстановка позволяла, но человеческая нерадивость сидела у него в печенках, а именно этому органу он уже в течение двадцати лет приписывал функции так называемой души или сомнительного, не имеющего отношения к анатомии "сердца".
Пестрота розового букета слегка нарушила нормальную работу его печени, и та даже начала вырабатывать желчь, которая, достигнув мозга, заставила Антона Доната остановиться на полпути в нерешительности; далеко не каждый день случалось, чтобы Антон Донат усомнился в правильности принятого им решения. Ненадолго - всего на одну или две секунды, после чего у него вновь возникла твердая уверенность в том, что отправиться с поздравлением к старику, отцу знаменитого ученого, который все еще держал в тайне свое открытие, - поступок совершенно правильный.
У дверей дома, прислонившись спиной к нагретой солнцем каменной стене, сидела женщина. Донат не знал, что она не могла его видеть, он подошел к ней и поздоровался. Женщина протянула руку, неожиданно твердую и теплую, ее старческое лицо осветилось приветливой улыбкой.
Он назвался, но морщинистое пергаментное лицо осталось по-прежнему доверчиво доброжелательным. "Вы, наверное, друг моего сына, - сказала она. - Я жду его каждый день".
Старик сидел на скамеечке под липой и качал головой, глядя, как два комбайна продвигались теперь по полю: не прямо, а наискосок, от холма к лесу.
Его очень занимало, с какой это делается целью, и все же он был настолько вежлив, что объяснил новому поздравителю, на которого даже не взглянул, что ездить вот так вдоль и поперек по полю - чистейшая глупость.
Антон Донат улыбнулся, достал из свертка бинокль, настроил на резкость и передал старику. Взгляд Сербина скользнул по окрестности, потом, взяв бинокль двумя руками, он увидел оба комбайна, теперь они были от него на расстоянии каких-нибудь десяти шагов, и узнал одного комбайнера - это был тот парень, что принес ему счастливый колос.
"Может, они и неспроста так делают, - сказал он, поразмыслив немного, - ребята ведь не дураки".
Он еще раз посмотрел в сторону деревни, увидел, что возле школы, несмотря на каникулы, собрались дети, и вернул Донату бинокль. "Спасибо, - сказал оп, - такая штука заменяет ноги".
И тут Антон Донат наконец получил возможность по-настоящему поздравить старика, вручить ему бинокль и цветы. Он произнес всего несколько слов, но очень сердечных, сопровождая их своей знаменитой улыбкой: правый угол рта приподнят, а левый опущен.
Именно по этой улыбке и узнал Доната Хандриас Сербин, его лицо сразу же сделалось замкнутым, тяжелый подбородок выдвинулся вперед, желваки вздулись.
Антон Донат отметил это, с одной стороны, с удовлетворением, так как произошло то, что он предвидел, с другой стороны, с некоторым огорчением, так как не произошло того, на что он все-таки надеялся.
Он надеялся, что старик обо всем забыл. Или, более того: одумался и стал благоразумным.
Забыл Хандриас Сербин о прошлом или нет, неизвестно, но сейчас его волновало настоящее: он не знал, как ему быть. Отец Доната живет в соседней деревне, он каменщик и до сих пор понемногу работает, но разве сын когда-нибудь преподнес ему бинокль? Отчего же он дарит его мне? Или, может, бинокль - подарок правительства? Но при чем здесь правительство? Хандриас Сербин не знал, кого ему благодарить за подарок. Лицо его застыло в растерянности, тяжелый подбородок выдвинулся вперед от напряженных раздумий, а желваки вздулись оттого, что его мысли не поспевали одна за другой. А может, теперь уже и правительству понадобился моровой столб? Тогда я швырну этот бинокль Донату.
Последняя мысль успокоила его, он опять почувствовал себя хозяином положения. Выражение его лица смягчилось, он снова поднес бинокль к глазам, чтобы поглядеть на комбайн. За одним комбайном теперь тянулась полоса серо-красной пыли, как будто слон дунул хоботом в кучу золы. В пыльном облаке на мгновение скрылась красивая голубая машина. Хандриас Сербин чуть улыбнулся. "Что взять с бесплодной земли, - сказал он и пояснил: - Мне было, наверно, лет десять, когда мой дедушка посадил на том месте три или четыре сосны и пару берез. Чтобы в страду было где отдохнуть в тени".
Эту тень - которую теперь не найти никому на бесплодном клочке земли, потому что год назад председатель кооператива распорядился выкорчевать мощным бульдозером все посаженные деревья, - эту тень Антон Донат увидел теперь на лице старика.
И несколько слов, сказанных Хандриасом Сербином о своем деде, приобрели теперь мрачный оттенок, в них зазвучала обида или даже обвинение.
Донату послышалось: там с незапамятных времен было наше поле. Пятьдесят раз я собирал с него урожай. А ты, Антон Донат, отнял его у меня.
Лицо Доната тоже изменилось - улыбка, которая кому-то могла показаться кривой, а кому-то сердечной, сменилась выражением поучающей, снисходительной строгости, но и тут Антон Донат сразу же выбрался на столбовую дорогу давно передуманных мыслей, и на его лице появилась новая улыбка, еще более мягкая, вызванная уверенностью в том, что восьмидесятилетний не может видеть мир глазами двадцатилетнего и что нужно не только проявлять по отношению к отцам терпение, но прежде всего выказывать уважение к их летам, пусть даже их поведение кажется порой нелепым или неразумным. Возможно, что их заблуждения - это часть цены, заплаченной за то, что сегодня мы стали умнее.
Эти мысли почти испугали Антона Доната, и тут ему пришло в голову, что, может быть, лучше было использовать для оценки прошлого не путаный человеческий мозг, а такое простое и надежное средство, как компьютер.
Он улыбнулся и подумал: Сербину было тогда семьдесят - но что значил опыт прожитых им лет? Каким незначительным и неглубоким был этот опыт по сравнению с несколькими годами яростных боев с жизнью и за новую жизнь! И все-таки: мне жалко его, жаль, что он до сих пор...
Выражение лица Антона Доната вновь изменилось, улыбка стала шире, радушнее, и кривизна ее сделалась почти незаметна. Объективно оценивая мою тогдашнюю деятельность, вспомнил он, можно без ложной скромности утверждать, что я был в ту пору очень усерден. В мой район входили деревушки на Саткуле. Это была трудная задача для меня и моих людей, потому что мы имели дело с большими упрямцами. И все-таки на четвертый день подписал самый последний. Это был тощий Войнар, он ныл при этом, как собака, посаженная на цепь, и я послал в лавку за бутылкой водки. Когда бутылка опустела, Войнар запел, а я заплакал, потому что в течение трех суток спал всего каких-нибудь три часа. Сейчас Войнар говорит, что, если бы мы с ним тогда не напились, он бы повесился. Теперь он руководит крупной молочной фермой - две тысячи голов скота, - надежный человек. Я тогда заснул у него на кушетке, а за завтраком он, ехидно улыбнувшись, спросил: а про Сербина, что на отшибе, вы забыли?
Что значит забыть или не забыть, ведь память - инстанция независимая, от нее нет иммунитета, она просачивается сквозь все преграды или устраивает засаду, в которую человек попадает внезапно, без всякого предупреждения, и нет никакой защиты от памяти, даже для Антона Доната.
Он побледнел под своим отпускным загаром, и улыбка исчезла с лица, потому что понял: старик не сможет постичь истину, путь к ней закрывает ему он - Антон Донат.
Объективная реальность - событие, процесс, что бы там ни было - исчезает, и возникаю я.
Когда я поднялся к нему на холм, старик был на огороде и сажал бобы. Голова у меня гудела с похмелья, а через час я хотел встретиться со своими людьми для составления итоговой сводки. Я решил начать разговор с шутки.
Я сказал: "Что, дядюшка, зеленые бобы лучше синих? ("Синими бобами" называют пули.)" И я коротко рассмеялся, чтобы подбодрить его или для того, чтобы с самого начала представить все, что последует потом, простой формальностью. Конечно, он не был моим дядей, но в наших деревнях так обращаются к старикам.
Видно, старому Сербину было не до шуток - не говоря уже о том, что мои нахальные слова, по сути, не были шуткой, - что он мог на них ответить?
Но то, что он промолчал, разозлило меня. Тупица, подумал я, ведь мы любим с ходу обозвать тупыми тех, кто не хочет плясать под нашу дудку.
"Не хочу мешать тебе в твоих мелких делишках, - сказал я. - Мы вершим великое. Чтобы ты потом не жаловался, что тебя обошли, - вот тебе бумажка, а вот карандаш".
Я держал перед ним портфель, подложив под бумажку соответствующую инструкцию - это всегда оказывало определенное воздействие: Он взял бумажку, прочитал ее без очков, далеко отставив руку, и вернул мне.
Он сказал: "Я слишком стар для этого, да и моя жена тоже".
Я ответил ему: "Никто не стар для социализма" - и, кажется, повысил голос.
Он взглянул на меня и рассматривал долго, как картину: "Ведь ты же Донат, правда?"
Будто это имело какое-нибудь значение! Я кивнул и сказал, что он остался последний.
Он продолжал, точно не слышал моих слов: "Тогда ты должен знать, что я сдал землю в аренду".
Конечно, я знал, что из своих трех гектаров сам он обрабатывал каких-нибудь полгектара за вычетом клочка бесплодной земли с парой сосен. "Все это мы уладим позднее, - сказал я, - сейчас нужна только подпись под заявлением о вступлении в кооператив".
Он опять принялся рассматривать меня таким же странным образом, у меня даже голова зачесалась, и я снял свою черную кожаную фуражку.
Он повернулся и медленно, но твердым шагом пошел в дом; теперь я понимаю, что горе его было непоказное. Я пошел за ним, наш главный принцип был - не отступать. Не оборачиваясь, он бросил: "Я не приглашал тебя в дом".
Кажется, я даже покраснел от злости и сказал: "Социализм не остановится у твоих дверей, старик".
Я увидел фотографии на комоде: ага, надутый господин ученый и сбежавшая в Швецию дочка, которая теперь замужем за капиталистом, и только про Катю и погибшего мальчика я ничего не сказал.
Старик достал из комода бумагу и написал что-то. Он снова вышел и предоставил мне самому решать, следовать за ним или оставаться в комнате. Я пошел за ним, потому что это тоже было одним из принципов: не выпускать из поля зрения.
Он открыл дверь на кухню и сказал: "Поди сюда, Мария".
Его жена вышла из кухни и хотела было поздороваться со мной, но старик помешал этому, он взял ее за руку и повел к хлеву.
"Выведи корову", - сказал он. Записку он держал двумя пальцами. Я стоял рядом, не зная, что делать.
Его жена вывела из хлева корову - чистую, но уже довольно древнюю, - старик сунул мне конец привязи вместе с запиской. На записке с множеством грамматических ошибок было написано, что мы можем забрать поле и корову, но не его самого, он слишком стар.
Его жена сказала: "Мы спрятали твоего отца, когда его искали солдаты".
Это было в апреле сорок пятого, когда моего отца искала шёрнеровская полевая жандармерия, и я знал, что Сербины спасли его от петли. Но разве это имело какое-нибудь отношение к тому, что происходило сейчас? Видимо, мы связываем или не связываем одно с другим в зависимости от того, совпадает ли это с нашими планами, намерениями, мыслями. Это произвол, но так нам легче действовать, хоть мы и нарушаем наши основные принципы.
Антон Донат достал из кармана носовой платок, вытер пот со лба, один комбайнер увидел это и засмеялся дружелюбно, но насмешливо. Теперь клочок бесплодной земли лежал как на ладони, и можно было пересчитать по пальцам редкие чахлые колоски, которые росли на этом участке с каменистой почвой. Хандриас Сербин поднес бинокль к глазам и увидел, что лиса вырыла себе там нору, таким образом выяснилась причина исчезновения двух молоденьких петушков. Старик что-то сердито проворчал себе под нос.
Антон Донат попытался изобразить улыбку или ответить комбайнеру шуткой, но в голове вертелись лишь те слова, которые он должен был сказать тогда Сербину: правильно, дядюшка, та история с моим отцом имеет прямое отношение к тому, что происходит сейчас, потому-то я к тебе и пришел. Давай поговорим о моем отце и о тебе, о прошлом и о настоящем.
Весьма возможно, что во время этого разговора я пришел бы к выводу, что кооператив на Саткуле не так уж нуждается в этих двух стариках и в шестидесяти трех сотках обрабатываемой ими земли, но, скорее, мне удалось бы его переубедить.
Вместо этого я довольно грубо ответил им, решив, что они хотят сыграть на моих чувствах: та история не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас.
Я стоял, держа в одной руке веревку, прикрученную к коровьим рогам, в другой бессмысленную, не предусмотренную никакими инструкциями записку, а старики направились к дому.
В два прыжка я достиг двери и поставил ногу на порог, чтобы не дать захлопнуть ее. Я засмеялся старику в лицо и со словами: "Так дело не пойдет" - стал напирать на него. Он был вдвое старше меня и, конечно, не выше меня ростом и не шире в плечах, но молча, не пуская в ход рук, он сантиметр за сантиметром отодвигал меня, и, когда мне пришлось убрать с порога ногу, старуха быстро заперла дверь. Дважды щелкнул замок, я услышал, как загремели и задвижки.
В это время корова шершавым языком мусолила мой портфель, я дал ей пинка, который не дал Хандриасу Сербину, вытер портфель и положил на поленницу. Я увидел, как старик завернул за угол дома. Убежать он не мог, поэтому я, спокойно отыскав соответствующий параграф инструкции, направился вслед за ним. Я забыл, что на той стороне дома тоже была дверь, выходившая из кухни прямо в огород, и успел только услышать, как и ее заперли.
Меня одурачили, перед моим носом захлопнули дверь, я не мог отправить уже подготовленную мною сводку о полной победе. Но нет, подумал Антон Донат, дело ведь было не только в этом, во всяком случае, это было не главное.
Он знал, что теперь не имеет права отступить перед самим собой, нет, не перед самим собой, это неправда, а что же тогда правда?
Он догадывался: именно то, что он не мог для себя ясно сформулировать, и подтолкнуло его; он решил во что бы то ни стало заставить старика подписать его, Антона Доната, бумагу.
Я пустил в ход технику: прожекторы и громкоговоритель. Шестнадцать часов подряд я оглушал музыкой - ариями из оперетт, маршами, боевыми песнями, шлягерами - молчащий, запертый дом, я заложил себе уши ватой и ровно через каждые тридцать минут произносил в микрофон: "Крестьянин Сербин, социализм не остановится у дверей твоего дома!"
Корова обезумела и убежала в лес.
Ночью прожекторы освещали все окна дома. Шестнадцать часов беспрерывно играла музыка. Я жевал кофейные зерна и тем держался.
Потом я получил строжайшее указание немедленно прекратить эту акцию и той же ночью узнал, что мой отец отправился в район спасать Хандриаса Сербина от меня и моей полной победы.
Мы крупно поговорили, он накричал на меня, обозвал меня иезуитом и плюнул в мою сторону.
После этого я не разговаривал с ним три года.
Потому ли, что я был зол на него: ведь он упрекнул меня в том, что я действовал по принципу иезуитов "цель оправдывает средства"?
Или потому, что, если бы Сербин после этих шестнадцати часов все-таки подписал, никому не пришла бы в голову мысль измерять мой успех какими-то нравственными мерками?
Наверное, и то и другое сыграло свою роль, но главным образом я был зол на него за то, что он пытался заставить меня задуматься не над успехом моего предприятия, а над тем, вел ли я себя нравственно.
В то время я не стал бы ни над чем задумываться.
Сегодня я, так или иначе, размышляю над этим.
Нет, я не говорю: я, Антон Донат, тринадцать лет назад здесь, на этом месте, согрешил перед тем человеком, pater, peccavi, а кто-то отвечает мне: давно забыто и absolvo te (Pater, peccavi - грешен, отче; absolvo te - отпускаю грехи твои (лат.)).
Я говорю только: я пытаюсь найти такую формулу для моих действий, которой можно было бы заменить ту иезуитскую - а может, не только иезуитскую. Я не ищу абстрактной нравственной формулы, я считаю ребячеством подражать десяти заповедям библейского Моисея, но мне кажется, что было бы очень хорошо ввести в наш обиход заповеди вроде: "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы не пропало ни одно зернышко опыта и ни одна искорка мудрости".
Может, это надо было бы выразить по-иному, но и такая формула позволила бы мне тогда увидеть естественную связь между поступком, совершенным Сербином в апреле 1945 года, и нашими целями весной 1960 года.
И старик не смог бы упрекнуть меня сегодня: это было мое поле, я собрал с него пятьдесят урожаев, а ты отнял его у меня.
Старый Хандриас Сербин об этом и не думал.
Его сейчас занимала плутовка лиса. Потом он вспомнил историю, что случилась с молодым учителем по фамилии Шведе. Дело было в конце двадцатых годов: учитель и дочка пекаря пробрались сквозь высокую пшеницу на островок с соснами. Хандриас Сербин обнаружил их, когда начал косить. Они спали на одеяле, а их одежда, аккуратно сложенная, лежала рядом. Он остановился, принялся нарочно громко отбивать косу, крикнул что-то детям, копошившимся на краю поля, и видел одним глазом, как убегала эта парочка, прямо как Адам и Ева из рая. Учитель потом погиб на фронте.
Он вспомнил, что собирался к обеду испечь блины. Пожалуй, стоит приготовить на дюжину больше - угостить комбайнеров. Наверное, нужно и еще испечь на случай, если Катя заглянет, правда, она ничего об этом не писала.
Он все время думал, как ему держаться с этим дарителем бинокля, - не важно, приехал он по поручению правительства или сам по себе. А моровой столб его, кажется, не интересует.
И тут его осенило, он поднялся со скамеечки. "Пойдем-ка со мной", - сказал он Донату.
Антон Донат взял букет роз и, увидев у колодца перевернутое ведро, наполнил его водой и поставил в него розы.
Жена Сербина, которая все еще сидела у дверей, прислонившись спиной к стенам дома, сказала: "Все с удовольствием пьют нашу воду, она ведь и в самом деле очень вкусная, не правда ли?"
Антон Донат догадался, что она не видит или почти не видит, он подтвердил, что вода и вправду замечательная, и выбрал из букета розу с самым тонким запахом. Женщина поднесла цветок очень близко к глазам и разглядела, что роза была желтая с розовым ободком по краям. "Такие розы цвели у нас раньше в саду, - сказала она, - но прошлой зимой вымерзли". События последнего времени сместились в памяти старой женщины, желтые розы с розовым ободком уже девять лет, как не цвели в их саду.
Хандриас Сербин стоял на пороге, лицо его опять стало замкнутым, пожалуй, даже сердитым, потому что он снова засомневался в правильности принятого им решения, пускай этот донатовский мальчишка - министр или там без пяти минут министр.
Он протянул Донату двойной колос. "Те ребята дали, - сказал он, кивнув в сторону комбайнов, - возьми его".
Он не добавил, пусть он принесет тебе счастье, потому что не верил, что двойной колос может приносить счастье.
Но Антон Донат не нуждался ни в каких пожеланиях, он принял двойной колос, как орден.
Прощаясь, он вновь улыбался очень сердечно, и его улыбка теперь почти не казалась кривой.
А если бы можно было точно измерить, то улыбка его стала чуть-чуть менее кривой, чем двадцать минут назад, когда он преподносил розы.
Антон Донат засунул двойной колос в подставку для ручек, стоявшую на столе в его кабинете, как напоминание, но не о Хандриасе Сербине, а о том, что он дважды ошибся в своем мнении о человеке. И Донат радовался этому, потому что приятно сознавать себя человеком, который постоянно изменяется к лучшему. Внезапно тишину его кабинета нарушил телефонный звонок. Он снял трубку, и его жена произнесла одно слово: рак.
Девушка и ее младший брат были беженцами. Проделав долгий путь, они осели наконец в их деревне, кочуя из дома в дом, пока не поселились в ветхой хибаре, стоявшей на отшибе, и девушка стала работать в лесничестве.
Она перепрыгнула через канаву и выскочила на дорогу как раз в тот момент, когда Антон Донат свалился со своего мотоцикла. С ним ничего не случилось, и, очухавшись, он наградил тяжелую старую машину чужим скверным ругательством, которое многие усвоили в конце войны и почему-то считали неким признаком своей прогрессивности. И тут он увидел девушку и улыбнулся ей новой, недавно приобретенной улыбкой, от которой впоследствии никак не мог избавиться. Он не стремился к тому, чтобы эта улыбка стала кривой, ему хотелось, чтобы его лицо приобрело выражение мрачной строгости и твердой решимости, но так как ни мрачность, ни твердость не были присущи его натуре, а он считал, что часто появлявшаяся на его лице улыбка свидетельствует о недостатке железной самодисциплины, необходимой каждому истинному преобразователю мира, то в конце концов борьба между природой и идеалом закончилась вничью: один угол рта мрачно опустился, другой весело поднялся.
Он улыбался девушке в грубых солдатских сапогах и жестком фартуке из мешковины, на голове у нее был тонкий светлый платок, который предназначался не для защиты от холода, а скорее для украшения, так слабо он стягивал ее густые темные волосы, расчесанные на прямой пробор. Когда он повторил свое ругательство в радостном удивлении или даже в восхищении, она повернулась и не спеша перебралась обратно через канаву. Фартук из мешковины не закрывал ее фигуру целиком, и он увидел, что она была узкобедрой, как школьница, и обе ее ноги могли бы свободно уместиться в голенище одного сапога.
Что-то неожиданно тонкое и детское во всем ее облике, а может, только ее лицо, ошеломляюще нежное и наивное, заставило его, всегда острого и невоздержанного на язык, молча посмотреть ей вслед.
Отыскать ее не составило большого труда, и через три дня под вечер он постучал в дверь ее хибары. Она открыла и осталась стоять на пороге, сразу вспыхнув, нахмурившись и приготовившись к отпору.
Он протянул ей небольшую картинку, на которой была изображена мадонна с младенцем. На обороте картинки была напечатана молитва, а в левом нижнем углу крохотными буквами имя художника: Рафаэль. Картинку он выдрал у матери из молитвенника.
Он сказал: "Я нашел твой портрет".
Она увидела мадонну, подумала, что он издевается над ней или над мадонной, и дала ему пощечину, самую обыкновенную, весьма увесистую пощечину, и закрыла дверь перед самым его носом так быстро, что он не успел как следует удивиться.
Теперь, как ни странно, она показалась Донату еще больше похожей на мадонну и еще более нежной и беззащитной, хотя рука у нее была довольно тяжелая. Он послал ей картинку в конверте, написав на обратной стороне под молитвой: "Погляди на нее, а потом посмотрись в зеркало".
Через две недели она разрешила ему сесть рядом с собой на пороге ее дома, и он говорил ей о необходимости преобразовать мир и о том, какие задачи в этом плане стоят перед ним. Она дала ему выговориться, а потом сказала, что хотела бы побелить свою хибару снаружи, а изнутри выкрасить светлой краской, потом она хотела бы, чтобы они с братом ели досыта, чтобы брат выучился и стал врачом, а сама она мечтает о муже, который бы хорошо зарабатывал, чтобы у них не было забот, а в качестве последней, очень далекой, но все-таки не совсем недостижимой мечты она назвала шубу из светло-коричневой цигейки с темной оторочкой: в ту страшную военную зиму она, беженка, намерзлась вдоволь на всю жизнь.
Антон Донат был так разочарован, что у него даже заболела печенка, как раз в это время он начал относиться к печени, как к органу, рождающему неясные, подозрительные чувства и ощущения. Он назвал ее жизненные устремления мелкобуржуазными - это слово он тогда очень часто использовал для обозначения всего дурного - и широко развернул перед ней картину будущего всеобщего счастья.
Девушка с нежным лицом мадонны нисколько не скрывала своих мелкобуржуазных желаний, заявив без всякого стеснения, что для полного счастья ей еще нужны красивые платья - она описала их во всех подробностях, - красивые туфли, маленькие наручные часики и настоящая серебряная цепочка с подвеской из светлого топаза. И самая последняя ее мечта - прибавить в весе, чтобы ноги у; нее были не как у журавля.
Когда Антон Донат в тот вечер прощался с ней, улыбка у него вышла кривая, как никогда.
На следующей неделе он побелил ей хибару, а поздней осенью, когда мать дала ему гуся, чтобы, продав его, он купил себе новый костюм, он выменял гуся на серебряную цепочку с желтым камушком, не зная, топаз это или нет.
Он знал только, что теперь он раздвоился или, точнее, раскололся на разные части, и случалось, он чувствовал себя очень несчастным, потому что она была счастлива.
Однажды он поймал себя на том, что представление девушки о счастье и его собственное - такое личное, вызванное лишь ею ощущение счастья - кажутся ему, как ни странно, возможными и даже допустимыми в той завтрашней, лучшей жизни.
И вот в комнате повисло страшное, черное слово, оно рождало гнойные пузыри ужасов, оно всасывало, как воронка, все светлые и темные мысли, оно вызывало чувство бессилия и нашептывало советы, выкапывало из недр памяти давно забытое: картинку с мадонной и молитвой на обороте - и наконец это черное, цепкое, как клешни рака, слово заставило его вспомнить о двойном колоске.
Старик не сказал тогда/пусть он принесет тебе счастье, да и как может какой-то колосок принести счастье, зато теперь он приведет его к сыну старого Сербина, открывшему, если он, Донат, правильно информирован, волшебную формулу, с помощью которой можно разогнать черные раковые страхи.
Антон Донат заставляет себя сдержаться, хотя из груди его рвется крик: у моей жены рак, помоги ей, ведь ты можешь. Вместо этого он должен быть осторожен в каждом своем слове, каждом жесте, чтобы Ян Сербин не заподозрил ни малейшего оттенка нарочитой любезности. Ведь эти ученые относятся к нам как к необходимому атрибуту некоего фатального устройства, которое лишь слегка затрагивает их вторую, гражданскую ипостась.
Он стоит на лестнице, на три или четыре ступеньки выше меня, так что моя голова находится как раз на уровне его живота, и говорит: ну, где твои весы? Я не понимаю его, и он добавляет: чтобы взвешивать на них слова, сказанные другими.
Мне не до смеха, но я делаю над собой усилие, улыбаюсь и поздравляю его.
С чем, спрашивает он и смотрит на меня своими светлыми глазами; мне становится страшно, потому что эти глаза кажутся существующими сами по себе, отдельно от его лица: как будто мозг смотрит на меня.
Кстати, о твоем открытии. Я не рассказываю тебе, что знаю о нем, потому, что нам жизненно необходимо знать то, что знает ТРЕТИЙ. Это открытие затмевает все, что было до сих пор, говорю я.
Оно ничего не затмит, отвечает он, потому что оно останется вот здесь, и он стучит пальцем себе по лбу.
Ведь с его помощью можно сделать всех людей разумными, говорю я.
Его лицо превращается в серую каменную маску, не видно ни глаз, ни рта, не видно и лестницы.
Можно избавить людей от глупости, от безумия. И от рака, говорю я.
Его лицо - немая каменная маска,
У моей жены рак.
Его лицо медленно оживает. Раком занимаются Кунингас и Репин, говорит он. Может быть, они близки к цели.
Но ты уже у цели, кричу я.
Я постиг лишь ход того химического процесса, который мы называем жизнью, говорит он. Ни сам процесс, ни то, что я о нем знаю, нерасчленимы на добро и зло.
Он поворачивается, чтобы уйти, подняться вверх по лестнице, которую я снова вижу. Он говорит то, что кажется ему правдой, у меня другое мнение, но я не могу заставить его думать так же, как я.
Следуя своей правде, он не может мне помочь. Остается лишь надежда, что Кунингас и Репин достигнут цели раньше, чем умрет моя жена... Огромное временное пространство вместили эти три слова: и ее прыжок через придорожную канаву, и пощечину за картинку с мадонной, и трепетную прохладу ее груди в первый раз, и ожидание ребенка, когда ее детский живот округлился, а сама она не весила и пятидесяти килограммов, и изумление от того, что она произвела на свет ребенка и кормила его, и шуба из цигейки, и моя растерянность, когда умер великий вождь; близнецы, и наши страхи, но по ночам они оказывались рядом и от этого таяли, и череда будней с планами и надеждами, и порой уже робкие мысли о том, что стареем. И вдруг черное слово по телефону.
Да, это временное пространство было как бы сжато чудовищной силой и гудело от напряжения, я преодолеваю его с трудом, тяжело дыша, я почти оглох, но ведь я - это не только Я, я - это и МЫ.
Постой, говорю я и поднимаюсь на три-четыре ступеньки вверх к Сербину. Твое открытие дало бы возможность провести грань между добром и злом, укрепило бы добро, оттеснило зло и, наконец, помогло бы уничтожить зло совсем. Ты обязан дать его нам.
Он присаживается на ступеньку, и я сажусь рядом с ним.
На краю нашего поля, говорит он, стоит одичавшая яблоня, которая цветет каждый год и никогда не приносит плодов. Но придет время, и на ней появятся яблоки, это произойдет тогда, когда никто и ничто на земле не будет помечено клеймом Райсенберга. Тогда мы действительно станем МЫ, и все наши мысли и открытия будут безопасны для нас и принесут нам пользу.
Скажи, Антон Донат, разве на этом дереве уже есть плоды?
Дерево, которое, как всегда, цвело весной, не принесло летом плодов. Старая женщина, сидевшая у освещенной предвечерним солнцем стены дома в шведском складном кресле (полуразвалившийся хлев закрывал от нее яблоню), почувствовав внезапную резкую боль, увидела перед собой дерево в ослепительно ярком свете, с невероятной отчетливостью, до мельчайших точек на тыльной стороне листьев. Ее испугало, что она вдруг увидела дерево и хлев, не ветхий и не развалившийся, и своего мужа, сидевшего под липой с биноклем перед глазами; комбайны ушли далеко вперед, но она видела их так отчетливо, как будто они были у самого холма, разглядела даже комбайны, хотя никогда до сих пор их не видела; это испугало женщину, но ей не стало от этого ни страшно, ни больно. Все-таки ей не хотелось оставаться в эту странную минуту одной, и она позвала мужа, не по имени, просто: отец. Он не слышал ее, хотя она изо всей силы, не переставая, звала его: нано (нано - по-сорбски "отец"), все звонче "а" и все пронзительнее призывное, просящее "о" - но все было напрасно, он не слышал. Ее глаза, теперь невероятно ясно видящие, наполнились слезами, по слезы не ослепили ее, а, наоборот, сделали еще более зрячей, она разглядела своего сына, он шел к ней по лесной тропинке, и, продолжая звать мужа, она уже улыбалась навстречу сыну жалкой и счастливой материнской улыбкой пополам со слезами.
Она протянула ему руки, он взял их в свои и присел рядом с нею.
Сынок, сказала она. Я все время ждала тебя. Каждый день я ждала тебя.
Он погладил ее руки.
Я знала, что ты придешь, и вот ты пришел.
Яблоня исчезает, расплывается хлев, уже неразличим муж под липой. Но сын рядом.
Мой сынок, шепчет она.
Молодое счастливое выражение легло на морщинистое, старческое лицо, и на бледных губах застыла умиротворенная улыбка.
Он сложил ей руки на коленях и закрыл глаза.
Он подошел к липе и встал рядом со стариком так близко, что почти коснулся его. Он увидел, что самозабвенная игра старика с биноклем была на самом деле горьким, может быть, отчаянным протестом против выключенности из жизни, против непостижимого, не объяснимого никакими причинами одиночества. Он так и не смог сказать старику, что в эту минуту кончилось то, что возникло шестьдесят лет назад, и не с обмена кольцами, которых у них никогда не было, потому что они в них не нуждались ни для напоминания, ни для призыва к чувству долга; началось со слов "да, да" - легкого колебания воздуха, с чуда, которое, постепенно отдаляясь, уходило в прошлое, заполненное всякими бедами, и невозможно было представить себе, что теперь эти беды улетучились и от всего пережитого осталось лишь двадцать две тысячи дней.
Крабат подумал: если я сейчас подведу тебя к ней, ты будешь один в своем страхе перед одиночеством, которое с этого момента никто не сможет с тобой разделить, - пусть бинокль заменяет тебе ноги, когда ты хочешь разглядеть то, что находится вдали, но тебе придется проделать одному долгий-долгий путь, сойти вниз к людям и сказать: помогите мне похоронить жену.
Он слегка коснулся его плеча, как касается падающий с дерева листок, я твой сын и ты мой сын, и покинул его.
Внизу, на поле, где работали комбайны, появился председатель. Засовывая под язык таблетку, он что-то объяснял комбайнерам, пытаясь перекричать шум машин. Высунувшись из комбайна, Крабат крикнул ему: мы уже поздравили утром старого Хандриаса с днем рождения, ты тоже сходи поздравь.
Взбираясь наверх, председатель вспомнил про прекрасный гравий, который лежал под верхним слоем этого холма, все-таки я сдеру с него оболочку, а старичков перенесу отсюда осторожненько, как ласточкино гнездо с только что вылупившимися птенцами. Он увидел старую женщину, которая сидела в своем шведском кресле в лучах предвечернего солнца со странным, по-молодому радостным выражением на худом старческом лице; он не мог избавить старика от первого мгновения ужаса, но он взял его жену на руки и перенес ее в дом, осторожно, как ласточкино гнездо с только что вылупившимися птенцами.
Но ночью Хандриас Сербин остался в доме один, он сидел в своем кресле и сторожил умершую, порой ненадолго засыпал и плакал, наверное, тоже во сне.
Утром явилась Катя с обычной своей одышкой, энергичная и краснощекая. Она все взяла в свои руки, а ему, покинутому, сказала: у нее была легкая смерть.
Это было сказано в утешение, и Хандриас Сербин это понял, но он не нуждался в утешении, потому что случилось нечто естественное, то, что произойдет и с ним завтра или послезавтра - не это его пугало, и не это рождало горе. Источник горя был иным, а горе столь глубоким, что какое-либо утешение было так же немыслимо, как радость новорожденного по поводу своего собственного рождения,
Они были Филемоном и Бавкидой: для директора, который хотел выстроить на холме новую школу, для председателя, решившего добраться до залегавшего здесь гравия, для стареющего врача, который еще помнил строчки из Овидия: Baucis anus parilique aetate Philemon (Видит Бавкида: старик Филемон одевается в зелень (лат.)); они были примером, ассоциацией, они вызывали ностальгию, но не были реальностью для уставшего после долгого пути олимпийца, который мог бы оказать им единственную милость, в какой они еще нуждались: одновременную смерть.
Старик чувствовал себя таким чужим в этой жизни, как никогда прежде, потому что никто, кроме него, не понимал, что на самом деле произошло. Стараясь изо всех сил, чтобы не скрипели половицы, он незаметно поднялся наверх и уселся в пустой каморке на старый ларь. С одной стены была почти полностью соскоблена штукатурка, но дубовые поленья были выбиты из глины только наполовину.
Она меня обогнала, подумал он, когда ее похоронят, я продолжу нашу работу, буду вытаскивать из стены полено за поленом, ведь снаружи это незаметно. И когда они вынесут и меня из дому - это случится скоро, - то увидят, что дома больше нет, есть только оболочка. Только оболочка дома.
Его мысль работала очень медленно, казалось, она поворачивала слово и так и эдак, как будто принюхивалась к нему, у этого слова "дом" был странный затхлый запах, так пахнет мышиное гнездо на распаханной борозде, его мысль ощупывала это слово, как бы проверяя, сухое оно, или уже совсем ссохшееся. И вдруг он понял истинную причину своего горя: дом умер, осталось лишь жилище для старика, которому не о ком больше заботиться, кроме себя. А заботиться только о себе - значит быть выключенным из жизни.
В тесной и пустой каморке постепенно растворялась давящая пустота, охватившая его самого, и торчавшие из стены поленья превратились в дерево, в дуб, который срубил Бастиан Сербин, его старший брат.
У стены слева от окна вновь возникла кровать дружки Петера Сербина; он ел вишни и размышлял над тем, все ли сделал и все ли нужное сказал. Он подумал, что не сказал еще сыну самого главного, и решил это сделать сейчас: только если солнце вечером взойдет, не пеки на завтра хлеба - были его слова.
На кровати у стены лежал уже не дружка Петер Сербин, а сын Ян, он пробудился от сладкого сна в первый день каникул, и они оба, отец и сын, отправились в лес и пилили деревья, а Хандриас Сербин возводил из них в мыслях дом для сына, без циркуля и линейки, уверенной рукой он строил его жизнь из естественного течения времени.
Этот дом так никогда и не был достроен до конца. Возвели стены, но было непонятно, где они кончаются, поэтому нельзя было соорудить крышу, достроена оказалась лишь каморка наверху, которая существовала с самого начала и одна была осязаема и измерима в этой постройке из растерянных мыслей. И тут Хандриас Сербин нарушил данное себе слово отречься от сына, который не приходил, чтобы построить дом из своих мыслей рядом с отцовским: ведь можно возвести стены, которые будут похожими друг на друга, сделать лестницы из одного и того же материала и одинаковой высоты, и пусть ступеньки будут разными, но для той его единственной, осязаемой и измеримой каморки наверняка найдется место в доме из мыслей, выстроенном сыном.
А что мы на самом деле знаем о сыновьях, если они не ходят в наших башмаках, не донашивают нашего платья и не смотрят на мир сквозь паши очки? Может, от нас отрекаются именно те сыновья, которые слепо следуют нам?
Старик еще долго сидел на пыльном ларе в пустой каморке, и мысли его - как ни блуждали они в давно забытом, как ни ощупывали, ни всматривались, ни примерялись к иной жизни - вновь возвращались к реальности: к бесконечной игре в мюле, где на кон ставились смысл или бессмысленность прожитых им лет, и у него не было желания окружить фишками мудрого смирения черные фишки вопросов.
Когда Катя отыскала его и повела вниз, он заявил ей: "Твой муж - каменщик, пусть он отремонтирует каморку. Я не отдам Райсенбергу наш дом".
При этих словах его тяжелый подбородок выдвинулся вперед и серые глаза яростно сверкнули.
"Да, да", - ответила Катя и подумала: горе его подкосило.
На похороны приехал ее муж с двумя старшими сыновьями, младшие не могли пропустить школу, потому что смерть бабушки не важнее школьной доски, исписанной неопределенными интегралами, или изучения на основе литературных и других тщательно отобранных примеров путей формирования нового человека.
Дочка Урсула прислала дорогой венок, его привезла из города машина, а письмо, в котором она объясняла, почему не смогла приехать, чтобы побыть вместе с отцом, придет завтра или послезавтра. Хандриас Сербин прочтет его, сунет вместе с другими ее письмами в ящик комода и не вспомнит о нем.
Возвратившись с похорон в пустой дом, Хандриас Сербин, окруженный общей заботой, спросил свою дочь Катю: "Может быть, теперь вы вернетесь домой?"
Катя проглотила слезы и ответила, что останется еще на несколько дней, а муж сказал ей: "Может, возьмем старика к нам", но они и сами понимали, что старое дерево уже нельзя пересадить.
Хандриас Сербин отвел в сторону старшего внука и сказал ему: "Я перепишу дом на тебя, если хочешь".
"Ведь я ухожу в плавание, дедушка, - ответил внук. - Но в отпуск я приеду навестить тебя".
Он любил своего деда, а кроме того, здесь все было так мило старомодно, а ведь это сейчас самая мода.
Хандриас Сербин предложил свой дом второму внуку. "Я судостроитель, дедушка, ответил тот, как я здесь буду строить корабли?" И он не смог больше смотреть в глаза своим внукам, что-то, чего он никогда прежде не ощущал, согнуло его.
Стыд от того, что ему пришлось униженно просить, чтобы у него взяли его кровное, что он вдруг оказался в положении нищего, выпрашивающего милостыню, этот стыд повис на нем, как рубище, и заставил его покинуть свой дом и холм.
Он шел без всякой цели, но остановился у морового столба, будто к нему и стремился. Присев на узкий цоколь, он прислонился к прохладному камню. Он увидел, что башмаки его потрескались, а брюки были в серой пыли, которая пи во что так крепко не въедается, как в черную ткань. Красный муравей побежал по башмаку, он хотел согнать его палкой, но раздавил. Высоко в воздухе раздался крик ястреба, теперь, когда хлеб убран, ему легко охотиться. Потом все смолкло, и на полях воцарилась удивительная для страды тишина.
Когда я батрачил второй год, хозяин дал мне самую старую широкую косу. Если сломаешь ее, я обломаю косовище о твою спину, сказал он, но на самом деле он никогда никого не бил. На голове у меня была новая соломенная шляпа, и молоденькая батрачка сунула мне за ленту шляпы двойной колосок. По дороге на поле мы пели. Мы действительно пели...
Все это казалось теперь далеким и нереальным, как сказка. Он попытался вспомнить, что они пели. Липа цветет уже девять дней, косцы наточите мне косу острей... Мелодию он различал отчетливо, ему казалось, что он может хоть сейчас спеть эту песню. Слов он не помнил, только две первые строчки, но мелодия звучала в его ушах. Молоденькую батрачку звали Марией, она была такой тоненькой, что я сказал ей: смотри, как бы ты саму себя ненароком в сноп не увязала. Потом она раздалась и пополнела, но десять лет назад стала опять такой же худой, как когда-то, и худела все больше. Врач говорил, что она сама себя съедает, фунт за фунтом. На смертном одре она была кожа да кости, но лицо ее казалось умиротворенным и, он боялся признаться себе, радостным, даже счастливым.
Наконец он перестал рассматривать носки своих башмаков и поднял голову, его серые глаза смотрели вокруг спокойно и отрешенно, он видел убранное поле, за ним лес, там созревала рябина, пусть Катя мне ее наварит, пока она здесь, подумал он.
Поднявшись обратно на холм, он сказал, что подновит моровой столб.
Моровой столб подновлялся во все века, это делали для того, чтобы отвести беду, болезнь, у которой было определенное название, чума, а у всего, что имеет название, есть начало и конец.
Беда, что пришла теперь к Хандриасу Сербину, не имела названия, или, лучше сказать, у нее не было названия, которое было бы понятно кому-нибудь другому. Но разве беда становится меньше оттого, что она безымянна и о ней нельзя рассказать словами?
В конце недели Катя уехала домой, и когда на повороте дороги она в последний раз обернулась, то увидела, что отец стоит сгорбившись, опираясь обеими руками на свою палку, и смотрит ей вслед, маленький холмик, человек на фоне огромного летнего неба.
Она сказала себе, что сделала все, что могла, но это не облегчило ой душу. Продавщица из магазина, там теперь была новая, будет, как и прежняя, приносить ему все, что нужно, а жена бургомистра, старая Катина приятельница, будет заглядывать к нему каждый день, а иногда и ее муж.
Холм со старым домом и маленький холмик-человек постепенно скрылись из Катиных глаз, и, как вода уходит в песок, так уходили и ее мысли, которые все более настойчиво обращались к собственному дому и к собственным заботам: она думала о дочке, которой только что исполнилось шестнадцать и которая идет уже своей дорогой, и кто знает, куда заведет ее эта дорога, в портовом городе ведь много всякого люда; а старший сын месяцами пропадает в море, и Катя никогда не перестанет бояться этого серого ревущего чудовища; мужу придется лечь в клинику на операцию, дай бог, чтобы оказался не рак.
Но вдруг в стороне от дороги она увидела одинокий дом, в ее мыслях снова возник старик на холме, и Катя заплакала. Почему я одна должна нести эту ношу, думала она, Яна все это не заботит, а Урсула только шлет посылки.
Дочка Урсула не только присылала каждую неделю посылки, она послала и письмо бургомистру с предложением перевести на общину шведские деньги, если община будет заботиться о ее отце.
Бургомистр, который любил потанцевать с Урсулой, когда она была еще хорошенькой дочкой Хандриаса Сербина и его жены Марии, студенткой, приезжавшей к родителям на каникулы, однажды он провожал ее ночью домой на холм, и путь их был очень длинным, бургомистр написал ей в ответ, что путь от деревни наверх к ее отцу не так далек, чтобы платить за пего шведскими кронами. Бургомистр не отказался от мысли построить на сербиновском холме ресторанчик, но считал, что сейчас думать об этом непорядочно. Он часто заезжал туда, выпивал пару чашек кофе или стаканчик малиновой настойки, рассказывал что-нибудь или слушал рассказы старика. Когда по радио передали сообщение, что Ян Сербин встретился в Италии с Ф. И. Камингом, бургомистр поехал к старику. У него уже сидел Хитцка, облаченный в охотничью куртку, и каменщик Донат. Они говорили о Яне, осторожно подбирая слова, и в их беседе сквозила надежда, что все это, может быть, только слухи и не стоит пока беспокоиться.
Глава 17
Знаменитого драматурга Диди выпустили из больницы; его пластмассовая нога была безупречным изделием протезной промышленности, и Жаклин отстегнула ее, правда, только один раз, но не получила полного удовольствия; вот если бы и вторая нога отстегивалась, представила она себе.
Хотя Жаклин рассказала ему о Марии-Грации и ее дочке Клаудии, которая перестала мыться, Диди все-таки не стал писать комедию под названием "Чистая Клаудиа и грязное мыло". Выбравшись из постели Жаклин и пристегнув пластмассовую ногу, он встретился с хозяином парка Больших Удовольствий, и тот пригласил его на Колесо обозрения, которым владел на паях с девицей в шафрановой блузке. Они превратили его в Колесо ужасов: все кошмары мира за бумажный билетик, а в качестве бесплатного приложения, облегчение, которое испытывал посетитель, вновь оказавшись на привычном месте: у игральных автоматов и ресторанчиков, где жарилась рыба.
После обозрения ужасов и кошмаров, выполненных на самом высоком техническом уровне с учетом новейших достижений в области психологии, драматург подписал договор на сценарий фильма, идея которого принадлежала его одноглазому спутнику.
На экране возникает земной шар, снятый как бы с луны. Гринвичский меридиан, в виде тонкой зубчатой линии, сцеплен с другой такой же линией, проходящей через Польшу: получается нечто вроде гигантской застежки-молнии. Она еле держится, вот-вот разорвется и действительно разрывается, шар раскрывается и превращается в плоскую картину мира, где день и ночь чередуются причудливыми островками; теперь видно, что этот киномир разделен на две реальности, они несоединимы и асимметричны из-за смещения времени. Одна из этих реальностей благодаря системе зеркал кажется цельной, хотя это лишь часть современного мира, другая же, выдаваемая за искусно сделанную фальшивку, является реальностью блужданий Одиссея.
По бескрайней плоской пустыне отчужденности и равнодушия бредет человек, тяжело опираясь на посох, может быть, он болен, может быть, ранен. По мере того как он приближается, мы всё отчетливее различаем лицо и фигуру и наконец узнаем его по посоху черного дерева с рукоятью из слоновой кости. Теперь видно, что он не болен и не ранен, это просто старый и усталый человек, который иногда останавливается и ворошит посохом серый песок равнодушия, будто ищет что-то. Он роет усердно, но без всякой надежды что-либо найти, это показано на экране с каким-то болезненным нажимом. Но еще безнадежнее выражение его лица, на котором не отражается никаких других чувств. Мозг в его седой голове лишился памяти, и если человек оглядывается назад, то это происходит случайно, просто рефлекторное движение, ведь он ничего о себе не знает, не помнит, что с ним произошло, он навсегда утратил прошлое, оно не вызывает у него никакого душевного отклика, ни боли, ни возмущения: у него отняли слова, обозначавшие цель его исканий.
Слово "Смяла" вырвала волшебница Кирка и бросила на съедение свиньям.
Кирка, пестрый, сверкающий огнями остров, он как огромный универсальный магазин, полный всех богатств мира: шелков и шелковой девичьей кожи, пурпурных мантий властей предержащих и пурпурных видений наркоманов, веселых арлекинов и садистских убийств, замороженных наслаждений и подогреваемых страстей; в консервных банках икра, национальные чувства, пиво, псалмы, шутовское веселье, успех, зубы, скорости, искусственные сердца, мозги, совесть, товары на любой вкус, хоть и надувные.
Волшебница Кирка превратила сто ипостасей Крабата в сто свиней, которые, хрюкая от удовольствия, пожирают слово "Смяла", разорванное на мелкие кусочки.
А слова "Страна Счастья" остались его семенем в лоне пышнобедрой нимфы Калипсо.
Нимфа Калипсо, это широкий пляж с мелким песком. С синего моря веет легкой прохладой, в начале или в конце пляжа, с какой стороны смотреть, возвышается триумфальная арка, может быть, это арка Тита, а может, ее поздние копни, сейчас это трудно разглядеть, потому что сквозь арку проходит триумфатор: живой, бурлящий, иногда пенящийся золотыми кудрями поток юных женских тел, столь не похожих друг на друга в отдельности и столь однородных в общей массе. И какими бы различными ни были их имена, это имена сестер из общей купели, сотканной из градусов широты и долготы, и каждое имя значит не более чем запах одного цветка белого клевера среди запахов других цветов на лугу. Все они вместе, Калипсо, и в ее бесплодном лоне исчезают и растворяются слова "Страна Счастья".
Слово "Райсенберг" взяла феакская девушка Навсикая и носит вместо амулета на маленькой загорелой груди: зло снаружи не даст злу проникнуть внутрь.
Девушка Навсикая, это реальный остров сказочной красоты с набедренной повязкой белого прибоя на коралловых рифах. Здесь всё как в раю: пальмовые рощи, синяя прозрачная вода лагуны, в которой плавают красные и золотые рыбки, воздух как целебный бальзам для легких, орхидеи, радующие глаз, райские птицы, на берегу веселые прачки с ласковыми глазами, со смуглой бархатной кожей, прикрытой лишь лепестками лотоса, рокот гитар, услаждающих слух. По вечерам мужчины сидят с гостями под сверкающими звездами Южного Креста за праздничными столами, смотрят старинные танцы и слушают песни этого острова; среди певцов, может быть, есть один по имени Демодок, он поет о Крабате, который боролся с Вольфом Райсенбергом. Легенды, как известно, рассказываются гостям потому, что сказочный рай становится реальностью, только когда утрата не-рая превращается в миф. И в этом сказочном раю все узнают, что слово "Райсенберг", лишь маленький амулет, медная монетка с орлом и решкой на загорелой груди девушки Навсикаи.
Фильм кончается, прошлое увядает, или засыхает, или, это трудно выразить словами, все уменьшаясь, погружается в темноту экрана, и вновь по бескрайней пустыне отчужденности бредет человек, а позади него, невидимая ему, тенью следует смерть. И этот старый, усталый человек, Крабат, не может найти последнего, что нужно отыскать, собственную смерть. Он пережил самого себя.
Зажегся свет, кто-то сказал "интересная трактовка легенды", кто-то засмеялся, кто-то пожаловался на плохую работу кондиционера.
На улице воздух был мягким и теплым, они шли пешком, Ямато молчал, а бородатый говорил о фильме, о его технических качествах и психологической глубине, ему казалось особенно важным, что создатели фильма не дали Крабату умереть. Как это ни парадоксально, продолжал он, киносмерть Крабата означала бы его жизнь в сознании зрителей, в то время как его жизнь, показанная на экране, это лишь медленное, не вызывающее у зрителей сочувствия умирание.
Крабат слушал его рассуждения и вдруг, неожиданно для обоих спутников, говорящего и молчащего, рассмеялся как раз в тот момент, когда они пересекали площадь Святого Петра; его смех, как молния, ударил в красный обелиск, и эта сверкающая, зигзагообразная молния прочертила темное, затянутое туманом небо ночного города и повисла на нем, превратившись в весело сияющую или насмешливо подмигивающую желтоватую звезду.
Интересный оптический фокус, подумал Ямато, а бородатый, не разбиравшийся в естественных науках, но знавший много языков, пробормотал "Miraculum Sankti Petri!" (Чудо Святого Петра (лат.)) и, когда они остановились перед отелем, добавил: "Это произошло в тот момент, когда вы рассмеялись, профессор Сербин".
Крабат хотел сказать, что это правда смеялась над фальшью, но вдруг заметил девушку Навсикаю со смуглой бархатной кожей и медным амулетом на маленькой полуобнаженной груди.
Она подошла к ним и сказала: только что получено сообщение о надвигающейся волне вирусного гриппа. Поэтому конгресс откладывается на несколько дней, может быть, его перенесут в другой город, где нет эпидемии. Синьор Ф. И. Каминг, чьим посланцем она является, при этих словах девушка нежно улыбнулась, был бы очень рад принять на это время профессора Сербина и профессора Ямато в своем доме на Синем острове.
Служащий отеля передал бородатому какую-то бумагу, тот быстро пробежал ее глазами и сказал, что все действительно обстоит именно так и остальные ученые уже приняли подобные приглашения от других лиц, чтобы в безопасности переждать разбушевавшийся вирус и дождаться решения устроителей конгресса.
От напряжения дрожь пробежала у Крабата по телу. ТРЕТИЙ, подумал он, через него я найду Чебалло. "Принимаю приглашение", ответил он, а Ямато только кивнул.
Бородатый явно обрадовался этому и даже попробовал пошутить: мол, гены уже, кажется, у ученых в руках, а вирусы, еще журавль в небе, но тут же извинился за неудачное сравнение.
В сопровождении Ибу Ямато и девушки Навсикаи, на самом деле ее звали Манохара, Крабат покинул город, куда никто, кроме него, не приехал на этот мнимый конгресс. В близлежащей гавани они сели на быстроходную морскую яхту.
Они плыли на юг вдоль берега, его темная, неровная полоска, то узкая, то широкая, сливалась на востоке с горизонтом. Крабат остался на палубе, и Ямато подсел к нему. Он молчал, как мертвый, и Крабат подумал: выключенная говорящая машина. Он убедился в этом, снова задав вопрос: "Как ваша сестра, Ямато?"
Последовал быстрый безразличный ответ, и Ямато наморщил лоб, как человек, который ищет что-то в своей памяти, но ничего не находит.
Крабат сказал как в пустоту: "Если удастся лишить людей памяти о прошлом, ими можно будет манипулировать без труда".
Ямато промолчал, слова Крабата упали в пустоту.
Наутро они увидели седловину горного хребта и конусообразную вершину; огненная пасть горы была раскрыта, из нее курился легкий дымок. Ямато знал эту гору, знал и лежащий в бухте большой, шумный, грязный и много раз воспетый город, но, очевидно, не знал о существовании мертвого города на склоне горы, хотя пытался постичь и усвоить то, что не было заложено в его память.
В гавани стояли серые военные корабли под чужими флагами, для этого большого шумного города они были, может быть, опаснее, чем близкая, иногда гудящая во сне огненная гора. Корабли стояли здесь уже давно, и весь мир знал об этом, знал их флаги и назначение, но Ибу Ямато наморщил лоб и заткнул еще одну дырку в своей памяти.
Его память показалась Крабату какой-то необычной и странной, потому что в ней, по всей видимости, не существовало эмоциональных связей: хотя один факт и вызывал в его памяти другой, он не мог вырваться за пределы той информации, которая была первоначально заложена в электронный мозг.
К ним подошла Манохара, прекрасная, как тот сказочный рай, откуда она была родом, но Ямато смотрел на нее так, будто хотел с точностью до грамма определить ее вес или понять, какими формулами измеряется ее улыбка, Пифагора или Эйнштейна.
Синий остров не был на самом деле синим, синими были море и небо и, как отблеск того или другого, некоторые гроты скалистого берега. Солнце теперь освещало всю маленькую гавань и поднимающийся за ней террасами берег, в яркой зелени олеандров и с рассыпанными повсюду сверкающими белизной постройками: виллами, дворцами, бунгало, почти все со светло-зелеными жалюзи. У парапета на узком молу стоял мальчик, может едва достигший школьного возраста, но уже достаточно взрослый для того, чтобы стоять на этом молу с напоминающей шляпу большой корзиной фисташек и знать, сколько они стоят. Достаточно взрослый для того, чтобы понимать, что перед такими женщинами, как Манохара, надо широко раскрывать глаза от восхищения; за это подарят улыбку, чем не награда, или серебряную монетку, а это еще лучше.
Неожиданно получив серебряную монетку от седого иностранца с чудной тростью в руках, он спел для него "О solo mio", а когда тот сел в поджидавшую их машину, продолжал петь для себя, или для серебряной монетки, или, может, для солнца, почем это знать мальчишке, только что научившемуся продавать фисташки или свое восхищение.
Дом Ф. И. Каминга стоял на горе в конце узкой улочки, не так высоко, чтобы высокие горы не защищали его с севера и запада. Но достаточно высоко, чтобы Крабат, подойдя к перилам террасы над крутым обрывом, убедился, что в мире немного мест красивее этого.
"Надеюсь, вы будете счастливы здесь, синьор Сербин", тихо сказала Манохара, быть может, она и себя рассматривала, как часть его будущего счастья.
Ф. И. Каминга еще не было. "Дом в вашем распоряжении", сказала Манохара. Каминг, появившийся в сумерках, объявил: "Мой дом - ваш дом, профессор Сербин, я прошу лишь ночлега и обещаю не мешать вам".
Крабат поблагодарил за любезный прием и оттого, что был напряжен и насторожен, сделался столь немногословен, что это не показалось странным только потому, что Ямато вообще хранил гробовое молчание.
Ночью в комнату Крабата вошла Манохара и повела его к лифту, который мгновенно спустил их вниз. Они очутились на гладко отшлифованной скале у входа в грот; казавшееся черным море отливало серебром. Из побеленной известью ниши в скале Манохара вытянула маленькую весельную лодку, велела Крабату сесть в нее и вновь вошла в нишу, чтобы включить свет, как она сказала. Пока он легкими ударами весел удерживал лодку на месте, тут было слабое, но ощутимое течение, отовсюду, казалось даже из воды, полился сперва матовый, потом яркий голубой свет. В высоком гроте, уходившем далеко в глубь скалы, стало светло. Чем ярче становился свет, тем быстрее несся поток.
Крабат сопротивлялся изо всей силы, какая была у нетренированного и не очень крепкого Яна Сербина, но одно весло сломалось, и течение все быстрее тянуло лодку в глубину грота.
Голубой свет утратил постепенно свою яркость и снова матовым голубоватым мерцанием освещал совершенно гладкие полукруглые стены грота. Вода, теперь уже ничем не освещенная, несла неуправляемую лодку так, что она не попадала в водовороты и не ударялась о стенки этой гигантской пещеры. Со все увеличивающейся скоростью летела она вперед или, скорее, вниз, потому что Крабату приходилось откидываться назад, чтобы удержать равновесие. Поток несся совершенно бесшумно, лишь от трения о стены воздуха, струившегося вниз с такой же скоростью, возникал свистящий звук, казавшийся Крабату цветным, красновато-желтым. Эта красноватая желтизна делалась все более яркой и режущей глаз, он почувствовал, как она начала проникать в него, постепенно становясь его частью.
Когда Крабат очнулся, он обнаружил, что вокруг, насколько хватал глаз, простиралась холмистая равнина, которая показалась ему одновременно знакомой и незнакомой. Все вокруг освещалось мягким, рассеянным светом, его излучало не солнце, а бледно-голубой купол, предметы здесь не отбрасывали тени. Даже пение соловьев не радовало, потому что делало тишину еще более ощутимой. Крабат поднялся, и густая трава, на которой он лежал, тут же распрямилась. Сделав несколько шагов, он убедился, что не оставляет следов ни на траве, ни на мелком песке откоса, по которому поднимался вверх. Теперь он понял, что именно показалось ему здесь незнакомым и странным: нетронутость, невозможность нарушить девственность природы.
Взобравшись на пологий холм, он увидел библейскую гору Арарат, и ему стало ясно, почему это место показалось одновременно и знакомым: это был Эдем, один из возможных вариантов, шесть Дней Творения уже позади, но Седьмой День осуществления еще не наступил.
Крабату показалось, будто небесный свод опустился на его плечи, и ему надо его удержать, он понял, что на нем лежит ответственность за еще не наступивший Седьмой День: он должен нарушить нетронутость рая и создать человека, который прикоснется ко всему, что здесь есть. Тяжесть ответственности пригнула Крабата почти к самой земле, но он выпрямился и, подняв свод, от напряжения жилы на руках чуть не лопнули, поставил его основанием на линию горизонта.
Замолкшие было соловьи запели еще громче и нежнее, и когда он осторожно раздвинул куст с пурпурными розами без шипов, то вместо соловья увидел женщину, которая спала, чуть повернувшись на бок и положив руку под голову.
"Манохара", удивленно прошептал Крабат.
Женщина открыла глаза и улыбнулась ослепительной, но ничего не выражающей улыбкой.
"Она похожа на меня? - спросила женщина. - Значит, она красавица!"
Крабат, сообразив, что бессмысленно с одной женщиной обсуждать красоту другой, спросил: "Кто вы такая?"
Она удивленно подняла брови: "Да Ева же. Ты можешь спокойно говорить мне "ты", мы здесь пока вдвоем и, если захочешь, вдвоем и останемся".
Она приняла другую позу и стала, пожалуй, еще красивее. Сдунув несколько розовых лепестков, упавших на ее нежно-округлый живот, она стала говорить о себе: что она прообраз, модель, идеал всех женщин, предмет вожделения всех мужчин, а бесчисленные копии, это всего лишь копии, дешевые или дорогие.
"Сначала я создам солнце", объявил Крабат.
13. 371
"Если ты создашь солнце, то создашь и тьму. И еще ураганы, тайфуны, песчаные пустыни и потоп", сказала Ева.
"Если я не создам солнце, объяснил Крабат, рай останется мертвым".
"Он останется таким, каков есть, возразила Ева. Она погладила себя по груди и животу, и кожа ее запела. - Разве рай тебе не нравится? Я вижу, что он тебе нравится".
Он потянулся к ней, вернее, его потянуло, сквозь розовый куст, соловьи запели громче прежнего. Эдем сжался до крошечных размеров, и вновь обрушился бледно-голубой свод.
Когда свод вернулся на прежнее место, Крабат увидел на груди у женщины круглое светлое пятно.
"Манохара!", воскликнул он.
"Манохара носит здесь амулет", сказала она.
Прошло много времени, но время нечем было измерить, значит, его и не было, и Крабат вспомнил, что ответственность за еще не начавшийся Седьмой День лежи? на нем.
Женщина сказала: "Ты не можешь ничего создать".
Но Крабат не послушался ее, он приказал солнцу взойти.
Но солнце не взошло.
"Ты ничего не можешь создать, пока не создашь самого себя", объяснила женщина.
"Я хочу создать самого себя, сказал он, по образу моему и подобию".
"Твой образ - это и Райсенберг, - сказала она. - Вместе с собой ты создашь и его".
И она принялась расхваливать рай, где нет теней, нет времени, где поют соловьи и цветут пурпурные розы без шипов, но и без запаха, где на мягкой, как шелк', траве слиты их тела в ненасытном желании, Страну Счастья.
Она не должна была говорить "Страна Счастья", это слово первой произнесла Смяла, оно принадлежало ей.
Он разглядывал Еву равнодушными главами, голод его был утолен, а кроме голода, ничего не было. У него возникло смутное ощущение, что она превратилась в Еву из слоновой кости на его посохе, пустая оболочка, да и та выдуманная, и, когда Ева подняла ногу и, взявшись рукой за щиколотку, стала рассматривать свою безупречной формы ступню, может, искала занозу или какой-нибудь изъян, он счел ее позу непристойной, хотя Смяла, сидевшая точно так же на камне и тоже делавшая вид, что вытаскивает занозу, была прекрасна. Поэтому он сказал: "Я создам Смялу".
"Если ты ее создашь, то должен будешь ее потерять", сказала Ева.
"Я создам Смялу, чтобы ее искать", возразил он. В этот момент он понял, что потерять и искать, это одно и то же.
"Ты должен выбрать: жить в раю или быть человеком", повторила Ева.
Крабат приподнялся, и вновь небесный свод рухнул ему на плечи, колени его подогнулись, свод прижал его к земле и грозил раздавить. Он знал, что создаст Райсенберга и вместе с ним чужака, которому он, Крабат, перерезал жилы, создаст сподвижников Спартака, распятых на крестах, и манящее лоно Айку вместе с криком новорожденного, создаст огонь костра, сжигающий Яна Гуса, и Лес Бедных Душ, где в траве на болоте рождаются люди-рабы, создаст Хандриаса Сербина и двух его сыновей, погибших на предательском камне спасения, и потоки крови на кладбище Пер-Лашез, превращающие серые камни в красные. И эта кровавая краска не выцветает со временем, а становится только ярче. Он знал, что создаст мир, где в течение одного столетия сто миллионов людей будут убиты людьми же, создаст Яна Сербина, который может ввергнуть человечество в небытие, потому что постиг тайну становления человека, и создаст, наконец, самого себя, знающего все это и почти раздавленного непомерностью этого знания.
Но когда он уже лежал, уткнувшись лицом в землю, и рот его был полон песку, он увидел бесплодное лоно Евы, осужденное на вечное бесплодие, и, выплюнув девственный райский песок, на котором не остается следов, крикнул: "Я хочу быть человеком".
"Конечно, человек хочет и должен быть человеком", согласился Ф. И. Каминг. Он сложил домиком короткие толстые пальцы и задумался, опустив тяжелые коричневатые веки, а потом медленно спросил: "Но что это значит, быть человеком?"
Он ждал, спокойный, уверенный в себе, но Крабат молчал.
"Мне не нравятся военные корабли в бухте, сказал Каминг., Они портят пейзаж, их нужно убрать, чтобы они не мешали безмятежно наслаждаться красотой этого райского уголка. Мне мешает и оборванный мальчишка на молу: ему бы не фисташки продавать, а играть с другими детьми. Или сидеть за партой".
Скупой жест, не относящийся к делу, дружески интимный вопрос к ровеснику: "Вы любили ходить в школу?"
"Да", ответил Крабат.
"А я нет, - сказал Каминг. - Никогда. Andra moi enepe musa... (строка из "Одиссеи": Муза, скажи мне о том многоопытном муже...) это было для меня мучением, и, когда я вспоминаю о школе, мне кажется, что мы учили одно и то же: как люди мечутся в поисках счастья и не находят его. Как плавал Одиссей по всем морям, попадая к разным чудовищам в поисках химеры, Итаки, чтобы вернуться в свой дом, где ему пришлось убивать. Или Ахилл у стен Трои, куда он попал из-за шлюхи Елены. А эти военные корабли в бухте, из-за какой шлюхи они здесь?"
"Это ваши военные корабли", сказал Крабат.
"Нет, это военные корабли, - с нажимом возразил Каминг. - Мне безразлично, считаете ли вы меня в данной ситуации Ахиллом или Патроклом. Важно другое - как далеко мы ушли от Трои?"
Он дал Крабату время подумать, взял из вазы яблоко и стал есть его. Его крошечный рот, бросавшийся в глаза из-за явной несоразмерности с широким, массивным лицом, открывшись, превратился в огромную квадратную пасть с частоколом мелких острых зубов.
Крабат рассматривал жующего яблоко Каминга и думал: как кит изрыгнул из своей пасти пророка Иону, так и этот изрыгнет из себя ТРЕТЬЕГО.
Но еще не пришло время. Каминг коротким, резким движением положил огрызок яблока на тарелку и вытер руки салфеткой. Рот закрылся, толстые, мясистые губы спрятались внутрь, и его рот, теперь Крабат увидел это совершенно отчетливо, притаился в складках его обрюзгшего и бесформенного лица, как алчный зверь, подстерегающий добычу.
"Вы еще молчаливее, чем ваш друг Ямато, - сказал Каминг. - Конечно, вы, люди науки, думаете о важных вещах, к чему вам пустые разговоры".
Он выдержал паузу, вынуждая Крабата ответить, но тот так и не заговорил. Тогда Каминг поспешил придать своему лицу выражение озабоченного достоинства.
"Я простой человек, Сербин, но и я думаю над судьбами мира, я достаточно жил на свете, чтобы чувствовать свою ответственность. Хочу быть с вами откровенным: когда я узнал, что вы приняли мое приглашение, я, ни минуты не раздумывая, отправился сюда, но не для того, чтобы наслаждаться этим прекрасным утром или любоваться еще более прекрасным закатом, нигде в мире не бывает таких закатов. Я здесь для того, чтобы договориться с вами".
Каминг говорил медленно, запинаясь, с долгими, мучительными паузами, которые, как он думал, сами по себе должны были вызвать у собеседника нужные образы. Могло показаться, что он придавал этим паузам особое значение, ибо перемежал их лишь скупыми комментариями. Но все-таки он решил не слишком полагаться на образы, которые неизвестно как преломляются в голове у собеседника, поэтому он стал заполнять паузы тщательно обдуманными словами, обдуманной была даже их неточность и неясность, он цитировал философов, экономистов, социологов, медиков, сопоставлял чужие мысли с собственными, подкреплял свои мысли чужими, излагал разные теории и постепенно, не торопясь, наводил разговор на книгу, которую писал: Счастливое человечество, или Мир счастливых людей.
Вывод, который он затем сделал, не был неожиданным для Крабата, хотя Каминг рассчитывал поразить им как ударом грома: "Мы стоим перед выбором - погибнуть или создать в будущем такой мир. Мы - это вы, профессор Сербин, и я. Только мы можем создать этот мир. Это в наших с вами силах. И наш с вами долг - объединить знания и силы, чтобы спасти человечество от самого себя".
"Каким образом?", спросил Крабат.
"Военные корабли там в бухте, - улыбнулся Каминг, - одинаково неприятны мне и вам, а вы нашли формулу, которая сделает их ненужными. И никто не будет гнаться за шлюхой Еленой, и не будет больше Трои",
"Если бы я нашел формулу, сказал Крабат, она бы уничтожила все человечество и заселила землю новыми людьми".
"Лучшими", - уточнил Каминг.
"Антилюдьми, - возразил Крабат. - Они будут неспособны думать о будущем и постепенно станут откатываться назад, пока не вернутся в первобытное состояние".
"Вы же нашли эту формулу, Сербин".
Крабат удивленно поднял голову: это был ТРЕТИЙ. Неужели уже пришло время?
"Формула бессмысленна, - ответил он. - Она доказывает лишь свою собственную абсурдность".
ТРЕТИЙ снова спрятался в китовую пасть, а Каминг спросил: "Можно с ее помощью излечивать рак?"
"Да".
"И восстанавливать ампутированные конечности?"
"Да".
"И уничтожать наследственные болезни?"
"Да".
"И ликвидировать дефекты мозга?"
"Да", - подтвердил Крабат в четвертый раз.
Каминг посмотрел на него, как на сумасшедшего. "Почему же тогда ваша формула бессмысленна?"
В его голосе прозвучало с трудом скрываемое удивление, к которому примешивалась тайная надежда или злорадное, пока еще дремлющее на цепи, как дворовый пес, торжество.
Но торжество спряталось, когда Крабат ответил: "Потому, что с помощью этой формулы можно делать обратное: заражать людей раком, перекраивать мозг, создавать сверхмозг вне человеческого тела..."
Каминг содрогнулся. "Какая жуткая идея, - сказал он. - Кто же способен на такое?"
"Вы, например", - ответил Крабат.
Каминг недоуменно улыбнулся, как бы взывая к разуму собеседника. "Удивительно, - сказал он, - что такой великолепный ум, как ваш, профессор Сербин, остается в плену примитивных пропагандистских представлений".
"Вы не дали мне договорить, - сказал Крабат. - Формула бессмысленна, пока наш мир разделен, пока одни хотят подчинить себе других. Или, если такая формулировка, кажется вам слишком резкой, пока одни получают преимущества за счет других".
"Вы надеваете хомут с хвоста, Сербин, - сказал Каминг. - То положение в мире, которое вы считаете предпосылкой для использования вашей формулы, может быть достигнуто с помощью вашей формулы, и только с ее помощью. Об этом достаточно наглядно свидетельствует тысячелетний опыт".
Он откинулся назад и вновь сложил пальцы домиком, его оплывшее лицо напряглось и приняло почти аскетическое выражение. Он долго сидел так, застыв, глаза его как бы сделались незрячими, потом аскетическое выражение смягчилось, и лицо стало похоже на лик святого мученика, взор был устремлен в небеса, бесконечно далекие от этого приятного будничного утра. Когда он вновь заговорил, это был уже другой человек.
"Я не понимаю, почему вы считаете, что я способен погубить человечество, заразив его раком. Наоборот, я хочу, чтобы человечество избежало гибели, которая грозит ему от постоянно растущего несоответствия между нравственной зрелостью и уровнем развития техники.
Я христианин, господин Сербин, но и мне пришлось убедиться в том, что вера в Бога не предотвратит катастрофы. Наверное, это и есть божья воля, да исполнится воля Его. Но она неведома нам, и в вашей формуле, если воля Его не будет иной, наше спасение.
Я хочу еще раз подчеркнуть, профессор Сербин: я не знаю, почему выгляжу в ваших глазах чудовищем, ведь именно вам, профессор, я вручаю ответственность за этот мир, я не беру ее на себя. Ваша формула бессмысленна только в одном случае: если ее нельзя применить повсеместно и одновременно.
Я создам для этого все условия, предоставлю всю технику, чтобы обратить формулу в реальность и применить ставшую реальностью формулу. Ваша и моя цель, создать такое общество, в котором никто не будет улучшать свое положение за счет других. Мир счастливых людей, без войн, без борьбы, без революций".
Он поднялся, как будто завороженный неким видением или собственными словами; но потом на его лице вновь возникло выражение смирения, и он произнес взволнованно, почти шепотом: "Да простит мне Бог, если я оскорбил ЕГО своими словами: Вы, Сербин, стали бы богом для этого нового мира.
Я стою на высочайшей вершине, и Он стоит рядом и показывает мне весь мир: Твое есть Царство и сила и слава. И во веки пребудет Райсенберг, и засохнет дерево, на котором он должен висеть".
Крабат поднялся, и тяжесть, свалившаяся на его плечи, снова грозила раздавить его, как бледно-голубой купол Шестого Дня, и вновь рот его был полон песка грозящих преступлений, и вновь освобождающий, но не спасающий крик, и Крабат сказал: "Наша наука оторвалась от жизни. С ее помощью человечество не спасти".
"А с чьей же?", спросил Каминг, сбросив маску смирения и святости. Удар был сделан, шар не попал в лузу. Есть другие игры, и, хотя они производят больше шума, зато промаха не будет. Он нажал на какую-то кнопку и сказал, это должно было прозвучать снисходительно-насмешливо, но безудержная злоба прорвалась наружу:
"И что же, спасение у вас в руках?"
Крабат увидел, что кит выплюнул Иону, и ответил: "Люди, живущие на краю болота, куда постоянно стекает зловонная жижа, постепенно просачивающаяся в их колодцы, вынуждены пить эту тухлую воду и видеть себя такими, какими их отражает эта вода; они считают, что обречены вечно пить болотную воду, а родниковую предначертано пить тем, кто живет рядом с источниками.
Спасение людей, живущих у болота, в том, чтобы осушить его, очистить все стоки один за другим от грязи и завладеть источниками".
"Детские сказки", - насмешливо прошипел ТРЕТИЙ.
"А разве моя формула нужна тебе не для того, чтобы вернуть те источники, которые ты уже потерял, ТРЕТИЙ?"
Услышав свое настоящее имя, ТРЕТИЙ вздрогнул, но не зарычал от ярости, а сказал тихо и мягко:
"Так оно и есть, Сербин".
Вошел Ямато.
"У вас еще есть возможность, Сербин, добровольно отдать то, что вам все равно придется отдать, правда, вы при этом несколько пострадаете", - сказал ТРЕТИЙ.
Он улыбнулся, как улыбнулась бы своей огненной пастью гора над синей бухтой.
И вновь костер. И зажжен факел, и трижды прозвучало: Отрекись! - но я, привязанный к столбу, не отрекаюсь.
Я не отрекаюсь от своего убеждения, что исследование генов человека дает возможность манипулировать человеком, а это преступление.
Я не отрекаюсь от своего убеждения, что тот, кто делает преступления возможными, сам совершает преступление.
И я кричу в третий раз, что долг мой, открыть любую, пусть самую преступную, формулу хоть на тысячную долю секунды быстрее Райсенберга.
"При чем здесь костер, - насмешливо пробормотал Лоренцо Чебалло. - Ведь мы с вами не в средневековье. Вам не надо ни от чего отрекаться, я возьму у вас только ваше знание, ваши совесть и мораль останутся при вас".
Здесь действительно ничто не напоминало средневековье: тридцать секунд земли и бетона над этим залом, где воздух чист и свеж, две стены сплошь уставлены книгами, а третья целиком из стекла, за ней огромный аквариум и террариум, полные самых фантастических жизненных форм.
"Разного рода мутанты", объяснил Чебалло, как всегда мрачно. Он показал на куст, на котором вместо листьев были птичьи перья. "Мы еще блуждали в потемках, и, конечно, я не слишком обрадовался, когда узнал, что вы у цели. - Он пожал плечами. - Но самое главное, дело сделано. Позже вы мне подробно расскажете, каким путем шли. Для меня это необычайно важно".
Он не хотел, чтобы Крабат дольше разглядывал результаты его неудачных опытов, подвел его к креслу, предложил освежающие напитки и уселся напротив гостя. Он рассматривал Крабата с жадным, но совершенно не личным, а каким-то абстрактным любопытством, Крабату казалось, что на него смотрят не глаза, а высокий и холодный лоб.
"Почему, спросил Чебалло с жадным любопытством, вы не покончили с собой, попав в руки к ТРЕТЬЕМУ? Ведь вы понимали, чем это вам грозит?"
"Я знал, что было изготовлено несколько значков для мнимого конгресса, чтобы ввести меня в заблуждение, ответил Крабат., Чего же мне было бояться?"
Лоренцо Чебалло наклонился вперед, широко раскрыв от удивления глаза: "И вы не боитесь?"
"Я хотел попасть к вам, - медленно произнес Крабат. - Вы единственный, кто мог быть близко к цели или почти у цели".
Чебалло откинулся назад и, прикрыв глаза, долго молчал. Когда он вновь обратился к Крабату, на его мрачном лице было выражение насмешки и торжества.
"Каминг, сказал он, страдает от навязчивого кошмара: ему кажется, что я превращаю его в фантом, человека-машину. Мне поручено произвести это с вами, Сербин".
Он ожидал увидеть ужас в глазах Крабата, но тот как ни в чем не бывало вертел в руках палку черного дерева с рукоятью из слоновой кости, а на палке были вырезаны Адам и Ева и древо познания.
"Очень красивая палка", сказал Чебалло.
"Любое познание разрушает мечту, - сказал Крабат, поворачивая в руках палку, как будто рассматривая ее; кристаллы Яна Сербина - Гены, Генезис, Немезис - выскочили из чудо-посоха, Крабат зажал их в руке. - И каждое познание рождает новую мечту".
"Во веки веков аминь, - насмешливо закончил Чебалло. - Движение, все, цель, ничто".
"Цель - приблизиться к цели", - возразил Крабат.
"И никогда не достичь ее?" Казалось, Чебалло вот-вот разразится издевательским и торжествующим смехом.
"Что означают слова "никогда", "вечно"? С помощью этих устоявшихся понятий человек пытается очертить границу того, что безгранично во времени", произнес Крабат, не спуская глаз с Чебалло, с которым происходило нечто очень странное: черты его сделались жестче, казалось, весь он превратился в вибрирующий сгусток энергии. Резким движением Чебалло вытащил из кармана трубку и потной от волнения рукой осторожно и в то же время с силой отвернул мундштук. "Теперь ничьи уши не слышат и ничьи глаза не видят, сказал он. - Мы можем говорить свободно".
Он говорил неестественно хриплым, сдавленным голосом, казалось, все его тело свела судорога, лицо застыло, словно одеревенев, глаза под неподвижными веками сузились, звуки с трудом вылетали изо рта, как бы против его воли, будто их кто-то выталкивал: "Шут Хоулинг любит говорить, любит аплодисменты, шут. Опустошить мозги, лишить их власти! Эти дурацкие пугала, генералы, они ухмыляются, аплодисменты клакеров, шутнику. Я не оратор, я лишаю вещи власти, машины бессмысленны, власть, лишенная разума, узурпаторы науки, я, конец".
Он хрипел, как в агонии. Руки его, лежавшие на столе, сжались в кулаки так, что побелели суставы.
Крабат знал, что, как только у Чебалло пройдет эта судорога, он сформулирует свое кредо: нет спасения от власти машин, которые вышли у человека из подчинения, если только наша наука не возьмет власть в свои руки. Катастрофа вот-вот разразится, и только биология еще в состоянии ее предотвратить.
Чебалло очень медленно, как при замедленной съемке, и с невероятным усилием разжал кулаки, поднес ладони к глазам и принялся рассматривать их так, словно на них было начертано его будущее. Вибрирующий сгусток энергии постепенно разрядился, только его лицо оставалось по-прежнему застывшим.
"Я не буду превращать вас в человека-машину, Сербин, - сказал он спокойно. - Мы с вами, лучшие головы мира и вместе осуществим то, что необходимо: реорганизацию жизни в соответствии с нашими убеждениями".
"Вы не знаете моих убеждений, Чебалло, - возразил Крабат. - Они не совпадают с вашими".
"Это не имеет значения. - Чебалло положил обе руки на стол, растопырив пальцы. - Вы откажетесь от тех убеждений, которые будут идти вразрез с моими".
"Без возражений?" - спросил Крабат.
"Вы что, Сербин, с луны свалились? - Он повысил голос. - Здесь решает тот, в чьих руках власть".
"Но формула у меня, Чебалло!", - ответил Крабат, подражая его тону.
"Поймите! - Чебалло вновь заговорил спокойно. - Мне поручено отнять у вас эту формулу. И у меня есть для этого все средства. Тогда я смогу применить ее, как захочу, без вашего участия. Будьте благоразумны, Сербин, и не вынуждайте меня разрушить мозг, которому нет равных в мире. Кроме, пожалуй, моего".
"Но вы все-таки сделаете это, если вам прикажут?"
"Здесь дело не в приказе, - сказал Чебалло, сжимая пальцы. - Мои убеждения заставляют меня это сделать. Извлечение формулы из вашего мозга, Сербин, было бы для меня всего лишь последним, причем наверняка успешным экспериментом, завершающим бесконечную цепь исследований".
"А если бы меня не было, Чебалло?"
"Но вы есть, зачем же мне думать о том, что было бы, если я знаю, что будет, - спокойно ответил Чебалло. - Я не склонен к рефлексии".
Крабат встал и, делая вид, что хочет обдумать ситуацию, подошел к стеклянной стене, за которой были собраны все эти странные, казавшиеся на первый взгляд бессмысленными плоды экспериментов Чебалло. Крабат действительно размышлял, но не над ультиматумом, срок которого истекал через несколько секунд, он продумывал еще раз мысли человека, чье обличье он принял: Необходимо очеловечить Чебалло, который сам является роботом, пока он всех нас не превратил в довольных и счастливых роботов.
Мозг Чебалло устроен так, что он не может думать, исходя из интересов человека или ориентируясь на человека, он может лишь продвигаться вперед от формулы к формуле, и каждая формула не имеет цены сама по себе, но в то же время, это не парадокс, с ее помощью такой мозг оценивает все, что считает достойным оценки. Нет никаких нравственных мерок, которые были бы приложимы к этому человеку, ведь нельзя сказать про ураган, что он безнравствен, но его разрушительную силу можно измерить тем уроном, который он наносит. Мы научимся расщеплять молниями ураган, не злой сам по себе, но приносящий зло, научимся подавлять его воздушными фронтами и рассеивать прежде, чем он начнет разрушать. Поэтому и нам необходимо продвигаться от формулы к формуле, чтобы этого достичь.
У Яна Сербина, или Крабата, в этот момент они были неразделимы, вырвался вздох облегчения, он понял, что был прав, когда шел от формулы к формуле, чтобы прийти к самой последней: она открывала дорогу, ведущую человека к утрате всего человеческого, и теперь с ее помощью человечество могло избежать этой дороги!
Он обернулся. Ты хотел добыть формулу, сверхмозг Райсенберга, так пусть же она поразит тебя прежде, чем ты сумел ее найти!
Крик, потрясший всю массу земли и бетона, исходил не от Чебалло, который в этот миг превратился в человека, это кричал Вольф Райсенберг, пораженный в самое сердце. Он кричал, и крик его огромным черным куполом накрыл маленькую голубую звезду, которую мы называем Землей. Пространство над куполом было безжизненным и пустым, его заполнял лишь этот крик. Может быть, именно крик делал все вокруг черным и мертвым.
В пустоту, заполненную криком, вступили Крабат и Якуб Кушк. Крабат нес на своих плечах Седьмой День, а Якуб Трубач играл песню. Может, это была Песнь песней царя Соломона "Два сосца твоих как два козленка", или "Луна взошла", или "Мать баюкает дитя". Может, то была яростная песня гуситов "Пепел сожженных сердец" или "Избавь нас от лукавого", какая бы это ни была песня, а может, в ней слились все эти песни, она не заглушила крик Райсенберга и не заставила его смолкнуть, лишь оттеснила его, приглушила, уменьшила черную пустоту, заполненную криком, и Седьмой День занял все освободившееся под куполом пространство. Оба пространства столкнулись друг с другом и перемешались, иногда казалось, что эта черная пустота и обычный день с простой маленькой песенкой были не пространством, а временем, вечером и утром. И вполне естественно, что чем выше всходило солнце, тем короче становились тени и теснее жались к предметам, а свет утратил мягкость, у роз выросли шипы, и земля уже не была девственной и нетронутой.
Стоял обычный летний день с пылью и резкими тенями. Старая липа на дороге, где шведы сбросили с повозки образ Девы Марии у Леса, похищенный из бедной церквушки в деревне Розенталь, уже роняла пожелтевшие листья.
Кто-то заменил старую, полусгнившую рамку новой, слишком новой для старого образа. А на верхушке дерева все еще не было белого голубя, только что-то блестело, может, августовское солнце, а может, несколько слов из песни, которую играл Якуб Кушк.
"Живое умирает, брат Трубач", сказал Крабат.
"А мертвое оживает", - сказал Якуб Трубач.
Они сидели в тени дерева, прислонившись к его сморщенному стволу, и отдыхали.
Мимо проехала девушка на велосипеде.
Якуб Кушк вспомнил какую-то историю: рассказать ее тебе, брат?
Она похожа на Смялу, сказал Крабат.
Там, где веет ветер и течет вода, каждая девушка похожа на Смялу.
Глава 18
Зима была бесснежной, весной выпало мало дождей, и, когда в разгаре лета сухой сильный ветер с юга принес африканскую жару, второй раз на памяти Хандриаса Сербина начала сохнуть одичавшая яблоня.
Когда наступал вечер, старик, уверенный, что в эту пору уже никто к нему не зайдет, отправлялся с тачкой к лесному пруду, чтобы набрать два ведра воды. С холма он спускался с пустой тачкой за несколько минут, путь наверх казался в пять раз длиннее, а время, которое он после того проводил в складном шведском кресле, измерялось не только его учащенным пульсом, но и тяжестью овладевавших им мыслей. Искушение махнуть на все рукой и просто остаться в кресле, погрузившись в блаженный покой, без забот и желаний, бывало в эти минуты так велико, что однажды вечером у него не хватило сил подняться и сказать несколько слов двухнедельному щенку, которого привез ему, несмотря на его протесты, учитель Холька, щенок считал, что имеет полное право на этот знак внимания, у него не было сил раздеться, и не лечь, а откинуться на горку подушек. Его лицо, потемневшее от усталости и гнетущего чувства бессилия, не приобрело тем не менее выражения покорности. Нет и еще раз нет, пока я жив. И он стал вспоминать о прошлом, далеком и смутном, близком и отчетливом, память единым потоком несла эти образы по руслу жизни.
Он думал не о яблоне и не о каменной плите, положенной неким Венцелем Сербином перед дверью дома в 1385 году, и не о моровом столбе, который он обновил для следующего столетия, и не о сыне, приедет тот или нет, река его памяти текла в глубине под слоем слов.
Она текла глубоко, и там, в глубине, возникал стыд, что он утратил то, что сумели сохранить все, кто был до него, а может, гордость за них, тех, кто не сдался и не уступил.
Это было недоступно посторонним, даже собственному сыну невозможно было это передать, оттуда выплывали неоформленные ни во времени, ни в пространстве события прошлого; пережитое, о котором можно рассказать, но нельзя сделать понятным другим. Он видел своего сына Мати с круглой дырой в груди, и сразу же после этого пасхальную ночь и праздничное шествие в полночь вокруг деревенских полей, когда втыкают ветви зазеленевшей ивы в землю. Христос воскрес, а я хороню сына, ставлю деревянный крест на его могиле. Деревянный крест сгнил, могилу сровняли с землей, а плита у церковной стены, на которой начертано Misericordia, не тронута временем. Кто же должен проявить милосердие, как не мы, к нашим сыновьям?
Мы рубили деревья, я и мой сын Ян. Я хотел поднять бревно, но сын сказал: оно слишком тяжелое, и сам поднял его. Я всегда говорил ему, оставь, это слишком тяжело для тебя, и вот услышал от него те же слова. Это бревно не было слишком тяжелым для меня, тогда еще не было, но я ничего не сказал сыну, ибо силе нужны годы и годы, чтобы стать мудростью, а потом мудрость заменит силу, и я вспомнил о своем отце, которому мудрость дала силу не поддаться времени.
Хандриас Сербин с трудом приподнялся с кресла, встал на ноги, сказал несколько слов щенку, растянувшемуся на пороге, с трудом разделся и лег в постель. Завтра, после того как польет дерево, он сядет передохнуть на обыкновенный жесткий стул. С него легче встать.
Назавтра, едва он со своей тачкой вышел из лесу, ему еще предстоял нелегкий подъем, навстречу вниз с холма сбежал учитель Холька.
Холька полил дерево, он, кажется, понимал, что это было необходимо, поставил тачку на место, ведра в кухню и пошел опять навстречу старику, словно явился сюда только для того, чтобы постоять с пим вот так на дороге и показать ему, как удивительно низко висела нынче луна над длинным холмом Висельников по ту сторону Саткулы.
Хандриаса Сербина не так просто было провести, но он решил, что будет невежливо, если он станет хмуриться и обижаться из-за того, что его застигли, так сказать, на месте преступления. Луна на самом деле висела удивительно низко, и он сказал: "Отсюда кажется, что людям и не нужны ракеты, чтобы до нее добраться, с холма Висельников хватило бы и простой лестницы". Поднимаясь к дому, они еще раза два останавливались, конечно только для того, чтобы взглянуть на луну, два человека, спокойно созерцающих природу. Уже на холме они уселись на скамейку под липой, и учитель принялся рассказывать старику, как тесно стало у них дома: сестра ждет третьего ребенка, зять собирается теперь после смерти деда что-то пристраивать и перестраивать, какой уж тут покой и тишина, короче говоря, не найдется ли здесь для него комнатенка?
Молодой пес при этих словах подскочил бы от радости и залаял, а Хандриас Сербин спокойно спросил: "Почему ты не женишься?"
"Ты ведь знаешь почему, дедушка", ответил учитель.
Хандриас Сербин слышал, о чем поговаривали в деревне: девушка из магазина вышла замуж и уехала в Индию, оставив одного молодого человека в большой тоске и печали. Об этом как-то даже бургомистр обмолвился. Однако ни вчера, ни позавчера бургомистр не проронил ни словечка о том, что он вместе с учителем собрался посвятить еще одного человека в "чудотворцы", записав его под номером пятнадцатым в свой список, так как бургомистр по собственному опыту знал, что многие беды можно предотвратить, если "чудотворец" будет наготове.
Хандриас Сербин показал на луну, которая уже отдалилась от холма Висельников, теперь ее с лестницы не достанешь, сказал он, машину можешь поставить в сарай, я наведу там порядок.
Позже, когда он лежал в постели, он вспомнил про яблоню, но тяжести на душе у него не было, и, казалось, без всякой связи пришел ему на ум Николаус Холька и то, как сидели они тогда у костра и говорили, что сын одного из них - их общий сын.
На следующий день со стороны леса на холм поднялась незнакомая женщина. Старик сидел в тени дома и чистил на обед три картофелины. Он увидел женщину, когда она уже подошла к ограде, и подумал: Мария. Такой была Мария, когда носила Катю, и мы думали, что будут близнецы.
Он бросил недочищенную картофелину в кастрюлю и отложил нож.
Она сказала: "Я твоя внучка Сигне".
Чужая дочка чужой дочери Урсулы. О чем с ней говорить? Он снял кастрюлю со скамейки и сказал: "Садись". Она села.
Он идет в огород, в тот угол, где растет картошка, становится на колени и выгребает ее руками. С трудом встает. Моет картошку у колодца, выбирает картофелины получше и возвращается. Строгий старик. Мой дед, потому что моя мать - его дочь. Или была его дочерью. Он со мной даже не поздоровался.
Она прислоняется головой к стене дома, руки спокойно лежат на коленях, ей жарко, лоб блестит от пота. Наверное, раньше она была тоненькая, как моя Мария, когда я сказал ей: смотри, не увяжи себя ненароком в сноп. А я с ней даже не поздоровался.
"Я с тобой не поздоровался, - сказал он. - Добро пожаловать".
У него большие, очень светлые глаза, руку он пожимает крепко и сердечно. У него неухоженные, но красивой формы и чистые ногти.
"Можно мне здесь остаться, дедушка?"
Он не отвечает. Разве я могу обижаться на него за то, что я ему чужая? А может, он медлит с ответом потому, что ищет в кастрюле недочищенную картофелину?
"Можешь занять комнату, сказал он, в которой жила твоя мать, когда она еще..."
Когда моя мать была еще просто дочерью этого человека и приезжала на каникулы домой, она жила здесь. Комнатка очень чистая, свежепобеленная, с тремя маленькими окошками. В простенке между двумя окнами висит пустая полка, у третьего окна стоит складная кровать. Дощатый пол скрипит под ногами. Перед двумя окнами растет могучая старая липа, а из третьего видна церковь поблизости, ее золотой шпиль сверкает на солнце, и в окно плывет мелодичное: бим-бом, как из детского стихотворения. Идиллия, но только для того, кто слеп, а я вижу рядом с липой развалившуюся постройку, и старик, стряпающий обед на кухне, мне чужой. Я даже не могу представить себе, о чем он сейчас думает.
Старик сидел на скамеечке у печки и ждал, пока сварится картошка. Он думал: скажу учителю, чтобы он повременил денек, завтра или послезавтра она уедет; но эта мысль не принесла облегчения. Потом он подумал, что она не похожа на богатую.
Картошка сварилась, и он решил приготовить пюре с маринованными бобами, может, это ей понравится, и еще яичницу из двух яиц для нее. Сам он никогда больше одного яйца не ел.
Она стояла на пороге, и, если бы на ней было крестьянское платье, которое тогда носила Мария, их было бы трудно различить.
"Где бабушка?" - спросила она и, прежде чем он ответил, поняла, что старик одинок. Она взяла у него из рук взбивалку, он сел и показал на кастрюлю, стоявшую на плите. "Сала надо еще добавить" - сказал он.
Они ели в комнате, яичницы она не захотела, и он радовался, что ей понравились бобы, которые он замариновал.
Он спросил: "Когда ты ждешь ребенка?"
Она ответила: "Скоро", и он понял, что завтра она уедет. Он прикинул в уме, сколько лет прошло с тех пор, как в этом доме родился последний ребенок.
"Я видела в деревне больницу". Она положила себе еще бобов, он взглянул на нее, она улыбнулась и, он ясно это увидел, покраснела: на шее и на лице у нее выступили красные пятна. Он пристально смотрел на нее, этот голос тоже был ему хорошо знаком: ломкий, без модуляций. "Я уже записалась на роды. Потом я, наверно, смогу там работать".
Он вспомнил, как иногда вспоминаются мелочи в тот момент, когда речь идет об очень важном, что в одном да писем, лежащих в комоде, говорилось, что чужая им внучка Сигне, врач или учится на врача.
Он должен был что-то ответить, она ждала, но в голове у него вместо слов была сплошная голубая вата, он даже был не в состоянии сердиться на себя за то, что не может вымолвить ни слова.
Но потом через эту вату все-таки пробились слова. "На полке в кухне стоят бутылки, выбери какую хочешь, а рюмки возьми в ящике стола", - сказал он.
Она принесла початую бутылку можжевеловой водкн, налила в крохотные рюмочки ему и себе, он выпил за её здоровье, и тут она заметила в его глазах робкую, им самим еще не осознанную радость, которая на мгновение потухла, но после ее ответа засветилась вновь. Теперь радость была уже иной, более осознанной, даже с оттенком торжества, как у человека, мечта которого, похороненная в самой глубине сознания, вдруг стала реальностью.
Его голова снова была полна слов: постельное белье, платяной шкаф, щенок, молока теперь в доме нет, ты ведь, наверно, пьешь много молока. Умеет ли она играть в мюле; когда появится ребенок, в ее комнате нужно будет поставить печку; а она вспомнила про машину, которую ей пришлось оставить на лесной дороге перед торчащей на пути березой.
"Там уже давно никто не ездит", - сказал он и, надвинув на лоб потрепанную кепку, отправился вместе с ней, своей внучкой, в лес, и ноги у него теперь гораздо лучше сгибались в коленях, он даже чуть не забыл свою палку. Они обогнули лес, проехали мимо старой липы с висящим на ней образом мадонны, свернув на дорогу, ведущую на холм, миновали песчаный карьер и наконец подъехали к дому. Как раз в это время из своей машины вылезал учитель Холька, в машине было полно книг, которые должны были разместиться на полке, висевшей в комнате между двумя окнами.
Но Хандриас Сербин не был смущен: в доме, слава богу, есть еще одна свободная комната. Зато смущен был учитель: игра бургомистра в "чудотворцев" не предусматривала появления новых лиц. Он оставил пока свои книги в машине и помог молодой женщине.
Потом они вместе ужинали, а после ужина учитель собрался полить яблоню. "Ничего, теперь уже не засохнет", сказал Хандриас Сербин.
Засыпая в темноте, наполненной усталостью и покоем, старик снова вспомнил про яблоню, мысли его кружили вокруг дерева, касались его, полусказочного, полуреального. В комнате наверху скрипел дощатый пол. Постепенно все смолкло, и в нем самом не спало только удивление, что она так напоминала молодую Марию тех почти забытых лет, вскоре и оно исчезло, окутанное голубой ватой, в которую он опять погрузился, но немоты не было, наоборот, вдруг вспомнились слова той старой песни, которую они пели во время сбора урожая, и он, посмеиваясь над самим собой и все же вполне серьезно, пробормотал их про себя.
Я лежу на спине, вытянув руки, и ребенок шевелится во мне. В ветвях липы висит луна, через определенные промежутки времени звонит колокол, звук ночной тишины. Я думаю.
Я думаю о траве, пробивающейся между камнями, которыми вымощен двор. Я уничтожу ее химикалиями. А может, оставлю этот ковер в серо-зеленую клетку для моего ребенка.
Я думаю о березе посреди лесной дороги, самой удобной дороги на холм, я чуть было не подумала, в мир. Учитель выкорчует ее завтра или послезавтра.
Мне кажется, учитель верит, что биология может открыть путь, который приведет нас из Седьмого Дня в чудесный Восьмой День, где не будет ни глупости, ни преступлений. Этот учитель вовсе не кажется мне чужим, хотя очень многое, что он считает само собой разумеющимся, мне чуждо; я тоже для него не чужая, говорит он, смеясь. Наверное, потому, что наши деды были друзьями, и он рассказывает мне историю, которая произошла на Сомме.
Но, возможно, я ошибаюсь, и он, как и я, верит, что Страна Счастья лежит посреди Седьмого Дня и ее несказочное, настоящее, даже официальное название, СПРАВЕДЛИВОСТЬ и что обрести ее можно, только уничтожив Великую Несправедливость. Но этого не сможет сделать какой-нибудь генерал, моралист или законодатель, эта смогут сделать генералы, моралисты и законодатели, и только вместе со мной.
И я не верю, что Великую Несправедливость можно перевоспитать и превратить в полезное и безобидное домашнее животное.
Я любовалась большой, свободно стоящей посреди лужайки одинокой елью, и охотник Нузалах рассказывал мне старую легенду.
Один человек встретил волка и хотел убить его. Но волк взмолился: "Разве мало тебе шкур моих братьев и моего отца?"
"Твоя правда", согласился человек и не убил волка.
Человек пошел назад в свою деревню. Волк бежал за ним, то и дело хватая его за ноги. "Перестань, - сказал человек, - не то я убью тебя".
"Это просто игра, я люблю поиграть", - ответил волк.
Человек пришел в свою деревню и увидел, что мужчины колют дрова для бани.
Волк тоже захотел в баню.
Но мужчины сказали: "Если ты проживешь с нами три зимы и три лета и не сделаешь ничего плохого, мы пустим тебя в баню".
Волк прожил у них три зимы и три лета и не сделал ничего плохого. Тогда они разрешили ему пойти вместе с ними в баню. Он сбросил с себя шкуру и стал голым, как все. Он пел вместе с ними старые песни и ел вяленую оленину. Потом все насытились и уснули. Волк проснулся первым, влез обратно в шкуру и загрыз всех мужчин. Потом он убежал и, вернувшись в свою стаю, рассказал все, как было.
И братья волка сказали: "Этих мужчин не жалко. Они были глупые".
Нузалах посмотрел на меня, посмотрел на моего отца и пробормотал присказку, которой непременно должна кончаться всякая история, ведь человек может ошибаться: "И пусть все мои ошибки вернутся на свои места, делая при этом как можно меньше шума".
Пусть все мои ошибки вернутся на свои места, делая при этом как можно меньше шума, когда я завтра, послезавтра и каждый день буду брать с комода фотографии, чтобы стереть с них пыль, а старик станет расспрашивать меня. Но, может, он не будет спрашивать о чужой женщине, которая на самом деле была ему дочерью, а мне матерью. А разве что-нибудь изменится, если он ни о чем меня не спросит?
Да и что я могу ему рассказать о ее счастье, которое составляли дом, муж и двое детей, а теперь, наверное, только дом и муж?
И что я могу рассказать ему о его сыне?
Девушка Айку встретилась с Крабатом и хотела положить себе на глаза деньги, чтобы ослепнуть. В трактире "Волшебная лампа Аладдина", где радости давались напрокат, Крабат швырнул в огонь тень нищего, а когда выпустил на свободу зрячие глаза, я убежала, убежала Айку, пусть все мои ошибки...
Я смотрю на эти фотографии каждый день, и они, как и я, реальность. Я поняла наконец, что побеждает та правда, которая видит правоту других правд и не шьет себе платье, отрезая от каждой по лоскуту.
Луна висит в ветвях липы, и церковный колокол отзванивает новый час, а по радио передают цыганскую музыку.
Старику очень трудно снимать носки. Я становлюсь перед ним на колени, чтобы помочь ему. Его ноги выше щиколоток словно в темных чулках, облитерация кровяных сосудов.
Мой ребенок шевелится. Я лежу на спине, вытянув ноги. Я дома. Странно, что я воспринимаю это так естественно.
Людям в деревне это не показалось таким уж естественным, но каменщик Донат, обсудив с внучкой Хандриаса Сербина, что необходимо сделать в доме в первую очередь, а что можно отложить до весны, рассказал тем, кто в сомнении качал головой, одну историю. Это была история о том, как Крабат, поговаривали, будто он называл себя Михаэлем Сербином, услышав пение Виттенбергского соловья, перевел Библию на язык саткульцев. Но Райсенберг отказался дать ему бумагу, чтобы напечатать книгу, в доктор из Виттенберга, призванный, чтобы их рассудить, сказал Крабату, или Михаэлю Сербину: зачем трудился ты, брат во Христе? Ведь у сынов твоих уже не будет сыновей.
И люди на Саткуле, поразмыслив над заблуждениями этого и таких же, как он, пророков, порадовались за старика на холме. Но кое-кто все же верил пророкам и хотел повесить их изречения на шею современности, нечто вроде ярмарочного пряника сердечком, на котором глазурью выведено: нам очень жаль, что тебе придется умереть. К таким людям принадлежал и некий Форш, ответственный за охрану природы в этом районе. Он с удовольствием взял бы под охрану старую липу на холме, но ему было бы гораздо приятнее, если бы это дерево росло само по себе, без всякого придатка в виде его хозяев, предъявлявших свои права на дерево и вмешивавшихся в дела охраны природы.
А бургомистр вынул из ящика стола красиво разрисованный лист бумаги с надписью "Крабатов колодец", сжег его и от всей души пожелал Хандриасу Сербину, чтобы его возвратившаяся домой внучка родила близнецов.
Директор школы, считавший все необычное и своеобразное помехой на пути в прекрасное будущее, увидел в неожиданном появлении внучки старого Сербина нечто сверхъестественное, упрямо вздернул подбородок и решил ни за что не отказываться от своего плана.
Председатель пригляделся к молодой женщине на холме, она ему понравилась, и он порадовался за Хандриаса Сербина; ему, конечно, было жаль гравия и того, что прогресс не сможет беспрепятственно мчаться по ровному полю. Придется поискать другое направление для бешеного галопа. Пока еще помогают сердечные таблетки.
Взглянув на все со стороны, трезво, он решил, что эта история похожа на идиллию, а наше время не создано для идиллий. Ночью он не мог заснуть, потому что кровь сильно стучала в висках, и думал над тем, для чего же оно создано, это время, и как-то неожиданно для самого себя пришел к выводу, что он один из тех, кто подгоняет время, людей и себя не только добром, это он считал само собой разумеющимся и потому не достойным упоминания, но и кнутом, шпорами и сердечными таблетками. Была ночь, тяжесть в левой стороне груди не проходила, и тогда он стал считать, сколько часов своей жизни в последние дни потерял, занимаясь вещами, которые казались необходимыми, но на самом-то деле никому не были нужны. Так он лежал, усталый и измученный бессонницей, нельзя было больше глотать таблетки, поэтому мысли путались, и его посетили странные видения. Сначала это были просто темные пятна, без контуров и смысла, сливавшиеся друг с другом или, наоборот, растекавшиеся в стороны, потом ему стало казаться, что пятна превращаются в пшеничное поле, но, вглядевшись, он понял, что это огромная плантация кактусов, посредине которой находится он сам. Он бегал от кактуса к кактусу и затачивал ножом колючки. Это было совершенно необходимо, но его работа, его настоящая работа не должна была страдать. Поэтому нужно было носиться со всех ног, затачивая колючки, перед глазами все плыло, сердце бешено колотилось, в правой руке был зажат инструмент для настоящей работы, в левой, нож для колючек. Он чувствовал, что путает уже заточенные кактусы с незаточенными, но это не имело большого значения, даже, пожалуй, никакого, потому что эта работа ничего никому не давала, только отнимала.
Плантация исчезла, в его измученном мозгу возникали еще отдельные темно-красные кактусы на гладком, слегка вибрирующем фоне, может, то были вовсе не кактусы, а блуждающие языки пламени или вырвавшийся из трещин природный газ, который загорелся на воздухе.
Председатель отогнал эти видения и попытался вообразить себя в лесу, тишина, покой, убаюкивающий шелест деревьев, и к нему придет сон. Но он никак не мог представить себе обыкновенный, спокойно шумящий лес, просто лес. Перед его мысленным взором возникали совершенно конкретные места: то заросли на Шведском холме, то чащоба у пруда Хандриаса, где в прошлом году деревья сломались от снежного завала; в конце концов он попал, вероятно, вспомнив про громадные валуны, которые он давно подумывал пустить в дело, на вырубку у Высоких холмов. Здесь он решил посидеть, чтобы его наконец убаюкал шум сосен. Но оказалось, что он присел на Наполеоновский камень и шум, который он слышал, был вовсе не шумом леса: это был стук сапог, скрип колес и цокот тысяч копыт. Наполеон скакал на великолепном белом коне, он вел свою армию на Россию. На обочине дороги стоял Крабат и, глядя на проходящее мимо войско, чертил что-то в воздухе посохом.
Наполеон остановился и спросил его, что он делает.
Взмахом посоха я отмечаю каждого тридцатого солдата, и тебя тоже отмечу, хотя императоры не умирают солдатской смертью, сказал Крабат.
La grande armee (Великая армия (франц.)) не умирает, ответил Наполеон и улыбнулся.
На твоих пушках начертаны слова революции, сказал Крабат. Слова остались, император, но где же революция?
Без меня революция захлебнулась бы в потоках своей же крови, ответил Наполеон.
Крабат кивнул. Революция сделала тебя своим главой, а ты ее обезглавил.
Чепуха, рассердился Наполеон.
Ты стал бы величайшим героем, если бы не захотел стать великим императором.
Наполеон наклонился к нему с коня. Ты, парень, весельчак, сказал он, и я тебя тоже повеселю: на пушках написано то, что по душе моим солдатам. А когда и куда будут стрелять эти пушки, решаю я.
Крабат снял с одной пушки слова Liberte, egalite, fraternite (Свобода, равенство, братство (франц.)). Их разъела ржавчина твоей власти, сказал он. Я их почищу и сберегу.
Очнувшись, но еще находясь в каком-то оцепенении, председатель задумался над тем, куда делись три слова, снятые с наполеоновской пушки: где-то ведь они должны были сохраниться.
Возможно, подумал он, Крабат появился потом на острове Св. Елены и увидел, что Наполеон сидит на скамье, в задумчивости обхватив руками голову.
Крабат вытащил из кармана три ярко начищенных слова. Наполеон даже не взглянул на них. Никак не найду, в чем моя ошибка, сказал он.
Где ты ищешь, спросил Крабат.
В России, в Лейпциге, у Ватерлоо, ответил Наполеон.
Крабат снова спрятал в карман три слова. Жаль, сказал он, я охотно украсил бы этими словами твой гроб, если бы ты искал там, где их потерял.
Конечно, этот разговор между Крабатом и Наполеоном вполне реален, как реальны те притчи, что подобны зеленым орехам, еще висящим на ветках. Но кто может утверждать, что владеет единственной и последней правдой, которая объявляет ложью все, что звучит иначе, хотя на самом деле все вещи многогранны и даже через сто лет так же трудно открыть их истинный смысл, как вычерпать кувшином воду из ручья. Кувшин наполняется водой, а ручей не иссякает.
Таким был рассказ дружки Петера Сербина своему внуку Яну о Крабате и Наполеоне, вернее, о том, куда делись эти три слова: Крабат сделал из них песню, мельник Кушк сыграл ее четырем ветрам, и они разнесли ее повсюду, во все концы света.
Я обошел весь свет, был на его краю, истинном и мнимом, но земля кругла, и время тоже, и я вижу себя, внука Петера Сербина, уходящим и вижу себя, сына Хандриаса Сербина, возвращающимся домой. Еще немного, и я нагоню самого себя.
Вон на юге холмы, которые издали кажутся горами, вот и моровой столб. Я читаю имена, высеченные на гранитном цоколе, никогда раньше я в них не вчитывался, имена мертвых, и только.
А теперь я вижу, что там высечено и мое имя. Я разглядываю куб из гнейса и в застывшей в камне сумятице криков о помощи, мольбы о вечном спасении вижу и свои блуждания. Передо мной холм, до него четыреста шагов, а близко это или далеко, зависит от того, догнал я самого себя или еще нет.
Я встречаю старого Николауса Хольку, я не знаю, что он умер.
Он говорит мне: "И пусть люди больше не убивают друг друга". Он видит, что я держу в руках свою совесть и какой-то ключ. Это ключ от сейфа, где лежит моя формула. Я ломаю ключ и половину его отдаю мертвому Николаусу Хольке.
Я встречаю ребенка продавщицы из деревенского магазина, я не знаю, что он еще не родился.
Он говорит: "Пусть тайна жизни останется тайной..."
Я знаю конец этой фразы: "пока человечество еще нуждается в спасении от самого себя", это сказал Лоренцо Чебалло, когда прекратил свои исследования и покинул Омегу Дельту.
Я протягиваю ребенку, который еще не родился, вторую половину ключа.
В моей руке остается только совесть. Ее нельзя поделить. Она неделима, хотя состоит из множества частей.
И я поделен надвое. У ствола липы, где висит старинный образ Девы Марии у Леса, я сижу в тени и вижу себя, идущего ко мне. Я, сидящий, старше себя, идущего, и я решаю, что лучше буду идущим. Он, тот, кого я здесь оставил, а я тот, кто создал самого себя.
Как эхо говорит он вслух то, что я думаю. Или повторяет за мной. А может, сперва он говорит, а уж потом я думаю.
Я подхожу к нему, и мы стоим рядом, отражаясь в стекле образа Девы Марии, его черты, мои черты, он, я и я, он. Так я мечтал, об этом думал, к этому пришел.
Я создал тебя, говорю я.
И я же отвечаю: Ты не можешь создать ничего, кроме самого себя. Или еще такого, как ты...
Я знаю это, говорю я, и хочу быть собою, творя самого себя.
Я улыбаюсь. Ты искал спасения, вот оно. И нет другого.
Я смотрю на себя и читаю мою жизнь на моем лице. Четыре каменных страха и четыре каменные надежды на древнем моровом столбе. Страхи не развеял ветер, и надежды не разъедены временем. Светит солнце, и, может быть, в глазах Девы Марии больше надежды, чем страха. И больше уверенности, чем детской веры.
И я, снова став самим собою, поворачиваюсь и иду.
За моей спиной, прислонившись к дереву, остаюсь я.
И то, что разделяет нас, это наши совмещенные пространства, над которыми сияет Время в созвездии Лиры, и в его свете мы неразделимы.
В стороне от дороги из песчаного карьера вьется тоненький дымок. Трое мальчишек сидят у костра и жарят на сале только что выкопанную с поля картошку.
Я иду там, где проходил. Мальчики смотрят на меня, и один из них спрашивает: "Вы нездешний?"
След моих ног остается на песке, мое дыхание в воздухе, тень моя идет за мной. Передо мной холм высотой в пять колосьев ржи, здешний ли я?
Они разглядывают мою палку из черного дерева с рукоятью из слоновой кости, на рукояти и на палке вырезаны Адам и Ева, змей-искуситель и древо познания.
Я втыкаю палку в песок, и палка превращается в историю о долгих поисках Страны Счастья, в которой нет волков, нет голода и нет войны.
Они слушают мой рассказ не как волшебную сказку, они знают: еще нужны тысячи пригоршней земли из тысячи мест на земле.
Но один из них, когда я уже далеко, говорит: может, это был Крабат.
Почему бы мне не быть Крабатом, который жил и умер, умер и жил, я ищу Вольфа Райсенберга, чтобы убить его, на дереве сидит белый голубь, а Якуб Кушк играет свою песенку Страх умер.
Рядом со мной Смяла в платье из выбеленного холста, на шее бусы из вишневых косточек. Она берет мой посох, который уже не может творить чудеса, и бросает в Саткулу, речку, берущую начало в самом центре мира. Она весело журчит мимо семи деревень, чтобы сразу же за ними нырнуть в большую реку. Ни океан, ни море ведать не ведают об этой речке.
Но море было бы другим, не вбери оно в себя и Саткулу.



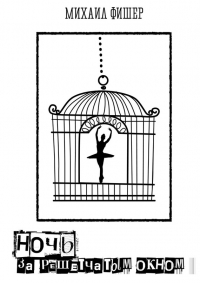

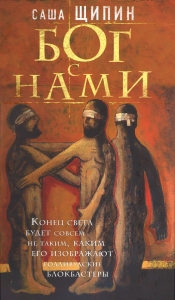



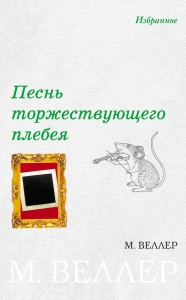

Комментарии к книге «Крабат, или Преображение мира», Юрий Брезан
Всего 0 комментариев