Виктор Пожидаев Чистые струи
Чистые струи
Змей-Горыныч
Ваське снится, будто сидит он на вершине Синей сопки и ждет Змея-Горыныча. На коленях у Васьки меч-кладенец, да тяжелый такой, что и не поднимешь! В золоте весь, бриллиантах — глаз не отвести.
Силенка у Васьки есть. Двухпудовую гирю на спор почти до колен вытягивает. И это без пояса! А был бы пояс, как у штангистов…
Васька поглаживает меч и ждет. Проучить Горыныча надо. Уж больно охоч стал до озорства: то курицу схапает, то картошку незаметно подкопает. А брюхо-то у него! Не напасешься…
Внизу, под сопкой, речка Песчанка под солнцем нежится. Притихла вся, разомлела, даже на перекатах журчать перестала. А за речкой — рукой подать — два домика. В одном егерь живет, дядя Игнат Балашов. С матерью своей, бабой Полей. А в другом поселились недавно Васька с родителями. За стеной у них соседи: домосед дядя Коля, которого в поселке привыкли почему-то звать инвалидом, и жена его — тетя Зина. Сосед — когда как: то приветливый такой, а то и не обернется. Будто враг ты ему. А тетя Зина, та вообще язва огородная! Со всеми перессорилась. Вот что ей новые соседи сделали? А не здоровается. Кто виноват, что Васькиного отца на место дяди Коли приняли. Какой из того лесник! Не находилось человека, вот и числился…
Заждался Васька Горыныча. На Синьке от жары не спрячешься. Вялость нападает, дремота. Не дай бог проспать меч-кладенец! Силенка силенкой, а без меча ты для Горыныча — легкий завтрак. Покушать он любит… Вон сколько вокруг костей навалено!
И вот он, Горыныч, летит! Лапы вразброс, хвост на весу, всеми пастями ухмыляется. А кожа-то добрая! Под замшу.
Васька повеселел и чиркнул спичкой — подпалил заготовленную кучку сушняка с травой. Полез в небо дым, давая змею знать, где посадку делать.
Горыныч с ходу — по тормозам, уперся лапами в воздух и стал снижаться. Да что-то плохо. Бухнулся о землю, ойкнул от ушиба и сразу осерчал на Ваську.
— Биться или мириться? — спросил он грубо.
Васька хоть и с кладенцом, а заволновался, когда дело до серьезного дошло. Начал делать оттяжку…
— Ты где это находишься? — вкрадчивым топом спросил он. — Нет, ты где это находишься, ты чего это тут устраиваешь?! — И руки за спину, и голову чуть набок, чтобы поехиднее и посолиднее вышло.
Горыныч попятился, попятился, да как вякнет! На костер наступил. Что-то хотел возразить или поругаться, но на все глаза слезы навернулись.
— Вот так! — поучительно и сердито сказал Васька. — Будешь по чужим огородам шляться! Будешь кур воровать!
— Ну ты… это… Чего оскорблять-то! — застыдился до обиды Горыныч. — Тебе бы семь ртов навесили… С кладенцом приперся!
Маху дал Васька, пожалев на секунду змеюгу. Тот воспользовался Васькиным замешательством, оглянулся воровски и как-то ловко вырвал меч. Прыткий! Но Васька сразу очухался, крутнулся и — на хвост сапогом. Ишь задергался…
Горыныч изловчился, выпрыгнул из шкуры и, как голый баран, поскакал вниз. Васька смотрит, а шкура-то дырявая, будто моль изъела.
А Горыныч, довольный, уже далеко. К Песчанке подкатывает. Из-под корявых лап трава и ошметки грязи так и взлетают. Через речку одним махом перетурнулся, к Васькиному дому приближается. Тут выскочил из дому дядя Коля. Да не пустой, с ружьем. Громыхнул из обоих стволов — Горыныч аж перевернулся. Лежит на голой спине и лапами подрыгивает. Дядя Коля подбежал, уцепился за хвост и потащил в сарай. А мертвый Горыныч не выпускал из жилистой лапы меч, и тот гремел по камням…
Васька проснулся. На чердаке было уже совсем светло. Сквозь щели в досках двери пробились солнечные лучи и стали прожекторами. Вчерашний клевер, разбросанный Васькой по шлаку, подвял, помутнел, и такой заструился от него запах — с ума сойти! Зеленый кузнечик продирался сквозь путаницу обмякших стеблей к солнечному зайчику, спешил, цеплялся нескладными ногами за сиреневые бутончики и тогда смешно дергался, высвобождаясь.
Васька помог ему, перенес на светлое место. А он запрыгнул далеко в угол, где было еще темнее. Васька стал искать его, ведь пропадет на чердаке бедолага. Но только пыль поднял, дышать нечем. А от клевера, встревоженного Васькой, пошли волны запахов. И от них у Васьки то сластило, то горчило во рту, и кислиной отдавало, и еще чем-то.
А кузнечик уже сидел на подушке и умывался.
Потом они разглядывали друг друга. А наглядевшись, занялись своими делами. Кузнечик опробовал отсыревшую за ночь скрипку, а Васька вспоминал непутевого Змея-Горыныча и немножко жалел его.
Вечером, когда Васька упадет на мягкую, теплую и шуршащую постель, он уже не будет жалеть Горыныча. Длинный, цветистый и духмяный июньский день принесет другие заботы. Один огород сколько сил вытягивает. А коза проклятая, а куры! Но лучше об этом пока не думать.
Откуда берутся сны? Ведь все в них складно, не как в жизни, тревожно и радостно. Такое иногда привидится, что жалко забывать. Да сон — не книжка, под подушку не спрячешь, снова не посмотришь… Так и пропадает.
Вспомнилось лицо дяди Коли. Жадное и чуть испуганное, словно Горыныч ценность какая… И вдруг показалось Ваське, что видел как-то у дяди Коли такое лицо. Когда? Шут его знает! Но видел!
Нужно было спускаться, приниматься за дела. Отец, конечно, с рассветом в тайгу подался, и мать давно уж в своей леспромхозовской конторе. Только вечером ее Васька и увидит. Можно в поселок сбегать, проведать ее, но сколько же шалопаить — пора с огородом закругляться. Соседи уже окучивать собрались, а он еще и не прополол толком. Да и Балашовым помочь надо. Сам егерь день и ночь в заказнике пропадает. Пока молодняк на крыло не поднимется, будет сам не свой. А баба Поля с руками мается: ревматизм до крику доводит.
Нет, надо сначала Балашовым прополоть. Огород-то у них с гулькин нос, сотки две. А зарос, запыреился — дальше некуда. Сломай изгородку из жердей — и сольется огородик с лесной поляной, как вода с водой. Не то что у соседей. У тех все вылизано, подчищено, канавки в полном порядке. Приходи, кума, радоваться!
Васька потянулся, хотел было зевнуть напоследок, но тут снаружи как грохнет! Еще раз!
У Васьки сердце подскочило, заколотилось в ребра. Почудилось, будто сон вернулся и начался с конца.
Васька кинулся к слуховому окну и выбрался на крышу. Шифер еще не прогрелся толком, был росяной и скользкий. Васька, заосторожничав, все-таки добрался до края, вытянул шею. «Может, медведь? — думал торопливо. — Лесу-то вон! Того и жди…» Что-то серое и мохнатое уносил с огорода сосед. Хлопнул дверью и исчез.
«Рысь! Конечно рысь!» Васька бурундуком порхнул наверх, юркнул в окно и стал натягивать потертые штаны. По шлаку, по клеверу, через лаз, по скобам в стене…
— Дядя Коля! — звонко крикнул он, не решаясь подняться на крыльцо. Избяная дверь хлопнула, в сенях послышались шаги и негромкая ругань. Васька смутился, ударился в краску. Но скрежетнул крючок, и улыбающийся дядя Коля предстал пред ним.
— А, юннат! — раскинул руки будто бы для объятий. — Садись, садись… — кивнул на подсыхающее крыльцо. — Слышал небось, как я шарахнул?!
И гоготнул, выкатил из горла несколько круглых, гладких звуков. И сам он — в синих потускневших шароварах, голубой выгоревшей майке и самодельных кирзовых тапочках на босу ногу — был такой же круглый и гладкий. Затряс брюшком под майкой, доводя смех до высокого, сплошного, а потом и вовсе уж свистящего звука. Словно небольшой паровозик пар спустил.
— Во шарахнул! А? Нет, ты слышал? Во перья от него полетели! Будет знать, черт долгогривый! — и закатился пуще прежнего.
— А в кого вы стреляли? — уныло спросил Васька.
— Да в ястреба, черт его дери! — Сосед поднялся, отходя от веселья, потянулся. Дескать, дела, некогда рассиживаться. — Чуть курицу не сшамал!
— У вас куры еще взаперти. — Васька направился к калитке.
— Да?.. Зинаида! — закричал сосед в дверь. — Чего кур маринуешь? Кур выпускай, говорю!
— Ах сволочь лысая! — послышалось в ответ. — Уж и кур ему выпустить трудно! Так иди и потроши свою зайчиху! Сам потроши, на черта она мне сдалась!
И тетя Зина выметнулась на крыльцо.
— Иди руки вымой… — негромко, но злобно выругался сосед. — Дура баба. А ты чего вылупился? Топай-ка отсюда, натуралис-с-ст!
Васька забрался на чердак и теперь сидел, скорчившись, на порыжевшем солдатском одеяле. Его трясло. Почему-то страшно было, обидно до боли в горле и темно, будто за коротким утром снова пришла ночь. И кузнечик, которого он спасал от темноты, был не сегодня, а давным-давно, когда-то в детстве — легком и солнечном времени.
Только к полудню выбрался Васька наружу, кое-как перекусил и поплелся с тяпкой к Балашовым. В работе забылся немного, но лежал на сердце камень — не сдвинешь. Не было ничего радостного в длинном, щедром на солнце и птичьи песни июньском дне.
Он не заметил, как подкрался смущенный, несчастный сосед дядя Коля.
— Помочь, Васек?
— Не надо.
— Обиду затаил, да? Ну это, конечно, твое дело, — завздыхал тяжко. — Разберись. Я-то поболе твоего обижен! Из-за этого зайчонка, будь он неладен, вон что получилось… Направила Зинаида меня из дому. Иди, говорит, негодяй ты этакий, с глаз долой. Васек, говорит, ночами не спит, когда вьюжит, о зверюшках печется. Сено из дому в лес таскает. А ты, говорит…
Сосед замолчал, вытер пот с лысины: солнышко прямо в нее метит, оставшиеся волоски выжигает. Васька рядок шибче гонит, старается спиной к соседу повернуться. Кое-где пырей пропускает — потом подчистит.
— Давай пособлю! — несчастно и услужливо просит дядя Коля. — Совсем заморился поди…
Долго махать тяпкой ему не пришлось. Появилась тетя Зина. Злая. Лицо в красных пятнах. Потащила мужа по пням-колодам. Будто и не было Васьки рядом…
— Они тебе здорово помогали?! Да пусть сгниет все, засохнет! Не смей прикасаться! А ты тоже хорош, босотня бессовестная! Инвалида полоть заставил.
В общем, спутала дяде Коле все карты.
Под самый вечер сосед заявился снова. Был навеселе, не улыбался, а лыбился, скалил уцелевшие спереди зубы:
— Батрачим, значит! Во-во! Давай. Только пуп не надорви. Балашов тебе гильзу стреляную подарит. Он щедрый! Вон хозяйство-то! Хо-хо-хо! — мотнул отяжелевшей головой на покосившийся дровяник егеря.
Рядок кончился, Васька быстро перешел на другой конец огорода.
— Чего гонишь как ошалелый! Дело у меня к тебе…
Васька будто не слышал, уткнулся в новый рядок, полет тщательно, до травиночки. Надеялся — не выдержит сосед, уйдет. Но тот терпел духоту, ждал.
— Гордый! — сказал, когда Васька приблизился, — Морду воротишь, молокосос. Сядь давай! Сядь, говорю… Вот, давно бы так. Может, накапать на меня хочешь?
Посмотрел в упор, как рогами боднул.
— Так не стоит, Васек, а? Право слово, не стоит! Неприятности начнутся. И не только у меня. Мне-то что! Ну ружье отберут, штрафчик преподнесут. Так это — пустяк пустяком…
И посмотрел выжидающе, мол, теперь догадайся, какие будут неприятности у тебя.
— Вы меня не пугайте! — тихо сказал Васька.
— Бог ты мой! Да разве я хоть слово… Ну это ты напрасно, пацан, это ты совсем напрасно. Так договорились, а?
— О чем?
— Так я же тебе объяснил, Васек. Не будем делать друг другу неприятностей. Забудь про зайчонка, чтоб он скис, а?
— Не зайчонок, а зайчиха. Как у вас рука поднялась!..
— Как поднялась, так и опустилась! Учить будешь, щенок! — вскипел тот внезапно. — Много из себя строишь. Молоко на губах еще!
Никогда с Васькой так не разговаривали. Чуть не заплакал от обиды. Еле сдержался.
— Мне одна собака! — сказал дядя Коля. — Плевать я хотел и на тебя, и на Балашова. Да пошли вы… У себя в огороде зайца не тронь! Да ведь он, сволочь, всю капусту порешил. Законники! Завтра полезет — и завтра пришибу!
Повеяло прохладой, густо шумнули лапы елей за огородом. Это из-за Синьки, Синей сопки, примчался предвечерний ветерок — оживить, порадовать уставшую за день живность. У Васьки ныла спина да натруженные руки сводило. Но полоть осталось мало — неполных два рядка. И он поднялся.
— В общем, заруби себе на носу! — почти крикнул вдогонку сосед. — Себе же хуже сделаешь.
Жалел Васька своих непутевых соседей: больно было смотреть на их частые ссоры. Потому ссорятся, думал, что некому помочь им, одиноким. А одним тяжело тянуть такой огородище, за скотиной ходить. Поговаривали, правда, в поселке, что от жадности все это. Что не дочери с зятем возит тетя Зина овощи да сало, а на базар. Васька не придавал этому значения. Однажды только обхитрил его дядя Коля, в дураках оставил. Васька принес соседям молодых кедровых шишек. Они были липкие еще, в смоле. Дядя Коля обрадовался им, как диковинке какой. «Как же не боишься. Васек, один так далеко забираться?!» — «Да не далеко, чего там страшного!..» — «Да я что-то поблизости кедровников не знаю…» — «Вот, а еще лесник!» Васька покраснел от удовольствия. Долго объяснял дяде Коле дорогу. Там и не кедровник, в общем-то, всего несколько старых кедров. У самого заказника. Всю зиму белки крутятся. Как домашние, никого не боятся!
А дяде Коле это неинтересно… Для виду слушал.
Через неделю Васька сунулся к кедрам, а там — будто ураган прошел. Шишки с ветками поснимали. А тетя Зина потом кому-то проговорилась: ведро испортила, как шишки варила. Для себя-то чего их варить — сунь в печку, оплавятся. Ясно, на базар…
Уже и полоть Васька кончил. Сидел на крыльце, отходил понемножку, одолевала усталость, а все не мог избавиться от этих мыслей.
Недели две не встречался он с соседом, да и не до него было: дежурил на школьной кроличьей ферме. Уходил из дому рано, возвращался с матерью вместе. А потом — на чердак, пошуршит, устраиваясь, сеном и затихнет до солнца. Правда, будил его иногда топот на крыльце — возвращался с обхода отец. Слышал Васька, как выходили они с матерью во двор. Она поливала отцу припасенной теплой водой, промахиваясь, видно, в темноте. Отец фыркал, говорил ей что-то, и мать смеялась: «Не умрешь!»
Васька забывался, втягивался в сон — и уже до самого утра.
Но вот столкнулся однажды он с дядей Колей у родника, где брали воду в засушье, — в колодцах в это время она начинала ржаветь и шла только на стирку да полы. Сосед первым поздоровался. Будто ничего и не случилось… Может, обрадовался, что пронесло. По-прежнему «Васек да Васек». Совесть же у человека! Про отца вспомнил: тяжело, мол, ему летом, кругом загорания. И обход большой, шел бы лучше в леспромхоз. Там и заработки больше, и не перерабатывают.
— А вы ему это скажите! — хмуро посоветовал Васька.
Зачерпнул воды и пошел себе потихоньку. Но все же подумал, что напрасно нагрубил человеку… Малость постоял, поджидая соседа, но того все не было. Васька отнес ведра, поколол немного дров, а соседа еще нет.
Наконец появился. Заспешил в огород, к тете Зине. Зашептались о чем-то. Потом дядя Коля направился к Ваське.
— Слушай, Васек, куда Балашов подевался, а?
Интересно, что случилось! Сколько с Балашовым не разговаривает, а тут — на тебе!
— Нет дяди Игната, — ответил тихо. — В городе. Бабу Полю в больницу повез.
— Да… Жаль бабусю.
Васька заметил, что сосед сразу как-то оживился, повеселел.
— Ах как жаль бабусю! — повторил он. — А ты не знаешь, когда он вернется? Да не косись на меня, Васек! Дело у меня к Балашову. Подсчитали мы с Зиной, и выходит, что без сена к весне останемся. Корове-то, может, с грехом пополам и хватит, а вот телке придется зубы на полку. Вишь! А телка-то стельная, жалко под нож… Вот и надумали прикос просить. Не откажет поди Балашов, а?..
— Покосы отец отводит, не Балашов. Вы же это сами знаете!
— Ц… м-м! Верно же! Что же это я… А где отец, Васек? — посмотрел выжидающе.
И сам не знает Васька, что это на него нашло, зачем, собственно, соврал дяде Коле. Может, уловил в голосе и глазах соседа какую-то дальнюю нехорошую задумку или подумал, что отцу сейчас не до отводов, а травы — вон по полянам, на колхоз хватит. Не просил же дядя Коля участка по весне: где хотел, там и косил, по-хозяйски…
— Уехал отец. На семинар вызвали…
И тут же подумал, что не вечером, так утром быть неприятностям…
Васька уже второй раз покормил козу — принес с поляны вязку травы. Покликал кур и порадовался их никогда не пропадающему аппетиту. Он нарочно сорил корм себе под ноги, приучал птицу к полному доверию. И куры шныряли теперь между ног, склевывали крошки с легкой Васькиной обуви. Только желто-красный старый петух не шел на сближение, подхватывал то, что отлетало подальше. И все косил круглым глазом на Ваську — сердито и недоверчиво.
А день все тянулся и тянулся, словно зацепился рогами за сучья и никак не мог отцепиться. Васька сидел на чердаке — читать не читал, думать не думал. Ждал отца и надеялся, что он придет поздно…
Придремал было. Совсем немного, капельку, а проснувшись, заметил: стемнело чуть. Вырвался-таки, отцепился! Понесся теперь, небось зарадовался! Хорошо ему, весело, через всю Сибирь, через Урал, дальше, дальше, а там уж и Москва. Вот поспит Васька ночь, одну только ночь, а день по всей земле пробежит и снова сюда вернется. Как ни в чем не бывало!
Дикие голуби — парами и в одиночку — рассекали крыльями сухой, прогретый к вечеру воздух. Иногда они проносились совсем близко, не подозревая, что Васька видит поджатые, будто малюсенькие кулачки, красные лапки, сбитый пух на брюшках. Там, куда они летели, кричали, устраиваясь на ночь, горластые кедровки Прилетела знакомая сорока и опять стала скакать по крыше, будто невзначай заглядывая в Васькино окошко Сколько раз пугал ее, однажды чуть не пришиб головкой спекшегося шлака — не помогает. Что-нибудь да упрет! Как-то ножичек схватила — не осилила, выронила на крыше.
Мать пришла, позвала ужинать, но Васька загляделся на засыпающий лес, сразу не отозвался.
Отец идет! Но почему мимо дома?.. Васька привстал, пригляделся. Да это же дядя Коля. С ружьем…
Качнулись ветки и скрыли темный, приземистый силуэт соседа.
— Я за водой! — на ходу сообщил Васька матери, схватил ведро и шмыгнул в калитку. Пробежав немного, он остановился, перевел дух. Потом сунул ведро в куст и, прячась за деревьями, сторожко покрался следом. Он волновался и думал всякое и чувствовал, что неспроста приходил сегодня сосед…
Не доходя до родника, дядя Коля остановился, поозирался немного и стал чудить, выделывать замысловатые движения. Размахивал руками, обнимал, приподнимаясь на носки, старую замшелую ель.
«Спятил!» — решил Васька. Он чуть было не бросился бежать отсюда — к людям, рассказать… Но еще любопытно было, хоть и страшновато, и вдруг понял: петлю прилаживает! На него, на Ваську, прилаживает! Вот коварный! Ваську пробила дрожь. «Узнал, что нет никого, вот и решил отделаться…»
Дядя Коля возвращался, оглядываясь и держа в руках ружье. Прошел совсем рядом с распластавшимся на мху Васькой.
Подождал немного Васька, успокоился и — вперед.
Петля была не на человека — трос толщиной в палец.
«Чудит сосед! Какую собаку здесь поймает!»
Пошел Васька домой, удивляясь и качая головой: «Жди, дядя Коля, жди! Сам и залетишь в эту петлю спьяну…»
Ужинали вдвоем. Все ждали: вот-вот хлопнет дверью отец, зашебаршит в сенях, снимая лесную одежду. Но его не было и не было…
Васька забрался в свое логово, включил фонарик и раскрыл книгу. Но виделось ему всякое — то страшное, то смешное… Так и уснул.
— Сынок! а сынок! — услышал Васька далекий голос отца. — Проснись на минутку…
— Ты, пап! — обрадовался Васька.
— Найди, сынок, фонарик. Что-то в лесу… Слышишь?
Глухой рев, скорее стон, доносился от родника. Васька съежился от предчувствия беды, но, подавая фонарик отцу, вспомнил и понял:
— Пап! Это же дядя Коля! Петлю! Я видел…
— Беги к Балашову, сынок… — услышал он несчастный голос отца. — Быстрее! Только вокруг…
Оказывается, и егерь вернулся. Без бабы Поли…
— Возьмите карабин, дядя Игнат! — упрашивал Васька. — Может, медведь.
— Не медведь, — отвечал Балашов, торопливо одеваясь. — Лосиха приблудилась. Отпугивал я ее, чтобы собаки не наткнулись, к роднику жмется… Да как он посмел, негодяй!
В клетчатой рубашке, заправленной в пожелтевшие от солнца брюки, егерь выглядел подростком. Но седина уже и морщины как шрамы… Не замечал их Васька раньше.
Потом они бежали к лесу. А там гул стоял, словно бочки из-под солярки катали. Потом пробивался рев — длинный и жуткий. Заканчивался он странным, повторяющимся всхлипом: «Уфх! И-и-ичь…»
— Что же это, Игнат, а? — обычного спокойствия отца как и не бывало. — Прямо возле дома! Садист какой то!
Васька ухватил егеря за рукав.
— Он там, дядя Игнат! Он крикнул…
— Побудь здесь, Вася! Спрячься хорошенько.
— Мы позовем! — пообещал отец. — Жди, не подходи.
И они пропали в темноте. Васька боялся за них, хотел, чтобы все быстрее кончилось. Со страхом ждал: вот-вот бухнет выстрел. Сердце сжималось, он затыкал уши, а потом старался понять — был выстрел, нет?
А над лесом было светло. Луна распространяла вокруг тревожное желтое сияние. Напрасно Васька посмотрел на нее: какая-то ерунда с глазами случилась — деревья заколыхались, будто это не сами деревья, а неясные их отражения в гладком ночном озере.
Васька закрыл глаза и прислушался. Ничего… А когда посмотрел снова, отпрянул за дерево. По тропе шел человек. Он спешил, оглядывался, даже пробежал немного по освещенному месту. Потом нырнул в тень кустов и притаился.
Сосед!
Дядя Коля был уверен уже, что ушел незамеченным, — вывалился снова на тропу и пошел дальше не оглядываясь, будто в магазин за хлебом. В обманчивом свете луны он казался то приплюснутым, как тыква, то длинным и тонким, как жердь.
— Ва-а-ся! — донеслось вдруг. И сразу фигура соседа растаяла. Исчез — и все тут…
Не знает Васька, что и делать. Уйдет же! Крикнуть? Нет… Стоит, боится пошевелиться.
Сосед возник совсем рядом. С тропы сошел. Понял, значит, что рано обрадовался… И надо же было присесть ему у дерева, за которым притаился Васька.
Попятился Васька, почувствовал под ногой сучок. Но не было равновесия — не хотел, а наступил все-таки. Вздернулся сосед, всхрапнул от испуга по-лошадиному. Мгновенный желтый блеск стволов. Сухо, раз за разом, щелкнули отводимые курки.
— А-а-а! — крикнул, бросаясь вперед, Васька. И отлетел от удара. Метнулся снова, каким-то чудом поймал холодные стволы, рванул их на себя. Закружились в темноте у дерева двое — большой и маленький. А издали слышался зов отца:
— Ва-а-а-ся!
В один миг посветлело в лесу. Наверное, так бывает после солнечного затмения, когда темную ночь отделяет от яркого дня несколько секунд. Пропадает темнота — и солнце уже над самой головой, как в сказке!
Удивляется Васька: до чего же близко солнце! Прячет в мох лицо, вжимается в него весь, голову руками закрывает. Но нет спасу — жжет проклятое солнце. Даже… два солнца. Васька видит их мельком, но потом догадывается, что это солнце и луна вместе. Сходятся, сходятся… Вот толкнули друг друга боками и, отскочив, как мячики, поплыли в разные стороны. Все дальше и дальше от Васьки. Темнеть стало. Небо из белого превратилось в голубое, потом в фиолетовое. И не было уже в нем ни капельки тепла. Хлынула на землю из космоса сплошная стужа.
Чувствует Васька, что коченеет, рукой шевельнуть не может. Попробовал подняться — заскользили ноги по мху. Да и не мох это. Как сразу не понял — лед кругом. И качается ледяное поле под Васькой — все сильнее и сильнее. А вот накренилось — не удержаться! Заскользило Васькино тельце вниз. «Папа!»
«Да это же сон! — понял наконец. — Перепугался… Вот чудак!»
А вот и отец подходит, будит….
— Сынок! — тормошит Ваську отец. — Что же это… сынок!
Васька открывает глаза. Плачет отец, что ли?! Почему?
…Балашов был угрюм.
— Пропала лосиха! — сказал сквозь зубы. Поднялся, сунул руки в карманы…
Светало. Прояснились темные закоулки полного тайн и тихих звуков ночного леса. Васька, закутанный в пиджак, сидел на коленях у отца и не хотел больше ничего на свете.
Рядом, опустив голову, долбил пяткой тапочки ничем не провинившуюся землю сосед дядя Коля.
— Что мучаешься? — спросил отец. — Шел бы отсюда, а?
— Забудем, мужики! — поднял тот голову. Лицо искривленное, неживое. — Простите ради бога! Век молиться буду…
— Г… ты! — не выдержал Балашов. — Васька здесь, а то бы…
— Ну попробуй еще, сынок! Вставай…
— …А вон и мать идет! — сказал Балашов.
Хищник
Хороши дожди в июле! Теплые, ласковые, без напора. Ни листа не собьют, как осенью, ни хворью не наградят. Другая, добрая у них забота: освежить притомившуюся от зноя тайгу, взбодрить, чтобы зашептались, заговорили, разорались на разные голоса тенистые ключи, насытить прокаленную яростным солнцем беззащитную огородную землю.
Целую неделю ойкала, постанывала и дрожала крыша. Уж как промыло ее — без пасты и порошка — приходи, кума, радоваться! Теперь Васька и дни проводил под этой чистой крышей. Книжки читал, тосковал по рыбалке, слушал стук копыт сердитой козы Машки, повадившейся заскакивать на крыльцо, — раз попинают, два, а потом, глядишь, и хлеба дадут. Чем-то не нравилась ей пропитанная дождем трава.
Огороды обработаны на совесть. Теперь картошечка попрет, нагонит свое! И уже не надо ничего с ней делать до самой осени, пока не свянет тяжелая ботва, не оденутся клубни в прочную шероховатую кожуру.
Уносятся полегчавшие, но еще смурные облака, скрываются за подковкой Синей сопки. Отец и Балашов сидят на влажном крыльце. Отдохнули за дожди-то, на разговоры потянуло!
Васька спорхнул с чердака, рядом пристроился. Ножик — с железной ручкой, блестящий, с тремя разными лезвиями, на бруске точит, пальцем остроту пробует. Куда без ножика? Удилище вырезать, рыбы начистить, да мало ли что! Отец подарил. А теперь небось завидует. У самого-то — попроще, однолезвенный…
Кто-то возится у калитки. Сосед!
— Совесть у человека, — глядя под ноги, говорит Балашов.
Дядя Коля улыбается. Это он под хмельком. В тапочках на босу ногу, в шароварах и голубой майке.
— Здоров, мужики!
Мужики отвернулись, наблюдают за Васькиной работой.
— Ты как доктор… разложился! — одобряюще говорит сосед. — Операция, что ль, кака?
— Да! — жестко вставляет Балашов. — …хочет тебе отрезать.
Ну вот тут уж мужики гоготнули! С визгом. Сосед какой-то маленький стал, убогий. Брюшко вниз сползло, вытекло из-под майки перекисшим тестом.
Отец и дядя Игнат замолкали на секунду, переглядывались, прыскали и снова заходились в хохоте, забрасывая по-гусиному головы.
Засияло, заискрилось могучее солнце. Последний облачный хвост уползал за сопку, будто тащило его туда огромное неторопливое тело.
Сосед не уходил, сидел на скамейке у крыльца задумчивый и тяжелый. Рыжие муравьи, выбравшиеся из завалинки для разведки, ползали по его кирзовым тапочкам, трогали усиками сырые лепешки ног и поворачивали обратно.
Натворил человек себе беды! Никто в поселке не здоровается с ним. Как же жить так можно?
Конечно, не за лосиху расплачивался теперь дядя Коля. За лосиху он расплатился деньгами. Не простили ему люди зверства — поднял руку на ребенка. У Васьки и сейчас еще по утрам голова побаливает, а иногда ни с того ни с сего начинает тошнить.
Скрыли отец с Балашовым дикий поступок инвалида от суда, а то не сидеть бы ему сейчас на потемневшей и разбухшей от дождя скамеечке.
— Ну! — не выдерживает Балашов. — Посидел и иди. Тут тебе не турецкий базар!
Дядя Коля покраснел и еще ниже опустил голову.
— Пусть сидит… — тихо возразил отец.
Васька точил нож, деловито поплевывая на бурый оселок, мельком поглядывал на отца…
Вчера под вечер хлопнула калитка, и у крыльца кто-то завозился, видимо соскабливая налипшую глину. Отец в сарайчике топором тюкал: все не мог козу с курами помирить. Беда просто! Каждое утро Машка выходила из ночлежки рябой. Ядовитая куриная «краска» выедала шерсть, зудила кожу, и животина стала злее рыси. Гонялась за курами до отупения. Да и не только пернатым доставалось. Особенно страдал дядя Игнат. Машка полюбила высматривать его в щелочку калитки. Только покажется — она шурх за куст красной смородины и притаится. Егерь повернется — закрыть за собой калитку… И — на! В смешное место. Машка гонит его до самого крыльца, подскакивает мячиком и кричит от восторга. Но на крыльцо вспрыгнуть не смеет: помнит, каков егерь в отчаянии.
…Васька выглядывал с чердака, силился понять — с кем разговаривает отец, но сквозь темень и мокроту разглядел только черный плащ и зонтик.
А за ужином отец сказал, что приходил директор школы. Кто-то повадился на кроличью ферму, дерет зверьков. Директор сам пытался выследить хищника, по ничего из этого не вышло. Надо Балашову сказать…
— Ну вот еще! — воскликнул Васька. — Чего там Балашов… Может, хорек какой. Поставлю капкан — и все.
— Да шут его знает… — не согласился и не отказал отец. — Не похоже на хорька. С костями сжирает, одни лапки остаются…
— Не пущу я тебя никуда! — решительно заявила мать. — И думать брось.
Васька хорошо понимает ее тревогу: вон как с лица спала, переживая его болезнь, схваченную от тяжелой руки соседа.
— Мам! Это же пустяк. Поставлю капкан — и все! А потом чучело сделаю… Дядя Игнат сделает. Он обещал!
— Хватит с меня чучел! Я сама с вами как чучело стала. Отца дома почти не вижу, еще…
— Может, не придет больше… — уклончиво сбил разговор отец.
…Васька сложил ножик, сунул в карман и полез с бруском на чердак. Постоял, привыкая к полумраку, направился в угол. Здесь пылились старые капканы. Выбрал самый большой, попробовал насторожить. Силенок маловато! Не опустить широкую пружину. Взял поменьше, двухпружинный. Осилил! Поднял плитку шлака, метнул в пятачок. Стальные челюсти хватанули воздух и замерли.
— Вот тебе и конец! — весело сказал Васька, видя в своем воображении неясные очертания таинственного зверя. Заволновался в предчувствии борьбы с ним.
День был в разгаре — искристый от солнечных капель дождя, сползающих со стволов берез, падающих с веток орешника и черемухи, висящих на листьях клевера, полыни и других, густо и радостно задышавших трав. Из земли, из зелени, живого и умершего дерева, прошлогоднего сена за сараем, Машкиной кучи на краю огорода заструились ручейки запахов, сливаясь в невесомые речушки, разливаясь в озерца, создавая устойчивые заводи, в которых копилось, наслаивалось, гуляло ленивыми волнами пьянящее и ошеломляющее вещество.
Егерь Балашов дремал, прислонившись к бревенчатой стене, шевелил ноздрями: ловил и втягивал в себя запутанные нити запахов. То вздрагивал и хмурился, то светлел лицом и улыбался. Машка, делая безразличный вид, подкрадывалась к нему сбоку, хотя ведь понимала, что Васька не даст дядю Игната в обиду. Отец стоял у калитки, о чем-то тихо и согласно беседуя с соседом. Оба поглядывали то на Ваську, то в глубокое зеркало неба, где в сонном танце замечтались и разомлели два широкогрудых коршуна.
— Я те дам! — не открывая глаз, тихо предупредил Балашов. Может, видел во сне, что подкрадывается к нему Машка. А настоящая Машка завиноватилась, качнула немытыми рогами и тоже закрыла глаза, раздумывая — позлить еще или прекратить баловство. Потом нехотя открыла глаза, потянулась к непросохшему сапогу Балашова и доверчиво потрогала подошву тонкими губами.
— Сожрет, Игнат! — тревожным шепотом окликнул отец, присаживаясь рядом. Балашов подхватил под себя ноги. Секунду Машка стояла еще с вытянутыми губами, потом стукнула копытцем и, отступив, выставила рога.
— Пап… Забыл? Директор же приходил…
Отец молчал, глядя на Балашова, а тот наблюдал за Машкой.
Тонкий ядовитый крик пронизал густой, застойный воздух. Машка вскинула свою обезьянью морду навстречу падающему коршуну.
— Есть! — с наслаждением и злостью сказал егерь, вскочил и бросился в дом. Вылетел с отцовым ружьем, но было поздно: черный от старости разбойник уносил добычу, не отрываясь от макушек елей.
У калитки снова появился дядя Коля — возбужденный и растерянный.
— Съест теперь меня Зинка! — заявил чуть не плача. — Проворонил курицу, ядри тя… Срежь, Игнат, хоть того, а?!
Второй коршун парил как ни в чем не бывало. Только круги его стали поменьше…
— Высоко, — сказал егерь. — Дробью не достанешь. Васька, тащи картечь!
Васька мигом вернулся с двумя патронами. Балашов долго целился, но стрелять не стал: солнце мешает!
— Попробуй, Вась, у тебя глаза позорче…
Сосед сгорал от нетерпения, топтался и, смешно поддерживая двумя руками живот, заглядывал в небо. Тут и срезала его непутевая Машка. Всю злость, накопленную в совместном существовании со сволочной птицей курицей, вложила она в кончики рогов. Словно заранее мстила за смерть своего пернатого единомышленника.
— Запри эту скотину! — закричал на Ваську отец.
Скотина не хотела покидать поле боя, упиралась в мягкую землю всеми четырьмя палками ног, вспучивала ее расшлепанными копытами и вращала просветленно-огненными глазами. Каким нежным, любящим взглядом провожал ее егерь Балашов!
— А коршун-то исчез! — радостно сообщил он.
— Бог с ей, курицей! — воспрянул духом сосед, неловко почесываясь. — Скажу, что зарубал для выпивки. Будто с вами, а?
— Скажи, если поверит! — усмехнулся Балашов. — Чего ж не выручить хорошего человека!
…Петр Васильевич, директор школы, ждал Балашова. Ученики перестали ходить на ферму: родители, прослышав о таинственном звере, заволновались. Директор сам кормил кроликов, сам чистил клетки, и вид у него был разнесчастный.
— Вот какая беда, Вася. Сегодня опять серого великана слопало! На выставку готовились! Теперь разоримся совсем… Что же Балашов не пришел?
— Придет, — пообещал Васька.
— Вот ведь… И никаких следов! Я уж тут все облазил, ночь не спал, прислушивался.
— А где лапки?
— Да закопал! — махнул директор рукой.
Васька сбегал к пожарному щиту, принес лопату с красным черенком. Нашли, выкопали пару задних лапок. Васька сразу же увидел: отхвачены ножом.
— Что с тобой?! — Петр Васильевич тоже вроде перепугался, даже попятился чуть. А Васька сломя голову мчался домой, ощущая животом холод грязных кроличьих лапок. Он оглядывался. Все казалось, что кто-то страшный, жестокий спешит следом, прячась за деревьями, припадая до времени к густой траве. Оставалось пересечь речку, а там — дом, но надорвался Васька, ноги подкосились. А тут хрустнуло совсем рядом…
— Ты чего, Васек? — дядя Коля с сумкой. За хлебом… — Да что с тобой?!
Голова разрывалась от боли, будто не месяц назад, а только что ударили по ней концом ложа.
Сосед взял Ваську на руки, положил себе на живот, мягкий как перина. И сам разволновался, перепугался того непонятного, что с Васькой происходит.
— Обидел кто? Скажи. Счас голову скручу! — И нес Ваську к дому — легко и осторожно, как дитя малое. Посадил на крыльцо, постоял секунду.
— Посиди, отойди немного… Пойду.
Васька вжался спиной в раскаленные упругим солнцем бревна, почувствовал в этом что-то по-матерински успокаивающее, нежное и надежное. Закрыл глаза, войдя в желто-красную глубину солнечного океана. Немного посомневался, потом решился и, скользнув в нее всем расслабленным, обезвешенным телом, потек в ласковое, обезболивающее пространство.
Проснулся Васька оттого, что чуть не свалился с крыльца. По-прежнему выжигало из воздуха влагу отдохнувшее за неделю ненастья белое летнее солнце, высвечивало самые затаенные уголки вытоптанного Машкой и исцарапанною курами двора. Тихо, покойно было вокруг. Над огородом суетились бабочки и маленькие лесные синицы.
Васька вытащил из-под рубашки жесткие кроличьи лапки, положил на ступеньку и стал смотреть на них — уже без волнения и испуга. Что-то странное было в этих лапках, но что — не приходило на ум, да и разморенный сном Васька еще не мог задуматься как следует.
Злой и нетерпеливый топот напомнил ему о несчастной узнице Машке, привыкшей непрерывно наталкивать чем-нибудь свое перекошенное брюхо.
Васька снял с крыши сарая немного подржавевшую косу, осторожно почиркал ее круглым точильным камнем и направился в березняк. Сверху трава была сухая, блескучая, но Васькины следы быстро наполнялись желтой прозрачной водой, таящейся под сплетением жадно сосущих влагу корней.
Васька шуркнул несколько раз плоским стремительным лезвием, подбил в кучу легко осевшую и свалившуюся набок массу духмяного корма. Потом вытащил из брюк залоснившийся от трений ремешок.
Вязка получилась совсем небольшая, но тяжелая: трава уже наглоталась охлажденной в тучах жидкости.
Машка почувствовала приближение кормильца, с безобразной силой стала вдавливать в дверную щель накалившийся от голода глаз.
— Спрячься! — грозно сказал Васька и отодвинул засов. Не успел толком войти, а скотина уже выхватила из вязки пук. Показалось — мало. Бросила его на пол, раззявила рот пошире, кинулась за вторым, но промахнулась и зацепилась рогом за ремень.
— Чтоб тебя куры съели! — сердился Васька, крутясь подле ошалевшей от навалившейся на нее тяжести козы. Кое-как ухитрился распустить ремень, и трава разлетелась по изгаженному курами полу. — Жри теперь!
— А ты привязывай ее в лесу, — сказал из-за спины дядя Игнат. — Привыкнет, не барыня.
Машка вздернула морду и подарила егерю не сулящий добра взгляд. Тот передернулся, как от озноба, и отошел к крыльцу.
— Вот почему так, Васек, — спросил он, разглядывая кроличьи лапки, — чем добрее человек, тем больше тварей на него бросается? Вот идем вчера… Откуда ты их взял?
— В школе… — Васька присел рядом, заволновался, глядя на удивленного дядю Игната.
— Да ты знаешь, что ими лет сто со стола сметали?!
Вот ведь! Как же сам не догадался! Шерстка на подушечках вытерта, а коготки измочалены, стали похожи на раздавленные кончики куриных перьев.
Васька шел рядом с егерем и со стыдом вспоминал свою панику… Как не похож он на этого небольшого, уверенного в себе человека!..
Петр Васильевич уныло сидел на крыльце школы.
— Приветствую коллегу! — бодро и насмешливо сказал егерь.
— Шутишь еще!
— Какие шутки… Сколько у тебя лопат?
— Пятьдесят штыковых и двадцать совковых. А что?
— Окапываться будем. Соберем мужичков с ружьями и устроим засаду.
Директор покачал головой, ухмыльнулся:
— Силен! А я вот не догадался… Один пытался, чудак.
Балашов направился к шедам. Ушастики толпились у дверец, нетерпеливо тыкались мордочками в сетку. Оголодали! Разве один человек справится с такой оравой?
— Сидит! Сидит… — Балашов не останавливался, мельком поглядывая на одиночные клетки. Подошел к вольере с молодняком.
— Васильич! Отсюда пропадают?
— Видимо…
— Но ты посмотри на их лапки! Разве сравнить с этими?!
Петр Васильевич даже подпрыгнул немножко от удивления и радости. По-детски засмеялся, страшно довольный приятным исходом этой, напугавшей его самого и родителей истории. Он еще тряс, как барабанными палочками, старенькими лапками, когда подошла сторожиха с большой черной лайкой. Собака вдруг заволновалась, засуетилась, задрав подслеповатую морду.
Балашов выхватил у директора лапки, широко размахнулся и бросил их за вольеру. Лайка взвизгнула, вырвалась из круга людей и тяжелыми прыжками понеслась за ними. Немного спустя появилась в конце шедов, улеглась, придавив могучими лапами никому не нужную добычу.
— Вот он, хищник! — сказал Балашов и направился к собаке. Присел перед ней на корточки, говоря что-то, протянул руку. Лайка не шевельнулась. Егерь потянул к себе лапки. Собака вскочила и жалобно заскулила.
— Ну, Вера! — крикнул Балашов. — Поймали вора!
Сторожиха напряглась, сжала худенькие кулачки и уставилась испуганно — то ли на собаку, то ли на Балашова. Ваське показалось, что вот-вот она набросится на егеря. Но она заплакала вдруг — громко, отчаянно, будто убили кого. Петр Васильевич устремился было к ней, но, застигнутый грозным вскриком Балашова, застыл в неудобной позе. Бахра промахнулась, клацнула зубами.
— Ч-ч-черт знает, простите, что… — Директор отходил от испуга, но стоял не шевелясь.
— Вера, перестань! — тряс Балашов сторожиху за плечи. — Не ела их Бахра, не ела! Слышишь?
— Ох и шуточки у тебя… — Директор вздохнул, поглядел на жмущуюся к ногам хозяйки собаку.
Наконец тетя Вера успокоилась, но еще долго сморкалась в подол фартука и им же вытирала глаза.
— Чужие это лапки! — возбужденно говорил Васька. — Чужие! Просто Бахра натаскала их сюда.
— Зачем? — удивился Петр Васильевич, кивнув собаке. Получилось, будто у нее спросил. И Бахра вдруг потупилась, скульнула виновато. Балашов прыснул. Засмеялась и тетя Вера, сразу помолодев и зарумянившись. Директор недоуменно посмотрел на них, на Ваську, Ваське смеяться было неудобно.
— Ну-ка дай-ка крольчонка! — неизвестно кого попросил Балашов и сам полез рукой в вольеру.
Бахра вскочила, напряглась.
Егерь погладил серенького несмышленыша, осторожно пустил на землю.
— Поскакал, стервец!
Бахра в два прыжка настигла его, поддела носом, занеслась, развернувшись, вперед и прижала к песку подрыгивающее задними лапками пушистое тельце.
— Сожрет! — восхищенно и испуганно воскликнул Петр Васильевич. Оглянулся на егеря: ты, мол, виноват!
Бахра нежно облизывала крольчонка, удерживая его полусогнутыми лапами. Потом взяла за шиворот, поднялась, грузная, и, косясь на людей, понеслась к вольере.
Даже у Балашова полезли вверх брови.
По дороге домой егерь молчал. Васька поглядывал на него и молчал тоже.
…Вот здесь подхватил Ваську на руки испугавшийся сосед дядя Коля. Как давно это было!
— Опять кружат! — встрепенулся Балашов. Впереди за речкой — над Васькиным домом — распластались два знакомых коршуна. Васька представил, как нервничает сейчас сосед дядя Коля, лишившийся ружья, наверное, на веки вечные. И жалко стало его, ненавидимого егерем Балашовым, козой Машкой и, очень может быть, — собственной женой, тетей Зиной. После суда уехала она в город — и молчок. Почтовый ящик на всех один…
Странно как-то! Вон мать, разве уснет, пока отца нет? И не было такого, чтобы родители Васькины поругались… А соседи без этого не могут. «Дура баба!» «Черт лысый!» И не совестно… Да такие слова кому хочешь душу отравят.
— И что же он все-таки за человек? — Дядя Игнат будто не сомневался, что Васька думает сейчас о соседе. — Не знаю! Но сегодня мне показалось, что он не совсем уж и дерьмо.
— Мне тоже… — Васька говорил от чистого сердца.
— Ну что, малыш! Срежем стервятника?! — повеселел егерь и прибавил шагу.
Васька заскочил за ружьем и наткнулся в сенях на мать.
— Ну-к! — успела ухватить его за рукав. — Как угорелый. Не ел поди с утра!
— Ел, ел! Пусти, мам! Там коршуны кур порешат.
Балашов был уже с вертикалкой, но не стрелял — ждал Ваську. Увидел, что тот без ружья, опечалился. Конечно, и сам хотел помочь малость не совсем уж пропащему соседу, но протянул ружье Ваське. И тут же схватил его обратно: хлопнула калиткой Васькина мать.
— Может, отпугнуть просто, Игнат? — спросила, тревожно вглядываясь в осмелевших, не скрывающих намерений птиц.
— Поздно пугать! — Балашов сдвинул предохранитель. — У Николая курицу раздербанили… Э-э! Глаза слепит… Стрельнешь, Вась?
Васька посмотрел на мать, а мать — на него. Оба изучали друг друга…
— Папкина удобней… Возьму, мам?
И увидев, что мать замялась, понесся к дому.
Заслышав стрельбу, вывалился из дому сосед дядя Коля. Закрутился, возбужденный, подле, дохнул на Ваську перегаром:
— Хлеще, Васек! Хлеще! Во-о! — заорал как мальчишка. — Влепил, в макушку влепил! Посыпался, соколик.
Черный коршун, ломаясь в крыльях, рассекал воздух, обгонял кружащие и виляющие, как блесны, собственные перья. Дробь настигла его над домом, а обессилила чуть дальше, над березовой релкой, где Васька косил сегодня траву.
Вторая птица крикнула протяжно и сонно, стала яростно взбивать воздух, но можно было еще достать ее зарядом картечи.
Васька не шевелился. Балашов держал двустволку двумя руками у колен и тоже не сводил глаз с напугавшейся птицы.
— Бей, Игнат! По макушке! — Сосед порывался выхватить у егеря ружье.
— Пошел… — Балашов словно очнулся и так взглянул на дядю Колю, что даже Васька попятился.
— Вась… — Странный стал голос у Балашова, усталый, стариковский будто. — Сбегай подбери. Будет тебе чучело…
И пошел к своему дому, так и держа обеими руками не требовавшее чистки ружье.
Васька лежал на чердаке. Заново проживал длинный-предлинный сегодняшний день. Пахло свежим клевером: отец уже в темноте затащил наверх охапку, разбросал по ребристо выступающим балкам. Завтра будет новая постель. А старую Васька протрясет, освободит от въедливой шлаковой пыли и отдаст вечно голодной Машке.
И только подумал о козе, как в сарае всполошились, заметались, не жалея голосовых связок, дуроватистые куры. «А я ведь не кормил их сегодня!» — вспомнил Васька. И еще немного неприятного добавилось у него в душе к тому, что тяготило весь вечер. А что именно? Надо продумать хорошенько, со всех сторон… Чтобы уснуть наконец и увидеть какой-нибудь светлый сон.
Весь день, до вечера
Задурила обычно ласково-говорливая Песчанка. С восторгом приняла таежная красавица в свое обессиленное яростной июньской жарой тело щедрые соки внезапно набежавших и бесконечных туч. Сразу всполнела, подмяла под вздувшиеся бока заросшие тальником песчаные островки, нахально заняла пространства, извечно принадлежащие густым черемуховым зарослям.
Словно по властному зову заспешили вдаль разгульные нашественники, скрылись за вертикально стоящим козырьком Синей сопки. Но еще несколько дней после этого жила речка сладким ощущением несказанного могущества: неуемно веселясь, перекатывала с места на место привыкшие к постоянству и тяжелому лежанию на дне отшлифованные каменные глыбы, переселяла зыбунные косы, лишала опоры большие и маленькие прибрежные деревья.
Но истощались ее силы, стала терять Песчанка несвойственную ей спесь.
Снова просветлела вода, отвердели захламленные наносами пологие берега, заплескалась на перекатах каким-то чудом уцелевшая в прошедшей кутерьме рыба.
Васька пришел сюда первым. Он сидел у самой воды, на обсохшей под утренним солнцем бескорой коряге и полнился странным ощущением. Тихий лес за спиной, нетронутые травы, беспечные кулики, бегающие по ровным незатоптанным берегам, уверенные всплески рыб делали с ним что-то непонятное. У ног лежала удочка. Он забыл о ней и, растерянно улыбаясь, старался вспомнить — как попал сюда, на необитаемый берег. Кажется, была у него когда-то жизнь, наполненная странными заботами — о козе, курах, огороде. Жизнь с матерью и отцом, егерем Балашовым, еще с кем-то, всплывающим в памяти едва различимыми туманными образами. А может, и не было такой жизни, может, приснилась она Ваське в полуденной дремоте здесь, на берегу, или вон там, в лесной чаще, под тенью маньчжурского ореха.
Сколько еще лет, тысяча, наверное, пройдет, пока появится здесь, на берегу Песчанки мальчишка, знающий и видевший все то, что нет-нет да и пригрезится в тоскливых, кошмарных снах дикому и вольному человеку Ваське…
Люди не знают, не подозревают, что иногда в каком-то уголке земли происходит это. Нечаянно повторяется день, который был уже давным-давно. Повторяется во всех мельчайших подробностях, со всеми его событиями, красками и запахами. Ваське повезло. Он понял, что попал в такое место…
Он сидел у излучины реки. Справа и слева шумели перекаты, а здесь, у самых ног, была яма. Дно ее не просматривалось, пряталось в прозрачной темноте холодной воды. Из этой темноты высунул наружу гладкое рыло неподвижный деревянный зверь. Задремал в лесу, забылся, и унесло его внезапным потоком. Сколько тайн хранится теперь в речке!
Ваське не терпелось побежать к перекату, где охотились за бабочками серебристобокие хариусы. Но разве это главное — в такой вот, случайно выпавший на его долю древний день заняться обычной рыбалкой! И он сидел, тревожно и любопытно оглядываясь, стараясь все запомнить и зачувствовать. Он осторожно, не полной грудью, дышал легким диким воздухом, улавливал неведомые ему запахи и привыкал к странным крикам птиц, непонятным шорохам и звукам.
Яма была серьезная, с водоворотом, кружившим мелкий лесной сор, сбитых шальным ветерком легкокрылых бабочек и парашютики одуванчиков. Васька и не понял, и не почувствовал, а догадался, что в яме есть тайна, такая же редкая и счастливая, как этот день. И день этот, и тайна эта — для него, для Васьки! Он заволновался, вскочил, не в силах больше сдерживаться.
Что-то произошло в нижних слоях удерживаемой ямой воды: взметнулся до самой поверхности косой, рассыпающийся слой свинцово-матового ила. Дробью сыпанула во все стороны очумевшая стайка малька.
Васька бросился к удочке, потом вспомнил, что не накопал еще червей, побежал в черемуховые заросли, но тут же вернулся — банку забыл!
Он рвал дрожащими руками укрепленную белыми корешками трав и кустиков прелую землю, переползал на коленях с места на место, но червей не было. Васька побежал дальше от берега, туда, куда не добиралась в половодье речка. И здесь, где земля была посуше, где ползали муравьи и беспечно цвели большие красные саранки, нашел одного-единственного червячка — слабенького еще, не набравшего веса и цвета. Надо было отпустить его, присыпать землей, но в яме ждала рыба. Васька понимал, что рыба не заметит это тощее тельце или просто поленится раскрыть рот, но все же бежал к удочке.
«Леска тонковата!» — с досадой отметил Васька. Он бесконечно долго наживлял засопротивлявшегося червячка на подржавевший от вынужденного безделья крючок.
Первый заброс вышел неудачным. Грузило блюкнуло дальше намеченной глазом точки. Васька поспешно вымахнул крючок назад, уклонился от засвистевшего над головой свинцового ядрышка, притормозил и задержал его полет легким кивком березового удилища. Потом, немного нервничая и спеша, поправил на коварно изогнутом кусочке стальной проволоки надломившегося червячка, поплевал на него и сделал новый замах удочкой. Поплавок долго не мог успокоиться. Его вело к топляку, кружило на месте, возвращало на середину ямы, к покачивающемуся водовороту. Васька тянулся, отпуская поплавок дальше, дальше, давая ему большую свободу поиска. Увлекся!.. Понял оплошность, но уже на долю секунды после того, как почувствовал, что на ногах появились несущие его с горки лыжи. Крутнулся, уже по пояс в воде, взбаламутил широкий край устоявшегося озерца, но не выскочил, завяз. Пришлось опираться на удилище. Последние шажки к сухой кромке берега делал на коленях, чувствуя с тревогой и отчаянием усиливающийся натяг лежащей на плече лесы.
Как могла заскочить ему в голову мысль, что это подцепилась рыба?.. И он не дал жилке необходимой слабины… Дернулось и полегчало удилище, взвилась и опустилась невесомой паутиной леска.
Он еще крепился немного, старался сдержать нахлынувшую дрожь. Потом хряпнул через обтянутое мокрой штаниной колено удилище, швырнул его в яму и заплакал.
Он попал в этот день случайно и поэтому не был готов ко многому.
На кедах высыхала, светлела древняя грязь. Васька разделся, зашел в воду и занялся неторопливой стиркой. Развесил тяжелые вещи на кустах и вернулся к яме. Он мог бы искупаться на перекате, но существующая в яме тайна не отпускала его, настраивала на что-то необычное, безрассудное. Он подскочил, вытянулся в воздухе стрункой и мягко, бесшумно вошел в мрачную глубину.
А через секунду вынырнул и замолотил по воде маленькими сильными руками. Выскочил на берег и, прижав к животу кулаки, посмотрел туда, где только что был и откуда вполне мог не вернуться. И то, что он увидел, показалось мгновенным, застигшим его прямо на ногах чудным сном. Маленькой сиренево-фиолетовой подводной лодкой всплыла и сразу же ушла на дно никогда не виданная им рыба.
Васька сдерживал дыхание, боялся пошевелиться. На паршивого червяка, с мальковым крючком хотел поймать это прекрасное чудовище!
Он еле удержался от соблазна швырнуть в яму камень, чтобы еще раз, пусть всего лишь на мгновение, увидеть ее, древнюю могучую рыбу, которую, может быть, не видел никто из живущих сейчас на земле людей…
Он долго сидел у самой кромки берега, до боли в глазах вглядываясь в постепенно очищающуюся от мути яму. По поверхности воды засновали деловитые мальки, и никто не шугал их, никто не старался набить сладенькими тельцами зубастую пасть. И Васька понял, что обитающая сейчас в яме рыба еще солиднее, чем он представлял себе.
Брюки и рубашка почти высохли, приятно холодили накалившуюся солнцем кожу. Васька связал шнурки и бросил на плечо упругие кеды. Он оглядывался, стараясь все запомнить, удержать в себе приметы возвращающегося в туманную даль вечности дня…
Недалеко от дома, на поляне, паслась привязанная к березе Машка. Она встретила маленького хозяина восторженным прерывистым криком. Здесь, в лесу, козе было нестерпимо скучно. Васька подумал и великодушно развязал изжеванную веревку. Они пошли рядом, предупредительно уступая друг другу тропинку, стесненную стволами елей и осин. Лукаво-робкая мордашка козы излучала такую признательность, что Васька не смог удержаться от смеха. Он снял с Машки веревку и получил торопливый поцелуй в ладонь.
Завидев вышедшего из леса врага, куры замерли. Потом, какая впригибку, какая с диким криком, отчаянно треща крыльями, рванули наутек. Машка помчалась наперерез петуху. И настигла бы его, но поскользнулась на листе жести и сработала жестким задом глубокую кривую борозду. Во двор она вошла уже пленницей. Яростно натягивала веревку и выпучивала дико сверкающие глаза.
Васька покормил кур, угостил запертую в сарай Машку хлебом, по-быстрому пообедал сам и вышел на крыльцо. Он знал, что ушел из того необычного дня, что и так увидел недоступное для других, но спокойствие не приходило. Его тянуло назад, к яме. Тянула не рыба, которой там уже нет и которой больше никогда не будет, потому что она была там страшно давно. Тянула память об этой рыбе. Просто пойти туда, посидеть, поволноваться, вспомнив все как было…
Он знал также, что не надо идти в чулан, но пошел, нашел запыленную коробку с отцовскими блеснами, привезенными с Амура. Блесен было много — широких, с ладонь, узких, извилистых, белых, желтых, крашеных, чеканных… Он выбрал самую большую, отяжеленную сразу двумя якорьками — спереди и сзади. Потом отыскал махалку, отсек от толстой, переливающейся цветами радуги жилки вертикально играющую свинцовую блесну и привязал летнюю. Потом положил снасть в полевую сумку, сунул туда нож, кусок хлеба и заспешил по той же тропинке, по которой возвращался домой из несказанного далека. Ему все казалось, что ноги идут медленнее, чем обычно. Может быть, там, куда он стремился, происходила смена времени и какие-то таинственные силы природы мешали ему увидеть этот необычный процесс…
Васька не выдержал, побежал. Он бежал долго-долго. Удивляясь, что может бежать так долго, что может еще дышать и слышать свое дыхание.
К берегу он подошел мокрый, как после утреннего нечаянного купания, скованный и тяжелый. Упал на серый песок, расслабился и закрыл глаза. Он чувствовал, как постепенно легчает вдыхаемый воздух, утихает гул в ногах, уходит из тела деревенящее напряжение. Вяло высвободил из-под спины старенькую сумку, подложил ее под голову и, забыв про все, даже про то, ради чего прибежал сюда, отдался воле нахлынувшего на него сна.
Когда Васька протер глаза, увидел низкое несильное солнце. Было тихо и печально-тревожно, словно в природе случилось какое-то несчастье. Он понял, что смена времени уже произошла, что все проспал, и птицы, мыши, бурундуки, бабочки затаились, жалея несчастливого Ваську.
Он отошел к перекату, опустился на руки и отсосал из Песчанки немного пресной воды. Потом сунул голову под прозрачное, колышущееся одеяло и почувствовал, как наполняется бодростью утомленное долгим дневным сном тело.
Темнело медленно. Васька смотрел в воду, вспоминая сиренево-фиолетовую неторопливую рыбу, и улыбался. Она была добрая, эта рыба. Показалась Ваське, чтобы он мог ее вспоминать, видеть во сне и тосковать по ней.
Домой не хотелось. Васька достал из сумки хлеб, вяло пожевал, еще раз попил из реки и взял в руки ненужную теперь снасть. Он распустил толстую лесу, воткнул в песок буковый стволик зимнего удилища и положил на ладонь тусклую блесну. Не хотелось бросать ее в заведомо пустую яму, да и не везло Ваське с блеснами, не его эго занятие. Он спустил блесну с ладони, не дав ей коснуться земли, защемил лесу двумя пальцами. Потом, резко взмахнув рукой, послал железную рыбку в реку. Блесна перелетела яму, стукнулась о торчащий из воды валун и попала в течение. Васька дернул лесу, вогнал вильнувшую блесну в яму и, притаив дыхание, ласково повел к берегу. И вот она ткнулась в песок, замерла — бесполезная, никчемная железка.
Васька швырнул ее снова, но выпустил из рук лесу, нагнулся за ней и, торопливо выбирая, с тревогой почувствовал, что блесна идет к топляку. Тогда он ослабил жилку, уложил блесну на дно ямы и пошел по берегу, чтобы вызволить ее с другой стороны.
Он облегченно вздохнул: блесна послушно всплыла, но тут же леса напружинилась. Конец рыбалке! Нужно лезть в воду… И тут ахнул над водой удар тяжелого хвоста. Ваську будто заморозило, он не мог пошевелиться, стоял с опущенными руками. Рыба не воспользовалась его растерянностью, ворочалась в яме, ходила кругами и лишь чудом не запутала еще о топляк скользившую за ней лесу.
Васька подскочил к оброненной жилке, схватил, намотал немного на руку и, по-стариковски горбясь, стал тянуть. Рыба не шибко, но послушно пошла к берегу.
Васька заспешил и, видно, сделал ей больно. Она дернулась, снова врезала хвостом по воде.
Васька чуть не плакал от счастья. Он боялся, что лопнет леса, что отвяжется блесна, что рыба сорвется, что он сам соскользнет в воду, что…
— Вася! — громко и радостно позвал отцовский голос. Васька, продолжая тянуть и упираться пятками в песок, посмотрел через речку, увидел сидящего на бревне отца и совсем воспрянул духом. Он тоже попробовал что-то прокричать отцу, но только зашипел по-гуси-ному — пересохло в горле.
— Помочь?! — насмешливо прокричал отец. Он, конечно, думал, что Васька дурачится под конец неудачной рыбалки. Но рыба сыграла снова и тут же — еще раз, и отец подскочил, будто ужаленный разъяренной осой.
Васька заторопился. Он не хотел принимать помощи, тянул изо всех сил. Рыба вышла на мель, заскользила боком по илистой грязи. Васька все еще пятился, тянул и мельком поглядывал на бегущего через речку отца. Черпая в рассеянном свете последних лучей солнца рыба беззвучно открывала косо врезанную пасть, а Васька сидел на ней и счастливо смеялся. Он стал подпрыгивать на коленях — тянуть ее вверх, подальше от воды.
Отец забрызгался весь, дышал часто, возбужденно. Увидев рыбу, он ойкнул и остановился. Немного полюбовался на мучившегося Ваську и пошел назад.
— Пап! Ты куда? — опомнился и обиженно закричал Васька.
— За ружьем. Сейчас приду.
Далеко от берега Васька оставил в покое рыбу, сбегал за сумкой, потом — за снастью. Посидел, любуясь таинственной незнакомкой, вскочил, побежал с сумкой к яме, вернулся с водой и стал мыть запачкавшуюся рыбу.
Возвращался отец, что-то насвистывая и болезненно улыбаясь. И Васька вдруг испугался, понял: нельзя было ее ловить!
— Пап… Это лосось?..
— Лосось! — подтвердил отец. — Да ты что? Чудак… Счастливый ты. Тайменя поймал.
Домой они не спешили. Васька великодушно разрешил отцу нести свою драгоценную добычу, а отец отдал ему двустволку. На поляне они остановились. Васька сбегал за косой, сам напластал травы, сам собрал ее и сам понес, прижимая к животу и чуть не задыхаясь от густого вечернего аромата, источаемого широкими прохладными листьями, прямыми и вьющимися стеблями, цветами и облысевшими головками одуванчиков.
Во дворе егерь Балашов негромко переругивался с недовольной Машкой.
— А ты меня не пугай, не пугай! — говорил он, глядя на дверь сарая. — Я тебе не сосед, так рога и обломаю!
Машка в ответ бухала рогами в дверь.
— Нашел с кем связываться! — упрекнул егеря отец.
Балашов увидел рыбу и в комическом страхе полез, пятясь на крыльцо. Сел на верхнюю ступеньку, обхватил голову руками.
— Не! Не! — восклицал он. — Не разыгрывайте!
Васька занес в сарай траву, свалил в дальнем углу, где ее не смогут обгадить куры, обнял затрясшуюся от жадности козу и зашептал в мохнатое ухо:
— Ты хорошая! Я знаю. Только притворяешься дурой! Но со мной больше не притворяйся, ладно?
Машка боднула его рогом в бок, чтобы не мешал, и залезла на кучу. Тогда Васька справедливо обиделся, шлепнул притворщицу по белеющему в темноте заду и взвизгнул — отшиб руку.
…Отец светил фонариком, а Васька убирал свою старую постель. Потом собрал с балок несколько охапок свежего клеверного сена, застелил сверху рыжим солдатским одеялом и сел на него, чуточку умаянный, счастливый — от рыбалки, от похвал, на которые не скупились сегодня и дядя Игнат, и отец с матерью.
Отец что-то прошептал, погасил фонарик и исчез.
Васька разделся, залез в простынный вкладыш спального мешка и стал думать о своей рыбе. И только теперь он понял, что она не вернулась, не захотела возвращаться в далекое прошлое время из-за него, из-за Васьки. Она была очень, очень добрая. Она пожалела его и осталась. И почти не сопротивлялась, когда схватила ненужную ей блесну… И теперь ее никогда не будет в яме, нигде… Пусть и отец, и дядя Игнат ломают головы над загадкой — откуда взялся в Песчанке таймень. Ниоткуда не взялся и ниоткуда больше не возьмется…
Васька закрыл глаза и безутешно заплакал. Но плакал он уже во сне.
Друг Максим
Не ладилось у Васьки с другом. Рыбачили вместе, сидели за одной партой, лыжи мастерили, а не ладилось. Ссорились часто. Дулись друг на друга. Сходились — случайно как-то, ненароком, и тогда оба были счастливы. Ненадолго…
Да и познакомились они не самым приятным образом. Вспомнит Васька, как это было, и стыдно станет. Но это — когда в хороших отношениях с Максимом. А когда в ссоре — ничего и не стыдно.
Вот и сейчас переживает Васька новую обиду, старое вспоминает. Плохо ему. Одиноко. Тоскливо. Ну что за Максим такой! Все навыворот, все наперекор другим делает. Вчера у дяди Игната охотничий нож стащил. Балашов позвал ребят посмотреть чучело коршуна. Егерь подправил ему перебитое крыло, вклеил выбитые перышки. Здорово получилось, залюбуешься! Максим тоже любовался. А когда ушли — похвастался. Чужим ножом. Герой! Как теперь дядя Игнат без ножа будет? В тайге без него — как без рук. А на кого подумает?..
Ворочается Васька. Похрустывает клевер под суконным одеялом. Весь день промучился, голова разболелась. Не может он никаким делом заниматься, когда на душе тяжело. Сказал вчера Максиму, что вор он. И если не вернет нож, никогда больше дружить с ним не будет. «Да пошел ты!..» — ответил Максим.
Из-за Максима окаянного и коза с утра не кормлена. Вон разбушевалась! Разнесет еще сарай.
Тогда Машка еще маленькой была. Козленочком белым. Любила от Васьки прятаться. Не шкодила, как теперь, а только пряталась. Нырнет куда-нибудь — и не шелохнется. Ищи, мол!
Васька знал, чем ее выманить из тайника. Хлебом! С солью. Как только Машка учует хлеб — забудет, что спряталась, несется со всех ног.
Однажды вечером этим Васька и воспользовался: отломил от буханки большой кусок, присыпал его крупной солью и вышел на крыльцо. Красное неяркое солнце тяжело опускалось на лапы потемневших елей, давило все сильнее и сильнее. Казалось, что вот-вот они, прокаленные немыслимым жаром, не выдержат, порушатся. Но солнце потихоньку спускалось, а ели стояли не дрогнув, не шелохнувшись.
— Маш! Маш! — Васька поднес ломоть к лицу, тягуче задышал, наслаждаясь густым добрым запахом. Не удержался, оторвал зубами поджаристую корочку. Легка на хлеб! Шебаршнула за калиткой.
— Маш! Маш!
Коза не показывалась. За калиткой послышалась возня. Васька пробежал двор, подпрыгнул, ухватился за верхнюю жердину, подтянулся, помогая ногами, и заглянул за изгородь.
Машку мучили. Светловолосый паренек крутил ей шею, старался положить на костлявые лопатки. Коза вырывалась, но силенок было маловато. Васька онемел от такой наглости. А паренек забавлялся. Он дергал Машку за хвост, бодал ее своей круглой головой, щекотал растопыренными пальцами и смеялся. Весело!
— Эй ты! — опомнился Васька. — Отпусти!
Как в песок. Даже головы не повернул.
— Кому говорю! Отпусти, а то…
— А то — что?
— Тогда увидишь!
— Богатырь, что ли? Квакаешь из-за забора.
— Да я тебе!..
Драться Васька не любил. Ему казалось, что незнакомец должен убежать. Ведь попался на постыдном, виноват же!
— Ну, чего застрял! Прыгай, коль такой смелый.
Васька очень не хотел драться. Он еще надеялся, что паренек опомнится и убежит.
— Трус!
Васька прыгнул. Выронил хлеб. Освобожденная Машка метнулась к горбушке, подхватила ее и, давясь, задергала тонкими губами.
Васька опомниться не успел, как получил ловкий удар в ухо. Он не ожидал такого начала и растерялся. Где-то рядом плавал в воздухе огромный, как самолет, комар.
— Еще дать? — различил он в утихающем звоне. Задохнулся от обиды, досады, неловкости своего положения. Бросился вперед, как в воду. Паренек крутился около, тыкал кулаками в грудь, в шею. Легкие кулаки, не опасные. Васька сразу понял это, но еще волновался и не мог хорошенько ответить. Наконец поймал наглеца обеими руками за шею. Притянул к себе, поднатужился и опустил на колени.
— Сдаешься? — спросил страшным голосом. Жертва поупиралась и затихла. Васька ослабил захват. И тут же зазвенело в другом ухе.
— Ах так? — он снова бросился вперед, сбил пришельца с ног и, придавив к земле, уселся на него верхом.
— Не крутись! Я те кусну!
Легкая, птичья какая-то сила высоко подняла Ваську.
— Петухи!
Балашов поставил Ваську на землю, шевельнул за плечо паренька.
— Жив, Максим? Нарвался? Будешь знать!
Егерь вошел в калитку, Машка — следом.
— Получил? — спросил Максим шепотом. Глаза его сияли злостью и решительностью.
— Цела шея? — спросил в ответ Васька. — А то враз доломаю!
— Трус!
Максим ринулся к Ваське, по гит опередил его, ухватился нечаянно за волосы.
— Пусти! Больно же!
Рванулся, двинул Ваське локтем в живот. Васька сжался. А когда отдышался, рядом никого не было.
Вот так они и познакомились.
А вскоре у них произошла вторая стычка.
Васька выследил бурундука. Зверек жил в корче у родника. Васька стал подкармливать его, приносил орехи, семечки. Сначала полосатик дичился, прятался, но вскоре обвыкся, стал набивать щечки на глазах у-чело-века. Забавный! Секунды на месте не посидит, все крутится — принюхивается, тычет носик туда-сюда. И все на Ваську косится, мол, не подкрадывается ли? А чего Ваське подкрадываться! Шкурка, что ли, ему нужна? Посмотреть, полюбоваться… Повернись неловко — свись! — и нет зверька, в норке скрылся. Потом глаз покажется. Выскочил!
У родника тихо-тихо. Сумрак. Прямо над водой ель нависла, рыжие иголки роняет. Крутятся они в легкой струе, прибиваются к крутому мшистому бережку. Когда воду набираешь, обязательно их зачерпнешь. Вроде и мусор, а вода от них вкуснее.
Дом совсем рядом — пробежишь по тропке, повернешь возле выворотня направо, в березняк, и крыша торчит. А ощущение такое, будто ты где-то в глухой тайге, совсем один, и лучше нет ничего.
А когда вдруг послышится треск валежника, сердце забьется. Вот-вот вывалится к роднику зверь. Может, злой хищник, и тогда спасайся. А может, сторожкая косуля или еще кто редкий и приятный. Вдавиться в мох, молчать и глядеть, чтобы запомнить все.
Эти шаги Васька не услышал. Задумался, может быть. Жалобно вскрикнул бурундук и свалился с коряжины.
Рядом стоял Максим. Охотник. С рогаткой. Черная собака обнюхивала бурундука.
— Попробуй! — сказал Максим с усмешкой. — Только тронь! Она тебя в клочки! Пойдем, Бахра.
И ушли, оставив Ваське теплое полосатое тельце.
Балашов долго успокаивал Ваську, хотя, видно было, и сам переживал. Он знал, зачем Васька к родничку бегает.
Это было первое чучело, которое он для Васьки сделал. Поставил его Васька на чердаке, недалеко от слухового окна. Мало радости только. Жалко. И обидно. И стыдно за человека, лишившего жизни доверчивого лесного обитателя.
А потом прошло лето. Машка подросла, не вдруг обидишь! Васька пошел в школу. Мало кого в классе знал. Так, по случайным встречам только. А Максим ему — ни с того ни с сего — обрадовался. Почти силой усадил за свою парту. В этот день после школы пошел Васька к Максиму в гости. Жил тот с матерью, тетей Верой, рядом со школой. Хозяйства — никакого. Только Бахра дремала в старой будке у самого крыльца дома. Ребята подошли, а она — ноль внимания. Зевнула и снова глаза закрыла.
Тетя Вера в школу собиралась, у нее работа после занятий начинается.
— Максим, — попросила, — суп разогрей, я не успела… Бахре чего-нибудь дай.
Максим словно и не слышал, потянул Ваську за угол. Достал из щели в завалинке огромный напильник.
— Во, смотри!
Размахнулся и всадил тяжелое оружие в стену. Метров с четырех. Потом еще и еще раз. Почти в одну точку.
Васька попробовал — куда там!
— Могу насмерть и навышиб. — Максим вынул из кармана складешок: — Насмерть — вот, острым концом, а если просто врезать, чтоб очумел, — задом.
— Кто очумел!?
— Кто хошь! Становись, и ты получишь.
Вроде бы пошутил, но таким тоном, что Васька обиделся.
— Во! Тише! Петух! Навышиб! Н-н-на!
Белая большая птица крикнула переполошенно и, теряя перья, понеслась в соседский двор. Максим подхватил с земли ножичек и юркнул к крыльцу.
Ваське совсем стало не по себе. Хотел идти домой, но вдруг подошла Бахра, ткнулась лбом в колени. Издалека черная, а рядом — так седая вся, глаза слезятся.
— Охотничья?
— Была, — отмахнулся Максим. — Труха осталась. Мать жалеет, а так — что с нее толку.
Васька гладил старую лайку, а та все сильнее прижималась к нему крутым лбом, словно жаловалась…
В общем, наверное, из-за Бахры не порвал Васька отношений с непутевым товарищем. Почти каждый день приходил он в этот пустой двор и встречал безмолвную радость одинокой собаки. А Максим все напильник втыкал, таких дырок в бревнах понаделал, что смотреть страшно.
А зимой вообще ерунда вышла. Взял Васька Максима к подкормке — косулиным стожкам, которые дядя Игнат ставил. Их проверять обязательно нужно: могут хищники повадиться, и тогда жди беды: косули к стожкам жмутся всю зиму, особенно в сильные холода. Ведут себя как домашние козы, всякую осторожность теряют. Близко к подкормке подходить не надо, только проверить — нет ли чьих еще следов вокруг. А Максим как с цепи сорвался: не послушал Ваську, проломился сквозь кусты на поляну, и сразу кругом треск пошел. Шарахнулись косули как от волка. Максим в себя прийти не мог, глаза как у кота светились. И не слышал, что говорил ему Васька.
Потом, дня через три, пришел из лесу Балашов. Хмурый. Кто-то у стожков петель наставил. По следам — мальчишка.
В школе Васька сказал об этом Максиму. А тот сразу сделал вид, что понятия о петлях не имеет. Вид видом, но глаза отводил. Откуда у него все это? Рогатки, напильники, петли! Кто надоумливает?
Еще и курить научился. Васька это случайно обнаружил. Вот такой друг. Зачем он нужен?!
Но пройдет время, забудется что-то, отойдет назад, и потянет вдруг к непутевому Максиму. И тот вроде рад миру с Васькой. И тогда заметит Васька, что посветлеет лицо у тети Веры. Даже стыдно почему-то станет… А Бахра увидит Ваську, заскулит как-то жалобно и радостно, словно он ее хозяин и вернулся откуда-то издалека.
…Долго еще ворочался Васька на сене, вспоминая про все это. Вечер скоро. Машка уже притихла — силы, наверно, кончились. На голодный желудок долго не побесишься. Надо кормить. «Война войной, — сказал как-то сосед дядя Коля своей жене тете Зине, — а обед должен быть по расписанию». Этими словами они тогда и помирились.
Васька возвращался с охапкой травы. А у калитки — Максим. Что делать? Пройти будто не заметил? Или спросить про нож?
Максим засуетился. Калитку открыл, чтоб Ваське с травой легко пройти было, клочки подобрал, понес следом.
— Отдал? — спросил Васька, глядя на осчастливленную козу.
— Его дома нет… Отдам…
Помолчали. Не знал Васька, как мириться теперь. Душа к такому миру не лежала.
— Давай нож, я отдам.
Максим будто не слышал. За Машкой наблюдает.
Понял Васька: соврал он и не собирался возвращать. Видно, насквозь трухлявый. Ни стыда, ни совести.
— Да не психуй ты! — будто очнулся Максим. — Подумаешь — нож! Добра-то… Вот вернусь с Синьки и отдам.
С Синьки? Да, он оказал — с Синьки… Каков, а?! Ведь вместе собирались! Еще зимой решили в пещере побывать. На сопке, с той стороны, что скрыта от поселка, вход в пещеру. Многие в ней бывали, но все по-разному описывают. Кто говорит, что тянется она километрами в глубину, кружит, опять кверху устремляется. Кто, наоборот, уверяет, что вся-то она как сараюшка. Кто-то видел в ней скелеты неизвестных зверей, кто-то — ржавые обломки железа. Кому верить? Шут его знает!
И вот ты смотри! Собрался один.
Обида взяла Ваську. Еле справился с собой — так и хотелось съездить другу в ухо.
— Иди! Мы с дядей Игнатом тоже пойдем. В субботу… — Васька замялся. Но только на секунду. — Он карабин возьмет, а мне двустволку даст. Медведь появился. Слышал, как он на моего отца набросился? Бешеный! По тропам шастает, людей выжидает.
У Максима вытянулся нос. И было отчего. Надеялся, что клюнет Васька на Синьку, на мир пойдет… Что теперь остается?
А Васька, чтобы как-то не выдать себя, зевнул и пошел к дому. Дверью хлопнул, а сам — к окошку в сенцах, к самому краешку. Не уходит! Задело. Вон — к крыльцу идет…
— Ну, чего тебе?!
До такого еще никогда не доходило: Максим не любил унижаться.
— Да… Это…
Он вроде забыл, что хотел сказать. Смотрел поверх забора, грустный, заброшенный какой-то. Пропала у Васьки злость на него. Присел рядом.
— Пойдешь с нами?
Мотнул головой отрицательно. Конечно! Стыдно…
— Ну ладно! — великодушно решил Васька. — Давай вдвоем пойдем. Только ты уж никому не говори.
— Ружье возьмешь?..
— Да?! Чтоб сразу догадалась?
Максим согласно закивал головой, мол, не надо ружья, ляпнул, не подумав. Но видно было, что желания идти на Синьку в нем поубавилось. Еще и раздумает! Не придет завтра — скажет, что Мать заболела, или еще что придумает. Он такой!
— Подведешь, — предупредил Васька, — скажу сразу Балашову про нож.
…Максим нес кирзовую сумку — у него не было рюкзака. Васька догадывался, что в сумке охотничий нож дяди Игната. На виду его не понесешь. Наверное, он и удочки прихватил, может быть, рогатку. Хотя с тех пор, как Максим из мести к Ваське уложил бурундучка, рогатку он никому не показывал.
В Васькином рюкзаке, сшитом отцом из старого плаща, лежали булка хлеба, консервы — рыбные котлеты в томате, небольшой кусок сала и, само собой, котелок, спички, соль и другая необходимая мелочь.
Жгло солнце. Ничто не могло помешать ему: небо чистое, как вода в роднике, возле которого жил старый бурундук.
Максим словно не замечал жары — шел, глядя под ноги, молчал, и не понять было: стыдится истории с ножом или боится придуманного Васькой медведя.
Васька стирал пот со лба и то и дело поглядывал на Синьку: вроде близко, а шли-шли — и все там же она, на своем месте.
Бахра сначала радовалась неожиданной прогулке, забегала вперед, что-то вынюхивала в кустах орешника, потом заметно притомилась, пошла сзади. Уже несколько раз Васька замечал, что она ложилась отдыхать. Потом с трудом догоняла их и снова отставала.
Давно перебрели по мелководью Песчанку, прошли километра два по зимнику — бывшей лесовозной дороге, по которой летом ни на одной машине не проедешь. Свернули, пересекли марь, а Максим так и не остановился ни разу. Как железный.
— Максим!..
— М-м…
— Пить хочешь?
— Н-н… Пей. — Присел на кочку.
Васька посмотрел вправо, влево… Нигде не блеснет водица. Трава по пояс, чахлые деревца да бугор.
— Бахра! — Максим даже не взглянул на собаку. — Вода…
Бахра тяжело поднялась и исчезла в траве. Вернулась почти сразу.
— Иди за ней.
Полуручеек, полуродничок. Вода в нем жслтоватенькая, но без болотного запаха и холодная. Васька прилег рядом, присосался к бесплатному. Набрал котелок — для Максима. И уж только потом потянулась к питью Бахра. Залакала осторожно, словно боясь обжечься. Не понял Васька: то ли пить раньше не хотела, то ли выдержка такая?
— Нет, не хочу! — Максим поднялся, поправил сумку и зашагал. И тут что-то случилось: сопка стала расти на глазах. Скоро начался и подъем — пока не заметный глазу, но ноги его сразу почувствовали.
Какие тут поднялись травы! Вот бы Машку сюда. Хоть на денек! Набила бы брюхо сладким. Куда там! Совсем обленилась — из сарая не вытащишь. Поднеси да рот ей раскрой.
Потом начался кустарник — сначала редкий, мелкий, а дальше непролазный, как щетина на гигантской свинье. Васька воду в котелке нес. Тут и расплескал всю, без остатка. Положил котелок в рюкзак. Пошлось легче: можно двумя руками заросли раздвигать. Ваське стало казаться, что ходят они по кругу — ни конца, ни края салатному мареву. И ни следа, ни тропки. Кто бывал здесь, кто видел пещеру? Выдумки, наверно…
Бахра совсем отстала. Васька долго стоял на месте, стараясь обнаружить ее. Но позади было тихо. Ждать? Максим ушел далеко. Не видно, не слышно.
Васька почти побежал, одолевая увеличивающуюся крутизну и выпрямляющиеся кустики. Он не мог понять — боится чего-то или просто неудобно отставать…
Максим сидел на полянке. Кустарник кончился мягким обрывом. Под ним искрилось зеленое озерцо низкорослой — с ладошку всего — травы. За полянкой поднялись березки и дубки. Начинался лесок.
Бахра лежала у ног Максима.
Васька молча присел рядом. Он смотрел на собаку. Бахра дышала ровно. Все понятно! Максим явно прятал ухмылку.
И опять у Васьки зачесались руки. Но ладно! Надо выяснить — испытывает или издевается…
— Есть хочешь?
— Н-н… — Максим поднялся. Ясно же — не захотел, чтобы Васька перекусил. Может, сам он уже пожевал?
Бахра посмотрела на сумку и облизнулась. Сумка не застегнута…
Кончился пустяковый подъем. За поясом малорослой релки началась крутизна. И вершина уже — почти рядом. Только шагом не получается — почти ползком, уминая коленями редкую траву на рыхлой черной почве.
Бахра отстает все больше. Прыжок — и топчется на месте, стараясь удержать равновесие. Не подъем мучает ее — бессилие. Скулит. Должно быть, думает, что бросают ее люди на произвол судьбы. Или же не может смириться с тем, что сопка стала сильнее ее.
Взвизгнул где-то наверху Максим, затаился, А когда Васька поравнялся с ним, Максим рванулся, попер к вершине по-кабаньему. Васька притулился к одинокому дубку, перевел дух. И тут понял: ухватился Максим за чертов куст. Попортил кожу. Отсюда почти до самого верха полезло чертово дерево. Будто встало на охрану всех тайн Синьки. Не ухватишься, так коснешься. Боль адская. Колючки — и на ветвях, и на стволе — как стальные.
Нет Максима. Взлетел. Бахра внизу плачет. Васька долго ждал ее. Наплевать на Максима. На пещеру тоже. Повернуть бы к дому, но не дает что-то. Злость какая-то. Вот бы начистить ему… Тогда и вернуться можно. Со спокойной душой. Сбросить с самой вершины. Чтоб катился через эти ядовитые заросли и вопил.
Хуже нет, когда над тобой издеваются…
Бахра уткнулась в колени и затихла. Она уснула. Васька дал ей поспать долго, минут пять. Потом они стали подниматься вместе, потихоньку. Помогая собаке преодолевать уже почти отвесную стену сопки, Васька чувствовал себя легче. Было спокойно на душе, словно и не с Максимом совсем, а со старой терпеливой Бахрой пошли они в поход. А Максим просто увязался следом, шляется где-то рядом. Ну и бог с ним.
Максим сидел на огромном валуне. Чувствовалось, что он чем-то доволен.
— Устал?! — крикнул еще издали Ваське.
Бахра улеглась у Васькиных ног.
— Все! Считай, что на вершине.
Максим открыл сумку и вынул нож. Он долго озирался, словно боялся чего-то, потом мгновенно приподнялся и упал на колени. Нож торчал в прогнившем березовом пенечке.
— Что ты швыряешься… Это же… не напильник!
— Да ладно тебе! — по тону было ясно, что и это Максим сделал назло Ваське.
Бахра насторожилась. Из куста вылетел легкий язык желтого пламени. Припал к траве, будто угас, потом взвился и юркнул обратно.
Васька сразу забыл о начинавшейся ссоре.
— Смотри! А дядя Игнат говорил, что колонков на сопке нет. Они по ручьям и по марям.
— Знает твой дядя Игнат! — Максим втыкал нож в землю.
— Отдай нож!
— Жди!
Васька бросился к Максиму. Тот вскочил и, ухмыляясь, стал пятиться.
— Сейчас выброшу.
— Убью!
— А!.. — Нож сверкнул на солнце, исчез в зелени. Васька валял Максима по траве. Тот почти не сопротивлялся. Хихикал, хотя и щека была уже в царапинах.
Потом они долго сидели молча. Солнце спешно стремилось к закату. В думах своих и не заметили, что Бахры с ними нет.
— Все-таки гад ты. Что тебе дядя Игнат сделал? А не хочешь со мной дружить — и пошел! Тоже мне, явился…
— Что сделал? — будто очнулся Максим. — Я ему еще не такое устрою! Вот посмотришь.
Снизу слышался треск. Оба испуганно насторожились. Максим даже скользнул задом по траве.
К ним пробиралась Бахра. Собака несла в зубах нож. Максим опередил Ваську, выхватил нож и тут же спрятал в сумку.
— Ты губу ей порезал!
Бахра смотрела на хозяина. В глазах была просто усталость.
— Пошли, Бахра! — весело сказал Максим. — Пусть он теперь сам отсюда выбирается.
— Ну и иди! Иди!
Максим полез наверх. Он не оглядывался: был уверен, что Бахра идет за ним. А собака стояла. Она смотрела теперь на Ваську, ждала чего-то.
— Бахра! — крикнул Максим повелительно. — Ты… Чего ее держишь?
— Иди, иди! Держу! Плевать ей на тебя! Хорек вонючий.
Последние слова Васька сказал тихо, чтоб только самому слышать. Он развязал рюкзак. Положил перед собакой кусок сала. Бахра коснулась его губами и подняла голову. Сало окрасилось в розовое. Все же она съела его. Не хотела обидеть Ваську.
Васька гладил ее и чуть не плакал.
И только решил спускаться, как сверху скатился живой шар.
— И… Э… — Максим от ужаса таращил глаза.
Не понял Васька, что произошло, но испугался, — сердце задергалось, всерьез стараясь вырваться из онемевшего тела. Но время шло — секунда за секундой, ничего вслед за этим не происходило, и страх улетучился. Появилось любопытство: что же так всколыхнуло забияку Максима? И Васька полез наверх, слыша за собой тяжкое сопение Бахры.
Уже рукой подать до голой вершины сопки. Метров тридцать… сорок от силы. Тут что-то шуршнуло в кустистом снопе березок. Бахра рыкнула и взъерошила загривок. Два яростно злых зеленых глаза уставились на Ваську. Принадлежали они шерстистому рыжему бугру, нелепо украшенному небольшими сучковатыми рогами. А сбоку, из-за дерева, выглядывало острое копыто.
Все сильнее рыча, собака приближалась к странному живому сооружению.
Глаза приподнялись над бугром, и появился огромный рыжий кот. Он фыркнул, оскалил частые острые зубы и бросился наутек.
Бахра уже смелее подошла к бугру и засопела, втягивая и выпуская из дергающегося носа запахи. Тут только и понял Васька, что перед ним лежит мертвый олень.
Максим не появлялся. Васька стал свистеть. Он свистел громко: наверное, все живое перепугалось и помчалось с сопки куда глаза глядят. Но Максим не отзывался. Тогда Васька крикнул и наконец услышал слабый голос.
Может быть, час прошел, пока Максим не появился — бледный еще, настороженный. Остановился, не доходя до Васьки, уставился на оленя. Он еще не понимал, что это олень.
Потом они сидели на вершине сопки, высматривали далекие дымки поселка и нет-нет да и поглядывали вниз, на труп большого животного. Олень мог умереть от старости. Его мог задрать медведь — не придуманный Васькой, а самый настоящий — огромный, безжалостный. Или тигр. Или рысь. Или еще кто, затаившийся, может быть, сейчас совсем рядом… Но не кот же, пускай он и большой! Кот зайца задавит, только не оленя.
И Бахра была неспокойна, часто вздрагивала, оглядывалась.
Совсем рядом, в чащобе, прошипел мощный тяговый ветер. Но ни одна березка даже не шевельнулась. А там, куда ушел странный воздушный поток, послышался редкий, какой-то совсем не собачий, гулкий лай.
Бахра смотрела туда, и в ее взгляде было живое напряжение, будто видела что-то приятное, радостное. Она как-то мельком, не замечая, взглянула на Ваську и совсем неожиданно сорвалась с места. Васька не видел, чтобы она бегала так раньше: легко, стремительно. У него билось сердце. Нет, страха не было. Было что-то другое… А Максим рвал застежку сумки. Чудак!.. Но, значит, не так уж и струсил, а то бы и про нож забыл.
«Гав!» — совсем рядом.
Максим так и застыл с зажатым в руке ножом.
Три косули выскочили на открытое место и тут же пропали. И опять, уже там, куда они умчались, послышался грозный лай.
Ваське сделалось весело. Еще бы! Косули полаяли, а у них с Максимом поджилки затряслись.
— Гоняет их кто-то… — Максиму было не так весело.
— Ой да брось ты! Кто их тут гоняет. Кота испугались или нас учуяли. Лес ведь, чего ты хочешь!.. Гоняет! Кто в заказник полезет коз гонять? Дядя Игнат погоняет!
— Да что твой дядя Игнат… Дядя Игнат, дядя Игнат!
Максим еще что-то хотел добавить, но смолчал.
— Ну а тебе что он сделал?!
— Не твое дело.
— Ишь ты!.. Просто ты его боишься. Петли помнишь? А рогатку? Вот и боишься. Потому что пакостишь!
— Ну ладно. Нечего мне тут с тобой больше делать! — Максим забросил сумку за плечо и стал спускаться.
— Максим!
— Да пошел ты…
И Бахра куда-то запропастилась…
Вот тебе и пещера! Перлись, перлись… Ерунда какая-то!
Васька переживал. Солнце уходило к закату и еще больше щемило сердце: вечером одиночество угнетает человека сильнее, чем утром. Можно, конечно, еще засветло проделать большую часть пути, хотя бы марь пересечь, но уйти отсюда просто так — значит сдаться.
На сопке установилась полная тишина. И странно она действовала на Ваську. То находило на него спокойствие, и он чувствовал себя большим, сильным, то отчаяние, навеянное, наверно, странной смертью оленя, испугом лающих косуль, злыми глазами камышового кота, безоружностью перед этим серьезным и жестоким миром.
Немного погодя Васька пережил еще несколько неприятных минут. Но когда он понял, что сквозь заросли продирается не какой-нибудь зверь, а уставшая Бахра, вскочил, бросился ей навстречу и чуть не заплакал, обхватив руками ее шею.
— Бахра, вода… — в совсем слабой надежде попросил Васька. Он знал, что здесь, на вершине, не может быть воды, но солнце и переживания высушили его, и пить хотелось сильнее всего на свете.
Он понял, что Бахра ведет к мари, где полно ручьев. Иначе и быть не могло. И безропотно спускался за ней, потому что уже не было сил искать пещеру и даже думать о ней.
Но спускались они совсем недолго, почти и не спускались. Бахра вывела Ваську на тропу, оглянулась на него и, пробежав по тропе всего ничего, свернула опять вниз. А Васька подумал, что вот она, простая и легкая дорога на сопку, и нечего было переться через кустарники и чертовы колючки. Он стоял, не хотел спускаться за собакой. Бахра снова вывалилась на тропу, ткнулась Ваське головой под колено, посмотрела мутно в лицо. Васька пошел за ней. И то, что он увидел почти тут же — рядом с тропой, — не просто удивило, ошеломило его. Перед ним был колодец. Конечно, не такой, какие делают на улицах, — обыкновенная квадратная яма метра полтора глубиной, с ровным каменистым дном и такими же стенками. А вода! Не вода — золото! Ни мутинки, ни соринки.
Сначала Васька растерялся. Он подумал, что Бахра волшебница, что она и не искала воду, а показала фокус. Но волшебница смотрела на него жалобно и устало, бока у нее часто-часто вспучивались и опадали. Тогда Васька дрожащими руками развязал рюкзак, зачерпнул котелком воды и сунул ей.
— Пей, моя хорошая! Ну пей же!
Бахра лизнула ему руку. Будто суконкой деранула и отвернулась.
— Бахра, ну пожалуйста! Бахра…
Он смотрел, как жадно она лакала, как хотела, но не могла оторваться от узкого котелка. Потом пил сам. Он растягивал удовольствие: зачерпывал помаленьку, чуть-чуть, проглатывал зачерпнутое так жадно и бережно, словно это было последнее, самое последнее питье для него, пропавшего в пустыне. И снова черпал.
Успокоенный совсем, с раздувшимся животом, он повалился на спину, закрыл глаза и уснул — так легко и быстро, как, наверное, никогда в жизни не засыпал. Его баюкали тишина трав и кустов, тонкие посвисты подлетающих к колодцу птичек, мерное дыхание старой спящей собаки. Он спал и знал, что спит здесь, у золотого колодца с серебряной водой, рядом с доброй волшебницей Бахрой, недалеко от сказочной пещеры, где таятся клады и всякие чудесные неожиданности. Не было тревоги в его освобожденном от забот и переживаний сердце.
Тревога всколыхнула его мгновенно. Он проснулся одновременно с Бахрой и раздавшимся рядом треском.
Но Бахра не вскочила, лишь слабо шевельнула хвостом.
Солнце садилось. Последние лучи его еще освещали этот склон сопки, но уже совсем слабо, неохотно.
— Вот вы где! — громко и радостно воскликнул Максим. — А я вас у пещеры искал…
— Максим! — Васька обрадовался сильнее, чем мог ожидать. — Я думал, ты ушел.
— Ушел! Что же, я вас брошу, да?
Они сначала пили воду, поили Бахру, потом перекусили рыбными котлетами, покормили Бахру салом и снова пили воду. Хорошо было вместе.
— Ну, пойдем к пещере! — Максим стал совсем другим человеком. Совесть заела, или просто надоело издеваться? Такая мысль едва-едва различимо проскользнула у Васьки в мозгу, и будто не было ее. Зачем думать об этом! Вместе!
Васька вскочил. Еще не поздно было идти к пещере А Бахра выведет! И в темноте к дому выведет. Вот и не пропал день. Вот и…
Совсем рядом, или из-за тишины показалось так, что совсем рядом, — грохнул, прокатился вниз по склону и рассыпался вокруг трескучими искорками оглушительный выстрел.
Максим упал на колени. Ваське показалось, что его убили, но Максим тут же вскочил, перепрыгнул через колодец и скрылся за валуном. Бахра прижималась к Васькиной ноге и дрожала, злобно сморщив нос.
Улеглась тишина. Долго-долго было совсем тихо. Подошел Максим. Пропало его оживление, будто и не было.
— Я же говорил… Надо сматываться.
— Никуда я не пойду! — Васька боялся. Сильно боялся. Но что-то крепкое и жгучее появилось внутри. — Я узнаю, кто это! Я дяде Игнату скажу! Иди домой, иди…
Он вскинул рюкзак на плечи и полез вверх, туда, где было еще солнце и где было еще страшнее, чем здесь.
— Вась!.. Вась!.. — зашипел за плечом Максим. — Ну не спеши! Что ты так! Выследить надо. Потихоньку…
— Потихоньку! — сердито и взволнованно прошептал в ответ Васька. — Хочешь пулю в живот? Дядя Игнат говорит, что браконьеры на слух стреляют.
Максим остановился.
— Ты чего?
— Давай… Бахру подождем. Или… Знаешь что? Надо засесть у тропы. А?! Пройдут по тропе, мы сразу увидим.
— А если не пройдут?
— Ха! С мясом? По тропе, больше никак.
Долго ждали они, затаившись, как напуганные бурундуки. Стало темно совсем — еле-еле различалась, но казалась уже далекой лысая вершина сопки. Бахра спала, прижавшись к Ваське тугим теплым боком. Что-то легкое и быстрое мелькнуло прямо у лица и исчезло в вышине.
— Мышь! — заволновался Максим. — Сейчас попрут… Их в пещере…
Так неожиданно, без всякого шума появляется из-за угла дома трамвай… А когда уже появился, в уши врывается звон и гулкий шум.
Ребята вжались в холодную траву.
— Молчать! — едва различил Васька голос Максима. Бахра напряглась. Только бы не залаяла!
Сколько их было — понять трудно. Тяжелые шаги и приглушенные, отрывистые голоса. Все ближе:
— Хватит гнать! Давай к воде. Да куда ты! Вот здесь…
И совсем рядом — поступь. Грузная. Серьезная. Вот и вскочи, крикни. Что крикнуть? Стой? Руки вверх?
…Только бы не наступили, только бы Бахра…
— Не бултыхнись! Что, не видишь, что ли?!
— Да ладно тебе! Вижу…
— Кончайте лаяться. Базар устроили. Давайте по-быстрому.
— А чего спешить! Чайку заварим. Кого трусить-то!
— При чем тут трусить. Ближний свет, что ли?
— А! Только до машины…
— Ты еще доберись до машины. Спины не разогнешь…
— А еще хотел второго! Опять бы бросили, как того.
— Заткнись. Бросили! Ты же и бил.
— Ну хватит… Ты, я… Спички где? Да чего — не надо! Пять минут — и закипит.
Все-таки разожгли костер.
Ваське казалось, что до него доходит тепло ровного желтого пламени.
Костер разгорался. Около него колыхались тени — странные, неясные.
— Давай поближе! — подтянувшись, шепнул Максим. И каким-то непонятным бесшумным зверем скользнул мимо Васьки. А Васька не смог. Струсил? Силы не стало. Ни подтянуться, ни оттолкнуться.
Бахра тоже поползла мимо него.
И все-таки Васька пополз. Он старался не смотреть вперед, потому что, как во сне, думал, чувствовал: подними голову — и тебя увидят.
— Куда ты! — вроде закричал Максим. Нет… Это он в самое ухо… — Сейчас как врежу!
— Что там все шуршит? — донеслось от костра.
Словно глыба льда придавила Ваську.
— Пойди и посмотри!
— Убегай по тропе! — продышал в ухо Максим. — Что есть духу. Приготовьсь!
Стало жарко. Васька хотел что-то спросить. Или сказать. Но во рту пересохло. Ему показалось, что он загорелся от близкого костра.
Потом была секунда ужаса: Максим вспыхнул!
Васька чуть не закричал, увидев, что он даже приподнялся — весь в пламени, будто бензином облили.
— На! — полоснул слух резкий вскрик. И Максим перепрыгнул через Ваську, упал, вскочил, и только треск пошел, все удаляясь и удаляясь. Васька уже бежал сам, ударяясь коленом о тяжелую Бахру. Он не оглядывался. Боялся оглянуться. А ноги вязли, чужие, немощные.
— Сюда! — весело прокричал Максим сбоку. — Ну, живой? Молодец! Будут теперь знать.
Они перебежками двигались по тропе. Сзади было тихо. И уже потом, много времени спустя, когда пересекли марь и при свете луны вышли на вязкий зимник, Васька будто проснулся.
— Что ты сделал? — спросил он Максима.
— Когда? — удивился тот.
— Когда! Сейчас, на сопке!
Максим остановился, повернулся к нему и вдруг захохотал.
— Ну! ты! даешь… Не понял?! Правда?! А чего, а?! — И совсем зашелся в визгливом хохоте. — Да я горбоносому, — отдышавшись, сказал он, всхлипывая, — ножом в лоб врезал. Навышиб!
— Ножом? — не сразу переспросил Васька. — Ножом?!
— Рукояткой! Во будет клоун!
Васька шел как в тумане.
Тяжело идти ночью, даже при луне, по такой дороге.
Бахра отставала.
Встреча
Словить бы всех-всех на свете комаров в один мешок, привязать к нему каменную глыбу величиной с дом и бросить в океан!
Васька представляет, как медленно уходит в нутро таинственно мрачного океана необычный садок с распищавшейся тварью, как шарахаются от него перепугавшиеся акулы и киты.
Только злобный и бесстрашный осьминог рванулся навстречу неизвестному врагу, обхватил жесткими лишаистыми щупальцами и ударил закостеневшим клювом.
И полезла в дыру гнусь, замутила миллионами желтых телец светлую бесконечность воды. Испугался осьминог за свою ошибку, сжался — и камнем на дно, в бурые скользкие водоросли. Возликовала только всяческая рыбья мелкота — пожива! Набивай пузо задарма!
Но разве пережрешь всю эту подлую рать? Вон сколько уцелело. Притаили дыхание, поджались — дальше некуда и понеслись обратно, к солнцу, к Ваське…
Васька аж застонал от огорчения. Подумал: не топить надо было мешок, в костер бросить. Или в пещеру, что на Синьке. Потом дустом засыпать, а сверху забетонировать. Опять же… пещеру портить.
Он сбросил с головы корзинку. Спасет, что ли, щелястая!
Насмешка какая-то над человечеством! Ни медведи, ни тигры так не донимают: боятся мужика, уважают силу. А эти вот до слез доводят, хоть домой беги.
Васька шел по зимнику. Тому самому, что ведет в сторону Синьки. Дорога малость подсохла — опять нет дождей, опять маета лесникам…
Давно уже не возят отсюда лес. Возить нечего. На опустошенных делянах кучками теснится березовая и сосновая мелкота, да кое-где появился орешник по колено. А пни — дай бог! Вот порушатся они от дождей и морозов, превратятся в землю, и забудут люди, что здесь когда-то тайга шумела. Отец вон что говорит! Люди помнят все города, что древние враги сожгли, ищут всякие сведения о них.
Да что города! Соборы, дома — и те срисованы, описаны. Память дорога! А вот об этом, что было здесь раньше, что росло, жило, — кому помнить? Кому это дорого? Конечно, соборы люди делали, труд их уважать надо. Лес сам рос… А никому в голову не приходит, что сведения о нем столько бы пользы принесли! Ведь не все растет, что из земли проклюнулось. Где сосна должна стоять, нечего туда елку пихать, толку не будет — не ее это место. Если природа сотни лет каждому растению место выбирала, жилплощадь для него готовила, то надо с этим считаться. Надо поосторожнее саженцами разбрасываться. Что зря губить их. Если сравнивать, говорит отец, то это как бы негров или турок на Чукотке селить, а эскимосов в Индии. Насилие.
Конечно, трудно, волокитно подробные описи делать — не каждого гектара, а каждого бугорка, каждого клочка тайги. Но зато потом здорово бы это откликнулось! Здесь кедр стоял? Сади кедр! И попрет он на радость всем! А то бьются, бьются сейчас лесоводы, где половина посадок на корню засыхает, а где и больше — почти все.
Ну сейчас еще ничего. Ученые за лес вступились. На делянах велено лучшие участки леса не трогать — оставлять для осеменения пустошей. Только на нервах все это: кто оставит, да то, что брать не хочется, кто — под метелку. Забыл, мол. Штрафом отделается. Штраф-то не из своего кармана… Забыл, говорят, так будь добр — засаживай деляну! О, строгости начались. Засаживают! А что толку? Отец говорит, таких палок навтыкают, что плакать хочется.
…Васька и не заметил, как дошел до ориентира — брошенной лесорубами прогнившей будки на автомобильных колесах. Возле будки — горы наваленной бульдозером земли. Площадку под эту будку готовили… Все заросло полынью и колючником.
А вон там, за виляющей лентой зелени, укрывшей широкий ручей, начинается марь. Единственное до самой Синьки место, где деревья не тронули. Невыгодно было их брать. Редки они на мари — трелевать замучишься.
Васька добрался до ручья, напился прохладной желтоватой воды и стал искать брод. Повезло! Мостик на шел. Два шага — и на той стороне. Ни разуваться, ни обуваться.
Марь открылась вся сразу, длинная, почти в километр и шириной метров в триста. Дохнуло теплой свежестью: будто тот же воздух, прокаленный льющимся сверху жаром, да и не тот — не застойный, а вольный гуляющий свободно по этому километровому пространству, собирающий в укромных уголках влажного травянистого поля все запахи и остатки прохлады.
Прибывшие с Васькой комары растерялись и бросились врассыпную. Но рано обрадовался он! Из травяных зарослей поднялось облако местных крылатиков — крупнее и злее прежних. Васька чуть не бросился бежать обратно. Но что-то невероятное произошло над его головой. Он сначала ничего не понял, даже присел от испуга. Было чего испугаться! Да еще неожиданно… Если стая ворон разом заорет во все горло, словно в кипяток попала, перья посыпятся черным снегом, тут и взрослый присядет. Оказалось, сокол на ворон напал. Один на всех! Крылья у него легкие, резвые. Истребитель среди бомбардировщиков! Вот уж крутился этот дерзкий самолетик! Вверх, вниз, между лохмами широких черных лопастей. Чем же они его вынудили на это? Вороны! Черные души. Небось гнездо соколиное разорили. Так вам и надо!
Воронья стая пробивалась к Синьке, где можно было укрыться в ветвях. Васька следил за ней долго-долго. До того было это интересно, что иногда, в какую-то секунду, ему казалось, что не сам видит птичий бой, а по телевизору или в кино показывают. Потому что слишком уж интересно и складно. Небо ясное, высокое, каждую ворону видно почти до перышка, видны кривые лезвия на лапках сокола. Это когда он, ударив ворону, теряет скорость и начинает набирать высоту. А жертва отделяется от стаи и кувыркается до самой земли. Потом летит низко-низко, и уже не к Синьке, а куда попало.
Васька был за сокола, но все же с облегчением проследил, как скрылась в недоступности стволов и сучьев последняя стонущая птица, и только тогда опустился на колени.
Он знал, что не вернется домой без ягоды. Но когда увидел густую сыпень дозревающей, зрелой, перезревающей голубики, замер, придавив чуть было не вырвавшийся из груди вопль. Ему захотелось убедиться, что не только здесь, под ногами, но кругом — по всей мшистой площади мари — застыли голубые ягодные волны. И он долез вперед, натыкаясь на разлапистые, отяжеленные крупняком матерые кусты. Под самым приметным оставил мешающую корзину, с пустыми руками двинулся шибче, хватая на ходу упругие, покрытые сизостью скученные плоды. Он набивал рот до отказа, жалел, что не прихватил с собой хлеба — был бы совсем рай.
Он дал огромный круг, насладился сознанием, что первый проник в опышневшее угодье. Что ему достанется самая крупная и сладкая ягода.
Первую ягоду и брать-то приятно. Круглый плотный лист голубичника сидит на еще живой, крепкой шейке, не осыпается в совок битой рыбьей чешуей. Если и попадет в корзину малость, то это старый лист, отмерший с начала лета. Выбрать его — пустяк, и не здесь, а у ручья, где и сполоснуться, и напиться можно.
Васька отстегнул от пояса батин дюралевый совочек. Совочек любому под руку — легкий, с оттяжкой назад, чтоб взятая ягода в него затекала, а не сыпалась на землю. Зубья из тонкой нержавейки. Отец знает, какой длины их делать. Это тоже важно. Удлинишь — гнуться будут, скоротишь — много не захватишь. Ручка также важна. Поперек совка, как дужка у ведра, она, когда низко посажена, заставляет тебя давить рукой ягоду. А высоко слишком сделаешь — совок гулять в руке будет, колебаться как маятник.
Но Васька не думал сейчас об этом, он привык к этому хорошему совочку давно. Скребанул несколько раз — полный! Сыпанула на дно корзины хорошая порция голубой сладости. Это тебе и варенье, какого поискать, и компот знатный.
Ух и ловкий совок! Сам! Сам подныривает под тучные кронышки темно-зеленых кустиков. Прочесывает их стальными зубками. Сам, отяжеленный. ягодой, взлетает над корзиной и опрокидывается. И корзинка дружна с ним! Заплясала, заиграла вокруг лучших кустиков, вошла в азарт. Васька будто бы только наблюдал чуть со стороны за славно сработавшейся парой. При этом он успевал окидывать быстрым взглядом застывший простор вековой мари, вытирать промокшим рукавом разгоряченный лоб, шлепать ладонью но опухающим от комарья ушам.
Странный шорох за спиной дернул его будто током Брызнула голубая струйка не удержавшейся в совке ягоды.
Зверь и человек уставились друг на друга. В глазах зверя плескались страх и жадность. В глазах человека была радость встречи.
Старый бурый енот тащил еще живую ворону. Видно, предсмертная возня птицы мешала ему ощущать пространство, а азарт от легкой добычи лишил обычной осторожности.
Васька не хотел ему зла, но и встреча была хороша! Вот сейчас, сейчас… юркнет в куст — и будто не было его. Разве всегда подумаешь, прежде чем сделаешь… Прыгнул Васька вперед — хоть тронуть его, пушистого. Запомнить, какая она на ощупь, эта маленькая дикая собачка.
Енот взвился свечой, ударился спиной о валежину и, взвизгнув от боли, уже не поднялся. Он лежал грудью на подломленных передних лапах с открытыми глазами, в которых не было уже ни страха, ни жадности — пустота.
В это время трепыхнулась очнувшаяся от смертельного сна неудачливая ворона. Заворочалась, стараясь встать на ноги, но сквозь глубокие прокусы в шее хлынула светлая кровь, уносящая остатки совсем уже слабой жизни.
Васька и верил и не верил в гибель енота. Он знал, на что способны эти хитрецы. Но старик мог умереть и от разрыва сердца. Зря пугнул, зря… Долго Васька разглядывал его — и любуясь, и жалея. Взял сучок, провел им по спине. Не шевельнулся. Ударил. Сначала тихонько, потом сильнее. Нет. Все… И уже смело ухватился за крепкую лапку, потащил к корзине. Что ж теперь! Чучело дядя Игнат сделает… Это тебе не бурундук. Такое чучело и в школу отдать не стыдно.
Звенели комары, пекло солнце, а Васька все гонял и гонял совочек по зеленым гребням волн.
Наконец он приторочил к поясу потрудившийся на совесть совочек, обвязал марлей чуть раздавшуюся корзину, чтобы не расплескать добытое на пнях-колодах, и направился к еноту.
А того и след простыл! И не просто исчез, лукавый, прихватил с собой и ворону.
Васька так и сел. Елки-палки!
Успокоился он не скоро. Но все-таки успокоился. Пусть живет! Нет, а какая выдержка!
Брюхатая корзина все руки оттянула. Эх, собирался короб сделать! Сделал… Шел бы сейчас себе, размахивая руками…
Кое-как дотащился до знакомого ручья. Чуть выше, за поворотиком, жердевый мостик. Но — куда спешить! Сунулся Васька к воде — в горле совсем сухо. Вот те на! А в яме, под самым берегом — пара ленков! Как уж они его не заслышали, не завидели — шут его знает. Стоят!
Да ленки-то! По локоть. Вот тебе наука! Удочка карман не оттянет. Все должно быть у лесовика. Все!
Не стал Васька пугать осторожную рыбу. Мысль мелькнула: можно прийти. А что! Прийти специально, может, их здесь вообще полно.
Смотри, что получается. Не будь разиней, мог бы принести домой корзину ягод, енота, ленков… Аж сердце заныло у Васьки.
Да что теперь… Пошел к мостику. Глянул в сторону — что-то желтеет в траве. Подосиновик! Здоровый, чистый! Куда его теперь… А вот еще и еще! Вот день! Вот невезуха!
В рубашку? Комары зажрут. И еще… И еще… Завтра! Обязательно! Подумаешь — далеко! Ну и что?
Васька раздвигал ногами траву и везде натыкался на оранжевые шляпки. Высыпало гриба! Так, нечаянно, поддел он комелек толстого сухого прута. Вот и удилишко!.. А удилишко-то — с леской.
Васька оглянулся, словно не нашел, а украл… И поплавок, и крючок! А поплавок… его! Васькин! Точно Конечно, дяде Игнату сделал как-то. Из старого веника. Вот и петелька из тонкой проволочки, и резинка, отрезанная от красной трубочки.
Червей он наскреб тут же, задрав полу травянистого берега. В плотной темной земле их было что в банке. Одного сразу же отправил на кованый крючок, остальных закутал в мохнатый лопуховый лист и сунул в карман.
Выглянул из-за куста — стоят! Сдвинулись, будто шепчутся.
Шепчитесь!
Булькнул в воду и сразу малость побелел вьющийся червяк. Понесло его течением. Мимо бы пронесло, да Васька не простак, направил куда надо. Заплясал он под самыми мордашками удивленных рыб. Примяли они червяка без суеты, не прерывая бесшумной беседы.
Васька знал, как выводить добычу — по течению, сначала подальше от берега, чтобы не напугать оставшуюся в одиночестве рыбину. Остановил заупиравшегося ленка, положил удилище и стал выбирать тонкую лесу. Спокойнее! Спокойнее! На! — вымахнул из воды красивую рыбу. Прижал рукой. Тише…
Снова выглянул из укрытия. Пусто!
Он надрал высокой травы, смочил ее в воде и прикрыл толстолобого ленка. Нежный! Не карась. Тот сутки на песке под солнцем проваляется, а брось в воду — пойдет.
Надо искать в других ямках…
Когда он, ощущая в руке приятную тяжесть шести ровных, словно братьев, ленков, вышел из-за поворота, впереди, где должна быть корзина с ягодой, что-то заворочалось. Васька не испугался, но сильно встревожился. Остановился в нерешительности. Хоть бы палка какая… Да что и с палкой, если…
Васька взвизгнул. Как смертельно испуганный енот. Прямо на него несся волк.
— Б… б-ббахра!
Лайка стукнула его лбом в ногу, села и задышала часто-часто. Глаза ее смеялись и радовались.
— Теть Вер! А я думал… Такую даль! Как вы…
— И! Даль… Я эти дали тыщу раз обходила. Даль! За грибами я и за Синьку ходила. Не веришь? Иван-то мой был ходок! До смерти затаскивал. Всегда с собой брал. Это уж потом, когда Максимка появился, домовничать стала. А уж втянулась гулять-то! Когда и с Максимкой, малым еще, упрусь не ближний свет. Какая тут даль-то! Туда-сюда — и солнце еще не село. А с Бахрой и вовсе не одной, правда, Бахра?
Собака посмотрела на нее укоризненно и улеглась у ног.
— Тебя она давно почуяла. Не чужой, думаю, коль спокойно чует. И словно зовет к тебе! Чужого-то обворчит. А потом гляжу — корзинка. Славно ягод взял! Чего ж Максима не позвал?
Васька замялся.
— Ну не таи… Что он дурачок, так я и сама знаю. Нет, умный пацан-то, только верткий уж больно. Изменчивый. К нему с лаской — все для тебя сделает. А чуть что — затаится и будет мстить. В отца, верно. Чего уж тут непонятного.
Васька присел рядом, стал гладить Бахру.
— А ведь она тебя любит! Максима — нет!
— Хорошая…
— С хорошими хорошая. А сколь она меня от дурных защищала! Да ладно. Забыто уже! Иван ее сильно прибил… Злобу срывал. Вот непутевый.
Васька страдал от этого откровенного разговора. Он чувствовал, что мал еще постигать заботы и горести взрослых, а потому не поднимал глаз. Гладил и гладил горячую спину задремавшей собаки.
— Стара уже. Стара… Не охотница уже. И щеняток не оставила. Какие бы щенятки были! Тебе бы одного, Игнатке парочку. Тот собак любит! Да не ведутся у него все. То пришибут специально, то утащат. Вот маетной человек! Просто сталистый какой-то… С Иваном такие друзья были! С малых лет. Да вот один прямой, а другой — гнутый. Уж и так он Ивана и сяк. Подобру все, по-человечески. Не понимал по-человечески… И все ж не Игнат Ивана милиции отдал. Не он. А тот как озверел. На суде все куражился: пришибу, мол, как выйду, дружка поганого. Только он, мол, видел меня с сохачом. Выследил! А Игнат-то выследил, но сначала ко мне явился. Вот, мол, так и так, Вера, сажать я его не буду, но и мне здесь не жизнь. Нарочно ведь душу рвет, а обещал… А как Ивана посадили, ссох совсем. Все в работе, в работе. Приходит к нам будто виноватый в чем. Максиму-то, сопляку, наговорили на Игната.
Тетя Вера вытерла платком глаза. Совсем как старушка, а ведь молодая, не старше Васькиной матери.
— Ты… Что это я… Грибочков вот набрала! — оживилась она. — Эх и хороши! Ты-то что не берешь? Гля, ступить негде, красно! А вот масленочек! Попался! Встопорщил листочек и стоит себе. Одинешенек. А осиновиков много… Много осиновиков. Полежи, Бахра, полежи еще, милая, скоро пойдем.
— А я, теть Вер, ленков напластал! Ух сколько их тут! Только не донести. Ягода ведь еще.
— И! Отыскал беду! Пустому тяжело идти, а с добычей — куда как радостно. Я тебе подмогну. Бери грибов-то, справимся! На сетку-то. Так прихватила, без надобности.
Васька прикрыл травой рыбу и нырнул в кусты.
— Осиновик здесь хорош! Чист и духовит. — Тетя Вера срезала яркие шляпки и совала Ваське в сетку. — Да что ты! Куда их мне, вон сколь натоптала! Да! Вась! Забыла сказать-то! Я здесь горностайку видела. Уж такой милехонький! Шустрячок. По бережку носился. Как подкушенный. Выискивал чегой-то. Бахра спугнула, а то бы и тебя порадовал, забава. Во! Гля, какой щелкунчик! Жалко рвать. Только высунулся, несмышленыш. Не, не буду. Детеныш совсем. Всех не побрать, а, Вась? Потом ты его хряпнешь… с Максимкой. А что! Не для красоты ведь выставлен. Пользу давать должен. Все для пользы, все. Что слон, что комар.
— Комар? — засмеялся Васька. — Уж конечно!
— А что! Ты погоди смеяться! Он и лягушек, и рыбу питает. Ты его личинок-то видел? Не? То-то! Теми червячками столько рыбы кормится! Вот попроси Максимку, он покажет. Или где-нибудь поворошите, полно червячков комариных.
Васька ласково посмотрел на побуревшего от его крови комара, стряхнул:
— Лети, зараза, раз такой полезный!
Но тут же звякнул ладошкой себя по уху, заскоблил ногтем зудное место.
— Хватит, тетя Вера, некуда уже!
— Ну и ладно! Попьем давай и пойдем потихоньку.
Возвращались они довольные удачным днем. Часто садились отдыхать. Бахра тут же ложилась возле ног и, засыпая, беспомощно дергала тяжелой головой.
— А какая охотница была… Зайца загоняла до упаду. Сколь к крыльцу перетаскала! Всяк зверья характер изучила. Уж на что рябок дикой. Собаки не переносит. Чуть что — фыр! А эта и рябка на месте удержит. Знает, чем его заинтересовать, подивить. А уж на топтыжку и сохача первая была заводила. Собаки ее слушали, потому и целы были. Дураков-то звери сразу рвут. Да… Время. Крольчаток вон лижет. Жалость какая-то в ней появилась. Не охотница уж, нет! А дороже мне почему-то. Характера не стало, ума прибавилось.
К Песчанке они вышли к раннему вечеру. Намаялись с такой поклажей. Один бы Васька и дольше шел: тетя Вера мало давала ему корзину нести, а ведь в ней вся тяжесть. Бахра все чаще ложилась, набиралась сил, а потом догоняла.
У реки она отчего-то затревожилась, стала скулить и токаться хозяйке в ноги.
Тетя Вера как-то странно взглянула на Ваську, поставила корзину:
— Давай-ка отдохнем как следует… Успокойся, чего ты, дуреха такая!.. Дома уж поди. Придем скоро!
— Люди вон… — Васька и сам заволновался ни с того ни с сего. — Неладно что-то.
Бахра встопорщила загривок, присела, но тут же сорвалась с места и тяжелыми прыжками понеслась туда, к косе, где суетились фигуры мужчин.
— Ба-а-ахра! — неожиданно звонко и отчаянно закричала тетя Вера. Но тут же голос у нее сел. — Догони, Вась… Верни…
Васька резво догнал быстро уставшую Бахру, на ходу толкнул ее в путань прибрежного тальника. Но она и не обратила на него внимания, выправилась, выпрыгнула на тропинку и скоро уже была рядом с людьми.
Васька обрадовался, увидев среди них Балашова.
— Дядь Игнат!
Бахра жалась к ноге егеря, скалила зубы, словно охраняла его от разъяренного зверя.
Балашов, казалось, и не заметил Ваську, размахнулся и ударил прикладом новенького ружья о торчащую из песка корчу. Полоснули желтые брызги щепы. Еще одно ружье в руках у егеря.
— Дядь Игнат!
Приклад обломился по шейку.
Их было четверо, одетых по-охотничьи — в выцветшие брезентовые костюмы и раскатанные бродни, возбужденных, раскрасневшихся мужчин. Васька узнал только одного — высокого и плотного, с властным длинным лицом — инспектора ГАИ Белова. Он бывал в поселке часто. Во время хода красной рыбы дежурил на дорогах с работниками рыбоохраны. Один из четверых был еще крупнее Белова. Выпуклые глаза, с сильной горбиной нос. Всклокоченный какой-то, словно очумевший. Он держал в руках карабин Балашова. Держал за ствол как палку, будто собираясь ударить им подходившего егеря.
— Купишь! Ружья ты нам купишь! — горбоносый оттягивал карабин за спину. — В зубах принесешь… А вот карабин… Убери собаку — пристрелю!
Бахра вцепилась ему в сапог, рвала и захлебывалась злостью. Горбоносый пятился, отмахивался от нее прикладом, то пропуская нужную секунду, то угадывая ее…
Балашов изловчился и вырвал у него карабин.
— Ни с места!
Что-то говорил сидевший у костра Белов, кто-то кричал от машины. Женщина вроде. А двое торопливо прятали в мешок мокрый капроновый невод. Васька видел все сразу и почти ничего не видел. Сердце стучало часто и сильно, как тогда, когда бежал за Максимом с сопки.
— Вась, — сказал Балашов, не спуская глаз с горбоносого, — поснимай цевья.
— Я поснимаю! — Горбоносый метнулся к побитым ружьям. Балашов выстрелил.
Белов улыбался.
Бахра прыгнула на горбоносого, сорвалась с него и ударилась грудью о песок. Медленно-медленно стала она подниматься на передние лапы. И тут со страшной силой опустились на ее голову вороненые стволы.
Васька закричал и бросился к собаке.
Кто-то оттаскивал его, держа поперек тела. Он кусался, вырывался, хрипел.
Балашов швырял в реку тяжелые рюкзаки. Горбоносый скатился за ними в воду и что-то кричал оттуда Белову. Белов смотрел на костер.
— Ну… Что ты… Успокойся! Вась… Вот господи…
Машины уже не было. Дымился затухающий костер.
Балашов и тетя Вера сидели перед Васькой на корточках. Тетя Вера плакала.
Бахра лежала на животе. С кончика закушенного языка редко-редко капала густая кровь.
Почти до захода солнца о чем-то тихо говорили взрослые. А Васька гладил Бахру, пытался приподнять ее, все еще надеясь, что она проснется. Он бы понес тогда ее на руках. До самого дома.
Похоронили ее в черной земле. Под черемухой. Балашов притоптал землю, засорил сверху листьями и обломышами сучьев.
— Рыба стухла! — всплеснула руками тетя Вера. Может, это и вправду огорчило ее, но Васька удивился ее заботе. Ему и ягода была не нужна. Корзину понес Балашов. Тетя Вера — ведро и сетку с грибами. Васька вцепился в карабин. Он нес его, сильно прижимая к груди, и все оглядывался: казалось, что Бахра догонит, ткнется головой под колено.
Но Бахра — не енот. Не притворилась в трудную минуту.
— Эх, поднесло же тебя! — вздохнула тетя Вера. — Все тебе надо заметить…
— Ладно! — сдержанно ответил егерь.
— Да где уж там — ладно! Теперь начнется. Не мытьем, так катаньем… Сживут!
— Посмотрим.
— Эх, Игнат! Посмотрю на тебя! Стареешь, а все не склизкий какой-то. Другой бы на твоем месте давно с портфельчиком по городу ходил, а ты вот каждый день в боях.
— Склизкий! Это что… лизать им, что ли?
— Ну вот… Васька же рядом!
— Не вынуждай.
Но тетя Вера молчала недолго.
— Все ж не какие там… Милиция. Можно было и по-мирному. Сильно уж ты строг.
— В меру.
Тетя Вера говорила всю дорогу, но Балашов уже не отвечал ей.
— Ты, Вась, шибко за Бахру не переживай! — Тетя Вера потянула было к себе карабин. Васька дернулся, вырываясь. — Устал ведь! Дай немного пронесу… Ну как хочешь. Не переживай, говорю. Повезло ей! Чего там, конечно повезло. Сам суди: старая дальше некуда. От старости ни таблеток, ни уколов. Так бы и мучилась, загибалась. Вон как бежала сегодня! Еще бы немного — и упала насовсем. И не мучилась ведь. Враз смерть приняла. Легкая смерть. И хорошая… Правда, Игнат?
— Правда…
Еще издали они услышали, как кричит голодная Машка.
Балашов поставил на крыльцо корзину, тетя Вера прислонила к ней сетку с грибами.
— Приходи к нам, Вась…
Васька кивнул и заплакал.
Тетя Вера пошла к калитке.
— Вера! — Балашов догнал ее. — Ну вот еще! — услышал Васька его растерянный голос. — А еще Ваську уговаривала.
Вернулся он не скоро. Васька все еще сидел на крыльце.
— Пойду травы накошу. — Дядя Игнат взял косу и пошел было, но вернулся.
— Вась, не знаешь, откуда у них вот это?
На ладони егеря лежал охотничий нож. Тот самый, что Максим украл у дяди Игната.
Темнело. Синька еле проглядывала из густоты вечернего воздуха.
Рыжий черт
Это была самая плохая неделя лета.
Не ходил больше Васька ни по грибы, ни на рыбалку. Пропало в нем что-то. То, что заставляло сильнее биться сердце в ожидании нового дня, что окрашивало каждую тропинку, каждый уголок лесной округи в сказочные, волшебные цвета.
Дядя Игнат вдруг стал курить. Он тоже почему-то отсиживался дома, в тайгу уходил изредка и поздно, а возвращался рано. И так был худой, а тут совсем осунулся.
Васька спускался к нему с чердака. Сидели на крыльце, молчали.
Ломалось что-то в Васькиной жизни. Он чувствовал, что скоро случится новая беда. Да и не чувствовал — догадывался. Отец, приезжая из лесу, сразу шел к Балашову. А возвращался домой хмурый, молчаливый.
Легкая, приятная жизнь приносила Ваське такие же сны. Теперь сны его мучили, давили кошмарами. Он просыпался и в свете луны видел из слухового окна ясную и таинственную вершину Синьки. Чем больше смотрел на нее, тем больше ее боялся. Ему казалось, что сопка приближается, надвигается на него — со всеми своими ночными ужасами. Он хотел нырнуть под одеяло, но ноги словно прирастали к шлаковому полу. А вершина сопки все яснела. Что-то двигалось по пей — странное, непонятное. То ли люди, то ли привидения Потом на вершине появлялся пятачок света. Сначала тихонько, потом — быстрее и быстрее скользил он вниз, спешил к Васькиному дому. Взлетал по бревенчатой стене и холодный, нестерпимо яркий приклеивался к Васькиному лицу.
Васька снова просыпался и с облегчением понимал, что первый раз просыпался во сне, а на самом деле спал. Теперь он не то что боялся, просто не хотел подходить к окну. Но пересиливал себя. В свете луны Синька казалась огромным островом в океане. Васька смотрел на нее не отрываясь. И тут, уже не во сне, а наяву, сопка начинала приближаться, до тех пор, что становились видимыми корявые стволы дубков и блестящие шины чертова дерева. Васька деревенел от ужаса.
Потом он просыпался и, вспоминая все это, долго лежал под легким одеялом. В окошко светила полная луна. Было тихо — к утру коза переставала ссориться с курами. Не было и ветра. Васька успокаивался, постепенно сои превращался во что-то рассыпающееся, исчезающее. Окно так и притягивало Ваську. Наверное, ему все-таки хотелось убедиться в себе, в том, что приснившиеся ужасы не убавили в нем смелости. Васька, ежась от ночной прохлады, шел к открытому окну. И тут же сжимался от страшной неожиданности: сопка стояла почти у дома и с ее вершины бежал к Ваське ясный зайчик…
А когда приходил день, Васька был почти больной.
В субботу он спустился с чердака в полдень. Отец с Балашовым стояли у калитки. Дядя Игнат куда-то собрался: был в костюме, грустен, будто перед долгим расставанием.
— Что привезти тебе, Вась? — егерь смотрел на него изучающим и соболезнующим взглядом. — Крючков не надо? Или учебники?
— Да когда тебе там ходить! — возразил отец. — До крючков ли будет!
— В общем-то — конечно… Кто это?
Тут и Васька увидел спешащего к дому человека. Знакомая походка… Катится как колобок.
— Привет, мужики! — издали прокричал колобок. Сосед! Дядя Коля.
— Не прижился в городе? — поинтересовался Балашов.
— П-пошел он! Там это… В релке машина сломалась. К вам, наверное, едут. Вроде Титков. Еще кто-то. — И пошел, видимо не желая расспросов про свидание с осевшей в городе женой.
— Вот и съездил я! — вздохнул Балашов. — Пойду встречать.
— Вместе пойдем. Может, им помочь надо. — Отец вышел за калитку. И Васька следом увязался. Шел себе, томимый нехорошими предчувствиями.
Машина стояла совсем рядом, за деревьями. Возле нее, на новенькой палатке, сидели трое мужчин в светлых рубашках с засученными рукавами. Четвертый, конечно же шофер, снимал с «газика» переднее левое колесо. Этот был в клетчатой рубашке и простых поношенных брюках.
Приезжие разом поднялись. Пошли навстречу.
— Здравствуйте, — еще не поравнявшись с ними, сухо сказал Балашов.
— Здравствуй, здравствуй, Игнат Степанович! — приветливо откликнулся самый маленький и полный начальник. Энергично протянул егерю короткую загорелую руку. — Познакомьтесь, товарищи! Лучший егерь — Игнат Степанович Балашов. А вы, извините… А! Очень рад! — И маленький начальник так же шустро пожал руку Васькиному отцу.
Гости заметили и Ваську, спрятавшегося за спину отца, извлекли его оттуда, стали так же, всерьез, знакомиться. Только Васька от непривычности и смущения сразу же забыл их фамилии. Ну, кругленький — это Титков, ясно. Директор заказника. А этот — молодой, рыжий? Здоровый какой! Штангист, наверно. Третий — серьезный. Высокий, сухощавый. Волосы черные с белыми пятнами. Как сорока. Приглядывается к Балашову. Ишь прищурился!
Титков отчего-то развеселился. Хотел подхватить Ваську на руки, но промахнулся — Васька все равно юрче — и погрозил ему пальцем.
— Анатолий, — сказал Титков серьезному. — А ведь он твоего Костика шмякнет! Ей-богу шмякнет! Нет, ты посмотри, какие плечики, как чугунные! И это, заметь, не от гантелек, а от матушки-природы. Эх, зря Костика не взяли! Сейчас бы от него пух полетел!
— Мне кажется, он и тебя шмякнет! — ухмыльнулся дядя Толя, тут же снова посерьезнев.
Титков сразу загрустил, рассеянно похлопал себя по выпуклому животу и вздохнул. Молодой засмеялся и пошел к машине, где еще возился с колесом равнодушно поглядывавший на всех шофер.
— Ну куда же ты собрался? — спросил Титков.
— На расправу! — буркнул Балашов. — Куда же еще!
— Вот! А расправа — к тебе! — Титков снова засмеялся, словно не замечая мрачного настроения егеря. — Небось специально дорогу попортил? А гвоздей не набросал?
— Не успел… Что с твоей клячей?
— Ну-ну! — Титков обиделся. — Кто же так с начальством разговаривает!.. Кляча! Да ей, если мосты поменять, да кузов, да двигун, цены не будет!
Все засмеялись. Балашов и то улыбнулся.
Балашов пошел к машине.
— Куда ты, в костюме-то! — крикнул вслед Титков, но егерь, казалось, не слышал его. Уже у машины обернулся:
— Иваныч! — Васькиному отцу. — Веди их ко мне. Шоферу помогу. А то, чего доброго, еще ночевать останутся.
Васька не понял — пошутил или всерьез.
Васька тоже пошел к машине и слышал, как, удаляясь, смеялись мужчины.
Рыжий лежал на палатке, уставившись широко открытыми глазами в стесненную кронами деревьев голубую речушку. Васька тоже посмотрел вверх. Ничего там не увидел и подумал, что лучше бы добрый молодец помог отремонтировать серьезную машину.
А Балашов уже лазил под ней и все перещупывал испачканными руками.
— Дай-ка шестигранник! — попросил шофера. Закряхтел по-стариковски, откручивая углубленный болт. — Мост… сухой. — Швырнул ключ к ногам шофера.
— Заливал…
— Заливал! Масло-то есть?
— Посмотрю…
Заливали масло по скрученной в трубочку газете. Оно было густое, втекало в отверстие медленно, неохотно. Балашов помогал ему прутиком, сердито сопел.
Потом собрали палатку, полезли в машину. Балашов решительно сел за руль, шофер, надувшись, устроился рядом с ним, а Васька и рыжий просторно расположились на заднем сиденье.
Егерь все клонился ухом к полу. Машина переваливалась из ямы в яму, потряхивалась на толстых корнях.
— Пищит! — довольно заметил шофер. — При чем тут мост…
— Сиди уж! Масло не разошлось.
И впрямь: на выезде из леса писк пропал. Балашов мельком взглянул на отвернувшегося шофера и, откинувшись на спинку, прижал педаль.
Гости ждали у крыльца, в дом не входили.
— Ну что я тебе говорил! — подскочил к Балашову Титков. — Кляча! Зверь! Ишь летела, что птица! В чем дело-то было?
Он радовался. Видно, без машины ему было так же плохо, как соседу дяде Коле без жены тети Зины…
— Кто его знает! — нагло ответил шофер. — Замолчало вроде…
— Сам бы помолчал! — хлопнул его по плечу рыжий. — Чуть мост не сжег.
— Ну!? — воскликнул Титков, заплетая пальцы. — Повнимательнее нужно, дорогой!.. Это же — машина!
Шофер не вышел из машины. Прилег на оба передние сиденья, закрыл лицо газетой.
Балашов уже возился у печки: ловко, как рубанком, снимал охотничьим ножом белую стружку с березового полена. Сгреб наскобленное двумя руками, затолкал в прокопченную утробу очага и достал спички.
— Хозяин! — упрекнул Титков. — Не можешь летнюю кухню построить.
— Вон лесник! Леса не дает. Разве что в заказнике нарубить.
Титков щелкнул языком от удовольствия и присел на лавку. Как-то сразу он задумался и погрустнел. Балашов мельком взглянул на него и чиркнул спичкой.
Отец сидел рядом с директором. Вид у него был несчастный.
— Пойду Машку кормить… — Васька выскочил на крыльцо. Ему очень хотелось, чтобы все скорее кончилось, чтобы все кончилось хорошо.
Рыжий сидел на верхней ступеньке и смотрел в небо. Он был какой-то сонный, скучный, отдельный ото всех.
— Садись… — слабо кивнул Ваське, чуть отодвигаясь в сторону.
— Не! Машку надо покормить. Вон дуроломит!
— Айда! — встрепенулся парень. Вскочил, ошлепывая пухлой ладонью припыленные сзади брюки.
Косил он на диво хорошо. Могучий! Как повернется, вжик! Нужно было охапку травы, а собралось на хороший возок.
— Тащи веревку, Васька! кричал довольный помощник, снимая через голову потемневшую дорогую рубашку.
Васька смотался за веревкой, помог ему спеленать освобожденную от легкой жизни траву.
Рыжий рявкнул медведем, но с первого раза не взял. Озлился! Рявкнул еще раз и зашатался, приняв на конопатую спину чудовищную ношу.
Васька вел его по тропинке как слепого, потому что из-под движущейся цветистой копны торчали одни ноги. Немало Машкиной еды осталось на сучках и кустах, но на неделю-полторы ей все же принесли.
В калитку не пробились. Рыжий уронил связку подле нее и свалился на взлохмаченную траву.
Машка врезалась в вязкость душистой кучи.
— Ма-шу-ля! — Рыжий перевернулся на спину и поднял на вытянутых руках испуганно задергавшуюся козу.
— Вас зовут! — зашелся в хохоте Васька. Что-то спокойное, теплое, сильное перешло к нему от этого большого и веселого человека.
— Кидай рубашон! Пойдем трещать скулами!
Все уже сидели за столом, на котором неизвестно откуда появились колбаса, сыр, большой кулек с пряниками. Титков прижимал рукой худенькое колено дяди Игната и смеялся со слезами на глазах. Балашов слушал его и осторожно улыбался. Дядя Толя-сорока помогал отцу раскладывать по тарелкам горячую картошку и жареную рыбу. Шофер уже уничтожал большой кусок рыбы, чавкал и щурил ехидные серые глаза.
— Ну-к! — Васькин помощник двинул плечом увлекшегося едока. Тот скользнул по лавке до самой стены, но куска не выпустил.
— Анекдоты для девиц… — сказал, поглядев на Титкова, рыжий и притянул к себе тарелку. Директор покосился на него, стерпел, опять наклонился к уху егеря. Отец присел рядом с Васькой, а дядя Толя-сорока не спешил за стол, задумчиво ворошил кочергой искрящийся, то и дело вспыхивающий жар. Изредка он посматривал на Титкова, тот отвечал быстрым взглядом, не переставая смеяться и нашептывая что-то забавное егерю.
Шофер неожиданно насытился, потянул из-под стола ноги.
— А спасибо где? — рявкнул ему в спину рыжий. Но того будто и не касалось. Исчез. Хлопнула дверца машины. В такую-то духоту!
Дядя Толя сел на место шофера, сдвинул кучку костей.
— Иди, Вась, погуляй… — как-то понуро попросил отец.
— Хоть поесть нам дайте! — возразил рыжий. — То зовут, то гонят. Секреты появились! Все уши друг другу облизали.
Директор Титков больно толкнул его локтем в бок. Но тот будто и не почувствовал, засмеялся, как кот замурлыкал.
Титков веселым взглядом окинул стал.
— Чего-то не хватает! Все же гостей встречаешь, Игнат…
— Незваные гости хуже татарвы, — тут же вставил рыжий. Он сгорбился, чуть не сунувшись носом в клеенку, пошарил рукой под столом и, как фокусник, извлек оттуда бутылку.
— Ну! Черт рыжий! — восхищенно сказал Титков. — Ты ее туда прятал?
— А что она кусается! Чуть палец не оттяпала…
Дядя Толя расставлял стаканы.
— Мне не надо, — сказал он.
— Мне тоже, — Балашов отодвинул стакан чересчур решительно. Титков сконфузился, но промолчал. Отец сидел не шевелясь.
— Директору больше достанется! — хмыкнул рыжий, накрыв розовой пятерней свой стакан.
— Ох и дождешься у меня… Я ведь вспыльчивый!
— Пыли боюсь! — рыжий всем телом изобразил страх, Васька жался к нему, переживая за нового друга не меньше, чем за Балашова.
Дядя Толя-сорока потянулся к своей папке, достал сжатые скрепкой бумаги.
— Вот тут…
— Вы лучше своими словами… — Балашов повернулся к нему, но смотрел в пол.
— Вы не в курсе, что Белов совершил аварию?
Васька вздрогнул. Балашов выпрямился, словно хотел взлететь.
— Вам придется выступить на суде.
— Вот ведь как… — проговорил отец рассеянно. — И… как же это его угораздило?
— При въезде в город.
— Бог шельму метит. — Балашов заиграл желваками.
— При чем тут бог, Игнат! — возмущенно возразил отец. — Беда-то какая… Кто-нибудь пострадал?
— Да… Полная машина. Были женщины. — Дядя Толя жестко посмотрел на егеря. — Почему же вы, Игнат Степанович, не позвонили нам сразу, в тот же час, в ту же минуту, когда…
— Позвонил! — Балашов вскочил и зашагал по кухне. — Позвонил! Да они тут!.. А! — он махнул рукой и снова сел.
— Ну ладно! Не волнуйтесь так… Понятно, конечно. Я представляю. Машина не личная… Начальство. Так?
Балашов кивнул и отвернулся.
— Сильно женщины-то? — Отец не мог успокоиться.
— Весьма…
Рыжий встал и потянул за собой Ваську.
— Подышим хвойными ветрами!
— Далеко не уходите, — сказал вслед Титков.
Шофер спал, приподнимая выдохами мятую газету.
— Носом читает! — Рыжий подкрался и стукнул кулаком в лобовое стекло. Шофер вскочил, саданувшись грудью о баранку.
— Жив? — озабоченно спросил рыжий. — Ну-ну, спи!
— Дурак! — крикнул вслед ему шофер. — Я тебя назад не повезу, гад буду!
— А ты и сам не поедешь. Тебя Титков уволил!
Шофер засуетился, что-то пряча в машине. Потом сердито хлопнул дверцей и пошел в дом.
— Бутылку заныкал! Давай наперегонки, Васек!
Пролетели метров двести. До поляны. Рыжий дышал тяжело, махал руками.
— Совсем загнал, лосенок! Ну что, обратно? — И тут же помчался, будто в нем какая-то машина заработала.
— Ну вот! Немножко дурь выветрил. Хочешь, прокачу?
— Не надо! — испугался Васька. — Я… не люблю кататься.
— Жаль! А то бы ударили сейчас по бездорожью и разгильдяйству!
— Сергей! — окликнул с порога Титков. — У тебя., совесть есть?!
— Немного! — засмеялся рыжий Сергей. — Занять?
Титков плюнул и вернулся в дом.
— Эх! — Сергей посмотрел в ясное небо, потянулся. — Пойдем пропустим еще по тарелочке.
Шофер, нахохлившись, сидел у печки. Дядя Толя смотрел на него пристально, сердито. Отец сосредоточенно собирал со стола посуду, складывая с тарелок на сковороду целые куски рыбы. Из комнаты доносились голоса Балашова и директора Титкова.
— Иваныч! — просяще сказал Сергей. — Еще рыбки хоца!
— Так садись ешь! — позвал отец. — И выпей. Что-то никто и не тронул…
— Да пошла она! Я ведь не шофер.
— Ты оставишь меня в покое! — взвился, совсем красный, работник автотранспорта.
— Покой ведь только снится…
— Я могу идти? — вытянулся по-военному шофер.
— На все четыре стороны! — разрешил Сергей, принимаясь за поджаристый кусок.
Дядя Толя-сорока уткнулся лицом в ладонь.
— Ну, как тебе здесь? — спросил он, лучисто улыбаясь, когда хлопнула дверь за шофером.
— На ять! Свои люди! — Сергей обнял тяжелой рукой Ваську. Насторожился, потянулся к приемничку.
…Музыка вновь слышна, Встал пианист и танец назвал…Сергей хмыкнул и придушил песню.
— Не нравится? — с сожалением спросил дядя Толя. — Голос-то какой!
— Нечего по душе лупить…
— Надо понимать…
— Вот именно… Ладно! Все нормалеус. И неизвестно, кому повезло. Вась, что там еще требуется нашей зазнобе Машке?
— Ты куда? — вывернулся из комнаты Титков. — Сейчас едем!
— С богом! Я остаюсь.
— Не морочь голову. Приедешь с вещами.
У машины Балашов задержал руку директора. Отвел его в сторонку. Васька навострил уши.
— Скажи честно, если бы не авария…
— Честно?! Если бы да абы… Я на тебя просто обиделся. Не звякнул — значит, не веришь мне.
Дядя Толя решительно отстранил шофера и сел за руль. Сергей, уже в машине, дергал головой и подмигивал Ваське.
— А Костика мы привезем! — засмеялся директор. — Хоть раз ему ребрышки намять.
— Машке привет! — прокричал Сергей, откидываясь на спинку, — машина прытко взяла с места.
Васька шел за ней следом. Он смотрел, как она летела к лесу, густо поднимая пыль, как приостановилась перед зеленой стеной и осторожно сунулась в нее.
Васька возвращался, останавливаясь и оглядываясь. Он только заметил, что солнце совсем высоко, значит, весь день еще впереди… А казалось, что прошла целая вечность. Нет, правда, разве сегодня стоял у калитки дядя Игнат, разве сегодня спешил к дому сосед дядя Коля?..
Отец с Балашовым разбрасывали для просушки огромную кучу утоптанной Машкой травы.
Подошел дядя Коля, стал суетливо помогать.
— Что это тебя на подвиги потянуло? — насмешливо спросил егерь.
— Дак это… Соседи ведь…
— Выпить хочешь? — спросил Балашов и посмотрел на него почти дружелюбно. Сосед замялся, стряхивая с майки упрямого рыжего муравья.
— Ух ты, рыжий черт! Вцепился!
…Васька подумал, что Сергей сейчас, наверное, такой же грустный, как тогда, утром, когда лежал на палатке… И так захотелось догнать машину, посмотреть — грустный он или нет.
Балашов увел инвалида к себе.
Отец присел на чурбак, привлек к себе Ваську. Они долго молчали.
— Что, скоро в школу, сынок?..
Васька кивнул и залез к отцу на колени.
— Пап, а зачем Сергей сюда приедет?..
— Балашова подменить. Пусть в город съездит. Мать-то больна.
— А потом Сергей уедет?
— М-угу.
— Куда? — погрустнел Васька.
— Да недалеко. В конторе будет. Заместителем Титкова.
Как-то не укладывалось это у Васьки в голове. Его рыжий веселый друг — заместитель директора! Не может быть! Васька пристально посмотрел на отца. Нет, не пошутил.
…Он проснулся глубокой ночью. Луна покачивалась совсем рядом, большая, таинственная. Он подошел к слуховому окну и стал смотреть вдаль. Туда, где стояла в ночной дреме таинственная Синька.
— Ну! — смело и громко крикнул он. — Где вы там! Спрятались!
Не сразу, через секунду или две, высоко, наверное, на самой вершине сопки, вспыхнул свет. Луч стал падать, падать и побежал к Васькиному дому. Высветилась длинная и ясная дорога. Васька вылез на крышу и прыгнул вниз. Он знал, что не ударится сильно. И не ударился, даже не присел от прыжка. Он пошел по светлой дороге легким, почти летящим шагом. Страха не было. Он только волновался немного, потому что не было оружия. Но кто-то говорил ему, что на Синьке спрятан меч-кладенец. Найдет! Он почти точно знал, где лежит меч. Ноги сами несли его к чудному мечу. И нечего в окна светить, людей пугать… Досветитесь! Не на того напали!
Он оглянулся только у подножия сопки. И радостно забилось сердце. Следом шли отец, дядя Игнат, тетя Вера, рыжий Сергей, Титков, дядя Толя-сорока. Отстали, но тоже шли сосед дядя Коля и Максим.
— Максим! — закричал Васька радостно. — Бегом!
Максим побежал. Его обогнала большая черная собака.
— Бахра! — крикнул Васька, удивившись. Он знал, что с нею что-то случилось. Но вот что — никак не мог вспомнить.
Он ждал их всех и видел, как вдалеке играла под луной бурливая Песчанка. Прямо как в сказке завивались и бугрились чистые ее струи.
Валькины хлопоты
Наконец-то!
Валек прижался носом к холодному стеклу, стараясь разглядеть в темноте отца. Кроме отца на перрончике не было провожающих: кого потянет из дому в такую стынь!
Отец не махал ему. В телогрейке — только что с работы, — подпоясанный невидимым сейчас сыромятным ремешком, он медленно шел за набиравшим ход поездом. Остановился на самом краю заснеженного перрончика и, сняв потертую меховую рукавицу, полез в карман ватных брюк. Валек еще видел, как вспыхнул бледный огонек спички, но казалось уже, что огонек родился сам по себе, сам по себе погорел немного и, вздумав полететь через рельсы в лес, сразу же окоченел от тугого морозного воздуха и умер в самом начале полета.
Валек все еще выгибал шею, прижимался щекой к окну, только понапрасну: рельсы повели состав вправо, резко переместив куда-то редкие огоньки зябнувшего поселка.
В вагоне было лишь немного теплее, чем на улице. Пассажиры с детьми и те, что понахальнее, сгрудились в первом купе, куда еще добирался подогретый беспомощной печуркой воздух. Остальные слонялись по вагону, кутаясь в полушубки и «москвички», поднимали высокие воротники и непрерывно курили. Света еще не дали, и Вальку казалось, что поезд вошел в бесконечный тоннель, что сквозь щели окон и дверей вагон постепенно наполняется паровозным дымом.
По узкоколейке особенно не разгонишься. Состав мотало. На спусках семь груженных березой и елью вагонов наседали на пассажирский. Тот покряхтывал, поскрипывал и терпел из последних сил.
Валек забился в самый угол, радуясь, что успел сунуть чемоданчик под свою нижнюю полку. Там он в безопасности, да и не мешает никому… Пассажиры постепенно успокаивались, рассаживались, и тогда оказалось, что мест всем не хватит. Стали тесниться. Молодежь полезла на верхние полки, где было еще холоднее от сквозняков и совсем невозможно дышать от скопившегося дыма.
— Кончайте курить! — то и дело прорывался сквозь шум разговоров сердитый мужской голос. — Это вам не в ресторане!
— А ты не в доме отдыха! — возражали в ответ. — Не нравится, иди в тамбур. Дым-то ведь греет, понимать надо!
Чье-то могучее плечо прижало Валька к стене. Поерзав, он отвоевал себе немного простора и успокоился.
Время шло еще медленней, чем поезд, которому и не снилась скорость более пятнадцати километров в час. Было мучительно думать о том, что впереди еще целая ночь вот такого терпеливого сидения возле промерзшей стены. А ведь уже сейчас начало покалывать в самых кончиках пальцев и пятках. И не постучишь валенками в пол — ноги коротки.
По не беда! Главное — он уже ехал в город и приедет туда утром, потому что поезд все равно будет идти и идти, и время — хочет оно того или нет — все равно не сможет стоять на месте. Это совершенно точно, ведь Валек не маменькин сынок, знает, что такое ночевка у костра, когда грудь печет, а спину сжит. Заснешь на секунду, а кажется, что проспал целую вечность. Только ночь в миллион раз длиннее вечности. К утру становишься старым-старым и уже не веришь, что еще вечером был молодым.
Валек попробовал шевельнуть пальцами, но они, наверное, уже чуточку смерзлись и не хотели шевелиться. Тогда он потихоньку нащупал ногой металлическую стойку, что поддерживала крышку мешающего ему стола, и начал легонько ее пинать. Левой ногой он попадал точно, правая же задевала стойку только скользом, и толку от этого не было. Валек стал выворачивать неудобную ногу и бить по стойке не носком, а наружной стороной валенка. Хоть бы чуточку полегчало! У костра-то можно встать, походить, можно даже побегать — пожалуйста! Валек, почувствовав, что попал в западню, пискнул от отчаяния и страха.
— Что, околел, малыш? — услышал он ласковый шепот. И понял, что рядом сидит женщина, но не сразу поверил этому — помнил навалившуюся ему на грудь тяжесть плотного плеча. — Разувайся. Разувайся скорее! Давай-ка свои ноги сюда.
Он бы не сделал этого, постеснялся. Но женщина уже нагнулась, сгребла в охапку его валенки вместе с ногами и потащила из-под столика.
— Ой бедненький, бедненький мой! — шептала она на ухо. — Как терпишь-то? — теплыми, только что из меховых рукавиц, руками гладила, мяла легонько начавшие отходить пальцы. — Давай-ка суй их ко мне, сюда вот… Да чего ж ты? Никто ведь не видит!
Он хотел выдернуть ноги из-под полы ее шубы — стыдно, стыдно же! Но сразу не сделал этого, а через секунду уже не смог. Да и женщина будто забыла о нем, заговорила с кем-то.
Проснулся Валек от странной суеты вокруг. В первом купе разом раскричались пацанята. Мужчины пробирались к выходу, ругаясь, как на лесосеке. Мутный желтый свет, неизвестно как давно появившийся в вагоне, освещал засоренный ореховой скорлупой и папиросными окурками пол.
— Вот вечно так! — услышал он знакомый голос. Женщина посмотрела на него, но Валек не разглядел ее лица. Шевельнулся, понимая, что сковывает ее. — Лежи, лежи… Сейчас холода натянут! Вон двери-то расхлябенили.
— Лесу завались! — отозвался за стенкой легкий — не поймешь, мужской ли, женский ли — голос. — А шпалы по сто лет не меняют. Экономят все! Забота о людях… Вот она, забота. Чуть в сугроб не гуднули.
— Кто это там перепугался? — почти весело и громко спросила Валькина спасительница. — Если добрый молодец, то шел бы лучше помогать.
— Вы это серьезно? — ужом завернул из соседнего купе свою шею словоохотливый собеседник.
— Вполне!
Валек разглядел круглое безбровое лицо и пятнистую — из собаки — мохнатую шапку.
— И это, по-вашему, решение вопроса?
— В данном случае — да.
— Нет уж! Спасибо! Не намерен расплачиваться за чье-то разгильдяйство.
— Тогда помолчите.
— А вы мне рот не затыкайте! Правды стыдиться нечего! — Собачья шапка чуть подалась вперед, вытянув на свет лоснящийся воротник дорогого полушубка. — М… Мария Николаевна?! Какими судьбами?
Женщина скинула на воротник платок, поправила волосы и снова спрятала их под легким козьим пухом.
— На семинар вызвали.
— Вот хорошо! — Безбровый скользнул в Валькино купе, уселся за столиком напротив. — Я ведь тоже на семинар. Самолетом хотел, да прособирался. Вы-то почему на поезде?
— Ничего, не барыня.
— Вы что, с сынишкой в райком?
Валек осторожно потянул из тепла ноги. Но тут же почувствовал, как тяжелая рука придавила их.
— Что же вы не вышли? — спросила женщина важного человека. — Надо же паровоз поднять, все там.
— Шутите! Поднять… Пусть кран вызывают. Паровоз, Мария Николаевна, не телега!
Разговор у них совсем разладился. Наступило молчание.
— Так что вы тут про шпалы говорили? — вспомнила женщина.
— Да так… К примеру… Кофе не хотите? У меня термос. Принести? Сынишка пусть отогреется.
Мария Николаевна посмотрела на Валька, замялась. Валек сделал вид, что спит. Хотел засопеть посильнее, но нос заложило, и он всхрапнул, тут же почувствовав, что покраснел от этой неожиданности.
— Спит он! — облегченно сказала женщина. — Не буду будить.
Кажется, ушел! Валек так долго притворялся спящим, что и вправду уснул. Он как-то мельком слышал гомон возвращающихся в вагон людей, потом почувствовал толчки тронувшегося в путь состава и обрадовался, не покидая сна, — подняли паровоз! Без крана подняли!
Потом ему приснился отец. Он неторопливо шел за вагоном и вглядывался в окно. Валек догадался, что паровоз поднимал отец, а все ему помогали. Надо было и ему, Вальку, выскочить из вагона. Вот не догадался!
— В следующий раз поможешь! — сказал весело отец.
Окно, оказывается, было открыто, в него задувал теплый, летний воздух. И тайга вдоль невысокого полотна была насквозь прогрета солнцем, укрыта расплывчато колеблющимся зноем. Валек пытался вспомнить и не мог — куда везет его радостно гудящий поезд? Тогда он решил спрыгнуть с поезда. Метнулся по коридору, выскочил в тамбур, обрадовался, что двери не заперты, и, примерившись к скорости, к мелькающим навстречу столбам, смело оттолкнулся от подножки. Прыжок получился легкий и длинный. Он перелетел всю насыпь и все летел. За насыпью тянулось неширокое озерцо. Бросились в стороны, в камыши, две только что любовавшиеся друг другом чирушки — уточка и селезень. Валька приподнимало и несло дальше — к березовой релке, через нее, через огромную марь, вдоль реки, берега которой заставлены островерхими зародами свежего сена…
Валек уже почти не боялся этого нескончаемого полета. Только завидев несущуюся навстречу преграду — огромную ель или даже сопку, он подтягивался весь, ожидая удара. Но удара не было, его просто переносило через любую преграду, как выбитую ветром из куриного крыла пушинку. Валек затревожился: куда затащило! Вон лосиха повела к водопою длинноногого малыша, вон медведь присел, вверх смотрит… Дальше, дальше от этого места! И Валек увидел город. Большие белые дома, трамваи, огромные самолеты, снующие во все стороны. Как приземлился — не понять, только очутился прямо возле охотничьего магазина. И вспомнил, что вез сюда кротиные шкурки. Полный чемодан. В поезде забыл!
…В вагоне было тихо. Валек чувствовал еще, как бьется растревоженное приснившейся бедой сердце, но уже успокоился, зная, что чемоданчик его никуда не делся — лежит себе под полкой в удобном тайничке. Четыреста шкурок! Правда, взрослые за лето, бывает, и по тысяче насушивают, но чего сравнивать! У них и тропы лучше, и капканов не сорок штук.
Валек стал кротовничать случайно. Отец этим не занимался. Вообще он какой-то равнодушный к охоте с рыбалкой. Приведешь к реке, удочку ему настроишь — лови на здоровье! Минуту поглазеет на поплавок, усмехнется и полезет в карман. А уж если задымил своей махрой, то непременно задумается, сонный какой-то станет. До пескаря ему, как же! И смотри: вроде не старый еще, сорока нет, а такой усталый. Работа работой, но и еще какой-то интерес должен быть у каждого. Иначе что это за жизнь? Тягота. Вон поселковые мужики — тоже на лесосеках вкалывают, аж рубахи заворачиваются, а ведь находят время с ружьем пошастать, щук поблеснить, грибов на зиму наворочать.
Старую тропу нашел отец. Совсем случайно. Валил, валил елушки, потом поставил пилу и отошел от товарищей подальше. Другой на его месте сразу бы смикитил что к чему, а он удивился, видите ли, что в капкане кости. И пошел с этим капканом в бригаду. Были тут и охотники. Те долго не раздумывали, понизали на проволоку уловистые пружинники. Валек потом отца почти до слез доводил упреками. А чего ж он! Кротоловок только во сне накупить можно. Уговорил все же, взял отец его к себе на лесосеку, показал тропу. Вычистили ее образцово-показательно. Только сначала не обнаружили другую тропку, что с большой сливалась. А вот на ней как раз сорок ловушечек! Валек объявил их своими и тут же насторожил снова: крот пер и по старым норам, не обращая внимания на останки себе подобных, и новых наковырял будь здоров. Так и повадился Валек с лесорубами в тайгу ездить. Пешком-то туда скоро не дойдешь, а на дрезине — полчаса.
В первый раз, когда проверять явился, вышел на тропу — и похолодел! Мох сбит, капкана нет, вот так! И дальше не пошел, вернулся насупленный, стал приглядываться к лесорубам: кто бы мог? Ему объяснили — капканчик нужно палочкой притыкать, иначе кротяка в нору утащит. Далеко — не далеко, а к чему дополнительная колготня? Богато в тот день взял, все бегал — пустые капканы с места на место перебрасывал. Зато уж кое-кто в бригаде ахнул. Потом дни послабее пошли. Пятнадцать — двадцать кротов. Но это тоже кое-что! Каждая шкурка — рубль двадцать. Этак за лето и приодеться, и приобуться можно — с отца-матери не тянуть.
Отец как-то сказал, мол, тебе, Валек, с пацанятами бы надо — на речку бегать, загорать, в кино ходить… Чудной! Не понимает, что он как в сказке живет, только еще лучше. Утром, когда вальщики только настраивают свои сложные бензопилы, а сучкорубы помогают трактористам заправлять трелевщики, такая тишина в тайге, что каждую упавшую росинку слышно. Валек выходит на тропу и волнуется, хочется ему припустить бегом, ведь первый капкан самый уловистый: каждый день в него попадает два, а то и три зверька. Вчера вынул из него патриарха — не темно-пепельного, как обычно, а бурого, с седым галстучком, огромного и сильного крота. За нос попался. Такой уж длинный у него вырос нос!
А вот следующий капкан — неудачник. Кроты его почему-то сбивают в сторону и спокойно уходят по своим делам. Уж и обкладывал его камешками, чтобы утвердить на месте, и проволоку чуть разогнул, чтобы входное отверстие увеличить, — бесполезно.
Пятнадцать ловушек выставлено до ручья, остальные — дальше. Там уже не слышно ни рева машин, ни визга пил. Там интереснее и тревожнее. Березняка совсем мало, одна ель — деревья старые, замшелые. Совиная глушь. Потянешь крота из норы, а он холодный, как ледышка. И чего-то боязно даже его в руки брать.
Здесь Валек никогда не присаживался отдохнуть: спешил снять добычу — и назад. Вздыхал облегченно у ручья, в прогретой знойным солнцем низинке. Тщательно отмывал руки, доставал из сумки хлеб с салом…
— Спящие! — закричал кто-то на весь вагон. — Тихое! Кто выходит — вперед!
Валек мог бы выйти и здесь — тоже есть охотничий магазин, но до утра еще так далеко, а мерзнуть одному в дощатом вокзальчике радости мало. Лучше выйти утром в большом городе и сразу — по делам. Отец нарисовал, как идти и куда зайти, бумажка в кармане.
— Тихое! На выход!
А вагон уже проснулся, зашевелился. Опять вспыхнули спички, потянуло душным, горьким дымом. Валек почувствовал, что шевельнулась и его спасительница, перевязала платок.
— Мария Николаевна, надо продвигаться! — прошелестел знакомый мужской голос.
— Да… собственно… — ответила она тихо, — идите. Я ведь не одна.
— Нет, нет! Меня ждет машина, подвезу.
— Хорошо, проходите. Мы сейчас. — Она потянулась к окну и зашептала Вальку: — Обувайся, малыш! На машине прокатимся.
— Мне в город. — Валек поджал ноги, сразу почувствовав ими прежнюю стылость вагона.
— Жаль! Замерзнешь совсем. Ты посмотри, может, в первом купе место освободится. Сразу и занимай, а то тихинские займут.
Она стала шарить в сумке, потом нащупала ноги Валька, потянула к себе. Он растерялся, заупрямился. Но силенок-то — не сравнить.
— Чего застеснялся! Ишь, стеснительный… Носи на здоровье. Да ладно, ладно! Добра-то такого!
Валек так и не пошел в первое купе. Старался понять: почему же совсем незнакомый человек сам — он же не просил! — отдает ему свои шерстяные носки. Да отдает-то как… Силой натягивает! Вроде и приятно, а с другой стороны, стыдно — будто нищему. «Да она и лица-то моего не разглядела!» — немного успокоил себя.
Вагон дернулся, замер, пошел потихоньку, замелькали в стылом окне неясные огоньки. Сколько еще пилить!
Валек ворочался, стараясь понадежнее спрятаться от холода в короткий полушубок. Но если поджать ноги, то зябкость к спине подбирается: коленки полу приподнимают. А вытянуть — будто в ледяную воду проваливаешься. Наконец он не вытерпел, натянул валенки и стал ходить — два шага туда, два сюда — по своему опустевшему купе. Приподнял полку, лежит чемоданчик! Меха! Кому-то шуба будет. Из кротов хорошие шубы выходят, гладкие, ласковые.
Валек стал подпрыгивать, пристукивая в такт зубами:
— У лукоморья дуб зеленый. Зеленый. Тепло, значит. Солнце, может. Или дождь. Все равно тепло. Это — не снег. Златая цепь на дубе том… Повесил кто-то. Не пожалел! У нас бы повесили. Вместе с котом бы… И днем и ночью… Не спит! Вот как я сейчас. Так про него хоть знают. Я вот тоже знаю. А про меня никто. И коту наплевать! Налево… песнь заводит… Сказку говорит. Кто там его слушает? Мышей бы лучше ловил.
Вальку стало весело, даже разогрелся от веселья. А ловко можно придумывать! Смешно. Что там дальше? Потом притомился, сел на свое место и тяжело, по-мужски, задумался. Как ни радуйся поездке, а и заботы много. Кроме пиджачка и лыжного костюма нужно купить лекарств матери. Вон сколько рецептов врачиха насовала! Сестренке ползунков — тонких и теплых, сосок, если будут. Их всегда нет. Себе отец ничего не просил, но ведь когда сам в город ездил, обязательно брал пачек пятьдесят «Северу». На выходные и праздники. В такие дни обходится махоркой.
Мать хотела на всякий случай занять денег у соседей, но Валек заупрямился. Ему и думать не хотелось, что зря свозит свое богатство. Сдаст! Он чувствовал, что сдаст, потому что все сделал по уму: шкурки пересортировал и связал в пачки по двадцать штук, на поезд сел во вторник — в среду вряд ли какой магазин будет закрыт. Только не терять времени, нужно со всеми делами управиться до трех, даже раньше — в три паровозик потянет пассажирский вагончик обратно. Эх, ехать бы уже сейчас назад, чтоб все куплено было, все обошлось!
Как здорово все-таки летом! Можно уснуть, отдыхая, у ручья, а проснувшись — сунуть голову в звон прогретых прозрачных струй. И чувствовать, задавив в груди воздух, как полощутся, мечутся под напором отросшие за каникулы волосы. Идешь потом дальше — на шум работающей бригады — и вздрагиваешь от сползающих под рубашку слабеньких ручейков.
В последний раз побывал на своей тропе за неделю до школы. К осени крот становится вялым, ленивым. Отсиживается где-то, не хочет тратить сил на путешествия Всего двух-то и снял. Повязал в пук ловушки, надумал было возвращаться, но такой уж ласковый и грустный день выдался, что невольно отказался от этого решения. Побрел по своей тропе дальше, туда, где не ступала еще его нога и где уже не ставил ловушек незнакомый забывчивый промысловик. Тропа петляла в ельнике, вырывалась на светлые полянки, спускалась в овражки, поднималась на укрытые осинником взгорки. Валек шел, возбуждаясь все больше и больше: на каждом шагу — то свежие, то уже разрушенные дождями и лосиными копытами кротовые ходы. А он-то крутился на бедном пятачке и побаивался чего-то, промысловик!
Разве он мог понять в тот день, что повзрослел немного, окреп и характером, и физически. Что, вырастая, человек чувствует не только тесноту когда-то привычной и удобной одежды…
Сейчас, тоскуя немного по лету, палящему солнцу, тугому ласковому ветерку, напитанному запахами истомившейся хвои, дымами разведенных сучкорубами костров, Валек был уже старше и крепче того Валька, что шел и шел по незнакомой тропе, ощущая растущую радость от появившейся внутри какой-то необъяснимой уверенности в себе, в своих проснувшихся, зазудившихся во всем теле силах. Сейчас он подумал, что можно где-нибудь посреди своей удивительно богатой тропы сделать прочный шалашик и жить там, не тратя времени на поездки домой. Вот это будет охота! С утра до ночи ходок по пять-шесть в оба конца. А шкурки пусть отец отвозит, растягивает и сушит.
Валек вскочил и снова зашагал по купе. Скорей бы лето, хотя бы — весна. А поезд шел и шел. Он вез в город лес, заготовленный, может быть, где-то совсем рядом с Валькиной тропой.
Было еще совсем темно, когда показались первые огоньки огромного старого города. Валек больше не спал в эту ночь, он сохранил вызванное внезапно пришедшими мыслями возбуждение, был бодр и нетерпелив. Ему казалось, что в городе ждут его. Но кто? Может, приемщик пушнины. Обрадуется ему, обрадуется четырем сотням умело снятых шкурок, назначит за них самую высокую цену. Крот-то не огородный, а таежный!
Валек соскочил на засугробленную узкую платформу и, цепляясь разношенными валенками за угловатый чемоданчик, побежал к автобусной остановке.
Автобус шел так долго, что казалось, будто он сбился с пути и кружит вокруг города. Заходили и выходили люди в спецовках, пахнущих совсем не так, как у лесорубов. Что-то тяжелое и солидное было в этом запахе. Потом остановки стали чаще, а пассажиры — в чистой удобной одежде. С сумочками, портфелями. Валек присматривался к шубам. Иногда понимал: эта из белки, эта из ондатры. Но были и такие, что хоть всю жизнь думай — из чего она, не догадаешься. Свет-то вон какой! Сколько зверья всякого — и нашего и заморского.
Но шубы из крота Валек так и не увидел. А хотелось поглядеть, во что превратятся лежащие в его чемоданчике пятиугольники легких шкурок.
Вот и главная улица, на которой нужно отыскать столько раз снившийся ему сказочно богатый, набитый таинственными припасами охотничий магазин.
Было уже почти светло. По главной улице шли звенящие трамваи, их обгоняли, оставляя за собой длинные белые облака то ли дыма, то ли пара, серые легковые машины. Город был в тисках мороза, и Валек ойкнул, выскочив из прогретого уставшим мотором и множеством людей большого автобуса. Сразу защипало нос, а ресницы покрылись влажным белым пушком.
Валек дважды отогревался в подъездах, прижимаясь к горячим ребристым батареям, пока не оказался в заставленном пустыми дощатыми ящиками обширном дворе. Не думал он, что вход в охотничий магазин будет такой неказистый: низенькая, обитая почерневшей фанерой дверь едва открывалась, зарываясь в подмерзший сугробик. Чем-то полюбилась она бездомным городским псам — на фанере настыли многослойные желтые потеки. Посыпали бы у порога махорки, что ли!
С улицы в слабость искусственного света — сразу ничего не разглядишь. А когда разглядел, оттиснутый не обращавшими на него внимания людьми под какие-то доски, понял, в какую беду попал. Здесь шел ремонт.
Он долго стоял в парном тепле просторного, но очень уж низенького помещения, надеясь на чудо. А вдруг сейчас эти люди уберут подмости, повыбрасывают на свет двора все ведра, баки, корыта, и придет хозяин… Валек ждал, тихонько глотая подступившие к горлу слезы Рабочие не торопились. Видно, они еще и не приступали сегодня к делу, только готовились: курили, вели непонятные разговоры. Валек, улавливая отдельные слова, удивлялся как сквозь сон: мужики интересовались нарядами! Потом соображал: не себе, наверно, женам..
Потом, вроде, о музыке. Аккорды. Ясно — о музыке! Город… Жизнь широкая, недоступная. А послушай лесорубов! Цепи, соляр, верхонки…
— Эй, малый, ты что тут забыл?
Валек вздрогнул, помедлил. Ответить? Уйти? И он заплакал.
Только сейчас понял, почувствовал, что вернется домой ни с чем, что город обманул его, обманул жестоко, бессердечно. Ведь не привезет он ни лекарств матери, ни ползунков, ни папирос отцу. Так ждал каникулы! Столько снов было про город, а он совсем не такой.
Его о чем-то спрашивали, тормошили, но ничего не могли понять, потому что ответы его были похожи на бред больного ребенка. Вальку было стыдно, но он ничего не мог с собой поделать. А тут еще уронил чемоданчик, рассыпал по грязному полу любовно перетянутые шпагатом пакетики. Никто не помогал ему собирать их — стояли, разом замолчав.
Он пошел по двору, не чувствуя уколов свирепого городского мороза, забившего нос тугими ледяшками. Удивился, но ничуть не встревожился, ощутив в валенке коварный комочек слежалого снега. Придется подшивать.
— Эй, пацанчик! Слышь! Три нос скорее! Дай-ка я потру.
Валек не сопротивлялся, но и не помогал подскочившему прохожему.
— Ревел, что ли? Обидели? Чего мотаешь головой? — обеспокоенно спрашивал пожилой прохожий в шикарном белом полушубке, белых бурках и толстых кожаных перчатках.
Часа два Валек скитался по главной улице, заходя в магазины, булочные, даже кинотеатры, — воруя в них понемногу оживляющего и усыпляющего тепла. Потом, устав, догадался, что греться можно в трамвае, и сел в первый же остановившийся вагон. Вагон скрипел, покачивался, дергался. Валек засыпал, просыпался, поправлял сползающий с колен чемоданчик и засыпал снова.
— Конечная. Трамвай идет в парк!
…Валок увидел яркий зеленый парк. Там было много народу в летних платьях, журчали фонтаны и пели птицы… Он вскочил и кинулся к двери. Захлопнувшиеся было двери с визгом открылись снова. Валек упал в снег, снова собрал разлетевшиеся шкурки и пошел назад, туда, где — далеко-далеко, еле видно — черные рельсы сворачивали на широкую, оживленную главную улицу.
В половине третьего он наконец-то очутился на знакомом неубранном перроне, поставил на снег чемоданчик и стал бегать по грязному снегу, стараясь согреть ногу в прохудившемся валенке. Прошло, наверное, больше чем полчаса, а на перроне никто не появлялся. И поезда не было.
Валек пошел к вокзальчику. Дверь примерзла, что ли? Он постучал в нее кулаком.
— Эт куда ж ты ломишься?
Пожилая женщина в черном форменном пальто держала в руках большую фанерную лопату.
— Е-е! Какой поезд, что ты! Поезд да-авно уже ушел. Собрался и ушел. Его сегодня рано собрали. Порожняку-то еще ночью нагнали.
— И больше не будет? — прошептал тяжелыми губами Валек.
— Теперь уж только завтра. А ты что, на поезд? — И посмотрела пристально, наполняя взгляд материнской жалостью. — Как же это тебя угораздило?
Она слабо скребла снег подпрыгивающей лопатой, а Валек снова прошел на перрон и стоял, глядя туда, куда ушел, не думая о своем ночном пассажире, неспешный узкоколейный поезд. Потом он спрыгнул с перрона, перешагнул рельс и, угадывая под непримятым снегом выпуклые шпалы, решительно пошел домой.
— Сто-о-ой! — донеслось сзади. Валек обернулся. Женщина отбросила лопату и подбежала к нему. — Ты что это надумал? А?! Бессовестный! Уж я вот тебе! А ну пойдем.
Еще не начало темнеть, но солнце уже потеряло свою маленькую зимнюю силу и, едва проникая хрупкими лучами сквозь изморозь оконного стекла, тоже пыталось отогреть сидящего у гудящей печки Валька. Он так и не разделся, так и не сел за стол и теперь с последней надеждой ждал возвращения почти незнакомой тети Лиды, которая сначала уговаривала его переночевать и уехать завтра, а потом немножко сердито, немножко обидчиво сказала: «Пойду узнаю!» — и, надев черное форменное пальто, хлопнула дверью.
Где-то далеко-далеко, за огромной и островерхой горой Благодать готовилась к новой ночи родная Кедровка — лучший на свете поселок. Потому что там сейчас отец, мать и сестренка, потому что Валек прожил там всю свою жизнь и никогда ему не было там холодно и одиноко… Если бы не во сне, а наяву взлететь и помчаться над тайгой, через гору, обогнать поезд и очутиться дома!.. Валек почувствовал, что плачет, сердито смахнул рукавом слезы и пнул стоявший рядом чемоданчик.
— Ой! Что это у тебя? — удивилась тетя Лида. У нее было веселое лицо, она уже не сердилась, держа в руках хрустящую пачку ладненьких блескучих шкурок. — Белки?
— Кроты… — В голосе Валька, как он ни старался скрыть еще не отхлынувшие слезы отчаяния, прошуршала нотка горечи.
— Красота-то какая! Купил?
Валек хотел объяснить, но не справился с голосом и только покачал головой.
— Ну вот что. Ты не плачь, это совсем ни к чему! Давай поешь, и я повезу тебя на автовокзал. Через час будет автобус на Тихое, еще и обгонишь свой поезд!
Вспыхнувшая в пом радость туг же погасла. У него не было денег на автобус. Он растерялся и, собирая шкурки, старался сообразить, что делать.
— И много у тебя их? О-е-ей! Сам ловил? Ну ты гляди, а! Вот уж молодец… Дорогие поди? Вон ведь какие черненькие!
Валек удивил ее, сказав совсем упавшим, незнакомым голосом, что шкурки самые дешевые — по рублю двадцать. Она как-то странно посмотрела на него, потом — на чемоданчик.
— Ну ладно! Пойдем!
Шли быстро и совсем не той дорогой, которую проделал сегодня Валек. Минут через десять, не садясь в автобус, оказались на оживленной — люди ехали с работы — трамвайной остановке. Тут же подошел и трамвай, но они не попали в него. Их просто отбросили в сторону, и тетя Лида чуть не упала, поскользнувшись на уплотненном и отшлифованном тысячами ног нечистом городском снегу. А у Валька от отчаяния метались в мозгу беспомощные мысли. И уехать хотелось, и не хотелось опозориться, поставить в неловкое положение тетю Лиду, бросившую свою работу, чтобы помочь ему, попавшему в беду Вальку.
— Кому же ты привозил шкурки, а? — Тетя Лида тоже замерзла, приплясывала, упрятав руки в потертые рукава форменки.
— Сдавать… — Валек незаметно, без пристука, вдавливал в твердость снега коченеющую пятку.
— Н-ну и что не сдал-то?
— Магазин на ремонте.
Тут подкатил еще один трамвай, но тетя Лида вроде и не заметила его.
— Какой магазин? Разве в магазине сдают?
— Ну да… В охотничьем.
— Чудак! — она схватила его за воротник и потрясла немного, весело засмеявшись. — В магазине! Вот чудачок, господи. Пойдем!
Они почти бежали — не в ту сторону, куда нужно было ехать на трамвае, а в обратную. Наскочили на кого-то в толпе, но тетя Лида лишь обернулась на негодующие голоса, сказала растерянно и негромко:
— Извините!
Они подбежали к адресному киоску. Тетя Лида стала стучать в завешенное окошечко.
— Ну что за люди, что за люди! Видите — закрыла уже!
— Так откройте! Ну на секунду! У нас такое важное дело, — и стала стучать снова, нарываясь, как понял Валек, на крупную неприятность.
— Ну что вам нужно?
— Милочка! Ради бога! Где можно сдать шкурки?
— Шкурки? Какие шкурки? Можно посмотреть?
— Да посмотреть-то можно, только мы так спешим… Вот. Открой-ка ей.
— А… Я думала… Сейчас, погодите минутку.
Потом они бежали снова.
— Ничего, успеем! Тут рядом, — успокаивала Валька запыхавшаяся тетя Лида. — Вот сюда… Теперь сюда… — заглядывала она в голубенькую бумажку.
Вальку было уже жарко, сердечко его подпрыгивало от возбуждения и радости.
— Ну, кажется, успели!
Небольшой из красного кирпича домик уже светился тусклыми желтыми окнами. Но в коридоре было темно, и они, шаря по стенке в поисках двери, опрокинули что-то пустое и звонкое. Дверь открылась сама, да так быстро, что тетя Лида отскочила в испуге и повалила небольшую стенку пустых ящиков.
— Вам помочь? — раздался над ухом Валька веселый мужской голос.
— Да у вас тут… — тетя Лида не договорила — загремела, рассыпаясь, еще одна горка сложенной тары.
— Вот так! Вот так! — приговаривал в темноте мужчина, азартно разбрасывая ящики. — Целый день складывал! — похвалился он, снова открывшая дверь. — Проходите — гостями будете, а если с пол-литрой — хозяевами!
На длинном дощатом прилавке, разделившем квадратную комнатку пополам, лежала связка разномастных лисьих шкур. Рядом — россыпью — несколько колонковых, ондатровых и еще каких-то, не поймешь. В углу, возле затухающей железной печурки, до половины обложенной кирпичами, грудились обильно смазанные солидолом массивные капканы. И больше — ничего. Пустовато, но тепло и уютно, — Вальку это понравилось. Еще больше понравился хозяин этой заготовительной конторы — высокий, худой человек с негнущейся деревянной ногой, ловко турнувшей в нутро печки высунувшееся оттуда смолистое полено.
— Ну, хвалитесь! — Он простукал к прилавку и сдвинул в сторону зашуршавшие, захрустевшие трофеи. — Соболя? Ондатры? Выхухоли?
— Кротики, кротики… — заулыбалась оправившаяся от смущения, вызванного разбоем в коридоре, тетя Лида. Она с достоинством выставила на прилавок перекосившийся от последних испытаний Валькин чемоданчик.
— Кротики, кротики — надорвешь животики! — промурлыкал приемщик. — Поштучно или оптом?
— Как подороже! — лукаво ответила тетя Лида. — Вон какую даль перлись!
Приемщик растряс пачечку, прицокнул языком. Валек понял, что шкурки ему понравились.
— Сколько здесь?
— Четыре сотни, — сказала тетя Лида, распутывая свой старенький пуховый платок. — Три раза пересчитывала.
— Можно было и два! — поучительно изрек приемщик и потянулся к замусоленной тетрадке. — Кротики, кротики… Вот! Мда…
— Что там? — встревожилась тетя Лида, потянувшись к тетрадке. — Читай!
— Плохо дело…
Валек покрылся испариной. А так уж разнадеялся.
— Не могли на недельку раньше приехать!
— А что такое? — тетя Лида посмотрела на приемщика, потом на Валька.
— Да подорожали они с нового года! Совсем меня разорите.
— Фу, черт культяпистый! Вот напугал. Мальчонку-то хоть бы не томил!
— Кротики, кротики… — мурлыкал симпатичный приемщик, пропустив мимо ушей нанесенное ему тетей Лидой оскорбление. — Были вы по рубль двадцать, стали вы по рупь шестьдесят. С вас, милорд, тю-тю-тю — шестьсот сорок карбованцев. Вторая торгующая сторона претензий не имеет?
— Не имеет! — быстро и радостно согласилась тетя Лида. — Гони!
Приемщик вздохнул и полез под прилавок, откуда извлек страшненькую картонную коробку с мятыми деньгами. Неспешно набрал сумму и небрежным толчком подвинул тете Лиде:
— Только из уважения к неуважению… — И засмеялся, довольный понравившейся ему самому фразой. Тетя Лида тоже засмеялась, но не так весело, скорее — конфузливо. — Кротики, кротики… — Приемщик проводил их по темному коридору, и они слышали, сходя с высокого крыльца, как он грохнулся, запнувшись, видимо, за пустую флягу. — Ничего, ничего! — прокричал он им из-за дощатой стены. — Жертв нет! Счастливого пути!
Надрывно, кого-то отпугивая или извещая о своем приближении, гудел трудолюбивый узкоколейный паровозик, тянувший в тайгу порожняк под лежащий сейчас на снегу обработанный умелыми руками лес. Валек сидел в свободном первом купе, совсем рядом с печкой, в которую он сам должен был подбрасывать принесенные помощником машиниста дрова, и вспоминал скрывшийся за горой Благодать огромный, Полный всяких людей и магазинов, задымленный, холодный, щедрый и живущий сложной жизнью город. На верхней полке подрагивал от стука колес набитый папиросами чемоданчик. Лекарства, соски и ползунки тетя Лида упаковала в картонную коробку, а лыжный костюм и клетчатый пиджачок, завернутые в толстую магазинную бумагу, уместились в новенькой желтой сетке. Валек то и дело отрывался от чудом уцелевшей на прилавке книжного магазина книжки «Звероловы» и поглядывал на полку, чувствуя сладкое удовольствие и спокойствие.
Дрова горели ровно и долго, тепло окутывало Валька мягким усыпляющим одеялом. В конце концов он опустил голову на книгу и легко уснул. Сначала ему снился только серый морозный туман, будто тяжелое покрывало, скрывающее какую-то интересную и дорогую картину. Потом покрывало упало, стало чистым, неутоптанным снегом, и Валек увидел отца, пристально глядевшего в окошко останавливающегося вагона.
— Пап! — закричал Валек, как-то незаметно для себя спрыгнув на перрон.
Отец бежал навстречу.
— Пап, что ты больше всего любишь? — Валек спрятал чемоданчик за спину.
— Тебя, сынок… — прошептал отец, обнимая его уставшими от работы руками.
— Ну а еще, еще!
— Тебя, сынок.
Они шли рядышком к блистающему красными закатными окнами поселку, и Валек рассказывал отцу про тетю Лиду. Он все говорил, говорил про нее, вспоминая ее все больше и яснее, а отец кивал головой и ласково улыбался.
Там, где ждут, считают дни
1
— Ну, пляши! — крикнул из кухни отец.
Мишка сбросил на пол ранец и метнулся в кухню.
— Дедушка письмо прислал? Дай почитать! — закричал он радостно.
— В коридоре, кажется, есть веник! — поглядел отец на Мишкины валенки.
Мишка хлопнул дверью, и слышно было, как хлещет он веником по валенкам. Вошел он уже совершенно спокойный, без шубейки и в тапочках.
— Вот теперь молодец, садись чай пить!
Ну, это было уж слишком.
— А письмо? — спросил Мишка, изо всех сил стараясь не поддаться нахлынувшей обиде.
— Я пошутил.
— Делать тебе нечего! Шутник нашелся…
Какой там чай! Мишка пошел к себе в комнату.
— Постой-ка, постой! — отец улыбался. — Шутник, говоришь? Ты, помнится, тоже был не прочь меня разыграть.
Это он намекал на первоапрельскую Мишкину шутку. Тогда Мишка позвонил ему на работу и слабым голосом сообщил: «Папа, у меня сердце остановилось… Не бьется…» Отец кричал ему в трубку, чтобы он держался. Он так кричал, что у Мишки волосы на голове стали шевелиться. Разыграл!.. Что делать? Мишка заметался Догадался наконец — схватил лист бумаги, написал красным карандашом: «Первого апреля никому не верить! Я пошел в кино». Приколол лист к двери и убежал. Соседи потом спрашивали:
— Досталось поди, Миша? Отец тут…
— За что? — удивленно пожимал он плечами, но краснел: конечно досталось.
— Так я шутил первого апреля, — сказал Мишка, надувшись, — тогда можно было.
— А кто запретит мне шутить в декабре?
Мишка хмыкнул и подарил отцу далеко не мирный взгляд. Отец засмеялся. Весельчак!
— Ну, ну! Ладно, напугал… Бери письмо. Да не забудь твоя очередь посуду мыть.
Мишка бросился за письмом.
Дедушка писал, что у них стоят отменные холода. Вся живность жмется к домам. Собаки нещадно дерут зайцев, прибегающих ночью в деревню — собирать клочки сена по дорогам. А волки добрались до собак: сожрали охотницу Буйку и двух дворняжек.
Мишка любил Буйку. У нее была дымчатая шерсть и маленькие стоящие ушки. Летом, когда он гостил у дедушки, Буйка забывала, что у нее есть хозяин, — каждое утро дожидалась Мишку у дедушкиного крыльца. Мишка просыпался, и они шли в лес. Буйка облаивала бурундуков, а Мишка старался сбить их из рогатки. Когда это удавалось, Буйка визжала от восторга и бросалась к зверьку. Но того уже и след простывал. Лайка не особенно огорчалась: понимала, что это баловство. До настоящей охоты еще далеко, так хоть развлечься.
Сейчас Мишка еле сдерживал слезы. Представил, как стая волков набросилась на маленькую Буйку. Летит волчья шерсть. Их много, а она одна. И — страшный визг.
Дедушка писал, что и на волков найдется управа. Даром, что ли, он купил новое ружье двенадцатого калибра! А в конце письма: «Если ты, Мишатка, не приедешь к нам на зимние каникулы, то управиться с серыми будет трудно. Даже не раздумывай, только телеграмму дай».
— Поедешь, значит? — серьезно спросил отец.
— Поеду! — подтвердил, пряча письмо в карман. — Только мама…
— Уговорим! — пообещал отец.
Вот и каникулы! Мишка едет к дедушке. Ехать ему вечер и всю ночь, а утром дедушка встретит его на станции. Мать наказывала, чтобы в вагоне он сразу лег спать. А то проглазеет в окно, а потом проспит свою станцию.
Но не может Мишка спать. Все Буйка вспоминается…
…До начала школьных занятий оставалось всего три дня. Нужно было уезжать от дедушки, а тут открылась осенняя охота по перу. Обычно она открывается раньше, задержалась из-за весенних пожаров. Птицы выводили птенцов вторично — прежние гнезда погорели.
Мишке и домой надо, и с дедушкой поохотиться хочется! Дедушка тоже не находил себе места: пора выходить на промысел, но как же не обидеть внука? День-два не охота, далеко не уйдешь. Любимые дедушкины распадки и озера с самолета, наверное, не увидишь… Да и спешка на охоте — дело последнее.
Выход все же отыскался. Вечером к дедушке зашел хозяин Буйки — хромой тракторист Петр Шмаков. Понадобились капсюля для дымного пороха.
— Возьмешь Мишку с собой — дам капсюлей! — схитрил дедушка. Он, конечно, все равно бы дал, но решил испытать. — Возьми! Даром, что ли, он твою Буйку все лето на бурундуков натаскивал?
— А чего не взять? — сразу согласился Шмаков. — Далеко мне не уйти, пусть пестерь носит.
Рано утром Мишка, протирая глаза, шел за Шмаковым и боялся — как бы не наступить ему на больную ногу.
Рассветало. Но с реки навалился туман и спрятал под белыми боками всю деревушку. До последней крыши.
— Вот же угораздило! — чертыхался Шмаков. — Именно сегодня. До охоты — что ни утро, то золотая ягодка.
Мишка молчал. Боялся, что дядя Петя повернет к дому: разве в таком тумане что убьешь?
Буйка носится где-то впереди, только трава шуршит да невидимые в тумане птахи фыркают, взлетая у нее из-под самого носа. И вдруг она чихает уже сзади. Мелькнет, обгоняя, под ногами, остановится и начинает тереть носом бок — пушинка в нос попала.
— Что-о-об тебя! — спотыкается о нее Шмаков.
— Гав! Яв! Яв! — весело огрызается она из тумана, мол, попробуй найди!
— А еще мама! Эх, бесстыдница… — укоряет Шмаков. — Хорошая мать разве оставит детей одних? Да ни в жисть! А ты еще и заигрываешь.
Буйка понимает, о чем идет речь. Иначе отчего бы она теперь оглядывается и скулит?
— Да успокойся! Я пошутил, — уговаривает Шмаков. — Куда они денутся, большие уже!
Потом они медленно шли по берегу, по ополосканной волнами гальке.
— Тишина-то какая! — таинственно рокотнул Шмаков. — О-о! Могучая тишина. Придавило… покрывалище. Заглушило все…
И тут же — бух! — наплевала Буйка на спящее царство, бомбой влетела в воду. Шумнули на всполошенном подъеме крылья, сыпанула с них дробь воды. Шмаков сорвал с плеча ружье: утиная стая ушла, не показавшись охотникам.
— Так и будем пугалами ходить! — Тракторист присел на валежину, положил на колени ружье. Мишка опустился рядом.
— Придумал, дядя Петя! — вскочил он. — Вы на дерево залезьте и стреляйте, туман-то низкий. А мы с Буйкой будем уток на вас нагонять!
— Уток… с дерева? — хмыкнул Шмаков. — Это что-то новое. А вдруг я при первой же отдаче, это самое… кувырком?
— Ремнем привяжитесь!
Наконец Шмаков согласился и, заранее вытащив из брюк ремень, полез на дерево. Сначала он лез с трудом, обхватив коленями скользкий от тумана ствол, потом дотянулся до первого надежного сука, и дело пошло! Только дерево тряслось под тяжестью его могучего тела. Вот и ноги исчезли из поля зрения…
Не успел Мишка спросить — залез ли он, как над головой что-то взорвалось, аж уши заложило. Только открыл Мишка глаза — снова!
— Собирай, Мишка! — кричит сверху Шмаков.
«Кого собирать?!» — ошалело думает Мишка. Глядь, что-то тычется в ноги. Это Буйка подает убитую крякву. Отдает утку и снова исчезает в тумане.
…Стучат колеса. Мишка засыпает, опершись на руку. Потом голова его соскальзывает на подушку. И в это время стая волков набрасывается на Буйку. Такие большие — на маленькую! Она задыхается от отчаяния и боли, ищет взглядом Мишку. Волки подминают ее.
Мишка просыпается. Сильнее колес стучит сердце. Долго он не может успокоиться. «Вырасту — стану охотником! Волчатником. Всех уничтожу».
Поезд к дедушкиной станции подходил, когда еще совсем темно было. Мишка взял рюкзак и вышел в тамбур. На полу лежал утоптанный ночными пассажирами снег. От него ли, от грязного ли стекла струился, исходил холод, от которого, наверно, замерзают на лету птицы. Мишке захотелось назад, в духоту ночного вагона. Но это, конечно, только на секунду.
Поезд сбавил ход. Шел тише и тише. В тамбуре появился сонный, как осенняя муха, проводник. Он, не глядя на Мишку, отпер дверь, зевнул и высунулся навстречу желтоватому свету станции.
— Да… Живут же люди… Бр-р! Выть хочется.
Тут он оглянулся на Мишку. С таким видом, будто Мишка обязательно ему поддакнет. Держи карман! Выть ему хочется! Да в дедушкиной деревне жить лучше, чем в любом городе! Тут тоже кино почти каждый день. И автобусы заходят. А есть в городе речка, где карасей можно руками ловить — настолько они жирны и ленивы! А есть в городе лес, где рябчики чуть ли не на шапку тебе садятся?
Можно сказать об этом проводнику, да ну его!
Перрон был пуст. И совсем не было пурги, как представлял в тамбуре Мишка. Только снежинки ловко виляли в свете фонарей.
Мишка немного испугался: вдруг дедушка не приедет? Заболел или телеграмму не получил…
Поезд ушел. Тот проводник небось улегся себе, а тут стой и жди. Да и дождешься ли вообще. Вон лес чернеет… Вдруг волки нагрянут! И не отобьешься. Есть у Мишки в рюкзаке заряженный патрон, только без ружья кто же стреляет! Во сне-то Мишка и без ружья стрелял: зажмет патрон покрепче, щелкнет ногтем по капсюлю — бах!
— Мишатка, ты, что ль?
— Я, деда! — обрадовался Мишка и бросился через рельсы к повозке. Конь разгоряченно пофыркивал и дышал густым паром.
Дедушка подхватил Мишку на руки, как маленького, колко щекотнул бородой шею.
— По волков приехал, Мишатка? Самое время, самое время!
Значит, не напрасно поглядывал Мишка в сторону леса!
— Долго ждал? Напугался поди? А я супонь чертову полчаса проискал, а она на оглобле оказалась. Ты уж не серчай, Мишатка!
— Что ты, деда! Я совсем не боялся! Да у меня и патрон с собой. Если бы что — трах об рельсу!
— Ну! — засмеялся дедушка. — Тогда поехали.
— Поехали, деда!
— Но! Ступай! Гнедко!
Прямо через лес, где дикие волки, через лунные поляны, где кувыркаются в снегу разбодрившиеся зайцы, — к бревенчатому дому на самом краю села, где ждет его, Мишку, бабушка. Вот уже и совсем близко!
После радостной встречи и чая со всякими вареньями Мишку разморило, и он проспал до самого обеда. Когда он проснулся, услышал сердитый голос бабушки:
— И перестань выдумывать, старый! Никуда он с тобой не поедет! Тебе надо, ты и раскидывай свою падаль. Выдумал чего! Мальчишка ночь не спал, а ты хуже маленького!
— Да я подожду! — смиренно сказал дедушка. — Пусть поспит, я подожду.
— Езжай один, говорю! — наступала бабушка. — Воюй со своими волками, не втягивай мальчишку.
Мишка как только услышал про волков, вскочил и начал одеваться. Бабушка сердилась, но все же отпустила его с дедушкой. Только заставила выпить пол-литра молока. На дорогу.
Наконец вышли.
— Вот, Мишатка! Чуть наши планы не сорвались, — улыбался дедушка. — Хорошо, что ты прытко проснулся! Пойдем скорее.
На конюшне толпились люди, подписывали какую-то бумагу. Мишка узнал ветеринара — Якова Борисовича. Тот приветливо кивнул Мишке, вопросительно посмотрел на дедушку.
— Я готов! — сказал дедушка. — Вот и Мишатка поможет. Что же с ней, Борисыч? Болесть кака?
— Конь не машина! — махнул рукой ветеринар. — Шестеренки не поменяешь. У него и зубов-то не осталось…
И тут Мишка увидел лежавшую в углу лошадь. Он подошел поближе, но был настороже. На всякий случай: «Из мертвой главы гробовая змея…»
Мужчины вытащили ее из конюшни и стали укладывать в сани.
— Как сваливать будешь, Василий Федорович? Может, поехать с вами, помочь?
— Управимся! — уверенно сказал дедушка. — Где-то тут моток веревки… А, вот! Все. С богом. Но! Ступай, Гнедко!
Гнедко топтался на месте, фыркал и приседал. Потом дернул — резко, как молодой.
— Расшибешь! — закричал на него дедушка. — Черт шутоломный! Кого испугался-то?
Всю дорогу Мишка старался не оборачиваться, не глядеть на мертвую лошадь. Но все равно глядел. И привык, не стал бояться. Даже почти не жалко ее было! Зато сколько теперь они с дедушкой волков убьют! Спасут коров, овец, собак…
Сани потрескивали, попискивали под тяжелым грузом. Как же снимать ее? Вон сколько мужчин на погрузке было!
Гнедко совсем не бежал. Шел унылый, совсем опустил голову, будто думал, что скоро и его вот так же повезут на приваду.
— Тпру! Да тпр-р-ру же! Чертяка гривастый! Ну ты смотри, не хочет в лес-то!
Дедушка слез с саней и взял Гнедко под уздцы.
— Первый раз, насколько помню, вот так заартачился! — удивлялся дедушка, снова устраиваясь на санях.
Теперь ехали по лесу, пробивались к опушке. Выехали прямо к стогу сена. Тут дедушка остановил коня и говорит Мишке:
— Лезь-ка, Мишатка, на дерево!
Мишка хотел слезть с саней, но дедушка не разрешил:
— Ишь какой прыткий! Будешь следить, так разве волки подойдут к приваде?
Мишка забрался на дерево и уселся на суку, как глухарь!
— Потише тряси! А то снегу мне за шиворот налетело! — кричит снизу дедушка. — Держи веревку! Ну, чего на нее смотришь, вяжи к стволу! Вот так… Туго? Ну, и у меня готово. — Дедушка привязал второй конец веревки к ноге лошади.
— Сиди, Мишатка, крепче! Держись за ствол-то! Ну, дергаю…
Гнедко потянул сани к стогу. Веревка стала натягиваться, и у самого стога лошадь сползла на снег. Де душка повернул Гнедка назад, перегнувшись с саней, отвязал свой конец веревки и подъехал к Мишкиному дереву.
— Отвязывай, Мишатка, и спускайся!
Вот, оказывается, как все легко и быстро! Держитесь, волки!
— Деда, когда пойдем? Сегодня ночью?
— Ишь ты, шустряк какой. С недельку подождешь. Раньше они к лошадке и не сунутся.
«Вот трусы! — подумал Мишка. — Боятся подойти к мертвой лошади!»
— Они не лошади боятся, Мишатка, — сказал вдруг дедушка, — они человечьего запаха не переваривают.
— А откуда человечий запах?
— Ну как же! Ее ведь запрягали, гладили.
Мишка понюхал ладони и недоверчиво посмотрел на дедушку.
За столом дедушка хвалил Мишку и хитровато поглядывал на бабушку.
— Вот ты ругалась, старая, а как бы я без него приваду сбросил?! Он же — что твоя белка, прыг-прыг — и на сосне. А мне бы лезть да лезть. Еще бы, чего доброго, сорвался да затылком о сани… Вот бы тебе и привада получилась! А так — и я целехонек, и привада на месте, где ей положено быть.
— Вот разболтался! — удивилась бабушка. — То слова в день у него не допросишься, а то… Чего как хмельной? Мишаньке обрадовался?
Дедушка подмигнул Мишке и принялся за щи уже молча.
— Ой, старый! А я ведь сразу и не сообразила, почему ты его нахваливаешь! Никак, на волков намыливаешься взять?
Дедушка опустил голову и ухмыльнулся.
— И думать не смей, старый лапоть! За самого ночами не спишь, передрожишь вся, а тут еще и Мишаньку за собой тянет. Как тебе только не стыдно!
— Это тебе должно быть стыдно, старая! Волки уже под окнами собаку рвут, скоро в коровники проберутся, а ты на печи меня удерживаешь, курица напуганная.
— Да не держу я тебя, хоть вообще домой не приходи, а Мишаньку не смей трогать! Пусть вон зайцев, если хочет, ловит. А с тобой не пущу. Сказано — и все тут!
— Ну чего разошлась… — смирился дедушка. — То слова не допросишь, а то — как из кузова!
Мишка рассмеялся: ловко дедушка повернул бабушкины слова против нее же!
Тут дедушка встал из-за стола.
— Я, Мишатка, на станцию еду. За грузом. Не хочешь со мной?
— Ну до чего же колготной старый! — всплеснула руками бабушка. — Езжай один, не пущу я его. Станций он твоих не видел!
— Ну ладно, один так один. Всю жизнь один… — погрустнел дедушка и начал одеваться.
Мишка заерзал на стуле, но бабушка строго сказала:
— Сиди!
И дедушка уехал один.
Бабушка пичкала, пичкала Мишку всякими ватрушками, Мишка даже жевать устал. И все это время бабушка расспрашивала Мишку про его жизнь. Тоже! Нашла тему… «Костюмчик тебе новый справили, Миша?» Справили! Только он давно уже не новый. Как же он будет новый, если трое на одного…
— М… угу… — отвечал Мишка на все вопросы бабушки. И она была, кажется, довольна.
— Ну ничего! Ничего… — услышал он вдруг приближающийся издалека голос. — Теперь отдохнешь, выспишься как следует. Ишь, до чего мальчонку довели — спать не дают!
Вот тебе и на! Наугукался.
— Да что ты, бабуня! — пошел на попятную Мишка. — Так можно все на свете проспать.
А ведь действительно! Еще бы чуть-чуть — и дедушка отвез приваду без него. А так — вот, и на конюшне в первый же день побывал, и в лес наведался. Чуть было за грузом на станцию не поехал…
Тут Мишка покосился на бабушку, она погрозила ему пальцем.
— Хитрюня ты, Мишанька! Успеешь еще за грузами… Везде успеешь.
Мишка повеселел.
— Бабушка! А проводник вышел сегодня в тамбур и говорит! Как, говорит, в такой дыре люди живут?! Да, да! Думал, что я за него!
Бабушка сильно рассердилась:
— Ну надо же! Это у нас-то дыра? И ты ему ничего не сказал?
— Сказал! — выпалил Мишка. — Я ему сказал, что тут кино каждый день и автобусы ходят, а карасей столько, что ему в Москве не снилось…
— Надо же! — не могла успокоиться бабушка. — Нашел дыру. Ну ты молодец, что так его отбрил. Будет знать!
Дедушка вернулся затемно, озябший.
— Четыре рейса крутнул! — радостно сообщил он. — Овес возил. А вот это тебе, Мишатка! Пользуйся!
Он протянул Мишке моток стальной блестящей проволоки.
— Сейчас, Мишатка, перекушу и обжигать будем. Чтоб помягчела. Завтра на тропы пойдешь. Как ты на это смотришь, а, старая?
— А чего ему дома сидеть, пусть идет! — неожиданно согласилась бабушка.
И Мишка понял, почему она согласилась. Уж очень ей понравилось, что Мишка так лихо отбрил проводника. Эх! Сейчас бы столкнулся Мишка с этим зевакой!
…Проснулся Мишка от громкого разговора. У двери в замасленной фуфайке, выставив вперед больную ногу, сидел на табуретке дядя Петя Шмаков. Дедушка, пытаясь озябшими руками расстегнуть крючок на полушубке, нервничал и сердито говорил Шмакову:
— Во-во! Жди! Дождемся. В один прекрасный день нас судить будут! Да! А что ты думал? Раздобрились, скажут колхозники, наши охотнички. Сначала овцу волчишкам подбросили… Съели они овцу, Петр? — с издевочкой, будто сам не знал, спросил он.
— Съели! — охотно подтвердил Шмаков. — Но ведь снотворное в нее негодное начинили…
— А теперь вот кобылку слопали! — не слушая его. бубнил дедушка. — Проснулся, Мишатка? Во-во! Ты хоть постыди дядю Петю. Волки, Мишатка, ночью нашу лошадку схрумкали. Плевали на человечий запах! Я ему говорю: пока нажрались да дрыхнут, зафлажить! Зафлажить и перебить к чертовой бабушке… Чего уставилась, старая? Да ты-то тут при чем?!
Бабушка ничего не сказала, ушла в зал.
— …Вот. А наш дядя Петя нюни распустил. Подождем, говорит, следующей ночи. Придут, мол, косточки пососать!
Шмаков ухмыльнулся, махнул рукой и поднялся.
— Тебя не переспоришь! Пойду. Переоденусь и охотников созову.
— Загонщиков кликни! — обрадовался дедушка.
А через час бабушка сердито толкала дедушке в карман пирожки.
— Хоть перекусишь там… Всполошился со своими волками! Мишаньку растравил.
Дедушка вышел расстроенный. Мишка слышал, как уходили охотники, как прогоняли собак — на волков их тоже не берут… Потом заскрипели полозья. Загонщики увозили к месту охоты флажки.
Бабушка молча подтирала полы, гремела стульями. Ей, видно, очень хотелось успокоить Мишку, но она не знала, как к нему подступиться.
— Давай я тебе помогу, — вздохнув, сказал Мишка.
Бабушка обрадовалась, засуетилась:
— Что ты, что ты, Мишанька! Посиди, отдохни лучше. Или петли вон делай. Зайцев-то пойдешь ловить?
Вдруг она замолчала, прислушалась. Стукнула входная дверь.
— Ты чего, Петр?
Шмаков замялся, кашлянул в руку и заговорил смущенно:
— Тут это… Я ведь тоже без охоты получился. Нога разболелась. Так, думаю, не пойти ли нам с Мишкой. Просто посмотреть. А?.. — Он робко глядел на бабушку. — Да мы в сторонке, даже на глаза никому не покажемся!
— Небось дед надоумил! — фыркнула сердито бабушка.
— Да нет же! Чес-слово — нет!
— Да ладно, шут с вами, — смягчилась бабушка. — Собирайся!
Дорогой дядя Петя объяснял Мишке предстоящую охоту.
— Флажки — дело очень забавное. Берешь бельевую веревку. С полкилометра. И вот вяжешь к ней красные лоскуты — это флажки. Почаще, конечно, чтобы они везде видны были. Когда волки нажрутся, они осторожность теряют. Отсыпаются. Тут-то их легче всего зафлажить. Обтянуть веревкой с флажками. А уж из круга им не уйти — флажков боятся ужасно. Наверное, за огонь принимают. Ну, на всякий случай веревку с флажками пропитывают керосином. Чтобы еще и запахом их напугать.
— А потом? — заинтересовался Мишка.
— Самое простое! Охотники прячутся в кустах, а загонщики идут в круг, гонят на них волков.
— А если они порвут загонщиков?
— До сих пор ни одного не тронули. Нет, ружья загонщикам не положены. Опасно. Вгорячах про охотников забудут.
«Неужели они никогда не осмелятся перепрыгнуть через веревку? Ведь это так просто», — подумал Мишка.
— Бывает, волк уходит из загона, — будто угадал его мысли Шмаков. — Тогда этого зверя в десять раз труднее будет убить. Перестанет флажков бояться. Да еще, чего доброго, стаю этому научит.
На поляне горел костер. Трое парней в ватниках и по-мальчишески подвязанных шапках подбрасывали в него сучья, курили и о чем-то тихонько переговаривались. Рядом крестом приткнулись друг к другу двое саней. Распряженные лошади тыкались в них мордами, жевали сено.
— Буйка! — вскрикнул Мишка и бросился к саням. Привязанные к оглобле, на снегу лежали две лайки: огромный черный кобель ветеринара Фок и Буйка. Она, увидев бегущего со всех ног Мишку, вскочила. Но как-то настороженно, словно не узнала… Мишка увязал в снегу и задыхался.
— Стой! — крикнул Шмаков. — Назад! Укусит.
Но Мишка уже сам понял, что это не Буйка. У Буйки не было белого пятна на груди.
Он повернулся и понуро пошел к костру; вспомнил о том, что Буйку волки съели.
— Ну что ты так! — уговаривал Шмаков. — Дочь ее, Ветка. Всего шесть месяцев, а погляди! И умница, вся в мать. Вот появятся щенки — тебе самого лучшего!
Скоро к костру собрались все охотники. Оклад сделали удачно. Зафлажили двух матерых, трех переярков и четырех прибылых.
Дедушка был весел, шутил и грозил Шмакову пальцем:
— Ну, Петр, если не встанешь на номер, Мишатку поставим! Так, мужики?
— А что! Он парень толковый, поставим! — согласились охотники.
— Он еще всем нам нос утрет, — серьезно сказал Яков Борисович. — Грохнет матерого.
— Решай, Петр, скорее! — торопил дедушка.
— Уж поломаться для порядка не дадут! — заулыбался Шмаков. — Пошли! А ты, Миш, — повернулся он к Мишке, — не уходи отсюда. А то, не ровен час, под картечь угодишь. Да и за собаками смотри.
— Обложили толково, — расслышал удаляющийся голос дедушки.
Затихли шаги. Где-то треснула ветка. Пофыркивают лошади, сдувая с ноздрей колкую пыль.
Ветка, усевшись Фоку на хвост, следит за Мишкой. Фок лежит себе, не обращает на него никакого внимания.
— Ветка… шепчет Мишка и прислушивается. Ветка вскакивает, ощетинивается.
Теперь Мишка ясно слышит крики. Это загонщики будят волков.
С ели скатывается ком снега, еще в воздухе он рассыпается, и серебристая пыль мягко окутывает поляну. В это время звучит ломкий, нерезкий выстрел. Крик! И снова — выстрел, уже гулче, с дрожью. И поднимается пальба! Как в день открытия охоты на уток.
Мишка напружинивается, вглядывается в просветы между елей. Вот тут, совсем рядом, стреляют в волков! Тех самых, что разорвали Буйку. Разбойничают на ночных дорогах…
Фок фыркнул и вскочил. Поводок, удерживающий его, лопнул.
Мишка обомлел: на поляну, чуть не наскочив на собак, вывалился волк. Кони рванулись, заметались. Но сани их не пускали, и они стали подскакивать, выпучивая глаза и подбрасывая задними копытами снег. За зверем стелилась розовая полоса. Он волочил переднюю лапу и явно ничего не видел перед собой.
Фок сбил его с ног, вцепился в ухо и так рванул, что от уха остались одни клочья.
Волк присел, заплясал на задних лапах. И тут он, кажется, разглядел Фока…
К месту свалки летела Ветка. Порвать поводок она не могла, просто вывернулась из ошейника.
Три тела сплелись в яростный клубок.
Мишка видел, как волк врылся лопатками в снег и тщетно пытается сбросить с себя тяжелого Фока. Неожиданно клубок распался. Удивленно и растерянно замерла Ветка. Казалось, она спрашивала Фока: зачем же ты его выпустил? Волк придавил ее серой глыбой. Он не тряс ее, как это делают собаки, а сжимал клыки, отпускал Ветку и тут же снова рвал — уже в новом месте, быстро подвигаясь к шее.
Подбежавшие охотники не могли оторвать Мишку. Он, забыв про все на свете, бил тяжелым суком по ненавистному серому телу, иногда попадая и по черному — Фок смертельной хваткой сжимал челюсти на горле волка.
Испуганный дедушка оттаскивал Мишку все дальше от костра, лошадей, поляны… Он почти бежал, таща его за руку, и твердил:
— Что же ты это выдумал? Что же ты это выдумал?! Я ведь на тебя надеялся…
Мишка вырывался, его трясло. Он не понимал, что происходит. Буйка, Ветка, кровь на снегу, ошеломленный дедушка и спокойный Шмаков, уносивший куда-то на руках Ветку.
Не скоро вернулись к костру.
Мишка искал глазами Шмакова, а дедушка, присев на корточки, оттирал ему снегом валенки, полушубок, руки. Отяжелевший розовый снег сползал, кровенил дедушке ватные брюки, а он не замечал этого — тер и тер.
Шмаков появился из-за лошадей.
— Жива, — спокойно сказал он.
Из саней донеслось тихое поскуливание.
Мишка вырвался, побежал, спотыкаясь о разбросанные головешки. Чуть не сбил с ног Якова Борисовича.
Ветка лизала ему руки, обдавая влажным и горячим дыханием, тыкалась носом в голую шею, но не могла дотянуться до лица — не слушались, не поднимались ноги.
И тут только Мишка расплакался. Он почувствовал, что никогда не станет охотником. Даже на волков. Нет, не станет…
2
— Снежок выпал! — радостно сообщил появившийся на пороге дедушка. Еще потемну он ушел запрягать Гнедка, и сейчас привязанный у калитки мерин создавал фыркающий шум. Он любил работать и торопил дедушку ехать на станцию за грузом. Но дедушке нужно было позавтракать, иначе бабушка и не отпустит! Она напекла уже блинов, налила в чашку свежей сметаны и заварила крепкий фруктовый чай.
— Спит Мишатка-то? — поинтересовался, садясь за стол, немного озябший дедушка. После охоты на волков он уже не уговаривал бабушку отпустить Мишку с ним на станцию — чувствовал себя виноватым. Хорошо, что все обошлось, а если бы Фок не подмял зверя?
— Спит! Чего же ему делать? — немного с вызовом ответила бабушка. И дедушка понял ее, погрустнел и согласно закивал головой:
— Оно конешно, конешно… Зимой детишкам хорошо спится.
Но Мишка уже проснулся. Каждую ночь теперь он видел во сне одну и ту же страшную картину: раненый волк прыгает через флажки и бросается на него, на Мишку. Угрюмый черный Фок мчится наперерез зверю, но промахивается, а маленькая Ветка вязнет в глубоком снегу, скулит от отчаяния и бессилия.
— Ты ешь, ешь, старый! Не прислушивайся!
— Да я ем… Снежок выпал. И не морозно совсем…
— Вот и хорошо, не замерзнешь, значит!
— Да я-то и так не замерзну. Просто… это… Может, Мишатка пойдет петельки поставит? Чего уставилась-то! Каникулы проходят, а забавы — только твои блины. Воздух ему нужон, по снежку походить!
— Походит, походит! Ты вон ешь побыстрее да поезжай с богом. Вечно воду мутишь, черт старый. А потом переживай!
— Ну вот… И бог, и черт! Все сразу. Петли-то в сенцах, на гвозде…
Дедушка хлопнул дверью, потом послышался тонкий взвизг стронувшихся с места полозьев. Захрустел свежий снег под большими старыми копытами Гнедка.
За завтраком бабушка не отходила от Мишки. Вздыхала, прикладывала ему руку ко лбу.
— Может, все-таки заболел, Мишанька? Совсем вон не ешь!
— Да сыт я, бабушка…
Мишка думал о Ветке, о ее перемолотых волчьими зубами ребрах. Как она лизала Мишке руки! Какие-то всегда добрые, ласковые собаки у Шмакова.
— Может, бабушка, схожу я к Ветке?
— Сходишь, сходишь. Только не сегодня, а? Не сегодня, ладно, Мишанька? Ну… Это… Сегодня снежок вон выпал. Дед наказывал петли поставить.
— Я поставлю, — сказал Мишка, почему-то совсем не радуясь предстоящему охотничьему делу. — Приду от Ветки — и поставлю.
— Не-е! — задумчиво возразила бабушка. — Так все тропы захватят, народ-то вон какой шустрый!
Мишка немного удивился: никогда бабушка не интересовалась зайцами, а тут так волнуется, что тропы захватят! И догадался вдруг: с Веткой что-то неладно… Ну конечно! А он так и не сходил к ней…
— Я пойду к Ветке! — твердо сказал Мишка.
Дом у Шмаковых был закрыт на замок. Мишка прошел по двору за сарай, где, он знал, была собачья будка. Когда-то в ней появилась на свет забавная и неутомимая охотница Буйка. Затем — дочь Буйки, копия матери — бесстрашная Ветка. Такая маленькая, а не побоялась волка!
Будка была пуста. Мишка не верил этому, рассеянно шарил рукой в соломенной подстилке. Значит, бабушка уже знала…
Мишка не стал заходить домой — взял потихоньку в сенцах петли и пошел через засыпанный снегом огород к близкому лесу. В лесу было тихо и вязко снегу выше колен. Со всех сторон тянулись к уютному пятачку ельника бусинки ровных мышиных следов. Мишка тоже пошел к ельнику. Под мрачными деревьями было сумрачно. Сюда почти не попал снег — ни по ранней зиме, ни сейчас. Мыши теребили здесь тонкие и гладкие еловые шишки.
Первый заячий след попался сразу за ельником. Косой прошел на маху, словно от кого-то спасался. Мишка походил, походил кругом. Но больше следов не попадалось. Вернулся, приладил кое-как две петли. На тропе, не на тропе — кто его знает! Хотел замести свои глубокие наброды; да не стал, пошел домой.
Только-только приехал на обед дедушка — еще даже не разделся, как под окном затрещал голубой трактор Шмакова. Дядя Петя не был печален, и это удивило Мишку. Неужели он так быстро забыл Ветку?
— Чего это ты, Миш, хмуришься? Пойдем — на тракторе прокачу!
Бабушка накрывала на стол молча. Она сердилась на Мишкино самовольство и даже не спросила у него, как он сходил к Ветке. Или же не сердилась, а боялась, что Мишка догадывался про ее лукавость?
— Садись, Петро, — пригласил, поглядывая на бабушку, думая, что та сердится на него, совсем уж присмиревший дедушка.
Шмаков смотрел на Мишку и топтался у порога. Конечно, и он догадывался, что Мишка узнал…
— Так это… Поедем, а, Миш? У меня в кабине тепло, я ее войлоком обшил!
— Поезжай! — вдруг разрешила бабушка. — Сейчас на улице хорошо, чего дома сидеть?
— А может, со мной? На станцию, а, Мишатка? — встрепенулся дедушка.
Мишке ничего не хотелось, он не знал, как сказать им об этом. Ему было обидно и горько, только и понимал он, что взрослые не могли поступить иначе.
Шмаков так и не дождался от него ответа, вышел, тихонько притворив дверь. Мишка слышал, как легкий «Беларусь», все тише урча, бежал за околицу — к силосным траншеям.
— Расстроился… — вздохнула бабушка. — Не пообедал даже. А ты куда, старый?!
— Поеду… — Дедушка уже одевался, подпоясывался залоснившимся сыромятным ремешком. — Сыт я чтой-то. Гнедко ждет…
Мишке было жалко дедушку, дядю Петю Шмакова, задумчиво сидящую бабушку и… больше всего — несчастную Ветку. Незаметно он уснул.
— Мишанька! Мишанька! — тормошит его бабушка. — Вставай, маленький. Негоже на заходе солнца спать-то! Вставай, я блинов напекла. Горячие еще! Вставай.
Дедушка и Шмаков сидят за столом, пьют чай. Мишка виновато улыбается, вспомнив, что обидел их днем. Шмаков хватает его под мышки, усаживает на колени.
— Завтра, Миш, выходной! Петли пойдем ставить.
Мишка вспомнил, что уже поставил две петли, но не сказал об этом. Плохо поставил, сам чувствует. Пойдет с дядей Петей — научится.
— Фок-то околел! — говорит вдруг дедушка. — Встречаю сегодня…
— И-и-и! Старый! Совсем уж… — пристально смотрит на него бабушка. Потом все молчат.
— Как?.. — не выдерживает Мишка, переживший в одну секунду всю ту боль, что доставила ему гибель Ветки. — Такой сильный!
Шмаков прижимает его к себе.
— Да… это… — тянет, поглядывая на бабушку и не зная, что говорить дальше, дедушка.
Бабушка постучала пальцем по лбу и вышла в зал.
— Отравился, что ли? — спрашивает Шмаков.
— Да не… Мы-то не заметили — волк ему на шее какую-то жилу передавил.
— Какая собака была! Гордый пес. Никогда из рук куска не брал. У ветеринара они почему-то все такие. Сколько их было. Попробуй — погладь! Это тебе не Буйка и не Ветка.
— Собака ведь — копия хозяина, — задумчиво говорит дедушка. — Яков Борисыч, он, брат, не из простых.
— Степенный… — соглашается Шмаков. — А гляди-ка — верно! Вон у Казаченки собаки. Все какие-то придурковатые! За кошками гоняются, аж дух вон. А пойдут в лес — олухи. Все ноги оттопчут.
— А у Кропотина псы ленивы. В лес не затащишь. Жрут как боровы, а работать…
За окошком мутнело, мутнело, и вот стало уже черно. Зимний день такой — ничего толком не сделаешь, не увидишь, не послушаешь, а уже кончился. Шмаков засобирался домой.
— Пойду. Ветку посмотреть надо. Утром доползла до порога и встала — на двор запросилась. Я не пустил. Пристудит раны-то.
— А ты куда, Мишанька?!
— Баб… Бабуся! Я сейчас, я быстро!
— Да куда же ты?
— К Ветке! С дядей Петей!
— Ты же ходил уже…
— У них на замке было! Я только погляжу — и приду. Правда, дядь Петь?
— Ну тогда и я схожу! — решил дедушка. — Дай-ка Ветке блин!
…Вернулись они поздно. Бабушка ждала-ждала — и уснула в кресле у телевизора. А он уже ничего не показывает, только шипит и потрескивает. И только дедушка его выключил — бабушка проснулась.
— А у Ветки щенки будут! — сообщил Мишка. — От Фока. Красивые!
Бабушка посмотрела на дедушку. Тот ухмыльнулся.
— Ну и хорошо, ну и хорошо… — как-то неразборчиво отозвалась бабушка, ставя на стол подогретые в духовке блины. — Я их маслицем освежила. Зарумянились вот… Доедайте блины и ложитесь. Уморилась я с вами. Вон на печке — воды для ног нагрела. Напарь Мишаньке посильнее. А то он сегодня в лес шастал.
Мишка чуть не подавился. А когда откашлялся, бабушка уже ушла в спальню.
— Да! Главное-то я не сказал! — прихлопнул ладошкой по столу дедушка. — Эх, бабка спать легла. Вот бы огорошил старую! Волка-то этого, что ты отдубасил, на тебя записали! Так Яков Борисыч и сказал: «Мишкин волк! Он его взял». Так что ты теперь и справку с печатью получишь, и премию. Каково, а?! Отхватил сотенку!
Мишка смутился. Он чувствовал, что волка взял все-таки не он. Фок ведь… А это собака Якова Борисыча. Но все равно было приятно!
— А может… — сказал он все-таки, чуть подумав, — мне только справку, а премию — Якову Борисовичу…
— Нет, Мишатка, нет! Если уж Борисыч сказал — все! Значит, не сомневайся — твой волк. Без тебя бы он ушел. Сколько раз такое бывало! Порвет собак и уйдет. Волк — это тебе не заяц!
Мишка представил, как приедет домой. Мать примется расспрашивать: как отдохнул, чем занимался? А он будет пожимать плечами — нормально, дедушке помогал. А вот когда уж начнет подтрунивать отец (тот без подколок дня прожить не может), Мишка вспомнит про справочку и сотенку. «За волчишку», — скажет матери. А отец сто раз прочитает справку, хмыкнет и не найдет больше что сказать. Он ведь тоже считает себя охотником: вырос в этой деревне, утятничал, рябчиков постреливал. Такой уж знаток природы, что книжки оспаривает.
«А к волку подловлю еще десяток зайцев! — уверенно думает Мишка. — Может, дядя Петя даст завтра понести ружье, а в это время наскочит кто-нибудь посолиднее! Ну это… лиса или шатун». Мишка долго представлял, как они с дедушкой и дядей Петей везут по деревне матерого шатуна.
…Мальчишек набежало! Яков Борисович идет рядом с санями и держит Мишку рукой за плечо. И все смотрят на Мишку, завидуют.
…Гнедко тянет тяжело: это тебе не легкий овес со станции возить! Мишка сидит на бурой с проседью шкуре, еще сохранившей тепло огромного, лежащего рядом, мощного звериного тела.
— С одного выстрела?! — не верит кто-то в толпе.
— Как есть! — важно отвечает дедушка. — Чья кровя! Сомневаетесь еще!
Медвежью тушу стягивали с саней всей деревней И то кое-как осилили. Потом стали распяливать для просушки шкуру. Она нигде не помещалась — ни в сенцах, ни в доме. В клуб понесли, убрали стулья из кинозала, чтоб на полу расстелить. Но и тут тесно! Тогда решили в дедушкином огороде ее раскатать, ну и сторожить ночами, чтобы никто не подрал. Огород порядочный — пятнадцать соток. Только и половина шкуры на нем не уместилась. Перемахнули остаток через забор, накрыли и соседский огород. Еще малость куда-то деть надо… Все упарились, но веселы: по шкуре бегать тепло и мягко.
— А давайте улицу ею застелим! — предлагает хозяин, Мишка.
— И не жаль такого добра-то?! — пытливо спрашивает его дедушка. — Повез бы домой.
— Что я, еще не добуду, что ль?! — веско возражает Мишка.
И вот тащат шкуру на главную улицу, растягивают повдоль нее. Собаки вмиг разбежались, попрятались за домами. Только Ветка осторожно подошла, обнюхала краешек мохнатой дороги и не испугалась. Кто-то хотел по шкуре на тракторе проскочить, но ему дали от ворот поворот. Ребятишки бороться стали на мягкой улице, взрослые разулись и пляски устроили под баян. Даже дедушка несколько раз через голову кувыркнулся, пока бабушка соседям что-то про Мишку рассказывала.
А сам Мишка так устал от этой колготни! Отошел в сторонку, прилег на уличный ковер и уснул… «Спит?» — спросил, подойдя к нему, дядя Петя Шмаков. «Пусть поспит…» — шепотом ответила — бабушка. А ведь будто и не наблюдала за Мишкой!
Неудобно спать, когда за тобой наблюдают. Мишка открыл глаза…
…В кухне горел свет, что-то приглушенно скворчало. Вроде картошка жарится. Секунду-другую Мишка соображал: кто же его с улицы в дом занес? Потом понял, что про медведя ему приснилось.
— Ты, Петр, очень-то его по лесу не затаскивай. Не дай бог простудится. Ему уже домой скоро, — монотонно и недовольно воркотала бабушка.
— Чего уж тут! — отозвался Шмаков. — Не маленький, сам понимаю… Мы только до речки и назад. Я вон и термос взял, чайку попьем. Да и не морозно сегодня, воздух совсем мягкий.
— У зародов, у зародов петелек навяжите! — встрял в разговор дедушка. — Там их чертова уйма.
— Опять! — воскликнула бабушка. — Ну все он поперек, все назло! Это же даль такую мальчонку тащить.
— Далеко, далеко… — смущенно согласился Шмаков. — Мы поближе, до речки. Рябчишек по дороге посмотрим. Пусть уж Мишка отцу подарок привезет. Давно поди рябчиков-то не пробовал.
Мишка торопливо одевался. Ночь-то как пролетела! С вечера не собрался толком… Но валенки лежали на табуретке у печки — дедушка не забыл про них! Носки и рукавицы тоже высохли.
Вышли из дому вроде в темень, но еще и огород до конца не прошли, как Мишка понял, что уже рассветает. Небо из черного становилось фиолетовым, цвет его слабел. Вывиднелась плотная стена леса, а когда перелезли через забор, связанный дедушкой из еловых жердинок, стали различаться первые деревья.
— Тут кто-то уже ходил, — заметил Шмаков Мишкин след, — только не разберу — вчера или уже сегодня.
— Вчера, — Мишка боялся, что дядя Петя увидит его петли. Надо бы поскорее пройти их, а то смеху будет…
— Ну как, Миш, не холодно?
— Не-а!
— Хочешь ружье понести?
Мишка почувствовал себя вполне готовым к любым неожиданным встречам. Ружье было совсем легкое и надежное — Шмаков ухаживал за ним — куда там! Вон только по валенкам стукает.
Мишка глазел по сторонам, ожидая нападения зверя: а что? Не в парке ведь!
Шмаков, как назло, шел по вчерашним Мишкиным следам, через ельник, в березнячок… Но вот вроде уже и прошли… Не заметил!
— Ружье! — закричал шепотом дядя Петя. — Скорее, заяц!
Мишка споткнулся, упал, совсем зарывшись в снег. Дядя Петя поспешно продувал стволы. А заяц танцевал вокруг подрагивающей березки, будто дразнил их, подпрыгивал, падал на бок и сучил в воздухе размашистыми лапами.
И Мишка словно очнулся!
— Он в петле! Дя Пе! В петле! Поймал!
Шмаков оглянулся, будто испугавшись чего-то, повесил на плечо ружье.
— Фу ты! Чуть не стрелил. Кто ж это его заарканил?
Мишка уже боролся с огромным беляком, падал с него, хватал руками пустоту.
— Не надо, Миш! Пойдем!
— А заяц?
— Хозяин заберет. — Шмаков уже направился было дальше.
— Да это мой заяц! — закричал ему вслед Мишка. — Я же петлю ставил!
На руках заяц затих, не дергался. Мишка не отдавал его Шмакову, крепко прижимал к груди. Белый лесной зверь пах свежим снегом и еще чем-то — то ли сеном, то ли подмороженной капустой. Он крепко прижал к спине широкие лопушистые уши и выставил напоказ крепко-желтые резцы, подрезавшие, наверное, уже не одну осину.
Возле изгороди они замешкались. Перелезть ее с зайцем Мишка не мог, а отдать дяде Пете не хотел. Шмаков стал отвязывать жерди, делать проход.
И только в темных сенцах дома заяц сильно задергался, закричал диким, резким голосом. Мишка даже испугался немного. Да еще бабушка выскочила, переполошенная совсем.
— Ну-ну… — уговаривал беляка Мишка. — Чего ты! В лесу же хуже. Там волки.
— Мишанька! Кто же это тебе дал?
— Дал! — весело воскликнул Шмаков. — Сам взял! Вот шустряк! Прямо за огородом зайца прижучил!
— Чьи кровя! — появился в сенцах дедушка. — Тащи его в хату!
Зайца упрятали в мешок, он там уснул, наверное. Потому что не шевелился. А дедушка и дядя Петя начали лепить в коридоре, возле умывальника, просторную клетку. Она получилась ничего себе, сверху — как стол.
— Вот и ладно! Вот и ладно, — радовалась бабушка, мне тут как раз стол нужен. Всякую посуду ставить. И зайцу у дверей не жарко будет. Красив-то как!
Беляк забился в угол клетки. Мишка натолкал ему сена, положил кусок хлеба и воды поставить не забыл.
Шмаков не переставал удивляться:
— Идем… Сидит! Я — давай ружье! А он в петле! Чуть не стрелил. Разве впопыхах разберешься! А это Мишкин, оказывается. Вчера поставил, сегодня — есть! Шустряк!
После обеда Мишка пошел к Ветке. Дядя Петя утеплял ей будку — обшивал снаружи старым матрасом. Вместе с Мишкой сменили умятую подстилку, натолкали внутрь кучу пакли, разворошили. Теплое гнездо получилось! Ветка забралась в будку и сразу улеглась.
— Не отошла еще совсем, — будто извинялся за нее дядя Петя. — Но есть лучше стала. Отойдет!
Потом они снова пошли смотреть зайца. Бабушка улыбалась, довольная:
— Дед ему овса насыпал — ест!
— Да ну! — не поверил Шмаков, просунул в клетку свою мозолистую ладонь.
Заяц зашевелил толстыми, как жилка, усами, потянулся к ладони, приподнимая свой куценький зад. Он ел из руки осторожно: набив рот, чуть пятился и садился.
— Скажи кому! Засмеют. Где это видано, чтобы дикий зверь сразу к руке потянулся? Ну Мишка! Вот уж везучий! То волка палкой забьет, то косого приворожит.
— Чьи кровя! — хихикнул из кухни довольный дедушка. — Мы еще не то могем!
— Вот все слушаю тебя да молчу. А чего молчать? Кровя! Вроде бы только ты и ость свет в окошке. А уж я тут ни при чем. Какие там у тебя кровя! — передразнила его бабушка. — Наша-то порода, пожалуй, пошустрей, поделовитей будет. Вон мои братовья — плечисты, бог ничем не обидел. И старики они крепкие, куда тебе, лысому! Мишка-то в отца, а он — весь в них. От матери, значит, от меня все перенял. Кровя!
— Пусть! Пусть! — уже всерьез наступал на нее дедушка. — Только ваша порода земельная, домашняя. Как есть все валенки, на смелое дело не расшевелишь. А мы-то — охотники! Вольные, каленые. Волка — поленом! Зайца — за уши. А ты как думала! Кровя! Вот они где и выплыли кровя.
Шмаков смеялся.
— Чья правда, Петр? — обратился к нему дедушка.
— Ваша! — добродушно ответил дядя Петя. — Смешались кровя, и добрые дети пошли. Лучше тех и тех.
— Вот так! — победно глянула бабушка.
Ночью заяц шуршал сеном, гремел перевернутой миской. Мишка просыпался, слышал его и все радовался, радовался… Он подумал вдруг, что беляк мог и задохнуться в петле. Куда и сон делся! Пробрался тихонько в коридор.
Мишка гладил зайца, чувствуя под легким скользким Мехом тонкие ребрышки, и жалел его. «Худышка! — шептал он тихо в темноте. — Сена вволю поесть не дают, гоняют по лесу. Не буду вас больше ловить. Хватит сена! Все не съедите. Сколько для этого животика… Ого! Молодец, набил! Вот подожди, я тебе утром морковки достану. Она сладкая! Пробовал морковку, нет? Попробуешь! И брюквы дам. У бабушки есть. И свекла есть».
— Мишанька, ты чего это не спишь?!
Мишка ловко пробежал в темноте через зал и юркнул в постель. Но он еще не спал, когда бабушка зажгла на кухне свет. Наступило повое зимнее утро. И еще не кончились Мишкины каникулы. Так здорово!
3
А время бежит!.. Не то что в городе. Мишка оглянуться не успел, а уж только три денька до отъезда осталось. Отец телеграмму прислал: почему, мол, не пишешь. Еще и писать! Тогда вообще ничего не успеешь. Но чтоб сильно-то родители не волновались, дал ответную: «Жив здоров чего и вам желаю Михаил».
Заяц Мишкин жиреть стал. Да так быстро! Щеки нарастил, бока округлил. Забавный! Все подряд ест. И с полу, и с рук. Бабушка на него нарадоваться не могла: любит, когда хорошо едят. Не понравилось только, что беляк ее резиновый сапог схрумкал, до самой подметки.
— Значит, организм требует! — утешил ее дедушка.
Мишке за сапог очень неудобно было, будто сам его съел. Да и потом чувствовал, что заяц — какая-никакая, а все же обуза для дедушки с бабушкой. Это для Мишки они готовы на все.
— Деда, я отпущу зайца…
— Да ты что, Мишатка! Пусть живет. В радость же он тебе!
— Отпущу, деда! Все равно скоро уеду, ему скучно.
— А давай так! — улыбнулся дедушка. — Вынесем на крыльцо: убежит — бог с ним, останется — пусть живет.
Вынесли зайца утром. Дядя Петя Шмаков тоже присутствовал, даже волновался.
— Не пугай его, Мишка! — приговаривал он. — Тихонечко, будто на прогулку!
Беляк сидел на крыльце и смешно подергивал лапками.
— Отвык от снежка-то! — сказал дедушка и закурил.
— А старый-то что волнуется? — посмотрела на него бабушка.
— Сама-то! Оделась бы! Выскочила…
Заяц потянулся шеей, обнюхал Мишкин валенок.
Отпрянул, соскочил на одну ступеньку вниз. Оглянулся Спрыгнул на дощатый заснеженный настил, приладил к спине уши и дал стрекача. Только его и видели!
— Ну вот! — грустно сказал дедушка. — Из рук ел…
— Пирожки любил, — тоже грустно сказала бабушка.
— И сапоги! — добавил дядя Петя Шмаков.
Дедушка засмеялся. Бабушка улыбнулась и пошла в дом. А Мишка смотрел туда, куда понесся обрадованный беляк, и переживал за него. Чудак все-таки! Там и холодно, и голодно, и волки.
— Ничего, Миш! — дядя Петя тронул мальчика за плечо. — Всякому дома лучше. Вот только бы под ружье не подлез — поверил в людей-то.
— Надо… — Мишка чуть задумался. — Надо всем охотникам сказать, что в лесу бегает ручной заяц. Пусть не стреляют!
Дедушка посмотрел на Шмакова:
— А что? Скажем, Петр! Пусть не трогают зайца!
— Скажем, — согласился Шмаков. — Только ты. Миш, медведей в дом не таскай. А то не на кого и охотиться-то будет.
— Ладно! — великодушно пообещал Мишка. Что он. шуток не понимает, что ли!
И всем сделалось весело.
Клетку разбирать не стали: а вдруг заяц передумает и вернется? Он не вернулся. Уже ночь наступила. Все, нечего его ждать…
Мишка» места себе не находил. Пусто как-то. Тоска просто. Да что там телевизор! Добра-то.
Потом пришел дядя Петя. Веселый, руки потирает.
— Во, Миш! Что я тебе сейчас скажу!
— Опять баламутить? — сердито посмотрела на него бабушка. — Парень только успокоился!
— Вот характер! — чуть слышно сказал дедушка, когда бабушка отлучилась на кухню. — Ну что там, Петр?
Шмаков оглянулся, будто знал какую-то тайну.
— У моего стожка горностай набродил! Мышкует. Я что думаю: это же какое можно чучело сделать! Вот бы Мишка и увез в школу, а? Такая диковинка!
— Да время-то! — вздохнул дедушка. — Пока словишь…
— Чего ловить-то! Сейчас ледянку сделаем, утром поставим.
Мишка заволновался. Сам себя не понимал. Вроде бы и жалко немного зверька, да, с другой стороны… Вот бы ребята ахнули! Шутка ли — горностай! Цари шубы из него носили. Белее снега!
— Ну что, Мишатка, словим? — спросил дедушка.
— Воды только принесите, ловильщики, — сказала, появляясь на пороге, бабушка.
Полное ведро воды оставили на ночь на крыльце. А утром, перед тем как идти на конюшню, дедушка занес его в дом. Пока пили ранний чай — Мишке тоже не спалось, — ведро отходило от холода у печки. Потом дедушка просверлил во льду дырочку со стаканное донышко, перелил воду в кастрюлю и стал шевелить лед. Мишка так боялся, что ничего не получится! Лед-то хрупкий. Но дедушка не боялся, он шевелил и шевелил его, потом разом вынул из ведра.
— Не урони, старый! — бабушка, оказывается, тоже переживала.
В руках у дедушки искрилось от лампочки прозрачное, будто хрустальное, сказочное какое-то ведро.
— Вот и все! На морозец его, на морозец! — Дедушка нырнул в сени. Тут подоспел дядя Петя. Он вынул из кармана фуфайки лохматое куриное крылышко.
— Вот и привада. Айда поставим!
— На работу не опоздайте! — крикнула вслед бабушка.
Шмаков шел впереди, чуть прихрамывая и увязая в снегу. За ним — Мишка, переходя на бег, спотыкаясь.
— Скорей, а то не догоним! — посмеивался дедушка.
За оградой, у стожка, дядя Петя стал разгребать снег. В яму опустили ледяное ведре, притоптали его собранным снова снегом, сверху притрусили сеном. Шмаков опустил в отверстие крыло.
— Ну вот и все! Повезет — наш будет.
Еще в темноте вернулись домой. Дядя Петя пошел заводить трактор, а дедушка — запрягать Гнедка.
До обеда Мишка ходил сам не свой. Томило ожидание.
— Да ты, Мишанька, успокойся! — не выдержала бабушка. — Днем он ни в жисть не попадется. Он только по ночам охотится. В кино сходи, а? Время-то и пройдет.
Какое там кино! Тоже развлечение…
Мишка пошел проведать Ветку, но на дверях у Шмаковых снова висел замок. А так, одному, во двор заходить было неудобно. Завернул к стожку…
Он сидел за столом, когда ввалился замерзший дедушка.
— Может, сходим? — спросил, не раздеваясь.
— Чего ходить-то! — махнула рукой бабушка. — Мишанька уже проверил.
Ну бабушка! Мишка чуть не подавился.
— Придет! — Дедушка вроде не заметил, как Мишка смутился. Сел за стол и принялся за борщ.
Бабушка поставила на стол сковороду с жареной картошкой, банку холодного молока.
— Поставил я Гнедка, — сказал дедушка. — Пойдем сейчас с Мишаткой колоды проверим.
— А успеете к ночи? — встревожилась бабушка. — Не ближний свет.
— Сколь успеем! Глядишь, на ушицу и принесем.
— Вот и славно! Зимой ушица — божий дар.
Мишка ничего не знал про колоды, но спрашивать не стал: и так узнает!
Собрались они с дедушкой быстро. Дедушка только и взял с собой мешок да топор.
— Бегом нельзя, Мишатка! — сдерживал он. — Распаришься, а потом холодком пронижет. Это ж все! Воспаление легких.
Еще до реки стали попадаться плотные заячьи тропы. Следы на них свежие, четкие. Может, и Мишкин беляк только что пробегал тут? А вдруг выскочит сейчас и — прямо к Мишке!
— Гля, Мишатка! Кто вот это настрочил, а?
Мишка вглядывался в крестики следов, но так и не понял.
— Рябчики! — дедушка пошел дальше. — А вот?
След какой-то странный: две точки, две точки. Может, это копытца раздваиваются?
— Коза, наверно…
— Правильно, колонок! — засмеялся дедушка. — Он всегда лапки вместе держит. Так меньше проваливается. И соболь так же бегает, и горностай. Только у соболя след крупный, почти по твоей ладошке. А у горностая помельче, поострее. А вот, смотри…
— Волк! — сразу определил и заволновался Мишка.
— Не совсем! — улыбнулся дедушка. — Лиса. Вишь, как ходит — цепочку тянет. Следок за следком, что по ниточке. А лапка очень уж аккуратная, листочком. Волк — что собака, пальцы у него вразброс. Да и след двойной, нестройный.
Так, не пропуская ничего и все объясняя молчаливому Мишке, дедушка привел его к речке.
— Во! Глянь…
От стога сена удалялись, держась близко к снегу, большие желтые птицы.
— Косули! — Дедушка остановился и достал портсигар. — Голодновато им сейчас, Мишатка. Пусть заимствуют, а? Не обеднеем! Да и лишку я прикосил. Шмаков тоже их, можно сказать, учел. Есть у меня лицензия на двух косулек, но как-то рука не поднимается. Пусть живут, а?
— Конечно! — горячо поддержал Мишка. — Бить — так медведя.
— Да и медведя сейчас абы кому не дают. Тоже разрешение нужно.
— Ну! Что же, он на тебя бросается, а ты его не тронь?!
— А с чего бы он на тебя бросался? Медведь — зверь смирный.
— Ага! Смирный…
— Конечно, бывают случаи — на раненого наткнешься или непотревоженного. Если его зимой из берлоги выгонишь — тогда все. Озвереет вконец. Это шатун. Такого бить не запрещается.
Они шли по плотному снегу — вдоль замерзшей реки. На втором ее повороте, в самом центре излучины, оказалось устье широкого ручья. За ближайшими кустами лед был затрушен сеном.
— Вот и пришли, Мишатка. Отдохни, сейчас будем проверять.
Отдохни! Бревна катал, что ли? Ну ладно, пусть покурит…
Дедушка накурился и принялся за сено: стал сдвигать его на новое место. А под снегом лед тонкий-тон-кий — ступи попробуй! Все дно как на ладони. Камни, песок и коряги.
— Колья-то не трогай, Мишатка! А то уплывут паши колоды.
Дедушка достал из мешка топор и стал крошить чистый лед, пробивать его от берега до берега.
— Ну, вот и все. Теперь посмотрим!
Дедушка потянул за кол.
— Крепче держи, Мишатка! Не вырвет?
Течение было сильное, но Мишка с дедушкой-сильнее. Из воды показался темный дощатый ящик. Вот подтянули его к кромке, вот он пополз по заснеженному прочному льду.
— Баста! Открывай дверцу! Да вон, вон — сзади. Ну не голыми же руками, Мишатка! Куда торопишься?
Мишка приподнял дверцу-дощечку, заглянул внутрь и тут же отпрянул: в ящике копошились черные змеи.
— Э! Налимов испугался! Вот чудак.
Налимы! Мишка много знал про них. Отец часто рассказывал, как ловил их в детстве. Ночами — на живца, днем — колол вилкой в камнях. Но Мишка почему-то думал, что налимы совсем не такие. Уж больно они оказались страшные… Ну не страшные, а какие-то неприятные. Ишь, скользят! Усы распустили.
— Маловато, Мишатка, маловато. Четыре штучки Ну ладно, клади в мешок! Вторую потянем.
Мишка ухватил одного налима за хвост, потянул кверху. Рыба дернулась, будто подпрыгнула. Мишка резво отскочил. Налим скользил по льду возле самой кромки воды. Дедушка смотрел на него, но не шевелился. Мишка опомнился, бросился вперед и схватил рыбу почти в воде.
— Шустряк! — засмеялся дедушка. — А я, грешным делом, подумал, что уйдет.
— Я ему уйду! — Мишка стал выхватывать из колоды сильную рыбу и толкать ее в мешок.
Во второй колоде оказалось всего два усатика, а в третьей, что ближе к берегу, и вовсе ни одного.
— Ничего! На уху хватит. Сейчас больше и не будет, ход давно кончился. В ход-то колоды не ставят — браконьерство. Этак можно всего налима вывести. Давай-ка стянем ловушки на берег.
Солнце тускнело, висело совсем низко — вот-вот нырнет в чащобу.
— Попей, Мишатка, из проруби!
— Зачем, деда?
— Попей, попей! Это ручей особый. Попьешь из него — снова сюда вернешься когда-нибудь. Так потянет — никакая сила не удержит.
— Я и так вернусь, деда! — сказал Мишка, опускаясь на колени. Первый глоточек он сделал осторожно, словно боялся обжечься холодом. Потом осмелел и стал пить легко, как из кружки.
— Ну хватит, хватит! Горло побереги.
— Деда, а если папке этой воды повезти — его потянет сюда?
— Кто его знает… Вообще-то пить прямо из ручья надо.
— Эх, бутылку не взяли, а то попробовали бы.
— А ты, Мишатка, расскажи про этот ручей ему, про налимов, про особую воду. Это его тоже должно потянуть.
— Конечно! Я ему все расскажу. Про зайца, горностая…
— Про волка, Мишатка!
— Про волка?… А что про волка?
— Ну, как ты его поленом оглушил!
— …Не надо, деда. Мама знаешь какая! Больше сюда не пустит…
Рукавицы у Мишки обледенели, но внутри были сухие, теплые. Дедушка нес мешок, а Мишка топор.
К дому подошли уже в темноте.
Дядя Петя Шмаков ждал их в прихожей.
— А я уже встречать вас собрался! Что долго-то? Не провалились?
— Да вот рыбу кое-как дотащили! — Дедушка бросил мешок на пол, и он стукнул, будто был с камнями.
— Все не пустые! — Бабушка бросала налимов в эмалированную чашку. — Картошка уж сварилась, сейчас и ушица будет. Садитесь ужинать! Вон пирожки пока, а там и уха будет.
Дядя Петя не раздевался.
— Чего ты, Петр? — удивился дедушка.
— Да я… Это… Может, пойду сначала ледянку проверю?
— И то! — Дедушка пошел к вешалке. Мишка стал поспешно натягивать валенки.
— Совсем спятили! — всплеснула руками бабушка. — С мороза — и на мороз… Мальчишку-то чего таскать?!
— А ты удержи его! — сказал дедушка. — Удержи-ка своими пирожками! Чьи кровя!
— Опять за свое!
Бабушка обиженно повернулась и пошла к плите.
Сначала шли молча. Всем было немного неловко.
— Ты куда-то не туда ведешь, Петр! — опомнился дедушка.
— Туда, туда! — Шмаков прибавил шагу. — В клубе собрание охотников. И так уж опоздали….
…И вот все это уже прошло. Все. И собрание, и проводы Мишки. Стучат колеса, поезд спешит в город. Туда, где трамваи, катки, мороженое, театры, где ночью светлые улицы и много народу. Оттуда, где фыркает в конюшне трудяга Гнедко, где улицы присыпаны сеном и силосом, где над каждым домиком стоят по утрам столбы белого дыма, где глухой лес и быстрая река, чистый ручей с непростой водой… Туда, где мама и папа. Оттуда, где бабушка и дедушка…
Вот было бы так: если скучно жить, можно сделать, чтобы дни летели быстро-быстро! А если жить интересно, чтоб шли они еле-еле, чуть заметно. Тогда Мишка еще бы был у дедушки…
Вагон покачивается, покачивается Мишка на своей полке. А в окне уже ночь. Дедушка, наверное, заряжает патроны, готовится к новой облаве. Бабушка телевизор смотрит. Нет, делает вид, что смотрит, а сама считает дни, когда снова заявится он, Мишка… Пролетело бы это время как одна ночь. Утром бабушка глядь, а Мишка уже на пороге!
— Ой! Мишанька! Вернулся… Случилось что?
— Да нет, баба, снова каникулы!
— Да что же это мы, старый, проспали, что ли!?
— Проспали! Какое — проспали. Это Мишатка ведь из ручья моего, особенного, попил. Вот и захотел вернуться. Так захотел, что время колесом пошло! Ты, Мишатка, отцу про ручей рассказывал?
— Ой, деда! Некогда же было… Я даже не успел его увидеть.
— Это ты чересчур уж много воды попил! Ну ничего! Ничего. Потом расскажешь. Только не забудь, ладно?
Вагон покачивался. Мишка старался понять — что же получилось? Снова, что ли, от дедушки едет? Опять каникулы пролетели? Догадался наконец. Какой быстрый сон! Появился и исчез. Мелькнул, как горностай..
…Рано утром Мишку разбудил дядя Петя.
— Ты, Миш, не серчай! Я уж по ходу ледяшку прихватил… Глянь! Вон сидит…
Мишка бросился к двери.
— Куда же ты голенький-то! — Бабушка схватила что подвернулось под руку — штаны, носки, заспешила за Мишкой: — Надень, надень! Успеешь, налюбуешься…
Какое там — надень! Мишка не мог оторваться от прозрачной ловушки. Белый зверек, пятясь, вжался спинкой в холодную стенку, взъерошил шерсть. Он хрипел, показывая красный язычок, тонкие губки дрожали и дергались.
— Не вздумай руку сунуть, Мишатка! — сказал дедушка. — Это такая молния! Чиркнет — месяц не заживет.
— Ведро стает, — заметил Шмаков. — Не поймаешь. Надо бы…
— Эх, недотепы! — рассердилась бабушка. — На месте надо было. Вот каково теперь… — Она повела глазами на Мишку.
— Ну… Это… — дедушка постукал пальцем по ледяшке. — Пусть поживет, порадует Мишатку! А чучело мы ему потом, посылочкой. Правда?
Мишка и не заметил, как дедушка и Шмаков ушли. Начинался день, их ждала работа.
После завтрака бабушка начала собирать Мишкины вещи. Она собирала очень медленно. Задумывалась, сидела с рубашкой в руках. Потом укладывала в чемоданчик рубашку и сидела с полотенцем. Это Мишка видел мельком, когда забегал в дом — то за мясом, то за кусочком налима. Для горностая.
Зверек ничего не брал. Только шипел и вздрагивал. Вот смотри: белый, как заяц, а натура совсем другая!
И Мишка понял, что горностай так и умрет — от голода и страха. Он, наверное, очень гордый… Умрет и станет чучелом. Чтобы городские ребятишки могли любоваться им. День полюбуются, два. А потом и внимания на него обращать не станут. Есть же в школе чучела — белки, ондатры, птиц всяких. Пылью покрылись, никому не нужны. Только Мишка будет приходить к нему… Вспоминать, как он ничего не хотел, бился об ледяную стенку и пятился, пятился…
Солнце поднималось все выше, выше, а ведро не таяло. Мишка вошел в дом, постоял возле бабушки. Она его не заметила: сидела с носками в руках. Вышел. Горностай хрипел и цокал. То ли жаловался, то ли плакал. Мишка сел рядом, на крылечко, погладил рукой ловушку, будто его погладил, тонкого, отчаявшегося зверька. Потом взял ведро двумя руками и осторожно положил на бок…
Поезд шел почти без остановок. Туда, где… Оттуда, где… Последнее, что еще успел подумать Мишка — это про ручей. Не забыть… Рассказать… Отцу…
Жить хорошо
1
Это колеса выстукивали: «Жить хорошо! Жить хорошо!»
Петя достал новый бумажник и пересчитал наличные. Надюха не поскупилась — отвалила на распыл сотню. Но на вокзале, в киоске, он заметил яркую газовую косынку и не раздумывая сделал жене подарок. Надюха даже прослезилась. После прощальных поцелуев на перроне ухватила его за руку и под сиплый гудок тепловоза, заглушивший последние ее слова, торопливо сунула ему в карман еще пять красненьких. Вид у нее был совсем несчастный. С минуту Петя видел еще, опасно высунувшись из тамбура, как она махала ему — словно на фронт провожала…
Петя грустно улыбнулся, заплевал «Приму» и, выдернув из бумажника пятерку, спрятал остальные деньги подальше. Из вагона-ресторана он пришел в свое купе с двумя пачками шикарных сигарет «Ява-100» и двумя лотерейными билетами — на сдачу.
В купе ехали приличные люди. Петя не решался забраться на свою верхнюю полку на глазах у них. Да и жалко было мять новые брюки, а снять их — можно, нет? Нигде не написано.
Петя слонялся по коридору, снова и снова выходил в тамбур покурить и все мечтал о своей верхней полке. Потом проследил, как зашедший в туалет майор вышел оттуда с форменными брюками в руках, но уже в шерстяных шароварах. И выругался про себя. Ведь шаровары и у Пети были.
Скопировав эту процедуру, Петя сладко потянулся в белом покачивающемся ложе. Приличные люди вели тихие семейные разговоры по поводу моющихся обоев, японского линолеума. За тонкой перегородкой, на уровне Пети, кто-то возился, будто ежа проглотил. А ниже веселились, играли в карты. И женщины смеялись.
Тело у Пети вроде засыпало, а вот голова сопротивлялась, не хотела туманиться для непривычно раннего отдыха. Петя приподнялся, дотянулся до сетчатой полочки и достал из кармана пиджака лотерейки. Долго разглядывал их, улыбался, как ребенок, поверивший в добрую сказку, потом нашарил ручку и подписал голубенькие бумажки: на одной вывел «Н», на другой — «П». Как хорошо было у него на сердце!
…Очнувшись, он ошалело уставился в блестящий потолок. В купе горел слабый свет. Приличные люди разговаривали шепотом, а откуда-то издалека, будто из другого вагона, жаловался стонущий радиоголос:
Я потерпел неудачу! А все могло быть иначе! Иначе! Иначе!..Петя постепенно успокаивался, но еще чувствовал легкую испарину на шее. Приснилась же такая ерунда… Будто входит он в огромный, сверкающий расточительными люстрами зал ресторана и не успевает усесться за столик, как подбегает официант с меню. Посмотрел в это меню, а там!.. На холодные закуски — вдовы и разведенные женщины, на горячее — блондинки, на десерт — брюнетки. «Есть заказное! — зашипел на ухо официант. — Девочки! Что подаем?» Ну, ясное дело, Петя просто растерялся и слепо ткнул в меню пальцем. Глядь, официант ведет за руку Надюху. «Я знала, что ты сюда зайдешь! — зловеще сказала Надюха и по-хозяйски расположилась за столом. — Платочком, косыночкой хотел отделаться, топор зазубренный. На этой косыночке я тебя и повешу! А сначала рассчитайся с официантом!»
Дрожащими руками Петя достал бумажник и вытащил из него две лотерейки. Официант спокойно взял их, посмотрел на свет и исчез. «А деньги где? — ненавистно прищурила глаза Надюха. — Сто сорок рубчиков, где?!»
«Ваша «Н» выиграла! — спас Петю подскочивший официант. — Вот, полюбуйтесь! — положил на стол тиражную таблицу, ярко разукрашенную голыми мужчинами и женщинами. На Надюхин билет выпал… «молодой чувствительный брюнет с томным взглядом и автомобилем «Жигули» в хорошем техническом состоянии».
«Ну тогда живи! — радостно сказала Надюха и подмигнула официанту. — Теперь ты мне не нужен, колун ржавый».
Петя отходил от кошмара. Он лежал тихо, как покойник. Впервые за много лет он лежал ночью один. Петя даже пошарил под простыней. Один… Чудно!
Он почувствовал легкую потребность, но надо было слезать с полки, обуваться на виду у приличных спутников. Они, конечно же, сразу поймут, куда его потянуло. «Потерплю… — решил Петя. — Не придумают одноместных купе. Вот и мучайся так».
Он перестал думать об этом, и это отдалилось, стало необязательным. Вагон покачивало, было мягко и уютно. Все вещи на виду. К Пете пришел сладкий покой.
«Жить хорошо! Жить хорошо!» — не уставали радоваться колеса надежной и гладкой дороге. Петя согласно и грустно кивал. Одному ехать все-таки немного тягостно. Вот увидел сон — и рассказать некому. Так и пропадет, забудется. Надюха небось тоже мучается, если не гулянка какая…
И Петю словно обухом трахнуло. В одной маленькой и быстрой мысли уместились подвыпившая компания у какой-нибудь подруги жены, шуры-муры и… пустая квартира, шепот в темноте. В темноте!
Петя придерживал дыхание, но оно рвалось наружу, в его ранимое сердце безжалостными зубами вгрызалась ядовитая мышка. Урчала, захлебывалась обильной сладкой кровью. Петя закусил губу, вцепился обеими руками и волосы: «Грызи, грызи, насекомое!»
Он уже наяву видел всякие нехорошие вещи, вытворяемые в легкомысленно оставленной им двухкомнатной благоустроенной квартире.
«Недаром она сегодня простыни меняла!..»
Петя взмок в одну секунду.
«Вырвался, дурак! Вырвался! Сейчас же вернусь».
Он решительно сел и мотнул головой.
— Выспались? — услышал он приятный женский голос. — Может, мы вам помешали?
Пожилой сидел, прислонившись спиной к голубой пластиковой стенке. А это, наверно, его дочь — лет двадцати пяти, смуглая, худенькая. В брюках и кофточке.
— Что вы! — наконец ответил Петя вежливо. — Кому вы можете помешать! — Он почувствовал, что сказал это и веско, и в меру доброжелательно — как и надо было.
— А вы, случайно, не курите? — спросила она шепотом. — А то, знаете, ресторан уже закрыт.
— Вам или… — Петя указал глазами на папашу.
— Мне! Мне! — доверительно улыбнулась она. — Папа не курит, он у меня молодчина.
Петя запустил руку в карман пиджака и выудил потрепанную пачку «Примы», но тут же вспомнил о покупке. Торопливо спрятал дешевку, достал черную блестящую коробочку с золочеными буквами, протянул ей.
— Я только одну! А вы не хотите?
Петя сбросился вниз.
— Здесь, наверное, нельзя, — тихо сказал отец. — Пошли бы в тамбур.
— А мы и пойдем! Правда? — будто умоляла она.
В тамбуре было сумрачно и прохладно. По стенам ползли божьи коровки. Она ловко распечатала пачку, вынула две длиннющие сигареты и одной поделилась с Петей.
— Где у вас карман?
Петя спрятал пачку и достал спички. Ему понравилось, как она курила: затягиваясь, чуть закидывала голову, и тогда лоб освобождался от легкой завитой пряди, лицо становилось еще милее, еще приятнее.
— Вы знаете, почему в вагонах свободно? — спросила она, укладывая руки на груди, под большими вязаными выпуклостями, так, что сигарета торчала в пальцах на безопасном расстоянии. — Все ведь сейчас едут на юг, за черноморским загаром. А мы мчимся на восток.
— За дальневосточным загаром! — подтвердил Петя.
— Я не за загаром… — вздохнула она. — Летали в Москву, к профессору Одинцову. Не слышали о нем? Знаете, это просто чудо! Но… Надо же такому случиться — профессор слег. Три дня промучились. В гостиницах не устроишься, кошмар какой-то! Кое-как добрались до Хабаровска, теперь вот поездом.
— А что с отцом? — серьезно интересуясь, спросил Петя.
— С отцом? Ничего… Да это, собственно, не мой отец — мужа. Свекор. Так говорят? Он провожал меня… — Она снова стала затягиваться, чуть придвинувшись к Пете. — Понимаете!.. — перешла на шепот. — Всякую надежду потеряли. Два года… Живем с Володей два года, а детей все нет и нет. Ничто не помогает. Я уже и бога молила! Смеетесь?
Петя не смеялся. Ей показалось… Он ошарашенно молчал. Стремительное откровение хорошенькой женщины взволновало его до предела. «Ничего себе! — думал он. — Ничего себе!» Незнакомый мужчина, ночь, свекор под боком… И Петя начал догадываться, что его родное Излучье безнадежно погрязло в едкой трясине устоявшегося быта, что жизнь — светлая и быстрая, развивающаяся по одной ей только понятным законам, — обтекает его, как свежая горная вода обтекает замшелый валун — не раскачивая и не срывая налепившихся водорослей.
Пете стало совсем грустно. Он устыдился недавней вспышки ревности к Надюхе. «Осел я! — подумал печально. — Осел! Козел и косолапый мишка…»
— Будут! Будут еще! — пообещал почти торжественно. — Какие ваши годы?..
— Правда?! — обрадовалась она, засветилась вся. — Так ведь бывает! Вы тоже знаете?
— Да сколько хочешь! — с жаром подтвердил Петя, но тут же прикусил язык.
— Бывает… — о чем-то думала она, нервно ломая сигарету. — Знаю, что бывает, но так ведь ждешь, так ждешь — сил никаких нету!
Она отвернулась к окну, всматривалась в темноту.
— А я ведь тоже случайно появилась! — засмеялась вдруг, обдав Петю искрами уже шаловливо-веселых глаз.
«Шустрая! Как белка. Во крутнулась!..»
Она опять стояла на прежнем месте, и Петя угощал ее новой сигаретой.
— Как случайно? — стеснялся заглядывать ей в глаза — острые какие-то…
— А так! Не было, не было. Папа с мамой привыкли, что меня нет, и взяли девочку из детдома. А через три года и я появилась. Представляете! Маме уже тридцать пять было, а папе — сорок два.
— Да ну! — сказал Петя, и сердце у него екнуло. — Правда?
— Конечно правда! Вот я стою перед вами. И не урод, верно?
— Красивая! — подтвердил Петя, пьянея от всего этого, но больше всего — от появившейся мысли, что Надюхе еще далеко и до тридцати…
— Ну, может, и не красивая, а все же не урод! Вы бы могли поцеловать меня, правда? Не противно же?..
— Конечно — нет, — еле выговорил Петя и стал неловко доставать сигарету. Она засмеялась как-то непонятно, ласково провела рукой по его плечу и исчезла.
Успокоился Петя не скоро. Он курил и не накуривался, а «Примы» под руками не было. Внутри уже не одна мышка жила, а целый выводок. И весь этот хвостатый клубок скулил, пищал и мягко терся о большое и нежное его сердце.
2
С Надюхой они жили хорошо. Очень хорошо. Да и чего — вся родня, и его и ее, — под боком. Заскучать некогда — именины, крестины, свадьбы. Сплошные праздники. Рюмкой Надюха никогда не попрекала. Весел и ласков был Петя, принявши немного. Иногда плакал, чувствуя, что ласки в нем для одной Надюхи слишком много. Тогда и она мочила теплыми слезами подушку. Одинаковая их печаль рождала одинаковые сны, наполненные детским лепетом и пахучими пеленками.
Гулянки Пете надоели. К шутам это бесконечное застолье! Одни и те же разговоры, одни и те же подковырки. Намеки на их с Надюхой неуменье. Воспитание-то у родни какое? Излученское. Самодельное, как те сараи, что возле каждого дома навтыкала Петина бригада. Поэтому Петя все чаще сказывался хворым. И Надюха уходила веселиться одна.
Веселиться она любит! Пьет, как все думают, в меру, но Петя-то замечает, что для женщины мера эта великовата. Однако тоже никогда не одергивал жену… Чувствовал каким-то потаенным, глубинным нервом, что этого делать не надо. Да и хорошела она, выпивши, несказанно. Только на нее — певунью да плясунью — тогда все и глазели.
Смолоду Петя был ревнив, «сек» за женой неустанно. Казалось, то тому, то другому на что-то намекает и тут же след заметает: кто тропку понял — и под снегом найдет… Петя делал вид, что развезло, его укладывали на диван. Тогда он «сек» с закрытыми глазами, улавливая связь между скользкими, будто случайными, но — его не проведешь! — выведывающими эту самую тропку словами. Но все оказалось чепухой, и постепенно Петя отвык от ревности. Может, и потому, что Надюха становилась уже не той — раздобрела малость, похорошела в обратную сторону, как всегда бывает с женщинами, не отведавшими живительного сока материнства.
Петя мог гордиться тем, что за всю свою почти тридцатилетнюю жизнь не целовался ни с кем, кроме родной жены. Правда, большую половину отпущенных на их долю поцелуев они использовали, почти сразу. Потом в поцелуях не стало сладости и трепета. Свыклись, что ли. Притерлись и успокоились.
…Человеку почти тридцать, а он нигде, кроме Излучья, где родился, вырос, окончил ПТУ, став плотником четвертого разряда, женился и в конце концов получил двухкомнатную благоустроенную квартиру, не бывал. Армия — не в счет. Тоже ведь не в столице сапоги топтал.
Товарищи, долго помнившие его по бригаде, писали из Навои, Сибири, с БАМа: приезжай, бригадиром будешь! Вроде и трепыхалось немного сердце, пыталось распустить неопытные крылышки, но сразу же успокоенно замирало, как только Надюха замечала привычно: «Везде хорошо, где нас нет».
Да, в их жизни не было невзгод, и покой с достатком казались незыблемыми, как стены излученского клуба, срубленные еще Петиным дедом из лиственницы. Потому, когда Пете предложили путевку в дом отдыха, он растерялся. Надюха же и вовсе оторопела.
— Не пущу! — вдруг заявила решительно. — Знаю эти дома!
— Ну, ну… — удивившись такому ее порыву, успокаивал Петя. — Не ругайся… Чего это ты… Я и не поеду. Только предложили ведь. Не заставляют.
— Я им заставлю! Я им заставлю!.. — Она смотрела на него как шут знает на кого. Вроде бы он уже чего-то натворил, что ли…
Надюха успокоилась. Правда, весь тот день не отходила от него, виновато улыбалась: «Ты ведь не обижаешься? Нет?.. Я не хотела таким словом ругаться. Вырвалось как-то…» Вечером сама, что было не так часто, полезла с ласками, с какой-то ошалелостью целовала, гладила по голове…
— Вот если бы вместе поехать… — вздыхала. — А так — нет! Нет, Петя, не пущу! Там бабы — знаешь какие!
— Какие? — спросил он, притаив дыхание. Он знал, какие там бывают бабы, наслышался. Но перед Надюхой как-то бессознательно захотелось выставиться совсем уж несмышленышем.
— Какие! Порядочные в эти дома не ездят. А вот вертихвостки всякие и рыскают. Мужиков изыскивают. Да что ты, маленький, что ли! Вон Светка Ковалева сколько там отдыхает! Поедет — так лоснится вся, повариха ведь, жир бесплатный. А вернется — на поганку похожа, смотреть противно. Там так, закрутят голову в два счета. Нет уж! Мне самой муж нужен. Не пущу, хоть ты раздерись тут!
— Да на кой мне эти поганки!.. — протестовал Петя.
— Молчи! — оборвала его Надюха. — Известно, день не нужны, два, а потом понадобятся. Ты тихий. С виду-то ты тихий, при мне. А вот вырвешься!
«Вырвешься». Пете это слово понравилось, поскольку вроде посулило неведомую доселе свободу и не постигнутое им блаженство.
А утром выговорившаяся за ночь Надюха была уже другой — спокойной и задумчивой.
— Не поедешь — в другой раз путевку не дадут, — рассуждала она, пригорюнившись, — а жизнь идет… Что мы видим от нее, Петя?
И всплакнула даже ни с того ни с сего.
— Ну а если и случится что, так чтобы только я не знала. Ладно?
И так похорошела в эту минуту, что Петя мгновенно решил: не поеду! Обнял ее крепко-крепко, будто она собралась уезжать, а не он. Надюха же с силой вырвалась, вспылила:
— Обрадовался!
Надулась и испортила Пете все настроение.
3
Были проводы и в бригаде. Выпили после работы. Как повелось, ставил отпускник. Затеяли легкие разговоры: кто, где и как отдыхал, что с ним в это время случалось. Случалось что-нибудь со всеми, и выходило, что с Петей тоже что-нибудь случится — никуда от этого не денешься. Петя смущался, но чувствовал, что где-то внутри, может, возле самого сердца, появилась маленькая, мягкая и щекотливая мышка. То язычком, то хвостиком касалась она, задевала там что-то, и от этого Петино сердце замирало, а потом билось сильно и быстро.
И Петя почти поверил: что-то будет! Еще очень как-то неясно, совсем слабо захотелось ему, чтобы это что-то действительно было. Но без осложнений и мук, приятное и легкое, как в цветном кино. В какую-то секунду он еще удивился этому странному вроде желанию, этой неожиданной мысли. А в следующую секунду удивился тому, что и желание это, и эта мысль никак не отразились на его обычно чуткой совести.
Наверное, впервые Петя с таким горячим, но все-таки незаметным для глаз товарищей интересом слушал подобную болтовню. И стыдно было за всех — и рассказывающих и слушающих — немного, и сладко как-то.
К семи почти все разошлись. Остались двое — Миша Лесков и Федя Лыков, крепче других привязанные к Пете.
Лесков с виду и видный, и какой-то жуликоватый. Худющий, что топорище, длинный до нескладности, а вот лицо — ничего. Если глупостей не говорит. Этот Миша Лесков бросил якорь в Излучье после долгих скитаний по морям: ходил, говорит, за крабом, брал селедку, минтая. Но чаще всего вспоминал «райский остров Шикотан», славившийся сайрой и девчатами. В Излучье Лесков заехал года два назад — проведать какую-то свою тетку. А у тетки оказалась приятная для Миши страсть подыскивать ему «подходящих невест».
Федя Лыков — небольшой полупаренек-полумужчина, по состоянию здоровья оставивший любимое место помощника машиниста тепловоза. Странное у Феди лицо — узкое, длинное, а нос будто от другого лица — маленький и вздернутый. Нос этот подтягивал верхнюю губу, и казалось, что Федя напряженно ждет: вот-вот он чихнет, и губа уляжется на свое законное место.
Говорил, конечно, Миша Лесков. Он сейчас без этого просто не мог. Говорил шумно, с чувством, похохатывая и гудя в нос.
— Вот это жизнь, Петя! Когда шуршит в кармане, все бабы твои — и мягкие, и жесткие! Каких их только нет! Натоскуешься, наэлектризуешься в рейсе, ну а зато потом! — Миша закатывал свои выпуклые глаза и ерзал по скамейке острым задом. — Зато как вырвешься..
«Вырвешься!» Оно так и каталось у Пети в ушах это распаляющее и на редкость приятное слово.
— Тебе не понять! — подкалывал Лесков. — Засосал тебя вместе с потрохами этот чистенький жизненный омутишко. Мужик! Работяга! Нет, Петя, таких бабы не любят. Не любят, нет! — Миша сильно дернул головой, словно был очень зол на Петю и старался причинить ему боль. — Нет в тебе…
— Брось ты! — в сердцах огрызнулся Петя, что случалось с ним совсем редко. Даже кулаком пристукнул. — Тебя любят! Что ж тогда жены твои от тебя бегут?
Лесков засмеялся и шумно выдохнул:
— Пылкий я, Петя! Они меня просто боятся.
Федя Лыков тихонько смеялся, словно котенок мурлыкал. Он был безобидный и доверчивый. Двое детей уже, а все краснеет…
— Вот брешет! — засипел Федя полушепотом. — Он им денег не дает, они и убегают!
Лесков трагически посмотрел на Федю. Взгляд этот был долог и пугают. Петя внутренне подготовился дать отпор, если уж дойдет до рукоприкладства, но Лесков полез рукой куда-то под стол и с нажимом почесался.
— А зачем бабам деньги?! — сказал он. — На ветер пускать? Так мы это сами могем!
То, что все так вот обошлось, еще больше подняло Пете настроение. «Хорошие у нас в бригаде ребята! — подумал умиленно. — Спокойные, уважительные. Бригадира уважают, не кобенятся никогда, от работы не отказываются. Мастера уважают — и в глаза и за глаза. Не роются в нарядах, как другие, не ищут упущенную им где-то копейку. Вот и меня провожают — разве не приятно! И не жалко поэтому угостить по-человечески. Надюха даже не покривится, поймет. Она тоже людей уважает, хороший она человек. Вот и в дом отдыха отпустила… Да она даже лучше, чем я всегда о ней думал. Лучше! Повезло мне, чего там говорить. Может, если бы Лесков на ней женился, тоже другим человеком стал…
Эх, Надюха ты моя, Надюха! Ребятишек бы тебе парочку или трех. Кучерявеньких, как Пушкин, тепленьких, пискливых… — Петя ушел в себя и не слушал Мишу Лескова, хотя и глядел на него вроде пристально, как бы с полным вниманием… — Говорят, иногда бабы-то с отдыха в подоле привозят. Даже черненьких. Кому беда, а кому и радость. Вот жизнь… Мне, мужику, без ребятишечек трудно, а уж ей-то! Эх, Надюха, — мелькнула шаловливая мысль, шаловливая и щекотливая, — был бы бабой — привез бы тебе! — И опять почувствовал внутри сладкую мышкину возню: это ей, маленькой заразке, нравится! — А если бы… — И Петя даже сжался. Мышка пискнула и укусила за самый краешек сердца. — Нет! Я бы ее не отпустил… Никогда и ни за что! А как же она?.. Ну она — дело другое. Я же — мужик. Ну и что? Как что?! Женщина — дело святое. Все от нее. Все! Вся чистота жизни. Любой дом — дворец, если женщина чиста. Тогда и жить охота, и детей кучу. И работа, будь она трижды разнелегкая, не нарастит горба, не убьет… Женщина. Да, святое. Но сколько мужиков пропадает, спивается, когда их жены забывают про свое главное. Мужики чуткие. Не засекут, не застанут, а все равно поймут, когда в женщине пропало главное».
Сколько знал Петя таких спившихся мужиков. И жены их действительно были с кем-нибудь не против. Природа, видно, заложила в мужика какой-то безошибочный приборчик — чуть что, так даст сигнал, писк какой-нибудь. Ну не без этого: кому-то попадает и негодный аппаратик — то молчит в ясную минуту, то загудит не по уму… У Пети вот тоже поначалу жужжал непрерывно, будто проводку замкнуло.
— Ну да! — громко говорил Лесков, морщась и закусывая сайрой из консервной банки. — Ты мне это, Федя, брось! На хрена тогда жить, если не жить как следует! Почему же я должен горбиться для того, чтобы какая-то там манька мои башли в чулок прятала? Не надо! Не хочу, чтобы даже у манек загнивала душа. Вот говорят, что деньги — вода. Так это истинная правда! А вода застоя не любит, должна течь, журчать и услаждать нас в жажду. — Лесков потянулся к стакану. — Не в Америке живем, на черный день откладывать не обязательно. Всегда прокормимся — все учтено! Работаешь — получай, пошел в отпуск — получай, заболел — получай! Что еще? А на пенсию пошел? Без денег остался? Так вот, брат Федя. Социализм! Понимать надо.
А ты… Черный день! — Лесков даже передернулся. — Черный — он для всех, я так понимаю, будет не белым. Что же тогда: ты жри, а другие пусть тебе в рот смотрят?! В такой день я, Федя, истину говорю, палачом буду! Да! Головы буду рубить тем, кто сами жрут, а над другими смеются. Без суда и следствия — чик голову к чертовой матери! И тебе отчикаю, если таким окажешься… Не нужны такие социализму, а уж коммунизму тем более.
— Но и пропивать-то…
— А ты мне этим в нос не тычь! — слабо возразил уставший Лесков. — Если пью, что, конечно, случается, то деньги мои и считать тебе их нечего. Еще вопросы есть?
— Нет, — сказал Федя уныло. — Но все же пить не надо. Так вот, для радости…
— Да ты не оправдывайся, не оправдывайся! — пристально посмотрел на него Лесков. — Раз влип, навешал цепя на шею, терпи. Смазывай их и терпи. Я тебя за это не осуждаю, но и не жалею, потому что мне в чем-то туже, чем тебе.
Минуту провели в молчании. Миша Лесков поднял голову, отходя от каких-то своих дум, взгляд его просветлел, налился веселостью.
— Федь!
— А?..
— Ты в кабаке-то хоть бывал?
— Нет. В ресторане был один раз.
Лесков закашлялся, махая руками, словно крепко подавился.
— Да!.. — протянул наконец, еще больше выпучивая заслезившиеся глаза. — Тебе, кроме сказок, пока ничего рассказывать нельзя.
— Кабак — это и есть ресторан! — пояснил очнувшийся Петя. — А вот я там ни разу не был.
— Не брешешь?! — уставился на него Лесков. — Ну-у! — И так покачал головой, что Петя даже и пожалел, что ляпнул.
Лесков аж синим огнем воспламенился. Кабаки — это его вторая, после моря, стихия.
— Умные люди придумали кабаки! — начал он, всем своим видом требуя тишины и внимания. — И, заметьте, никогда их не отменят. Они нужны при любом строе, при любом правительстве! — Лесков потянулся сытым котом, изогнулся в спине — вот-вот тренькнет сломленный позвонок — и привалился к стене бытовки. Ослабил тело, чуть сгорбился. Забросил ногу за ногу. Тонким белым ногам его в парусиновых плотницких штанинах было так же вольготно, как чайным ложкам в объемистой семейной кастрюле. Образ жизни, который вел, осев на берегу, Миша Лесков, вычеркнул из его перечня необходимые всякому нормальному человеку вещи: носки, майки, даже шнурки. Казалось, и спичечный коробок его обременял: спички он носил в кармане россыпью, а зажигал их о брюки, для чего приседал и отставлял клиновидный зад. — Завидую тебе! Там будешь… — Лесков таким тоном произнес это «там», будто Петя направлялся, по крайней мере, в столицу Родины — Москву. — Если не секрет, сколько дубов берешь?
— Рублей сорок. Больше-то зачем?
— Чудак! Вот чудак! Да по-хорошему раз в кабак прошвырнуться — сотню выложить.
— …И все так ходят?
Лесков посмотрел на Петю протяжно и жалостливо.
— Нет, не все, конечно. Но имей в виду — десяткой не отделаешься. Я червонец только официанту выбрасывал.
— За что же ему?
— За услуги, братец, за услуги!
— Так ему за это, наверно, зарплату платят.
— Платят, платят! Ты не волнуйся очень-то, чего вскочил?.. Платят, да, понимаешь, не за все.
— А за что же не платят?
— Эх! — вздохнул бегемотом Лесков. — Поехать бы с тобой — узнал бы, за что им не платят! Где там наш Федя, стервец, душа заныла. Эх, милка моя, в этих… кирзовых! Лирики! Где она теперь, моя лирика, а?! Чего молчишь? В гвоздодере? В ящике с гвоздями? Или у тетки Машки в моей каморке? Свету хочу! Чтоб волны зеленые и братва — чистая, соленая, родная!
Петя подумал было, что Лесков сильно пьян, что это водка рвет его раскачивающуюся душу, но он ошибся. Лесков успокоился и смотрел теперь как-то виновато и понуро.
— Сходишь в ресторан, а, Петро? Прошу тебя — сходи в ресторан. Ради меня, ладно?
— Ладно, — пообещал Петя, прибрасывая в голове — сможет сходить взаправду или нет?
— Ну вот! Тогда слухай! Главное, слухай, чтоб не подвел там ни себя, ни меня. Придешь, сядешь за столик — не за всякий, а который мужик обслуживает. Секешь? Вот так — нога за ногу. Не суетись, держись лордом. Курить нельзя — наплюй! Главное — лордом, тогда все можно! Кури. Только не как у нас в перекур, не рывками, а вот так! — Лесков нарисовал позу, продемонстрировал. — Подходит официант — пригласи сесть. Лорд — хозяин! И намекни, что, мол, моряк. Не строй из себя плотника четвертого разряда. Он в твоем мастерстве не разбирается, потому что очень мало его ценит. Ну как-как! Скажи, что полгода, мол, мотало, кое-как до вашего кресла добрался. Увидишь — сразу потечет, как айсберг в тропиках. Максимум заботы о тебе, плотнике четвертого разряда. Раскручивай дальше — про тоску душевную по далекому морю, по живому хорошему человеку. Он все равно не заплачет, так что не бойся перегнуть. Минута, ну от силы — полторы, и все. Тогда отдыхай и пожинай плоды красноречия и вдохновенной фантазии.
— Это все — чтобы поесть? — удивился Петя.
Лесков посмотрел на него, как на очень, очень тупого ученика. Петя заерзал от неловкости. И вдруг Лесков захохотал, свиваясь в жгут.
«Разыграл, гад!» — подумал Петя и пожалел, что отправил Федю.
— Ох, вспомнил. Фокус вспомнил! Во что однажды мне слепили! Не поверишь, только правда. Захожу однажды в кабак…
Появился запыхавшийся Федя.
— Не дают! После семи, говорят, баста.
Он чуть не плакал, он уважал Петю и Лескова.
— Надо было мне идти! — огорченно сказал Лесков. — Небось Зинуля за прилавком. Дала бы по старому знакомству. Да теперь уж неохота!
Прибрали бутылки и замкнули бытовку.
4
Петю поселили в трехместной комнате на четвертом этаже. Ничего комната, просторная — два окна. Петина кровать посередочке, изголовьем к простенку, между окон. Но чернявый сосед Слава попросил уступить место ему, чтобы быть рядом с таким же чернявым товарищем Костей. И Петя с большим удовольствием согласился: неудобно, когда они смотрят друг на друга через твое отдыхающее тело.
Два дня понадобилось Пете, чтобы усвоить правила поведения в этом приличном доме отдыха. На третий, с самого утра, он сорвался в город, поскольку жил все это время пьянящей надеждой о возможности долгожданного счастья.
В библиотеке, такой шикарной и такой тихой в эти летние дни, Петя дорвался До подшивок журнала «Здоровье». Ну что им с Надюхой стоило выписать этот журнал! Разве подозревали…
На следующий день Петя появился в читальном зале с толстой тетрадью в коленкоровой обложке и новеньким набором шариковых ручек. Особо интересующие его места переписывал красной пастой. Красной переписал и большую статью профессора Одинцова.
Утомившись, он шел на берег моря. И читал-перечитывал свои красные записи, не обращая внимания на прекрасных женщин, томящихся на прокаленном приморским солнцем желтом песке, на стоящие на рейде величественные самоуверенные корабли, на пивные ларьки и закусочные. Он чувствовал, что становился каким-то совсем-совсем другим человеком — повзрослевшим, помудревшим наконец, получившим доступ к чему-то такому важному, что совершенно необходимо для того, чтобы стать еще более другим человеком. А ведь он мог не поехать сюда, мог не постичь всего этого! И с жалостливой болью Петя смотрел на себя недавнего. Вот он в бытовке с Лесковым и Лыковым. Вот он на перроне с Надюхой…
Он отправил Надюхе большое трогательное письмо и с нетерпением стал ждать ответа. Он понимал, что торчать здесь, когда уходит время, от которого зависит все счастье их дальнейшей совместной жизни, кощунственно, и заказал билет на Излучье. Он бы уехал и сразу, но чувствовал, что библиотека таит в себе еще столько важного, совершенно необходимого! Да и Надюха может заинтересоваться какой-нибудь деталькой, какой-нибудь подробностью, а где тогда ее обнаружишь?..
В доме отдыха кипела жизнь. Счастливые липа, легкое веселье. Петя и не пытался понять — отчего это все. Да у него самого, наверное, было сейчас счастливое лицо. Костя и Слава оказались приятнейшими современными людьми, уделяли Пете постоянное внимание, все время приглашали на какую-то дачу, но Петя ждал от Надюхи весточки и не мог отлучаться.
Он представлял, как читает она неожиданное письмо. Небось думала о нем что-нибудь тревожное, бабье, а вот на тебе! Стоит она такого письма, ох как стоит! Все будет теперь, Надюха, все! Только слез больше не будет.
5
И вот он получил ответ. Надюха писала неузнаваемым почерком, с ошибками, пропускала слова. Видно, на обдумывание фраз и выражений у нее не было сил. У Пети в ушах стоял звон — невыносимо протяжный и сухой. Оказывается, Надюха чувствовала, что эта поездка добром не кончится, что спутается он с какой-нибудь сволочью, с продувной бесстыдницей. Так оно и случилось. Быстро же он набрался подробных сведений о половой жизни!
И еще много всякого писала его Надюха, не жалея ядовитой желчи. С маху она решила, что дальнейшую совместную жизнь считает немыслимой и пусть он, Петя, живет у той сучки, с которой ему так интересно…
Петя — мужик жилистый и спокойный — тут не выдержал: купил бутылку.
Вечером, одичавший спросонья и уставший от изнурительной борьбы с подступавшей к горлу тошнотой, он выбрался на свежий воздух. Переливались разноцветными огнями огромные карусели, группы отдыхающих шли с электрички и были возбуждены потрясающим широкоформатным фильмом. У танцплощадки по случаю воскресенья было многолюдно. Все готовились к предстоящему веселью и уже начинали веселиться.
Странное состояние овладело Петей. Словно треснул и рассыпался тяжелый обруч, когда-то насаженный на его растущую голову. И стало необычно легко не только голове, но и всему телу, в котором с неудержимой и звонкой радостью забилось в полную мощь новое сердце. Старое же тикало все тише, засыпало и растворялось под напором невиданного потока молодой бурливой крови.
Петя понял, что надо, что будет жить, как живут вот эти люди — смеющиеся и красивые.
Он и не надеялся, что отчаяние, порожденное неумной жестокостью жены, так быстро перегорит в нем.
Петя вернулся в комнату и стал торопливо приводить себя в порядок. Освежившись в душевой, он пристроился с электробритвой к помутневшему от времени зеркалу. Разным помнил Петя свое лицо. Оно у него постоянно почему-то менялось — видимо, от настроения и характера занятий. Сегодня каким-то. возбуждением горели серовато-голубые глаза, светлые чистые волосы красиво рассыпались по лбу и вискам, чуточку закрывали воротник белой рубашки. Крупный в веснушках нос не портил полученной еще в детстве кривинкой приятности загорелого, суховатого лица. Правда, плечи узковаты, но, чувствуя в них тяжесть накопленной в постоянной борьбе с деревом силы, Петя особенно по этому поводу не сокрушался.
На улицу он вышел окончательно воскресшим и готовым ко всяким небольшим и безопасным подвигам. Чего и не хватало сейчас ему — так это нахальства и красноречия прожженного морехода Михаила Лескова.
Походив у фонтанов, газонов, киосков, Петя погрустнел: что-то не то! Общее веселье обтекало его, даже не обдавая брызгами. Не пива и мороженого жаждала сейчас его надсадно дышавшая душа. А чего? — стал он допытываться у нее, стоя на одном месте и разглядывая свои только что вымытые под краном умывальника еще не старые коричневые туфли. Душа молчала. Не привыкла отвечать на подобные вопросы или же просто стеснялась выразить суть творившегося в ней.
Петя очнулся и закрутил головой. В сердце его сдавленно и горько заплакали крошечные девочки. Он сжал зубы, застонал, но вдруг понял: танго! Ребятишечки уже смеялись в нем колокольчиками, что-то затевали, не то плясать, не то петь. Петя радовался за них, чуть сжимая рукой взбухшее сердце.
Танго разошлось вовсю! Ноги сами принесли Петю к танцплощадке. Милиционер решительно, но нежно придержал его за локоть;
— Что с вами?
А Петя посмотрел на него с таким наивным удивлением, что тот растерялся.
— Но… вы же держитесь за сердце…
— У меня там девочки, — сказал Петя.
Милиционер усмехнулся.
Петя прошел в дальний угол площадки. Сюда начали стекаться пары. Под властью обнажившей души музыки они переживали несколько неповторимых минут и теперь начинали говорить шепотом. Им словно уже было стыдно этой внезапно происшедшей обнаженности. Женщины смущенно поправляли прически, мужчины нервно закуривали, просили у Пети спички и были с ним вежливы. Петя понимающе кивал и одаривал их отцовской ободряющей улыбкой.
Где-то рядом, за спинами, булькало из бутылки, звякало и снова булькало. Слышался смешок и шепот: «Всем хватит!»
— Петро! — позвали тихонько. — Петро, иди сюда!
Да, звали его, Петю. И он, заволновавшись, вошел в кружок мужчин и женщин, накручивающих на пальчики конфетные бумажки.
Разливали Петины товарищи по комнате — смуглые, как татарчата, Слава и Костя. Петя принял стакан, прошептал «спасибо» и был вознагражден кругленькой конфеткой «батончик».
Потом, начавшись длинным пронзительным звуком, ударил в уши разнузданный танцевальный хаос. Петя вмиг остался один. Слава с Костей уже выламывались на середине площадки. Под стать им с наслаждением срамились остальные. «А ведь чьи-то жены, матери!» — по-излученски подумал Петя, но то ли обида на Надюхино письмо, то ли шалопутное зеленое вино толкнуло его в людскую кутерьму. И он, ничего не понимающий в современных танцах, страшно стеснительный от природы, запрыгал, завихлялся, наливаясь яростью и утоляя неведомую до сих пор жажду откровенных и дерзких движений.
6
Утром Петя был спокоен и счастлив. Черноглазые приятели уже куда-то исчезли, и он, чувствуя небольшой прилив нежной благодарности, аккуратно перезаправил их постели.
И до, и после завтрака Петю распирало совершенно непонятное волнение. А впрочем, впереди — огромный летний день с гомоном пляжей, весельем аттракционов, ароматами вин и пива, с чем-нибудь еще, на что он, просиживая в пустом читальном зале, не обращал внимания. Обида на жену теперь перерастала в чувство глухой, тихой ненависти. Пете вдруг показалось, что он ненавидел ее всегда — уравновешенную, ленивую в ласках и проявлении чувств к нему, необязательную в домашних делах, любящую сладко поспать и вкусно поесть.
Он вспомнил, как ревновал ее когда-то, и стало нестерпимо стыдно. Таких ли ревнуют! Неужели он такой уж залежалый лапоть, что опустился до подобного позора?!
Он не хотел больше думать о ней, но это от него не зависело…
Ей было тогда семнадцать, а его провожали в армию. Завтрашний солдат, уже третий день отчаянно веселый и самостоятельно обрившийся, опоздал на последний сеанс и стал стучать в закрытые двери клуба. Устав от этого бесполезного занятия, он присел на ступеньках и безмятежно уснул.
Разбудила наглая собачонка, беззастенчиво слизывающая веснушки с его неодухотворенного лица. Надюха держала в руках поводок и смеялась.
— Убери свою гадину! — взбурлил он от гнева.
— Чего злишься! Не укусила же… А ты не спи где не надо. Иди домой. Нет, правда, проводи меня — чего зря сидеть!
За дорогу они и трех слов не сказали друг другу. Собачка путалась под ногами, и Петя едва сдерживался, чтобы не пнуть ее.
— Какой-то ты непонятный! — вздохнула Надюха. — Живем рядом, а будто чужой…
Прижав ее к себе, он почувствовал встречную податливость мягкого горячего тела. Что-то шальное и воровское было в их быстрых поцелуях. Она стала задыхаться и, словно засыпая, тяжело оседала у него на руках.
Опомнился он к рассвету, испугался и стал ее тормошить. В летней кухоньке было сыровато и мрачно. На печке громоздились ведра и тазы, в которых готовили свиньям. На диване, ставшем свидетелем их легкомысленного поступка, валялось приготовленное к стирке белье.
— Не уходи!.. — сонно пробормотала она и сладко потянулась — большой недоразвитый ребенок… Он, расплачиваясь подступившим страхом, продолжал трясти ее. — Не бойся! — сказала она, одеваясь. — Никто не видел…
А он совсем раскис. Радость, накопившаяся в нем в связи с ожиданием начала службы, превратилась в кучку сырой золы.
Потом он получал письма — неглупые послания ждущей девушки. Долго не отвечал: не знал, для чего это нужно, не знал, что писать ей, что обещать… Потом как-то понял, что она действительно любит его, и то, что произошло с ними той ночью, произошло только от избытка этой бесхитростной любви.
Весь его десятидневный отпуск они провели вместе и робко строили планы будущей совместной жизни.
Пышной свадьбы не было. Посидели вечер всей многочисленной родней, пытаясь повеселиться, и началась их новая, простая и спокойная жизнь.
…А ревновать он ее начал все-таки не с потолка. Однажды, измученный дневным воскресным сном, Петя проснулся в испарине.
— Надюха, я сейчас душил тебя!..
— Значит, любишь! — зевнула она и свесила ноги с кровати.
— Нет, послушай! Будто прихожу с работы, а ты тут… целуешься…
— Сбесился! — хмыкнула Надюха. — Взбрело же… Я до тебя почти не целовалась, а уж теперь…
Почти! А ведь он думал…
Не сразу, но все же растормошил ее на признание. Был у нее художник из Хабаровска. Приезжал клуб оформлять. Как у них все было, чем кончилось — умолчала Надюха, заставив его мучиться в догадках. Но затянулась постепенно рана внутри. Засохла.
И вот теперь, вспоминая это, только это, Петя скрипел зубами. Он думал, что зря отравил жившую в нем безобидную ласковую мышку.
Потом Петя блаженствовал на раскаленном песке. Раскопав, вжимался в него, чувствуя непередаваемую сладость во всем теле. Это было так странно… Петя поймал себя на том, что провожает взглядами к воде всех красивых девушек и женщин.
А потом он встречал их, выходящих из воды, и тосковал. Он тосковал по светлому, легкому, вечернему и таинственному, как в кино…
7
Это был очень хороший ресторан, и на какое-то время Петя растерялся. Он глазел на колонны, холодильники, полированные шкафы, еще на что-то, что, вероятно, необходимо для обслуживания посетителей на должном уровне. Заграничный автомат щедро плескался заграничной музыкой, мужчины потягивали светлые, пузырящиеся газом напитки и улыбались женщинам. Официанты собрались за столиком в дальнем углу и что-то горячо обсуждали.
Петя двинулся на штурм почти пустого зала. Он тыкался от стола к столу, но везде торчали таблички: «Занято». И это тоже убивало в нем последнюю решимость.
— Пройдите на правую половину! — крикнули ему из оживленного рабочего угла. Петя послушно перешел и сел за самый последний столик, чтобы было поближе к выходу. Не дай бог, кто еще подсядет — это же выйдет мука: не так вилку взял, не так ложку…
«Отошью! — решил вдруг. — Вон сколько мест, пусть не наглеют».
Он увидел, что к нему направляется официант, и почувствовал в руках слабенькую дрожь. Но тут что-то сработало в нем, какой-то, неподозреваемый даже, внутренний механизм, настроенный, видимо, тонким мастером Мишей Лесковым: Петя откинулся на спинку кожаного стула, забросил ногу за ногу и вынул из кармана помятую сигарету.
Официант был молоденький, приветливый и довольно симпатичный — сразу видно, что человек на своем месте.
— Пиво есть! — доверительно обрадовал он Петю. — Бутылочку, две?
— Две, пожалуй… — согласился Петя. И как-то сразу догадался, что официант все знает о нем, немного жалеет и старается не обидеть… — А коньячку?
Граммов триста? — Петя робко закрывал свои карты.
— Триста! — кивнул парнишка. — Закуску я вам сам подберу.
И ушел, не оставив Пете уже никаких сомнений по поводу своей проницательности.
И пиво, и коньяк, и большое блюдо, где было много мяса, сала, сыра, еще чего-то — яиц, что ли? — все это почти мгновенно возникло перед Петиным носом. Петя внутренне махнул рукой и стал вплотную знакомиться со всей этой красотой.
Зал быстро наполнялся, исчезали строгие таблички «Занято», вместо них появлялись бутылки и приборы. Петя заерзал, обдумывая, каким бы образом отстоять свой уголок от посягательства наплывающей толпы. Потом решил, что это бесполезная затея, и стал спешить, наливая коньяк в фужер и подхватывая с тарелки все подряд.
За этим занятием его и застали.
— Не возражаете против хорошей компании? — чуть улыбался глазами этот молодой, да ранний. Он как-то по-братски придерживал под руки двух прекрасных женщин.
Петя слегка дернулся, чуть не ляпнул: «Возражаю!», но вовремя спохватился и сделал ласковое лицо. Нахлынувшее опьянение позволило ему уже без тени смущения приглядеться к соседкам. Он сразу их полюбил! А официант не уходил, смотрел вопросительно. Наконец-то Петя догадался, в чем дело, и кивнул на графинчик.
…Невысокая, чуть полноватая, но стройная. Голубенькая полупрозрачная кофточка, чулки, что ли? Нет, так загорела… Светлая, удлиненная и немного расклешенная юбка. Понятно, вкус! Не шлеп, топ-топ…
Петю немного огорчили ее красновато-фиолетовые волосы: он любил все естественное и даже иногда запрещал Надюхе красить губы. Она вздыхала и рылась в сумочке.
— Что вы разглядываете меня, о господи! — рассердилась, но совсем не смутила Петю. — Спички забыла… Ну хватит таращить глаза, подайте лучше спички!
— Зина, здесь не курят…
…Повыше, но не настолько, чтобы казаться высокой. Посуше, но не настолько, чтобы казаться худой. Петя понял, что она очень нежная и воспитанная — этого не утаишь. Глаза у нее богатые: большие, серые и влажные — глаза образованной женщины.
Петя протянул коробок:
— Курите! Все ведь курят.
Действительно, над столиками стоял перламутровый ароматный дым, заворачиваемый лопастями подвесных вентиляторов в гигантские невесомые улитки.
— Что же вы больше на меня не смотрите? — услышал Петя.
— Сердитая вы! — грустно пошутил он.
— Я больше не буду сердиться. Правда, Лена? Скажи ему, что он зря обижается. На женщин обижаться… Так почему вы больше не смотрите на меня? — Намекает на что-то… И Петя понял — на что, но не сконфузился, повел себя мужчиной.
— Ваша подруга виновата! — сказал он, приняв удобную и независимую позу.
— В чем же она виновата?
— В том, что пленила меня.
Лена посмотрела на него испуганно и удивленно. Потом лицо ее просветлело, потом налилось краской.
— Вы моряк? — пристально посмотрела Зина. Петя, молча улыбаясь, постучал пальцами по столу, но тут же сунул руку в карман. В голове все перепуталось. — Моряк! — убежденно сказала Зина. — Вон в глазах так и пляшут девятые валы. Как ваш корабль называется?
— «Излучье», — усмехнулся Петя. — Еще вопросы будут?
Он ни на что еще не надеялся, даже не догадался, что нужно надеяться, но только ощутил вдруг, что рядом появился Миша Лесков и выручает его, подталкивая свои складные слова. Петя даже оглянулся, словно и впрямь ожидал увидеть Лескова за спиной.
— «Излучье»? — спросила Зина. — Это что — танкер, сухогруз?
— Это РП! — Петя немного заволновался, предчувствуя скорую развязку, но и не боясь ее.
— РП? А что это такое? — заинтересовалась Зина, стряхивая на салфетку пепел.
— Это? Это — рабочий поселок.
— Большой поселок? — не изменив ласково-ехидного выражения лица, продолжала пытать она.
Официант принес графинчик коньяку, бутылку шампанского и тарелочки с кальмарами. Исчез, появился с пепельницей. Чуть заметно кивнул Пете и пропал — теперь уж совсем.
— Большой поселок? — не унималась Зина.
Петя крякнул и разлил коньяк.
— Очень мило! — похвалила Зина. — А все-таки по натуре вы моряк. — Она смотрела на него уже серьезно и просто, без затей. — Ну что, выпьем? Давайте за вас выпьем! С вами… не скучно, правда, Лена?
— Правда… Только не приставай к человеку.
— О-о! Ну тогда не буду… — Зина понимающе улыбнулась и чуть заметно подмигнула Пете. А у Пети екнуло сердце. Вот ведь как бывает в жизни…
Заграничная машина умолкла, вкрадчивый мужской голос, усиленный микрофоном, возвестил о первом танце. Это было танго, выдуваемое и выстукиваемое живыми молодыми музыкантами в белых брюках.
Петя рассеянно водил по столу кораблик под названием «Ява-100».
— Счастливая у вас жена! — сказала вдруг Зина.
— Почему?! — вздрогнул Петя.
— Вас так трудно раскачать… Хотя бы на танец.
Это был ощутимый удар по Петиному самолюбию. А он-то думал, что ведет себя безукоризненно.
— Ну вот… Опять обиделись, шуток не понимаете!
Петя отомстил ей, ласково подведя кораблик к светлой ладони растерянно заулыбавшейся Лены. Пальцы их по-родствснному переплелись, они встали и протиснулись к центру зала.
— Зина обиделась!.. — сказала Лена с тихой грустью и положила руки Пете на плечи. — Надо было сначала ее пригласить.
— Нет! — отрезал Петя. — Именно тебя. И сначала, и потом.
Он все больше, все стремительнее становился на ноги. Радовался этому и немного побаивался, понимая, что это может быть и следствием изрядной дозы великолепного коньяка… Но что самое главное — прижатая к его щеке щека вот этой красивой женщины не тревожила в нем никаких гаденьких мышек. Душа Пети была чиста и свободна, как детский воздушный шар.
Танго баюкало и усыпляло. Оно было бесконечно, как может быть бесконечно счастье с такой женщиной…
Петя теперь только заметил, что со странной, никогда еще не бывалой в нем нежностью гладит притихшую Лену. Что с ней? Обиделась?.. Нет, теплые птицы доверчиво сидели у него на плечах и только чуть-чуть вздрагивали, словно пугались чего-то.
— Наконец-то! — сказала Зина, нервно затягиваясь. — Восемь кавалеров за это время отшила.
— Молодец! Только почему? — Лена не поднимала на нее глаз.
— Потому! — вспыхнула Зина. — Потому! — и потушила сигарету.
Лена покраснела.
— Я сейчас! — поднялась она из-за стола.
— Ну вот! — огорчился и расстроился Петя. — Довели человека до слез…
— Не обращайте внимания, — сдержанно сказала Зина. — Давайте выпьем шампанского!..
— Пьете! — Лена была как-то странно весела, следы слез все-таки скрыть не удалось. Петя чувствовал сильное волнение. Он смотрел на нее с нежностью и мял в руке хрустящий кораблик.
— Коньяк стынет! — огорченно прищелкнул он языком. — Как холодный пить будем?
— Спасибо… — Зина потянула со спинки стула сумочку. — Но только нам пора!
Петя онемел. Он подумал, что ослышался. Потом — что Зина пошутила…
Официант спокойно ставил на поднос тарелки. Петя смотрел на него умоляюще. Но вот Зина протянула деньги, и он взял, не сказав ни слова…
Попрощались они все-таки тепло. Тепло и грустно. Зина пошла к выходу, а Лена как-то неловко стала обходить столик и наткнулась на официанта. Тот придержал ее за локоть, она извинилась, сконфузилась и взглянула на Петю.
Зина ждала ее.
Петя снова превратил кораблик в пачку. Хотелось курить, но внутри пачки было крошево. И вдруг перед глазами что-то мелькнуло. От неожиданности Петя тряхнул головой.
Он стоял рядом и улыбался приятной сочувствующей улыбкой, этот одаривший и тут же ограбивший Петю симпатичней паренек.
Петя потянулся к рюмке и увидел перед собой сложенный листок бумаги.
8
Петя проснулся без особой охоты жить.
Вчера, до глубокой ночи взволнованно бродивший по городу, он был высок и счастлив. О прежней жизни почти не думал. Несколько минут уединения в танце с Леной были ему дороже всего, что имел и пережил за свои неполные тридцать лет. Он то и дело вынимал из кармана ее записку, читал-перечитывал, и голова шла кругом.
Вот тебе и кабак, Миша Лесков, черт лупоглазый! Что б ты сказал теперь, поглядев на меня? Кто на что способен, Миша, не дано тебе этой радостной боли сердца, вот и прячешься всю жизнь в яркие дешевенькие перья. Жаль мне тебя, но кто виноват в пустоте твоей души?.. Уверен: окажись ты за одним столиком с ними — опошлил бы все, испоганил. Не обижайся, Миша, но хорошо, что не было тебя рядом.
…Ну что, Надюха, хорошо тебе теперь? Успокоилась твоя булькающая в грязи душа? Теперь уже все — перетерлась последняя, соединяющая нас, ниточка. Легко стало, светло… Будь ты счастлива. Никогда не потревожу, ничем не упрекну!
Петя возвращался в дом отдыха на электричке. «Жить хорошо! Жить хорошо!» — еще больше ободряли его, вселяли в него ликование правильно все понимающие колеса.
Он не включил света, разделся и очень осторожно, чтобы не потревожить сон товарищей, погрузился в ласковую постель. Но кровать все же скрипнула, и этого было достаточно, чтобы Костя завозился.
— Явился, Петро?! Телеграмму видел?..
Петя почувствовал тяжелый укол в не ожидавшее беды сердце.
Проснулся и Слава. Включил свет — беспощадно ясный, не сулящий ничего хорошего.
«Встречай среду благовещенским вагон шесть Надя».
— Жена? — спросил, пряча под простыню волосатые короткие ноги, Костя.
— Тебе не все равно? — усмехнулся Слава. — Или завидно?
Метя долго не мог уснуть и был в состоянии, близком к отчаянию. Определенность, появившаяся в душе сегодняшним необычным вечером, таяла. В голове загудело от каких-то непонятных, тяжелых и отравляющих мозг мыслей. Одно только было совершенно ясно и понятно: все пропало. Не сможет он восстановить в себе чистое, праздничное сияние, поднять себя до той высоты, на которой находился еще пять минут назад…
Он спал тревожно и видел короткие мучительные сны. Оказалось, что Надюха давно уже вышла замуж, у нее взрослые дети. И приехали они к старому, больному Пете из жалости. Жгучая боль ревности полоснула по сердцу. «Как же так? — спросил, глотая горячие слезы. — Почему они — вылитые я?..»
«Потому что ты их отец. Я прятала их от тебя, а ты и не догадывался об этом… Они были такие маленькие, я боялась, что ты их задушишь!»
«Я так люблю детей. Что ты выдумываешь?»
«Любишь? Это тебе кажется, что ты любишь! Не такие, как ты, детей любят. Уехал, спутался… Да ты готов был променять меня на кого угодно! Детей любишь… Да ты… Да ты… Но ничего, нашелся, слава богу, человек. Не бросил нас в беде. Детей поднял на ноги…»
«Кто же это?» — старался сам догадаться Петя.
И когда Надюха догадалась о мучившем его, сказала…
«Лесков?! — закричал страшно, помертвев ослабевшим от переживаний телом. — Да ведь это он…» И осекся, поняв вдруг, что Миша Лесков все подстроил нарочно — чтобы присвоить себе его, Петиных, детей, чтобы навсегда избавиться от Пети.
И вот он проснулся… Было еще совсем рано, может быть, часов шесть. Яркое солнце пронзало плотные полосатые шторы, за окном в лохматых ветвях южных деревьев тонкими голосками кричали и пели веселые птицы.
«Встречай среду благовещенским вагон шесть Надя».
«Видишь, как все глупо! Но я обманула ее. Мы встретимся с тобой завтра, правда? Я буду ждать тебя у морского вокзала. Часов в семь. Нет, в шесть. Лена».
— Ча-чу! Ча-чу! Ча-чу! — вскочил и сразу начал приседать, махать руками весельчак Костя. — Ча-чу! Порубаем — и на дачу! Что же Славик не вс-с-сстает? Вид-но, С-с-лавик много пьет! А Петро с-сидит ун-нылый, и-и-получив письмо от мил-лой…
— Телеграмму… — сонно пробурчал Слава. — Заткнись ради бога. Не хочу я больше на дачу! Я купаться хочу, в соленой воде плавать.
— Ча-чу, ча-чу, ча-чу! Не желает он на дачу. Плавать он, купаться хочет. Дурачок он, между прочим! Правда, Петро? На даче — огурчики, помидорчики, поедем с нами!
Петя посмотрел на него уныло, без чувств.
Все-таки — поехали.
Дача была не очень далеко — через две остановки на электричке. Участок маленький, сотки три, зажатый со всех сторон такими же участочками. А домик — и вовсе лепуха. Что там поставишь — ну, стол да три-четыре стула. Дача! В Петином понятии это что-то роскошное, не по карману абы кому. А таких дач он в Излучье налепил бы штук сорок.
— Расшнуровывайся, Петро! — суетился в младенческом восторге Костя. — Обосновывайся и ни в чем не сумлевайся. Земля принадлежит моему любимому тестю, можно топтать смело.
В подтверждение своих слов Костя снял туфли, засучил брюки и ринулся осматривать пышные грядки.
— Хозяин! — ухмыльнулся Слава. — Садись, Петро, понаблюдаем за сборщиком податей… Во, во, смотри! Что твоя легавая! Ножку согнул. Это он стойку на огурец делает.
И Петя неожиданно для себя рассмеялся.
Костя быстро и воровски оглянулся, упал на колени и пополз по грядке.
— Подкрадывается! — с серьезным видом пояснил Слава. — Цель близка. Пиль! — заорал он оглушительно. Костя подпрыгнул и упал в густую зелень.
— Взял! — сообщил Слава и пошел в домик.
Петя с интересом разглядывал примитивное строение, воздвигнутое в основном из ящичной тары. Неопытная рука сколачивала каркасик, пошедший на задки от тяжести крыши, вгоняла в проем оконную раму, навешивала двери. Все как-то по-детски просто и необдуманно. При такой площади помещения и открывать дверь внутрь!
— Хижина дяди Тома! — угадал его мысли добычливый Костя. Он пришел с дырявой кастрюлькой, полной зеленых и розовых плодов.
— Давай я дверь перевешу! — попросил Петя. — Это быстро!
— Перевесим, перевесим… Пойдем сначала займемся делом.
Дело состояло из сухого вина и закуски. И было оно, конечно, одним из приятнейших. Но Петя чувствовал за собой какую-то вину, будто вся нелепость этого домика лежала на его совести. У него просто зачесались руки, когда заметил выпирающую нескромным животом бюрократа половицу. «Уперли в стену! Дюймовка, вот и выгнулась. Пятерку бы хрен вогнали…»
— Буль-буль! — сказал Слава. — Хоть я и не хозяин, но буду делать буль-буль. Последние деньки в образе вольной птицы чайки, а мне не дают плавать в соленой воде. Ты знаешь, Петро, зачем он меня сюда таскает? Доказывает тестю, что чист и свят. Да кто на него, на татарина этого, посмотрит! Чего уж тут доказывать!?
— Ну конечно! Ты у нас красавец, ты сын какого-нибудь Ярослава Мудрого! Или грек? А что же тогда смахиваешь на Чингисхана? Кто из нас похож на татарина, а, Петро, рассуди!
Петя старался понять — насколько это они серьезно…
— Да татары вроде не такие… — сказал, потупившись.
Веселые мужики Слава и Костя засмеялись, обнаружив этим свое хорошее настроение и простую дурачливость.
Петя пил с ними горьковатое вино, хрустел сочными огурцами и время от времени вспоминал о телеграмме и записке… Ему становилось тревожно и грустно, наплывало что-то и вообще непонятное: хотелось плакать, что ли?
— Пойдем, судить будешь! — возбужденно звал Костя. — Он думает, что каждый день будет класть меня на лопатки! Вчера я просто поддался, вот так!
«Мне бы ваши заботы!» — печально подумал Петя, но судить пошел. Боролись друзья прямо у крыльца, где лежало и стояло много опасных вещей — тяпки, грабли, лопаты, ведра, даже старая, изношенная коса. Костя был чуть пониже, расторопнее и ухватистее Славы. Вцепился в пояс противника и стал носиться вокруг него, стараясь измотать и вывести из равновесия. Слава сердился, дергал его на себя, толкал от себя и бил по ногам голой пяткой. Потом оба упали на сухую перемолотую землю, но захвата не ослабляли.
— Сдаешься?! — воскликнул наконец Слава, устроившись на Костином животе. Но тут, подброшенный вспружиненным животом друга, получил в зад коленом и нырнул под крылечко.
— Вылазь, вылазь, нечего притворяться! — звал, опершись на локоть, тяжело дышавший Костя.
Слава выбрался весь в паутине, с большим серым пауком в черных волосах.
— Ничья! — нашелся Петя, отойдя от испуга: так и до беды недалеко.
Пока борцы отдыхали, Петя обнаружил гвоздодер и снял двери с петель. Обстукал косяк, выискал шляпки гвоздей и принялся за работу. Косяк вынулся легко, ведь штукатуркой тут и не пахло — изнутри стены были облицованы бывшей в употреблении фанерой.
— Ломай, Петро, ломай! — восторженно поддержал его Слава. — А то мне из-за этой дачи искупнуться нельзя!
Петя перевернул косяк, вставил его на место и сильно вогнал в него большие выпрямленные гвозди. Потом, повозившись с рубанком, точно подогнал двери и закрепил их петлями.
— Вот кого нужно твоему тестю в зятья! — ехидно сказал помрачневшему Косте Слава. — Только и умеешь стоечки на огурцы делать.
Пете стало неловко, ужасно неловко. Получилось, будто он хотел посрамить славного парня Костю.
— Так это… Руки зудятся, я же плотник… — Петя присел рядом с ними. Сидели молча, и Петя не знал, как истолковать это молчание. Связался с дверью, будь она неладна!
Внизу, скрытая непроглядной зеленью деревьев, прокричала спешащая во Владивосток электричка. Было еще рано, но будет ведь и шесть часов вечера… Не принесла Пете радости эта мысль, расстроила только. И уже не мог он понять — в чем же дело, почему при мысли о Лене так слабо-слабо трепыхнулось сердце, будто и не трепыхнулось вовсе?..
— Так нам, интеллигентам вшивым, и надо! Ну-ка, Петро, бери на себя командование! Что ломать, что рушить? — неожиданно возбудился Костя. — Чур, топор мой!
Слава схватил лом и метнулся с ним к окну, явно намереваясь вышибить раму.
— Стой! — заорал Петя.
Смеху было много. Так, шутя, веселясь и дурачась, они подогнали половые доски, поправили крышу, даже сам домик подровняли немного, обстукав невидимый под обшивкой каркас старой шпалой. Петя содрал кое-где дощечки и закрепил каркас ржавыми скобами.
И все равно времени было еще мало. Но будет ведь и шесть…
— А вон и Вась Васич пожаловал! — кивнул на проулок Слава. Костя изобразил на лице удовольствие котенка, увидевшего что-то вкусное, может быть, рыбку.
— Приветствую честную компанию! — тонким голосом произнес сухонький, опрятно одетый старичок. — Вы вот это… Вот это… Я не буду вам мешать. Лучку нащипаю, укропчику. Я мешать не буду… Бог ты мой! — ахнул он и забегал вокруг домика. — Ну это просто чудо какое-то, пра слово — чудо! Ровный! А?!
— Ровный! — с достоинством подтвердил Костя. — А ты полы погляди, двери! Ты на крышу взгляни!
Вась Васич забыл про лук и укроп, метался вокруг ветхого жилища, забегал внутрь, ощупывал двери и с любовью поглядывал на зятя.
— Уважил, Костя! Уважил старика… Молодежь-то, а?! Не-е! Молодежь, она — во-о! Сильна молодежь…
Вась Васич сидел с ними за столом, но ни к чему не прикасался. Все поглядывал то на пол, то на дверь, спохватывался, встревал в разговор, но не мог удержаться, чтобы не полюбоваться на переделки еще и еще раз. Петя так понимал его! Еще бы, любая душа радуется порядку, правильности — и в жизни, и во всем. Эх, Надюха! Что ты натворила, что ты наделала своим дурацким письмом… Где теперь мой порядок, моя правильность?
Ему почему-то казалось сейчас, что не во сне, а наяву видел он сегодня своих взрослых детей. Что за плечами — почти полностью прожитая и пустая жизнь, а опустошил ее… Миша Лесков. А когда спохватился, что ударился в глупость, почувствовал, как бурно всколыхнулось сердце. Это было первым признаком его радости по поводу неожиданного приезда Надюхи…
9
С дачи они вернулись в половине пятого: Слава хотел плавать в соленой воде, стал вдруг, таким капризным, что едва не уехал один.
— А чего это… Чего не покупаться? Не пойму! — уговаривал зятя Вась Васич. — Что ж это… Приехали отдыхать, а отдыху никакого, так нельзя. Молодежь, она отдыхать тоже должна. Езжайте, а чего ж…
Теперь друзья собирались на пляж, а Петя ходил по комнате, заражаясь все большим и большим волнением. Он понимал, что не нужно, что не должен ехать на свидание с Леной: мысли и чувства стали уже перестраиваться, оформляя крен в сторону Надюхи. В переполненном людьми широком вагоне электрички, возвращаясь с товарищами и Вась Васичем с дачи, Петя, совершенно неожиданно для себя, вспомнил и заново остро пережил случай двухлетней давности.
…Их полянка была пуста — вовремя приехали. Река, усыхающая без дождей, рассыпала солнечные искры. К обеду вода в ней прогреется, можно будет купаться в яме у берега, где уже возилась с удочкой одетая пареньком Надюха.
Петя подумал и отогнал мотоцикл под куст — подальше от костра. Ему предстояло печь картошку, готовить чай — приятная и привычная обязанность, без которой он не прочувствовал бы большей половины прелести отдыха на природе.
Они обнаружили и присвоили себе эту полянку давно, грустили по ней нудными зимними вечерами и вспоминали все, что она, такая крохотная, успела им подарить. А это все было беспредметно, но трепетно дорого: ощущение настоящей уединенности, возросшей нужности друг другу, обоюдного понимания с полуслова, с полувзгляда. Здесь Петя, чего почти не бывало дома, чувствовал себя отцом, а то вдруг — сыном или братишкой переменчивой в настроении Надюхи. Она могла впасть в детство и во всей одежде бухнуться в речку, побежать, взметая воду, на ту сторону. Кричать оттуда, что он трус и неженка. А потом гладить лежащую на коленях светлую его голову и глубоко огорчаться новым морщинкам на его лбу, вздыхать, растирая их прохладными пальцами.
Было раннее утро, и все было еще впереди. Надюха изредка выдергивала из ямы шустрых гольянчиков и тогда быстро поглядывала на Петю — видит ли? «Дуракам везет!» — кричал Петя, если видел. Надюха грозила ему кулаком и вновь завороженно смотрела на пробковый поплавок.
Петя еще не успел засыпать в жар картофель, еще и жару-то не было, как на полянку, продираясь сквозь ивовый кустарник, устремилась чуточку помятая новая машина. Она бесшабашно подползла к самому костру и, рявкнув мотором, стихла. «Пьяные!» — тревожась, определил Петя.
Их было четверо, незнакомых и, совершенно очевидно, не излученских мужчин.
— О! Тут и бабы! — вместо приветствия восторженно изумился первый же, вывалившийся из машины, беззастенчивый незнакомец, произведший на Петю отталкивающее впечатление и своим неряшливым костюмом.
— Тогда здесь и гульнем! — послышался из кабины хрипловатый голос.
Они притащили к костру какое-то барахло, сумки и, не обращая на Петю никакого внимания, стали взбивать пламя, сунули в него их с Надюхой заветное бревнышко-скамеечку.
— Баб — сюда, холопов — на конюшню! — вроде и пошутил, вроде и всерьез предложил кто-то. И все они посмотрели на сматывающую удочку Надюху.
— Эй! Девочка! Иди сюда! Пить будем, гулять бу…
Петя секундой раньше понял, что совесть его в мизерной доле миллиметра от того, что будет потом мучить всю жизнь. Он ринулся на них сквозь сжавший сердце страх, сквозь звон оглушающей мысли о том, что это, может быть, конец. Заметил только, что они отпрянули, словно повеяло ветром, почернели головешками старого кострища. Да и все вот так же почернело вокруг, предвещая будто страшной силы ураган с ливнем и снегом. Это, рожденное его же внутренним состоянием, видение Петя запомнил отчетливо и навсегда.
Ломаясь и корчась от встречных ударов, Петя видел Надюху. Она не кричала, не бегала вокруг, как сделала бы на ее месте любая другая женщина. Пете почему-то показалось, что она деловито хлопочет у костра, подталкивая под чайник пылающие сучья.
Потом был страшный визг — Надюха сунула головню, кажется, прямо в лицо тому самому, что поразился наличию на природе прекрасного пола.
— Ублюдки! Подонки! — раздувая ноздри, говорила она в спины им, макающим в реку обожженного товарища.
По тому, как они, оглядываясь, смотрели на нее, Петя понял, что самое страшное впереди… И, не дожидаясь этого страшного, с поразившим его самого диким криком врезался в заслон из этих спин. И бил их, бил кулаками, ногами, не испытывая ничего, кроме ненависти.
Потом они с Надюхой пытались вспомнить, как все было дальше, но ничего не получалось. Память рисовала только ревущую в кустарнике машину и валявшиеся бутылки на опустевшей полянке.
Они и потом приезжали сюда, но Петя не ощущал уже той внутренней раскованности, которая посещала его здесь раньше.
…Воспоминание пришло сегодня, скорее всего, неожиданно. Но разве можно утверждать, что пришло оно неожиданно, если и сейчас, раздваиваясь и волнуясь, Петя понимал, что телеграмма стала ему почему-то дороже торопливой записки…
— Ты, Петро, — сказал облаченный уже в простенькие брюки и рубашку, застегивающий большую клеенчатую сумку, Слава, — похоже, куда-то намыливаешься, а? Брось, пойдем с нами!
И Петя вдруг согласился, полез в чемодан за плавками. Странное облегчение почувствовал он, выходя с товарищами из комнаты.
10
Пляж был уже рядом — за виадуками. На берегу, почти сплошь покрытом людской массой со всеми ее принадлежностями, царил сонливый покой. Жара убила в людях резвость, и те, что заходили в воду, вели себя умиротворенно и кротко. По выцветшей голубой глади воды еле заметно двигались общественные лодки, выдаваемые отдыхающим по предъявлению паспорта.
Они уже шли по деревянному настилу виадука, когда за близким поворотом зазвучал сиплый голос приближающейся электрички. И вот показалась ее тупая, в красных полосках мордочка.
Петя забыл все переживания сегодняшнего дня. Он, как-то странно поглядев на товарищей, словно против воли влекла его куда-то неведомая сила, метнулся к спуску и загремел окованными уголком ступеньками.
В вагоне он не усидел, вернулся в тамбур и то зажигал, то тушил горькие сигареты. Поезд шел слишком быстро. Нет, слишком медленно… Сзади загородили солнце. Он обернулся и только теперь вспомнил, что не взял билета.
— Пожалуйста, не ругайтесь… — начал он выворачивать карманы. — Пожалуйста… Я ведь забыл, совсем забыл. Это так быстро…
Он протянул деньги, не догадываясь в волнении, что это слишком много — все, что попали под руку. Контролеры посмотрели друг на друга, отвернулись и пошли в вагон. Петя держал деньги в опущенной руке и сквозь ясное стекло двери долго провожал их смущенным взглядом.
…Еще было слишком рано. Петя изучал морской вокзал, стараясь внушить себе хотя бы подобие спокойствия. Он ходил по огромным полупустым залам, останавливаясь перед витринами и вывесками, всматривался, вчитывался, оглядывался и видел отчетливо только большие электрические часы, подгонявшие стрелку от девятки к десятке. Потом внезапно наткнулся на расписание пассажирских поездов. И показалось, что «Благовещенск — Владивосток» было написано крупнее, чем все остальное. Дошло вдруг, что этот неспешный поезд уже принял в шестой вагон Надюху и изо всех сил старается доставить ее сюда точно по расписанию. Сюда, где он ждет сейчас совсем другую, зная об этом поезде и о его стремлении.
Петя почувствовал совсем уж детский стыд, почувствовал себя шкодливым ребенком, задумавшим по-настоящему грязное дельце. Он вышел на свежий воздух, на солнце…
Лена пришла в половине седьмого, когда он уже немного освободился от тяжелого чувства и был в состоянии спокойной грусти, поняв, что напрасно разжигал в себе страсти — свидание просто-напросто не состоится.
— Здравствуй! — сказала она шепотом, сдерживая учащенное дыхание. И прильнула к плечу, легко и отчаянно, обрушив на него принесенное с собой жгучее и расслабившее почти до полной потери сил излучение. Он слегка обнял ее — больше для того, чтобы стоять тверже самому… Их молчание длилось бесконечно долго, может быть, целую минуту. И за это время у Пети не появилось ни одной мысли, ни одного желания, кроме того, чтобы все это так и продолжалось, не прекращалось, — и больше ничего не надо.
— Пойдем в кино! — робко взглянула она ему в лицо и снова приникла лбом к плечу, словно стесняясь или даже немного боясь его. И потом, когда они торопились к кинотеатру, она то отстранялась, чтобы вот так же робко поймать его взгляд, то легко прижималась мягким плечом и опускала голову.
Не видели они никакого кино. В большом темном зале, под музыку, под какие-то громкие слова, они ласкали друг другу пальцы, спрашивали пальцами, пальцами отвечали, пытались даже что-то рассказывать. И эти пальцы — его и ее — полюбили друг друга, трепетали, боясь предстоящего расставания, сговариваясь ни за что не расставаться, и замирали, будто прислушиваясь к тем, от кого они полностью зависели. А те, от кого они полностью зависели, завидовали им до зеленой тоски в сердце. И эта зависть переходила порой всякие границы, потому что причиняла настоящую физическую боль ослабевшим от любви и тревоги пальцам.
— Проводи меня до трамвая… — попросила Лена на выходе из кинотеатра. Еще было совсем светло, еще и солнце полоскалось в голубизне — довольно далеко от берега.
Петя кивнул, внутренне сжавшись и умирая.
— Ты не жалей ни о чем, ладно? — прятала она лоб в полюбившееся почему-то плечо. Он не пустил ее на первый трамвай. Просто легонько придержал за локоть.
— Больше нам ничего не надо, правда?..
Он кивал, пытаясь представить, как проживет сегодняшний вечер, сегодняшнюю ночь. Он чувствовал, что о чем-то ее спрашивать, что-то самому говорить ей — это губить все то, что они оба получили.
— У тебя красивая жена?.. — спросила она вдруг, теперь уже не поднимая глаз. Но как-то сразу спохватилась, быстро-быстро замотала опущенной головой: — Нет, нет! Молчи… Я больше не буду, правда! Проводи меня лучше до другой остановки… Проводишь?
Ранняя ночь застала их на скамеечке городского пляжа. Теперь, с наступившей темнотой, Лена как будто стала чуть увереннее. Они сидели рядом, и она уже не пряталась от него.
— Петя! — сказала она до боли ласковым голосом. — Петя! Уедешь далеко-далеко… И я тебя больше не увижу. Я знаю, так уже было…
Петя не шелохнулся. Ему показалось, что волны с злобным шепотком тянутся к их ногам.
— И теперь Зина… Она хорошая, ты не думай… Просто боится за меня. Она — моя сестра. Боится, что все может повториться.
Волны становились все сильнее и злобнее.
— Теперь она уже догадалась, где я. Но ведь это ничего? Я скажу, что ты уехал, правда?..
Он слабо привлек ее к себе, ощущая и пустоту, и горечь. И удивился нежности и послушности, с какой она тут же обняла его за шею. Но что-то, спрятавшееся в нем, незаметное, но жестокое не позволило ему поддаться первому энергичному движению души. Он только ласково гладил ее по голове и прижимал к занывшей груди, словно пытался спрятать ее от коварных и беспощадных ночных волн.
Она сама нашла в темноте его губы и прижалась к ним своими влажными и прохладными губами, но так неслышно и слабо, точно на иное желание у нее совсем не осталось сил.
— Мне пора!.. — услышал он наконец совсем тихое. — Петя, она сейчас так волнуется…
Она упросила его не садиться с ней в трамвай.
— Если Зина увидит… Она… Мне опять…
Но и этот трамвай ушел без нее.
— Петя! — позвала она, стоя к нему вплотную и вглядываясь в его лицо.
— Да?.. — Он чувствовал, как горечь в груди растет, заполняя собой все, что раньше было заполнено и радостью, и счастливой тревогой, и всем тем, что так важно и дорого для любого человека.
— Я не буду по тебе тосковать, правда?
Она повернулась и вбежала в яркий, праздничный трамвай. Петя видел, как он уходит — сначала разбегаясь, вниз, вниз, потом пополз в пологую сопку, туда, где было темнее, чем здесь, на самом оживленном участке широкой улицы.
11
Обо всем думал Петя этой ночью — под сладкое посапывание и посвистывание спящих товарищей. Ему очень сильно хотелось жить, делать что-то большое, великое, такое, что изумило бы не только таких людей, как Миша Лесков или Надюха, а даже профессора Одинцова или вот Славу с Костей… Потом, разглядев в постепенно рассыпающейся темноте комнаты потускневшее от времени зеркало, прокрался к нему, вгляделся в возникший перед глазами образ и сник. Теперь он лежал печальный и опустошенный, лишенный всего, а главное — силы, поддерживающей странное явление — человеческую душу — в надежде и вере во что-то прекрасное и обязательное, что должно случиться с человеком и даже наверняка случится, поскольку большая часть жизни еще впереди.
За ночь он бесконечно много раз знакомился с Леной в ресторане, встречал ее у морского вокзала и проживал удивительно короткий, оставшийся в памяти сердца светлой и грустно звенящей нотой, ушедший в невозвратное прошлое отрезок большого и целого, отпущенного на его долю времени. Когда-то он хотел, чтобы это было приятно и красиво, как в кино, и вот теперь, вглядываясь в это, выполненное по его желанию, неестественно складное — до самого конца — кино, он высыхал от еще непонятного до конца горя. Простая его фантазия несколько раз пыталась дополнить это кино, сделать какой-нибудь новый, неожиданный для самого героя, конец, но быстро истощалась и предлагала явные глупости.
Глупостью было искать Лену, для которой он, обремененный пусть не очень пылкой, но незыблемой любовью к порожденным как бы самим Излучьем родственникам, прожитой с Надюхой и, конечно же, навсегда оставившей в нем своеобразный груз жизнью, вряд ли мог, а скорее всего — никак не мог быть спасителем ее пораненной и истончавшей души.
Глупостью было ожидать, что узнавшая о необычном приключении мужа Надюха превратится вдруг в ангела-хранителя его зарождавшейся любви.
Пете оставалось только лежать и созерцать наступление следующего летнего дня, который будет для него памятен тем, что именно в этот летний день он встретит в чужом городе свою жену…
«Сегодня она приезжает!» — вдруг просто и ясно, без плохих и хороших чувств, подумал Петя.
Первый луч солнца слабо, будто просясь в комнату, уперся в штору. Петя приподнялся и шевельнул полотно. Он искренне обрадовался прорвавшемуся к нему лучу, подставил под него начавшие избавляться от мозолей руки и опустил в эти засиявшие руки похолодевшее от переживаний лицо.
— Ча-чу! Ча-чу! Ча-чу! — закривлялся, разбудив его, жизнерадостный Костя.
— Эх, спалить бы твою дачу! — застонал, заползая под подушку, побледневший от каких-то снов Слава. — Вон счастливый человек! — вывернулся, указывая на Петю. — О господи! Как я ему завидую! У него нет друга-татарина.
— Ча-чу! Ча-чу! — невозмутимо приседал и отвешивал поклоны уже прокипевшему Славе бодрый черноглазый Костя.
А Пете стало смешно и любопытно. В чем же действительная суть их каждодневного посещения уныленькой, примитивной дачи?
Впрочем, сегодня ему, видимо, не предстояло этого узнать: друзья собирались в путь, поглядывая на него виновато. И он понял, чем сгладить их неловкость, — зашелестел Надюхиной телеграммой.
До прибытия поезда оставалось три часа…
12
Совершенно спокойный Петя стоял у шестого вагона и смотрел на выходящих пассажиров. Все они были усталые и помятые, как засоленные в бочке огурцы. Вот и все на перроне… Нет, седой ополневший от возраста и недостаточности простора для нормальной жизни проводник тащил к выходу большую, тяжелую корзину, а за ним семенила сухонькая старушка с узелком.
— Спасибо, спасибо, родимый! — заранее благодарила она его в круглую, влажную спину. — Спасибо за сердечную отзывчивость!
Слово это царапнуло слух каким-то своим казенным одиночеством, но проводнику, видимо, оно доставило ощутимую капельку удовольствия. Он, уже протянувший сверху Пете эту корзину, раздумал и, тяжело ворочаясь на ступеньках, сам снес ее на перрон.
— М-м-молодой человек! — голос у проводника гневный и в меру властный. — Что вы там забыли?
Петя растерянно остановился в тамбуре, вглядываясь в утробное устройство душного вагонного коридора.
— Простите… — Он, уже неожиданно сникший и встревоженный, снова спустился на перрон. Может быть, так бы и ушел, но тучный работник транспорта не сводил с него подозрительного взгляда всего повидавшего человека. — Я… Это… В Излучье к вам никто не садился?
Проводник, кажется, начал гасить подозрительность взгляда.
— В Излучье, говоришь… Это где грузди… А вот мы сейчас посмотрим, пошли, пошли!
Размашисто, но неловко перешагивая через кучу использованного белья, он предупредил Петю:
— Постой там, не ходи сюда…
Петю, уже несколько отвыкшего от подобного обращения, со всей силой притягивала сейчас толстая и официальная, набитая, вероятно, важными документами, сумка проводника.
— Гм… Так какого же черта… — Этот пожилой человек, пытаясь сдержать раздражение, ступал уже прямо по белью.
…Надюха сидела у окна и смотрела на нижний этаж старинного вокзала. Петя робко тронул ее за локоть, но она повернулась не сразу. Проводник ощущался за спиной сдержанно-сердитым сопением. Но когда Петя увидел наконец глаза жены, то этот толстый и испорченный своеобразной властью человечек забылся сразу и навсегда. Ее взгляд, ошпаривший его невероятным количеством тоскливой горечи, любви и ненависти, решимости и растерянности, не мог — прежде всего, окунаясь в озноб, он отметил именно это — быть взглядом его Надюхи.
— Я… назад поеду… — сказала она тихо, отворачиваясь к окну.
И эти ее слова испугали, огорошили Петю больше, чем ее взгляд, потому что в них была какая-то серьезная ненормальность потерявшего над собой контроль человека.
«Я не буду тосковать по тебе, правда?»
В эту минуту он понял ее больше и пронзительнее, чем за все прожитые вместе годы.
Опомнился он на перроне, но еще долго держал ее, странно невесомую, на не привыкших к этому руках и, не замечая изумленных взглядов прохожих, купал свои и без того влажные щеки в ее теплых слезах.
— Нн… Не плачь! — еле выдохнула она, высвобождаясь. И тут же припала к плечу, уже не в силах сдерживать рвущегося голоса.
Теперь прохожие прятали глаза. Уставший, как никогда не уставал за смену, Петя был благодарен им за эту чуткость.
13
— Ты хочешь есть? Ведь хочешь же?! — спрашивал он, не выпуская ни на секунду ее руки. Она только улыбалась измученной и виноватой улыбкой и отрицательно качала головой. — Ты устала, да? Пойдем посидим где-нибудь!..
Она так же улыбалась и так же качала головой.
И только потом-потом, в какой-то точке немыслимо большого дневного пространства он услышал:
— Петя!
Вздрогнул, потому что не мог ошибиться…
— Петя! — Надюха, его Надюха смотрела на него печальными и ласковыми глазами Лены. — Этого же не было, правда?..
Ему показалось, что она спрашивала именно о Лене, и его сковало чувство, близкое к ужасу. Какая-то секунда решала — предаст или нет он память о той, которая была…
— Я сто раз его прочитала…
Они сидели за светлым, гладким столиком летнего кафе и были похожи на потерявших в страшном лесу и совершенно случайно нашедших друг друга детей. И Петя, самым таинственным образом освободившийся от того, что появилось в его душе с письмом Надюхи, просто и складно рассказывал ей сейчас про счастливую встречу в поезде, про краевую библиотеку, профессора Одинцова и свою толстую тетрадь в коленкоровой обложке. На лице жены было написано все. И смущение, и раскаяние, и доверчивая нежность… То, что пережил он в эти дни, казалось уже далеким и неестественным.
— Помнишь, когда тебя убивали?.. — спросила она. посмотрев на него пристально.
Он понял, что это когда — там, на полянке. Но он никогда не думал, что там его убивали…
— Я об этом думала в поезде. Хорошо, что я тогда забыла про топор…
Это откровение разволновало его — и ужаснуло, и полоснуло по сердцу щемящей радостью.
— Мне ехать домой? — спросила она ближе к вечеру, когда они сидели на скамеечке у моря. На той самой скамеечке… Что-то самостоятельное, не зависящее от Пети, привело его сюда. Привело, но не смогло смутить, потому что он понимал: просто это продолжение вчерашнего.
— Мы вместе поедем!
— Но ведь…
— Вместе!
Она прижалась к нему, спрятав в плечо лицо.
— А хочешь — поедем на дачу?! Поедем, а?
Она согласилась, не спрашивая, что это за дача и какое Петя имеет к ней отношение. Петя едва-едва отметил это про себя и не удивился, понимая, что оба они имеют теперь право на безграничное доверие друг к другу.
Солнце уже садилось, когда они подошли к этому неказистому домику. На участке никого не было. Они в нерешительности остановились перед старенькой калиткой. Потом услышали голоса: Слава и Костя спорили.
— Можно к татарам? — открывая дверь, негромко, но весело спросил Петя.
Они смутились, от Пети это не ускользнуло, но только на секунду. В следующую секунду Костя уже сгребал со стола чертежи.
— Ну, ребята, это же несерьезно! — с огорчением произнес расставляющий стулья Слава. — Сколько же можно ждать…
Петя еще раз понял всю прелесть хорошего воспитания. И еще он понял, что Надюха произвела на друзей очень приятное впечатление.
Потом они смотрели, как Костя крадется вдоль грядки.
— Пиль! — закричал Слава.
Надюха долго и весело смеялась. Она пробовала вместе с ними кислое зеленое вино, но не могла удержаться, отставляла стакан и смеялась еще заразительней: видимо, прыжок Кости ее просто потряс.
— А мы сегодня ночуем на даче! — сообщил вдруг Слава.
— Здесь? — Надюха искала глазами то, на что можно было бы прилечь.
— Кочевники! Привычка… — словно оправдывался Костя. — Это уж вы, оседлые, томитесь в душной комнате!
Петя не знал, что делать с переполнявшей его благодарностью.
14
«Жить хорошо! Жить хорошо!»
Может быть, это те же самые стальные круглые колеса, что мчали Петю в дом отдыха и обещали ему не постигнутые еще им радости. А может, они уже тогда знали, что повезут его назад с Надюхой, что он будет лежать на верхней полке и смотреть, смотреть на счастливое лицо спокойно спящей жены?
«Жить хорошо!.. Хорошо, хорошо, хорошо…»— уже издалека, все глуше, все тише.
— Еще бы! — ударил в затылок голос Лескова. — Просвежился!
Петя пытался повернуться к нему, но почему-то не мог, а когда, отчаянно рванувшись всем телом, все же повернулся, Лескова перед глазами не оказалось.
— Так, значит, хорошо, что меня не было за столом? — Он стоял за спиной. Вплотную. — А как же! Рыцарь! Чувствительный! Да не крутись ты… Меня не было! Да уж, конечно, я бы эту арию исполнил по-другому. С большим успехом, дорогой Петя. От меня бы она прощальным вздохом не отделалась.
— И… ты бы смог…
— О, дорогой! Не все же такие ослы.
— Подлец…
— Ну ты, конечно, святой! Какого же тогда черта поперся в кабак? Ах да! Тебе просто захотелось жареных кальмарчиков. Иных намерений у тебя и в помине не было… Ты ведь такой светленький! Это я черный, а ты светленький.
— Что тебе нужно?
— Мне просто противно смотреть на твое счастливое лицо. Сияющее лицо плотника четвертого разряда.
— Значит, ты завидуешь…
— Я?! Ты сказал — я завидую? Видит бог — хотел пощадить твое больное самолюбие… Тебе так и не пришло в голову — по ком она сходила с ума? Какая эффектная поза! Вероятно, она означает острый приступ ревности…
— Брешет… Брешет! — пронесся где-то в темной глубине мозга взволнованный шепот Феди Лыкова. — Он всегда брешет…
— Мальчик Федя! Во времена оны…
— И «во времена оны» он был брехуном. Что, не правда? Я ведь все-е-е про тебя знаю! Ты и детей хотел у Пети отнять. Вон ведь как ловко все придумал! Кабаки, шуры-муры. Не вышло, вот и бесишься теперь! В душу захотел человеку плюнуть? Петь, да ты посмотри: может по нему кто-нибудь тосковать?!
Тут Петя и впрямь увидел Лескова — желтого как смерть, страшного и противного. Лесков ухмыльнулся.
— Ну, ничего! Ничего… Будут у тебя еще сладкие минуты — обещаю! — И исчез, как сквозь землю провалился.
— Записка! — зашептал откуда-то Федя. — Он украл записку…
…Мягко покачивался вагон. Петя лежал с открытыми глазами, чувствуя слабость и разлаженность души. Записка? Вот она, в бумажнике. Петя вынул ее вместе с Надюхиной телеграммой и лотерейками. Прочитал и, сжав ее до боли в кулаке, уставился прозрачным взглядом в ставший бесконечно далеким потолок.
«Зачем ты гладишь мои пальцы?..»
«Ты ведь тоже мои гладишь…»
«Правда… А я и не заметила!»
«Видишь… И я не заметил. Мы же так разговариваем… Что я сейчас сказал?»
«…Повтори!»
«Ну, вот, следи внимательнее…»
«Не надо…»
«Тебе неприятно?»
«Не надо!..»
«…Нет, я не обиделся… Но почему?»
«Я не скажу. Может быть, ты сам поймешь…»
«Нет, не понимаю!»
«Я не хочу! Я не хочу, чтобы ты понял сейчас!»
«Ты… замужем?»
«Нет, нет, нет! Ну, пожалуйста, не надо об этом».
«Хорошо, я буду просто гладить твои пальцы».
«Помнишь, Зина сказала, что у тебя счастливая жена?..»
«Помню…»
«Это правда?»
…Вот и рассвет. В город, где это было, он пришел чуточку раньше.
Надюха по-детски светло улыбалась видениям ласковых снов. Петя смотрел на нее долго и пристально, потом решительно потянул на себя длинную, во все окно форточку, сунул в плотный воздух руку и, помедлив, разжал кулак.
«…Я не буду тосковать по тебе, правда?..»
Мои светлый мальчик
Близился вечер. Было собрано и уложено почти все. Я сидел в кресле и, тупо уставившись на раздутый рюкзак, старался вспомнить: что же я забыл однажды, вот так же собираясь на рыбалку?
Звонок оборвал мои мелкие мучения. В прихожую вкатился шеф. От него пахло весной, он был празднично настроен и держал под мышкой сверток.
Он понимающе оглядел рюкзак, чехлы со спиннингами, тючки с палаткой, спальником и лодкой.
— Колю моего возьмешь? — спросил шеф, усаживаясь в кресло.
Я промолчал.
— На тебя вся надежда… — Шеф не глядел на меня — изучал телепрограмму. Секунда — и он метнулся к телевизору. — Футбол, старик! Давай столик сюда. — И снова плюхнулся в кресло, великодушно позволяя мне заняться селедкой, картошкой и прочими простейшими украшениями предстоящей беседы.
На кухне я отрабатывал варианты отказа.
Коля. Мальчик двенадцати лет. Ходит в школу. Стоп! Каникулы еще не скоро. Я еду среди недели: завтра четверг! Ждать не могу.
Дальше. Коля — мальчик, малыш. Ему нужна забота. Ночи сейчас холодные, я бы сказал — очень холодные. Спальник у меня одноместный. Второй взять не могу — некуда. А промочит ноги? Температура? Мотоцикл без коляски. До города больного его не довезешь…
Дальше. Дороги еще не просохли, езда по ним — одно мучение. Даже без пассажира. Столько груза! Не дай бог кувыркнемся.
— Го-о-ол! — взревел за стенкой тонким голосом шеф. Он ликовал и не думал сейчас о своем Коле, который, вполне возможно, скоро станет инвалидом.
Я чистил картошку, окунал в уксус селедку и продолжал отрабатывать варианты, которых было совсем мало. Я отрабатывал их вглубь. Нужно было не только отказать, что само по себе для меня сейчас не очень просто, но отказать так, чтобы шеф был бы еще и благодарен мне за спасение жизни его драгоценного ребенка.
Чего греха таить, если бы о таком одолжении просил не мой шеф, а кто-нибудь из друзей, я бы сказал просто:
— Сдурел, старик?!
Укрывая селедку луком, я подумал, что вот они, капли рабства, оставшиеся в наших душах с времен крепостного права! Минуту спустя, когда картошка, селедка и прочие украшения предстоящей беседы были уже на журнальном столике, шеф после окончания футбольного матча выключил телевизор, подвинул к столику кресло и сразу же спросил, что я думаю о совместной рыбалке с Колей, я как можно непринужденней ответил:
— Сдурел, старик?!
— Обиделся, значит? — пристально посмотрел на меня он.
— За что? — искренне удивился я, не прекращая мелкие хлопоты по столу.
— Да брось! За что! Будто не знаешь… — Он крутил в руках пустую посуду и смотрел на нее отсутствующим взглядом. — Работа есть работа, старик. Если бы я на всех обижался, у меня бы был не один инфаркт.
Я честно пытался вспомнить, за что я мог обидеться на шефа, но так и не вспомнил. Тут снова затиликал звонок. В прихожую ввалился Крокодил Гена — тоже товарищ по работе, но ничей не шеф, просто товарищ.
— Ты… Это… Привет! — сказал он в обычной своей манере. — Я к тебе с новостью. Твой дурацкий шеф…
Я дернулся и прикрыл ему рот кулаком. Шеф кашлянул в глубине комнаты.
Крокодил Гена покраснел и стал раздеваться. Он смотрел на меня так, словно знал, что живет последнюю минуту и не сможет вернуть мне крупную сумму денег, занятую, может быть, на «Жигули» или другую шикарную вещь.
Наконец мы вошли в комнату. Шеф смотрел на нас и улыбался. И я бы не сказал, что он улыбался через силу.
— Извини, — вдруг сказал ему Крокодил Гена. — Я не думал, что ты здесь.
— Только что, — шеф кивнул на меня, — я сказал ему, что если бы на всех обижался, нажил бы кучу инфарктов.
— Точно не обижаешься? — простодушно спросил Крокодил Гена. — Молодец, старик! — И он уселся у столика. Прямо на пол. С его ростом ему было так удобнее.
— А ты уже и собрался! — непонятным тоном произнес Крокодил. — На завтра собирался?
Я как-то не обратил внимания на это «собирался».
— Конечно! Чего тянуть. Вот еще мотоцикл… Да ладно, утром займусь.
Крокодил Гена посмотрел на меня, потом на моего шефа. Шеф курил и щурился — видимо, дым ел ему глаза. Я принес еще одну вилку, положил перед Крокодилом Геной и присел рядом с ним — на упакованную палатку.
Через минуту мы весело разговорились, а потом, дальше-больше, говорили все веселее, как это случается в такой вот непринужденной обстановке. Я подумал, что у меня очень хорошие товарищи по работе, даже шеф, несмотря на его занудливую натуру, что действительно другой бы на его месте нажил с нами кучу инфарктов, а он не только не нажил, но еще и находит время для простых человеческих контактов. Эта мысль переполнила меня благодарностью к моему шефу, мне стало неловко за мысленные маневры, которые я выполнял по кухне. Коля? А почему бы и не взять! Во-первых, он не девчонка, мальчик. Почти мужчина. Подумаешь, промочит ноги! У костра обсушится. Раньше ребятишки босиком по снегу бегали, не умирали.
Пусть спит в мешке, пару ночей я и у костра скоротаю — свитер, костюм, плащ. Доедем! Спешить некуда, потихоньку… Зато парень хлебнет свободы, поймет то, что никогда не понять его круглому папаше. А то, не дай бог, вырастет еще один руководящий коллекционер, любитель аквариумной природы. А школа… Значит, какие-то обстоятельства, и не мне ломать об этом голову.
— Что же это я! — вскочил Гена. И никакой он не крокодил! Конечно, большой, медлительный, добрый, но зачем же сразу приклеивать всякие клички! Не по-товарищески…
— Гена, ты куда? — отбросив полклички, заботливо спросил я.
— Да… Это… Забыл совсем. Я ведь тоже кое-что купил.
И он принес свой сверток, который покоился до сих пор в огромном кармане его огромного пальто.
Мы засиделись допоздна. Поговорили хорошо, без задних мыслей. Мне было еще лучше, чем им, потому что завтра, с раннего утра…
— Ну, мы пошли, старик! — Гена поднялся. Он и не подумал, что первым должен подняться мой шеф. — Ложись, а то завтра на работу, не выспишься.
Я посмотрел на шефа. Он тоже поднялся и уже направился в прихожую.
— Да, старик! — сказал он уже оттуда. — Тебя отозвали. Сам понимаешь — на селе сейчас горячо. А тут… заболела.
Я не мог подняться с палатки. На меня давили сто трудных дней ожидания этого дня. Меня распирала обида, жгло отчаяние.
Они не уходили, топтались в прихожей. Наконец я вышел проводить их. Было совсем темно. Кричали первые весенние лягушки, а где — не поймешь: везде асфальт да бетон. Ночь теплая, сейчас на дальнем заливе…
— Послушай, — сказал я шефу в кудрявый затылок. Он остановился. — Что же ты мне молол про Колю?
— Я имею в виду июнь. Когда он будет на каникулах.
Значит, отпуск мне перенесли на июнь…
Надо сказать, что потом я был очень и очень благодарен шефу: весь май шли дожди. Ни о какой рыбалке не могло быть и речи. Даже выходные заставляли выть от скуки. Единственное, что я успел сделать за месяц, — это тщательно подготовить к отпуску мотоцикл…
И вот она пришла, добрая погода. Пришла моя свобода!
— Я загляну к тебе, старик, сегодня! — сказал мой шеф, когда я обходил товарищей, расставаясь с ними на месяц.
Я вздрогнул. Это было как наваждение.
— Извини! — ответил я уже в коридоре, чтобы не обидеть шефа при всех: обида, нанесенная при свидетелях, держится в душе очень долго. — Извини, старик, но вечером я уже буду на заливе!
Шеф думал меньше секунды.
— Тогда я ему сейчас позвоню! — решительно сказал он.
— Кому?
— Коле. Ты же обещал.
Вот как! Значит, я обещал… И хотя это было не совсем так, я почувствовал, что попал в западню.
Шеф позвонил домой. Он долго держал трубку около уха, потом робко взглянул на меня.
— Может, утром поедете?
— Нет. Мне каждый день дорог…
— Я понимаю… Поверь, Коля тебя не обременит. Тихий мальчик. Я даже не знаю, что из него получится. Уж такой робкий…
«Коллекционер из него получится! — чуть не сорвалось у меня с языка. — Предмет для кушетки».
Я выходил из кабинета под обиженным взглядом шефа.
Плевать! Солнце палило вовсю, трава, наверстывая упущенное за холодный май, рвалась в небо, у магазинов появились бочки с квасом, девушки вырядились в невесомые ситцевые платья. Плевать! Уезжаю. Коля? Ха-ха!
И хотя ехать по всем соображениям нужно было утром, я тут же, не теряя ни минуты, зашел в гараж и вывел на площадку новенький «Восход-2». К дому я подъехал на мотоцикле.
Минут двадцать, ну, полчаса провел я в квартире, доедая вчерашний суп, допивая оставшийся в холодильнике кефир, собирая в одну кучу — к дверям — весь мой путевой скарб. А когда, с рюкзаком на плече, спиннингами в руке и палаткой под мышкой, вышел на улицу, возле моего мотоцикла стоял Коля.
Первое, что мне пришло в голову, — сказать ему, что я еду не сегодня, а завтра или даже — послезавтра. Второе, что я дубина: надо было это сказать моему шефу, его отцу. Сказать так, а уехать сегодня!
Коля смотрел на меня ясным немигающим взглядом. Одет он был ладненько: в плотные джинсики, защитную курточку. Под курточкой — черный свитерок. Конечно, стоять под солнцем ему было сейчас несладко, но для езды на мотоцикле лучше одежды не придумаешь.
А он собирался ехать на мотоцикле: в руках у него был новенький шлем. И это предусмотрено!
— Здравствуйте! — чуть слышно сказал Коля и потупился.
— Привет! — сказал я таким тоном, чтобы он сразу же все понял и слинял. Если он сразу все поймет и слиняет, мне не придется оправдываться перед шефом: не прогонял же!
Коля не линял. Он стоял и смотрел на мою возню. Я прилаживал к верхнему багажнику большой рюкзак. Я прилаживал рюкзак и думал, что если возьму этого робкого Колю с собой, то не возьму ни палатки, ни спальника. Лодку возьму, лодка создана не для проявления заботы о папенькиных сыночках. Она у меня вся в заплатах. Я его отошью от лодки, скажу, что не хочу, чтобы он утонул.
Я занес палатку в квартиру, швырнул на антресоль, туда же — спальный мешок, туда же — прорезиненный плащ: обойдусь. Я тебя, робкий друг Коля, научу свободу любить!
Я замкнул квартиру на два ключа и вышел на улицу. Коля стоял возле мотоцикла в той же позе, в какой стоял десять минут назад. Я только сейчас заметил за спиной у него рюкзак. Рюкзачок. Если бы у меня был трехлетний сынишка, я бы купил ему точно такой же, чтобы ходил в походы — под стол.
Что за черт! Спиннингов на месте не было. Кажется, я их положил на рюкзак…
— Я ваши спиннинги привязал! — шевельнулся Коля.
Привязал! Я раздраженно сорвал какие-то тесемочки и сунул удилища под капроновую дугу сиденья…
Коля ждал. Он внимательно смотрел, как я открываю краник подачи бензина, нажимаю на поплавок карбюратора, вставляю в замок ключ, ищу нейтральную передачу, с одного толчка завожу мотоцикл и сажусь на белое сиденье.
Я начал надевать шлем.
— Ну… что! Поехали!
Я не почувствовал его веса. Мотоцикл даже не шевельнулся.
За городом я дал гари. Мотор работал с наслаждением, дорога была почти пуста. Я клал мотоцикл на поворотах, как это делал, когда ездил один. Коля, подражая мне, заваливался в нужную сторону. На прямой я разворачивал грудь, чуть откидывался назад и при этом не задевал пассажира: у него, оказывается, была неплохая реакция.
На двенадцатом километре послышался странный звук. У меня упало сердце. Пришлось сбавить скорость до шестидесяти. Звук усилился. Съездили!
Ну что? Что? Я думал лихорадочно. В картере? Подшипник колеса? Цепь?
Да звук какой-то странный. Я обернулся. Это пел Коля.
Я хотел сказать: «Заткнись!» Но он тут же замолчал, смутился, заерзал на сиденье.
— Первый раз на мотоцикле? — крикнул я, увеличивая скорость.
— Ага! Первый! — прокричал он в ответ и махнул рукой, что должно было означать высшую степень восторга.
На двадцать седьмом километре асфальт кончился.
— Держись крепче! — предупредил я.
— Ага!
Местами мотоцикл плавал по гальке, я этого почти не замечал: привык. Я не думал, что мой напарник реагирует на это иначе… В зеркальце Колино лицо было похоже на что-то гипсовое.
— Тебе плохо? — я остановил мотоцикл.
Трещали кузнечики, в релке пикали бурундуки, от молчавшего двигателя тянуло густым теплом.
— Н… нет. С чего это вы взяли?!
— Ты побелел.
— Это пыль…
— Ты не бойся, на гальке всегда так…
— Я не боюсь! — поспешно прервал меня он.
— Я скажу, когда мы будем падать.
— Хорошо.
Тут же я понял, что он принял мои слова всерьез. Значит, поверил, что мы будем падать, что мы обязательно упадем, и теперь только об этом и будет думать. А если он будет думать только об этом, мы упадем, потому что он не сможет владеть телом и станет мешком с чем угодно.
— Ты шутки понимаешь?
Он пожал плечами.
— Ты понял, что я пошутил?
— Понял…
— Когда?
— Сразу.
— Нет, ты понял, когда я пошутил? — Я сделал ударение на «когда».
— Понял.
— Когда? — Я не отрываясь смотрел на него. Сквозь белизну на его лице проступали едва заметные розовые пятна.
— Когда вы сказали, что я белый…
— Правильно. Эта машина не падает! Понял? Нет, так-то, конечно, она может упасть, а вот как только на нее сел человек, она уже не может. Эта машина — редкая удача конструкторов. Она проходит по любой дороге. Ей не страшно бездорожье. Она выносливая, потому что в ней одиннадцать лошадиных сил. Поэтому мы не упадем, а скоро приедем на место. Живые и целые. Понял, Коля? Или ты хочешь домой? — мелькнула у меня надежда. Я бы еще успел отвезти его и поехать опять и быть еще засветло на заливе.
— С чего вы взяли?! — уже не заикаясь, даже с каким-то вызовом спросил он.
Я молча завел машину, молча уселся на свое место.
Какой-то чертик щекотал мне нервы. Хотелось так прижать, чтобы тихий заносчивый Коля обделался со страха. Но, слава богу, я достиг уже того возраста, когда разум способен положить на лопатки любое, почти любое, чувство. Я поехал очень осторожно.
Все шло нормально, пока нас не обошел «Урал». Тоже рыбаки. Двое. Второй в коляске. Он оглянулся, и я разглядел ухмылку. Плевать! Я везу ребенка, у него мягкие косточки, может, еще и темечко не совсем затвердело. И тут я опять поймал в зеркальце лицо своего пассажира. Ребенок с незаросшим темечком презрительно смотрел мне в затылок.
— Держись! — рявкнул я, обернувшись. И почувствовал, как он дернулся. От неожиданности.
«Урал» ушел. Он уже одолел подъем, видимо, даже спустился, а там — поворот. Трасса явно не для гонок.
На подъеме раньше, чем обычно, я воткнул третью. Мотоцикл озверел, и уже не пришлось включать вторую. На вершину мы просто взлетели. На вершине нас подбросило и понесло вниз. Даже у меня захватило дух. Представляю, что теперь чувствовал этот молокосос… Не думал я, что способен на злорадство.
Но что-то опять зазвенело. Меня пронзила тревога.
Спуск усиливался. И если это… На всякий случай я оглянулся.
Коля пел! У него было совершенно счастливое лицо.
На повороте за спиной у меня запищало.
— Я!.. Я! Я! — кричал Коля, тряся возле своего уха кулачком. Я притормозил. — Пе… пе… перевернулись!
Нет, они не перевернулись. Просто не вписались в поворот, соскользнули с насыпи и легли на бок. Когда мы подошли, «Урал» был уже на колесах.
— Давлю, а не тормозит! Давлю, а не тормозит!
— А я думаю — все! Крышка! Виль, виль… Хотел уже прыгать!
Коля смотрел на «Урал» широко раскрытыми глазами.
С полчаса мы помогали мужикам выгонять мотоцикл на дорогу. Насыпь была рыхлая, из-под заднего колеса «Урала» мощной струей била щебенка.
— Ну что, вперед? — спросил я.
— Езжайте! Спасибо. — Мужики смущенно улыбались. — Мы покурим…
— Как прикажете ехать? — я внимательно посмотрел Коле в глаза.
— Как хотите!..
Теперь мне было нечего доказывать. Коля уже не пел, но и не строил на своем сухоньком личике неприятных выражений.
Километров восемь — от трассы до залива — мы ползли на второй передаче. Здесь проходила летняя тракторная дорога, но время сенокоса только наступало, дорога была еще не тронута. Майские дожди превратили ее в застойную речушку, в землю вода не уходила, испарялась же она почему-то очень медленно. На обочине колеса вязли. Пришлось ехать прямо по воде. Дно было плотное, глинистое. Какая-то странная, невязкая глина. Колеса врезались в мутноватую воду, но сами были чисты.
Я был в броднях. Отвернул голенища. На них уже высыхали брызги желтой грязи. Коля поджимал ноги, стараясь сохранить белые кеды. Уж так он старался, что в конце концов задергался, как птенец на краю гнезда, и с жалобным писком ушел в лужу.
Синие джинсики сразу побурели.
— Что же ты так слабо держался?
— Я специально.
— Что специально?!
— Слабо держался, — растерянно улыбнулся он, сдувая с губ грязную воду.
— Ты хотел шлепнуться?
— Нет… Я не хотел, чтобы вы со мной вместе упали.
Наверное, я посмотрел на него чересчур нежно. Он отвернулся.
— Вот что, Коля. Сейчас ты сядешь и будешь изо всех сил мне мешать. Постарайся повалить мотоцикл. И если ты его повалишь вон до того дерева, то я… подарю тебе спиннинг. Понял?
Он сразу понял! Если бы он отказался от этой затеи, я тут же подарил бы ему спиннинг. Он не отказался, у него засветились глаза. «Папины», — подумал я.
— Ага! Вы ногами держитесь! — прокричал он уже на ходу.
— А что, — не выдержал я, — рогами мне держаться? Я же не говорил, что не буду помогать себе ногами.
— Так я вас не повалю.
— А тебе очень хочется повалить?
Он молчал. Он уже не дрыгался.
— Но ты понял, что мы не могли упасть?
Он молчал.
— И нечего тебе было нырять в грязную лужу!
Коля захохотал и стал подпрыгивать, не стараясь повалить мотоцикл, а просто так, от избытка веселья.
Вдоль берега залива стелилась уже пересохшая черная тропинка, окаймленная подорожником и клевером, Лететь по ней было одно удовольствие. Мотоциклы любят мягкие, но плотные дороги. Коля совсем осмелел. О» держался коленями, а руками изображал крылья плывущего по небу лебедя. Эти лебединые крылья чуть-чуть заламывало ветерком.
— Ну вот, приехали! Лучше места не найдешь.
Залив был широкий, неровный, изгибистый. Мы остановились на излучине. Рядом была редка с множеством берез, отживших после палов. Дрова здесь не скоро переведутся. Берег обрывистый, но от обрыва до воды добрых двадцать метров песка, слегка покрытого ракушечником и закостеневшими сучками.
Я знал дно. Шагов на тридцать простиралась мель: можно пройти в броднях. Карась сюда не заходил, даже метать икру. Икру он мечет у травянистых берегов. Дальше начиналась глубина. Резкий переход. И там уже всюду гуляла крупная рыба. Интересно выводить ее на мель: зарывается в песчаную стену, упирается. Иногда кажется: вот-вот леса не выдержит.
Коля разглядывал свои кеды. Теперь они были черные. Джинсики — спереди — тоже. Видимо, Коля любил, чтобы на нем было все чистенькое. Привыкай!
Я подвел мотоцикл к дереву, осторожно прислонил и стал отвязывать пропыленный сверху и подмоченный снизу рюкзак. Коля продолжал разглядывать свои кеды.
— А их можно перекрасить? — Он смотрел вопроси-, тельно и растерянно.
— Кеды? Можно, конечно.
— Их надо высушить, да?
— Помыть и высушить. Да ты все равно снова намочишь. Нужно было прихватить сапоги.
— У меня… — он замолчал и пошел к воде.
Я вытаскивал из чехла удилище, а он сидел на песке и разувался. Носки у него тоже были черные. И ноги, по самую щиколотку. Он встал и оглянулся. Я прилаживал к удилищу катушку. Он быстро снял джинсики и одернул плавки. Ноги у него были тонкие, бледные.
— Правильно, — сказал я, насаживая на крючки червей. — Раздевайся. Сейчас самый загар. Я тоже буду загорать.
Он покраснел. Он не снял курточку, даже рукава не закатал. Зашел по колено в воду и занялся стиркой.
Мне расхотелось ловить рыбу. Такое со мной случается редко.
— Давай мне кеды!
Он неумело, по-детски жулькал модные штанишки, я выгребал грязь из его резиновой обуви. В конце концов кеды немного побелели.
— Высохнут — будут еще белее! — успокоил я его. — Ты не думай о них. Вернемся и перекрасим. У меня перекрасим. Отец и не заметит!
У Коли перекосилось личико. Стало злое, как у хорька.
— При чем тут отец!..
— Ну и слава богу, что ни при чем. Не сердись! Просто перекрасим, и все.
— Нечего их перекрашивать! — Он вырвал у меня кеды и побежал из воды.
Вот тебе и рыбалка! Вот тебе и свобода… Чертов шеф.
Я взял спиннинг и отошел подальше, чтобы успокоить нервы. Я мог зашвырнуть грузило на семьдесят метров. Это мой предел. Но и этого достаточно, чтобы многие рыболовы завидовали мне. Я сделал яростный взмах и краем глаза заметил, как застыл возле дерева маленький психопат Коля. Он смотрел туда, куда летело сейчас натягивающее леску грузило. Оказывается, я не знал еще своего предела. Почти все сто метров лесы легли на гладкую воду залива. Леса была сухая и тонула очень медленно.
Коля еще постоял и начал развешивать кеды.
«Не так, кверху подошвой!» — чуть не крикнул я, но сдержался. Я почувствовал, что леса быстро пошла вперед. Осенью карась очень разборчив, клюет осторожно, и его нужно вовремя подсечь, а сейчас он звереет от голода и засекается сам. Намертво. Рыба была еще в глубине, но упиралась так, словно уже наткнулась на песчаную стену. И странно она себя вела. Не ходила кругами, а подергивала и раскачивала лесу. У стены она забуянила. Катушка вырывалась у меня из рук, пластмассовые ручки больно били по пальцам. Я воткнул в песок удилище и стал выбирать лесу, словно это была просто закидушка.
Вот оно что! На мелководье вышли сразу два карася. Да каких!
Коля дышал за спиной. Я не оглядывался, некогда было. Рыба билась на песке. Она обрастала песком и становилась еще крупнее. Коля не подходил к ней. Стоял у меня за спиной и молчал. Я поснимал карасей с крючков, опустил в новый металлический садок и бросил садок в воду. Тем-то он и удобен, этот садок, что его можно бросать в воду, и рыба никогда из него не уйдет. С капроновым много мороки. Нужно завязывать и обязательно прикалывать колышком. Он легкий, а карась сильный.
Коля удалялся к мотоциклу. Он что-то насвистывал и уже не смотрел, как я зашвыриваю на середину залива каплеобразное свинцовое грузило.
Рыба клевала без перекуров. Но на первый вечер пятнадцать крупных карасей достаточно. На уху и жареху.
Коли не было. Брючки и кеды висели на дереве.
Я достал из рюкзака котелок, спустился с ним к воде и стал чистить рыбу. Потом я чистил картошку.
Появился Коля. Руки у него были в сухой земле. Он спустился к воде, метрах в пятнадцати от меня, стал отмывать руки.
Я сходил за дровами и развел костер. Солнце снижалось, было уже не так жарко, я надел рубашку. Костер горел ровно, вода в котелке бурлила, в ней металась круглая картошка. Пора было закладывать рыбу.
— Я возьму у вас два червяка?
Взрослый человек сказал бы: «Я возьму у вас пару червей?!»
Я почувствовал себя виноватым. Я и был виноват, если честно.
— Конечно! Мог бы и не спрашивать. Я копал на двоих.
— Мне только два! — отрезал Коля. Взял червяков и направился к своему рюкзачку.
Боже! Ну и закидушка у него. Почти миллиметровая переметная леса. Узел на узле. Грузило величиной с крышку от моего нового котелка. Крючков я не разглядел.
Раза два он забрасывал неудачно. Борода. Грузило шлепалось в трех метрах от берега. Летели брызги. Потом он разложил лесу вдоль берега, посмотрел на меня и размахнулся. Грузило завыло, как крупнокалиберный снаряд, в какой-то точке полета напряглось и вырвала из песка дощечку. Коля бросился в воду, выловил дощечку, оглянулся — не смеюсь ли я — и остался стоять в воде. Он терпеливо ждал поклевки.
Я попробовал уху. Готова… Перцу. Да… Сыпать ли перец? Мальчишкой я терпеть его не мог.
Уха остывала без перца. Коля стоял в воде и ждал поклевки. Я подошел к нему и стал рядом. Он взглянул на меня. Мне показалось, что он вот-вот заплачет.
— Здесь не будет клевать.
— П… почему? — еле слышно отозвался он.
— Здесь совсем мелко. До глубины у тебя не хватит лески.
Он покраснел. Сильнее, чем тогда, днем. И стал сматывать закидушку.
— Иди одевайся. Прохладно уже.
— Я не замерз…
У него была гусиная кожа.
— Сейчас поужинаем, и я покажу тебе место, где можно ловить твоей закидушкой.
Он молчал. Сматывал леску.
— Ты обиделся?
— Нет…
— Правильно, старик! Если бы я на всех обижался, то нажил бы кучу инфарктов.
Коля прыснул. Он продолжал сматывать лесу, не глядел на меня, но лицо его излучало нарастающее веселье.
— Вы… специально так сказали, да?
— Как сказал?
— Ну… так. Кучу инфарктов. Чтобы насмешить, да?
— Нет, само собой получилось.
Значит, шеф упоминал свои возможные инфаркты не только в кругу коллег.
Коля стоял у костра. Очень близко. Ноги его начинали наливаться краснотой огня. Он смотрел на костер и о чем-то думал: глубоко, сосредоточенно. Я жарил на крышке котелка рыбу. Жарил на воде, но так, чтобы она была вкуснее, чем на масле. Животы у карасей раздулись. В них были лук и мелкий лавровый лист.
— Одевайся, — еще раз попросил я, — пора к столу.
Он молчал. Не шевелился. Мне непонятно было его молчание.
— Я… не хочу есть.
И тут я заметил, как он сглотнул слюну. Меня пробило жаром. Не от костра.
— Вот что, Коля, у настоящих рыбаков есть такое правило: кто бы ни поймал рыбу — едят все. Если кто-нибудь отказывается, его больше не берут с собой. Значит, он не уважает товарищей.
Коля метнулся к одежде. Господи! Как он одевался. Он не мог попасть ногой в штанину.
— Есть будем из одного котелка. Ты не против?
Он был не против. Он мотал головой и пронизывал меня счастливым взглядом.
— Держи ложку. Ешь!
— А вы?
— Потом я. Да ешь, я ведь люблю с перцем. Я насыплю много перца. А ты пока ешь так.
— Я тоже буду с перцем.
— Ну хорошо! Тогда ты начинай с жарехи. С жарехи начинать даже лучше. После нее хочется пить, а тут тебе — уха.
— Давайте вместе начнем с жарехи!
Мы начали с жарехи.
— Ой! Подождите!
— Что такое? — заботливо спросил я.
— Я сейчас, подождите!
Он вернулся со своим рюкзачком.
— Вот!
В руках у него поблескивала бутылка водки, В горло мне проскочила кость. Я зашелся в припадке кашля. Коля испуганно садил мне кулачками по спине.
— Ты… Это… Сам купил?
Он не ожидал вопроса. Наверное, Коля думал, что я буду просто рад его подарку. Он, отвернувшись, смотрел на розовую воду залива.
— Ешь, Коля, ешь. Просто не надо было тратить на это деньги. Ты, наверное, думал, что я очень уважаю эту штуку?
— Я не покупал. Она стояла в холодильнике…
— Ну, это еще хуже! Отец подумает…
— Он сам сказал…
— Что сказал?
— Чтобы я взял.
— Нет, серьезно?
Коля повернулся. У него был удивленный взгляд.
— Вы думаете, что я украл?!
— Я и не думал так.
— А что же тогда вы…
Он что-то пробубнил.
— Извини, я не расслышал.
— Вы же сами сказали, что на рыбалке не считаются… Или… с этим считаются?
Вот и попался! Я почувствовал себя карасем на крышке котелка.
— Ты прав. Извини, старик, если обидел! Только сегодня обойдемся без нее. Сегодня нет нужды ее открывать, правда?
Коля засмеялся.
Мы подчистили все, что было сварено и сжарено. Мы выпили целый котелок чаю. Солнце село, кругом было розово и желто. «И-ди в За-гон! И-ди в за-гон!»— кричала вечерняя птица. Совсем рядом, на мелководье, тяжело шевельнулась вода. Выходили на пастбище сомы.
— Курить хотите? — спокойно спросил Коля.
— Я не курю.
— …Я тоже брошу. Вы только отцу не говорите.
— Я уже давно разучился ябедничать. А тебе легко бросить. Вот сегодня целый день не курил — и хоть бы что.
— Курил. Когда червей копал…
— Слушай, Коля! Если ты дашь слово, что больше не будешь курить… Я все же подарю тебе спиннинг.
— Я и так брошу…
Я отыскал в банке толстых черных червей, насадил на крючки. Теперь я не старался сделать ошеломляющий заброс — легонько взмахнул удилищем и придержал большим пальцем катушку. Еще не совсем стемнело. Метрах в тридцати от берега расходились тонкие круги. Там упало мое сорокаграммовое грузило.
Я медленно-медленно выбирал лесу. Катушка шла мягко, грузило скользило по дну.
Сом взял недалеко от берега. Я почувствовал, когда он подошел. И перестал выбирать лесу. Он неторопливо засасывал червя. Тут спешить нельзя.
Леса пошла к глубине. Я отпустил сома метров на пять, потом рванул удилище. Темнеющая вода всполошилась.
Коля дико взвизгнул и подпрыгнул.
— Держи! — я притянул его к себе за плечи и сунул в руки удилище.
И пошел к костру.
Коля подошел минут через пять. Молча сел рядом. Штаны у него снова были мокрые.
— Ну? Что случилось?
— Оборвал…
— Не расстраивайся. Их здесь много. Поймаешь!
— Да он крючки утащил! И грузило…
— Привяжи новый поводок. Сейчас достану.
— Нет, не надо.
— Почему?
— Я буду ловить своей закидушкой.
— А почему ты не хочешь ловить своим спиннингом?
Он быстро взглянул на меня.
— Это не мой спиннинг.
— Так ты не хочешь принять от меня подарок?
— …Я его не заслужил.
— Это что же! Когда-нибудь ты придешь ко мне и скажешь: я заслужил подарок!? И я должен буду тебе что-то подарить? Ну, ты, старик, загнул!
— Сказать правду?
— Ради бога!
— Вы, наверное, хотите подлизаться к моему отцу… Над нами прошумел ветерок. Я тоскливо подумал, что ночью будет холодно.
— Мне незачем к нему подлизываться. Не такая уж он шишка, чтобы перед ним гнуться. Это раз. Второе, старик. Я не хотел тебя брать с собой. Я не люблю таких компаний… Твой отец знает, что я не хотел тебя брать. Я ему говорил об этом.
— А я пошутил! А-я пошутил! — Коля вскочил и стал бегать от кострища к мотоциклу и обратно. По-моему, ему еще не было двенадцати лет. — Что вы делаете?
— Ты же видишь — привязываю поводок.
— Я бы мог и сам привязать…
— Себе я привяжу сам!
— Вы же… подарили его мне.
— Ты отказался.
— Но я же сказал, что пошутил!?
— Этим не шутят.
— Вы обиделись, да?
— Может быть.
— Если бы я за все на вас обижался…
Ты погляди!..
— То что бы?
Он пожал плечами, но смолчал. Он стоял так долго. Я привязывал поводок с тремя крупными крючками, потом перемотал на катушке лесу — натянул поплотнее. Он отошел, взял свою закидушку и пошел по берегу. Темнота была легкая. Я видел, как он пытался сделать заброс. В конце концов он, с грузилом в руке, пошел в воду. Он не забросил, а просто занес крючки в воду. Он не разувался и не раздевался. Я не выдержал.
— Ты долго будешь играть на моих нервах?
Он сидел прямо на песке и держался за свой канат.
— Ты думаешь, я все твои выходки буду терпеть бесконечно?
Он был нем как рыба.
— Иди разводи костер и сушись. Поедем домой.
Он будто оглох.
— Ну!
Он стал сматывать закидушку.
Зря он ляпнул про своего отца. Теперь я ничего не мог с собой сделать.
Он поплелся к кострищу. Я забросил спиннинг. Сомы попадались мелкие. Я отпускал их обратно.
Над обрывом полыхал костер.
— Ну! Ты готов?
Он повернулся к костру спиной.
— Никуда вы не поедете!
— Ты так думаешь?
— Я знаю…
— Ха-ха! Как любит говорить мой товарищ Крокодил Гена.
— Вот вам и ха-ха! Я вылил бензин.
— Какой бензин?
— Из бака.
Я откатил мотоцикл к другому дереву. И сюда доносился запах ушедшего в землю бензина. Марки А-76.
Я достал из рюкзака брезентовый костюм, переоделся и прилег недалеко от костра. На мелководье шумно охотилась за мальком крупная рыба. Мне было не до нее. Я уснул.
Проснулся я минут через двадцать. Наверное, минут через двадцать. Коля сидел у костра. Рядом громоздилась куча сушняка.
Мне не надо было вспоминать, что у нас с ним случилось. Я не забывал об этом и во сне.
Я лежал и думал, что все началось с того, что я не смог решительно отказать шефу.
…Коля мурлыкал какую-то песенку. Я чувствовал, что смотрю на него почти с ненавистью.
Он мурлыкал и то и дело тыкал кулаком в глаза.
Он плакал.
Не скажу, что это сильно подействовало на меня.
— Что случилось?
Он мгновенно перестал мурлыкать.
— Ты замерз?
— Нет…
— Спать хочешь?
— Нет.
— Домой хочешь?
Он замотал головой. Он очень не хотел домой.
— Думаешь, дома у тебя неприятности будут? Я ничего не скажу.
— Не прогоняйте меня… — совсем жалобно попросил Коля.
— Я не могу тебя прогнать.
— Почему? — немного оживился он.
— Один ты не доберешься до дома.
Он снова сник. Он ждал другого ответа.
— Завтра я раздобуду бензин и отвезу тебя. Ты украл у меня два дня отпуска.
Мы молчали. Я вспомнил, что оставил на берегу банку с червями. Поднялся и пошел к обрыву.
Черви были на месте. Я сел на песок и стал смотреть на темную воду залива. Возле самого берега чуть слышно плеснулась рыба. Это в садке. Я достал садок и выпустил ночевавших в нем трех больших карасей. Потом вернулся к костру с червями и садком.
— Где можно раздобыть бензин? — негромко спросил Коля.
— Если повезет, куплю у рыбаков.
— А если не повезет?
— Пойду в село.
Он сходил за рюкзачком, пошарил в нем, достал пачку сигарет и швырнул в огонь.
— Я принесу вам бензин.
Он решительно пошел по пересохшей черной тропинке. Я догнал его. Крепко взял под локоть и повел к костру. Он не сопротивлялся.
— Ладно. Пока ты украл у меня только один день, и я тебе это прощаю.
Он недоверчиво посмотрел на меня. Я подумал, что перегнул палку. Я сломал его. А ведь, если честно, мне даже немного нравилось его поведение. Просто он был чуточку смелее, чем мне хотелось бы. Нет, даже не смелее. Чуточку не такой, каким был в детстве я.
— Ложись поспи, — я стал стягивать с себя брезентовый костюм. — Тебе надо выспаться. Часа через три начнется клев.
— Я сломал вам спиннинг.
— Нечаянно наступил?
— Нет, через колено.
— Ты думал, что останешься безнаказанным?
— Нет… — Он опустил голову.
— Снимай рюкзак. Тебе надо поспать, иначе прозеваешь клев.
Он снял рюкзак и заплакал. Я натянул на него свой костюм.
— Не возражаешь, если я выпью немного?
— Конечно! Что вы спрашиваете?!
— Но, может, ты бы не хотел, чтобы я сделал это?
— Хочу! — быстро ответил он.
— Почему?..
— Тогда… вы, может быть, поймете…
— Ладно. Я постараюсь понять так. Ложись.
Он свернулся калачиком. У самых моих ног. Он уснул сразу и простуженно забулькал носом.
Все-таки надо было взять с собой спальник.
Часа через полтора я отремонтировал спиннинг, но теперь он не был абсолютно надежен. Странно, но я почти не огорчился.
— Что… там шуршит?! — Коля сидел, вглядываясь а неплотную темноту.
— Еноты.
Он вскочил.
— Они большие?
— Да. Почти с собаку.
— Они не нападут на нас?..
— Нет. Они очень мирные. Это мои друзья. Я складываю для них рыбьи внутренности. Вон там, под кустом.
— Они сейчас едят?
— Да.
— Можно посмотреть?
Сейчас он спросил. А если бы это случилось вечером, не стал бы спрашивать — побежал, и все.
— Нет. Ты их напугаешь.
— А вы можете поймать одного?
— Нет. Я не обижаю друзей.
Он помолчал.
— Вы подумали, что я как маленький? Все спрашиваю и спрашиваю. А я иногда не хочу спрашивать, а язык сам спрашивает. У вас так не бывает?
— Бывает.
— Правда?!
— Да. Когда я дурачусь.
— …А я ведь не дурачусь. Я не специально. Это наследственное.
— Что?!
— Наследственное. Отец как заведется — и спрашивает, и спрашивает.
— У тебя?
— Нет… у мамы.
— Она, наверное, устает ему отвечать.
— Нет, не устает. Она молчит. А он спрашивает, почему она молчит…
— Ну ладно. Хватит об этом!
Кажется, он вздохнул облегченно: почувствовал, что немного занесло.
— У твоего отца столько интересных марок.
— Ага! Я их продаю.
— Он просит продавать?
— Он об этом не знает.
— Куда же ты деваешь деньги?
— Покупаю… Покупал сигареты.
— И тебя не мучает совесть?
— Нет.
— Почему?
— Он за марками людей не видит.
— Ты сделал такой вывод?
— Нет, не я. Мама.
— А по-твоему, она права?
— Да. Что вы на меня так смотрите? Не смейтесь? Вы думаете, что это он отправил меня на рыбалку? Мама! Она хотела, чтобы он купил мотоцикл и везде меня возил. Она говорит, что… Она говорит, что в таких условиях я никогда не стану мужчиной. А он не хочет покупать мотоцикл. Он не хочет ходить за грибами. Мама… Это она купила мне шлем. Хороший, правда?
— Хороший. Рижский. Я тоже куплю себе такой.
— Не надо! Я вам свой отдам.
— Ты разве больше не будешь со мной ездить?
— Со мной вам трудно. У меня мамин характер.
— У тебя нормальный характер. Мне нравится твой характер. Ты незлопамятный.
— А вы?..
— Думаю, что тоже нет. Ты разве этого не понял?
— Понял, но боялся, что ошибаюсь… А мой папа зануда?
— Почему ты так думаешь?
— Я просто спрашиваю.
— Я не хочу отвечать на этот вопрос.
— Вы боитесь обидеть меня?.
— Нет. Просто это ненормально, когда ребенок осуждает своего отца. У него очень сложная и ответственная работа.
— Да. Я знаю. Он часто говорит об этом…
Милый шеф!
— Может быть, только… он чересчур серьезен. Но работать с ним легко. Он никогда не попадает впросак. И нам не приходится краснеть.
— Значит, мама попадает впросак?.. Она часто краснеет.
Вот наказание!
— Ей, наверное, бывает стыдно за тебя.
— Нет, она не тогда краснеет.;
— По-твоему — и я сейчас попал впросак?
Он пристально посмотрел на меня.
— У вас лицо, наверно, от огня покраснело.
— Да. Наверно. У тебя тоже красное лицо. Пойдем умоемся!
И пора уже было умываться: наступал рассвет. Далеко, на той стороне залива, рокотал легкий колесный трактор. Вот и сенокос!
Коля уже без стеснения разделся до плавок и зашел в ясную воду. И опять я подумал, что он чересчур уж худенький. У беззаботных детей такой худобы не бывает.
— Мы будем печь картошку? — Он слегка дрожал и натягивал на себя грязные штаны. Лицо у него светилось, как у новорожденного.
— А как же! — Я чуть было не подхватил его на руки, но вовремя сдержался. — Первым делом будем печь картошку.
— Я тоже научусь печь картошку в костре? — Он натягивал свитерок, и я не видел его лица.
— Обязательно! Ты многому научишься.
— Да. Я знаю! — просунул он светлую голову в вязаную шейку. — Мама тоже так сказала:
— Мне кажется, ты уже кое-чему научился.
Я думал, он спросит: чему? Но он засмеялся. И нагнулся — стал зашнуровывать кеды.
— Вести себя? — спросил он, согнутый в дугу.
Меня так и подмывало слегка шлепнуть его по острому заду.
— Этому сразу не научишься.
— Я и сейчас плохо веду себя? — насторожился он.
— Если бы ты сразу начал так себя вести, мы давно бы уже были друзьями.
— Значит, мы еще не друзья?
— Я сказал — давно.
— Тогда мы друзья?
Он завязал кеды и выпрямился, стараясь сразу же схватить мой взгляд.
— Об этом не спрашивают. Это и так видно.
Он зверьком взлетел на крутой берег. Когда я взобрался следом, он тормошил мой рюкзак.
— Сколько нужно картошки?
— Побольше! Я страшно голоден.
— Я тоже! — воскликнул он. — У меня есть сайра, откроем?
— Ни в коем случае!
— Почему?
— На рыбалку рыбу не берут.
Мы засыпали картошку жаром. Я собрал новый спиннинг и протянул Коле:
— Дарю.
— Вы лучше мне тот подарите.
— Подарки не выбирают.
Я взял отремонтированный спиннинг, и мы пошли вдоль берега. Туда, где не нужно было слишком далеко забрасывать.
— А почему вы не женитесь? — спросил он, обернувшись.
Я споткнулся о свою же ногу.
— Пока не считаю нужным.
— И не пробовали?
— Нет.
— Я пробовал…
— Ну и что из этого получилось?
— Ничего из этого не получилось. Сначала ее старики согласились. Я целый день у них провел. А вечером меня выставили. Сказали — завтра придешь.
— Ну и ты пришел?
— Нет, конечно. Что это за жизнь: днем приходи, вечером уходи…
— А она?
— Маме пожаловалась, что я книжку не отдаю.
— Какую книжку?
— Сберегательную. Мы с ней сделали такую книжку, как кошелек. Складывали туда копейки. Я хотел много накопить, чтобы потом у нас были деньги. На первое время. А она не стала ждать. Прибежала жаловаться.
— Ты отдал?
— А что я, крохобор, что ли! Отдал.
— А свои деньги забрал?
— Нет. Нужно было забрать? — он смотрел на меня изучающе.
— Ни в коем случае! Это не по-мужски!
— Вот видите. Мама тоже так сказала.
— А папа?
— Папа об этом не знает. Вы не скажете ему?
— Ты опять?!
— Извините…
— Давай, Коля, не будем больше извиняться. Это как-то не по-дружески. И давай на ты. Идет?
— Нет. Я не смогу. Может, потом… Ладно?
— Ладно. Пойдем, сейчас самый клев.
Мы расположились возле небольшой бухточки. Залив в заливе. Солнце начало припекать. Я разделся. Коля посмотрел на меня и сделал то же самое.
— Почему вы не забрасываете?
Бессонная ночь притупила мой рыбацкий азарт. Да и в рыбе ли дело! Шуршала спешившая вырасти трава, в воздухе носились запахи прелого сена, донной мути, птичьих гнезд. Сердце замирало. Хотелось раствориться во всем этом и тоже стать каким-нибудь запахом. Приятным запахом. А буду ли я приятным запахом, если действительно стану запахом? С такой мыслью, оказывается, я и уснул. И спал долго-долго. Пока не ощутил боль. Лицо пощипывало. Солнце было совсем рядом, светило в упор… Коля возился с леской.
— Бороду так почти невозможно распутать. Нужно снять ее с катушки. Вот так. Намочить в воде. Вот так. Видишь, кольца сами распускаются? Теперь начинай со стороны грузила.
Он справился с этой задачей и повеселел.
— Когда учишься бросать, лучше всего слегка затянуть тормоз. Там, на катушке. Нет, это кнопка трещотки. Да, вот это. Прикрути. Так, чтобы катушка вращалась с небольшой натугой.
Он сделал заброс. Слабенький, но бороды уже не было. Он присел у воды и стал ждать.
— Клюет!.. — прошептал он, посмотрев на меня. Он растерялся. Это было так неожиданно, что я засмеялся.
— Подсекай!
Он рванул кверху удилище и стал пятиться. Он забыл про катушку. Если бы он забросил далеко, ему бы пришлось пятиться до самой редки.
Карась выполз на песок. Коля бросил спиннинг и подбежал к нему.
— Есть!
— Ты сделал две ошибки. Не нужно пятиться, нужно выводить рыбу катушкой. И ни в коем случае нельзя бросать спиннинг на песок. Испортишь катушку.
— Ну и что! — вдруг сказал он. — Это же мой спиннинг!
— Ты не любишь, когда тебе советуют?
— А что вы злитесь, если это мой спиннинг?!
— Я не злюсь, а хочу, чтобы ты стал настоящим рыбаком.
— И без вас стану!
Он отшвырнул в сторону карася и поднял спиннинг. Катушку заело. Он коротко и с ненавистью взглянул «а меня.
— Промой ее в воде.
Он бросил спиннинг мне под ноги.
— Можете забрать!
— Коля!
Он убежал в дальний конец залива, а я вернулся к стану. Картошка сгорела. Жар еще был. Я полез в рюкзак. Под руку попала банка сайры. Мне стало тяжело. Тяжелее, чем было вечером, чем было ночью. Я налил стакан водки. Странно… Ну что же еще?! Что?
Я нашел его на прежнем месте. Коля сидел со спиннингом в руках. Он вскочил и чуть не уронил спиннинг. Он бросился ко мне.
— Простите!
Он был очень худой. Я не чувствовал его веса. Он обхватил меня за шею и замер.
— Ну… Ну что ты, чудак!
Коля не выпускал из рук спиннинга.
Мы ели печеную картошку и поглядывали друг на друга.
— Коля!
Он осторожно поднял голову. «Ну не надо, а?! Ну, пожалуйста, не надо!» — сквозило в его взгляде.
— Ты побудешь один?
Лицо его потемнело. Но он смотрел на меня не отрываясь.
— Мне надо привезти кое-какие вещи. Мы ведь проживем тут долго, а без этих вещей ну просто никак нельзя.
— А… бензин?
— Тут тоже есть маленькие секреты! Только об этом я тебе пока не расскажу.
Он смущенно улыбнулся. Я перевел рычажок краника на «Р». Резерва хватит ненадолго. До сенокосного стана хватит. А там заправлюсь. Я часто заправлялся на стане.
— Мне… рыбачить?
— Пожалуйста! Ты теперь свободен. Делай что хочешь!
— Я буду рыбачить, можно?
— Ну что ты на самом деле!
— Я возьму ваш садок?
— Мой? Мой не бери. Возьми у меня в рюкзаке свой.
— Мой?!
— Да. Капроновый. В него много входит.
Он шел за урчащим мотоциклом. Он держался за белую кожу седла.
— Вы скоро вернетесь?..
— Я буду спешить.
— Нет! Не спешите… Я подожду…
— Ты хочешь подольше побыть один?
— Нет! Дорога плохая…
— Ты же знаешь, что этот мотоцикл никогда не падает.
— Вы же выпили…
— Нет.
— Но…
— Я хотел выпить, потом раздумал. Я вылил ее в костер.
— Правда?! Но… все равно… ты… осторожнее, ладно?
— Хорошо.
Я полетел по черной пересохшей тропинке. Я старался не оглядываться.
Я хотел ехать как можно осторожнее. Это было невозможно. Мне казалось, что с ним что-то случится.
В квартиру я вошел совершенно обессиленный. Тело гудело, в ушах не смолкал гул мотора.
Спальник, палатка, плащ… Может, и одеяло?
Крокодил Гена вошел не позвонив.
— Увидел, старик, что ты проскочил! Привет!
Возьму и одеяло! Где-то был у меня еще один брезентовый костюм…
— Ну что, всучил тебе шеф паразитика?
— Что?
— Всучил, говорю…
— Заткнись!
Крокодил Гена долго стоял молча. Я собирал вещи. Он так и ушел, не сказав больше ни слова и не попрощавшись. Мне было плевать на это. Зря я друзей не обижал.
Прости, старик!
Нас роднила страсть к мотоциклам и спиннингам.
В начале мая он, как обычно, пошел в отпуск. Но прогадал: целую неделю занудливые дожди плавили загородные дороги. Меня это радовало и утешало — его хвастливые рассказы о поездках в одиночку всегда сопровождались самодовольными ухмылками. Эти ухмылки, как маленькие мины, постоянно взрывали меня. Мы ссорились.
Сейчас хвастать ему было нечем. Он торчал дома и становился все раздражительнее.
Девятое мая выдалось солнечным. Я лихорадочно собрал рюкзак и позвонил ему. Но он уже уехал. Этого я от него не ожидал.
Он заявился после обеда. Успел уже сходить в баню и, конечно же, в магазин: карман его широкого пальто выразительно оттопыривался. Рассказывать ему было нечего: за городом, куда ни сунься, непролазные топи.
Он чувствовал себя виноватым, прятал от меня чуть мутноватые голубые глаза и покряхтывал. Так он всегда извинялся. Обостренное чувство самолюбия не позволяло ему делать это каким-либо другим способом. Да бог с ним! Все же он почти на двадцать лет старше меня.
Он понял, что я не сержусь, и засветился. Вся его прекрасная бледная лысина порозовела.
Мы сидели рядом, и нам было хорошо думать, что вот-вот обдуются полынным ветром дороги, уляжется в заливах приносная муть, и хлынет к зазеленевшей прибрежной кочке холодный после зимней спячки амурский карась.
Слишком много слов и энергии нужно было потратить, чтобы выразить хоть малую частицу того, что нас распирало. Мы суетливо ухаживали друг за другом, поглядывали в залитое солнцем окно и улыбались.
— Все-таки люблю я тебя, собаку! — сказал он и поскреб мизинцем лысину.
Он был неприхотлив и всегда искренне смущался, когда я пододвигал к нему тарелки. Я заметил, что люди, побывавшие на войне, к еде и сну относятся без особого трепета.
— Не обзывайся! — ласково предупредил я.
— Ишь ты, скотина! — ухмыльнулся он одобряюще. Ему, наверно, нравилась моя еще молодая ершистость. — А ты забыл, как сам обзывался?
Ничего я не забыл. Он был сам виноват. Мы ехали на озеро. И почти уже добрались, осталось переправиться через реку. У него в рюкзаке лежала перкалевая двухместная лодка: Но он топтался на берегу и скреб лысину. Его пугали желтые клочья пены, разбросанные по разгулявшейся после дождя реке. Я думал, что он все же решится, и не торопил его, но он вдруг молча повернулся и пошел к мотоциклу. Тогда я не выдержал и закричал вслед очень нехорошие слова.
Меня перевезла попутная моторка. Под вечер, когда я с тяжелым рюкзаком возвращался домой, увидел его возле самой дороги. После дождя здесь образовался случайный заливчик, быстро терявший ускользающую в речку влагу.
Он сидел и смотрел на свой садок, в котором разгуливало несколько невзрачных чебачков. Где он лазил на своем М-106 — ума не приложу. Мотоцикл походил на сплошной комок грязи.
— Скоро домой? — спросил я примирительно.
— Катись к… матери! — выругался он, вскочил и дернул дюралевое удилище. Из-под кочки, на которой он сидел, вынырнула и покатилась к воде поллитровка. Он перехватил ее и, не глядя на меня, сунул в рюкзак.
— Ты не рыбак, — сказал я, снова распаляясь, — ты алкоголик. Ты всегда был алкоголиком.
«Восход» мой долго не заводился, и пока я мучил кикстартер, он раза два плескал водку в алюминиевую кружку, шарил рукой в рюкзаке, выуживая оттуда облепленные хлебными крошками кусочки сала, и ожесточенно жевал крупными, но слабыми зубами.
Запомнил! А ведь после этого мы сотни раз ездили вместе.
Хороший выдался день Девятого мая! Мы засиделись допоздна. Смотрели концерт по телевизору, потом замечательный фильм «Белорусский вокзал». Он был растроган, просил не мудрить с закуской, застенчиво улыбаясь, прикрывал стакан ладонью: «Хватит, хватит!» Потом мы помогали моей жене укладывать разгомонившихся дочурок, пили крепкий чай, вспоминали — какой крепкий чай пили на рыбалке.
Он потребовал показать мои спиннинги. Я принес из кладовки два — дюралевый, с синей капроновой рукояткой, и двуручный, очень длинный, из темного стеклопластика.
— Дюралевый у меня лучше! — похвалился он. — Я на него новую катушку поставил. А этот — барахло. Бросать неудобно.
Я хотел сказать, что если руки под штырь заточены, то любой спиннинг не забросишь, но сдержался. Ему эта понравилось. Он стал хвалить мои грузила. Они действительно были хороши — в форме капли, с маленькими проволочными петельками.
— А вот два крючка мало! — опять не утерпел он. — У меня по три.
Мы немного поспорили, но каждый остался при своем мнении. Я спрятал спиннинги, убрал со стола. Но он уходить не собирался.
Мы снова пили чай, включали и выключали телевизор, пересчитывали крючки, пробовали на разрыв японскую лесу. Она тянулась, как резина, но стоило сделать узел — сразу лопалась.
— Дерьмо! — сказал он. — Наша лучше. У меня третье лето ходит и хоть бы что.
— Нужно каждый год менять, — возразил я. — А та терпит, терпит — и подведет. Знаешь, как бывает? Локти будешь кусать.
Он стал грустнеть.
— Может, сбегать? — спросил неуверенно.
— Нет, я сам схожу, — с легким сердцем ответил я. Это его праздник. Он дошел до Польши. Я многое знал из его фронтовой мальчишеской жизни. Но про Польшу он никогда не говорил. Почему-то избегал этих воспоминаний.
Провожать я пошел его в десятом часу. К ночи стало прохладно. Но он шел в расстегнутом пальто. Это придавало ему залихватский вид. Петь он не умел, на тут что-то замурлыкал. Оказалось — мотив из «Белорусского вокзала». «Десятый наш десантный батальон». Так, кажется. Он шел — прямой и высокий, с заметным брюшком. Гусь, да и только!
— Ты похож на гуся, — сказал я, смеясь.
— А что! — ответил он с задорным самодовольством. — Нам, татарам, тарабам! Пойдем в гараж!
То, что он называл гаражом, было обыкновенным списанным железнодорожным контейнером. Он долго открывал свой хитроумный замок, открыл наконец и выкатил старенький М-106. Мотоцикленок завелся сразу и шумно. Он включил свет, в контейнере стало как днем. Он стал шарить в углу, приподнял доски и вытащил ржавый квадратный бидон. В свете фары манжета его сорочки юркнула в бидон, как очень белая крыса, а выскочила оттуда уже другая крыса — черная.
— Посмотри, какие черви! — похвалился он и сунул мне под нос шевелящийся клубок.
Я похвалил его червей. Они мне и впрямь понравились. Короткие, но толстые и очень жизнерадостные. Он подкармливал их спитым чаем.
Червей было много. По его подсчетам — штук девятьсот. Одному — на четыре-пять хороших рыбалок. Он был очень доволен: червей у нас найти трудно, иногда просто невозможно. Он ездил за ними в село к тетке, за пятьдесят километров. Ездил один: тетка не любила, чтобы ее огород обирали чужие. В нем же она души не чаяла.
— Дашь червей? — спросил я наивно.
— Нет! — усмехнулся он. — Сам накопай.
— Ты жмот! — сказал я обидчиво. — Смотри, я тебе припомню.
Он хмыкнул и стал закрывать свой дребезжащий погнутый контейнер.
— Ты только и делаешь, что припоминаешь! — натужно сказал он, вдавливая острой коленкой упрямую дверь. — А нич-ч-чего припомнить не можешь.
— Ты пузом надави, а то проткнешь!
Он явно обиделся.
— У тебя пузо больше!
— Брось! Больше твоего искать нечего. Оно тебя вперед тянет, вот и откидываешься назад, как гусь. А я прямо хожу, меня вперед ничего не тянет.
— Тебя, — заржал он, — …назад тянет. Вот и уравновешиваешься.
— Дашь червей?
— Не-а! — сказал он, отряхивая дорогие новые брюки.
— Видишь! А я тебе все даю. Камеру. Помнишь? Резиновый костюм, канистру…
— А что еще дашь? — спросил он, ухмыляясь и покачиваясь.
— Дал бы но шее. если бы ты был помоложе!
— Был бы я помоложе, ты бы не хорохорился! Ишь ты!
— Не надо вести себя по-свински. Ходишь по-гусиному, а ведешь себя по-свински.
— Червей захотел! — не слушал он. — Накопай!
— Я тебе, черт с тобой, бутылку куплю.
— Я и сам куплю. Пойдем! Я две куплю.
— А три купишь?
— Сейчас посмотрю… — Он полез в карман и начал считать шуршащее и звенящее.
— Ладно! Ничего ты не купишь, уже поздно. Я не пойду с тобой в магазин. Иди спать. А если пойдешь в магазин, то тебя выгонят или вызовут милицию.
— Милицию! Ишь ты! Я сам вызову милицию. Пойдем!
— Стой! Пойди только… Никогда больше не буду тебя провожать. С тобой всегда влипнешь в какую-нибудь историю.
— Потому что я веселый! И смелый. А смелого пуля боится, смелого штык не берет! — неожиданно чисто пропел он, привалившись к контейнеру.
— Совсем пьяница. Распустился! Смотреть противно.
— Это ты пьяница. Я за второй не бегал. А ты бегал, вот и терпи! Терпи, а то червей не дам.
— Ты и так не дашь, жадюга.
— Конечно не дам.
— Ну и ладно! Я пошел.
— Иди! Кто тебя держит.
— Терпеть тебя больше не могу. Ты становишься противным.
— А ты… — он хотел что-то сказать, покачнулся, отвалился от контейнера и пошел, мурлыкая мотив из «Белорусского вокзала».
— Мы не виделись два дня. Я уже стал скучать по нему.
— Позвони, — советовала жена. — Он обрадуется, ты же знаешь.
Но я почему-то упрямился. Она позвонила сама.
— Я как раз к вам собираюсь! — послышалось в трубке. Конечно, это он придумал, что сам собирался. Обрадовался, что не пришлось унижаться.
Он принес десяток карасей — крупных и желтых. Они еще разевали рты и хлопали жаберными крышками.
Он был приятно застенчив. Учтиво отвечал на мои вопросы. Да, дороги просохли, хоть шары катай. Он побывал на Дальнем заливе. Только что в него зашел карась. Крупный и голодный, берет с маху.
Он начинал волноваться и скрести лысину.
Залив Дальний мы любили особенно. Мало кто из рыбаков рисковал туда добраться. Не зная объездных троп, можно утопить мотоцикл. Кругом мари и болота. Зато пологие песчаные берега залива, ровное песчаное дно делали рыбалку похожей на сказку. На мелководье, сравнительном мелководье, кишел карась и гуляла щука, в ямах таились змееголовы и сомы, и там и сям не было отбою от косатки.
Он очень хотел поехать туда с ночевой, но один на ночь никогда не ездил. В этом тоже было что-то странное, что он не хотел и стеснялся мне объяснить. Я сказал ему, что заработал три свободных дня. Он стал наливаться радостью.
Три дня плюс два выходных.
— Тетка еще червей привезла! — поделился он, разминая мою сигарету. Он бросил курить и теперь схватил ее машинально. — На месяц нам хватит!
Он был очень щедр, и ему всегда казалось, что он недостаточно щедр.
— Может, сходить? — спросил он неуверенно.
— Нет, — сказал я твердо. К чему?! Разве нам так плохо?
Он тут же согласился, что и без этого хорошо. Мы пили чай, включали и выключали телевизор, готовили к рыбалке мои снасти, помогали моей жене укладывать дочурок и были взвинчены. Он то и дело царапал лысину и улыбался улыбкой ребенка.
— Только бы дождя не было! — беспокоился он.
…Мы выехали в пятом часу вечера. На месте должны были очутиться к заходу солнца.
Двадцать семь километров, пока тянулся асфальт, он ехал впереди. Потому что мой мотоцикл был надежнее его. Он даже не оглядывался. Потом, как обычно, мы поехали рядом. Это было и приятно, и удобно: время в разговорах летело быстро. Где-то на пятидесятом километре я сказал, что у него щелкает цепь. Мы остановились и натянули ее. Настроение у него поднялось еще больше. Он любил ездить со мной. Он плохо знал мотоцикл и при поломках бывал почти беспомощен.
На шестьдесят третьем километре показалось село. Очень удачное и красивое село. Кругом него — заливы и протоки. Иногда мы рыбачили здесь. Если бы не было на свете Дальнего залива, мы бы ездили только сюда. Здесь и магазин был хороший, и продавец — чернявый мужичок, тоже заядлый рыбак, вечно выпрашивающий у нас крючки. Мы никогда не жалели для него крючков.
Мы всегда останавливались передохнуть у магазина. И когда ехали на Дальний и когда возвращались домой. Остановились и сейчас.
Я начал осматривать свой мотоцикл, а он, тяжело ступая и оставляя на пыльной дороге огромные следы своих бродней, пошел к распахнутой двери. Вернулся он не скоро — навеселе и с двумя большими свертками.
— Смотри! — предупредил я. — Довеселишься!
— Нам, татарам, тарабам!
Мы по-прежнему ехали рядом, хотя дорога превратилась теперь в извилистую тропу. На поворотах я пропускал его вперед и волновался, видя, как он рисуется, зачастую совсем не к месту резко поддавая газу. В пятьдесят с чем-то лет он оставался мальчишкой.
Часа полтора мы выписывали замысловатые петли по релкам и перелескам. Залив медленно, но приближался, хотя и не видно его было за пологими взгорками и зарослями.
Потом он стал ерзать на узком сиденье своего М-106, оглядываться и терять всякую осторожность.
— Что случилось? — крикнул я, поравнявшись с ним.
Он притормозил и уперся длинными ногами в землю.
— Куда мы гоним, а?! Давай перекусим…
С какой-то лихорадочной поспешностью он развязал рюкзак, повыкидывал из него кружки, мешочки, уселся на сброшенную ватную куртку и широко расставил ноги.
— По чуть-чуть?
Я пожал плечами.
— Давай дерни! — Он все полнился возбуждением, смотрел на меня с искренней любовью, и я не мог отказаться. Да и, по правде говоря, мне самому было сейчас несказанно хорошо, трепетно, хотелось довести это состояние души и тела до полного блаженства.
— Загрызи! Пряники бери! Котлеты вот… — он всегда был по-отцовски заботлив и неутомим в этой заботливости.
Сам он выпил, кажется, без особого наслаждения, морщась и кривя сухие губы. Потом лениво макнул в соль луковицу.
Я понимал, что сейчас он наслаждался жизнью, которой там, на войне, мог лишиться в любую минуту, думал о том, что мог ее лишиться и все-таки не лишился, до сих пор не верил в эту милость судьбы и со страхом смотрел в прошлое.
— Я помню — она говорила: «Простите… была не права… Я мужа безумно любила. Как вспомню… болит голова…»
Он изводил меня Есениным. Декламировал он светлые есенинские строки с каким-то подвывом. Мне было стыдно за него, за его глуповатую артистичность — в конце каждой строки он не забывал вознести длинную руку, откинуть голову и скосить на слушателя настороженные глаза.
— «Но вас оскорбила случайно… Жестокость была мой суд… Была в том печальная тайна, что страстью преступной зовут».
Лежа на спине, он не мог откидывать голову, но рукой взмахивал исправно. Я слушал и смотрел туда, где нежился сейчас под теплым языком заходящего солнца Дальний залив.
— «Далекие милые были! — он начал привставать, опершись на одну руку, — тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили, но, значит, любили и нас».
Он зарделся и потупился. Я знал, что надо помолчать, якобы находясь под сильным впечатлением. Иначе все пойдет насмарку.
— За Серегу, а?! — довольный моим молчанием, он уже самостоятельно и решительно булькал в кружку. На этот раз он не куснул и луковицы — заерзал, зацарапал уставшую под шлемом лысину.
— Я тебе не рассказывал, как побывал… у его матери.
— Может, тебе это приснилось?
— Ага! — он насупился и презрительно скривил губы. — Я тебе покажу книжку. Ты первый увидишь автограф его матери. Она была неграмотная, дочь помогала… Серегина сестра. Я эту книжку всю войну с собой проносил. А когда выписался из госпиталя, в Рязани, взял ее и поехал в Константиново.
Я уже верил ему, потому что он не умел врать, потому что он, хотя и рассказывал сейчас об этой необычной поездке, все еще сердился на меня. Лживые люди почти никогда не сердятся, они изо всех сил стараются убедить, что говорят правду.
Может быть, не укуси я его своим дурацким вопросом, он бы обрисовал все красочнее и подробнее. Теперь же приходилось довольствоваться не картинами, а штрихами. И все же запомнилось, как односельчане знаменитого поэта долго не могли понять, кого ищет запыленный солдатик. Есениных в Константиново — полсела. «А! Который поэт! Вон его мать в огороде…» Дом, где он рос, огород, в котором он бегал босиком, мать, прижимавшая когда-то его к груди.
Они, две женщины — мать и сестра Сергея Есенина, копали картошку. Разволновались, узнав, по какому поводу проделал немалый путь совершенно незнакомый молодой человек.
Так вот почему он не устает мучить меня «Анной Снегиной!»
Тронулись мы только с началом темноты. Ехали где неспешно, высвечивая фарами частые колдобины и свалы, где по-молодецки лихо, входя в азарт и с жадностью втягивая в себя густеющий к ночи воздух. По мере того как приближался залив, мы теряли осторожность и неслись по широкой тропе-дороге, часто-часто подпрыгивая на оголившихся дубовых корнях. Я старался пропускать его вперед, но в темноте простора он терялся, крутил головой и сбавлял скорость. Ему хотелось, чтобы я был рядом, возле левого бока, и я пристраивался к нему.
На крутом повороте, перед самым заливом, оставалось только пересечь гладкую площадь природного травяного поля, — странно большая птица холодно чиркнула меня по носу, взмыла вверх и быстро свалилась вправо, на голую дорогу. От неожиданности я сильней необходимого придавил педаль тормоза, «Восход» занесло и развернуло. В наступившей тишине послышались шорохи возни и булькающие всхлипы.
Он лежал под мотоциклом в небольшой, но глубокой ямке и сучил тяжелыми в резиновых сапогах ногами. М-106 щедро поливал его бензином. Я рванул на себя мотоцикл, поднял пробку и заткнул бак.
Он плевался и ругался, давясь смехом. Ему было весело от нетрезвости и необычности происшествия. Он не ударился затылком, не подвернул руку, даже не поцарапался, хотя проделал сальто с полным рюкзаком за спиной.
— Ну что, долихачился?!
— Нам, татарам, тарабам! — Он стащил с себя пропитавшуюся бензином куртку и привязал ее к багажнику мотоцикла. Мы поехали дальше, уже угадывая очертания широкого залива, но теперь он держался сзади, и я изо всех сил старался не спешить, чтобы он не попал в какую-нибудь историю.
Мы выскочили к песчаному берегу, постояли, наслаждаясь ласковым покоем темной воды. Совсем рядом, у берега, дождевым брызгом сыпанул переполошенный малек. У меня заволновалось сердце.
— Здесь? — спросил я.
— Поехали на стан! — властно сказал он и, не раздумывая, завел мотоцикл.
Я страшно не любил ночевать на сенокосных станах. Особенно весной, когда сено лежанок отдает затхлой горечью, куда ни сунься — пыль и паутина, а ко всей этой тоске — бесконечная возня мышей. Но я вспомнил, что у него мокрая куртка, и подчинился.
Если бы мы приехали раньше, на ужин нам была бы уха. Пришлось обойтись без нее, хотя мне и было немного досадно. Он все еще пребывал в приподнятом состоянии духа, крушил для костра полугнилые доски какого-то сарайчика, что-то мурлыкал себе под нос, возился в рюкзаке, в котором после дорожного происшествия все перемешалось.
Я стал собирать спиннинги, но он высмеял меня за это глупое занятие — при свете костра легко запутать лесу — и, почти силой отобрав у меня удилища, отбросил их куда-то в сторону. Во мне начал подниматься гнев. Широта его натуры уживалась с тягостной для других легкостью поведения. Вместо спиннингов он сунул мне в руки непочатую бутылку. Меня так и подмывало швырнуть ее в темноту, но надежда на благополучный исход нашей поездки пока была еще сильнее появившегося раздражения.
— Хватит на сегодня, а?..
Он присел рядом, поцарапал пухлыми пальцами чуть парившую от сильного огня лысину.
— У меня же сегодня день рождения, скот!
— Не обзывайся, а то я устрою тебе день рождения.
Он хихикнул, что-то хотел сказать, но вдруг рванулся к костру. Я и не заметил, что он повесил сушить свою куртку. Мы быстро потушили ее. Видно, в ней уже не было бензина, оставались только пары.
— Голова-то у тебя есть? — отходил я от страха и злости, глядя, как он ищет в куртке свои документы.
— А что?! — задорно и по-детски заносчиво отозвался он. Документы были целы, да и куртка не пострадала. — Наливай, скот!
В голосе его было много ласковости, почти нежности. Он швырнул куртку на черный от дождя и времени дворовый стол и начал трясти рюкзак.
Мне совсем не хотелось пить. Было ощущение, что потеряно что-то важное, чего не вернуть. Да, так начинать долгожданный рыбацкий сезон не следовало. Но у него был день рождения. Он суетлив и счастлив, но стоит только задеть неосторожным словом его болезненную детскую душу, и станет плохо обоим.
Ну, старик, хоть ты и хреновый рыбак, зато гуляка — хоть куда. Живи еще столько же — буду только радоваться!
Он в волнении потупился, косо взглянул на меня незнакомо блеснувшими глазами и осторожно потянулся стаканом — чокнуться.
Старые доски горели ровно и жарко. Мы были на заливе, во что немного не верилось: зима тянулась бесконечно долго, казалось, что все прежние поездки и рыбалки — только сон. Мы были одни, в рыбацком всеоружии, переполненные любовью к воде, траве и небу. И у него был день рождения. Дети его выросли и учились теперь в других городах, а с женой у него установились непонятные отношения. Я и не старался в них вникать. Его жена всегда встречала меня приветливо, но тут же уходила в дальнюю комнату и появлялась только тогда, когда я собирался уходить. Я никогда не встречал их вместе.
— Сам ты хреновый рыбак! — опомнился он. — Посмотришь, я тебя завтра обловлю.
— Обловишь! У тебя руки будут трястись, алкоголик. Ты и червя-то не насадишь.
— А это видел? — показал он неловкую фигу и, довольный, рассмеялся. — Я тебе червей не дам!
— Ладно, старый пень, не нужно мне твоих червей. Расскажи что-нибудь!
Он наплескал понемногу в стакан, но пить не стал, заходил вокруг костра. Ему явно хотелось рассказывать. Он рассказывал днем и теперь опять что-то нахлынуло. У него был день рождения, он был возбужден и добр.
— Ну, садись, не меси землю! Давай выпьем за то, что войну прошел и жив остался. Ну, чего уставился?
— Давай, скот! Смотри, мысли угадал…
Что тут было угадывать! Он бесконечно часто думал об этом.
— Видел смерть? Расскажи…
Он отставил банку с воткнутой в рыбу вилкой.
— Первый раз… когда автоматчика снимал. Уже бой кончился, кухня подъехала. Ребята разулись — день солнечный, развесили портянки. А чуть в сторонке — сопочка. На ней немец остался. Уйти ему некуда, кругом теперь наши. Вот и постреливает со злости. На него как-то и внимания особого не обращали. Думали — пристукнет кто-нибудь. А он все трещит и трещит! Ну, я и вызвался…
Он выпрямил ногу и придавил каблуком отскочивший уголек.
— Так спешил, что сапоги на босу ногу надел! Я его обойти решил, да и взводный так наказывал. А вообще-то отговаривал, мол, снайпер и без меня хлопнет. То бегу, то ползу… Глаза закрываю. А он трещит! Но не в меня. Обошел. Осталось метров тридцать. Он перестал стрелять. Ну, думаю, выцеливает! Врежет сейчас в лоб… В кустиках сидит, а я почти на открытом. Молчит. Кое-как добрался до кустиков, стою. Слышу — плачет. У меня руки трясутся. Раздвигаю ветки, а он уже автомат навстречу мне. Давно приготовился. Вот тут и захолонуло. Не могу спуск нашарить. В голове звенит, во рту сухо… Закрыл глаза и тут нашел… Слышу, работает мой автомат. Так с закрытыми глазами весь диск и выпустил. Не смотрел — убил, не убил — бросился вниз. А навстречу взводный и еще несколько ребят. Смеются. Все ведь видели. — Он помолчал, вздохнул. — Пацан пацана убил…
Он опять вскочил, стал давить головешки. Мне было жалко его, растерзанного воспоминаниями, было жалко и плакавшего перед смертью немца.
— Потом, когда из окружения вышли… Человек шесть нас осталось. Пехота в окопах отдыхала. Как раз обед привезли. Ну и позвали меня. Садись, мол, каши хватит. Молодые ребята. Интересно им, как я в окружении был, как вырвался. Поставили мне котелок посередке, сами и про кашу забыли. Я только ложку — зовут. К командиру части. Минут через десять возвращаюсь… Яма. Всех в куски. Я спешил каши поесть… — Голос его изменился.
Он сел прямо на землю и отвернулся. Я пожалел, что обижал его когда-то, что обижался на него. Все громче и беспрерывней рокотали звонкие дальневосточные лягушки. Наперерез друг другу летели два ярких голубых спутника. Я взял котелок и пошел к заливу.
Мы заварили чай и долго-долго пили его, понимая, что уснуть пока не удастся. Он постепенно веселел, пробовал рассказывать анекдоты, но видя, что мне не смешно, смущенно подбрасывал в костер и подливал в свою кружку все более темнеющего чая.
— Расскажи про Польшу… — попросил я.
Он пристально взглянул на меня, словно о чем-то догадывался. Но, кажется, успокоился и отломил кусок хлеба. Минут десять мы провели в молчании.
— Вот и в Польше…
Он привалился спиной к моим ногам и положил голову на колени. Ему было удобно, а мне необыкновенно приятно, по-сыновни хорошо.
— Я знаю, что тебе нужно рассказать. — Он проговорил это тихо и решительно, словно собирался вверить в надежные руки что-то тайное. — Если бы этого не случилось, я бы жил, наверное, совсем по-другому. А то видишь как — и женат, и дети есть, а холостяк.
Я положил ему руку на плечо.
— Был там такой хуторок… Хатки три. Две уже пустовали, а в одной уцелела семья. Маленьких четверо, старик со старухой и их старшая дочь. Да какие там — старики! Это мне тогда так казалось… Мы расположились в пустых домах. В хатах. А двор вроде один.
— Как ее звали?
Он, кажется, опешил. Потом заворочался и закашлял.
— В-вот скот! Звали, звали! Зачем тебе это?.. Ну, пусть будет — Аней… Ты же, скот, все по-своему представишь…
— Слушай, а ты — не скот?
— Ну-ну! Чудак! Я же любя. Ну вот… Понимаешь, какое было тогда у нас настроение?! Наши танки прут. Толпа чумазая, веселая, все пить хотят. А колодец — во дворе.
— И все хотят, чтобы напоила их Аня, а ты ревнуешь.
Он вскочил и чуть не ввалился в костер.
— Скот! — прокричал он, обернувшись. — Скот!
Успокоился он довольно скоро. На этот раз присел рядом и стал, склонив голову, в привычном мне смущенье поцарапывать безымянным пальцем играющую бликами огня лысину.
— Ну, хватит скоблиться… Потом были слезы, прощальные поцелуи. Клятвы… Не смотри так! Я не смеюсь, я сопереживаю. Честное слово. Я вижу ее — тоненькая, с ласковыми глазами. И знаю, как вам было хорошо вместе. Когда все спали, а вы сидели где-нибудь за хатой…
— На чердаке… — хмуро подсказал он. — Не разводи сироп. Она была первой моей женщиной. Я бы тогда убил любого, кто бы… Ребята понимали. Что могли — им отдавали, и еду, и тряпки. Немцы их голыми оставили. Слезы, говоришь? — он насмешливо посмотрел мне в глаза. — Поцелуи?! Ошибся немного, молодой человек… Очнулся я в госпитале. Танки. Окружили — и прямой наводкой. Потом — гусеницами. Представь теперь, что по твоей жене прошлись танковыми гусеницами. И посмейся…
— Ты видел? — спросил я через силу.
— Видел…
Тягостнее этого молчания у нас еще не было.
По-ночному близко всплескивала тяжелая рыба. Но я не прислушивался к этому, не испытывал уже радостного волнения. Я потянулся к своему рюкзаку и достал светлую бутылку.
— Не хочу! — решительно отказался он. Впервые в жизни я выпил один.
— Прости, старик!..
Он не шевельнулся.
Я посидел и выпил еще. Кажется, я заплакал. Он успокаивал меня, быстро наливая в стакан, выпил раза два без передышки.
— К черту! Все! — он швырнул через костер бутылку, из нее брызнуло прямо на огонь. Потом потряс свой рюкзак, подхватил выкатившуюся посудину и запустил ее далеко в темноту. Я не услышал звона.
Очнулись мы у давно прогоревшего костра. Было холодно, но ясно. Всходило солнце. Только слева от него, у самого горизонта, тяжело висела плоская туча.
У него был нехороший вид, совсем стариковский. Веки сморщились и оттянулись. Он не глядел на меня. Я стал шевелить костер, но он уже совсем умер, пришлось разводить заново.
— Согреть чайку?..
Он не ответил, пошел в кусты и вернулся с бутылкой.
— На что ты обиделся?..
Он, отвернувшись, налил и выпил. У меня не было червей. Я нерешительно собирал спиннинги.
Он долго глядел на поднимавшуюся от горизонта тучу и молчал. Я тоже был обидчив, но сейчас хотел знать, что произошло.
— Ты хоть скажи… что случилось.
Он поднял защетинившееся красноватое лицо.
— Тебе все хочется знать, сопляк?!
— Подлый ты все-таки! — у меня задрожал голос. Я пошел к заливу.
Было невозможно тихо и покойно, но туча приближалась. Через полчаса прилетел тревожный холодный ветерок. И сразу частые волнышки запрыгали на песок.
Я вернулся к костру. Он увязывал рюкзак. Банка с червями стояла на столе.
— Опомнись…
Он стал надевать рюкзак, руки его не попадали в лямки. Я хотел помочь, он дернулся, освобождаясь от помощи.
— В дождь попадешь…
Я долго смотрел, как он пересекал пустынный и еще желтый весенний луг. Там, куда он стремился, уже хлестали по земле длинные протяжные струи.
Я перенес в дощатый домик вещи, подкатил к порогу мотоцикл и улегся на вонючее сено. Болела голова, подступала тошнота. Было холодно и тревожно.
Я часто просыпался и слышал, как трещит по крыше дождь. Потом дождь перестал, и, когда я проснулся совсем, было ясно до праздничности.
Кругом стояли лужи. Над станом носились черные стремительные птицы. По столу ползали удлинившиеся от сырости черви — я забыл спрятать банку.
Несколько раз я порывался возвращаться: понимал, что один он теперь до дому не доберется. Но глухое чувство обиды мстительно удерживало на месте.
Я прожил на заливе два дня. Дорога за это время прокалилась, как глиняный горшок. За моим мотоциклом тянулась расплывающаяся лента светлой пыли. Я замечал на окаменевшей земле дороги узкие виляющие следы знакомых шин. Часто они срывались с проезжей части и появлялись метров через двадцать — он тащил мотоцикл по траве.
Я увидел его в селе, недалеко от магазина. Двое рослых парней в замасленных комбинезонах возились с его мотоциклом, а он, обросший и грязный, сидел рядом и смотрел на дорогу.
Он не шевельнулся, и я проехал мимо.
Он больше не звонил мне.
Мы долго еще работали вместе, но это уже нельзя было назвать работой вместе. Он превратился совсем в другого человека.
Однажды я встретил его с женой. Они стояли у кинотеатра. Она была непривычно весела, что-то говорила ему, полуобернувшись и прижимаясь боком. Я прошел совсем рядом. Он посмотрел на меня, и я увидел глаза обворованного человека.
Теперь, когда я пишу эти строки и тоскую по тому, что уже никогда не повторится, меня не покидает чувство, что я — гнусный воришка.
Свет правды
Ровно семь лет Николай не видел брата. И теперь, почти не выходя из тамбура, где становилось трудно дышать от дыма, он не мог представить ни самого брата, ни встречи с ним. Последнее свидание, на похоронах матери, было тяжелее, чем могло быть даже в такой горестный день. Василий выглядел неопрятным старичком. От завалившейся ограды давно не беленного домика, из малосолнечного нутра которого вынесли маленький нарядный гроб, до самого кладбища младший брат ломал траурную колонну односельчан, выискивая кого-то, толкаясь и наступая людям на ноги. Николай попытался остановить его, но тот отчаянно, с какой-то ненавистью в нетрезвом взгляде, вырвался, тут же споткнулся и упал.
Этим же вечером, так и не дождавшись брата, Николай попрощался с теми, кто сидел с ним за тягостным столом, рассказывая о последних днях жизни матери, и ушел на вокзал. Он понимал, что оставляет Василия в беде, по сильная обида на него, даже чувство отвращения подавило все остальное. Он чувствовал, догадывался — откуда у Василия эта беспорядочность жизни. Младший брат появился на свет в сорок шестом году, незадолго до того, как из их дома ушел непонятный и вспыльчивый чужой мужчина. Николаю было тогда пять лет, но он помнит чудовищные скандалы, которые устраивала матери бесноватая цыганка. Мать сносила их с какой-то стойкой, забитой покорностью, ни разу и не попыталась прогнать эту злую женщину, позабывшую нормальные человеческие слова. Николаю было немного страшно, когда цыганка, прищурив сверкающие черными искрами глаза, хватала мать за руку и, выгибая ей ладонь, сиплым от волнения голосом пророчила всякие несчастья. Она приходила так часто, что казалось, даже жила у них. Когда она появлялась, мужчина свирепо стучал кулаком по столу, кричал какие-то непонятные слова, метался по комнатам и в конце концов выскакивал за дверь.
А потом они остались одни. Василий рос, не подозревая о том, что мать, выхлопотав для него метрики, сделала его на год старше. Получалось, что у братьев был один отец — погибший в сорок четвертом где-то на Украине.
Нельзя сказать, что Николай не любил мать, но детское сердце, впитав в себя какую-то черную боль позора, нанесенную ему в то проклятое время, взрослея, не освобождалось от этой боли.
Семь лет Николай получал от брата редкие и краткие почтовые послания. Он мысленно видел Василия таким же, как в день похорон матери, и известия о том, что брат женился на какой-то Марине, что у него появился сын, а спустя два года второй, его мало тронули. Он привык к своей отчужденности в отношениях с братом, отошел от него так далеко, что все более тончающая ниточка родства уже почти не ощущалась.
Сейчас Николай был в отпуске и ехал в родное село по той простой причине, что ему все чаще и чаще стала сниться мать — маленькая, безропотная женщина, умоляющими глазами смотревшая на него, когда Василий расспрашивал о подвигах отца-танкиста.
В половине пятого Николай вышел на своей станции. Он шел по новому бетонному тротуару и удивлялся внезапности перемен: вокзальчик, бытовавший за добрых полкилометра от села, оказался чуть ли не в центре его — появились целые улицы новых двухквартирных домов; бывший пустырь у вокзальчика превратился в товарную станцию со своей особенной, серьезной жизнью, которую подчеркивал то и дело позванивающий козловый кран; обособленно и привольно светлело силикатным кирпичом четырехэтажное здание средней школы.
Николай шел туда, где был домик, в котором он вырос, в котором остался с матерью Василий, когда он уехал поступать в институт, в котором остался брат, когда мать унесли на кладбище. Он шел медленно, внутренне противясь предстоящей встрече с братом и его семьей. Не лучше ли, подумал он, пойти сразу к матери, а потом — на поезд? Но что-то неприятное даже самому себе было в этой мысли.
На месте материнского домика стоял высокий, еще в опалубке, фундамент. И перед этим фундаментом, и за ним были такие же фундаменты, видимо, всю старую улицу снесли сразу и сразу строили заново.
Николай узнал от прохожих, что дом брата — третий от нового клуба. Он уже заметил краешек его фронтона и остановился, приводя в порядок немного запыленный костюм, а когда поднял голову — увидел брата. Тот улыбался, и в улыбке его, кроме радости встречи, ничего не было.
— Коля!.. — тихо сказал он, наверное, еще не вполне веря своим глазам.
— Да, я… — растерянно отозвался Николай. Симпатичный, слегка курносый мужчина стоял перед ним, переминаясь с ноги на ногу. Откуда это у вечно худенького Васьки прямые крепкие плечи, налитая даже не силой, а совершенной мощью загорелая шея, грудь, на которой не застегивается не только верхняя, но и вторая пуговица серой шерстяной рубашки? У Николая бегали мысли. От этого он не понял мгновенного порыва брата, пропустил момент естественных объятий и почувствовал страшную неловкость, стиснутый сильными руками Василия.
Младший брат нес чемодан и как-то изучающе и по-детски уважительно поглядывал на Николая. Может быть, точно так это выглядело и тогда, когда Николай приезжал на первые студенческие каникулы.
Они вошли в калитку, прошли по еще не убранному от строительного мусора двору с неровными пятнами оставшейся кое-где муравы, поднялись на новое крыльцо.
— Знаешь, давай сначала… на кладбище сходим.
— Конечно сходим… — Василий полуобернулся на глухой звук открывшейся внутри коридора двери. Они чуть потеснились, выпуская на крыльцо удивленно взглянувшую на Николая женщину.
— Вот, Марина, братишка… — Василий глядел на жену с той же открытой радостью, с которой встретил Николая.
— Ну а что же вы здесь стоите?! — Голос у нее оказался мягким, застенчиво-извинительным. Она была еще совсем молода, без каких-либо морщинок на чуть сухоньком округленном лице. И совсем не портили, а только добавляли ее лицу доброты и еще чего-то милого частые крупные веснушки. — Ну ты, Васька!.. — укоризненно покачала она головой и, рассмеявшись, протянула Николаю руку — Марина… Проходите, Николай!
Она провела Николая в дом.
— Ради бога, не разувайтесь! Я сейчас! — проскользнула на кухню, вернулась с большой капроновой сумкой и, как-то лукаво полуулыбнувшись-полукивнув Николаю, отдала ее Василию.
Пока отсутствовал брат, Николай почти бездумно сидел на диване, то перелистывая яркие детские книжки, то разглядывая простое убранство зала. Мебели было немного. Только самое необходимое. Но все было в порядке, на своем месте.
Марина почти не выглядывала из кухни, и, судя по шуму воды, звяканью крышек, дел у нее было много.
Засиделись мужички! Марина давно уже детей уложила. Сама, виновато и сонно улыбаясь, заглянула напоследок в кухню («Надымили-то как, господи!») и ушла в спальню, а они все ткали причудливый ковер разговора, не касаясь, однако, ничего такого, что могло бы хоть чуть-чуть испортить приятность вечера, подливали и подливали в ставшие уже матовыми фужеры светлое душистое вино, давили в толстой стеклянной пепельнице дорогие сигареты и тут же вытряхивали из пачки пару новых — по одной на брата.
Николай с каким-то восторженным наслаждением вспоминал:
— А второй раз ты в Щукинке тонул! Помнишь?
— Угум… — затягивался Василий и щурил темные ласковые глаза.
— Вот только что стоял — и нет! Я туда, сюда… Нет! Глядь! Макушечка… Бежать надо, за волосы хватать! А я стою и не могу ног оторвать… Не веришь! Примерз, и все тут. А знаешь — почему? — Николай запнулся, поняв, что несколько забылся, потом пробормотал — У нас тогда в селе цыгане жили, гадали все. Ну вот, одна и нагадала матери, что ты в детстве утонешь! Вот… Потом опомнился. Поймал тебя за волосы, а у берега на руки подхватил. Вижу — живой, а не верю себе, реву как резаный.
— Ошиблась, значит, — усмехнулся Василий. — На нашем кладбище одна цыганка похоронена. Не знаешь?
— Нет! — Николай оторопел.
— Да… Ладно! Нашли тему. — Василий потянулся к фужеру.
Выпили и замолчали.
— Слабое что-то! А вообще, постой… — Василий встал и, стараясь не качаться, полез в холодильник. — Марина тут на завтра припасла. А ведь уже завтра.
Водка будто немного освежила. Николай наколол на вилку темный маринованный гриб и поднес к глазам.
Мать любила грибы. Всегда с каким-то волнением тормошила принесенную сыновьями корзину. Тут же перебирала, чистила, что-то пришептывала и светилась.
— Все-таки приехал… — сказал вдруг Василий, и Николай внутренне напрягся. — А я уже думал, что никогда не простишь.
— Ну все, все, Василь! О чем ты!
Теперь они молчали долго. И это молчание все больше сближало их, потому что оба думали о своем детстве.
— Ну, как ты там?.. Строишь?
— Да как тебе сказать… В тресте.
— Вот это да! И молчал! Ну, Коля!
— Подумаешь, важность… Штаны вот протираю.
— А я К-700 получил. Сердце радуется! Подожди, прокачу — сам увидишь!
— Ну а… Марина?
— В школе.
— Учит? — Николай спросил, а потом уж спохватился. Ведь не все работающие в школе — преподаватели.
— Сейчас мало. Засасывает директорство.
Занималось утро. Они уснули, застигнутые усталостью, тут же, на кухне. Спали сидя, рядышком. Голова Николая покоилась на плече у брата, будто искал он у Василия какой-то защиты.
Пришла Марина, прицыкнула на вбежавших ребятишек:
— Ну-ка! В зал…
Николай смутился и тронул за плечо Василия:
— Вы уж извините…
— А я вот сейчас вас обоих извиню! Я извиню! — голос Марины звенел. Николай, не поднимая глаз, неловко выковыривал ногой из-под стола тапочку. А когда выковырнул и отважился взглянуть на хозяйку, глазам не поверил: Марина, улыбаясь, доставала из холодильника бутылку водки.
— Ну-ка! Буди сурка, лето проспит!
И это «буди», и улыбка ее — легкая, материнская какая-то, и первые сильные лучи солнца, рвавшиеся в окно, ударили Николая под самый дых.
А в приоткрытую дверь всовывались кругленькие мордашки. Хихикали, сорванцы, толкались, борясь за щель.
Василий обвел взглядом кухню и хмыкнул.
Свежесть сентябрьского двора ворвалась в легкие. Вода в рукомойнике была ледениста, будто специально предназначалась для таких вот отрезвлений.
— Да что ты ширкаешь! Сейчас ведро из сенец принесу. — Василий нырнул в дверь и выскочил с ведром и ковшиком. — Снимай рубаху!
— Да хватит вам! — прикрикнула, как на детей, Марина. — Яичница стынет.
А через час они, изменившись в лице, подходили к могиле ушедшей из жизни в печали и горести матери, которой не дано уже ни тоскливо осудить сыновей за долгое равнодушие друг к другу, ни порадоваться их светлому и бурному сближению.
Могила матери не отличалась от других — ни оградкой, ни уходом: видно было, что сельчане постоянно помнили своих близких, так же заботливо вкладывая труд в устройство их последнего приюта, как вкладывали его в возделываемую землю.
Николай почувствовал, что пришел сюда как бы на готовое — горюющий праздно и словно бы неискренне. Но, видимо, и Василию было не по себе. Неожиданно сгорбившись, он опустился на низкую голубую лавочку и сидел так, глядя себе под ноги.
Они возвращались по людной улице. Почти все встречные то весело, то уважительно здоровались с Василием и как-то коротко поглядывали на солидного Николая.
Не успев раздеться, Николай оброс детьми. Висли они на нем, как грибы на ольхе.
— Дядь Коля, — пищал, елозя на коленях дяди, крепышок Женька, — а в городе воспитательницы есть?
— Больше, чем машин, — хмыкал Николай, прижимая к груди светлую головку. Его Валерик рос совсем не таким. В два года он был угрюмчиком, хотя вежливо здоровался с гостями и никогда не забывал говорить «спасибо».
День уходил быстро. Заигравшись с ребятишками, Николай как-то незаметно для себя уснул, сидя на диване. Проснувшись же, обнаружил под головой подушку. В квартире было тихо. Веселые голоса детей доносились со двора. Он подошел к окну и отодвинул штору. Василий поочередно подсаживал мальчишек к перекладине турника. Они пыжились, стараясь выжиматься до подбородка, сучили ногами. Потом перекладиной завладел Василий. Он сильно и четко выжался, вывернул локоть и одним усилием подмял стальной стержень под себя. Это было красиво. Когда-то Николай тоже мог вот так же. Сейчас же вряд ли и подтянется как следует.
Он стоял у окна, пока вся семья брата не направилась в дом.
— Вот и дядя Коля встал! — весело сказала Марина, снимая с ребятишек легкие курточки. — Сейчас чай пить будем.
— Чай не это самое… — ухмыльнулся Василий.
— Чай не водка! — прокричал ему вслед четырехлетний Сережка.
— Много не выпьешь! — тоненьким, но отчетливым голоском поддержал брата Женька.
— Кто вас научил? — опешила Марина.
— Ты! — и не думая смущаться, ответил Сережка.
— Когда?! — Марина растерянно взглянула на Николая.
— А помнишь, помнишь! Когда тетя Валя приходила!
— Подруга моя… — Марина перевязывала платок. — Здесь недалеко живет, на следующей улице. Давайте к ней сходим.
Николай не испытывал особого желания наносить визит незнакомой Валентине. Но согласился.
Валентина жила в таком же рубленном из бруса новом доме, в левой половине, светившейся сейчас только одним, неплотно зашторенным, окном.
— Ну, сейчас что-нибудь учудит Васька! — Марина высвободила руку и занялась устройством прически. Из сенец послышались глухие удары кулака. Левая половина ожила: разом проснулись все выходящие на улицу окна.
— Ну, Васька! Ты у меня сейчас получишь! — послышался звонкий голос. — Сразу и целоваться! Вот скажу Марине…
Николай поднимался по ступеням медленно. Он уже ощущал легкую неловкость вторжения. Дверь в квартиру оставалась открытой. Там смеялись женщины, что-то громко говорил брат, а он не решался переступить порог.
— Да где же он?! — нетерпеливо спросила веселая Валентина. — Николай! Что же вы не проходите? Ох уж эти плотники!
Она была молода и, что приятно удивило Николая, — одета так, будто ждала их: не в какой-нибудь там легкий воскресный халатик без пояска, а в длинное, почти до пола, шуршащее платье. Белые туфли на высоких каблуках приподнимали ее, делали похожей на красивую заморскую птицу.
— Да вы меня просто боитесь! — сказала она шепотом.
Это было не только забавно, но и тревожно-волнующе, как бывало когда-то, в годы студенчества — время неожиданных и радостных знакомств, случайных вечеринок, тайных взглядов и сладкого ожидания чего-то необъяснимого.
На такой вечеринке Николай и познакомился со своей будущей женой Верой — в меру общительной, серьезной девушкой, решившей посвятить свою жизнь экономике предприятий легкой промышленности. Николая устраивало в ней все, ее будущая профессия — тоже, потому что всеми нитями была связана с городом, из которого он не уехал бы ни под каким предлогом. Но родители ее, познакомившись с будущим зятем, неожиданно настроились против него.
Свадьба была студенческой. Поздравления от Вериных родителей они не дождались. Когда разошлись друзья и Николай обнял Веру, та сказала сухо:
— Учти! У твоей матери я тоже побываю только один раз.
Время шло. Оно похоронило жестокие слова молодой жены. Но однажды Николай получил от матери письмо. Она собиралась к ним в гости и спрашивала, что привезти внучонку.
— Нет! — отрезала Вера. — Ответь ей, что нечего у нас делать.
Это было похоже на дурной сон. Несколько дней он ходил сам не свой. И он решился. Сел писать матери — приглашать не в гости, а насовсем.
— Не трудись! — остудила его Вера. — Я уже написала.
Внешне у них все оставалось по-прежнему. Но испарилась радость совместного существования. Иногда он всерьез думал о разводе, но на этот шаг не хватало характера, а может — и уверенности в своей правоте. К тому же засасывала работа — сначала на стройке, потом в тресте. И мысли о разводе отодвигались, а после похорон матери вовсе как-то испарились. Ему было теперь все равно.
Иногда его бесило, что сын липнет к Вере, а с ним становится скованным, будто испуганным. Старался не замечать этого, но не очень-то получалось.
Вера стала хорошим экономистом. Легко поднималась по служебной лестнице. А он узнавал о ее повышениях как-то случайно, не от нее самой. Это угнетало. Ему стало казаться, что она вообще ведет неизвестную ему жизнь. Иногда снилось, что у нее есть еще один ребенок, не от него. И этот ребенок живет сейчас у того, кто имеет к нему прямое отцовское отношение.
— Что вы загрустили? — спросила Валентина. — Главное — это перешагнуть порог.
Они сидели с братом в креслах, отделенные журнальным столиком, и при мягком свете низкого торшера смотрели на впечатлительного князя Мышкина. Из кухни доносился веселый разговор вперемешку со смехом. Внимание Николая дробилось. Кино он воспринимал слабее, чем все остальное: бесшумные появления Марины, приносящей что-то то в глубокой, то в мелкой фарфоровой посуде, вкрадчивое мурлыканье трущегося об ногу котенка, груду пластинок в ярких конвертах на голубом паласе, огромный аквариум с зеленоватой подсветкой.
— Васюша в своем амплуа! — сказала Марина, поднося к столику два мягких стула. Николай взглянул на брата. Тот безмятежно спал, уткнувшись подбородком в грудь.
— Вот так мы и поженились,. — Марина переставляла тарелки и улыбалась, видимо вспоминая что-то забавное и приятное. — Прихожу как-то в кино — садится рядом вот этот молодой человек. И — на тебе! Головку мне на плечо… Посапывает… Ну, не будить же!
— Сейчас я его разбужу! — Валентина стояла позади Николая, облокотившись на кресло. Она выключила телевизор и присела возле радиолы. — Заодно помучаю и ваше одинокое сердце.
— Этому сердцу и так прошлой ночью досталось. Так и утухли в обнимку! Ты знаешь, сколько они выкурили?! Ужас!
Пластинка вращалась мягко, без шороха, и возникла еле слышная мелодия. Она подкрадывалась, росла, наполняя просторное и уютное жилое помещение. Потом, через паузу, будто ударился о стену хрупкий стеклянный шар. Крупные и мелкие осколки разлетелись, стали дробиться, осыпаясь на пол и издавая отчаянно веселые, бесшабашные звуки.
— Во! — встрепенулся Василий. — Душа вразнос. Валик?!
— Мужчины, вина! — взмахнула легкой рукой Валентина. Николай замешкался, не в силах оторваться от ее счастливо разгоревшегося смуглого лица, а Василий уже держал длинную прозрачную бутылку и осуждающе смотрел на хозяйку.
— Я ведь все равно Марину не брошу! — ухмыльнулся он.
— Ладно, посмотрим… — Валентина озорно и зазывно взглянула на Николая.
— Ну, Валентина! Пришиваешь человека к креслу, — шутливо рассердилась Марина. — Брось свои цыганские выходки!
— А что я могу поделать, если он мне нравится и если я действительно цыганка?
— Что делать, что делать! — комично заерзал Василий. — Смотри на меня! Как же я теперь буду, Валик?
— Не знаю…
Николай смотрел на хозяйку и против своей воли перемещался в давно прошедшее время.
— …Правда, Николай?
Он очнулся и посмотрел на Валентину.
— Здравствуйте! Где же это вы были?
— Простите, задумался.
— Тоже за жизнь?
— Да! За самое ее начало.
— С удовольствием бы послушала! Нет, честное слово… Да не толкай ты меня, Марина!
Николай встал и направился к радиоле. Валентина оказалась рядом, придержала его руку.
— Нет, нет! Это не то, что способно растопить лед, в который… Пожалуй, вот это! В который заковано мужественное и одинокое…
— Я вам ничего такого не говорил, — Николай старался не глядеть ей в глаза.
Она тут же опустила иголку.
— Ни на что уже не надеясь, приглашаю вас и… только вас на этот белый танец.
Василий и Марина уже танцевали, отдалившись к телевизору, и о чем-то тихонько говорили.
Валентина была легка в движениях и, то отстраняясь от него, на секунду выпрямив обнаженные и лежащие у него на плечах руки, то будто сдаваясь и безвольно приникая к его груди, будила в нем какое-то почти неведомое до этого наслаждение. Ему очень хотелось, чтобы она перестала играть, посмотрела в глаза прямо и ясно, и немного боялся этого, потому что рядом танцевали брат с женой, от которых ничто не укроется. Дурацкое положение, думал он, ощущая под вспотевшей ладонью гибкий стан. На частых городских сборищах его солидных уже друзей тоже много танцевали и веселились, флиртовали с женщинами и шутливо ревновали. Но это было устоявшимся и привычным и не волновало.
— Валя-Валентина, — сказал он тихо, стараясь придать голосу тот шутливый оттенок, который при необходимости помог бы ей продолжить начатую игру. — Я смешон, правда?
— Очень, — ответила она тотчас.
— Даже очень?!
— Еще бы! Вбили себе в голову, что я хочу окрутить вас…
— Да вы что! — он остановился и изумленно посмотрел на нее. Ответный взгляд ее был прям и ясен.
— Разве не так? Да танцуйте же, танцуйте! Не устраивайте сцен… Пусть я не нравлюсь вам, но я ведь хозяйка! Вы обязаны хоть для виду поухаживать за мной…
— Только для виду?
— Вы способны на большее?!
Она заводила его, и было не понять — для продолжения начатой ею игры или с цепким умыслом, на который способны женщины, которым решительно нечего терять, кроме опостылевшего одиночества. Но она была молода, красива и энергична, поэтому он не мог заподозрить ее в коварном умысле.
— Я не думаю, что в таких делах нужны особые способности.
— В каких делах? — она смотрела удивленно и настороженно.
— Я что-то сказал не так?
Музыка смолкла, и Валентина отошла от него. Василий выключил радиолу. Стало совсем тихо.
— Николай! — окликнула Валентина повеселевшим голосом. Он подошел и сел рядом. — Вы надолго… к нам?
— Нет, — ответил он и почему-то смущенно посмотрел на Марину. — Завтра уезжаю.
— Хотите — погадаю на дорогу?
— Вы серьезно?
— Вполне! Дайте руку… Ну, не бойтесь! Я не роковая женщина, хотя и цыганка… Какая рука! Интересно, скольких несчастных женщин она обнимала?
Он чуть было не отдернул руку.
— Вот… Ну хорошо, хорошо, пусть это будет нашей тайной! Все равно вы не любили их.
— Конечно! — засмеялась Марина. — Разве можно любить кого-то, кроме тебя!
— Меня? Нет, меня он не любит! Не смущайтесь, Николай. Вы не виноваты, что такой. Вы многое теряли и не замечали… — Она равнодушно выпустила его руку и повернулась к Василию.
— Васька! Выпьем, что ли, черт ты этакий! Садись, родная душа… Нет, правда, Марина! Посмотри — у нас с ним и руки одинаковые.
Николай чувствовал легкую обиду — совсем детскую и, можно сказать, смешную. Он не отрываясь смотрел на эту быстро меняющуюся женщину. Младший брат ухаживал за ней совершенно непринужденно, словно находился в собственном доме. И неожиданно Николай очень ясно увидел их удивительную схожесть. В чертах лица, в посадке головы. «Пьянею, — подумал он, — чертовщина какая-то!»
Да, она была похожа на Василия.
Домой возвращались в молчании. Марина держала братьев под руки и не поднимала головы. Казалось, она считает шаги.
Николай остался покурить на крыльце. Минуту спустя вышел и Василий, прислонился к плечу брата, навалившись грудью на перила.
— Она… правда цыганка? — спросил Николай, выпустив из пальцев докуренную сигарету.
— Правда. А что, Коль, не похожа?
— Да как тебе сказать…
Всходила маленькая сентябрьская луна. На соседской половине дома глухо бормотал телевизор.
— Как же она здесь оказалась?
— Долго рассказывать. В общем, мать свою здесь нашла. Я говорил тебе — цыганка у нас похоронена. Умерла при родах. Отец увез Валентину.
Николай дрожащими пальцами нащупал в кармане сигарету.
— Николай, Васюш! — мягко окликнула в приоткрытую дверь Марина. — Простудитесь!
Под утро, в мгновенном сне, он увидел маленький беленький домик, из которого он ушел — или только что, или давным-давно. Он знал, что в домике осталось самое дорогое — мать, братишка и еще кто-то, кого вроде бы и не должно быть. Он захотел вернуться. Но никак не мог одолеть открытого пространства — ноги не отрывались от земли.
Он проснулся в поту и долго прислушивался к биению сердца.
Марина была уже на кухне — в халате и тапочках. Он смутился под ее взглядом — доверчивым и открытым.
— Поспал бы еще! Всю ночь ведь ворочался.
Он подошел к окну и отодвинул короткую штору. Родное село просыпалось. Окна домов излучали свежий утренний свет.
Нахалка
Семён Иванович знал про эти места от Самойлова, прожившего здесь, на станции Ин, что ровно в ста километрах от Хабаровска, лет десять, если не больше. Они, заядлые рыболовы, подружились сразу и чем больше работали вместе — в одной небольшой строительной организации, — тем больше привязывались друг к другу. Редкий выходной проводили они дома, не на рыбалке, но где бы ни были, Самойлов не уставал тосковать по глубоководным заливам речки Ин, связанной через Урми и Тунгуску с Амуром. Рассказы Самойлова были зажигательны и красочны. Они-то и породили у Семена Ивановича желание самому отведать прелестей «карасиных» зорь.
Вместе они поехать в отпуск не могли — работали на одном объекте, и Самойлов мужественно взвалил на себя дела Семена Ивановича. В последние перед разлукой дни он тосковал больше обычного, просил привезти хоть одного живого карасика. Семен Иванович обещал.
Самойлов прибежал к поезду.
— Вот, Сеня! Передай Чирикову, леснику. Его там все знают, — сунул Семену Ивановичу большой бумажный сверток. — Сам увидишь, мужик что надо!
…Семен Иванович долго выбирал место для палатки. Ставить ее можно было где угодно: дубовая релка возвышалась ломаной подковой над заливом, была прогрета и уютна, под стать какой-нибудь подмосковной роще. Но Семен Иванович хотел найти вообще необычайный уголок, чтобы брезентовый домик был скрыт от посторонних глаз и ветра. Наконец он распаковал палатку и приступил к делу. Привязав к дубку последний пеньковый конец, Семен Иванович замурлыкал веселую песенку. Его переполняло ликование. «Теремок! — подумал он, разворачивая брезент и просовываясь внутрь. — Кто в тереме живет?! Я! Счастливый человек». Потом он притащил к теремку вещи, спрятал в нем продукты и спальник, а снасти и посуду сложил недалеко от входа.
День еще только начинался, шел одиннадцатый час, но Семен Иванович решил не торопиться с рыбалкой, заготовить на ночь дров. Он был трудолюбив и опытен, знал, что величина блаженства прямо зависит от потраченных сил. Семен Иванович таскал сушняк и складывал его в кучу — на безопасном расстоянии от палатки и деревьев. Он увлекся, немного задышался и, удовлетворенно окинув взглядом внушительный холмик из отжившего дерева, присел на пенек.
— Ну здорово, что ли!
Человек подошел сзади и не хрустнул ни одной веточкой. Семен Иванович сконфузился, различив слабые от старости признаки форменной одежды. Лесник тяжело, вразвалку прошагал к куче сушняка и присел на комелек.
— Жара! — пожаловался он, устраивая на коленях потерявшую воронение двустволку. — Прям всю душу выпекает…
— Хорошая погода! — то ли возразил, то ли согласился настороженный Семен Иванович. — У моря сейчас туманно…
— Вот я и говорю: жара! Брось окурок — и пойдет полыхать. Пожароопасный период…
Семен Иванович понял, куда клонит неожиданный гость.
— Вы, пожалуйста, не волнуйтесь… Я осторожно.
— Ну-ну… Конечно. Поаккуратнее! А то ведь враз пыхнет. Вон чо сухостою! Сдалека?
Лесник спрашивал вроде бы доброжелательно, но глаза его явно изучали Семена Ивановича.
— Из Приморья… Недалеко от Владивостока.
— Ммм… Посоветовал кто, или так просто?
— Друг у меня отсюда. Самойлов…
Лесник сдержанно улыбнулся. Тяжелое, полное лицо его залучилось довольством.
— Как чувствовал! Он вам про Чирикова ничего не говорил?
— Так это вы! — Семен Иванович вскочил. — Ну как же, как же! Он вам посылочку передал…
— Ну… — Чириков растроганно прижал сверток к животу. — Корюшка! Запах-то какой… Спасибо! Звать-то как?
— Семеном…
— Ну да, ну да! Семен Иванович, так ведь? А я — Иван Алексеевич. Пойдем-ка ко мне, Семен Иванович! Пойдем, поговорим… Про Сергея расскажешь. Все обещает, а приехать вот никак.
Семен Иванович замялся. Он настроился на немедленный активный отдых.
— Макс! — хрипло крикнул Чириков. Невдалеке зашевелились кусты, и на полянку выскочила большая рыжая собака, смахивающая одновременно и на овчарку, и на лайку.
— Сюда, Макс. Сторожи давай. Смотри мне!
Макс тоскливо посмотрел на лесника, вздохнул и улегся возле палатки. Семен Иванович невольно залюбовался им. Широкая грудь, мощные лапы.
— Не тревожься! — перехватил его взгляд Чириков. — Его голыми руками не возьмешь. Это не собака, а солдат Швейк! Хитрюган…
— Кличка какая-то… — улыбнулся Семен Иванович.
— А это Нахалка все! — ухмыльнулся лесник. — Дочка соседская. Я-то Рэксом назвал, а она… Парень у нее, Максим. В честь него! Поссорились что-то… Взяла и приляпала по злости щенку — Максим. Макс — это уже сокращенно. А потом как-то прижилось…
Чириков дышал с сипом, но шел спешно, хорошим шагом. Семен Иванович хотел было взять у него сверток, но он слегка откачнулся.
— Заядлый рыбак, а, Семен Иванович? Я тебя на Кулаковский свозю. То не залив, а сказка! У нас их три, Кулаковских. Тот, куда я тебя свозю, самый ближний. На втором и третьем я не был. Добираться по марям надо. Тяжело. Рыбу не вынесешь. Я двоих только знаю, кто на втором побывал. Сергей пытался как-то. Вернулся. Но карась там! Больше кило. Был бы вертолет…
— Ну а здесь как? — Семен Иванович чуточку влюбился в залив, на котором обосновался.
— Рыба есть. Чего там! И карась, и сом. Угря пропасть. Только с червями трудно. Ты у меня на огороде червей копай. В любое время приходи и ройся. И овощей, каких надо, бери не спрашивая. А то перебирайся ко мне совсем!
— Нет, спасибо! — сразу отказался Семен Иванович. — Я люблю в палатке.
— И то! — согласился лесник не без удовольствия. — Это я понимаю. Сам люблю на воле поспать! Дома-то не так высыпаешься. Воздуху, что ли, не хватает. Ну да ладно, там видно будет…
Так, за разговорами, подошли к дороге. До поселка оставалось с полкилометра. Ясно уже различались темные шиферные крыши окраинных домов.
— Кто это так прет?! — Чириков оглянулся и придержал шаг.
Их догонял легкий красный мотоцикл. «Ява» — определил Семен Иванович, невольно любуясь молодым смелым гонщиком. Мотоцикл шел по своей стороне, но метров за сто до путников сделал едва заметный крен и переметнулся влево. На гравийной дороге, да еще при такой скорости, это было довольно-таки опасно. Семен Иванович почувствовал даже некоторую зависть. Он сам любил мотоциклы, но ездил аккуратно, стараясь не рисковать.
«Ява» стремительно приблизилась, проскочила мимо и вдруг заупрямилась, выбрасывая из-под заднего колеса гальку.
— Вот Нахалка! — приахнул лесник, остановившись. — Ну не черт девка, а?!
— Дядь Вань! — прокричала Нахалка звонким радостным голосом. — Кого это ты тащишь?
Чириков конфузливо взглянул на спутника.
— Цыц, егоза! — Он нахмурился и подошел к девушке. — Ты чо срамишь меня?! Где это мотоцикл стындрила?
— У Рэкса, дядь Вань! — Нахалка засмеялась и подняла на шлем защитные очки.
Семен Иванович разглядывал ее с интересом. Еще тогда, когда Чириков упомянул о Нахалке, он как-то вскользь подумал, что это, наверное, не очень умная девушка, от природы склонная к капризам и шалостям. Теперь же искренне удивился. Лицо у Нахалки было лучисто-приветливое, умные, чуть прищуренные глаза смотрели задиристо, с каким-то тайным вызовом.
— Чо это еще за Рэкс?..
— А тот, что с твоим Максом кличками поменялся! — Нахалка покачивалась на мотоцикле, слегка креня его то влево, то вправо. Она в упор, но как бы не очень внимательно, разглядывала Семена Ивановича.
— Хочешь, прокачу, кавалер?
— Вот тебя твой Рэкс прокатит! — пробурчал Чириков и пошел дальше.
— Кишка тонка! — прокричала она и пронеслась мимо. Чириков улыбнулся, но тут же нахмурился.
— Ну, как мерзавка?
— Молодец! — от души похвалил Семен Иванович. — За что же ее Нахалкой прозвали?
— А вот за это самое! Разве не понятно?! С ней ухо востро держи. Враз обрежет, со стыда провалишься. Ведь и дерется, зараза! Тут как-то городские в совхоз приезжали. Шефы. Так она одного в больницу спровадила. Весь фасад, как она говорит, из красного в синий перекрасила. Целоваться, говорит, лез! Как это тебе, а? Уж и не поцелуй ее!
Семен Иванович с удовольствием посмеялся. Нравились ему рассказы о Нахалке, как-то возбуждали немного. Да и Чириков, видимо, сердился на девчонку невзаправду, показно, а сам будто бы даже несколько гордился ею.
— Она работает или учится?
— Готовится… В прошлом годе поступала. И экзамены ведь сдала! Потом — глядь, заявилась! Бросила. Раздумала, мол, в железнодорожный. Брешет! Раздумала… Это она из-за Максима. А что вытворяет с ним?! Вот как понять этих баб, а? Змеёнка!..
Дом лесника — большой, старый. Он прочно и свободно сидел на левой стороне улицы. У небольшого дома напротив стояла прислоненная к забору «Ява».
— Проходи, Семен Иванович! Сейчас расшевелю старушку, перекусим как следует… Во! Припрыгала, стрекоза…
На крыльце веранды, сжимая коленями немного поблеклый красный шлем, сидела Нахалка.
— Дядь Вань, давай деньги! — потребовала она и тряхнула головой. Длинные светлые ее волосы на миг спрятались за спину, но тут же скользнули по плечам на грудь.
— Миллион, два?! — весело поинтересовался лесник, отдуваясь.
— Давай, за пивом сгоняю. На станцию привезли.
— Эк! Будто знали, что корюшку мне пришлют! — обрадовался Чириков и полез на крыльцо.
— А тебе, конечно, водочки взять?
Семен Иванович хмыкнул и присел рядом.
— Возьми пару ящиков. Со стипендии отдам.
Нахалка выронила шлем, и он покатился, высоко подпрыгивая на ступеньках.
— Эк губу раскатал! — она метнулась за шлемом, подхватила его и выпрямилась. Семен Иванович залюбовался ею. Гибкая, сильная, так и влитая в узкую плотную рубашку и серовато-синие брюки.
— На бутылку, так и быть, расколюсь… — проворчал, поддерживая собственную игру, Семен Иванович. — На-ка вот червонец, возьми пару.
Он совсем не хотел пить. Он вообще пил редко и мало. Но Нахалка, кажется, намекала на то, что он в гостях…
— Не побьешь? — Чириков вышел с большой хозяйственной сумкой.
— Пяток, дядь Вань, не больше! — Нахалка вскочила на крыльцо, выхватила у лесника сумку и помчалась к калитке.
— Деньги-то в сумке! — прокричал Чириков и тяжело опустился на верхнюю ступеньку. — Вот ведь мотало… Заводная! И всегда чем-нибудь удивит. Весной вдруг всю картошку мне прополола! Шутка ли! Лени в ней нет, это точно! А на работе не держится… Как с института вернулась, устроилась в железнодорожный ресторан. Месяц протянула — бросила. Они, говорит, все там на копейках помешались. Пошла на заправку. Чувствую, нравится ей. Хлоп — уволили! Заправила кого-то не тем, чем следовало. Пойдем, Семен Иванович, полдень уже, а ты поди и не завтракал!
Внутри дом был спланирован несколько оригинально. Из просторной прихожей одна дверь, слева, вела в какой-то зальчик — с диваном и половичками, вторая, справа, — видимо, в. хозяйственную комнату. Прихожую продолжал неширокий коридор, в конце которого была кухня. Перед кухней коридор разветвлялся, как бы указывая на две просторные комнаты.
— Вот сюда! — Чириков ввел гостя в дальнюю левую комнату. — Здесь у нас с бабкой банкетный зал С кухни у меня еще один ход есть. Во двор. Чтобы дровами по коридору не сорить. Давай прямо за стол! Щас хозяйка грибков достанет.
Стол был накрыт старенькой льняной скатертью, уставлен тарелками с горячей картошкой, помидорами, жареной рыбой.
— А вот тебе и хозяйка! — Чириков шагнул к жене, принял из ее рук тарелки.
— За руку, что ль? — застенчиво улыбнулась жена Чирикова, быстро вытирая о подол руки. — Анна Митрофановна. Кличь, если удобней, тетей Аней! — Она вдруг засмеялась.
— Чего ты?.. — спросил Чириков, громоздясь на стул.
— Нахалка меня тетей Нурией зовет! Нурия! Говорит, выходит как по-иностранному.
Тетя Нурия казалась довесочком к мужу — маленькая, сухонькая. И слишком суетливая. Только суета ее не была бестолковой, а как бы подчеркивала, что хозяйка рада гостю, старается только для него.
— Что ж ты, Иван, расселся! Сухое-то сегодня в горло не пойдет, доставай!
— Далеко, что ль, доставать-то! — Иван Алексеевич нагнулся и запустил руку под стол. — Она у меня свое место знает!
— И-и! Говоришь… Подумает человек, что ты алкоголик. — Тетя Нурия отобрала у мужа бутылку и поставила ближе к Семену Ивановичу. — У него руки — крюки! Того и гляди — стол перевернет…
— Обижаешь, мать. Я этими руками дом построил!
— А тарелок сколь перебил?! Наливай, Семен Иванович, наливай! Пусть дуется.
Чириков и не думал дуться. И говорила тетя Нурия так явно потому, что ей нравилась могучая кряжистость мужа.
Семен Иванович неуверенно потянулся к бутылке.
— А! — раздалось у него над ухом. — Я все ноги избила! Бежала как угорелая, а они без меня!
Нахалка дышала быстро и часто. Лицо ее раскраснелось.
— На мотоцикле избила! Посмотри на нее! — смеясь, просипел Чириков.
— На мотоцикле! Отобрали…
— Кто?! — всплеснула руками тетя Нурия.
— Кто, кто… Рэкс ваш!
— Ну ты господи! Я-то подумала — милиция. Правильно, что отобрал! Нечего внахальную брать. Расшибешься еще.
— Хотела колесо ему проколоть! Нечем… — Нахалка выставляла на стол бутылки с пивом. — Водки я тебе не взяла! Обойдешься. Да и есть вон! А это — коньяк для нас с тетей Нурией. С пенсии отдам.
— Специально приеду! — согласился Семен Иванович, задерживая на ней взгляд. Нахалка присела рядом. — Значит, ограбила гостя! — Чириков откачнулся на спинку стула и подобрал руки к животу. — Ты, девка, когда размудришься, меры не знаешь…
— Ладно тебе, дядь Вань! На дорогу я ему дам.
— С каких шишей?
— С моих, не с твоих же!
Тетя Нурия прыснула.
— Ладно, ладно вам! Ругачки еще здесь не хватало!
Обед был хорош! Семен Иванович проголодался и ел с аппетитом. Нахалка выпила полрюмочки. Семен Иванович наблюдал, как она стремилась собраться с мыслями, морщила лоб. Но потуги ее были тщетны, и она молчала, как попавший в беду ребенок. Тетя Нурия ухаживала за гостем, подкладывая ему в тарелку то солонинки, то грибов. Иван Алексеевич был дотошен в своих расспросах про Самойлова, его работу, семью.
— А! — взгляд Нахалки наконец прояснился. — Это тот, что по пьянке дубовую релку спалил?
— Ну! — прикрикнул на нее Чириков и покосился на Семена Ивановича, — Что болтаешь-то!
— А чего скрывать, раз было! Ты же сам рассказывал!
— Хватит, говорю! — Иван Алексеевич рассердился до малиновости в лице, отшвырнул вилку.
— Ну, засопел! — тетя Нурия обращалась к мужу, а сама укоризненно поглядывала на Нахалку. — Ты хоть при гостях сдерживайся…
— Ладно, мать, ладно! Все вы умеете себя вести, только болтаете много.
Семен Иванович не чувствовал себя неудобно, нет! Ему понравилось, что Чириков и в сердитости своей сдержан, что он как бы заступался за Самойлова и делал это по-мужски, без всякой рисовки. Семен Иванович испытывал приятное ощущение назревающей дружбы с этим человеком. «А Самойлов-то!» — весело подумал он и решил, что обязательно узнает эту историю с релкой.
— Кто это там?! — посунулась к окну тетя Нурия и тут же повернулась, лукаво взглянув на Нахалку. Нахалка тоже поглядела в окно и, как показалось Семену Ивановичу, слегка покраснела.
— Ну, иди, иди! Позови… — тетя Нурия автоматически стала переставлять тарелки, стараясь придать столу более организованный вид.
— Максим? — Чириков заскрипел стулом, поворачивая свое туловище. — Чего носом крутишь, заноза! Ну-к, зови иди!
— Тебе надо — зови!
Семен Иванович был еще в хорошем настроении, но уже чувствовал, что его немного тяготит появление еще не увиденного Максима: Почему? Бог его знает! Он поднялся, стал благодарить тетю Нурию за вкусный обед. Чириков смотрел на него растерянно. Потом перевел взгляд на Нахалку.
— Ну что! Поговорить с человеком не дала, испортила застолье.
— Наговоримся, Иван Алексеевич! — Семен Иванович мельком глянул в окно. Ничего не увидел. — Приду!
— Пива вот набрали…
— Ничего, не пропадет! Пейте… Макса надо отпустить…
— Ну ладно! Пойдем. Я тебе червей дам. Копал, а порыбалить все не удается.
— Вот человек! — ласково и одобряюще сказала тетя Нурия. — Выпил чуток — и все. Норму знает!
— Это он при нас такой! — не оборачиваясь, громко-возразила Нахалка. — А вообще, наверно, натуральный алкоголик!
Тетя Нурия оторопела. Потом смешно, неумело замахнулась на девушку.
— Чтоб у тя язык… Ну, чертова девка! Прям при человеке… Иди вон отсюда! Глаза б тебя не видели…
Нахалка засмеялась, вскочила, уронив стул, и кинулась на шею возмущенной тете Нурии. Та попятилась, будто стремясь освободиться от неприятных ей объятий, но Семен Иванович заметил, что лицо ее уже не было сердитым.
— Хватит, хватит! Срамница… С тобой… Ты, Семен Иванович, не обращай на нее внимания, она…
— Дура! — подсказала Нахалка, ухмыляясь. — Да, тетя Нурия, дура, да?!
— Да! Да! — не удержалась, заулыбалась хозяйка и обеими руками энергично щекотнула Нахалку. Та взвизгнула и отпрыгнула почти к окну.
Семен Иванович вышел на крыльцо. Чириков разговаривал с рослым парнем. Редко природа дает человеку такой мощный и привлекательный облик: тугие округлые плечи, раздваивающаяся широкая грудь, а главное — очень доброжелательное, чуть по-детски стеснительное, чуть обиженно-грустное светлое веснушчатое лицо.
— Здравствуйте! — Максим повернулся к Семену Ивановичу и первым протянул руку. Семен Иванович не испытывал особого восторга от этого знакомства. Он слегка отвернулся, независимыми движениями заправляя в брюки выбившуюся рубашку. В это же время он, против своей воли, старался взглянуть на себя со стороны, как бы сравниться с молодым человеком, из-за которого Нахалка бросила институт.
Чириков нагнулся и достал из-под крыльца большую жестяную банку. Накренил, сбивая в сторону землю.
— Живые… Ты уж извини, Семен Иванович… Бабы, сам знаешь!
Семен Иванович шел быстро и легко. Он не старался копаться в своей душе, но чувствовал какое-то возбуждение, смешанное с тихой печалью.
— Ну, вот. и я, Макс! — сказал он негромко. — Надоело тебе, да?
Собака даже не втянула язык — смотрела на чужого-человека спокойно, часто-часто подрагивая боками.
— Ладно… Домой, Макс?
Пес вскочил и метнулся вдоль берега.
Семен Иванович забрался в палатку и долго лежал на спине, в покое, грусти и сладком ощущении полной свободы, которая, он это — тоже с грустью — понимал, не давала ему ничего, кроме того же покоя. Шелестел листьями — совсем рядом, над самой головой — ветерок, устраивали возню на ветках птицы. Семен Иванович слышал все это отвлеченно, стараясь думать о предстоящей рыбалке, чтобы не думать ни о чем другом и не выглядеть перед самим собой смешным.
— Руки вверх!
Семен Иванович дернулся от неожиданности. Нахалка расхохоталась, отбросила палку, которой изображала ружье, и присела на краешек брезентового пола.
— Струсил, да?! — По лицу ее переливались волнышки восторженной радости и еще чего-то, что настораживало Семена Ивановича, ожидавшего от нее новых выходок. — Я тебе пожрать принесла!
— Я тебя не просил об этом… — Его чуточку покоробило это распущенное «пожрать», но сказала она это таким легким, веселым тоном, что он тут же простил ее.
— Ладно, хватай! Мне некогда.
Она отвернулась и потрогала палатку.
— Ты очень старый?..
— Кому как.
— Ну а мне?!
Семен Иванович почувствовал раздражение. Ему не нравились такие отношения между мужчиной и женщиной.
— А при чем тут ты?
Она посмотрела на него удивленно и заинтересованно. Он молчал. Занудливо гудел одинокий комар.
— Ладно! — Она привстала и попятилась. — Старый дуб… Строит из себя!
Семен Иванович не шевелился. Ему уже не было так хорошо, как десять минут назад. Его наполняло безразличие ко всему, хотелось просто отдохнуть. Минут через двадцать он выбрался из палатки и услышал неясный шум, будто где-то совсем рядом кто-то бросал в воду камни. Семен Иванович вышел на берег и увидел Нахалку, собиравшую в сетку карасей. Нахалка улыбалась.
— Шарахаются! — возбужденно прокричал, высунувшись из. воды, Максим. Он отплевался, шумно набрал воздуха и исчез. Почти тут же на поверхности зашевелились выпачканные илом пятки.
— Как утопленник, правда? — сморщилась Нахалка.
Семен Иванович присел возле нее, еще не догадываясь, что тут происходит. Максим вынырнул и, держа руки в воде, сильно ссутулившись, побрел к берегу.
— Бросай! — крикнула Нахалка. Максим не отвечал, всем телом изображая борьбу с каким-то серьезным противником. Возле самого берега Максим с силой выбросил вверх руки. Длинная рыбина описала в воздухе дугу и шлепнулась в траву.
— Это он тебе ловит! — пояснила Нахалка, с ласковой серьезностью взглянув на Семена Ивановича. — Хватит ему, поехали!
Максим взял одежду и направился в кусты. Семен Иванович смотрел то на ползущего к берегу сома, то на Нахалку. Ему было и неудобно, и в то же время отчего-то слегка волновалось сердце.
Он провожал мотоцикл задумчивым взглядом, ощущая возникшее вдруг одиночество.
Солнце было еще высоко, в релке продолжалось птичье веселье, недалеко от палатки горел костер, и в котелке крупно бурлила вода. Семен Иванович неторопливо чистил и сразу же опускал в котелок молодую глянцевитую картошку.
— Ну, готова уха?
Семен Иванович выронил картофелину, и она брызнула водой на огонь.
— Я тебе долг принесла, — Нахалка протянула ему скрученную десятку. Маленькая, необъяснимая радость, шевельнувшаяся в сердце Семена Ивановича, моментально испарилась. Появилась досада — злая, как горчица.
— На, на! Я не люблю оставаться в долгу…
— Детский сад… Я тебе и не одалживал вовсе.
— Все равно!
— Слушай…
Нахалка швырнула деньги в палатку и быстро пошла прочь.
Семен Иванович долго не мог успокоиться. Ему расхотелось варить уху, расхотелось рыбачить. Он вспомнил про пачку сигарет, купленных в поезде на всякий случай, и начал искать ее в карманчиках рюкзака.
— А я думал, ты не куришь, Семен Иванович! — Чириков отдувался добродушно и солидно. Одет он был уже не в форму, а в выгоревшую клетчатую рубашку и просторные защитного цвета брюки. — Надоедаем тебе сегодня…
Семен Иванович бросил сигарету в костер. Он обрадовался леснику, словно тот обещал ему что-то очень важное для жизни.
— А я вижу, — Чириков присел у костра, — Нахалка будто побитая. Думаю — нашкодила опять! Что она тут натворила?..
Чириков смотрел ожидающе и с тревогой.
— Да ничего! — Семен Иванович стал расшевеливать костер.
— …Приехала с Максимом, гляжу — круть! Опять исчезла… Максим говорит — рыбу ловили. А куда она — сам не знает… Появляется. Собирались на танцы, а тут заупрямилась. Я-то ее насквозь вижу!
Семен Иванович опускал в котелок рыбу. Он еле сдерживался, чтобы не засмеяться от нахлынувшей вдруг легкости.
— Хотите ухи, Иван Алексеевич?
Чириков нахмурился, но тут же, будто опомнившись, распрямил складки на лбу.
— Пойду я! Ты это, Семен Иванович… Душа у меня что-то не на месте. Отца-то у нее нет, я уж как бы за него… Если что — не скрывай…
— Да что тут скрывать! — Семен Иванович зачерпнул ложкой юшки. — Долг, видите ли, принесла!
Лесник посмотрел на него облегченно, хотя немного и недоверчиво, и расслабленно опустился на прежнее место.
— Тьфу ты! Вот егоза…
Потом они ели уху, и Чириков, блаженно щурясь и смахивая рукавом с лица пот, уже не поминал о Нахалке, а расписывал прелести Кулаковского залива, куда решил свозить Семена Ивановича завтра же. А — Семен Иванович, вспомнив, все хотел спросить у него, каким же образом Самойлов сжег релку, но не решался, и думал, что спросит еще, будет более подходящее время.
А ночью — ранней ли, поздней, он не понял — пошел дождь. Хорошо натянутая палатка глухо зашумела, отбивая крупные, сильные капли. Семен Иванович лежал на спальном мешке лицом кверху, не шевелясь. Он старался вспомнить, что ему снилось, но не мог. Хотя знал — что-то необыкновенно хорошее, сладкое и нежное до слез.
Дождь шел все сильнее… Семен Иванович обратил наконец на него внимание, не удивился, не огорчился, только забрался в мешок, пригрелся и незаметно уснул снова.
— Эй!
Он открыл глаза и увидел, как переливаются разноцветными огоньками крупные капли воды — на палаточных шнурах, на примятой у входа траве, всюду.
— Ты спишь?!
Это был ее голос. Семен Иванович хотел услышать его снова, не отзывался.
— Эй! Ну хватит спать…
— А что случилось?..
Она помолчала.
— К тебе можно?
— Пожалуйста, я же не женщина…
Она помедлила немного и просунула в палатку голову.
— Конечно! Тут можно спать. А я думала, что ты мокрый совсем…
— Ты посмотри-ка! Она обо мне думала.
— Представь себе… Я сначала ночью пошла, но упала. Вся вывозилась…
Семен Иванович сел.
— Пришлось стирать. Я сегодня не спала…
— Ну, знаешь ли… — Семен Иванович не знал, что ему сказать, что сделать. Глупая девчушка с очень милым, усталым женским лицом сидела перед ним потупив взгляд.
— Да ты не воображай, что я в тебя влюбилась… Этого еще мне не хватало… Просто — интересно… Не спать всю ночь. Ты не пробовал?
— Случалось. Когда много работал.
— Хорошо, правда?! Так странно все…
— Мало хорошего! Постареешь быстро.
— Ну и что!..
Она сидела на полу, выставив ноги наружу. Семен Иванович увидел, что кеды ее промокли насквозь.
— Ну-ка, раздевайся, залазь в мешок!
— Зачем?.. — Она вздрогнула и чуть отодвинулась. Он чертыхнулся про себя: ляпнул, не подумав.
— Ты же мокрая вся! — услышал он свой чуточку неестественный голос. — Согрейся и поспи. А я высушу твою одежду.
Семен Иванович вышел на берег, разделся и, разбежавшись, бросился головой в воду. Вода была теплая, густая. Он долго плавал и нырял. Пытался даже поискать на дне рыбу, но рыбы не было.
Потом он подошел к палатке, взял ее брюки и кеды, направился к кострищу. Костер долго не разгорался, но Семен Иванович терпеливо чиркал спичку за спичкой.
Он сушил одежду, испытывая к ней забавную нежность. Несколько раз ему казалось, что в палатке спит его собственная дочь, которой у него никогда не было, и он любит ее больше всех на свете.
Ему захотелось есть, но рюкзак был в палатке. Кеды просохли быстро, от них уже почти не шел пар, подошва была горячая и гладкая.
И все же он не выдержал и осторожно подошел к теремку. Нахалка лежала в мешке, высвободив из него оголенные руки. Он помедлил немного и осторожно прополз через всю палатку. Он вытаскивал рюкзак так, будто обкрадывал человека. Раза два взглянул на Нахалку, усилием воли заставляя себя не задерживать взгляда. Он выпятился из палатки и облегченно вздохнул. Потом поднял рюкзак, повернулся и наткнулся на леденисто-ненавистнические глаза Чирикова.
— Здравствуйте, Иван Алексеевич… — растерянно, почти шепотом поздоровался он. Чириков не шелохнулся. Возле его ног в напряженной позе застыл Макс.
Жуткая догадка пронизала Семена Ивановича. Он почувствовал, что неудержимо краснеет.
Чириков не шевелясь, душно сглотнул. Семен Иванович заставил себя посмотреть в его застывшие от горя и бешенства глаза и пошел к костру. Он знал, что Чириков еще стоит у него за спиной, но не оборачивался. Пока не услышал затихающие шаги.
Семен Иванович вскипятил и очень крепко заварил чай. Он долго пил эту обжигающую жидкость, словно пытался что-то залить в себе. И еще полдня он провел как во сне. А когда выспалась и ушла домой Нахалка, стал не спеша собирать свои вещи.
Он благополучно и как-то незаметно добрался до дома. Не стал ничего объяснять жене, подумавшей, наверное, что ему там просто не понравилось. Не звонил Самойлову, не было на это сил. Сидел дома. А погода стояла отменная. Такая же погода, как там:..
Через неделю прибежал удивленный Самойлов.
— А я и не знал, что ты дома! — негодовал он, потрясая письмом. — На! Я вечером забегу.
Семен Иванович не решался вскрыть конверт, на котором неровным, грубым почерком было выведено: «Передать Семену Ивановичу». Потом вскрыл, прочитал и опустился в кресло. За окном проносились такси, тянула пронзительный гудок электричка. Он ничего не слышал.
«Прости дурака старого. Места себе не нахожу. Жизнь не в радость, Семен Иванович. Приезжай немедля. Деньги я тебе выслал. На Самойлова. А то брошу все, приеду сам. Все тебя ждем…»
Потом он долго разбирал то, — что было тщательно замазано автором письма, лесником Чириковым. Кое-как понял. «А релка наша опять сгорела. От твоего костра, видать, пошла».
Дети галактики
Демкин шел в кирзовых сапогах: берег ноги от ревматизма. Болотники, без которых не обойтись на озере, пристроил под клапаном рюкзака. Перед речушкой переобулся, перебрел по мелководью.
Он уже видел зеленую осоковую окоемку и солнечную, блескучую рябь внутри ее. Ноги сами по себе заработали слаженней, напористей.
— Мы — дети галактики! — дурашливо раскачиваясь в стороны, заорал возбужденный Демкин так не подходящую для его работы и жизни высокую песню. — Но! — Самое глав… ное… — чуть не споткнувшись, растерянно договорил он глухим голосом. На его любимом месте, на лысом бугорочке, закрытом с трех сторон густым лозняком, дымновато горел костер.
— Дачники чертовы! — с натуральной болью в голосе прошипел Демкин. — Добрались, паскуды…
Всех горожан Демкин называл дачниками, ненавидя в этих людях их стремление «ухватиться одной рукой за два места» — иметь благоустроенную квартирку да еще кусочек земельки захватить. Сам Демкин родился и вырос в селе, работал скотником и имел в жизни, как он сам считал, одну только светлую отдушину — рыбалку. Книг и газет не, читал — «сонливые!» Телевизор включал, когда ожидалось кино про войну или шпионов. И скрипел зубами, если начинали «крутить» футбол.
В футбол Демкин играл один раз — еще пацаном, защищал честь родного совхоза. Загнали его, необученного, в ворота: стой и мяч лови! А его смотря еще как пустят, мяч этот. Раза два отшиб животом, а потом очнулся на травке — в лобяшник угодили. Слава богу — мозги не отшибли, но слабенькую тягу к этой игре — враз.
На озере, куда пришел Демкин, хороших мест полно. Но ему не хотелось в другие места, настроился на свое. До того распсиховался — хоть домой поворачивай! Может быть, и повернул бы. Но в это время из-за дымка и лозняка появился высокий человек и заспешил к Демкину.
— Здорово, мужик! — прокричал дачник еще издалека и заулыбался, будто красную девицу обнаружил.
— Здорово, барин, — подождав весельчака, ответил Демкин. И еще сильнее насупился. В городе небось все друг другу — «здрасьте», а здесь можно и «здорово»! Да еще — «мужик».
— Чего — сердитый такой?! — не унимался улыбчивый незнакомец, настораживая Демкина ехидным прищуром поблескивающих голубых глаз.
— А что мне перед тобой, скакать! — полуотвернулся Демкин. Он не хотел грубить, но уже малость завелся. — Ищи себе другое место, нечего на готовое…
— …Так ты из-за этого? Сразу бы и сказал. Передвинусь… Закурить не дашь? А то свои в воду уронил…
Демкин несколько смущенно полез в наружный карман куртки, протянул пачку. Занесло меня, огорченно думал он, облаял человека. Другой бы на месте этого дачника отшил, и все, а он и артачиться не стал. Воспитанный…
— Поймал чо? — с запоздалым миролюбием поинтересовался Демкин, пряча свой «Север».
— Ага! — закивал тот головой, прикуривая. — Трех бычков.
— Каких это бычков?! Ратанов, что ль?
— Да шут его знает! Бычки вроде… Больше сюда никто не придет?
— В смысле?.. — малость затревожился Демкин: вежливый-то вежливый, а двинет в лоб!
— В смысле — начнут гонять с места на место. Я ваших законов не знаю.
— Приезжий, что ль? — успокоился Демкин и пошел рядышком с ним к костру.
— Из Хабаровска.
— Ну! Что, специально перся?
— Нет, в командировке. Я сейчас вон к той черемухе переберусь, идет?
Демкин уже полностью обуздал себя. Это было не очень трудно при его мягком, отходчивом характере.
— Ладно, оставайся! Ратаны, конечно. Какие еще бычки! Что карась-то, не берет?
— А есть? — оживился незнакомец.
— Хм! Чертова туча! Ты подальше от берега забрасывай, а то ратан перехватывает. Вон, видишь колышек? Я там лысину на дне вычесал. Туда и бросай, прикормлено.
Демкин прошагал дальше, к черемухе, а дачник устремился к понуро торчащему из осоки спиннингу.
— Бычки! — усмехался, состыковывая удилище, Демкин. — А с виду умный.
К заходу солнца Демкин выволок четырех приличных карасей, десяток чебаков, пару из которых тут же раздавил сапогом — успели обзавестись заразой, каким-то утробным раком, оставляющим отверстие под передним плавником, и небольшого угорька — змееголова по-научному. Для ухи — куда с добром всего этого! Он смотал на катушку лесу и сунул спиннинг в осоку. Случайный компаньон тут же последовал его примеру и весело устремился вслед за Демкиным — собирать сушняк.
— С ночевкой, значит? — поинтересовался Демкин.
— Ага! Давно мечтал, понимаешь, посидеть ночку у костра.
— Рыбалка без ночевки что свадьба без невесты, — согласился Демкин и почувствовал, что становится великодушным — дальше некуда. — Хошь — одним костром обойдемся?!
— М… можно и одним… — не очёнь-то обрадовался дачник.
Демкина это неприятно задело.
— Как знаешь! — Он недовольно отвернулся и потащил ветки к черемухе. Скоро на воду потянуло дымки двух костров.
Демкин сноровисто почистил картошку и рыбу, приготовил лучок, укропчик и все остальное, потом уж зачерпнул в котелок желтоватой воды. Краем глаза видел: дачник старался делать все точно так же. Только зелени для ухи у него не оказалось. Демкин немного поторжествовал по этому поводу, но потом почувствовал какую-то неловкость. Что ж это в самом деле! Вражда, что ль?
Он поделил зелень пополам и пошел к чужому костру.
— Держи, земеля! Уха без приправы не уха, а так… Демкин заметил двух распластанных карасей, желтого сомика. Похвалил:
— Нормально!
— Что-то крупное сорвалось! Чуть леску…
— Угорь! — деловито определил Демкин. — Он тебе с палец, а силищи что у коня. Ты к ночи спиннинг на живца поставь — обязательно угря зацепишь.
Демкин пошел к себе. Уху он сварганил быстро, умеючи. Достал из рюкзака ложку, хлеб, потом осторожно извлек главное.
Чего скрывать! Демкин давно уже заимел и тёмную отдушину. Жизнь без этой заразы была ему невмоготу. Песочили на собраниях, в рабочкоме. Толку! Демкин долго отмалчивался, потом, чувствуя в себе маленького злого беса, шел в ответную атаку: «На себя посмотрите! Стыдят еще… Я на свои пью, втихую. А вы! Чего закрутились, как вши на аркане?! Завели моду: чуть что — банкетик! Ах ты! Министры, мать вашу… Чего ж меня за свой круглый стол не садите, а?! Навозом воняю? Галстучка нет? Замолчали! То-то!»
Может, потому, что в словах Демкина была какая-то правда, может, и по другой причине, в конце концов оставили его в покое, стали делать вид, что не замечают его ненатуральной веселости на работе. Да и кто сменит никогда не ропчущего Демкина, привыкшего к тяжелому скользкому грузу и широкой совковой лопате!
«Как-то нехорошо… одному», — засомневался Демкин. Встал и снова пошел к чужому костру. Дачник пробовал поспевшую уху и жмурился, как огромный, длинный кот.
— Слышь, земеля! Нехорошо! — Демкин любил подъезжать сбоку.
— Что?.. — дачник застыл с ложкой в руке.
— Нехорошо, говорю, в таких делах откалываться. Давай понемногу! За знакомство.
— А! — дачник сунул ложку в рот. — Спасибо. Я этим не увлекаюсь!
Так он сказал это, таким сволочным тоном, что Демкин тут же, без единого слова, повернулся и пошагал, прочь.
«Ну не скотина ли! — прыгало в голове. А внутри все кипело. — Не увлекается! А я… Да ты, гад стометровый, посмотри сначала, как я живу. Потом вякай! Дом мой видел? Сад видел?! Обстановку? Я вон дочке каждый месяц шестьдесят рублей посылаю — учись! Не увлекается он! Дачник чертов…»
С такого расстройства Демкин хлебнул сразу вдвое больше, чем привык. Тут же томившееся по пище тело наполнилось теплотой и негой. Думаться стало острей и ясней.
«Навалился! Гляди, с котелком не сшамай. Компания ему не подходит. А то — не увлекаюсь! По роже видно. Тоже небось на банкетиках выпендривается!
Так я тебе устрою банкет! Обжирают государство, крысы! По природе, вишь ли, тоскует. Тоскуешь — дуй в деревню. Я тебе лопату организую! Еще больше, чем у меня».
Вообще-то Демкин мирный и добрый, ни в каких драках не участвовал. Ему всегда как-то легко удавалось выкручиваться из любых ситуаций без телесных повреждений. Но когда смотрел по телевизору кино, преображался. Сильное впечатление производили на него действия чьих-то уверенных кулаков. «Ты чо?! — испуганно удивлялась жена Лидия, когда он вскакивал с дивана и, в азарте, воспроизводил только что увиденные резкие, впечатляющие движения. — Телевизор сшибешь!..»
— В скулу надо, в скулу! — разгоряченно советовал Демкин смелому разведчику прямо в экран. Об этом безотказно действующем приеме он тоже знал из кино.
Солнце ушло. Обрадованно заурчали вокруг ночные лягушки. Демкину все еще было обидно и оттого — одиноко. Он любил поговорить под это дело. Не о чем-нибудь там шурымурном или об артистах, а о простом, мужицком, наседающем на тебя ежедневно — с утра до ночи. «Не увлекаюсь! — с ехидной злостью передразнил Демкин про себя дачника. — Да чем ты вообще увлекаешься! Юбками?! Или чулками с рублями? Да ты корову-то только по программе «Время» видел!»
Дать бы этому дачнику в скулу и успокоиться! А что! Не будет оскорблять.
Немного посомневавшись по поводу этой внезапной мысли, Демкин поднялся. Отдаленно он чувствовал, что неотработанный прием может подвести, но в душе его стремительно росло мужество.
Противник Демкина уже управился с ужином и теперь сидел, обхватив колени длинными руками.
— Мечтаем! — чуть зловеще произнес маленький Демкин.
— Есть немножко!.. — противник разомкнул пальцы. — Садись… — погладил рукой кончик бревешка, на котором устроился сам.
Демкин стоял, покачиваясь и стараясь сразу определить линию своего поведения. Может, он и шебаршнулся бы, окажись дачник настроенным не так миролюбиво.
— Гляди, спутник летит! — по-детски задрав голову, сквозь сдавленное горло прохрипел дачник. Демкин машинально посмотрел в темное небо, но спутника не увидел. Какое там! Звезды бегали зигзагами. Демкин сел.
— Летают! — сказал, как бы намекая на то, что спутником его не удивишь.
— Что, — дачник заулыбался, — перебрал?
— А ты мне — не указ! — мгновенно вспомнил Демкин, зачем сюда явился. — Я таких… одной левой… В скулу! И-не надо… это… считать до десяти, — зачем-то добавил он.
— Драться любишь?! — ласково спросил дачник, положив на плечо Демкину руку. Демкин усмотрел в этом явную угрозу. Он нервно сбросил ненавистную руку и приподнялся.
— Ты что это в за… лезешь?! — странными, неприятными даже самому себе словами окатил он отпрянувшего дачника. — Напрашиваешься?!
— Да это ты напрашиваешься! — обиделся дачник. — Чего хвост задрал? Выпить с тобой не захотел?
— Вот, вот! — голос Демкина окреп. — Морду воротишь! Навозом воняю! Пардон. По-немецки. Тебе бы щас на банкетик! Салфеточку!
— Да брось, земляк! Ну не пью я, не пью! Зарок себе дал. Можешь ты это понять?
— Зарок? — удивился Демкин. Он постоял молча, осмотрел дачника с ног до головы и снова присел на бревнышко. — Что за зарок?
— Да ты сейчас не поймешь…
— Э! — неприятным голосом произнес Демкин. — Гусь свинье не подруга! Да?
— Да не ершись ты! Я ведь стараюсь по-хорошему. Не порть вечер.
— А что, значит, можешь и по-плохому?! — сильно хмуря редкие брови, грозно уставился на дачника Демкин.
— Чудак! Я же боксом занимался…
Демкин не менял своего взгляда. Правда, проскочила короткая мыслишка, что, может, это и правда — занимался он боксом.
— А я не боксами! Я просто… В скулу. И не надо…
— Ну ладно, земляк! Надоел… — Дачник быстро встал и сделал крупный шаг к Демкину.
— Стой! — закричал, опомнившись, Демкин. Незнакомец показался ему сейчас таким огромным, что от страха заколотилось и съежилось сердце.
Дачник посмотрел на него, вздохнул и сел на прежнее место.
— Иди… Отдыхай, земляк.
— А? Ага… Сейчас, — конфузливо согласился Демкин, даже в этом состоянии чувствуя горечь неожиданного позора. Но он и понимал одновременно, что избежал еще большего позора. Это немного утешало его. — Ты… Не подумай, что…
— Да ладно, — вяло прервал дачник. — С кем не бывает. Давай познакомимся, что ли! Сергей, — протянул Демкину руку. Демкин поник головой, но руку пожал.
— Алексей Петрович… Алексей… Или… Петрович.
— Давай-ка я тебе, Петрович, чайку крепкого! Примешь?
— Приму! — Демкин почувствовал зверскую жажду.
— Вот! На здоровье. Человеком себя…
— Подначиваешь! — догадался Демкин.
— Обидчивый ты, Петрович! Говорю, значит, знаю… Увлекался я этой заразой.
— Ну! — усомнился Демкин, задержав кружку у рта. — И бросил?!
— Я же говорил тебе, Петрович, — зарок дал.
— Молодец! — восхитился Демкин. Он стал жадно пить чай, задумчиво покачивая головой. Время от времени он сверял свое состояние по звездам. Они уже не чертили небо, а чуть-чуть мельтешили. — А… что за зарок? Скажи, а?!
Сергей начал рыться в лохматой пачке, отыскивая годную сигарету. Демкин встрепенулся, кое-как отыскал на своей груди карман и протянул папиросы.
— Выбрось свои-то! У меня еще есть.
— Вот такой зарок… Я ведь из-за этого семью потерял. Что — как?! Просто… Уехала от меня семья. Не приняла больше…
— Так один и…
— Нет. Долго куковал. Долго! Но — дал зарок. Не пить! Теперь все нормально. Опять детишки…
— Да… — притихнувшим голосом изумился Демкин. — Дела!
Он вдруг представил, как сам явился домой, а там пусто. Как же это так?! Ложишься спать — один… Просыпаешься… Нет, такое не укладывалось у него в голове. Бедный Серега!.. Считай, двадцать лет неразлучны с Лидией. Дом построили собственный, ушли из казенного. Хозяйством обзавелись… А дочь! Как же это так…
До того плохо, тревожно стало Демкину, что слезы на глаза навернулись. Будто не с Сергеем, а с ним, Демкиным, приключилась уже такая беда. «Но нет! Еще ведь не приключилась, слава богу! — осознал он, выползая из-под пелены опьянения. — А ведь могло! Сколь раз… Лидия… Терпит еще!»
— Гляди, Петрович, опять летит!
Демкин нехотя задрал голову и увидел спутник — яркую бегущую звездочку.
— Да… Летают…
— Тебе что, неинтересно?!
— Да почему… Так с тех пор… ты и в рот не брал?
— Сказал же — нет!
— И в праздники?..
— Уходит… Может, это и не спутник. Чудак ты, Петрович! Мало в ней радости. Я это понял.
— А в чем ее много!.. — понурился Демкин, вспомнив почему-то коровник с быстро гниющими полами.
— В чем?! Да ты разуй глаза, Петрович! Жизнь-то началась! Смотри, к чему идет! Люди на Луне побывали, в космосе живут постоянно. На земле за порядок принялись.
— Вон еще ползет! — кивнул вверх Демкин. — Чо радоваться-то! Шариков напускали… Лучше бы лопату придумали, чтобы сама навоз кидала.
Сергей громко захохотал и принялся ворошить костер.
— А что, честно, не хотел бы туда слетать?
Демкин подумал, прислушиваясь к самому себе.
— Нет! — сказал твердо. — В пустоте мотаться…
— В пустоте… Подожди! Вот достигнем скорости света — далеко полетим! Такое увидим!
— Какая же у света скорость! — хмыкнул Демкин.
— Ого!
— Хватит заливать! Свет.;, он — раз — и везде.
— Вот такая и скорость! Раз — и черт знает где.
— А для чего? — не очень-то еще веря, спросил Демкин. — За кем гоняться? — Он поднялся и уже почти уверенными руками налил себе свежего чаю. Он не знал — интересно ему или нет. Пустые это все разговоры.
— Людей разыскать на других планетах, связи заиметь. Что. не хочешь посмотреть на человека из другой галактики?!
— Что? А!.. Можно… и посмотреть…
— А не боишься?!
— Что, злые? — поинтересовался Демкин, обжигаясь чаем. Сергей засмеялся и отошел от костра. — Злые, что ль? — громче повторил Демкин в напрягшуюся спину собеседника.
— Да нет! Я не о том… — Сергей помолчал немного и вернулся на свое место. — Вот появятся вдруг и сразу тебя определят.
— Куда? — встревожился Демкин. Ему показалось, что Сергей что-то знает наверняка.
Сергей схватился за живот и скорчился.
— К… куда! — сипел он, не в силах вдохнуть. — Ку… да! Я… говорю… насквозь тебя… увидят!
Он отдышался, покрутил головой, будто говоря: «Ну и ну!»
— Мысли твои, как живешь…
— А! — успокоился Демкин и тоже заулыбался. — Так я в это время могу в мыслях такого туману напустить! Чего ржешь?.. Что-нибудь про это… Социализм! Вот… А то спьяну сразу не соображу.
— Да ничего ты не напустишь! Поймут, что ваньку валяешь. Вздохнут и улетят.
— Куда?
— Других искать. С которыми хоть поговорить можно!
Демкин обиделся, но промолчал. Допил чай, поставил кружку.
— С настоящими мужиками я найду о чем поговорить! А если такие же… А если эти… длинноволосики, на кой хрен они мне сдались! Я б их всех, тунеядцев, пустыми бутылками перебил.
Сергей перестал улыбаться, смотрел на Демкина серьезно и с интересом.
— Да ладно! — махнул рукой Демкин. — Не прилетят.
— Это почему же?!
— А нету их! Нету! Были бы — давно бы прилетели. Раз такие умные…
— Некоторые ученые утверждают, что прилетали…
— Ученые! А они их видели?! За ручку здоровались?
— Тебе скажут, что и за руку здоровались, — ты не поверишь.
— Смотря кто скажет! — Демкин заходил у костра, немного горделиво попинывая в огонь отскочившие головешки.
— А я вот тебе один случай расскажу. Я в одном журнале прочитал. Тоже многие не верят. А я верю!
— Будто — прилетали?! — догадался Демкин.
— Да… Ты слушай!
Сергей зачем-то посмотрел на небо, поежился.
— Случилось это… Да уже больше десяти лет назад! Не у нас. В Южной Америке.
— Вон где! — вздохнул Демкин. Он не знал — что за народ южные американцы. Верить им или нет.
— Ага! Ты слушай… Шел один мужик ночью с работы. С ночной, значит. Идет…
Демкину стало немного не по себе. Ночные приключения самые таинственные и опасные.
— Глядь! Что-то непонятное на дороге стоит. Башня — не башня, самолет — не самолет! Стоит. А ведь еще днем, когда он на работу шел, ничего не было.
— Прилетели… — взволнованно подсказал далекому нерусскому мужику Демкин.
— Вот… Подходит. А вокруг этой непонятной штуки какие-то странные люди крутятся. В блестящих костюмах, шлемах. Ну, мужик не очень испугался: может, думает, военные летчики, вынужденная посадка. Да… — Сергей задумался, невидяще вглядываясь в костер, на свет которого из темноты, как из огромного космоса, летели разные крылатые существа.
Демкин не торопил его. Только, пребывая в состоянии внутреннего раздвоения, тихонько кашлянул.
— Вот… — Сергей отозвался сразу же. «Привет!»— говорит он им на всякий случай. «Привет», — отвечает и продолжают себе возиться. «Что, ребята, случилось?» — «Поломались немного, сейчас полетим!»
— По-русски? — не выдержал Демкин. — То есть… Это… По-какому?
— На том же языке, что мужик говорил! «Полетим сейчас!» — «А куда?» — интересуется тот. Показывают ему карту. Странную карту, понимаешь?! Черную всю, с синими и красными пятачками. «Вот в эту туманность, на эту планету. Домой!» Мужик, ясное дело, это за шутку принял. «Прокатите меня», — говорит. «Что ж, — отвечают, складывая в сумку инструменты, — можно и прокатить! Куда тебе хочется?» — «Да хоть бы на Луну!» — «Садись!»
— Сел?! — напрягся Демкин, переживая за смелого мужика.
— Сел!
— Ну?!
— Ты знаешь, Петрович, сколько наши до Луны летят?
Демкин пожал плечами:
— Трое суток! А он уже утром был дома… Является, значит, домой, а жена… Сам знаешь — истерика. Где шлялся, мол!
— Вот дура! — истинно огорчился Демкин. — Баба…
— Он ей — на Луну летал! Она — туда, сюда. А он — летал! И все тут. Короче, дошло дело до врачей. Стали мужика проверять: не чокнулся ли? Диагноз — все в порядке. А он им фотографии сует: вот, мол, они меня на Луне фотографировали. Цветные фотографии, Петрович! Стоит на них мужик у кратеров всяких — в скафандре, улыбается.
— Во смелый! — восхитился Демкин и поежился.
— Попали эти фотографии к ученым. Те посмотрели… Нет на Луне таких кратеров!
— Значит, надули мужика… — огорчился Демкин.
— Нет! Ты слушай! Проходит время, ученые получают снимки обратной стороны Луны. И тут вспомнили про мужика. Давай, мол, сравним! Луна-то, Петрович, к нам всегда одним боком повернута…
— Сравнили?!
— Есть такие кратеры! В точку!
Сергей замолчал и посмотрел на луну. Демкин тоже посмотрел, полнясь каким-то жутковатым ощущением.
— А больше не прилетали? — спросил, не сводя глаз со светлого диска.
— Кажется, еще раз видели…
Мысли Демкина непривычно засияли и малость загудели от тугого напряжения. Сколько раз сидел он вот так у костра… Один! И в голову ничего подобного не приходило. А если бы нагрянули?! В том, что они вполне могут нагрянуть, Демкин уже не сомневался. Сердце подсказывало: правда все это.
От озера пахнуло прохладой, будто мощное крыло махнуло. Демкин вздрогнул. Сергей поднялся и пристроил к огню остывший котелок с чаем.
— Слышь, Серега… А ты не боишься?!
— Чего? — Сергей зевнул и потянулся.
— А вот свалятся на голову и повяжут…
— Пользы им от нас!
— Так-то оно так! — Демкин тревожился все сильней. — А в душу им не заглянешь. Может, языка нашего не понимают…
— Знают… Они все знают.
— И писать по-всякому умеют?!
— Наверно, умеют…
— Гляди ты! Я вот шесть классов кончил, а писать слаб. — Демкин неожиданно для себя разоткровенничался, что случалось с ним не часто. — Это ж какую голову надо иметь! Ленин вон, и то, наверно, не на всех языках мог! На каких он мог, Серега?
— Разве упомнишь?
— Ну! Уж он-то с ними бы поговорил! По делу! Что ж они тогда не прилетали? А может, и прилетали, — огорченно вздохнул Демкин. — Только не разобрались толком, к кому обращаться.
— Может, поспим? Устал я что-то…
— Щас, погоди! А вот… если они меня с собой захватят? А потом возвратят! Ну, как космонавта…
— Ну и что?
— Что… Героя дадут? — Демкин даже привстал от этой неожиданной, поразившей его самого, мысли. — Нет, правда! Ведь космонавт, как ни слетал — на Героя!
— Космонавты не на прогулку летают. Они вкалывают — дай боже! А вообще… Смотря что оттуда привезешь.
— Золото, что ли? — допытливо интересовался Демкин.
— Да не золото! Сведения какие, научные…
— А… — Демкин немного скис.
Сергей скучно засмеялся… Демкин неохотно поднялся. В голове у него возникло много всяких вопросов. Он шел к своему кострищу, то и дело поглядывая на звездное небо.
Нет, не мог Демкин спать! Все знать — и уснуть! А вдруг летят? Увидят костерок — и завернут! Демкин набросал в оживший огонь много сухих сучьев. Душа его окрепчала. Возможная встреча с чужими, неведомыми людьми не казалась уже опасной. Будто когда встречался с ними, завел отношения, а теперь вот ждет нового свидания.
Очнулся Демкин при солнце. Голова была тяжелая, но сердце по этому поводу не беспокоилось: не забыл Демкин ничего ночного, принял очень близко к себе. Он вскочил и заспешил к Сергею, удивляясь, что тот не под этим делом, а спит как сурок.
Но Сергей не спал. Его не было.
Демкин растерянно покрутил головой. Не мог поверить в свое неожиданное одиночество. «Может, обиделся?»— пытался вспомнить свое поведение. Нет! Потолковали хорошо, по-мужски. Разошлись мирно.
Демкин пристально рассматривал пристанище исчезнувшего соседа, волнующе ощущая, как зарождается в мозгу и формируется жуткая мысль. «Прилетали!» — понял ясно. Забрали Серегу!
Он по-мальчишески резво обежал вокруг, выглядывая следы посадки. Но травы были нетронуты. Только в одном месте протянулась узкая безросная полоса. И Демкин понял, что это прошел к трассе хабаровчанин Сергей. Он затосковал. Сильно, необычно. Вернулся к себе, но рыбачить не хотелось. Посидел немного, собрался и понуро поплелся домой.
…Что-то случилось с Демкиным.
Вечерами, ближе к ночи, Демкин выходил во двор и долго сидел на изрубленном пенечке. Он чувствовал в такие минуты тоску и волнение. Лидия выходила, уговаривала его ложиться спать. Демкин мало слышал ее. Он думал, что живешь вот так, на отшибе, и ничего не знаешь. Вдруг — снова прилетали?! В газетах-то (Демкин пристрастился к газетам) все про уборку и сенокос. Редко что интересное, космическое. Да разве все народу как есть скажут?! За тупых принимают или еще что. Мол, не дай бог пойдем мы, недоучки, на контакт — опозорим! «Да, может, я, — возмущался тихо Демкин, — получше вас встречу проведу! Чего нам из себя строить! Какие есть…»
Демкин и в библиотеку записался, но толку из этого для себя не извлек. Про космос нашел только стихи, да и то — непонятные какие-то, будто по пьянке их писали.
Было замечено, что и поведение Демкина коренным образом изменилось. Опрятный стал какой-то, деликатный. Выкорчевал из личного словаря привычные для скотного двора матерные слова. Даже управляющий отделением, мужчина сочный и крикливый, стал не то что робеть, но явно сдерживаться в общении с ним.
Ближе к осени Демкина, впервые за много лет работы, премировали. Отличился на ремонте коровника. Премию — конверт, на котором простым карандашом было обозначено: «Демкин А. П. 15 руб.», — вручили ему в пятницу, при всем честном народе. Жена, Лидия, хотя уже и знала, что мужу будут вручать премию, чуть не сгорела от счастья. Демкин спустился со сцены, сел рядом и сунул ей конверт. Он знал, что теперь эти конверты посыпятся на него, как густые осенние листья. Но не радовался почему-то. Он жил тем, что и в голову не могло прийти односельчанам, погрязшим в суете и мелких заботах.
После торжественной части на сцену заступил лектор из города. Культурный, хорошо одетый немолодой человек с выпуклым брюшком. Он также поздравил передовиков производства, подчеркнул их важную роль в развитии экономики страны и перешел к международной политике. Демкин слушал его с большим вниманием, досадуя на тех, кто шумновато пробирался к выходу. Ему сразу показалось, что лектор этот — не из простых. Что ему доступно кое-что и поважнее международной политики. Как подступиться к нему?
Лидия тайком позевывала, но сидела чинно, с простодушным, доверчивым лицом. И лектор, возбужденно поясняя только что сказанное различными примерами, взглядом своих темных выпуклых глаз обращался как бы к ней одной.
— Ты что, Леш!.. — озаботилась Лидия.
— Ты иди, иди! — Демкин немного нервничал. — Мне надо… с лектором немного потолковать.
Случись такое раньше, Лидия вытряхнула бы из мужа такую дурость, но теперь, осчастливленная переменой в своей жизни, только кивнула слегка — полувопросительно-полупонимающе.
Демкин перехватил лектора на сцене. Тот деловито Приводил в порядок кипу бумаг.
— Слушаю вас! — затылком, что ли, обнаружил он притихшего за спиной Демкина. Демкин осторожно выступил вперед и еле слышно поздоровался.
— Да-да… Я вас слушаю.
— Я насчет… Как это… Ну эти! — Демкин ткнул ручкой в потолок и чуть подержал вверху руку — пока лектор не обратил на него растерянный взгляд. — Не прилетали больше?
— Кого вы имеете в виду?..
Демкин покраснел. Нескладно начал, невразумительно.
— Я это… — мысли Демкина наскакивали одна на другую. — В одном журнале прочитал, как они прилетали. Эти! Из космоса. Мужика еще на Луну свозили. Не прилетали больше? — криво улыбнулся Демкин, глядя, как невозмутимо завязывает солидный лектор свою папочку.
— Честно? — вдруг громко спросил лектор, выпрямившись всем телом и тяжело положив руку на папку.
— Ну… — Демкин, притаившись сердцем, притянуто смотрел в уверенные выпуклые глаза.
— Чушь!
Демкин будто приковался к сцене, глядя, как уходит от него этот солидный, с начальственной походкой, человек.
Демкин шел домой понурившись. Он страдал, переживая вновь и вновь короткую беседу с лектором. Ему казалось, что он проделал огромную, очень сложную какую-то работу, а ее не приняли, опозорили. В душе стало пусто, загуляли холодные сквозняки. «Выпить, что ли?!» — подумал Демкин и тут же почувствовал, что обязательно сегодня напьется. Потребовалось организму. Он непроизвольно прибавил шагу.
Лидия ждала его у калитки.
— Поговорили, Леш? — в голосе ее — интерес и уважительное доверие, смешанное с потаенной, смущенной горделивостью.
— Поговорили… — Демкин впервые в жизни стеснялся попросить у жены денег.
— Вечер-то… — Лидия будто тоже стеснялась чего-то. — Звезды как высыпали…
Демкин поднял голову. В чистом, еще светлом небе искрились близкие живые существа.
Лидия присела на пенек, зябко поджала под живот руки с конвертом.
— Знаешь, Леш… Я еще девчонкой была… Ты не смейся, ладно? На сенокосе ночевали. Вот так смотрела, смотрела… Потом как туман какой нашел! Не веришь?! И что-то вроде спускается, спускается… Черное, большое. Хочу закричать, а не могу. Страхом перехватило.
Демкин быстро повернулся к жене.
— Правда?! — спросил сильным шепотом.
— Ну…
— А потом?! — Демкин посунулся вперед.
— Низко-низко… Над поляной проплыло, будто выглядывало что. И — опять вверх. Прояснело… Гляжу — звездочка по небу. Чирк! Красная. И яркая-яркая!
— Прилетали!.. — прошершавил Демкин пересохшим языком. У него, чего раньше просто так не случалось, внезапно закружилась голова. Постоял, приходя в себя. И вдруг крутнулся волчком, подскочил к жене, стиснул, затормошил ненормально возбужденно.
— А он — чушь!.. Гад лупоглазый… Я Сереге сразу поверил! Сердце-то чует… Скрыть захотели! А, Лидусь!? От нас-то… Не скро-оешь! Ну не-ет! Доищемся!
Жена застенчиво смеялась, не понимая ничего, но и не стремясь высвободиться из его объятий.




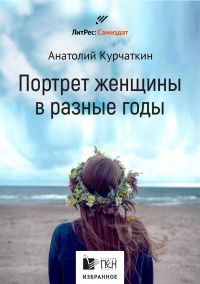
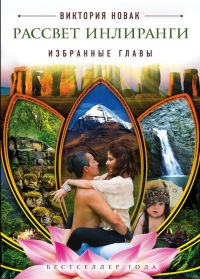
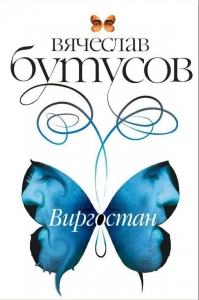




Комментарии к книге «Чистые струи», Виктор Михайлович Пожидаев
Всего 0 комментариев