Давид Ланди Биоген[1]
© Ланди Д., текст, 2016
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016
***
Я ненавижу книги.
Каждое утро я встаю, пью кофе, смотрю в окно и ненавижу книги. Одиннадцать лет. Каждый день и даже во сне я ненавижу книги и ищу истории, которые могли бы ни много ни мало… изменить мир. Мой мир, ваш мир, наш мир. Превращаю истории в кирпичики из бумаги и картона, кирпичики побольше и кирпичики поменьше, потолще и потоньше, черные и белые (только не горелые)…
Толстой. Достоевский. Гоголь. Ну, Булгаков. Ну, Чехов. Висят над школьной доской, пылятся. Их профили выбиты на медальках, напечатаны на конфетных фантиках, отлиты в бронзе, высечены в мраморе. А есть другие. Без фантиков, мрамора и даже без школьной доски. Неизвестные, не знакомые ни мне, ни вам (порой до самого выхода тиража из печати), но похожие друг на друга в одном: у них за душой есть классные истории.
Эти истории могут стать для вас… ничем не стать. А могут – утешением, советом, помощью, путешествием куда-то, откуда вы вдруг все увидите в невероятно четком свете и тут же все поймете, как будто знали всегда. Написанные из радости и боли, но никогда – из равнодушия. Из любви и ненависти, но ни разу – из душевного холода.
Берите, читайте или просто пролистывайте. Мните, разглаживайте, загибайте и отбивайтесь от (подставьте каждый что-то свое). Забудьте сразу по прочтении или запомните навсегда.
А я… я найду еще;)
Ваша Юлия Качалкина
У меня дома всего пять книг. Большая, маленькая, синяя, коричневая и… Мураками! Я не очень помню, кто автор у четырех из пяти, а с Мураками я люблю пить вискарь и слушать джаз.
Главное, зачем мне нужны эти книги дома – затем, что я их люблю перечитывать. Вот эта – про любовь и прощение, вот эта – по приколу, а вон та – про то, что грустное на самом деле часто – очень смешно – помогает не драматизировать всякую житейскую фигню.
Для меня книга – это кино, которое я сам режиссирую в своем воображении. Ни больше ни меньше. Посмотрел, получил эмоции и дальше ищешь что бы такого «снять». Меня интересует только история. Хорошая и хорошо написанная. И, желательно, не про вселенскую тоску, какое бы имя ни стояло на обложке и какие бы литературные премии книга ни получила.
Вообще не понимаю, зачем литературу сделали знаменем снобизма. Я обычный нормальный читатель, и я хочу просто развлечься. Хоть с Чеховым, хоть с этой, в черной обложке.)
Лишь бы история была клевой, и автор не зануда)
Владимир Чичирин, обычный читатель.
У меня никогда не было книжных полок, но я всегда покупала книги и закапывала их по углам в квартире, заваливала столы, набивала ими пакеты и откладывала на время, пока не приобрету большие такие, высокие книжные полки. Когда они появились, книги легли на них все своей массой и… застыли во времени, в ожидании, когда я их возьму и перечитаю. А я не брала и не перечитывала, некоторые даже ни разу не открыла. И стою я теперь периодически, любуясь на полки, и не поднимается у меня рука, чтобы нарушить порядок. И я стала думать, почему так: вроде бы все как надо – есть коллекция, живущая в уютном месте, а интереса прочесть нет, что случилось? И поняла, что случилась жизнь: «постарели» эти книги, а я как бы «помолодела». И неохота мне читать ладно скроенные по шаблону произведения, открывать одни и те же угрюмые обложки НАДОЕЛО. Хочется легкости «книжного бытия», хочется по-настоящему талантливой литературы, умеющей простым и веселым языком сказать о любых вещах, даже мрачных.
Теперь у меня есть книжные полки, и, хотя я знаю, что когда-нибудь и это новое осядет тяжелым нечитаемым грузом, я готова произвести революцию: повыбрасывать сегодняшнее избитое старое и поселить там то, что действительно будет пусть временно, но «работать» на меня – с удовольствием читаться…
Ольга Байкалова, пока лояльная коллега
***
Посвящаю тебе – читатель мой, и тебе – капризное и смешное человечество
Мизанабим
[2]
Пасмурным ранним утром она выехала из промозглого гаражного общежития и, шлепая калошами резиновых колес, поплелась по огороженному полусонными пассажирами проспекту к конечной остановке. Распластавшиеся на асфальте лужи недовольно хрустели запекшейся коркой льдин и раздраженно осыпали ее немытое брюхо осколками промасленных брызг, застревая в протекторах покрышек. Дребезжа еще не разогревшимся глушителем и отрыгивая в утренний туман выхлопные газы, она вильнула в сторону от поравнявшегося с ней «форда», стыдясь несдержанности простуженного движка.
Укутав шею толстым мохеровым шарфом, он вышел из подъезда и даже не взглянул на возникший перед ним пейзаж. Порыв влажного, скрипучего на ветвях ветра попытался пронизать его стальную грудь и чуть не сбил с ног. Поскользнувшись около фонарного столба на припорошенной снегом ямке, он потрусил мелкими шажками к остановке, расположившейся с лицевой стороны заиндевелого дома. Через длинный двор, заросший старыми черными вязами, через проулок, зажатый с двух сторон рыхлыми лепнинами потрескавшихся от времени фасадов, он выбрался на замороженный ночью проспект и, подойдя к фиолетовому от холода перекрестку, повернулся навстречу плывущей массе металлолома.
Вспыхнувший киноварным маревом светофор озарил сыплющуюся с неба крупу и прервал движение многоколесного стада. Тяжелые тягловые джипосоидные буйволы замерли, переводя горячее дыхание, и стали осматривать призрачными ксеноновыми глазами юркающих через дорогу пешеходов.
Их взгляды встретились, и она дернулась, поперхнувшись низкооктановой бензиновой слюной, когда, выкинув вперед титановую руку, он определился с выбором.
Повинуясь требованию сутенера, тормозные колодки сжали выработанные до щербин диски, когда водитель вдавил педаль тормоза в заюзанный до дыр коврик.
Остановившись, маршрутка распахнула отъехавшую в сторону дверь.
Обволакиваемый теплом незнакомой плоти, он нырнул в образовавшуюся щель бескапотного фургона и стал пробираться сквозь глубину встречных взглядов на заднее сиденье салона.
Ощутив, как входит в нее его упругое стальное тело, она заскрипела рессорами амортизирующих пластин и, почувствовав прикосновение антенны, тронулась в путь.
Их тела закачались в размеренном однообразном движении вьющейся через ухабы дороги. Мимо замелькали пустыри, гаражи, свалки…
Наращивая темп, она поддала газу, погружая его в нежность дерматинового кресла, зажатого меж вытатуированных ржавчиной и прошрамированных дырками крыльев бедер.
«Новенький!» – поняла маршрутка, когда, очнувшись на конечной остановке «Промзона», он стыдливо выбрался из ее берлоги и, оглядывая сонными матовыми глазами незнакомую местность, выругался ржавым баритоном сгибальщика:
– Долбанный двадцатый век!
«Это наша раша – держава наша! Это страна наша – наша раша!» – прогрохотал активным сабвуфером багажник проносящегося мимо бумера.
– Где теперь Лила?[3] Где Фрай?[4] Где нормальное общество ненормальных друзей?
Горлышко бутылки нырнуло в железную пасть Бендера[5] и забулькало, проливаясь в желудок бензобака свежей энергией расцветающего утра.
– Долбанный двадцать первый век! – пролонгировал эмоции робот, бросая опустошенную тару в топорщащиеся вихры кустов…
– Бендер, просыпайся! Твоя мечта сбылась – мы прибыли на планету Алкоголиков![6] – услышал он знакомый голос Лилы и открыл глаза.
– Так это был сон? – удивился робот, обдавая водочными парами лицо циклопа.
– Это была маршрутка, а сон это мы! – засмеялась одноглазая красавица.
– Так значит, мы во сне, – буркнул Бендер, доставая из живота пиво.
– Нет! Во сне они! – указала на разбредающихся по промзоне человеческих самок и самцов Туранга.
«Тогда, что же все это значит?» – подумала маршрутка, подкатывая к месту их недавней встречи.
Допитая пивная бутылка треснула от горлышка к этикетке и разлетелась, раскроив дизайнерскую фантазию на три разнобедренных треугольника, когда она притормозила на светофоре, пугаясь грохота собственных цилиндров. Стадо замерло, ощупывая ксеноновыми призрачными глазами юркающих через дорогу пешеходов, и, чиркнув спичкой, Бендер прикурил жирную ромовую сигару, выпуская в пасмурное промозглое утро облако горячего кубинского дыма. Дым рассеялся вместе с кошмаром недавнего сновидения, и, взглянув в окно корабля, он увидел привычную картину холодного, бескрайнего космоса. Я дома… – улыбнулся робот и, не поворачивая железной головы, бросил через плечо, залезая в сейф своего тела:
– Фрай, пиво будешь?
Фрай оторвал затылок от спинки кресла и, пробежав взглядом по бесформенным, скомканным лицам пассажиров, уставился сонными осоловевшими глазами на незнакомую ему местность. Мимо замелькали пустыри, гаражи, свалки…
– Вечность существует пока ты жив! – вспомнил он последние слова Профессора[7], нащупывая кольцо предохранительной чеки на поясе смертника.
Заваливаясь набок, маршрутка прыснула кровавыми осколками стекол на сырой асфальт дороги и зашлась в чахоточном кашле выкорчеванных из нее туловищ, рук, ног…
– Долбаные… долбаные земляне!.. – прошептал сквозь зубы робот, увидев в иллюминаторе космического корабля вспышку на поверхности самой прекрасной планеты во Вселенной.
Лила вдавила педаль газа. Корабль дернулся, прижимая робота к спинке кресла. Мимо промелькнули Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, и, открыв глаза, я увидел солнечный луч, прожигающий тьму вечности, не имеющей ни начала, ни продолжения, ни конца…
Часть первая Детский садик
«Кто я? – чудовище сложнее и яростнее Тифона или же существо более кроткое и простое, и хоть скромное, но по своей природе причастное чему-то божественному?»
Платон. Диалоги Сократа«Хорошо, что все это придумал не автор», – подумал Давид, когда подошел к зеркалу и увидел в нем меня.
Инвектива первая
1
Первые воспоминания о жизни похожи на слайды пробуждений, когда я лежу в своей коляске и перед моими глазами плывет небо. Коляска качается, поскрипывает, а я хватаюсь руками за воздух, желая вылезти из нее и пойти пешком. Но, распластавшись фланелевой пеленкой до горизонта, небо накрывает меня собственной невесомостью и укутывает веки в светлую ткань сна. Сон колеблется, вздрагивает, то пропуская новичка в свое царство, то выталкивая его из себя в действительность. Действительность путается в ветвях деревьев, под которыми мама ведет коляску, и, выбравшись на свободу, вновь прищуривает веки бледно-голубыми красками простора. Дрейфующие по безбрежной глади облака перекатываются в сомнамбулическом сне с бока на бок, потягиваются, сдерживая зевоту, и замирают, позволяя энергии ветра вальсировать их податливые паруса вокруг планеты. Скучающий ветер блуждает, вьется по земле и, создавая эоловые отложения, меняет ее облик, то разрезая мимическими морщинами серповидных барханов, то сглаживая волнами дюн. Планета гримасничает, стареет и покрывается залысинами в тех местах, где когда-то были девственные леса.
Я слышу полет пчелы вокруг граната, рык тигров, парящих над льдиной материка[8]; шепот старца с филином и свечой[9]; смех Иоанна[10], теряющего голову под перебор киннора[11]; шелест туники соблазнительной Саломеи; дыхание Горгоны в ее руках[12]; безмолвие сфинкса, заглянувшего в глаза Медузы; звон бубенцов в рождественскую ночь; падение утренней звезды[13]…
Но вдруг, очнувшись из миража сна, я возвращаюсь назад и вижу белую грудь. Она тянется ко мне вишневым бутоном поцелуя. Я прикасаюсь к ней губами, и живительная влага утоляет мой голод. Причащая, Господь смеется над аппетитом новорожденного, а я, насыщаясь его прозорливостью, зачарованно смотрю в глаза Создателя и, ожидая чуда, залипаю паузой взгляда, не прекращая созерцать явь[14]. Бессознательный прилив дежавю связывает меня с прошлым, позволяя оставаться в покое настоящего и не тревожиться о будущем[15].
Но вот мама сворачивает с тротуара в арку, и надо мной незнакомая сфера.
Серая дуга свода сдавливает, пугает ребенка ограничениями и прячет от взгляда первенца небесную высь. Съеживая пространство, она нависает так близко, что кажется – еще мгновение, и купол расплющит нас в лепешку. Я открываю рот и начинаю кричать: «Неет! Неет!» Коляска ускоряется, раскачивается, и я вижу склонившееся лицо женщины. Оно улыбается, завершая таинство, и, откинувшись одеялом тепла назад, оголяет небо.
Арка закончилась, догадываюсь я и просыпаюсь, разбуженный голосом воспитательницы. Послеобеденный сон подошел к концу. Пора вставать и идти на прогулку. Коляски остались в прошлом. Я уже большой мальчик, в старшей группе детского сада. У меня уже есть свой взгляд на эту курицу, которая бегает и кудахчет, откладывая (где попало) яйца жизни. Они выпадают из ее чрева, разбиваются и растекаются желтками крови на тарелках во время ужина. Бац-бац – и еще несколько десятков нерожденных цыплят отправились на тот свет, минуя этот. Ужин подходит к концу. Группа детей сыта. Дети – наше будущее. Наше будущее находится в прошлом…
2
Я бегу! Мне удалось это сделать – перелезть через забор и вырваться! Вырваться из каземата разума, из логики рассудка, из бытия сознания, из плена грядущих войн, из норм общежития, из цитадели нравственности, из нигилизма абсолюта, из бастиона крепости заполненного жужжанием сонных фурий.
Жизнь обвела их вокруг пальца и бросила в яму разочарования, как и многих других – отягощенных муками совести, маммоной замыслов и доктриной порочного зачатия[16]. Порочного, как алчность секундной стрелки. Как похоть глаз, цепляющихся за прелести убегающего времени. Как Стена Плача, дающая каждому надежду или разочарование.
Огромная, каменная секретарша, никогда не видевшая своего босса. Труженица, готовая давать всем и всегда. Без разбора, без предварительных ласк – сначала надежду, а потом прочтение. Или наоборот? Нет. Все же сначала дает, а потом читает, читает, читает: «История, что я перелистал, читая ваше прошлое столетье»[17]. И никаких секретов тут как бы и нет. Все на виду у всех. Никто никого не стыдится. Секреты только дома, в семье, в голове или в книге Войнича[18]. Так – бред. Но ничего – кто-то все равно расшифрует.
Интересно, а как она читает эти рукописи? Где у нее глаза? Может, записки просматривают муравьи и ящерицы, снующие в ее щелях? Мда уж. И они туда же…
Бедная-бедная стена. Все снуют, суют, и все куда попало. Так сказать: все вместе, всем миром и во все щели. Пальцы, бумажки… гвозди забивают…[19]
Вы представляете: в ее щели – Врата Рая[20] – забивают гвозди? Тысячи утомленных пигмалионов приходят, фаршируют, благолепствуют и жаждут ее днем, а ночью возвращаются в постельку под бок к своей старухе. Или молодухе. Кому что досталось. Лотерея мозгов и визуализации…
Что за удовольствие? Это же как секс с he’s a cold fish[21]. Холодное исполнение обязанностей – и никакой страсти. Безропотная отдача каждому и всем сразу.
Но работа есть работа. Как говорил один поэт: «Работай, работай, работай: ты будешь с уродским горбом за долгой и честной работой, за долгим и честным трудом»[22]. Да уж, мало приятного. Особенно если этот горб грозит вылезти на твоем животе.
Как женщина уступает себя всему человеческому роду, чтобы возрождаться и умирать вместе с ним, так и она, созданная из частицы храма и превращенная в почтовый ящик для корреспонденции душ, отравляется мечтами желающих впитать иллюзию собственных надежд в камни ее посредничества, чтобы затем, блуждая в сумраке религиозных фанатиков, созерцать реинкарнацию средневекового сознания в мир современных технологий. В мир чаяний и упований, которым из поколения в поколение суждено ходить по кругу одних и тех же ошибок.
Люди настолько увлеклись идеей о своем бессмертии, что не заметили того, как на заре веков, на заре зарождающейся экосферы, Господь покинул эту планету. Открыл дверь и вышел, оставив полные удивления зрачки материков в голубых глазах океанов. Но никто не хочет терять веру. Все ждут возвращение Демиурга. Страх перед своим сиротством сильнее здравого смысла. Вцепившись в Шхину[23], наглецы пытаются удержать тепло Его рук, запах Его духа. Напрягают тройничные нервы, надеясь уловить аромат Его одеколона. Но все это – пузыри на воде. И они лопаются, как только вечность ускользает из наших тел.
Пора сказать своей пастве правду: Создатель смылся! Смотался! Улизнул! Отчалил! Сбежал, как нашкодивший юнец, у которого зачесался затылок и вылезли на лоб глаза, когда он увидел картину ночной вечеринки. Так бывает – просыпаешься субботним утром в чужом созвездии и, глядя из чужого сознания на последствия вчерашнего пира, думаешь: «Вот это я погулял…»
Обводишь взглядом окружающую тебя Галактику и восклицаешь:
– Вот это я накосорезил! Пора сматываться, пока никто не заметил моей рвоты. Пока в ней не завелись живые организмы. Пока Лиза Симпсон не поставила свой опыт[24]. Пока все мои косяки можно забить в один косяк. Пока этот косяк не преследуется по закону. Пока не изобрели никаких законов, кроме существующих во Вселенной. Пока они не положили на нее глаз. Пока они не положили на меня глаз. Пока я защищен ее бесконечностью. Пока она защищена моим бесплодием. Пока кислородный фотосинтез, не привел эту планету к оксигенации атмосферы[25]. Пока то, пока се, а главное – пока кембрийская курочка[26] не снесла роковые яйца![27]
В такие минуты пульсацию воспаленного мозга остановить очень трудно. Бегство – единственный способ успокоения. На триста лет в бутылку или в другие галактики – у кого какие возможности.
«…И создал джиннов из огненного пламени»[28], и рассадил их по бутылкам за распитие в неурочное время. И забросил в море, как старик невод. И вытащил золотую рыбку. И сожрал ее, потому что мог сам исполнять свои желания. Аминь!
Примерно то же самое произошло и с Творцом, когда, очнувшись после недавнего застолья, Он взглянул вокруг себя красными, невыспавшимися глазами и быстренько удалился, очень-очень надеясь, что никто не заметит следов Его пребывания на этой земле.
Переспал и-и-и… домой, к другу – вспомнить всё.
Но это всё было напрасно. Бактерии вцепились в нашу планету и стали плодиться и умирать, плодиться и умирать с такой скоростью, что никакие религии не успевали за их семяизвержением. Вот и приходится пользоваться тем, что есть, или тем, что осталось от того, что было до того, когда никого не было.
Мульт: Во имя хрена – господа нашего – аминь[29] второй раз! И да исполнит он репродуктивный успех, и не уподобится мулу[30].
И вот что мне сказал по этому поводу один раввин:
– Пока не случилось всего, что должно случиться. Пока случившееся не повернуло историю вспять – спешите услышать молчаливую свидетельницу нечеловеческого торжества и человеческого забвения. Свидетельницу роскоши и разрушения, Тлена и воскрешения.
Если прийти к Стене рано утром, за мгновение до восхода солнца, за мгновение до первого вздоха пробудившегося младенца, за мгновение до мгновения, проводящего черту между мраком и светом, между кистью и десницей, между десницей и мумией, между мумией и святыней[31], – и замереть, прислонившись спиной к ее прохладным камням, то в легком дуновении ветерка или в шорохе чего-то шубуршащегося, среди пожухлых, обескровленных листьев можно расслышать ее шепот, ее мольбу: «Один день! Один день без ваших трагедий. Без ваших пальцев. Бумажек. Душ. Взоров. Без вас… Только я и тишина вечности. И тишина вечности. И тишина…»
2
Так думал влюбленный раввин. А я, подхваченный ветром свободы, летел вперед, лелея каждой жилкой своего тела каждым отростком нейрона одну-единственную, неповторимую и утопическую мысль: «Я свободен! Я живу! Я – вечность!»
Никто не верил, что я смогу это совершить. Забор был так высок, что облака рвали на его пиках клочья тугих барханов. А боги теряли мантии, когда золотые колесницы, запряженные четырехликими тетраморфами[32], несли их в город Золотой[33], под перебор лютни Франческо Кановы[34].
Если бы забор был из сплошной материи, он бы заслонил меня от света и погрузил во мрак солнечного затмения. Но забор был из рабицы, и я вырвался на этот раз! Я сумел побороть страх, которого (если уж говорить начистоту) у меня еще не было в то далекое время. В ту безоблачную эпоху, имя которой – детство…
Все произошло так быстро, что я и сам не понял, как очутился по другую сторону ограды.
Вильнув за бомбоубежище во время прогулки, я одним махом вскарабкался на дерево. Перелез по темному шершавому стволу на ветку и, свесившись с нее, прыгнул вниз, чуть не свернув себе шею. Прыгнул прямо на большого красного муравья, тащившего в свою коммуналку извивающуюся гусеницу.
Прости меня, муравейчик. Прости, гусеничка. Покойтесь с миром. И вот вам мой детский панегирик: «Под забором поползешь – под сандалик попадешь. Не фиг шляться под забором, все закончится умором».
Раздавив букашек, я бросился прочь.
Подошвой кожаных темно-коричневых сандалий мои ноги еле касаются асфальта. Я слышу звуки пощечин о битумный панцирь земли: шлеп-чмоп, шлеп-чмоп. Звук чмоп происходит из-за того, что на правой сандалии начался процесс отторжения каблука, и он бьется то о землю, то о подошву, играя со смертью в ладушки-ладушки и желая только одного – скорейшего избавления от страданий бабушки.
Чвокающий звук эхом проникает сквозь древнюю материю в царство Плутона, оставляя навсегда в его глубинах отпечаток моего побега. Моего первого, удачного преступления, которое вечером я отмечу в кругу своей семьи – вместе с мамой и ремнем по попе.
Мульт: Методы воспитания, как и религия, – вечны!
Но в тот момент мне кажется – еще немного, и я взлечу. Взлечу так же легко, как буду парить по ночам всю оставшуюся жизнь: зависать над улицами, ощущая невесомость собственного бездыханного тела; глотать горячий летний воздух, напомаженный ароматами цветущих акаций; нежиться в муслине драпированных облаков; пугаться встревоженного лопотания крыльев проносящейся мимо стаи; и упиваться свободой, упиваться страхом, быть кем-то замеченным, разрушенным и брошенным назад, в преисподнюю социума…
Вдруг за моей спиной раздается крик. Вопль бездны, похожий на рокот слона во время муста: «Стой! Мальчик мой, остановись!» Я оборачиваюсь и вижу, как по бесшумной, тихой улочке, заросшей липами и сиренью, мчится поезд. Он несется в моем направлении. Взбесившийся паровоз с огромными белыми бивнями и дьяволом в «опечатанном дипломатическом вагоне»[35] летит в мою сторону, укладывая стальные рельсы на воздушные шпалы моих следов. Постепенно его бивни превращаются в буфера, и я понимаю, что это воспитательница – Жанна Александровна. Ее толстые ляжки и пышный бюст опаздывают за порывистыми движениями мышечной массы; они как бы спешат вдогонку за нами. Когда своей стройной, гладко выбритой ногой она отталкивается от асфальта, округлости ее – таза и груди – оседают вниз, предлагая взять паузу и перевести дух. А когда ее тело приземляется на другую конечность, вымя (способное прокормить стадо телят) еще парит в невесомости, надеясь спасти тело от гравитации.
Хрящ! И каблучок-чок-чок растоптанной туфли цвета подмокшей соломы отламывается, не выдержав давления вальсирующего стана. Я прибавляю газа. До восточных ворот моего двора остается не более тридцати метров, когда из них, а точнее из их калитки, выходит дядя Серожа.
Дядя Серожа – это мой сосед из квартиры напротив. Высокий, неуклюжий, серьезный здоровяк, за которым приезжает служебная черная «Волга». У него есть два сына; Вадяс и Серж. Серж – точная копия отца. Вадяс пошел в маму, да к тому же заикается.
Я слышу истошный крик воспитательницы: «Ловите его! Хватайте!» Дядя Серожа, еще мгновение назад собиравшийся поздороваться и пройти мимо, выражает крайнее смятение и, неуверенно растопырив руки и ноги, перекрывает ими улицу и перекресток. По-видимому, он рассчитывает, что я брошусь в его объятия, как Деметра к Персефоне[36].
Держи шире карман!
– Толстый-толстый боровик, съел огромный грузовик! – кричу я, приближаясь к великану по правому борту. Но, сделав обманное движение, огибаю громадину с левой стороны и ныряю ему под руку. Его бычья шея изгибается белым лебедем под собственное крыло и тут же возвращается назад, услышав хруст шейных позвонков. Дядя Серожа проворачивается на одной ноге вокруг своей оси и провожает меня удивленным взглядом, все еще не веря в то, что пропустил такой немыслимый мяч. С трибун несется пронзительный свист, и по его глазам я замечаю, что он несказанно рад этому очку, так как освобождается от всевозможных претензий со стороны моей мамы на тот случай, если она не одобрит произведенного им задержания.
Пролетая сквозь калитку, я успеваю прикинуть, застрянет ли в ней воспитательница или снесет вместе с коваными воротами и каменным столбом, на котором держится вся конструкция. Большая металлическая штуковина, установленная кем-то из пленных немцев в сорок шестом году, кажется мне способной выдержать столкновение с танком, и я смело устремляюсь вперед.
На самом деле Жанна Александровна – нормальная тетя. Я даже скажу – единственная адекватная воспитательница в этом логове диктаторов, узурпаторов и тиранов, которых я тоже немножко люблю. И мне жаль, что именно она бросилась за мной в погоню. Но я не отвечаю за ее поступки и не навязываю ей своих правил, как это делают взрослые. Я всего лишь бегу! Бегу от этих идиотских заповедей: не летать и не прыгать слишком быстро и высоко. Не кричать и не прятаться под кроватью.
Особенно меня раздражает требование не ломать игрушек. А что тогда с ними делать? Что прикажете делать с детским грузовичком тысяча девятьсот семьдесят четвертого года выпуска, штампованного из листового металла той же толщины, что и полуторки, мчавшиеся по Ладожскому озеру в бездну человеческих страданий? А раз так – эта игрушка должна выдерживать не только лобовое столкновение с моим сандаликом, но и возить своего хозяина с горки до песочницы, куда я ныряю щучкой, пока в садике не построили бассейн. Иногда я промахиваюсь, и тогда вечером мама, вытаскивая из моих шишек занозы, объясняет Давиду, что голову нужно беречь. Но я ей не верю. Какой смысл беречь голову, если она не умеет ни прыгать, ни бегать, ни лазать по деревьям? Только и может, что поглощать борщ, пропитанный детскими слезами, когда рядом стоит строгая родительница, а пацаны в это время насвистывают в раскрытое окно, приглашая играть в казаков-разбойников.
Для чего беречь? Для страданий?
Восстанавливая картину тех дней, я вспоминаю, что за нашим домом начинается набережная, а затем великая русская река с тем же названием, что и служебная машина дяди Серожи. Чего она такого великого совершила, я толком не помню, как не помню и того, с помощью каких анализов определяли ее национальность. Но весной с Каспийского моря к нам поднимается куча разной рыбы, и мы ловим ее, поддаваясь инстинктам первобытного Хомо Сапиенс. Река обеспечивает неплохим уловов, а по утрам волны выносят на берег осетровые туши, выпотрошенные браконьерами от драгоценного семени – черной икры и выброшенные (как использованные презервативы) в унитаз ненасытной природы.
Осетры бывают большими – в полтора, а то и два моих роста. Но это не белуги. Чаще попадаются севрюга и крупная стерлядь. Мелкую стерлядь бракуши не берут. Волны прибивают туши на берег, и они разлагаются, наполняясь смрадом гниющего тела и пиршеством опарышей – маленьких, белых червячков, используемых для подкормки и ловли водных позвоночных.
Итак, проскочив калитку, я мчался по двору, увертываясь и огибая клюшки добродетельных старушек, дружно откликнувшихся на призыв Жанны Александровны. К моему удивлению, она все же смогла протиснуться в гульфик нашего двора и продолжить преследование. Бросив игру в лото, старые клячи вскакивали, как боковые защитники со штрафной скамьи, и мчались от каждого подъезда, пытаясь перехватить шайбу моей свободы. Но я увиливал, извивался, проскальзывал червячком, пролетал на бреющем, продолжая уверенно сокращать пространство, отделяющее меня от прохладного грота собственного подъезда.
– Только бы не дворничиха, – думал я, приближаясь к своей цели.
Я знал, что у дворничихи имеется большая длинная метла, на которой она летает по ночам, иногда вторгаясь в мои сновидения. И большой, длинный опыт по разгону детских демонстраций, когда, построив из ящиков партизанский штаб, мы превращаем наш двор в Дхарави[37], объявляя себя неприкасаемыми детьми Мумбаи. В таких случаях приходит старая ведьма, и, взяв метлу, как мухобойку (в правую жилистую руку терминатора), дергает именно тот ящик, от которого зависит сейсмоустойчивость всей конструкции. Слышится грохот падающих коробок и вопли живущих в нем тараканов. Мы лезем изо всех щелей, спасаясь от землетрясения, производимого поршнем ее левой руки. А она дубасит нас по головам своей колючей метлой, приговаривая при этом: «Врешь – не уйдешь, прыщ пучеглазый! Я выдавлю из тебя начинку, дырявый башмак!» И ей плевать с высокой колокольни на стоны и жалобы матерей, потому что никто во дворе не может выражать свои эмоции так громоподобно и чревовещательно, как это делает она.
Удачно увертываясь от предательских выпадов развлекающихся старушек, я допускаю одну-единственную ошибку, которая становится в итоге провалом всей операции… Множество помех на пути мешают моему маленькому детскому мозгу сосредоточиться над маршрутом побега, и, чисто интуитивно, я рвусь домой, понимая, что мама сейчас на работе и дверь мне откроет моя прабабушка, ну, а дальше…
Дальше мне мешали думать облезлые палки со стоптанными резиновыми набалдашниками, которыми приветствовали мое появление зрители левой трибуны. Справа был бугор, а на нем футбольная площадка, фонтан и еще один детский садик, куда мама не решилась меня оформлять, понимая, что в клетке своего двора я жить не соглашусь ни за какие коврижки.
Кто-то кричит вдогонку беглецу: «Остановись, детка!» А мне слышится: «Асталависта, беби!»[38], и, помахав Арнольду рукой, я увеличиваю скорость.
Добравшись до подъезда, я взлетаю на третий этаж и начинаю тарабанить в дверь. Но то ли моя прабабушка ушла на базар (что бывало крайне редко, учитывая ее возраст и вес в сто тридцать килограммов), то ли она спала на лоджии и не слышала моего грохота, но дверь так и не откликнулась привычным скрипом петель на мое появление. Я мог, конечно, позвонить в звонок соседей, живших с нами в трехкомнатной коммуналке, но делать этого не стал, так как знал, что дядя Саша еще на работе, а его мать, сухая сгорбленная старушка, все равно не пустит меня в квартиру. В общем, вышло почти как в фильме: «А где бабуля?» – «Я за нее!» – ответила мне тишина[39].
Последняя явка (чердак) была провалена два дня назад, когда пришедший слесарь, дядя Федор Красный Нос, повесил на дверь новый замок. Мы с друзьями еще не вскрыли его механизм, хотя и перепробовали уже большую часть ключей из имеющегося в нашем распоряжении арсенала. В общем, услышав на первом этаже тяжелую поступь Жанны Александровны, я понял: пришла пора сдаваться, и стал спускаться к ней навстречу, вспоминая, что говорит в таких случаях моя прабабушка: «Ubi culpa est, ibi poena subesse debet!»[40].
Внизу наставница взяла меня за руку и повела в садик, где возвращения блудного сына с нетерпением ждали воспитательницы, нянечки и поварихи, оберегающие нас от опасностей беспризорной жизни, пока родители отбывали трудовую повинность, избегая статьи за тунеядство: 209 УК РСФСР.
На следующий день я узнал гнев Архистратига[41].
Во время прогулки, целью которой являлось оздоровление юного организма путем выматывания его слабых чресл на свежем воздухе осеннего равноденствия, меня оставили в беседке. Меня, будущего капитана команды шестого домоуправления по футболу, хоккею, теннису и шахматам, посадили на два часа в беседку!
Я вспомнил, как это делают тигры, когда их сажают в клетку. Они кружат, юлят и мечутся, пытаясь вырваться на свободу. Поэтому решил стать львом – у него причесон прикольнее.
Я залазил на бортик и прыгал, стараясь ухватиться за балки, на которых держалась крыша. Разгонялся по периметру и заскакивал на лавки, переводя тело в горизонтальное положение. Я распускал крылья для вылета в заданный квадрат.
Я сходил с ума в этой конуре от одной мысли: «У меня отняли джунгли!»
«Джунгли зовут!» – звенело в моих ушах, когда я со всего маху налетел коленкой на штырь, появившийся неизвестно откуда в половой доске.
«Не иначе дьявол пропорол днище рогом, пытаясь выбраться наружу», – догадался пострадавший. Ууу, черт рогатый! Всю коленку мне искромсал!
Жидкость, столько лет кружившая от сердца в артерии и по венам к сердцу, наконец-то нашла выход. Красный родник радостно бил из образовавшейся пробоины, стекая по голени к голеностопному суставу и впитываясь в мой сандалик.
Это в песне «боец молодой вдруг поник головой», а в садике, выскочив из беседки, я привел в неописуемый восторг друзей, и в ужас – воспитательницу. Мне замотали ногу полотенцем и вызвали карету «скорой помощи». Карета отвезла Давида с нянечкой в травмпункт, познакомившийся со мной пару лет назад, когда я сломал себе левую руку, пытаясь убежать из яслей. Травмпункт находился в одном квартале от нашего дома и со временем превратился в цех по сборке и ремонту непоседы.
Коленку Дэйву (так звала меня мама, когда была в хорошем настроении) зашили, и пару недель я гордо выхаживал с бинтом на ноге. В роли портного-скорняка выступил мамин знакомый хирург. Он будет штопать меня еще несколько лет, пока я не улечу в страну вечной мерзлоты, где солнце прячется от людей каждую зиму и, выспавшись в берлоге космоса под подушкой моей планеты, впадает в бессонницу лета, тепла и света до следующих холодов…
Так как моя мама работала в Госстрахе, она быстро оценила уникальные способности сына рваться и ломаться в разных местах и застраховала жизнь мелкого пакостника на круглую сумму. С этого момента я стал кормильцем семьи. Каждая пробоина или трещина моего организма теперь оплачивалась из кармана государства. Я ломался, портился, расклеивался, разваливался и рассыпался с невероятной скоростью, стараясь выколотить из СССР как можно больше денег, прежде чем он обанкротится, не выдержав возрастающих расходов на реставрацию моего тела.
Поэтому, когда кто-то хвалится, что он-де начал зарабатывать в четырнадцать лет, я скромно улыбаюсь. Мой труд, в который я погружался с полной самоотдачей, приучая себя к самопожертвованию и умению вести бизнес на территории любого двора, наступил гораздо раньше – с шести лет.
Так вот: пока длились эти две недели реабилитации больной ноги, я пару раз повздорил с одним мальчишкой из средней группы, появившимся в нашем садике два месяца назад. Мальчик был крепким не по годам здоровяком, и я подозревал, что Вася (так его звали) был двоечником, отчисленным за неуспеваемость из школы в детский сад: сначала в старшую, а затем в среднюю группу.
Два дня назад Васька пытался ущемлять права моего друга Седых, когда выталкивал его из очереди на горку. И мне это совсем не понравилось.
– Васяня-писяня, ты чего борзеешь? – сказал я увальню, когда тот в который раз потеснил моего товарища.
– Не лезь не в свое дело! – деловито отрезал Васька.
– А что будет, если влезу? – не отступал я.
– Влезешь, тогда узнаешь, – насупился Васек и сжал свои кулачки, приняв устрашающий вид.
Дело закончилось стычкой. Нас быстро разняли. Но Вася так удачно успел сунуть свой конопатый кулак в мой нос, что носопырка у Давыда (так звала меня нянечка из детского садика) болела еще несколько дней, перетягивая одеяло физических страданий с травмированной коленки на себя и постоянно ежась от таинства неопределенности во время перевязок раненой ноги.
Для решения возникшей проблемы необходим был саммит. Но из-за того, что Вася отбывал повинность в другой группе, потребовать от него сатисфакции было не только дипломатической, но и территориальной проблемой. «Железный занавес» между старшими и младшими группами в моем садике был еще непреодолимее, чем шторка между СССР и Европой. Это сейчас дети на прогулке могут позвонить «чеку», сидящему в соседней песочнице, и высказать свои претензии по айфону. А тогда…
Первый цветной телевизор в нашем дворе добудет моя мама по великому блату, в кредит, только спустя три года, и все мои друзья станут бегать к Давиду смотреть цветные мультики. Мультики выходили строго по расписанию два раза в день (в 18.15 и 20.45) и шли по пятнадцать минут, где первая половина была кукольным барахлом, а вторая – мультами из пятидесятых годов.
С возрастом я стал относиться к телевизору с большей симпатией. Возможность, которую дает этот ящик – выслушать пенсионные скрепы, – несет определенные плюсы в общей полосе минуса импликации предиката[42].
Но без кнопки «Mute», позволяющей прервать оральное недержание обструкционера коллективного интеллекта[43] и высказать критику избирателя, он не имел бы никакого смысла. Как не имел бы он смысла и без кнопки «Выкл», способной выпроваживать надоедливого екклезиаста[44] в любой момент – если я захочу (а потом передумаю) по большому, и схожу (перед сном) по малому кругу: с первого по тридцатый канал, приземлившись на «2×2».
* * *
На одной из прогулок я все же улучил момент, когда воспитательницы увлеченные сообщением от нянечки об удивительном сне (в летнюю ночь), стали дружно чесать языки о еще шероховатую поверхность последних сплетен, и совершил вылазку на территорию врага, мирно катающего паровозик взад и вперед…
Вперед и… в… зад…
Мульт: Месть безжалостна. Фантазия безгранична!
– Ну, чо, Васяня-писяня? Извиняться будешь? – сказал я голосом, не терпящим возражений.
Вася встал с корточек и, глядя на меня своими наглыми желтовато-лиловыми глазками, коротко ответил:
– Нет!
– На! – коротко врезал я сопернику, сунув свой кулачок в курносую физиономию крепыша.
Мы сцепились. Но благодаря качествам-стукачествам Машеньки из Васиной группы опять не успели выяснить отношения и уладить накопившиеся разногласия противоборствующих сторон, попавших в неформальную обстановку ринга, возникшую по воле случая и недогляду их гувернанток.
Откликнувшиеся диким ржанием на призыв доносчицы, воспитательницы примчались, как разгневанные кентавры после свадьбы Пирифоя[45], и попытались разнять катающихся по земле борцов. Сделать это оказалось совсем не просто, ибо покрытые пылью и славой мальчишки уже вкусили азарт борьбы и требовали продолжения банкета любой ценой![46]
В конце концов, нежные женские руки проникли меж наших стройных тел, и сиамские близнецы были разделены коварными хилерками[47]на две части с помощью хирургического вмешательства без ножа.
– Ты у меня еще получишь! – мычал я сквозь ладонь воспитательницы, тащившей меня из вражеского стана в родной аул, и грозил за спину кулаком.
Так как я находился на чужой территории, вся тяжесть ответственности легла на зачинщика потасовки. Меня поставили около бомбоубежища и приказали никуда не сходить с бетонной площадки размером полтора на полтора метра. В беседку буяна сажать уже побоялись.
До окончания прогулки оставалось не так много времени, и кара за содеянное была несерьезной, если бы только не одно но…
Во время драки Васька успел пихнуть меня коленкой в живот, и теперь живот Давида издавал какие-то странные звуки, перемешанные с болезненными ощущениями в надпаховом и подреберном пространстве. У меня вкралось подозрение, что, если заболел живот, значит, кто-то в нем живет! Я присел на корточки. Как только я сел, спазмы в желудке усилились вдвое, втрое, в десять раз, и я подскочил как ошпаренный.
«Туалет! Где туалет?!» – загудело в моей голове.
Я позвал воспитательницу, но та, бросив на меня недовольный взгляд, тут же отвернулась.
«Это катастрофа! Катастрофа! Ката… строфа…»
Тааак, строфы не помогают – попробую ката[48].
Выдохнул… вдохнул… сжал кулаки… ягодицы… Повторил мысленно: «Тысячу раз. Я сделаю это тысячу раз! И все пройдет… и все… прой… дет… Всеее!..»
Я больше не могу терпеть! Ката не помогает! Совсем не помогает!
Нарушив указание стоять на месте, я пулей бросился к воспитательнице.
– Татьяна Васильевна! Татьяна Васильевна! У меня болит живот!
Но как только я приблизился к полногрудой, полнозадой, пышноволосой садистке, она схватила меня за руку и, несмотря на все протесты, мольбы и уговоры отвести ребенка в садик (где бы он смог избавиться от химеры, застрявшей в его кишках), Васильевна отвела мальчика к проклятому бомбоубежищу и отошла в сторонку, дабы контролировать перемещения страдальца и узреть финал.
Спазмы то нарастали, то отпускали измученное нарзаном тело[49]. И вскоре пот выступил у меня на лбу. Я стал проситься, умолять и даже требовать разрешить мне сбегать в туалет, заявляя что-то вроде: «Если вы не отпустите меня в садик, я откушу Костику нос!»
Костик был внуком директора мясокомбината, и над его здоровьем директор садика тряслась, как Кощей над златом, Баба Яга над падчерицей и Гумберт над Лолитой, – одновременно.
Но воспитательница категорически отказалась выполнять ультиматум драчуна, по-видимому, наслаждаясь его агонией в недрах своего сердца (или что там у нее было). Минуты, как и положено в таких ситуациях, потекли очень медленно… Ну ооочень медленно… Они даже не текли, они делали вид, что собираются течь, но только после того, как растает лед закипающего терпения и глазунья взбунтовавшихся внутренностей зашипит на бетонной сковороде площадки.
Меня бросало то в жар, то в холод:
Тук-тук-тук – отбивали чечетку зубы.
Пук-пук-пук – разлетался гром в разные стороны, предвещая бурю.
Наконец прогулка закончилась, и дети стали собираться в группы. Первыми по правилам садика в помещение возвращались младшие. Все, как и положено, шли парами. За ними двигалась средняя группа, в которой завидным сложением выделялся Васька. Он с ухмылкой глянул в мою сторону и проследовал мимо, держа за руку Машу-стуканяшу. После них шагала наша команда. И в то самое мгновение, когда я уже был готов присоединиться к остальным, тот, кто столько времени рвался наружу, преодолел физические барьеры юного тела и нашел выход, «прорубив окно в Европу» в самом неподходящем месте[50]!
Группа двинулась к калитке, и воспитательница махнула мне рукой, предлагая влиться в коллектив. Но я отрицательно покачал головой, категорически отказываясь это делать. Она увидела на моих щеках слезы и обо всем догадалась. Вскоре пришла нянечка и отвела Давыда в ванную. В ванной я был раздет догола и вымыт дочиста, после чего наступило время сказок.
Сказками в нашей группе заведовал пухлый, розовощекий, с вечно задумчивым выражением лица и медлительными движениями тела мальчик. Звали его Виталик. Виталик сочинял сказки сам и делал это с такой легкостью, как будто это сказки сочиняли его. Мы так любили слушать фантазии маленького выдумщика, что воспитательница часто сажала чародея в свое кресло и уходила по неведомым женским делам, а он лопотал нам что-то невероятно-увлекательное, заваливая малышей детскими небылицами и миниатюрами из жизни собственных грез: «Это – область чьей-то грезы, это – призраки и сны, все предметы старой прозы волшебством озарены»[51].
Среди талантливых малышей детского садика я также не могу не отметить еще одного удивительного ребенка – Олега. Олег был главным фокусником в группе. Не тем фокусником, что фокусирует оптическую линзу фотоаппарата на объекте, попавшем в фокус его внимания, а тем, что расфокусирует не только мнимое изображение окружающих, но и предметы, находящиеся в их руках.
Олег прятал предметы так быстро и молниеносно, что незабвенная (для меня) гидра Васильевна часто терялась от неожиданного форсажа событий, творящихся вокруг нее и нас тоже, когда Олежка начинал действовать и начинали исчезать разные по назначению, цвету и объему детали окружающего интерьера. А исчезали они у него во рту – для того, чтобы появиться потом сами знаете откуда.
Делал Олежка это так: если перед едой нас отправляли мыть руки, он демонстративно брал в руки мыло, поворачивал голову вправо, потом влево и, убедившись, что паства с восторгом ждет чуда, откусывал антибактериальное косметическое средство маленькими молочным зубками и глотал его болюс[52] не жуя. Это действие повторялось до тех пор, пока кусок не оказывался в животе ловкача целиком.
Точно так же он поступал с предметами для рисования. Олежка вынимал цветной квадратик сухой концентрированной краски из коробочки для юных дарований (куда следовало макать кисточкой, пальцем или носом) и отправлял его в рот. Отправлял так же естественно, как отправляют дети в рот леденцы, ириски, маковки, карамельки, трюфели, драже, помадки, козюли-липучки, козюли в шоколаде, в собственном соку, с начинкой и без; с орехами, большие; с прорехами, маленькие; мармеладки, долгоиграющие; пастилки с кислинкой; зефиринки воздушные, безешки послушные и прочие лакомства кондитерского мира.
Когда однажды ему дали двадцать копеек, Олег принял в руки стакан, налил в него воды, опустил монету в рот и проглотил, не моргнув глазом. После этого он открыл рот, моргнул глазом, выпустил газы и позволил всем желающим заглянуть внутрь. Мы растянули его пухлые щеки в разные стороны и, просунув головы, осмотрелись: было отмечено появление седьмого и восьмого моляра[53], но двадцать копеек испарились бесследно. То есть без следа. То есть так, что, если бы они и были на самом деле, доказать их существование в тот момент не имелось никакой возможности… хотя на кухне… в шкафчике… (я помню это точно) хранилось несколько остро заточенных ножей…
Вся эта история вылезла наружу, когда Олег забрал у Машеньки пять копеек, полученных ею от бабушки на рогалик, имитирующий банан, и пошел за водой. Во время его отсутствия нервы у Машеньки не выдержали, и, разрыдавшись, она бросилась к воспитательнице жаловаться на детсадовского иллюзиониста, чем, собственно, и растоптала его будущую карьеру в пух и прах. Пух сложили в подушки, прах в гробы, – непременно пошутил бы автор, если бы книга была для взрослых.
Пока воспитательница разобралась, что произошло и кого нужно искать. Пока нашли того, кого искали… Пока искомый согласился дать признательные показания, пять копеек (как сквозь землю) провалились к нему в живот, что из-за размера пятака казалось маловероятным, хотя диаметр горла Олежки штангенциркулем никто не измерял. Перепуганная воспитательница поспешила сигнализировать Олежкиной маме о случившейся трагедии и приготовилась вызывать «скорую». Но когда она (сломав ноготь о телефонный диск) дозвонилась родительнице, мама фокусника успокоила ее заявлением, что сын и раньше поглощал монеты разного достоинства. В связи с чем на семейном совете было принято решение выкинуть старую копилку в мусорный бак, дабы не тратить на ее содержание образующихся накоплений, а все высвободившиеся средства спустить на подрастающее поколение развивающегося социализма.
3
Каждый год десятки миллионов людей торжественными утренниками, бесплатным трудом и вечерними попойками отмечали в СССР наступление рождества. Праздновали его двадцать второго апреля, в день рождения Ленина: бога-человека, бога-вождя, бога-защитника, бога-революционера, бога-мумии и бога-гения, оставившего после себя (в отличие от скромного Иисуса Христа) пятьдесят пять томов заповеди, которые никто никогда не читал (чтобы не сойти с ума), но многие хранили в маленьких комнатушках больших коммуналок так бережно, что сочинения дотянули до безалкогольной перестройки почти без потерь.
Многотомная «библия» Ленина занимала не одну книжную полку и сильно сужала имеющееся у жильцов пространство, но зато согревала души товарищей при советской власти. А при Горбачёве и в правление царя Бориса – топила «буржуйки» граждан, когда вместе с трескучими морозами в опустевших моногородках наступали перебои с отоплением после разорения их градообразующих предприятий, так быстро исчезавших (как фишки в казино) с карты страны, что удивленный крупье банкротства не успевал сгребать их в мусорное ведро истории, отчего история пополнялась новыми запасами фактов и артефактов президентского скудоумия и правительственного безрассудства…
Но вернемся к празднику. К спектаклю торжества! К эдакому разрушителю прозы жизни, рутины повседневности, череды будней, и однообразия лет, повторяющихся изо дня в день, из ночи в ночь, из жизни в жизнь, из смерти в смерть, из поколения в поколение…
Так как я уже был в старшей группе и наш садик готовился к празднику со всей ответственностью, мы получили домашнее задание: выучить четверостишье про дедушку Ленина и прочитать его на утреннике. После изгнания из душ российских подданных Иисуса и отмены души в принципе, его место (в сердцах) занял Ильич. И настолько прочно он там обосновался, что сначала все забыли, а потом и забили на того, кто был прежним хозяином их сердуш[54], или душсер, как вам будет угодно.
Наши люди в булочную на такси не ездят[55] и считают, что лучше иметь Творца в своем сознании, чем являть себя таковым. И дело тут не только в многолетней селекции рабов, но и в условиях климата, где если и продержишься всю осень «сухарем», то зимой, один черт, сорвешься с катушек. А как сорвешься, как расслабишься, почувствовав вкус к жизни, так сразу и затоскуешь, не отходя далеко от графина с настроениеобразующим напитком, чтобы не потерять мелодии и концепции сюжета в творческой морали бытия: «А на столе под рюмками и пеплом, едва шагнув из мысли на листок, уже росли родившиеся дети, и в каждый глаз смотрел на всех пророк»[56].
Возвращаясь к дням, предшествующим торжествам по случаю празднования дня рождения безвременно почившего вождя, когда мама пришла за Дэйвом в садик и ей сообщили об участии сына в утреннике, обязав малыша выучить несколько строк из литературно-поэтической лениниады – я пытаюсь припомнить (и мне это удается) меблировку и обстановку семейного очага. В комнате, где мы жили, стояли слева направо (по кругу квадратом): швейная машинка, маленький диванчик, письменный стол, большой диван, два кресла, торшер, журнальный столик с круглым аквариумом и рыбками, две полки с книгами, трехстворчатый шифоньер и вешалка. Все это, включая нас с мамой, помещалось на тринадцати квадратных и сорока трех кубических метрах. На книжных полках прятались собрания сочинений Голсуорси, Мопассана и книги вразнотык. Но про дедушку Ленина там ничего не нашлось. И тогда мама полезла в ящик письменного стола, который купила недавно с рук, готовясь к моему поступлению в школу. Стол нам продала соседка, жившая этажом ниже. Ее сын, решив на спор доплыть до косы, утонул в Волге. Он не успел окончить школу, и тетя Зина, одинокая женщина, уступила нам стол за копейки, вместе с книжками, которые лежали в нем. Среди прочей макулатуры мама обнаружила томик Владимира Маяковского и, порывшись в нем, определила сыну выучить вступительные строки из поэмы «Владимир Ильич Ленин».
Мама долго билась головой о потолок полиметрической композиции знаменитой «лесенки» поэта, пытаясь помочь шестилетнему Давидику разобраться в единой синтаксической интонации, которая задавалась графической подачей стиха в революционных экзорцизмах Маяковского так неожиданно свежо, что в итоге мы хоть и победили вдвоем Владим Владимыча, но седых волос избежать не удалось никому…
На рождественском утреннике у воспиталок вылезли на лоб глаза, когда я, встав в позу богомола, шагнул из своего горла к их ушам чугунной поступью скорби и наполнил праздничный воздух помещения обрывками, кусками и строками революционного апофеоза:
Время — начинаю про Ленина рассказ. Но не потому, что горя нету более, время потому, что резкая тоска стала ясною осознанною болью.«Какая разница между Маяковским и извозчиком? Один управляет лошадью, а другой – рифмой», – подметила как-то Лиля Брик[57], умолчав при этом, что поэтом управляет она, и, как рассказывал мне однажды Константин Аркадьевич, а ему Лев Кассиль (знавший Лилю лично), делала она это не щадя чувств ранимой души Владимира, которая, испив чашу страданий до дна, изливалась на равнодушную бумагу симфонией удивительных строк.
Уже перед школой мама перевела меня в круглосуточный садик, где детей можно было оставлять с ночевкой и на выходные. Как я уже говорил, мама работала в Госстрахе и страховала жизнь, которую страхуй не страхуй, а все равно попадешь в рай.
Работа страхового агента предполагает встречи с людьми в домашней обстановке. Но так как граждане в СССР, избегая статьи за тунеядство, работали поголовно, порассуждать о том, как это здорово – лежать в больнице, зная, что и перелом твоих конечностей, и твоя свернутая шея, а особенно смерть принесут ощутимую пользу семейному бюджету и порадуют детишек новыми игрушками, Вот обо всем этом и многом другом пациентам можно было поведать только вечером или в выходной день.
«Муж жене по шее дал, чтоб Госстрах лаве прислал!» – придумал я для Госстраха слоган, который по невыясненным пока обстоятельствам так и не пошел в производство рекламных дел.
Вот мама и устроила меня в такой садик, где я повстречал свою первую настоящую, большую любовь – девочку с длинными, вьющимися каштановыми волосами, спадающими на плечи, подобно снежной лавине на головы альпинистов. Эта кутерьма волнистых нитей и гитарных струн обрамляла личико с восточным разрезом больших синих глаз и волшебным именем – Ия, что в переводе с древнегреческого языка означает фиалка. Фиалка была неотразима!
Я влюбился в нее по уши, как только переступил порог группы. А когда вечером вернулся домой, стал интересоваться у мамы, со скольки лет принимают заявления в ЗАГС. Мама сказала, что дело это очень серьезное и требует взаимного согласия не только сочетающихся браком, но и их родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, а также дядей, теть и племянников, – чем ввела меня в ступор, так как на слове «племянник» (которое еще не было мне знакомо) я забыл начало родословной. Сватовство было отложено на неопределенный срок и со временем забыто. Но когда (тогда) я в первый раз пришел в садик, все произошло в считаные минуты.
Дети сидели на маленьких деревянных стульчиках, образуя вокруг воспитательницы неровный круг, и наблюдали за тем, как она причесывает их извилины очередной сказкой Андерсена. Давид осмотрелся: четыре очкарика. Один ковыряется в носу – сто пудов, сейчас сунет лакомство в рот, успел подумать я, прежде чем пророчество совершилось.
Да-да, я стал пророчить в шесть лет! Кто раньше?
Другой очкарик, разинув рот, даже не пытался слизнуть соплю, свисающую с верхней губы и стелющуюся по полу искрящимся бирюзовым ручейком в направлении кухонной двери.
Мульт: Вот ведь, Ханс Кристианович, умеет завораживать ребятишек!
Двуглазые пацаны выглядели не лучше своих четырехглазых одногруппников. Я даже не стал их разглядывать. Мое внимание привлекли косички русого, черного, блонди и одна – рыжего цвета. Эти рыжие волосы были, конечно, не такими толстыми и густыми, как у Ленки с нашего двора, чей папа и зимой, и летом в одних трусах выходил по утрам на балкон и начинал делать зарядку: «Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре»[58]. А потом перемахивал через ограждение балкона и подтягивался, сдувая с носа снежинки (если на улице была зима) и слизывая с носа капли (если шел дождь), прежде чем совершить то, чего я ожидал от него каждое утро.
Дело в том, что от подиума балкона, находящегося на третьем этаже, до того места, куда Ленкин папа должен был шлепнуться (когда-нибудь, по моим представлениям), простиралась пустота. Пустота пустотная, пустынная и пустотелая. Такая, как в голове студентов во время изучения аксиомы пустого множества[59]. Интрига заключалась в том, что под тренажером балкона зияла пасть западной арки нашего дома – нашего дома из-под балкона. Поэтому упасть он мог не в пасть, а кому-нибудь на голову или в сумку.
Увы, конфабуляция здесь неуместна. Ленкин папа оказался крепким орешком.
Теперь о воспитательнице, читавшей сказку.
Это была пожилая дама (лет тридцати), раздобревшая в мягком кресле на пряничных обедах и длинных небылицах, выворачивающих наизнанку не только действительность, но и детский формирующийся мозг. Ее русые волосы, собранные на затылке в кулю, не меняли общий вид в лучшую сторону. Крепдешиновое коричневое платье только подчеркивало лишние килограммы тела, наросшие в том самом месте, где и по женской, и мужской соматической конституции находятся «попины уши» – если диалог происходит в присутствии детей, и «жопины» – если беседуют без них.
Все понятно, сделал вывод Давид, осмотрев новое место жительства. Даже не придется отстаивать лидерство. Оно лежит прямо под ковриком у дверей. Но в тот самый момент, когда воспитательница, прервав монолог, подняла на меня глаза, привлекая общее внимание зрителей, повернулась она… Оо-нааа…
Вас когда-нибудь било током в руку?.. А в голову? Меня тоже Господь миловал до шести лет. Но это… Это – онааа…
Это было похоже на вспышку, добытую с помощью отвертки нашим соседом по квартире дядей Сашей.
Однажды Шурик (так звала его мама) полез своими корявыми пальцами в электрический счетчик. И после того как он сунул туда инструмент (вежливо предложенный мной), ящик ругнулся в него фейерверком голубоватых огней и зеленоватых искр с такой силой, что дядя Шура оказался на полу раньше, чем я успел ойкнуть. А все произошло из-за того, что вместо дяди Сашиной отвертки с деревянной ручкой, выточенной на слесарном станке, я подал ему бабушкину заготовку – с железной рукояткой у основания. Железная рукоятка проводит ток в любое человеческое туловище. Даже в тело такого принужденного обстоятельствами холостяка, коим являлся, на мой взгляд, наш сосед, проживавший в третьей комнатушке коммунальной квартиры по улице Советской, 20, вместе со своей матерью, сухой, молчаливой старухой, готовившей на завтрак, обед и ужин яичницу с салом, предварительно так старательно обжаривая белые жирные кусочки свинины (до угольно-чугунного-пепельного цвета), что несколько раз соседи с верхних этажей пытались вызвать пожарку, заметив клубы дыма, валившие из форточки на кухне, которую распахивала мама Дэйва, выбегая в ужасе из нашей комнаты, когда закипала стряпня.
Фух, кювет преодолен! Возвращаемся в садик.
Ия взглянула на меня… Наши глаза встретились… И я погрузился в них, как в бездну Челленджера[60], ощутив себя на дне ее голубых впадин маленькой, эфемерной фораминиферой[61]. Не буду описывать, сколько времени длилось это мгновение, наверняка вы читали об этом у других авторов. Скажу одно: глаза ей были даны не только для того, чтобы обладать способностью воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн и обеспечивать функцию зрения… Все было значительно определенней. И она это прекрасно понимала. Понимала уже в шесть лет!
Выдержав пару секунд, Ия отвернулась, закончив сеанс гипноза, применяемого ею, по-видимому, для знакомства со всеми мальчишками (кроме соплежуев и очкариков), и продолжила полет фантазии. Она отвернулась, будучи уверенной, что, если теперь ей захочется поиграть со щенком, она просто скажет мне: «Лай!» – и я буду лаять, лизать ей руки и вилять шортами, изображая хвост на попе и шерсть на загривке. Все что угодно – только бы погладила! Это было новое для меня чувство, и я еще не знал, как с ним бороться.
Наставница позвала Давидика в круг и представила группе. Мальчики покорно опустили глаза, признав лидерство новичка, а девочки засюсюкали что-то девчачье. Но Ия… Она даже не повернула головы! Не взглянула! Не заметила молодого человека с характерными чертами красивого лица на ушастой (как у ежика) голове и с тонкой (как у страуса) шеей!
Шеей, на которой спустя годы будут сидеть три обанкротившихся друга, собака бернский зенненхунд (вес пятьдесят килограммов), кот рыжий (три килограмма), кошка трехцветная, пятнистая (ежегодный приплод от трех до пяти котят), рыбки кои – десять штук (приплод тридцать восемь мальков в месяц), три десятка прибывающих в гости друзей и забулдыги с нашего хутора, коим я не могу отказать в милости по выходным дням.
Чуть шевельнув прелестной головкой, красавица стряхнула надоедливых альпинистов, начавших очередное восхождение на вершину ее успеха и уставилась своим воображаемым иллюзорно-муреновым взглядом в окно.
О, Сизифов труд, прекраснейший на этом поприще!
Через неделю я обязал мальчишку, лежащего рядом с кроватью Ии, меняться со мной местами (после того как она засыпала) получая, таким образом, возможность любоваться моей возлюбленной практически в упор. Здесь, в тишине детсадовского послеобеденного покоя, я ложился на левый бочок и наслаждался обликом прекрасной морали[62], пока она мирно посапывала, находясь в это время совсем в другом измерении. Ее темно-русые волнистые волосы создавали неповторимые узоры на белоснежной детсадовской наволочке. Они манили меня волшебством беспокойных линий, переплетением синусоид, и однажды, потеряв голову, я протянул руку и прикоснулся к ним. Ия открыла глаза, озарив комнату призрачным мерцанием голубых гигантов, и тут же закрыла их, погрузившись в глубокий сон. Это чудесное пробуждение с последующим погружением в царство Гипноса возымели на меня такое сильное действие, что я еле сдержался, чтобы не перелечь к ней в постель. Я лежал, открыв рот, и все смотрел, смотрел, смотрел, пока не вырубился сам. Когда я очнулся, фиалка сидела на кровати и, насмешливо посматривая на меня искрящимися зрачками, надевала прелестное розовое платьице. Я мгновенно все понял! Все! Все-все было подстроено! Она развела меня, наслаждаясь властью собственной красоты! Она не спала в то мгновение! Она знала, что я лежу рядом и любуюсь ею! Она все это под-стро-и-ла! Притворилась! Надурила! Облапошила! Обворожила! Околдовала! Сжульничала!
Но все это мне было уже до лампочки… Я смотрел в ее смеющиеся глаза и видел в них тысячи удовольствий. Восточные узоры ее радужной оболочки сплетались из миллионов брикетов мороженого; зефира в шоколаде; мармелада; пирожных-корзиночек; футбольных полей (с настоящими кожаными мячами); велосипедов для моего роста; хоккейных клюшек, покрытых специальной сеткой; и новых, сверкающих точеными лезвиями коньков.
В ней было все! Все было в этой девочке, девушке, женщине – матери человечества. И тогда я осознал – она бесценна! Бесценна, как кислород! Как вода! Как свобода! Как сама жизнь!
4
В июне тысяча девятьсот семьдесят четвертого года мы с моим дворовым корешем Артуром как-то гуляли по двору, расставляя ловушки для голубей и косо поглядывая на зеленые абрикосы, когда его мама (полная женщина армянской национальности), свесив с балкона грудь в цветастом халате, закричала:
– Артууур! Артууурчик!
– Слышу, мааа!
– Мари выходит гулять!
– Понял, – крикнул мой друг и направился к своему подъезду.
Мари, маленькая девочка четырех лет с бусинками карих зрачков в больших недоверчивых глазах, была младшей сестрой Арчи (так Артура звал папа). Ее кукольная физиономия, обрамленная черными кудрями непослушных волос, представляла собой образец неповторимого обаяния, свойственного детям ее национальности в младенческом и юном возрасте. В присутствии Мари Артур менялся до неузнаваемости. Являясь в тот момент моим лучшим другом, готовым поддержать любой кипешь и броситься в любую авантюру, он становился собранным и серьезным, словно выходил на боевое дежурство, когда во дворе появлялась его сестренка. Каждое ее движение и поступок были под зорким контролем брата. Но при этом он не любил девчачьих сюсюканий и предоставлял возможность Мари самой разыгрывать свои спектакли, отказываясь возиться с девчонкой, так как это могло повредить его авторитету. Авторитета мне хватало с избытком, поэтому я никогда им не дорожил, предпочитая заниматься тем, что мне хотелось делать в данный момент. А делать в детстве мне хотелось ничего. И я с удовольствием возился с маленькими детьми, если ощущал их одиночество. Дети платили мне взаимностью, даже не догадываясь в тот момент, что с ними играет ребенок взрослого человека. Вскоре любимым партнером в играх для сестры Артура стал Дава (так звала меня Мари). Я катал ее на трехколесном велосипеде, выпекал вместе с ней в песочнице торты, охранял кукол, и лучшей благодарностью от нее за мои заботы было счастливое выражение ее прелестного личика.
Выйдя из подъезда и увидев Даву, Мари бросилась ко мне и, обняв, прижалась своей кучерявой головкой к животу. Артур переключил сознание в рабочий режим и просканировал окружающую территорию внимательным волевым взглядом радара. Я взял Мари за руку, и мы направились к песочнице. В одной руке у девочки было ведерко, в котором лежали формочки для выпечки куличей, а в другом кукла. Я подвел ее к деревянной конструкции, наполненной желтым речным песком, и она села готовить обед для кукол. В этот момент через западные ворота в наш двор въехал большой грузовик, набитый до отказа черными бухтами смолянистого цвета. Грузовик вывалил содержимое около подъезда Артура, где находилось домоуправление, и укатил обратно, оставив после себя сизое, зловонное облако.
Когда через час прогулка Мари закончилась и она отправилась домой, чмокнув на прощание меня в щеку, мы с Артуром пошли знакомиться с новым материалом. Отломив несколько кусочков аморфного вещества, я попробовал его разжевать. Битум с трудом поддавался молочным зубам, но в конце концов поддался настырности экспериментатора, размягчившись во рту до однородной тягучей массы.
– Вкусный! – сказал я Артуру, ожидающему результатов моего эксперимента.
Он принялся за свой кусок. Однако масса жевалась тяжело, и челюсти быстро уставали.
Проведя над ней разные опыты, мы пришли к выводу, что эта штука хорошо горит, и, не задумываясь, подожгли кучу битума, впервые привлеча (ча-ча-ча – корявый русский) к себе внимание властей. Власти откликнулись двумя пожарными машинами и постановкой Артура на условный учет в детскую комнату милиции. На настоящий учет в таком возрасте еще не ставили. Я же успел смыться, а милиционерам, пришедшим к нам домой, мама заявила, что я нахожусь в гостях у бабушки, совсем в другом районе города, и никогда не гуляю в той части двора, где произошло возгорание. Статья 307 УК РФ, дача ложных показаний, – до пяти лет лишения свободы. Но в то же время пятьдесят первая статья Конституции гласит, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Закон определяет… круг моих родственников?.. Ух, ты! Завтра закон определит мне в родственники какого-нибудь Тараса Бульбу, а Бульбе не понравится моя Ия, и он грохнет меня, как грохнул своего сына?..
Вот, блин! – мало того что в школе заставляют восторгаться эксцентриком, замочившим родную кровинушку, – так они еще и родственников пытаются навязывать мне законом, а не семенем или душой!
После ухода стражей порядка я получил полагающуюся в таких случаях порцию ремня и запрет на гуляние в течение нескольких дней. А та часть дома, где горел битум, – черное пятно до третьего этажа.
На следующий день, когда мама отправилась на работу, а прабабушка спать на лоджию, я принес в ее комнату армию пластмассовых и пластилиновых солдатиков. Солдатиков мы лепили с моим двоюродным братом, жившим за тридевять земель, в Москве, и прилетавшим иногда к нам в гости на самолете. Сев за круглый стол, я начал строить оборонительную линию Маннергейма[63]для своих туров-сельджуков, ожидающих нашествия крестоносцев, идущих из Европы завоевать (чтобы освободить) то, что интересовало Его только в земной жизни, когда по глупости Он принял человеческий облик, надеясь рассказать окружающим, что убивать друг друга нехорошо.
Короче, в то далекое время все хотели поиметь Иерусалим, поэтому от храма осталась только стена. Теперь она плачет, а неугомонные «маньяки на острие атаки»[64] ее все равно хотят.
Строительство оборонительной стены, воздвигнутой из спичечных коробков, железной банки и нескольких катушек ниток (черного, белого и красного цвета) уже заканчивалось, когда я услышал голосок моего попугая в незнакомой мне до этого версии звуковых колебаний и спектре обновленных частот. Подняв глаза, Давид обнаружил, что мой маленький друг открыл своим кривым, как ятаган, клювом дверцу и бежит по столу, зыркая в сторону хозяина червоточинами хитрющих глаз. В этот момент я укладывал последнюю плиту перекрытия в казарме, предназначенной для элитных войск сельджуков. Решение нужно было принимать быстро, так как пернатая игрушка по имени Попка, наращивала скорость и сломя голову мчалась к открытому окну, где на подоконнике стояли старые горшки с геранью, вокруг которых вечно кружились желтые бабочки.
Свободы, значит, захотелось? – мелькнула в моей голове мысль, и плита перекрытия выпала из Давидовой кран-руки, разрушив два верхних этажа офицерского корпуса. Я помчался за Попкой, пытаясь вступить с ним в переговоры.
– Попочка! – крикнул я. – Популеночек! Популька! Попедрусик! Вернись, я дам тебе новое имя! Я буду звать тебя Бендер! Бендер Родригес Сгибальщик!
В конце концов мои нервы не выдержали, и я закричал:
– Стой! Стой, кому говорят?!
Но попугай был явно настроен на дезертирство.
Мелко перебирая лапками, он набирал скорость и, втягивая шасси цепких коротких конечностей, уже начинал распускать крылья, отороченные желто-зеленым опереньем. Это был лучший истребитель в моей армии, и я не мог допустить, чтобы секретной технологией овладел кто-то из противников двора.
Отправленная для переговоров с беглецом белокурая подушка выпорхнула вслед за птицей из распахнутого настежь окна и шлепнулась пуховой бомбочкой на жесткий серый асфальт. Снизу послышался веселый храп счастливчика, а попугай стал приземляться на ветку, протянувшуюся от ствола старого вяза к лоджии старого дома корявой клешней старого лешего.
– Какого лешего тебе нужно! – закричал я, выскакивая в одних трусах на лоджию и пробуждая своим писком статридцатикилограммовую прабабушку.
Приземлившись на ветку, птица тут же притворилась иностранкой и сделала вид, что не понимает русских слов до такой степени, не слышит их звуков, тонущих в беспорядке дня.
После сложных и длительных переговоров через три секунды мое терпение лопнуло, и я взобрался на поручень лоджии, пытаясь вернуть попугая клюшкой.
– Дафф, немедленно слезь! Ты разобьешься! – послышался за моей спиной голос прабабушки. Она всегда называла меня сокращенно – Дафф, видимо, экономя силы для более важных сообщений.
– Очередной фон реликтового излучения сообщил научному сообществу астрономов о том, что еще один белый гномик остыл, высох и, потеряв качества суперзвезды, превратился в черного карлика, – прокашлял транзистор у прабабушкиного изголовья.
Анализируя несвежую новость[65], прабабушка оторвала от ложа верхнюю часть объемного тела и села, позволив дивану вздохнуть полной грудью. Усталый бабник крякнул выпрямившимися пружинами в частоту образовавшейся прострации, и, гнусавя, на французский манер, прабабушка произнесла, поправляя правой рукой белый кружевной фартук, а левой отгоняя надоедливые нейтрины[66]:
– Инфант террибль!
«Ибль-билль-билибль», – отозвался «Билль о правах человека», подстрекая меня к неповиновению.
– Enfant terrible! – задвоила вердикт бабуля, пользуясь родной речью своего французского жениха с итальянскими корнями, Артюра Ланьди, от которого (на самом деле) и произошла бабушка Неля, а потом мы, ее потомки.
Догадавшись, что система «стелс» дала сбой, Попка произвел вертикальный взлет и в крутом пике приземлился на лавку.
Пару дней назад на этой лавке я бомбил подгнившими абрикосами одного дедушку из окна нашей кухни. Бомбежка не шла ни в какое сравнение с бомбардировкой Дрездена, но все же это была бомбежка!
Мои снаряды несли мирный посыл на фетровую шляпу дедушки Пети – папы дяди Серожи, который, в свою очередь, являлся папой Вадяса и Сержа, которые, в их очередь, тоже кем-то являются в общей цепочке эволюции и происхождения видов на Земле, небесах и в аду, если они еще не переполнились эмигрантами и не перестали выдавать визы на ПМЖ, отправляя души в открытый космос – зону трансграничной мобильности, или, проще говоря, бомжей.
Прежде чем приступить к обстрелу соседа, я, соблюдая правила военного искусства, некоторое время наблюдал за старикашкой-букашкой, производя топографическую рекогносцировку с высоты третьего этажа, пока не придумал, с чего начать. Находясь длительное время в полном одиночестве, старичок явно грустил. Уже много лет никто из мальчишек не хотел валять дурака с повидавшим виды пенсионером. По его наклону головы и опущенным плечам нетрудно было догадаться, как он от этого страдает. Осознав возникшее недоразумение, я вознамерился исправить сложившуюся несправедливость. Мне пришла-шла-шла, пирожок нашла, села, поела, опять пошла идея, как развеселить дедушку, не выходя на улицу, потому что я был (снова-здорово) за что-то наказан. Наказание заключалось в том, что меня обязали выковыривать косточки из абрикосов. Абрикосов было целое ведро, а усидчивости ни капли, поэтому я решил сжалиться над собой и смоделировать Роттердамский блицкриг[67], предварительно заменив (как существо разумное) железные бомбы полезными фруктами.
Бросая в окно очередной абрикос и прячась за рассохшийся белый подоконник, я давился от смеха, представляя, как радуется внизу старичок тому, что его наконец-то заметили. Интрига стала главным фактором в этой заварушке-пирушке моего уединения. Я осторожничал, как только мог. Выбегал в подъезд, чтобы, выглянув в окно, понять, куда смотрит дедушка. Высовывал на улицу мамино зеркальце и разглядывал в нем противника. Даже спустился один раз на первый этаж и, чуть-чуть приоткрыв дверь, уставился сквозь еле заметную щелку на маленького, портативного старичка почти в упор. Он в это время как раз рассматривал амбразуру моего окна, вычисляя местонахождение мерзавца. Лавку окружали оранжевые шлепины больших сочных абрикосин, и, произведя дополнительные расчеты, мерзавец поспешил домой.
А когда вечером сосед постучал в дверь нашей квартиры и заявил моей маме, что я кидался в него гнилыми мандаринами, мама удивленно пожала плечами, списав жалобу чудака на старческий маразм. Дело в том, что мандарины в то время были еще бо льшим деликатесом, чем бананы, мечта всех россиян.
«Спасибо партии родной, лишившей нас еды такой!» – придумал пламенную речёвку Давид, которая не пошла в производство ноябрьских демонстраций и была забыта партийными лидерами вместе с грезами о коммунизме.
Но вернемся к попугаю. Я кинулся за ним на улицу, даже не застегнув на щиколотках сандалии. Несмотря на скорость и тактику снежной лавины во время спуска по ступенькам подъезда, я увидел, что Попку окружили Соловей и Егор. Вклинившись в ряды соперников, я предъявил неопровержимые доказательства и юридические права на обладание заморской птицей. Недовольные союзники стали настаивать на том, что первый, завладевший летающим объектом, получает право унести его к себе.
Пока на высшем уровне шли переговоры, кому достанется Сноуден, Попка оставил аэропорт и, взмыв в небо, направился в сторону фонтана.
Хорошо, что фонтан находится не на китайской территории, подумал я, а то китаезы разобрали бы мой «Рэптор» по винтикам, сварили из него суп и съели бы, пожелав стать невидимыми[68].
Мы бегали за попугаем по всему двору, подключив к его поимке дворника дядю Васю и дебила Митю. Митя надувал щеки, округлял глаза и выгибал пальцы в обратную сторону, когда загнанная друзьями птица направлялась в его сторону.
Изгибы его рук и тела отпугивали не только Попку, дядю Васю и нас, но и случайных пернатых, прибывших поглазеть на заморского принца издалека.
Высадив на деревьях десант, пацаны ожидали подлета вертолета, пока я звал на помощь желающих принять участие в съемках фильма «Попка против всех». Но все было – тщетно… Устав от бестолковой беготни и соскучившись по любимому хобби, дядя Вася снова пошел ковыряться в мусорных баках.
Что можно было искать в мусорном баке образца тысяча девятьсот семьдесят четвертого года наполнения, когда колбасу, сыр, шоколад, мармелад, зефир, жвачку, джинсы, кроссовки, телевизоры, холодильники, ковры, пластинки и т. д. и т. п. нельзя было нарыть даже в центральном универмаге? В то время я этого не понимал. Но сейчас знаю. Дядя Вася искал чудо. Обыкновенное чудо[69]дворника. Чудо несчастного человека, полюбившего мусорную рыбалку и утратившего интерес к жизни после потери единственной дочери и ее матери на войне.
Когда спустя несколько лет дядя Вася умер, все узнали, что он имел боевые награды. Орден Красного Знамени и несколько медалей были приколоты к его кителю, в котором вынесли дворника во двор. На похоронах соседи рассказывали, что его первая жена и дочь погибли во время бомбежки Сталинграда. А от второго брака с дворничихой детей у него не было.
Через три часа, когда мы набегались до отвала и рассорились вконец, всех позвали по домам. А через восемь дней Попка прилетел сам, вернув моей армии превосходство в воздухе и массу важных донесений с территории противника. Но было уже поздно. За эти дни воины Христа преодолели сопротивление турок и взяли Иерусалим, перерезав большую часть его защитников и населения[70].
Делали они это примерно так: Вжик, вжик, вжик, Уноси готовенького! Вжик, вжик, вжик, Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького?5
Как и все высокоинтеллектуальные дети, мы не любили играть в игры предшественников и по возможности меняли тактику ведения боя, доводя до совершенства любое отступление или вступление в игру. Так мы разработали (но не успели запатентовать) новые правила для догонялок. Правила были очень простыми: бегать, не касаясь земли. Или – парить, как херувимы.
Территорией для наших игр был выбран садик, и мы носились в догонялки, проявляя разные способности, у одинаковых с виду детей.
К примеру, Соловей в случае опасности взбирался на верхушку любого дерева так стремительно и так безрассудно, что сразу становилось понятно: если полезть за ним следом, Боливар не выдержит двоих[71] и ветка отломится. Минусом в его тактике становилось то, что (как все вы прекрасно понимаете) залезть на вершину любого растения не представляло никакой сложности для руферов вроде нас. А вот слезть без хвоста – трудно. Поэтому Соловей частенько подвисал на верхушке вяза и пропускал добрую половину, а то и всю игру целиком.
У Пупка тактика была иной. На краю территории детского сада рос клен. Две ветки протянулись на крышу трансформаторного дома, находящегося уже за забором, и развалились там, как у себя дома. Крыша этого сооружения располагалась на высоте четырех метров, а расстояние от нее до забора было больше трех. Эти три метра можно было перелазить по одной из веток. Пупок просто перебегал по стволу на крышу и начинал его трясти. Если же кто-то упирался и погоня продолжалась, то в тот момент, когда нога преследователя касалась крыши, Пупок возвращался по другой ветке назад и слезал с дерева на забор.
Вот точно так же путано, как это рассказал вам я, делал и он.
Я, в случае опасности, применял иную военную хитрость. Давид залезал на крышу одной из двух больших беседок и прыгал вниз, хватаясь в полете руками за край так, чтобы инерция движения заталкивала мое тело внутрь строения. Главное в этом акробатическом трюке было вовремя сжать и разжать пальцы рук, потому что, если конечности отцеплялись от крыши позже необходимой точки отрыва, каскадер приземлялся на спину и, грохнувшись затылком о деревянный пол, мог здорово повредить ту самую часть мозга, которая как раз и отвечает за координацию движений и регуляцию равновесия нашего тела.
Еще одна уловка удирания от мающегося игрока заключалась в перелазании на качели. Ветка дерева, растущая рядом с качелями, была очень тонкой, а качели достаточно высокими для мальцов вроде нас. Трюк требовал не только ловкости рук, но и легкости тела. После того как убегающий пострел перебирался на качели (с которых бежать было уже некуда), он начинал банально раскачиваться взад-вперед, и догоняющий, если даже и умудрялся перебраться на верхнюю перекладину качелей, спрыгнуть на беглеца уже не мог.
Эта тактика отступления имела один существенный недостаток – попав на качели, убегавший вынужден был качаться до конца игры, так как опять залезть на верхнюю перекладину, а с нее на дерево не представлялось никакой возможности, потому что столбы, поддерживающие перекладину, были слишком толстыми, чтобы обхватить их ладонями и ступнями, и слишком тонкими, чтобы обнять их руками и ногами.
Однажды на этих качелях при мне исполнили солнышко. Качели в нашем дворе были сооружены слесарями из домоуправления, не по принципу, как безопасней, а по привычке – из того, что было. Масса конструкции несомненно превышала допустимые нормы для детского учреждения. Я пытался несколько раз крутануть на них солнышко, но мне не хватало разгона, либо меня останавливали взрослые.
После того, как однажды к кому-то из пацанов в гости приехал мальчик и решил покрасоваться, заявив, что у себя во дворе он крутит солнышко только так – качели (во время исполнения акробатического трюка) остановились в зените славы и зависли на одно мгновение, хватившего, чтобы каскадер полетел вниз и, ударившись о перекладину, грохнулся на землю плашмя. Железяка начала опускаться, а мальчик вставать. Вставай он чуть медленнее, и качели снесли бы ему голову. Но, находясь еще в состоянии шока, пацан вскочил быстро, и перекладина ударила его по спине так, что он отлетел на два метра и только благодаря гибкости растущего организма не сломался пополам.
После этого я прекратил попытки сделать солнышко сам и смирился с мыслью, что мне этого не дано. Смертельная опасность всегда привлекала мое внимание и заставляла обходить стороной ее уродливую внешность. Чувство осторожности на грани, но не за ней, спасало Давида не раз и не двас. Когда у нас в городе начали строить речной порт, мы ходили лазать по стройке и совершали головокружительные прыжки – увы, не для всех закончившиеся благополучно. Но об этом позже. Возвращаясь к догонялкам по воздуху, я не могу не упомянуть о главной связующей магистрали, или я бы даже сказал, малого кольца во дворе нашего федерального округа. Этим кольцом был забор, ограждающий садик и мир детских игр от забав взрослых чудаков. По этому забору мы перемещались в любую часть игровой площадки.
Забор был возведен из рабицы, зафиксированной в прямоугольных конструкциях, из металлического уголка, которые, в свою очередь, были приварены к столбам, врытым в землю, которая, в свою очередь, была основой нашего двора, который, в свою очередь, находился на территории Центрального района, который, в свою очередь, украшал центр Волгограда, который, в свою очередь, располагался на юго-востоке Европейской части СССР, который, в свою очередь, раскинулся на севере материка Евразия, который, в свою очередь, омывается Индийским, Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами, которые, в свою очередь, плещутся на планете Земля, которая, в свою очередь, кружит прима-балериной в Солнечной системе, которая, в свою очередь, парит в Млечном Пути, который, в свою очередь, ведет к галактическому сверхскоплению Девы, которая, в свою очередь, отдалась крупномасштабной структуре Вселенной, которая, в свою очередь, раскинулась на окраинах нашего сознания, которое, в свою очередь, является сущностью не материальной, которая, в свою очередь, пытается материлизоваться с помощью религии, которая, в свою очередь, приносит большие дивиденды, которые, в свою очередь, способствовали расцвету искусств, которые, в свою очередь, украсили племя вчерашних обезьян и помогли им выделиться на общем фоне собратьев.
Тут главное – соблюдать свою очередь и не лезть в чужую, чтобы не получить ребром заточенной ладони по детской беззащитной шее и не потерять голову, как девочка Джейн[72], лишив себя тем самым мышления, которое, в свою очередь, стремится познать универсум Создателя, который, в свою очередь, пытается от него спрятаться и сохранить в тайне смысл бытия…
Удерживать равновесие во время бега было нелегко, так как хлипкие конструкции раскачивались даже под нашими худосочными телами. Иногда нога соскакивала с уголка, и в такие мгновения было очень важно сгруппироваться и, схватившись в падении за забор, поджать ноги, чтобы не коснуться земли. А потом быстро забраться назад и продолжить бегство или погоню, в зависимости от того, кем ты являлся в тот момент – преступником или стражем закона. Если земли во время погони касался мающийся ребенок – ему приходилось размаиваться дважды, чтобы вступить в прежнюю банду. То есть (на жаргоне взрослых) – войти в доверие.
От беготни по забору и лазанию по деревьям мои дворовые брюки постоянно рвались, и однажды, когда мы с пацанами сели считать, у кого больше дыр, я насчитал на штанах одиннадцать зашитых и три свежие, крупнокалиберные раны.
По вечерам во двор с гитарой выходил Ганс. Его друзья подтягивались из соседних дворов. Они шли с бутылками вермута в сетках-бесстыдницах и портвейнами, околпаченными гранеными стаканами. Кто хоть раз в жизни познал вкус волгоградского горелого вермута советского производства, тот познал и горечь расставания организма с этим благородным напитком уже на второй или пятой минуте гостеприимства. И только когда в результате многомесячных изнурительных тренировок наступало привыкание, только тогда вы могли по настоящему оценить весь букет, всю гамму этого удивительно гармоничного напитка, попадающего в восемьсотграммовые бутылки темно-зеленого цвета (прозванные в народе «огнетушителями») вместе с характерными оттенками: альпийской полыни, тысячелистника, корицы, кардамона, черной бузины, мускатного ореха и проходящих мимо насекомых. Поэтому во время разлива шедевра самым букетированным всегда считался последний стакан, выпить который решался не каждый советский гражданин или гражданка.
Для нас Ганс был взрослым дядькой – парень лет тридцати. Он хорошо играл на семиструнной гитаре и пел каким-то особенным, удивительным манером. Позже, когда я сам взял в руки гитару и стал изучать магнитофонные пленки с запрещенными в СССР песнями, на одной из бабин я обнаружил знакомое исполнение и понял, что Ганс подражал Аркадию Северному.
Приходя в наш двор, друзья Ганса собирались в беседке, что стояла между фонтаном и ступеньками, ведущими в нижнюю часть двора. Расположившись в деревянном павильоне, отмеченном резными элементами народного творчества, Ганс начинал петь, чередуя периодически (в этом действии) букву «е» с буквой «и».
От него я впервые услышал «Окурочек» Юза Алешковского, «Институтку» Марии Вега, «Поспели вишни» Григория Гладкова и многие другие хиты тех времен.
С особым шиком и вдохновением он распевал песню «И вот сижу опЪять в тюрЪме», получившую широкую популярность в нашей стране, после исполнения ее баронессой Диной Верни, где припев: «На нарах, бля! На нарах, бля! На нарах!» – подхватывали все друзья Ганса, воодушевленные тем, что они не там.
Свою кличку Ганс получил из-за происхождения. Говорили, что мать родила его от военнопленного немца. Настоящего имени я не знал, так как все его звали Ганс. Возможно, это была даже не кличка, а имя. В таком случае остается только восхищаться мужеством женщины, решившейся на такой поступок. Называть сына немецким именем в послевоенном Сталинграде было полным безумием, даже в честь отца. А, как известно, от мужества до безумия один шаг.
Каждый вечер Ганс пел до полного изнеможения, поэтому назад его уводили под руки. Но на следующий день он выходил как новенький – в белом пиджаке и наглаженных твидовых брюках темно-вишневого цвета. Заботилась о нем старшая сестра. Вместе со своей семьей она жила в той же коммуналке, что и брат. И была, в противоположность Гансу, собранной, серьезной женщиной. Когда Ганс напивался, его голос летел по темнеющему двору в пустоту арок так заунывно (если песня была грустной) и так зажигательно (если это была «Мурка»), что обитатели нашего дома прощали поздние посиделки менестрелю, пользуясь бесплатной возможностью бывать на концертах бардовской блатной песни несколько раз в неделю, пока не наступала зима.
Так заканчивался день, и я шел ужинать и спать. Ложась в кровать, я смотрел в почерневшее окно и думал о рыбках в моем аквариуме. Я размышлял о том, как они будут плавать во мраке, когда мама выключит свет? И закрывают ли они на ночь глаза… И боятся ли, как я, темноты…
Потом я вспоминал гол, забитый Соловьем в мои ворота, и начинал анализировать ошибки в собственной обороне. Ошибки сталкивались лбами, и я видел, как искры летят из глаз Вовки Егорова, на которого я натолкнулся во время контратаки. Я слышал смех Пупка, свалившегося на футбольную площадку и схватившегося за живот. Вспоминал шишку, выросшую у меня на лбу после столкновения с Вовкой, и шишку Егора, которую я щупал, когда мы решали, чья шишка больше. Шишки были горячие и очень болели. Я протягивал руку, проверяя – на месте ли моя шишка, и, вздрогнув от боли, успокаивался, убедившись, что шишка никуда не делась и мне будет о чем поболтать в садике.
В этот момент мама включала радио, где по вечерам шли радиоспектакли и, прислушиваясь к разговорам героев Федора Ивановича Достоевского, я засыпал под их неспокойные, полные сомнений и переживаний раздумья о будущем России, в котором я находился. Переживали они бархатным голосом диктора, используя разнокалиберную речь и постоянно реверсируя мыслями в смекающемся пространстве произведения под фортепианную каденцию симфонии «Турангалила»[73].
Сон приходил незаметно. Думы и воспоминания о минувшем дне получали свое продолжение, и я, стараясь отыграться в проигранном матче, просыпался среди ночи от боли в ноге после сильнейшего удара по мячу, которым оказывалась стена. Я переворачивался на другой бок, чтобы в случае необходимости наносить удар в воздух, и матч продолжался.
А когда возвращалось утро, мама готовила мне манную кашу. После приготовления каша была горячей, и мама разливала по краям клубничный кисель, простоявший всю ночь в холодильнике. Розовый, тягучий кисель растекался по кругу в моей тарелке. Я зачерпывал его ложкой и рисовал узоры на поверхности каши, образуя таким замысловатым способом манные реки и кисельные берега. Затем осторожно брал горячую кашу с краев и отправлял в рот, радующийся такой вкуснятине. Проглотив кашу, рот просил добавку, и я шел у него на поводу, повторяя процедуру до тех пор, пока тарелка не обнажала дно, а мое пузо не наполнялось доверху. Тогда я ставил тарелку в раковину, и мама мыла ее, напевая свою любимую песню:
Жил-был с бабкою дед, Ел щи да кашу. Записали его В джаз-банду нашу, Стал дед тот стильным чуваком — Через соломку Тянет водку-коктейль, Пьет самогонку.Помню, в один из таких воскресных дней к нам позвонили. Я знал, что если звонят в такую рань, да еще в оба звонка сразу (наш и соседский), это могло означать только одно – принесли черную икру. Черную икру добывали браконьеры. Ночью они проверяли снасти, снимали улов, промывали и солили икру. А утром ходили по домам и предлагали пол-литровые банки с деликатесом, по два рубля за штуку. Икру продавали только за рубли, так как официальный курс доллара в СССР равнялся шестидесяти восьми копейкам. Но рискнувших обменять доллары на рубли (или рубли на доллары) милиционеры сажали в тюрьму, а иногда и расстреливали, если курс обмена валюты не устраивал главу государства, не имевшего в то далекое время собственного валютного счета и очень обижавшегося за это на валютчиков великой страны.
Цена на черную икру менялась по мере моего взросления. Мама покупала икру один-два раза в месяц, и я ел еще не рожденных осетрят, распределяя их на хлебе с маслом таким образом, чтобы они оказывались хвостами к едоку и не видели, как бутерброд заплывает в мой рот. Зараз мама разрешала откушать не больше одного бутерброда. При этом настоятельно рекомендовалось экономить сливочное масло, стоившее дороже черной икры.
Инвектива вторая
1
В шесть лет меня отдали в плавание, где я освоил навыки поплавка.
Наконец-то не придется нырять в песочницу! – думал я, заявляясь на тренировку в центральный плавательный бассейн, расположенный на территории Центрального стадиона на окраине Центрального района, рядом с Мамаевым курганом и монументом Родина-мать. Я не буду сейчас описывать вид этой женщины с тридцатитрехметровым мечом в руках. Скажу только одно – она тяжелее моей прабабушки на семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят килограммов[74]. И выглядит не по-женски, пугающе-грозно, полностью соответствуя родине, на которой стоит.
Мой тренер научил передвигаться Давида по водной пустыне, работать руками и ногами на спине и животе. Но в целом про тренировки по плаванию рассказывать нечего – осень и зима прошли в соплях. Часто простужался или, если быть точнее, до конца не выздоравливал.
– Апчхи! – вылетало из моих легких, когда я шлепал босыми ногами по холодному коридору в душ.
– Апчкуй! – отражалось эхо от влажных кафельных стен, устраивая чихоточный пинг-понг.
Нырять ни с десяти-, ни с семи-, ни с пятиметровой вышки не разрешали. Только с трешки, и то тайком – когда тренер отвернется или выйдет на перекур. Зато про спортивный лагерь, куда я поехал, распрощавшись с детским садиком, посплетничать могу. Грамотный рассказчик делает во время такой паузы пару затяжек, чтобы освежить картину тридцативосьмилетней давности. Но я помню все и так, потому что бросил курить двадцать шесть лет назад, когда проходил службу в «королевских войсках».
* * *
И вот настает день отъезда… Мама нагружает мой чемоданчик носками, шортами, майками, трусами, полотенцем, печеньем, конфетами и всякими другими полезными штучками. Отводит на вокзал и со слезами (будь я на ее месте – у меня были бы слезы радости) сажает в вагон, набитый до отказа молодыми спортсменами.
Ребята двенадцати – пятнадцати лет смотрят на меня по-отечески свысока и успокаивают маму: «Не переживайте, тетя Тамара! Мы за ним присмотрим…»
Мои конфеты они присмотрели еще в дороге, и я передал их, как чехи Судетскую область фюреру, смирившись с произведенной аннексией моих сладостей их животами. Но тут стали раздавать сухой паек, куда входили хлеб, банка тушенки, пачка печенья и – о чудо! – банка сгущенного молока. Невероятная роскошь по тем временам. Одна на троих? – подумаете вы? И, протянув руку для рукопожатия, я отвечу: «Каждому!»[75].
Компенсируя недавнюю контрибуцию, пацаны подарили мне банку молока, и со стороны это выглядело так же умилительно, как и торжественная передача Брестской крепости (немецко-фашистскими войсками Гитлера) Красной Армии Сталина, в благодарность за согласие Джугашвили раздербанить сладкую, как рахат-лукум, Польшу[76].
Мульт: Historiam nescire hoc est semper puerum esse[77].
Это было мое первое путешествие. Путешествие по шпалам… Без Чебурашки. Без дяди Гены. Без Шапокляк. Без Соловья, с которым мы совершим побег из исправительно-трудового лагеря от детской комнаты милиции спустя пять лет…
Только я и спортсмены. Спортсмены-мальчики. Мальчики-подростки в расцвете безумия.
Поезд полз по городу, и я видел совершенно незнакомые мне районы, понимая уже тогда, что живу в самом красивом, самом уютном месте нашего града. Русские люди вместе с пленными немцами построили маленький кусочек Рима на берегу большой Волги, доказав себе и противнику, что совместный труд не имеет языковых барьеров и политических разногласий, оставляя о себе благодарные воспоминания в сердцах потомков непобежденного им народа, даже на территории врага.
Этот кусочек волгоградской Италии получил гордое название: Центральный район. Не какой-нибудь там Краснооктябрьский, Красноармейский или Советский. И слава богу, ему не присвоили имя инициатора массового террора и захвата заложников по всей России – Феликса Дзержинского. Террориста номер один, два, три, четыре… Революционного беса, ненавидящего детей Создателя[78]. То есть самое лучшее изобретение Бога, если, конечно, не брать во внимание остальных жителей нашей планеты, которые за это на нас не обижаются, потому что, являясь существами разумными (в отличие от людей бестолковых), смотрят на человеческую самоуверенность с некоторой долей иронии – похрюкивая и покрякивая между собой от смеха.
2
А тем временем наш поезд мчался вперед, отбивая колесами старую детскую страшилку про мальчика Петю и вагоны в кювете…
– Ты чего раскис, как сопля? – спросил жилистый худой паренек, тронув меня за плечо.
Я оторвал взгляд от окна и посмотрел на него снизу вверх:
– Ничего. Просто в окно смотрю.
– Не грусти! В лагерь приедем, там речка – будешь купаться сколько душе угодно!
Я улыбнулся, еще острее ощутив на сердце незнакомое мне доселе чувство тоски, которая впилась в мою грудь черным копьем и, проникая меж ребер в тело, искала новую жертву. Тоска, гепатит души, напоминающий о себе после каждого веселья, на этот раз прилипла ко мне, испортив настроение мальцу, отважившемуся покинуть отчий дом на три недели. И хотя я был полностью согласен с дедушкой Лёвой, что человек обязан быть счастлив всегда, а если он несчастлив, то виноват в этом сам[79], – я никак не мог понять, в чем же заключается моя вина?
Мульт: И почему мне его не наливают?
Парень пошел дальше по вагону, который гремел, визжал, гоготал, грохотал и звенел под струны гитары, стараясь выразить, выкрикнуть, выпрыгнуть в летящее мимо пространство одно-единственное неповторимое состояние, исторгающееся в вопль душевного безумия:
– Свообоодаа!!! Мы свободны!
Повернувшись к окну, я уставился глазами, полными слез, тоски и отчаяния, на бескрайнюю пустошь степи, выжженную до самого горизонта жарким июльским солнцем. На клочья изорванных облаков, несущихся сломя голову впереди тепловоза. И на ту внутреннюю, необозримую картину детской растерянности от путешествия в далекое… В неизвестное… Уносящее прочь… Из дома… Из пухлых вечерних сумерек родного, исследованного вплоть до муравьиных троп двора…
Колеса мерно отстукивали время, поглощаемое инерцией собственного движения, и, приближая неизбежный финал, делили прошлое и будущее настоящим. Через пару часов поезд прибыл на нужную станцию. Станция дыхнула на нас зноем жаркого лета и безлюдьем затерянных средь волгоградских степей сёл. Всех погрузили в автобус и повезли в лагерь. Лагерь находился в сосновом бору. Это была территория, местами огороженная частоколом, местами вымахавшим в человеческий рост бурьяном, состоящим из амброзии и лебеды. На территории располагались столовая, возведенная из белого кирпича и покрытая серым шифером. Склад из того же материала. И дом для тренерского состава, наполовину каменный, наполовину деревянный. Спортсменам предназначались палатки. Их тут же достали со склада и разложили по намеченным меж сосен местам. Еще в поезде ребята поделились на компании для совместного проживания. Этими компаниями они и стали возводить четырех-и шестиместные брезентовые шатры армейского производства.
Засосав назад вылезшую было оглядеться соплю, я стоял со своим чемоданчиком посреди этого хаоса и, как папильон[80], потерявший хозяина, встревоженно озирался по сторонам, не зная, с чего начать. Вскоре меня заметил тренер и, приблизившись, спросил:
– В какой палатке ты будешь спать?
«Ни в какой – верните меня домой!» – воскликнул мой внутренний голос, прошептав вслух:
– Еще не определился…
– Сейчас мы тебя определим! – бодро заверил меня наставник и, взяв за руку, повел по лагерю, интересуясь, у кого есть свободные места. Ясное дело – все открещивались от Давида, как могли, потому что прекрасно понимали, что в силу своего юного возраста он станет обузой в ночных вылазках, перекурах и прочей шняге, за которой, собственно, и ехали в этот сосновый край юные пловцы. В конце концов тренер пристроил меня в шестиместную келью, заселенную тремя пентюхами, одним оболтусом и придурком. Все они были старше меня на пять-семь лет. Шестое место стало моим.
Установив палатку, каждый шагал на склад за раскладушкой и выбирал ее в общей куче металлолома. Пока все таскали раскладушки, наша постройка то провисала, то косилась, то вообще падала на землю. Пять оленей и я, занимавшиеся ею второй час, никак не могли правильно воткнуть столбы и растянуть веревки. Когда же это чудо зодческой мысли было наконец возведено, мы отправились на склад. Душки-душки-раскладушки нам достались самые что ни на есть стремные, потому что к финишу наша бригада пришла последней. И неудивительно, что наиболее потрепанную вручили мне – самому младшему спортсмену лагеря. Раскладушка была погнута, имела несколько оторванных пружин и отломанное крепление для подъема подголовника. Я провозился с ней минут двадцать или тридцать, и когда наконец установил – рухнул без сил, тут же провиснув до земли.
Сосед-придурок ехидно спросил:
– Удобная кроватка?
– Ага, – ответил я, – вспомнив напутствие Оскара: «Чтобы быть естественным, необходимо уметь притворяться»[81].
Притворяться я не умел, но изображать мог. Я изобразил спартанское безразличие к неустроенности быта.
Вечером нас отвели на ужин в столовую, где подали пюре, котлеты и компот. Ночью в палатке было холодно, и я долго не мог заснуть, представляя свой двор, пацанов и попугая Попку, которого я так и не переименовал перед отъездом из дому. Было немного стыдно, и, чтобы как-то развлечься перед сном, я стал придумывать птахе новую кличку…
Первые дни протекали однообразно: подъем, зарядка, завтрак и свободное времяпрепровождение. Часов в десять приезжал автобус и всех увозил тренироваться на озеро. Там была «большая вода». Но через несколько дней автобус сломался, и пацаны стали ходить на озеро пешком. Меня с собой не брали, так как я был слишком мелкий, а присматривать за мелюзгой никому не хотелось. Я оставался на попечении лагерного персонала, разбредавшегося по своим делам и состоявшего из двух пышных поварих, лихо раскачивающих (во время променада) из стороны в сторону арбузами переспелых ягодиц; электрика, категорически отказавшегося от моей помощи во время ремонта лагерного трансформатора, и сторожа-бородача с пожелтевшими от никотина усами и глазами, осоловевшими от самогона.
– Вчера пил коктейль «Слеза комсомолки»… – бормотал себе под нос сторож. – Не понравилось! – рубил дегустатор ладонью воздух. – Сегодня попробую «Тетю Клаву», – перелистывал он на ходу страницы книги «Москва – Петушки», отыскивая нужный рецепт[82].
Познакомившись с лохматым лопоухим псом, жившим под ступеньками, что вели в столовую, где на окнах сидели жирные мухи и терпеливо ожидали вкусный обед, я стал ходить на речку вместе с собакой, согласившейся стать моим другом до конца смены. Речка протекала недалеко от лагеря и на самом деле была ериком, заросшим камышом, водорослями и кувшинками. Но меня она вполне устраивала, так как на берегу имелся небольшой пляж. Иногда на этот пляж забредали колхозные коровы, чтобы в жаркий летний день напиться из ерика теплой мутной воды и расставить противопехотные вонючие мины. Скотина делала это не по злобе, а просто так, по привычке, доставшейся от рогатых отцов и выдоенных матерей. Тем более что в те далекие времена еще не был принят Оттавский договор[83], запрещающий заниматься подобным безобразием на всей планете. Забегая вперед, скажу, что и сейчас коровы в наших краях продолжают развлекаться тем же нехитрым способом, зная, что Россия отказалась присоединяться к настолько миролюбивому договору ООН, что мне кажется – будь главой нашей страны Иисус, Он бы обязательно подписал и ратифицировал это пацифистское соглашение, прежде чем вернуться на небеса и стать первым президентом России, попавшим (на экскурсию) в рай.
Когда, выпив часть водоема и ополоснув вымя, коровы уходили в луга, я разминировал покинутую животными территорию и возобновлял пляжный туризм. Плоды тутового дерева, растущего на берегу ерика, заменяли мне разные лакомства: пирожные, мороженое, торты, чуреки, варенье и печенье. Постепенно одичалость моя дошла до такой степени, что вместо столовой я стал посещать приезжающий в лагерь грузовик с хлебом. Я залезал в него, пока водитель шел подписывать накладные и воровал сайку теплой выпечки. Хлеб источал аромат пекарни и трепетно хрустел от прикосновений моих пальцев. Подушечки пальцев обжигались о шероховатую поверхность хлебобулочного изделия и трусливо перебегали с одного места на другое, покрываясь колючими крошками. Буханки лежали рядами, и самые горячие прятались в центре. Вытащив свежий кирпичик, я аккуратно сдвигал ряд и, заметая следы преступления, вспоминал рассказы прабабушки о том, как во времена Джугашвили голодающим детям прибавляли по одному году тюрьмы за каждый сворованный колосок. И ни одного дня за угасающую от истощения жизнь…
С этой сайкой, в тени шелковицы, я мог преспокойно прожить целый день, совершенно не думая о прошлом и уж тем более не мечтая о будущем. Я наполнял себя воздухом, солнечными лучами и влагой реки, оставаясь не замеченным миром даже с глазу на глаз.
Так проходили дни.
С утра до обеда время проскальзывало ниткой в ушко полудня так быстро, что часто я не замечал этого события. Но после полудня, попав в западню иголки, пронизывающей каждую минуту нового часа стежками неугомонных секунд, время сбавляло темп и, прикрепляя прожитый день к моему сознанию, не спешило приближать сумерки будущей ночи. Сумерки приходили в мягких домашних тапочках и бесшумно ступали по притихшему сосновому лесу, распыляя вокруг туман.
Иногда, обнаружив меня за ужином, тренер напрягал память, припоминая, кто я и что здесь делаю.
– Вспомнил! – восклицал он и, подойдя ко мне, произносил недвусмысленные фразы о том, как опасна (и романтически прекрасна!) дикая природа за территорией спортивного лагеря.
Выглядело это так:
– Давид, мне сказали, что вчера тебя опять весь день не было в лагере. На речку купаться ходил? Ходить одному на речку очень рискованно! Ты должен быть под присмотром старших. Понял?
– Ага, – отвечал я.
– Ну, вот и молодец, – хлопал он меня по плечу и, выполнив долг наставника, приступал к приему пищи.
Вскоре миновала неделя. На выходные тренер уехал в город, а вечером часть пацанов собралась и отправилась в местный клуб на танцы. Клуб находился в пяти километрах от лагеря. Вернулись они уже ночью. Утром, когда начался дождь, мы увидели, что у некоторых танцоров под глазами сияют звезды, отливая фиолетовыми и розовыми полутонами. Герои Древней Эллады наперебой рассказывали о вчерашней драке с местными аборигенами и об одержанной ими победе.
Дождь не прекращался весь день, а ночью появились эринии. Они привели с собой туземцев, вооруженных ножами и кольями, и надоумили их порезать крыши наших палаток.
Прорвавшись пресными волнами ливня в соленые слезы моих глаз, воды Средиземноморья хлынули в омут почерневшей ночи[84] великим потопом детских эмоций, навсегда изменив историю народов и заставив повзрослеть дрожащего от холода мальчишку. Олухи из моей палатки сдрейфили выбегать на улицу, откуда доносились грубые мужские голоса, изрыгавшие свирепые проклятия. Постепенно к ним стали примешиваться знакомые интонации юных спортсменов, и вскоре ураган ненависти, таившийся в глубинах подростковых сознаний, вырвался наружу, уничтожив тишину соснового бора и нарушив заветы Христа.
Что-то трещало и крушилось, вопило и свирепствовало за тряпичными стенами вздрагивающего от ветра брезента. Что-то большое, многорукое, скуластое и безжалостное било и бушевало, падало и стонало, ревело и чавкало, будоража сознание семилетнего мальчика. Со всех сторон слышались призывы возмездия. Время остановилось, развалившись в трибунах Колизея, и наслаждалось сражением бестиариев[85]. Поджав колени и положив на них голову, я сидел на раскладушке, прислушиваясь к воплям обезумевших слонов; ржанию пронзенных копьями лошадей; реву тигров, разрывающих кинжалами стальных когтей грудные клетки приматов из семейства гоминидов[86].
Вдруг чья-то огромная волосатая лапа протиснулась в нашу палатку и, выдернув кол (служивший опорой всей конструкции), исчезла, обрушив купол Успенского собора[87]. Мои соседи по коммуналке подхватили тяжелую брезентовую ткань и застыли в позе атлантов, покрытые мурашками страха с головы до ног. Постепенно битва стала смещаться за речку, и вскоре послышались возбужденные голоса победителей, возвращающихся с последнего сражения Александра Великого[88]. На молодых загорелых лицах триумфаторов сияли улыбки счастья и синяки фонарей.
О, это сладкое слово «победа» – сестра свободы. Мы победили! Мы выиграли! Мы грохнули, разорвали, прогнали противника вон! А значит, я не попаду в плен! В рабство. Не буду грести на галерах… А жаль… – так хотелось стать аргонавтом.
После этой истории я простыл. Дыры в палатках кое-как заделали, залатали раненых, но дождь не прекратился и на следующую ночь, когда мне приснилось вчерашнее сражение. Я проснулся от дикого крика воина, подброшенного в небо гигантскими бивнями африканского слона. Открыв ослепленные тьмою палатки глаза, я дождался, пока зрение привыкнет к мраку. Вокруг шумел дождь… Отфильтровав кровь, почки выполнили возложенную на них обязанность, и теперь пришла очередь хозяина исполнять условия жизнедеятельности своего организма. Туалет находился на другом конце лагеря. Шагать до него нужно было через лес по тропе, освещенной тусклыми фонарями в двух местах.
В то далекое время, когда, сломив сопротивление Творца, советская власть вывела Его войска с территории России и ввела новые, неведомые до этого силы тьмы, никто еще не знал о существовании вурдалаков, но все чувствовали присутствие стражей ночи. Их липкий запах, смешанный с испарениями сырой земли, шелест крыльев в кроне раскидистых елей и бормотание в трясине ночного вязкого воздуха – выдавал тварей, как бы ни старались они себя скрыть. Поэтому большинство ребят писали рядом с палаткой. Тренер неоднократно ругался по этому поводу, запрещая ночные слабости, и я не хотел нарушать заветов Ильича. Идти в туалет было страшно. Не было уверенности в том, что упавший воин уже умер, а не лежит где-то там, рядом с тропинкой, сжимая в слабеющей руке меч и ожидая того, кого он сможет забрать с собой на тот свет, выполняя последний подвиг безумца… последний подвиг безумца… последний подвиг безумца…
Встав с раскладушки, я подошел к выходу и, отогнув сырую материю, выглянул наружу, увидев обезображенную тьмой природу. Она дышала ночной мглой и неподдельным страхом потерявшегося во сне ребенка. Почерневшим контуром мокрой слизи дорожка расплывалась в прозрачной пленке дождя, ускользая меж величественных сосен одеревеневшей змеей. Желтые пятна фонарей прятались за потемневшими стволами деревьев, создавая неодолимую преграду для внутреннего состояния мальчика, обусловленного пейзажем промозглого мира.
Подчиняясь законам физики, холодный воздух начал отъем тепла у моего тела, добиваясь термодинамического равновесия, которое, в свою очередь, потребует остановки потоков материи и энергии во всех органах организма[89]. Глубоко вздохнув освежающий сумрак, я смахнул влагу со лба и, вернувшись внутрь, залез с головой под тонкое шерстяное одеяло, замедлив процесс теплообмена. Провисая, брезентовая крыша стекала большими, тяжелыми каплями на бритую макушку земли, выдалбливая около моей раскладушки небольшое углубление. После каждого плюханья капли собравшаяся в ямке жидкость разлеталась в стороны, соединяя бульканье падения и всплеск отдачи в один звук: кап… кап… кап… Так тоскливо и обреченно капает влюбленная в лето осень, вынужденная развенчивать и умерщвлять его по воле богов.
Постепенно звук стал разделяться чередуясь областями сжатия и разрежения на буль… дзынь… тук… буль… дзынь… тук… Звуки плыли, излучаясь в окружающее пространство новыми колебаниями, и, расслабившись, мой мозг стал переходить в медленную фазу сна[90]. Привычно отключая рефлексы детского сознания, сон случайно обесточил тот пульт управления, из-за которого случилась беда. Под звуки протекающей крыши я нарушил заповедь тренера, и утром меня разбудил злорадный крик придурка. «Фуу!» – корча гримасу тянул лоботряс, одной рукой затыкая клюв, а другой указывая на меня пальцем…
Эта история полоснула детское самолюбие, разделив жизнь в лагере на до и после неприятного события. Придурок, тот самый придурок, что обоссался прошлой ночью вместе с другими лузерами выйти на помощь своим товарищам, теперь упивался собственным превосходством. Если бы он не был старше меня на пять лет, я бы сумел заткнуть ему рот. Но в данной ситуации это показалось мне безнадежной затеей.
После того как он поднял меня на смех еще и в столовой, я несколько дней не появлялся в общепите, довольствуясь украденными сайками. Грозные события прошлой ночи стерли в памяти тренера файл, хранящий информацию о моем существовании. Ему было не до меня, и я стал полностью принадлежать себе. С утра пораньше я забирал преданного мне пса и отправлялся с ним на речку, возвращаясь в лагерь только к привозу хлеба. Буханки мне хватало на два дня, частенько заменяя обед, а иногда и ужин. Этим же калачом я кормил собаку и рыбок в речке, а вечером слонялся по территории лагеря, стараясь приходить в палатку уже после отбоя. Так пролетело оставшееся время спортивного отдыха, и через двадцать один день мы опять сели в поезд, который повез нас домой, в том же самом вагоне, в том же самом поезде, но только в обратном направлении и уже почти без эмоций.
Увидев в проеме вагона тень с чемоданом в руке, мама чуть не рухнула на перрон. Мы сели в автобус, чтобы проехать две остановки, и всю дорогу она расспрашивала меня, почему я такой худой.
– Вас что, там не кормили?! – возмущалась мама.
Я что-то ей отвечал, но, если честно, разговаривать мне не хотелось. Я хотел спать.
Всю следующую седмицу спортсмена подвергали реабилитации, известной в народе еще со времен Ильи Муромца. Я любил русского богатыря Илюшу, несмотря на то что он носил имя религиозного фанатика Илии, прославившегося более двух тысяч лет назад убийством двухсот человек иного вероисповедания[91], а теперь мирно писающего во все водоемы моей страны в августе месяце, когда народ особенно подвержен урофилии и молитвам о золотом дожде[92].
Лечили меня так. Просыпаясь утром, я шел на кухню и пил куриный бульон, после чего возвращался в комнату и засыпал богатырским сном. Пробуждаясь в обед, ел куриный суп, а потом мама давала мне ложку рыбьего жира. Рыбий жир из маленького пузырька янтарно-черного цвета и круглосуточный сон вернули ребенка к жизни за неделю. Выздоровев, я встал, испил колодезной водицы и поспешил к своим дорогим и любимым друзьям: Соловью Разбойнику, Злодею Егору и Жулику Пупку. Забегая вперед, хочу сказать, что это был первый и последний раз, когда Давид страдал от лагеря. В дальнейшем все происходило наоборот. Хотя нет – еще один случай все же случился… Но о нем позже.
5
Интересно, почему Иисус слег, а Муромец встал в одном и том же возрасте?..[93] Какая-то историческая эстафета?.. Так-так-так… а меч-кладенец – это эстафетная палочка? Люблю эстафеты! И, как оказывается, не я один. Вот, к примеру, вчера: включаю я телевизор, а там счастливая журналистка рассказывает внимательным телезрителям сказку, где роскоши и великолепия хватает только до полуночи, а потом наступает тыква… Или, как мыслят экономисты, дефолт.
– Я, – говорит, – недавно встретила председателя Счетной палаты (Даниель, Даниель – Леман, Леман[94]) и обратилась к нему с вопросом (позволили бы мне разок задать ему вопрос): «А можно ли было пускать в расход (я бы израсходовал тогда кой-кого…) на спортивные мероприятия и саммит АТЭС семьдесят миллиардов[95] Джорджей Вашингтонов[96], в то время как многие граждане страны сосут лапу, курят бамбук и… (заряжают «Бук»).
– Нужно! – ответил лихой генерал (тот, что с друзьями казну охранял), добавив к вышеозвученной шутке милиционера: «Когда старшую дочь выдают замуж, ей вручают все самое лучшее, а младшие донашивают ее рюкзаки. Так и мы – будем донашивать старые рюкзаки, пока старшая выходит замуж!»[97].
Кхм-кхм-кхм… Я не знаю, где продают такую трын-траву и как она называется, но в рюкзачки телезрителей ее явно не положили, перед тем как предложить послушать байку председателя парламентского органа финансового контроля, занимающего лакомый пост уже чертову дюжину лет. То есть как раз все то время, когда и происходил глобальный сбор урожая со священного дерева бюджета, чтобы «зелень» не сыпалась (как манна небесная) на головы трудящихся масс, а оседала в кладовых Швейцарии, созданных высокоразвитыми цивилизациями для случайно разбогатевших аборигенов.
Круглогодичный сбор урожая аборигены производили с помощью нехитрых манипуляций. Они залазали на священный ствол и, так как столпившиеся вокруг туземцы наблюдали за их действиями, срывали плоды с кроны дерева и бросали их вниз. Со стороны всем казалось, что плод, уходил в народ. Но в зарослях нижних веток сидели проверенные-доверенные-посредники. Посредники отлавливали пролетающие мимо плоды, откачивали из них мякоть и закачивали сероводород, модифицируя нечто.
Внизу представители счетной пирамиды складывали дутыши в кузовки, и дальнейшее внимание общественности сосредоточивалось на этих «куклах».
И вот, когда, слезая с вершины священного дерева, глава счетной пирамиды напоследок произнес: «Так и наша страна: будем донашивать старые рюкзаки, пока старшая сестра выходит замуж», я (сидя дома) задал (минуя цензуру) исчезающему в тени отставки казначею нескромный вопрос (прямо в экран телевизора):
– А новый-то, новый рюкзачок чьей «дочке» достался?[98] Внувнувнупрачке президента Линкольна?[99]
На что гостивший у меня в это время Сократ[100] возразил:
– Когда время фиксирует мгновения нашей жизни, не стоит зацикливаться на пустяках.
– Ничего себе пустяки! – возразил в свою очередь я, вспоминая историю жизни философа. И добавил, не отводя взгляда от некогда красивого, одухотворенного лица романтика: – А доведение человека до самоубийства это тоже, по-вашему, пустяк?[101]
Сидя в моем любимом кресле, обитом темно-вишневым бархатом с черными прожилками паутинчатого узора, и глядя насмешливыми глазами мудреца в потемневшее за окном небо, Сократ улыбнулся, потянулся, выпрямился, согнулся и, закончив гимнастическую разминку, повернулся лицом к хозяину, боком к зеркалу и спиной к лесу:
– Помните ту шутку, когда пилот Пол Тиббетс[102], подлетая на своей «матери»[103] к островам Японии, позвонил в штаб ВВС США и сообщил: «На борту самолета обнаружена бомба, возвращаюсь на базу»?
– Не помню, – честно признался я.
– И я забыл. А не следовало бы…
– А это как-то связано с жизнью?
– Связано, – вздыхает Сократ. – Так же тесно, как связана с ней смерть. Видите ли, человек рождается губкой, чтобы умереть камнем.
– И что из этого следует?
– Что смерть приносит покой, стабильность и независимость, – смеется одними глазами гость, воодушевляя меня под занавес: – А значит, мечты сбываются!
– Ну, хорошо, про смерть я понял. А про жизнь?
– А что жизнь? Жизнь, как игра на фортепьяно, – может быть красивой и мелодичной, а может – грубой и фальшивой.
– В смысле?
– Вот вам простой пример: олени родились с рогами, и они счастливы. Змеи родились без ног, и они счастливы. Тараканы вынуждены подъедать за нами крошки, и они тоже счастливы! А люди имеют все, и они несчастны…
– Несчастны потому, что они люди, или потому, что у них ноги?
– Несчастны, потому что их создал такими Бог!
– Разве?
– Бог наградил слона хоботом, птицу крыльями, рыбу жабрами, а человека он наказал сознанием. И теперь оно терзает его даже во сне!
– То есть – выносит мозг?
– Именно!
– Но ведь разум нам помогает жить…
– Наделив человека разумом, Господь понял, что малость переборщил, и налил ему сто грамм, – делает недвусмысленный намек философ, бросая взгляд на мой бар.
– Но неужели все так плохо? – не принимаю я намек близко к сердцу.
– Гораздо хуже, чем вы думаете! Вы же думаете?..
– Нууу… в широком смысле – да.
– А вы попробуйте не думать.
– …
– Попробовали?
– Попробовал.
– И о чем вы не думали?
– О ваших словах.
– Вот видите, – улыбается Сократ, – когда устает птица, она складывает крылья и садится на ветку. Когда устает слон, он вешает нос. Когда устает человек – он все равно продолжает думать!
– А рыба? – интересуюсь я.
– А что рыба?
– Ну… что делает рыба, когда устает она?
– Когда устает рыба, она уже ничего не делает, потому что ее жарят. А перед тем как пожарить, ей вырезают жабры!
– Вырезают?
– Вырезают! А человеку мозги не вырезают! Человека с мозгами отправляют в могилу целиком. И делает это общество!
– А кстати, что вы можете сказать про общество? – пытаюсь я увести разговор в сторону.
– Общество? – переключает сознание Сократ. – О нем уже все сказал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Помните, о чем этот роман?
– Ммм… об Анне… Карениной? – отвечаю я, испытывая некоторые сомнения.
– Нет, дорогой, – улыбается гость, заметив мое замешательство. – Этот роман об обществе. О нашем с вами обществе, способном превратить умную, красивую и цветущую женщину в суицидную наркоманку.
– А как же любовь?
– Любовь – это ожог тела, вывернутого наизнанку, – резюмирует визитер.
– Допустим, – уступаю я ясности мышления собеседника (желая пощекотать иной мотив). – Раз уж вы заговорили об этом сами, скажите, пожалуйста, что вы думает о биче современного человечества – наркомании? И как, по-вашему, с ней нужно бороться?
– С чем?
– С наркоманией.
– Вольной?
– Нуу… вольной… или невольной.
– А ей разрешили заниматься спортом?
– Кому?
– Наркомании.
– В смысле?
– Вы же предлагаете с ней бороться.
– Нет. Я предлагаю бороться с ней! В том смысле – как ее извести… Как растуманить сознание людей?
– Ну вот, вы опять вспомнили про сознание, – смеется Сократ. – Я вижу, оно вам не дает покоя?
– Не дает, – соглашаюсь я.
– Хорошо, я попробую ответить на ваш вопрос. Раньше в нашей стране люди думали, что все верующие – наркоманы. Так?
– Разве?
– … – кивает головой Сократ, – забыли?
– Забыл.
– Напоминаю: «Религия – опиум для народа»[104].
– Ааа…
– Ага. И что теперь?
– А что теперь?
– Теперь все думают, что они не наркоманы…
– Правда?
– Правда. А знаете почему?
– Почему?
– Потому что ломка наступает не сразу. Сначала приходит эйфория…
– ?
– Про ад интересоваться будете?
– Нет.
– Бесплатно.
– Согласен.
– Даю совет всем грешникам. Господа, если вы не хотите попасть в ад – не вступайте в религию, предоставляющую такую услугу. Но если уж вступили, постарайся еще до попадания в него объявить себя независимым кандидатом или сменить пол.
– Пол?
– Да, пол. Вы меняли когда-нибудь пол?
– …а что… заметно?
– Ну… не сказать, чтоб уж очень… Но все же – раньше вы были мужского пола и у вас стояли ракеты, а звали вас СССР. Так?
– Так…
– Звали?
– Звали.
– А теперь вы женского пола, и зовут вас Россия. А там, где раньше у вас стояли ракеты, теперь зияют шахты… Зияют?
– Зияют.
– Стояли?
– Стояли.
– Но вы не расстраивайтесь. Мужской пол планеты уже давно дискредитировал себя недобросовестной конкуренцией. Все эти войны, диктатуры, изнасилования слабых государств – все это мужских рук дело. Мужскую особь следует объявить вне закона и запретить ей не только баллотироваться, но и участвовать в выборах вообще. Раз и навсегда!
– Навсегда?
– Навсегда! Пусть меняют пол, если хотят участвовать в выборах. Вы не согласны?
– Я?.. Я лоялен…
– ?
– …тоже заметно?
– Заметно что? Ваши кандалы на ногах или опиум в голове?
Я стараюсь осторожно засунуть ноги под стол, но металл предательски лязгает, и на моих щеках выступает румянец.
Собеседник опять улыбается:
– Да вы не смущайтесь – позором является не рабство, в котором мы все живем, а чувство свободы в этом рабстве.
– Занимательно вы рассуждаете. Ну, хорошо, давайте обсудим еще одну тему. Что вы думаете о демократии?
– Демократия следует законам Дарвина. Диктатура – искусственному выведению породы.
– Породы?
– Породы, – подтверждает Сократ, – помните, как это было у вас в СССР?
– Как?
– Гулять за границу нельзя – сиди дома, доместикацифируйся![105]
– Ах, вот вы о чем…
– Об этом, – кивает древнегрек, – а первым диктатором был Бог, и опыты он ставил на Адаме с Евой.
– Вы про Эдем?
– Угадали. Создатель не хотел иметь обузы в лице человечества, поэтому запретил своим творениям вкушать запретный плод. И если бы не Дьявол, нас бы не было на земле в принципе.
– А где бы мы были?
– Нигде, никогда и никак, – отчеканивает Сократ. – Бог создал образ, Сатана – человечество.
– Вот как?
– Так. Но жить человечество могло бы и в раю. – умолкает Сократ, используя технику майевтики[106]. – Если бы…
– Если бы… – блуждаю я в лабиринтах высокой философии.
– Если бы создатель был милосердным…
– И не изгнал человечество из рая? – подвожу я итог внезапного откровения.
– Именно! – подхватывает Сократ, довольный результатами эксперимента. – Сама мысль появления у «игрушек» самостоятельного потомства была настолько неприятна Богу, что он обрек женщин и новорожденных на муки во время родов![107]
– Очень утонченный, и я бы сказал, чувственный садизм, – вступает в разговор Мульт, – или не так?
– Так, – удивляюсь я собственной сговорчивости, вспоминая библейский протокол.
– В итоге, – отрывает большой палец от подлокотника кресла Сократ, – ваш народ поклоняется божеству, прогнавшему его из рая, лишившему бессмертия и обрекшему на страдания[108].
– Поклоняется… – Я опускаю плечи.
– А божество, истязающее насильников, убийц и диктаторов, называет злом…
– Но ведь всегда есть надежда!
– Надежда?
– Надежда, что мир изменится!
– Надежда – это птица Феникс в печи Освенцима, – улыбается мудрец, подливая масла в огонь, – никто не делает зла по своей воле[109].
– Простите, а вы не сумасшедший? – задаю я интересующий всех телезрителей вопрос.
– Нет. Сумасшедшие не дают интервью первому каналу. А не дают они ему потому, что он у них не берет…
– Не берет?
– Не берет… У больных берет. Не у всех, а только на голову. У уродливых берет. Тоже на голову. А сумасшедшим отказывает. Отказывает на основании вашего же устава: «Психам, кроме главного, не давать». Ну а тот в свою очередь: пункт 13.3.2.
– Вы это искренне говорите? – увеличиваю я округлость глаз.
– Искренен человек бывает только в колыбели или в гробу.
– В гробу??? – пытаюсь я представить себя в нем.
– И в колыбели, – подтверждает Сократ.
– А как вы узнали, что мы – первый? – делаю я шаг в сторону.
– Обыкновенно. Вы – первый канал, которому я дал, и вы у меня… – обрывает, не заканчивая мысль, Сократ.
– …взяли? – вновь попадаюсь я на крючок знаменитой техники философа.
– Еще вопросы есть? – опускает устало веки Сократ.
– Больше вопросов нет.
– Тогда у меня вопрос.
– Какой?
– Сто долларов до понедельника займете?
Оператор в экране телевизора успевает включить характерный звук: пи-пи-пи, и мой ответ тонет в спасительной мелодии звуков, пробуждающих Диогена.
Из-за того что голова и тело мудреца находятся внутри деревянного пифоса, выточенного из цельного ствола мафусаила[110], привезенного в Россию контрабандистами из Калифорнии, голос Диогена звучит гулко.
– Первый канал – новости, которых стоит бояться! – заявляет, выбираясь из бочки, циник и, не прерывая зевоты, добавляет, тряхнув головой: – Мы же сейчас о Древней Греции говорим?
– О ней, матушке, о ней! – приветствует Сократ коллегу.
– Тогда моя очередь, – поднимается с колен Диоген.
– Дерзай! – благословляет киника диалектик[111].
Диоген:
– Взглянем на эту картину с другой стороны?
Сократ:
– Взглянем.
Диоген:
– Глазами Смита, считавшего основой общества человека и его пристрастия[112].
– Наивнейший, видимо, был мыслитель, – улыбаюсь я непривычной для моего государства формулировке.
Не отвлекаясь на пререкания, Диоген продолжает:
– Когда основные богатства вашей страны – энергоресурсы, а не люди, – за десять лет выросли в десять раз[113], для попадания народа в рай оставалось сделать последний шаг. Если бы… – пытается использовать технику Сократа Диоген.
– Если бы что? – не ловится на собственную наживку философ.
Диоген:
– Если бы не этатизм…[114]
– Эта… кто? – переспрашиваю я, пытаясь быть в курс событий.
– Но все вышло наоборот, – подмигивает мне правым глазом Диоген, – народу помогли избавиться от иллюзии земного счастья в результате исторического развития и…
– И спасли Вселенную! – подхватывает мысль Сократ, вспоминая инструкции феноменологии нравственного сознания[115].
– А как же двигатель? – пытаюсь интериоризировать[116] феноменологию индивидуума в государство я.
– Какой двигатель? – не понимает шутки Сократ.
Диоген:
– Который, имея сто сорок три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать три лошадиные силы[117], не смог справиться всего с одной тормозной колодкой.
Сократ:
– Колодкой?
Диоген:
– Колодкой лиц, служащих Отечеству на благо собственного кошелька.
– Ах, вон ты о чем! – кивает головой мудрец, ступая на тропу индукции. – Видишь ли, Диоген, мощность этого двигателя зависит от людей, способных удовлетворять повседневные жизненные потребности и приносить обществу пользу.
Диоген:
– Согласен. А от чего зависит мощность тормоза?
Сократ:
– Мощность тормоза зависит от людей, имитирующих это созидание…
Диоген:
– Назовем их имитаторы!
Сократ:
– Имитаторы?
Диоген:
– Фаллоимитаторы!
Сократ:
– Почему фаллоимитаторы?
Диоген:
– Потому что общество – это самый чувствительный орган государства, и они его постоянно имеют!
Сократ:
– Логично. А знаешь, в чем парадокс?
Диоген:
– В чем?
Сократ:
– В том, что эти миллионы чиновников, полицейских, политиков…
Диоген:
– Назовем их террористами!
Сократ:
– Террористами?
Диоген:
– Да!
Сократ:
– Почему?
Диоген:
– Потому что они постоянно терроризируют народ требованиями увеличить их долю в бизнесе за крышевание от себе подобных.
– Вторично логично, – соглашается Сократ, кивая головой три раза, и добавляет: – Так вот, парадокс заключается в том, что для регулярного выкачивания денег из народного кошелька от тормоза требуется выполнение одной-единственной задачи – создание иллюзии внутреннего и внешнего врага.
Диоген:
– Назовем его вибратор!
Сократ:
– Кого?
Диоген:
– Тормоз!
Сократ:
– Почему вибратор?
Диоген:
– Потому что он постоянно вибрирует, просверливая общество в разных местах тротилом. И тем самым держит его в возбуждении.
Сократ:
– В напряжении, ты хотел сказать?
Диоген:
– А разве это не однокоренные слова?
Сократ:
– Ну… в каком-то смысле – это корни одних и тех же зубов…
Диоген:
– Назовем их клыки!
Сократ:
– Почему клыки?
Диоген:
– Потому что они, как вампиры, – сосут из народа кровь!
Сократ:
– Сосут?
Диоген:
– Еще как сосут!
Сократ:
– Как проститутки?
Диоген:
– Как они!
Сократ:
– Ну, хорошо. А что они делают потом?
Диоген:
– Потом они клофелинят своих пациентов, и после того как народ засыпает (отвлекаясь на очередную угрозу), обирают его до нитки.
– Третично логично! – восклицает, не кивая, мудрец. – И что тебе не нравится в этой безукоризненной государственности?
Диоген:
– Мне не нравится то, что проститутки должны являться к клиентам только по вызову.
Сократ:
– А они?
Диоген:
– Они больше не являются.
Сократ:
– Не являются?
Диоген:
– Нет. Они здесь живут. А когда клиент (народ) просыпается, отвлекаясь от угрозы, и возвращает сознание в дом, они клофелинят его по новой и продолжают обирать хату.
Сократ:
– Странно. Неужели кто-то из клиентов до сих пор верит в то, что, имея столь современные технологии и средства прослушки, пронюшки и прослежки, миллионная армия спецслужб не способна выловить кучку бандитских авторитетов и разрушить пирамиду зла?
Диоген:
– А как ты это себе представляешь?
Сократ:
– Обыкновенно.
Диоген:
– Ты предлагаешь, чтобы они ловили самих себя?
Сократ:
– Нет, я предлагаю, чтобы они ловили тех – других!
Диоген:
– А никаких других нет…
Костяным гребнем, сделанным из пасти белой акулы, Диоген старательно расчесывает непослушную курчавую густую бороду и поднимает на меня прищуренные, смеющиеся глаза. В этот момент он напоминает мне дедушку Вову с портретов в школе и в приемных у губернаторов. Взяв в руки стакан парного козьего молока и выпив его до половины, философ наставляет меня, пока Сократ анализирует диалог:
– Видишь ли, в понимании шутника Демокрита, с которым я во многом согласен, «мера – это соответствие поведения человека его природным возможностям и способностям. Через призму подобной меры удовольствие предстает уже объективным благом, а не только субъективным чувственным восприятием»[118]. Поэтому, когда ваша страна исчерпает запасы нефти или в ней отпадет нужда, люди будут вспоминать это время (меру), как золотую пору экономического подъема (удовольствия), на фоне будущего «писца» (призмы), не понимая, что просто размеры лотерейного купона были такими огромными и такими жирными, что поджелудочная железа вертухаев надорвалась, не справилась, не смогла выработать необходимое количество пищеварительных ферментов и утащить, слизать, спустить в желудок экономического казино весь выигрыш оптом, передав его вобизорную[119] часть вирусам, населяющим государство.
Закончив осмысление диалога, Сократ запевает:
– На зеленом сукне казино, что Российской империей называлось еще вчера, проливается кровь, как когда-то вино…
Диоген подхватывает:
– Го-спо-да, ставки сделаны! Го-спо-да, ставки сделаны![120] Сократ, обрывая песню:
– Диоген, историческая рулетка – азартнейшая игра человечества! И ставками в ней служат – еще при жизни – ад и рай.
Диоген, вынимая из-под халата бутыль древнегреческого вина:
– «Ад и рай – не круги во дворце мирозданья, ад и рай – это две половины души».
Сократ (вынимая из кармана халата глиняные пиалы):
– «Вселенная сулит не вечность нам, а крах. Грех упустить любовь и чашу на пирах!»[121].
В этот момент раздается грохот входной двери, и трибуну формирующегося лидерства захватывает рогатый незнакомец в черном, с пробитым верхом, котелке, из которого торчит рог.
– «Единорог!» – мелькает у меня первая ошибочная мысль.
Выхватив у растерявшегося Сократа микрофон, незнакомец безапелляционно заявляет:
– Ну, раз уж вы заговорили здесь про ад, у меня возник закономерный вопрос: а где храмы, посвященные Дьяволу?.. Имейте совесть, господа! Где скопление храмов, учитывая количество грешников, посвященных владыке подземелья, в которых можно было бы попросить о снисхождении к попавшим в его царство отцам, дедам, прадедам и всей остальной грешной родне, а заодно и к героям прошедших и приближающихся войн, которых теперь жарит, парит, томит и фарширует шеф-повар главной катакомбы мира.
Я открываю от изумления рот:
– Ха це хую?[122] – вылетает из него.
Но самозванец продолжает гнуть свою линию:
– Какой смысл ходить молиться в церковь за ту часть родственников и друзей, что релаксируют в раю? Вы бы еще помолились за арабских шейхов, на которых свалилась такая громадина американской «полиграфии», что они теперь не знают, куда ее девать и во что трансформировать, – в отличие от шейха вашего, на которого американских «фантов» обрушилось еще больше! А? – обращается ко мне пришелец.
– Ага, – соглашаюсь я с его доводами.
– Знаешь, сколько за последние тринадцать лет в вашу страну притекло нефтегазодолларов?
– Много, – предполагаю я.
– Не много, а больше, чем за весь двадцатый век в Союз Советских Социалистических Республик!
– Да ну? – раздуваюсь я от удивления.
– А знаешь, откуда вы качаете эти нефтедоллары? – приближает он ко мне харю.
– Откуда?
– Из-под земли!
– Верно, – соглашаюсь я, ругая себя за несообразительность.
– А бачишь, чьи кладовые там находятся? – переходит он на шепот.
– Где? – ухожу я в несознанку.
– Под землей!
– Догадываюсь… – отвечаю я упавшим голосом.
– Теперь ты понимаешь, кого вы грабите?
– Да, – выдыхаю я и опускаю смиренно взгляд.
– А хочешь, я скажу тебе, когда он вас за это простит?
– Когда? – трепещу я, словно вор.
– «Никогда, о nevermore!»[123] – каркает в ответ чужеземец, сверкнув вороным глазом в душу, и тут же переключается на оператора:
– Но я не об этом Дьяволе говорил. Да и не о нем в принципе. А о тех, кто пугает своих современников перерождением…
Выступающий рогоносец делает паузу, давая нам возможность осмыслить будущую угрозу, и, не дождавшись осмысления, грохочет в микрофон:
– Это неправда! Перерождения в вашей религии нет! Не было! И не будет! Поэтому бояться здесь нечего – умрете раз и навсегда!
Гость в котелке обводит хищным взглядом студию и со злорадством добавляет:
– Второй раз вы не попадете сюда ни за какие коврижки! Но вот позаботиться о тех, кому хреново, и попросить Сатану облегчить участь ваших близких, с которыми, вполне возможно, скоро предстоит встретиться и вам, было бы не только гуманно, но и логично! Ведь, как известно, те, кто совершил смертный грех (не думал, что грехи бывают еще и бессмертные, – хохочет рогатый черт), – и не покаялся, попадает в ад уже навсегда! Это вам расскажет любой церковный клерк, – сверлит меня взором верзила.
– Верю, – поддакиваю я.
– К примеру: на войне убивают так быстро, как только могут. И делают это до тех пор, пока одни убийцы не убьют других. А раскаяться нет ни времени, ни возможности, ни желания. Так вот, у Христа отношение к нераскаявшимся такое же, как и у ваших президентов к оппозиции.
– Какое же? – осмеливаюсь я задать нескромный вопрос.
– Не покаялся, не попросил прощения – в ад! – оглушает меня басом гость. – Ни верховный суд государства, ни божественный – небес ничего тебе не простят, если ты не встал на колени и не склонил голову! Помнишь, как в детстве?
– Как? – восклицаю я, пытаясь освежить в голове детство.
– Пока прощения не попросишь, гулять на волю не пойдешь! Носом в угол шагом марш! Ать-два, ать-два! Там темно, как в аду, – смеется верзила, потирая копыта. – И потом доказывай у Дьявола на суде, что у тебя не было на это времени или ты все запамятовал.
– Бесполезно, – соглашаюсь я.
– Память нужна, чтобы помнить истину! А истина заключается в том, что только живой может думать о смерти… Думайте о ней чаще, потому что жизнь – это длинный забег на короткое расстояние! – подкалывает он меня. – Усек?
– Усек, – усекаю я.
– А раз усек, тогда объясни мне: что за проблема с логикой у этого человечества?
– Никаких проблем, – пытаюсь я отбрехаться и спасти мир. Но верзила стоит на своем.
– Сначала оно убивает само себя из-за права называться фашистами, коммунистами, демократами, арийцами, славянами, китайцами, арабами, евреями, христианами, мусульманами… А в промежутках между войнами молится за тех, кто блаженствует в раю?.. Блаженствует? – направляет на меня левый вопросительный глаз, собеседник.
– Не в курсе, – искренне открещиваюсь я.
– Или еще лучше: пытаетесь договориться с Богом о замене родственникам в аду чугунных сковородок на тефлоновые, передавая Всевышнему скромные взятки в виде молитв, притом что Тот последний раз заглядывал в ад две тысячи лет тому назад, когда послал с ревизией сына[124] проверить, жива ли еще скотина! – направляет на меня выпирающий рог гость.
– Непорядок! – отчеканиваю я по-солдатски, уклоняясь, как тореадор во время корриды, в сторону.
– Где логика, я спрашиваю вас? – напирает гостерог[125].
– Логика? – вжимаюсь я в диван, вытаращивая на громадину глаза. – Вот Сократ, – указываю я на притаившегося в углу Сократа. – Вот Диоген, – тычу я пальцем в пифос, где прячется мудрец. – А Логики не было! Не заходила к нам Логика. Вот вам… честное слово, – произношу я, чуть не ляпнув: «Истинный крест!». – Может, вы адресом ошиблись? – выстраиваю я на лице последнюю надежду.
– Постройте храмы Дьяволу, наверняка вымещающему прямо сейчас, прямо в эту минуту обиду на своих новоселах и давних постояльцах, из-за отсутствия этих самых храмов на земле! И молитесь, чтобы он облегчил участь убийцам, многие из которых, по земным меркам, делали правое дело, а по небесным – в ад!
– Логично! – сдаю я Логику с потрахами.
– А лучше закройте и первое и второе и стройте сады!
– Сады? – изумляюсь я, вспомнив историю Семирамиды.
– Сады! – повторяет проповедник, напирая на буквы «ад». – Если вы считаете себя детьми Бога, стройте для его детей сады!.. Займите хоть эту нишу, раз не способны на большее…
– Займем! – обещаю я за все человечество, занимаясь откровенным враньем, и слышу за спиной взволнованный шепот Сократа:
– Не спорь! Слышишь? Не спорь с ним! Ну его к черту – соглашайся с любыми требованиями! Иди на любой аутсорсинг!
– А если он потребует миллион долларов, Путина и вертолет? – шепчу в ответ я.
– Отдавай! – советует мне древнегрек.
– Но у меня их нет!
– Все равно отдавай! – настаивает на своем старец.
Незнакомец молниеносно приближает свое подозрительное лицо к нам и шепчет, зловеще передразнивая Сократа:
– Или кто-то полагает, что Господь регулярно спускается в ад и проверяет температуру, где ваша бабушка печет пироги, – добавляет он на полном серьезе, – без духовки?[126]
– Я… к бабушкиным пирогам… всегда с большим уважением, – шлепаю я беззвучно губами, не успев поймать суть.
– Для тех, кто опять не в курсе событий, повествую: у Бога с Дьяволом прохладные отношения.
– Наслышан, – киваю я отдаляющемуся лику.
– Я бы даже сказал – натянутые… – произносит, призадумавшись на мгновение верзила. – Да что там скрывать, терпеть они друг друга не могут! Антипатия у них взаимная! А после последней встречи с Христом у Дьявола еще и агорафобия![127]
– Агора… что? – не понимаю я.
– Агорафобия! – разъясняет гость. – Поэтому спускаться в ад, повторяя подвиг Орфея (где могут совершить рокировку), для Бога не имеет никакого смысла!
– Никакого? – удивляюсь я.
– Никакого! – отрезает он. – Достаточно было одного раза, когда (по совету Цоя[128]) Христу пришлось выбивать дверь плечом, так как Дьявол не ждал гостей или был не в курсе надвигающейся вечеринки[129]. А сотовая связь под землей, сами знаете…
– Знаем-знаем! – неожиданно подхватывает Сократ. – У нас и на земле-то она не очень…
– А когда Сатана сам в последний раз заходил в гости к Богу, – перебивает старца выступающий, – Тот еле выпроводил его восвояси, призвав на помощь прислугу, потому что боялся не справиться в одиночку или не хотел марать рук[130]. С тех пор в народе так и говорят, – делает паузу пришелец, поводя богатырским станом, – «здоровый, как черт»!
– Борьба за власть происходит во всех ипостасях[131], – поддакиваю я, желая угодить здоровяку, – и потом не разберешь, кто у них там Бог, а кто Дьявол…
– А помимо этого – подумайте о себе! – разводит силач в стороны руки. – Позаботьтесь, пока не поздно, о себе! – сводит он руки за спиной, при этом плащ на его бицепсах натягивается так, что слышится треск расползающейся по швам материи. – А вдруг вам не светит рай? А? Как вы считаете? – нависает надо мной атлет в цилиндре.
– Не светит??? – трепещу я как осиновый лист[132].
– Быстрее идите возводить храмы Дьяволу, пока вы еще живы! Чтобы он сжалился над душами ваших родственников и смягчил вашу участь в будущем! – С этими словами незнакомец направляется к двери, но перед тем как сделать последний шаг и исчезнуть с глаз долой, поворачивается и, подмигнув пустым правым глазом, заговорщически шепчет:
– Мало ли кто он на самом деле – «венец мудрости и красоты»?[133]
Пауза…
Диоген, выползая из пифоса:
– Кажется, пронесло…
Сократ, вставая со стула:
– Кажется…
Диоген, снова доставая бутыль:
– Притащила его нелегкая…
Сократ, ставя на стол пиалы:
– Чуть не запалились…
Философы разливают содержимое бутыли в глубокие пиалы и, протянув одну мне, чокаются и пьют без тоста. Кадыки стариков ходят, как поршни плунжерных насосов, и останавливаются только тогда, когда истекающее из пиал вино пресуществляется[134] в тела философов с помощью биохимических свойств организма.
Без евхаристии[135] древнегреческое вино, выдержанное, судя по всему почти две с половиной тысячи лет, расслабляет и успокаивает гостей вместе с хозяином дома, приподнимая всем (кроме остальных) настроение.
Я встаю со стула и прошу оператора направить камеру на меня. Предвкушая скорый конец, оператор с готовностью выполняет мою просьбу.
Обращаясь к взволнованным телезрителям, я слагаю с себя ответственность за происходящее и говорю сле дующее:
– Извините, что прерываю передачу, но уж очень хочется остыть – пойду нырну в бассейн, прежде чем продолжу повествование.
Сейчас начало июля две тысячи тринадцатого года. На улице вторую неделю стоит жара. Конечно, не как в прошлом году сорок – сорок пять градусов, но все же тридцать пять, тоже неплохо. Бассейн в такую погоду выручает! Подпрыгнешь с трамплина в воздух, сделаешь сальто, войдешь без брызг, словно в пасть эласмозавра[136], в воду. Раздвинешь челюсти чудовища, вынырнешь обратно. Опять нырнешь. И голова проясняется.
Потом вылезу, оботрусь полотенцем, поем крыжовника, малинки, тутовника, смородинки, абрикосиков-кокосиков отведаю. Запью все это деревенской простоквашкой, сяду в гальюн, пристегну парашютные ремни и возобновлю историю психа, если, конечно, стропы выдержат и унитаз не разлетится на миллионы маленьких белоснежных надежд, измазанных коричневой действительностью…
Часть вторая Первый класс
Когда Диоген Синопский пришел к оракулам и спросил их, что ему делать дальше, они ответили: «Заняться переоценкой ценностей».
Диоген ЛаэртскийИнвектива третья
1
Наступил август. Самый засушливый месяц в году и последний перед счастливым событием каждого выжившего в детском садике ребенка, еще ничего не подозревающего о том, каким суровым испытаниям подвергнутся его тело и душа в ближайшие десять лет. Позади целая эпоха лучезарного детства – ясли и садик.
Прощайте! Прощайте, мои ласковые нянечки! Мои вкусные поварихи! Мои качели, песочница, беседка, кроватка, шкафчик для переодевания с незабудкой на дверце. Прощайте, игрушки и одногруппники. И ты, моя первая любовь, девочка Ия. Прощайте, детские шалости. Плоха ли, хороша была потеха жизнью, судить не нам, а вам, милые, милые воспитательницы.
Мульт: Коль роль мы сыграли прекрасно – овацией нас наградите. И проводите с весельем, как Августа Рим провожал![137]
Мама готовила меня к школе, как к празднику, потому что принцип армейской дедовщины работает на гражданке так же безукоризненно, как и в армии: старшие прикалывались над средними, средние – над младшими, младшие – над сопляками. Теперь они прикалываются над нами, чтобы мы, в свою очередь, прикололи вас.
Мульт: «Я была здесь твоей куколкой-женой, как дома была папиной куколкой-дочкой. А дети были уже моими куклами»[138].
А вся эта чехарда началась в тысяча шестьсот сорок седьмом году, когда верховный суд Плимутской колонии попробовал ввести для детей обязательное начальное образование[139]. А в тысяча восемьсот пятьдесят втором году уже штат Массачусетс принял этот закон, распространившийся со временем по всему миру. Позже бессовестные и бесстыжие личности взяли и изменили его на среднее образование, добавив в общую кучу-малу химию, геометрию, физику, астрономию, ботанику, обществоведение и много другой луковой шелухи от разных наук, над которыми теперь слабонервные дети проливают крокодиловы слезы, чтобы, окончив школу, забыть их вместе с названиями, если, конечно, родители не заставят отпрысков поступать в институт, дабы окончательно отбить интерес к процессу обучения.
Я бы еще мог смириться с метафизикой. С ее здоровыми интересами к жизни: «Что есть причина причин, и каковы истоки истоков у начала начал?»[140]. А главное: «Как стать реальным пацаном, если ты не знаешь реальности природы мира?»
Все это не вызывает во мне чувства отторжения. Но физика в ее чистом виде, с естествознанием в самом общем смысле и изучением материи в виде вещества и полей. А также с ее фундаментальными взаимодействиями факторов природы, управляющими движением материи… Это что такое? Предмет, по которому за всю историю человечества был один-единственный отличник? И за это его послали на четыре буквы и забыли имя?[141]
Зачем что-то учить в современном мире, кроме грамматики? Знаешь буквы, умеешь их складывать в слова и набирать на клавиатуре – всё! У тебя есть доступ к билетам на все ответы – Интернет! Когда он появился, я подумал: «Ну, наконец-то детям перестанут забивать костыли зубриловок в шпалы знаний, прокладывая по ним железную дорогу будущей жизни, где побеждают наглые, изворотливые и гибкие паровозы».
Прогнулся – значит, победил! Подставил – значит, не уволен!
Человеку, не собирающемуся строить виллу на Марсе, а решившему сделать это на берегу Средиземного или Черного моря, чтобы затем получать удовольствие от телесного и духовного присутствия на этой планете, достаточно знать Интернет и имя босса. Существующего, а не вымышленного. Того босса, от которого зависит размер твоей зарплаты и длина отпуска. Все! Это все, что нужно!
Религия, совесть, мораль, право, закон, семья, государство – каждое из этих понятий есть иго, которое на вас налагают во имя какой-то абстракции; все это – деспоты, против которых человек, как безграничный хозяин над своей осознанной индивидуальностью, борется всеми имеющимися в его распоряжении средствами[142] – и проигрывает тысячелетие за тысячелетием.
К черту агитацию религий! К черту агитацию партий! К черту президента с его амбициями, за которого никогда не голосовал! К черту все, что мешает жить естественной земной жизнью!
И раз уж на то пошло – к черту Гитлера! К черту Сталина! К черту Мао Цзэдуна! К черту Пол Пота! К черту Жана Беделя Бокассу![143] К черту Ким Чен Ира! К черту Иоанна IV! К черту Томаса де Торквемаду![144] К черту патриарха Иоакима и царевну Софью с их двенадцатью статьями![145] К черту Кроноса, с которого все началось![146]
Ну и конечное же – к черту государство, расплачивающееся за каждый клочок захваченной им территории телами и душами ни в чем не повинных мальчиков, которых оно забривает в солдаты, чтобы пытать и расстреливать, расстреливать и пытать тех, других, которые пытают и расстреливают, расстреливают и пытают этих, нареченных генералами «противником», вместе, с которыми они делят природный лубок планеты, беря ее в плен по кускам (кому ноги, кому руки, кому седалище), благо – голова находится в океане, боясь вынырнуть из него даже на мгновение, чтобы вздохнуть полной грудью…
Мульт: И-д-и-т-е-к-ч-е-р-т-у!
Гематофилируйте[147] друг с другом, друг от друга, друг у друга, друг на друга, друг за другом, друг перед другом, друг вместо друга, друг сзади друга, друг сверху друга, друг в друга, друг у друга, друг из-под друга, друг сбоку друга, друг в карман другу…
Стреляйте, убивайте, насилуйте, разрушайте, воюйте, пытайте, пропагандируйте, распространяйте, властвуйте – но только строго между собой и в той последовательности, которую я описал.
Удовольствия – единственная цель и смысл жизни, потому что мое дело, не должно быть ни добрым, ни злым, ни правым, ни левым, ни божьим, ни человеческим, ибо добро, зло, Бог, человечество – всё это субъективные понятия; «кроме меня, для меня нет ничего! Я люблю, я ненавижу не потому, что любовь и ненависть – мой долг, а потому, что они черты моей натуры; любя, я только проявляю самого себя. Так как мне тягостно видеть складку грусти на любимом лице, то я (ради самого себя) стараюсь изгладить ее поцелуем. Любовь не есть долг, но есть мое достояние – моя собственность. Я люблю людей, но люблю их с полным сознанием моего эгоизма, люблю потому, что любовь доставляет мне счастье. Только в качестве одного из моих чувств я культивирую любовь, но я отвергаю ее, когда она представляется мне в качестве верховной силы, которой я обязан подчиняться, в теории нравственного долга»[148], потому что долг – это инородное тело, звено в цепи государственной системы, созданное специально для рабов и дятлов.
Есть только один истинный закон на Земле: не навреди другому. Остальные законы – это болты без гаек.
Мульт: Но граждане думают иначе.
Дятел должен долбить ствол дерева, потому что у него большой клюв. Потому что у него голова, как отбойный молоток. Потому что он больше ничего не умеет делать. Потому что он спасает тем самым деревья от вредных насекомых. Потому что таким его создал Бог. Потому что от фрикций клюва о ствол дерева происходит взаимная эякуляция. Потому что он дятел, а не Стивен Хокинг[149] или Рубен Давид Гонсалес Гальего[150]. Потому что бла-бла-бла…
Ни-чер-та-по-до-б-но-го!
Он дубасит деревья, потому что он хочет жрать, пить и спать! Спать, пить и жрать! И так до тех пор, пока Господь не сжалится над ним и не остановит его долботню.
Мульт: Для тех, кто не в курсе.
В предыдущей жизни дятлы были стукачами в человеческом обличье. Как старший адъютант гвардейской пехоты Яков Ростовцев, стуканувший царю Коле на декабристов. Или как Эфиальт, стуканувший персам про обходной путь. Или как Джованни Мочениго, стуканувший инквизиторам на Джордано Бруно. Или как вчера, тринадцатого числа тринадцатого года августа месяца – депутат, стуканувший ребятам-мусорятам про нехорошую квартирку на Чистопрудном бульваре[151].
После прекращения жизнедеятельности человеческого организма доносчики переходят ко второй фазе – пернатого существования. Засеките время и постучите собственным клювом о стену пару минут. Чтобы в полной мере оценить шутку Создателя, колотить нужно очень быстро. Быстро-быстро. Очень-очень. Тук-тук-тук. Как настоящий дятел – десять ударов в секунду![152] А потом (чтобы взглянуть шутке в лицо) посмотрите на себя в зеркало…
2
Сентябрь приближался стремительно. Лето, издыхая в пламени собственного зноя, стало угасать, и наступило утро, когда мама надела на меня белую рубашку, серые брюки и пиджак. Взяла новоиспеченного первоклашку за руку и повела на трамвайную остановку между Центральным рынком и восемьдесят первой школой.
Я не упирался и не восклицал, как некоторые: «За что? Десять лет! За что?» Я шел смирно, как разумный ребенок, понимая, что нельзя портить школе праздник своим отсутствием в первый же день. Я дам им шанс! И себе тоже – to turn over a new leaf[153].
Восемьдесят первую школу мама отмела сразу, так как она находилась рядом с западными воротами нашего двора и в нее устремилась половина моих друзей и ребят постарше, включая главных бандитов двора. Вторая половина, чьи родители оказались более требовательными к будущему собственных чад, отправилась в девятнадцатую школу. Это учебное заведение находилось за восточными воротами, и чтобы в него попасть, нужно было пройти через двор, где (без меня) грустил осиротевший садик. Или по улице героического маршала Чуйкова – единственного маршала России, не конфискованного столицей после смерти[154].
В этом учебном заведении оказались Соловей и Пупок. Егора устроили в восемьдесят вторую школу, и она находилась еще дальше моей.
Мама разгадала планы всех родителей из нашего двора и оформила меня в лучшую гимназию города, с английским уклоном и хорошими традициями. Она сама когда-то училась в ней и понимала, как это важно – правильно начать новую жизнь.
Сейчас, спустя годы, когда цветок жизни отцвел, дал завязь, превратился в плод и созревает для смерти, мне думается, что приемная комиссия таких элитных заведений должна требовать характеристику из детского сада и осматривать ребенка на наличие шрамов, заранее определив для этого допустимую норму. Скажем, один-два шрама максимум. А если зарубок оказывается больше пяти, дети автоматически переводятся в школу имени Неда Келли[155] или Сергея Мадуева[156]. Когда же норма превышается в разы, мальчиков помещают в школу имени Клайда, а девочек – имени Бонни[157], с усиленным изучением поэмы Паркер[158], переведенной на русский язык специалистами по юриспруденции.
Но, как известно, никто не хочет слушать разумных советов, предпочитая учиться на собственных ошибках.
Сиката га най[159], потому что се ля ви![160] Что в переводе означает: мы сами с усами.
3
В общем, я топал в элитную «студию», взявшую меня без медосмотра, личного согласия и характеристик, держа в руке школьный портфель-ранец темно-коричневого цвета, даже не предполагая в тот момент, насколько это неудобный предмет для преодоления полосы препятствий и прогулок по крышам соседних зданий сквозь чердаки.
Чтобы попасть в конечную точку начавшегося путешествия, мы с мамой должны были выйти из нашего двора через западные ворота на улицу Комсомольскую (героическая организация юных коммунистов) и двигаться по ней до улицы Советской (идеолозунг, предположительно означающий слово «советующийся»; то есть – улица Советующаяся) в направлении Центрального рынка. Затем, мимо проулка, (носящего имя революционера Вацлава Воровского, прославившегося своими гонениями на русскую церковь) подойти к трамвайной остановке. Сев на трамвай, пересечь Аллею Героев, упирающуюся в площадь Павших борцов (повстанцев, участвовавших в свержении законной власти Царицына). Затем – улицу имени революционера Моисея Гольдштейна[161], занимавшегося репрессиями оппозиционной прессы и подтасовкой выборов в Петроградский совет.
Мульт: Ценный экземплярчик для современной России!
Далее – через улицу Ленина (героического вождя-богохульника всех богохульников-пролетариев). И, не доехав до остановки «Улица Десятой дивизии НКВД» (НКВД – главный исполнительный орган массовых репрессий россиян), выйти из трамвая на улице Краснознаменская (красная материя, прикрепляемая на древко с заостренным наконечником) около дома с табличкой, где жил один генерал. Продолжить путь мимо дома с памятной доской, где жил другой генерал, и, перейдя проспект имени Ленина (кумир российских проспектов), завершить «путь сурка», попав в школу имени Владимира Ильича Ле…
Мульт: Ахум-ахялб!
Для слабонервного подростка-первоклассника достаточно такого разового выхода в один конец, чтобы вернуться домой профессиональным революционером-террористом и взорвать весь этот хлам к чертовой матери!
Мульт (голосом Марва[162]): А город переименовать в «город грехов».
Нельзя было назвать улицу Комсомольскую улицей Кислорода? – потому что без него мы «крякнем», даже не успев поменять указатель с ее названием.
А площадь Павших борцов назвать площадью Коровы? – потому что мы ее доим, едим, пьем и одеваемся в шкуру миролюбивого животного уже несколько тысячелетий подряд. А миллиарды коров тем временем героически жертвуют своей жизнью ради нашего желудка и его регулярной дефекации, не претендуя ни на гранит, ни на мрамор, ни на милосердие с нашей стороны. Для человечества Корова ценнее всех революционеров, героев, анархистов, пацифистов и президентов, вместе взятых.
Или важно напоминать об этом каждый день?.. Каждый день напоминать об этом, чтобы ненавидеть?..
Помнить, чтобы ненавидеть. Ненавидеть, чтобы быть готовыми отомстить. Отомстить, чтобы стать героями. Стать героями, чтобы переименовать площади в павших борцов. Переименовать площади, чтобы помнить…
Мульт: Круг замкнулся?
А проспект? Ну кто так называет проспект – одну из главных артерий города? Назовите его именем планеты, на которой мы живем, а школу – именем звезды, которая нам светит. И тогда эти символы будут соответствовать интересам всех красных, коричневых, голубых, зеленых, коррумпированных, разумных и безмозглых индивидуумов.
Хочешь переименовать улицу Кислорода? Пожалуйста! Эй, ребята! – перекройте доступ кислорода этому товарищу и сбросьте его в канализацию – пусть дышит там…
Хочешь переименовать проспект Земля? Парни, есть еще работенка: засуньте этого «чека» в пушку и запульните на Луну. И вот еще что, лично от меня – перед выстрелом налейте наводчику орудия кружку спирта, сбейте у пушки прицел и согните ствол. Я думаю, никто не расстроится, если артиллерист чуть-чуть промахнется.
Ну а теперь представьте себе, что после всех проведенных манипуляций, улицы нашего города обнулились и носят новые, жизнеутверждающие названия: проспект Кислорода, аллея Солнца, улица Одуванчиков, переулок Поросят, набережная Облаков, площадь Коровы, парк Яичных Желтков, бульвар Весеннего Возбуждения, тупик Свободного Интернета, метро Внутренних Органов…
«С такими заголовками Волгоград сможет претендовать на звание не только самого героического, но и самого сюрреалистического города России», – думал Мульт, топая вслед за мной и мамой по вышеуказанному маршруту, который я предлагаю обследовать еще раз, от остановки Краснознаменской, где мы вышли около дома генерала, «добровольно призванного» в тысяча девятьсот двадцать пятом году в Рабоче-крестьянскую Красную армию, что на современном языке звучит, как «банды незаконных вооруженных формирований».
Мульт: Весла отдай…
И это больше отвечает реальной действительности вооруженного скопления народа, чем дамские намеки его лидеров на героическую кровь простолюдинов, отданную за идеалы предводителей и прочий абсурд, – для оправдания действий своего войска при совершении массовых убийств во время эрекции боевого духа.
Мульт: А то байдарку отберу.
Хотя по логике вещей дух присущается только телам живым, а также Святой Троице, в которой Папа использовал Его (Дух) сначала для зачатия Сына (Христа)[163], потом, для контакта с Ним[164], и всегда для общения с нами[165], дабы не изучать языки всех землян в отдельности и не драть понапрасну глотку, пытаясь достучаться до сознания своих отпрысков. Особенно во время войны, когда Ему так хочется опровергнуть догмы «духовных» командиров, низвергнув циничные воззвания к родине и патриотизму (вместе с их создателями) в пролет между восьмым и девятым кругом[166], чтобы, амнистировав спиритизм и коллаборационизм, водрузить (подставив другую щеку[167]) флагманы старых идей на освободившиеся места – в сердца своих потомков, живущих в оккупированной фатерке[168], куда Он подселил нас, по недоразумению или по божественной наивности, чем мы и не преминули тут же воспользоваться, воюя столетие за столетием в коридорах извивающейся власти за ее правообладание, и даже не задумываемся над тем, что Папа сдал коммуналку на время и переоформлять ее ни на кого не собирается. Ну, а то, что Он переживет всех своих детей, внуков и правнуков, – не смеет сомневаться, кажется, никто…
Мульт: Или есть такие долбожители?[169]
Что такое «добровольный призыв» в РККА, мне рассказывал в конце прошлого тысячелетия дед по третьей линии родства, когда ему исполнилось уже девяносто четыре. Дед был тысяча девятисотого года рождения. Их село во время Гражданской войны переходило из рук белых к красным, туда и обратно, по нескольку раз за неделю.
Вы наверняка знаете поговорку: «Туда-сюда, обратно – и тем, и тем приятно». Приятно было всем, кроме жителей села, потому что это шатание-болтание туда-сюда проходило как раз сквозь их житие-бытие, в результате чего восторг от трения быстро сменился его же истерикой и трауром в некоторых домах.
Когда очередной раз село заняли красные, в их полку осколком снаряда убило штабного писаря. А так как дед был отличником школы, имел каллиграфический почерк и знал азбуку Морзе, его забрали на замену погибшему бойцу, несмотря на протесты матери и юный возраст – восемнадцать лет.
После этого дед стал убежденным коммунистом и оставался им до самой смерти, несмотря на историю, произошедшую с его отцом…
Дело было так. Осенью тысяча девятьсот двадцать второго года отец деда, готовясь к предстоящей зиме, заделывал камышовыми щитами окна с северной стороны своей избы. В это время по улице шел сосед. Увидев хлопоты земляка, он полюбопытствовал:
– Ты чего это, Иваныч, хату так рано консервируешь?
На что прадед, вгоняя очередной гвоздь в стену, ответил:
– Да чтоб советскую власть не видеть!
На следующее утро за прадедом пришли, и больше его никто не видел…
А генерал с таблички, стал Героем Труда за то, что сразу после войны в ста двадцати километрах от моего города руководил строительством первого суперсекретного ракетного военного полигона (известного всему миру, как Капустин Яр). Этим полигоном он заведовал в течение двадцати семи лет, где было произведено более десяти ядерных взрывов, суммарная мощность которых в десятки раз превысила мощность бомбы, сброшенной США на Хиросиму…
За что?.. За что они сбрасывали атомные бомбы рядом с моим городом?.. Ведь выжившие во Второй мировой войне люди только-только начинали вылезать из нищеты в стабильную бедность, радуясь появившейся возможности жить…
Ядерные взрывы в Капустином Яре на высоте от двенадцати километров и выше, выпадали радиационными осадками на мой и без того искалеченный химическими заводами и вредным производством город. Город, восточную часть Центрального района которого уже шестьдесят с лишним лет застилает кровавое марево из труб завода «Красный Октябрь», где расположены химические гиганты, работают десятки тысяч людей, отравляя вредными выбросами сотни тысяч мирных граждан и их детей.
Мульт: На войне, как на войне.
«Каустик» – лидер российской химической промышленности, занимающий первое место в России по производству каустической соды, хлора, синтетической соляной кислоты, хлорпарафинов и другой продукции.
«Химпром» – одно из крупнейших российских химических предприятий.
Завод технического углерода.
Металлургический завод «Красный Октябрь» – один из крупнейших производителей металлопроката специальных марок стали в России.
«Баррикады» – машиностроительное предприятие, выпускающее продукцию оборонного назначения.
Алюминиевый завод – седьмой по величине алюминиевый завод в России.
«Тракторный завод».
«Нефтемаш».
«Нефтепереработка».
Завод органического синтеза – один из крупнейших химических заводов в Европе.
Абразивный завод, асбесто-технический и так далее…
– Мальчик, ты дорогу до «Каустика» знаешь?
– Знаю.
– А до «Химпрома» знаешь?
– Знаю.
– А до Капустина Яра знаешь?
– Знаю.
– А хорошо знаешь?
– Как свои шесть пальцев!
«У меня не тоска по родине, а тоска по чужбине», – сказал как-то Федор Тютчев, живя на территории экологически чистой империи, без призрака коммунизма, которому сам же и запретил шляться по России, ограничив его передвижение Европой[170].
Мульт: И был прав!
4
И вот, когда мама взяла новоиспеченного первоклашку за руку и повела его на трамвайную остановку, я потопал за ней по утреннему асфальту. Но, оказавшись у киоска с мороженым, остановился, желая ускорить процесс конвекции[171] своей головы, и заголосил что было мочи.
– Мама, купи мне мороженое! Я знаю волшебное слово – пожааалуйста!
Но мама строго ответила:
– Нет! Ты испачкаешь школьную форму.
– Ну, мамочка, ну, купи! – схватил я ее за руку и стал тянуть к только что открывшемуся киоску, стоящему в двух шагах от остановки, где мы ожидали трелик.
Люди из очереди (все вкусное в СССР продавалось только в очередь) стали с улыбкой смотреть на меня и с упреком на маму.
То на меня, то на маму.
То на маму, то на меня.
То на маму и меня сразу.
То на круглую продавщицу, достающую из холодильного прилавка вафельные стаканчики и сворачивающую при этом губки в трубочку. То на мелочь в кошельке. То на старенькую бабульку, стоящую рядом с весами и предлагающую всем взвеситься за пять копеек. То на общественный туалет, расположившийся напротив рынка, во втором доме Аллеи Героев. То на трамвай, подошедший со стороны цирка.
То на голубое небо.
То на серый асфальт.
То на стрекозу, приземлившуюся на белый колпак продавщицы мороженого.
То на трубочку губок, сворачивающих стаканчики вафельных прилавков в круглый холодильник.
То на кошелек в мелочи.
То на весы, предлагающие всем взвесить пять копеек за старенькую бабульку.
То на рынок, притаившийся в туалете второго дома Аллеи Героев.
То на цирк, подошедший со стороны трамвая.
То на колпак, приземлившийся на белую стрекозу мороженого.
То на меня, то на маму.
То друг на друга.
То – интроспекция…[172]
Но мама сохраняла непоколебимую твердость, так как времени на возвращение домой и переодевание Дэйва в случае порчи костюма мороженым уже не было.
Я подбежал к «человеческой колбасе» и, вклинившись в нее, закричал так, что голуби, клевавшие кожуру от семечек подсолнуха, выплюнутые цыганом на корточках из кладезя золотого рта, шумно поднялись вверх и тут же приземлились вниз около газетного киоска, распродававшего свежую «Правду» в бумажном исполнении, так как через дорогу находился подвал с ватерклозетами:
– Я никогда в жизни не ел мороженое! Мама, купи, пожалуйста! Хоть сегодня – в честь Первого сентября!
В это время подъехал наш трамвай, и мама завела меня в первый вагон, где я сразу залез на кондукторское место, гордо возвышавшееся над остальными и пустовавшее, потому что тетя «с толстой сумкой на ремне, с цифрой “5” на медной бляшке, в синей форменной фуражке»[173] была занята привычным делом (обилечивая вновь прибывших пассажиров) и не заметила первоклашку, захватившего ее трон.
Без сладкого настроение мое вконец испортилось, и трамвай тронулся вперед, вылизывая рельсы сталью колес с такой же скоростью, с какой я вылизывал пломбир, если бы мне его купили.
Мы вышли на улице Краснознаменской, пересекли проспект и, нырнув в арку, подошли к школе, где уже разворачивалась торжественная линейка. Отыскав нужный класс, мама передала сына учительнице. Та поставила меня между толстым мальчиком и тонкой девочкой с бантами, превышающими окружность ее головы в полтора раза. Место мне понравилось, потому что я любил и банты, и косички.
Попрощавшись и поцеловав щеку Дэйва, мама ушла на работу. Началась торжественная часть линейки. На трибуну – в коричневой юбке и шелковой кофте бледно-зеленого цвета, с воротником Изабеллы инфанты[174] – вышла директриса.
– Дорогие дети!..
Она объяла учеников строгим, но очень лучезарным взглядом, не пропустив при этом выбежавшего откуда-то из-под ног пегого пса, тут же попятившегося назад от протянувшегося к нему указательного пальца с остро заточенным когтем, и начала всех опьянять своей речью:
– Сегодня вы поступаете в школу, носящую имя вождя всего мирового пролетариата – Владимира Ильича Ленина! Гения, присланного к нам немцами в дипломатическом вагоне, чтобы совершить революцию и освободить страну от богачей ценой отторжения в пользу Германии площади с третью населения всей России, передачи Черноморского флота, обязательством выплатить шесть миллиардов марок и пять миллионов золотых рублей! Никто! Никто из его товарищей не хотел подписываться под таким замечательным документом. Но Владимир Ильич продавил ратификацию Брестского мира[175] и добился желаемого для Германии результата, избавив нас от регионов с украинским, белорусским, эстонским, латвийским, финским и грузинским населением общей площадью в семьсот восемьдесят тысяч квадратных километров!
В благодарность за это советские люди воздвигли вождю двадцать две тысячи памятников[176] и расставили их по всей стране! Знаете, кому из людей установлен самый большой в мире истукан?[177] – попыталась заинтриговать нас головоломкой директриса. – Правильно! – одобрила она фантомный ответ незримого полиглота. – Ленину! – И тут же послала вдогонку озвученных новостей очередную хитроумную загадку: – А кто мне скажет, где находится самый большой в мире монумент «Родина-мать»?
– В Волгограде! – воскликнула девочка с патологически одухотворенным лицом отличницы.
– Неправильно! – засияла умиленно педагог, пожурив ученицу спусковым пальцем правой руки. – Самый большой мемориал «Родина-мать» находится в сердце матери городов русских[178]… – сглотнула от волнения оратор слюну, – городе-герое… – озарила она всех взглядом, – Киеве![179] – выпорхнул ответ из кладовых ее памяти, фантазии, патриотизма, коммунизма и прочих сокровищ пещеры Али-бабы, не останавливаясь на достигнутом ни на минуту. – Все прогрессивные люди Земли с восторгом и надеждой смотрят на нашу страну, идущую к светлому будущему ленинским путем, по ленинской тропе и ленинским заветам!
«И ленинским конфетам», – невольно вспомнил я ирис «кис-кис» и сломанный о них зуб.
В это мгновение пролетавшая мимо мошка, подхваченная течением теплого воздуха, движущегося в легкие возбужденной ораторши, засосалась ей в рот и, спасая собственную шкуру, растопырила крылья, перекрыв горло выступающей. От неожиданности директриса поперхнулась и кашлянула прямо в микрофон. Микрофон отозвался раздраженным эхом и затих внутри динамиков беспробудной тишиной. Отвернувшись, педагог попыталась сделать вдох и так напрягла грудную клетку, что на ее шее вздулись вены, грозя произвести кровоизлияние в мозг. Но букашка-буржуашка уперлась всеми своими конечностями в гортань коммунистки и, выдержав возникшее спонтанно давление, выиграла первую часть битвы с Голиафом. Для повторения подвига Давида ей оставалось вылететь из горла великанши, отрубить говорящую в микрофон голову и предоставить трофей публике[180]. Но, сжалившись над посиневшей начальницей, завуч медленно-медленно… неторопливо, не спеша… опустив взгляд и завернув уши в трубочку, подала той стакан воды, уже представляя себя в директорском кресле.
Глыть-глыть-глыть – и сраженная мошка-крошка-дураплешка понеслась через глотку и пищевод великанши, прямо в соляную кислоту ее желудка, ломая себе по пути лапки, шейку и крылышки.
«Уухх, экстремалка! Мне бы так!» – ахнул зачарованно я, внимая продолжению монолога мимо ушей.
– Дорогие дети, вы даже не представляете, как повезло вам родиться в этой прекрасной, свободной и счастливой стране, которая теперь называется Союз Советских Социалистических Республик, а раньше именовалась просто Россия, где кроме бедных людей жили еще и богатые… От богачей мы, слава богу, избавились! И теперь вся страна живет без них, согласно идеям процветающего социализма!
Директор промокнула носовым платком шею, перевела дух, сказала «ух!» и возобновила сольное выступление борца с богатством и прочим гадством.
– Так вот! – воткнул она очередные шесть букв в микрофон. – Пока загнивающий, стагнирующий и разлагающийся капитализм мучительно конвульсирует на концертах Боба Марли, Элтона Джона, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Rainbow и, я не побоюсь этого слова, AC/DC!.. Пока он переживает психологический бум после выпуска микрокомпьютера «Альтаир 8800». Пока Microsoft создает для ЭВМ программное обеспечение, мы, советские люди, восторгаемся выступлениями нашего дорогого и горячо любимого «президента», Леонида Ильича Брежнева, по телевизору каждый день!
Мульт: Весла отдай!
Мы слушаем его зашифрованные речи[181] на всех каналах страны, зная, что только исконно русский человек сможет разобраться в дикции этого великого секретаря Коммунистической партии Советского Союза, чьи доклады разжевываются для нас таким афазийным[182] способом, чтобы никакие компьютерные технологии ненавистного нам Запада не смогли ухватить оксюморон его выступлений – в наших с вами сердцах!
Мульт: А то каноэ продырявлю.
Директриса отогнала рукой прижужжавшую на сладковатый запах духов осу (переметнувшуюся на сторону завуча) и добавила, умиленно глядя в наши глаза зеницами своих очей:
– Точно так же, как в пятидесятых годах мы наслаждались речами Никиты Хрущева, точно так же и вы будете умиляться позывами наших лидеров даже спустя тридцать, сорок, пятьдесят и сто пятьдесят лет!
Взяв стакан, выступающая допила воду и, шепнув что-то завучу, продолжила выносить мозг, инициируя грабеж:
– А сейчас, ребята, я расскажу вам историю, из которой вы узнаете, как внимателен и заботлив был Ленин к детям. Это случилось в далеком тысяча девятьсот семнадцатом году, когда Красная армия ценой невероятных усилий отбивалась от капиталистических интервентов и граждан России, стремящихся погубить нашу революцию. Бах-бах! Трах-тах! Ах-ах! – гремело на всех фронтах. Народ, обрадовавшийся государственному перевороту, недоедал, недопивал, недоживал, отдавая все до последнего куска хлеба на фронт, где будущие маршалы Советского Союза, Жуков, Тимошенко, Рокоссовский, Толбухин и другие[183], героически уничтожали своих соотечественников, не соизволивших праздновать свержение и арест законного правительства.
Мульт: Если вообще правительство может быть законным, а законы правительственными, когда ты не одобрял ни первое ни второе.
– Противников большевистского мятежа оказалось так много, так много, так много! – затараторила испуганно директриса, вжившись в роль красноармейца как в саму себя, – что патронов на всех стало не хватать! Поэтому Первая конная армия под предводительством сельского паренька Сёмы Буденного рубила не признавших революцию шашками! Рубила прямо по их бестолковым головам и наглым шеям, экономя таким хитрющим способом боеприпасы для остальных подданных великой империи, которых брали в заложники (вместе с семьями) будущие командармы Красной армии, проводя разъяснительную работу среди безграмотного и темного населения страны, не пожелавшего голодать на благо всеобщего счастья. Делать им это было легко и приятно, так как совесть вчерашних крестьянских пареньков обналичивалась в звания комбригов и по законам революционного времени экспроприировалась Коммунистической партией России до той поры, когда придет счастливая минута получать ее взад. Но минута эта так и не пришла, потому что обещанного счастья не наступило. – Директор просканировала взглядом обращенные к ней лица, включая лики матерей и облики отцов, и я тоже пробежался по ним осторожным взором первоклашки – по их глазам на одухотворенных физиономиях…
«Какие у моего народа глаза! – подумал я. – Они постоянно навыкате. Навыкате, но никакого напряжения в них нет… Полное отсутствие всякого смысла! И хоть нет никакого смысла, но зато какая мощь! Какая духовная мощь!!! Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят! Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий эти глаза не сморгнут. Им все божья роса»[184].
Женщина вновь перевела дух (ее сердце сказало: ту-дух), и она продолжила подбираться к кульминации сюжета с придыханием в гландах и волненьем в груди.
– Так же как не хватало еды беднякам, – звенел голос революционерки стройной частотой непоколебимых струн, – не хватало ее и Владимиру Ильичу, горевавшему в кремлевских палатах вместе с другими большевиками от недоедания до слез. И вот, в один из таких слезных дней, заходит как-то в кабинет вождя Феликс Эдмундович Дзержинский, давно уже озабоченный слезоточивостью Ильича, и говорит, щуря приподнятой небритой щекой близорукий, всхлипывающий глаз:
«Владимир Ильич?»
«А?!» – отзывается тут же вождь.
«К вам ходоки!» – пропускает позывной «б» товарищ по партии.
– Дааа? – удивляется деда Вова.
«Дааа…» – подтверждает революционный палач.
«А что они, батенька, принесли?» – интересуется, чуть картавя от волнения, берлинский сувенир.
«Свежей рыбки», – сообщает белорусский дворянин.
«А сколько они шли?» – допрошает, не унимаясь, Ильич.
«Две недельки», – признается неохотно Дзержинский.
«А какое сейчас время года?» – тянет волынку шеф.
«Лето», – вздыхает подчиненный.
«А какая на улице температура?» – тычет пальцем в ленинский, огромный лоб[185] вождь.
«Плюс тридцать пять…» – прячет, лоханувшись, в голенища сапог виноватый взгляд основатель ВЧК.
«Детям все! Детям!» – закончила директриса монолог и зааплодировала, высекая золотые искры счастья ладонью о ладонь и перстнем о кольцо так усердно, что во многих глазах заискрился восторг.
После продолжительных оваций она обрадовала нас скорым вступлением в октябрята, перспективой пионерии, комсомолии и прочих бед недоразвитого социализма. Для этого требовалось полюбить школу, зауважать старших, прилежно учиться и знать октябрятский слоган: «Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут!»
«Ну а кто не любит труд, тех работать не зовут», – домыслил я следующую строчку незамысловатого стихотворения и потупил от стыда взор.
Пламенная речовка ораторши вылетела из ее горла, как факел из ствола огнеметного танка ХТ-26/БХМ-3, и забрызгала слюной лакированную трибуну, покрытую шпоном красного дерева с профилем Ленина, выполненным на фасаде из шпона бука. После этого женщина передала электрический символ мужского плодородия завучу, а сама села передохнуть…
Меня стало подташнивать… То ли от жарких лучей звезды, наплывающей на нашу планету, как футбольный мяч на удар шведкой. То ли от тоски, вкравшейся в сердце ребенка мохнатым пауком раздражения. То ли от того, что моя мама так и не купила мороженого и теперь возмущенный желудок мстил скучающему Давиду, не желая прощать слабости, проявленной им перед очередью за белым, прохладным, сладким, молочным, тянущимся, тающим, растекающимся, обволакивающим, успокаивающим, радующим, аппетитным лакомством в вафельном стаканчике в вафельную клеточку в вафельной стране[186]. То ли маленький житейский опыт маленького человечка с маленькими мозгами, но большими способностями подсказывал, что ничего хорошего здесь не предвидится. Короче, я загрустил, затосковал и потерял связь с действительностью…
Прекрасна жизнь – на вид. Но день единый, — Что долгих лет усильем ты воздвиг, — Вдруг по ветру развеет паутиной…[187]«И жизнь прошла. И ты уже старик», – закончил я сонет Петрарки словами Мульта и чуть не зарыдал от такого расклада, вспомнив безвременную кончину Лауры:
Как-то Лаура на лифте каталась — Ноги уехали, попа осталась…После призыва завуча всем пройти в школу, старшеклассники с красными тряпочками на шее бросились к нам и стали хватать малышей за руки, создавая таким образом пары из длинных и коротких детей. Я достался высокой, худой девчонке с головой, разрезанной на две половины идеальным пробором для хвостов, перевязанных розовыми бантиками. Красная тряпочка на ее шее показалась мне знакомой… «И она мне что-то напоминает… Но не могу вспомнить, что именно. Где ты ее взяла?»[188] – чуть не заговорил я голосом Винни-Пуха и не захрюкал носом Пятачка. Но, сделав ревизию своего винчестера, вспомнил фильмы про индейцев.
Первыми в мое воображение явились вожди. Они пришли, подчиняясь магической практике вуду, технику которой я освоил, пытаясь однажды вернуть к жизни сиамского кота, сбитого машиной во дворе. Кот уже, кажется, начал подавать первые признаки жизни, когда мое терпение лопнуло, и я закопал его, к чертовой матери, в приготовленную за домом ямку. Спустя два года, в пионерском лагере, я пытался вызвать дух животного из загробного мира, чтобы извиниться за халатное отношение к воскрешению, – в то время как остальные пацаны, накрывшись одеялами, призывали Пиковую даму с помощью зубрежки ее имени и зеркальца, стибренного у девчонок из нашего отряда:
– Пиковая дама, появись! Пиковая дама, появись! Пиковадамаись. Пикмаись… пись…
И она появилась, а мы исчезли, как статуя Свободы из-под покрывала Дэвида Сета Коткина[189], выбежав от страха на улицу.
Но вернемся к вуду. Вуду подействовало, и вожди стали появляться в моем воображении с перьями на головах и физиономиями, похожими на палитру из общественной мастерской. Внимательно всех осмотрев, я не нашел искомого аксессуара и теперь стоял, пытаясь припомнить, где же я ее видел… тряпочку, завязанную на шее… но только не красного цвета, как здесь, а… вспомнил-вспомнил – серого! Я видел ее у прабабушки, в маленьком, круглом, выпуклом черно-белом телевизоре «Янтарь», когда смотрел фильмы про индейцев, сражавшихся под предводительством вождя Мета-комета[190] против бледнолицых ковбоев, колонизировавших Северную Америку, в то время как чукчи воевали с русскими казаками под предводительством Семена Дежнева, полагавшего, что он открыл Колыму, хотя до Джугашвили ее никто и не закрывал.
Дело в том, что до встречи с белыми людьми чукчи считали себя гипербореями[191].
– Мы гипербореи! Мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне от других живем. По ту сторону севера и льда. Ни землей, ни водой не найдешь к нам пути! Наша жизнь – наше счастье! Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход![192] – рассуждали сами с собой чукчи, забираясь в яранги братьев, когда те уходили на охоту[193].
Но после встречи с цивилизацией на независимости этой страны христиане поставили жирный крест и распяли на нем мечты о суверенности.
Процедура присоединения была стандартной: покорившихся местных жителей облагали налогами. А залупарившиеся народы истребляли или регулярно трахали, что на современном языке звучит уже культурно – ассимилировали. То есть – уподобляли по образу и подобию. То есть – поступали по-божески. То есть – играли в богов. То есть – раздражали старшего посланника, объявляющего о своем прибытии простуженным басом-профундо[194], скатывающимся в отдельных местах до фа контроктавы. Это пугало не только казаков, но и оленей чукчей, которые с криками: «Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам!» – мчались в разные стороны, сломя голову и втянув рога.
А чтобы вам – сидящим здесь – было легче понять впечатления чукчей от колонизации казаками, необходимо (обратившись к услугам Чарльза Лютвиджа Доджсона[195]) зазеркалить данную историческую ситуацию, спроецировав ее на себя в мозг.
Допустим, завтра (если, конечно, это не пятница, а если попалась все же это она – перенесем представление до понедельника, чтобы не портить выходные) на вас нападают чукчи… Побеждают… Покоряют… Подчиняют… И вот вы уже пасете стада оленей. Живете в чуме (бросив квартиру с горячей и холодной водой). Ездите на санях, запряженных лайками (машину заберут в счет оброка чукчи). Танцуете под бубен – Киркоров разоряется. Тоскуете под варган[196] – Михайлов пролетает. А спустя девять месяцев называете новорожденного ребенка (с сибирским разрезом глаз и контуром лица по циркулю) дочкой или сынком.
Примерно то же самое испытали чукчи, когда ввалившиеся на их территорию казаки резюмировали: «Иноземцев и народы, сысканные в сибирской стороне, а не под чьею властию не находящиеся, – тех под российское владение покорять и в ясачный платеж вводить!» Что на современном языке звучит так: «Слышь, чукчи? Вас кто-то крышует? Долю кому-то отстегиваете? На стрелку за вас базарить кто-то приедет?.. Никто? Никому? Нет? Тогда башлять будете нам или пулю в лоб! Ё?»
На что чукчи с индейцами ответили бледнолицым бандитам в духе наивного реализма[197]:
– Идите к черту!
И грохнули атамана Шестакова, майора Павлуцкого, как до того хан Кучум грохнул атамана Ермака[198], а вампаноаги грохнули капитана Бэра и Томаса Лотропа[199], пытаясь остановить колонизацию своей страны.
Ни те, ни другие народы не знали, что мир воров в законе не прощает таких откровений никому. И чукчам, и индейцам были назначены стрелки, и за базар пришлось ответить…
Но вернемся к ковбоям. Именно у них, у несуществующих ковбоев, я и видел на шее такой же галстук-тряпочку, как у той девочки. А еще шляпы с широкими загнутыми полями.
Мульт: Клёёёвые!
Ковбои в телевизоре выглядели чуточку презентабельнее – убедился я, взглянув исподлобья на девчонку, вцепившуюся в мою руку своей костлявой пятерней. Снизу на ее подбородке виднелась родинка, а на шее прыщик.
Прыщавая досталась, вздохнул я и, опустив голову, раздавил бегущего по песку жучка.
Из всего увиденного и осмысленного на линейке выходило, что наша школа была гибридом ковбойского племени под предводительством бледнолицего вождя с такой удивительной для индейцев кличкой – Ленин.
Не Орлиный Глаз, не Куриный Мозг, не Белый Орел и даже не Розовая Пантера, а просто – Ленин… Может, он взял псевдоним от имени моей бабушки Нинель, вывернув его наизнанку и затвердив окончание началом? – попытался с ходу разгадать большую историческую загадку маленький Давид. Но тут же перекинулся к предшествующим отгадке мыслям, еще не умея как следует систематизировать собственные наблюдения, основанные на модели закономерностей, описывающих аспекты познаний, подразумевающих теоретические исследования основополагающих явлений формирующегося мозга, в фундаментальный труд первоклашки.
Мульт: Испытываешь терпение?
Нужно было идти в школу индейцев, там все было бы по чесноку, думал я, страдая вместе с другими детьми ринотиллексоманией[200], проявившейся от появившегося безделья, и выковыривая из собственного носа подсохшую на жаре субстанцию муконазального секрета[201], принятого в народе называть козюлями, дабы оставлять его водно-солево-муциново-эпительный состав в тайне от ковыряльщика, вытирающего палец о штаны.
Мульт: Вы никогда не задумывались, как ваш нос производит козявки?[202]
Тут зазвучала торжественная музыка, и старшеклассники стали заводить младшеклассников в здание. Наш кабинет, заставленный партами с откидывающимися краями, находился на первом этаже. На столешнице я разглядел каракули, нацарапанные предыдущими гипонимами[203]первого подмножества[204] гиперонима[205] школы, являющейся надмножеством[206] детского садика. И пока училка рассказывала нам о режиме объекта, обвел некоторые скрижали ручкой пытаясь прочесть послание повзрослевших булеанов[207] и получить информацию из первых рук.
Ничего не поняв из прочитанного по буквам, я отвлекся на преподавателя, закончившего перечислять правила поведения на уроке и перешедшего к оглашению фамилий – тут же идентифицируемых с новобранцами зорким орлиным взглядом в очках с помощью классного журнала. При этом взрывная согласная буква «рэ», скатываясь во время артикуляции по поднятой занавеске учительского нёба, все время спотыкалась в момент рекурсии о ее передние вставные зубы и, вылезая наружу бочком, портила общее впечатление возникающим в протезах антирезонансом.
Ну, какого фига, думал я, уткнувшись носом в парту, они тянут на меня свое одеяло? Стоило только родиться, и тебя тут же припахивают, нагружая общими проблемами, как будто они свалились на их головы из-за моего появления… Вон дети индейцев наверняка не ходят в школы и преспокойно шляются по джунглям. Или лазают по деревьям, объедаясь бананами. Или, раскачавшись на лиане, прыгают в Амазонку и купаются там, сколько душе угодно…
Мульт: Стоооп! Я, кажется, понял, зачем вожди индейцев мажутся краской!
Я: Чтобы распугивать в Амазонке аллигаторов?
Мульт: Точно!
Пока я представлял себе, как бросаются врассыпную крокодилы, столкнувшись нос к носу с нырнувшим в реку вождем мирового пролетариата, первый урок подошел к концу и зазвенел звонок, приглашая всех на перемену. Учительница сообщила маме, что сегодня у нас три урока и подъехать забрать ученика нужно будет в двенадцать часов. После звонка нам разрешили выйти на прогулку, предупредив, что после второго звонка все должны будут вернуться. Я выплелся из класса, прихватив с собой на всякий случай портфель. Когда через десять минут звонок затребовал детей назад, я решил прогуляться домой. Не потому, что я невзлюбил школу или боялся знаний. И не потому, что пытка неподвижностью (за партой) повлияла на стойкость моего характера. А просто школа есть школа, а дом есть дом.
Кажется, я верно передал мысли семилетнего мальчика по этому поводу?
Это была моя первая самостоятельная поездка на столь длинное расстояние. Пересечение главной магистрали города пешком. Затем две остановки на трамвае без билета (штраф пятьдесят копеек). Пересечение одного из центральных перекрестков города около Центрального рынка. Перед этим – продолжительная прогулка по самому рынку в поисках плохо лежащих фруктов на прилавках зевающих по сторонам продавцов. И наконец, попадание в рай: двор…
Мама стояла у подъезда и вытрясала половики, когда я появился в арке. Дэйв не ожидал такого поворота событий, так как планировал сэкономленные два часа прослоняться за домом, и зашел во двор только для того, чтобы найти себе компаньона. Мама не ожидала такого поворота событий, потому что планировала за это время произвести уборку, приготовить обед и съездить за мной. Наши взгляды встретились, и мама охнула:
– Дэйв, ты как сюда попал?
Вопрос был, конечно, глупый… как попал? Как все – позвонил личному шоферу Брежнева, и он подвез меня на правительственной «чайке», пока Леонид Ильич, готовясь к клинической смерти[208], подписывал очередной указ о награждении Золотой Звездой Героя Социалистического Труда – Брежнева Леонида Ильича, после того как он опять вернется к жизни, чтобы к ее концу стать самым героическим (восемнадцатикратным[209]) героем всех времен и народов, заставив горевать от зависти и смеяться от удивления президентов западных государств.
Но пришлось сказать правду:
– Ушел. Скучно было…
Мама все еще приходила в себя, по-видимому, мысленно повторяя сложнейший маршрут моего перехода через Паникс[210], и молча смотрела сквозь пиджак, рубашку и грудь сына, в проем арки, из которой я появился на свет. Потом она сглотнула слюну, сделала какие-то выводы и произнесла севшим голосом еле слышно:
– Пошли, сынок…
Я выдохнул, ударил сандаликом по камушку, поискал взглядом жука-солдатика, и мы пошли…
Сегодня меня точно не пустят гулять, тоскливо размышлял я, топая вслед за родительницей в подъезд. Сначала мне не купили мороженое, теперь запретят прогулки. И все из-за этой дурацкой школы! Буду плохо учиться, чтобы меня перевели обратно в детский садик! – дал себе слово Давид, наивно полагая, что прошлое можно повторить.
Дома по случаю первого учебного дня правнука прабабушка готовила пирог. Я обожал ее кулинарные изделия от стадии липкого теста до крошек, остающихся в металлической формочке (в виде отступных) после выпечки лакомства и конфискации полученного продукта в рот. Прабабушка научилась готовить пироги во времена своей далекой дореволюционной молодости, когда к ней сватался французский инженер, производивший в Царицыне наладку какого-то оборудования. Он приезжал в город и после революции, но прабабушка к тому времени уже работала секретарем в штабе Ворошилова, состояла в браке со своим первым мужем, и ни о каком отъезде за границу не могло быть и речи.
– Лааньдии, – растягивала она фамилию француза, не делая при этом ударения ни на одну из гласных букв, и смахивала девичью кристальную слезу со старческой, покрытой морщинами потерь и трещинками воспоминаний щеки.
Пирог мне, видимо, тоже не предложат! – догадался первоклашка, отправляясь на лоджию смотреть на голубое небо… На свободно парящие облака… На проплывающую мимо дома великую русскую реку… На гранитную набережную… На деревянные пристани, покрашенные зеленой краской и выгоревшие за лето на солнце… На туристические лайнеры и речные трамвайчики, не ступавшие на твердь суши уже много лет… И на таинственную линию горизонта, ожидая в ее сумерках появления потрепанного ветрами и временем Летучего голландца, «Сент-Луиса»[211], обреченного на вечные скитания по волнам позора и трусости целого поколения.
Тоска… Великая тоска обреченности заполняла мое сердце.
5
Потянулись школьные будни. И с каждым днем это заведение мне нравилось все меньше и меньше. Им нечего было предложить мне. Мне – взять у них. Если бы наши интересы пересекались хоть изредка. Хоть в деталях… Возможно, я смог бы отвлечься от тяжелых раздумий о последних солнечных осенних деньках, так бездарно пропадающих в этом большом, красивом здании с этнонимом средней образовательной школы № 9, которую построили пленные немцы, убив перед этим на войне десятки выпускников, двух директоров и разрушив довоенное здание, конфискованное во время революции у бывшего владельца.
На уроках меня трогали очень редко. Часто проходил целый день, а я так и оставался не вовлеченным в интересы октябрят. И в итоге тоска взяла верх. Чтобы хоть как-то развлечься и побороть скуку, я стал рисовать на спине впереди сидящего одноклассника мандалу своего сознания[212]. Моя «загвоздка Вселенной»[213] на спине первоклашки выглядела не хуже картин Поповой[214], да и Малевича тоже. Но соседу оно (сознание) пришлось не по вкусу, и вместо того чтобы поддержать развивающийся талант товарища, он пожаловался на него представителю власти. Меня, конечно, не расстреляли за это, как Мейерхольда, но все же поставили в угол перед всем классом – в качестве позорного трофея, как это делали древние римляне. Подслеповатая учительница пошла на этот шаг по привычке. Но иногда привычка подводит своих хозяев, поэтому периодически от них (хозяев) нужно избавляться или оптимизировать.
Давид никак не мог считаться позорным трофеем, так как обладал внешностью, достойной его внутреннего содержания (made God!), чем и не преминул сиюминутно воспользоваться.
О, волшебство театральных подмостков! О, чудо собственной невесомости на эшафоте сцены! О, труд писателя в безлунную ночь! О, читатель, перелистывающий эту страницу. О, страница – любовница грез. О, грезы – помеха обучению…
Угол оказался очень привлекательным местом для моего выступления. С него открывался великолепный вид на лица одноклассников, тут же превратившихся в благодарных зрителей. Мне было хорошо видно, кто чем занимается. Кто как реагирует на учительские догмы. И вообще, я, столько времени любовавшийся с последней парты спинами и затылками детей, наконец-то увидел: Лица! Брови! Носы! Чубчики! Подбородки! Губы! Глаза! Глаза! Глаза! Особенно девчачьи.
Любопытство. Россыпи искр. Надежды. Отчаяние… Все мерцало в этих еще малюсеньких и крошечных душах.
Привлечь их внимание оказалось так просто и так естественно! Чудодейственность сцены (знакомая мне по утренникам в детском садике) вылезла из Давида во всем своем великолепии и в одно мгновение покорила всех пластикой пантомимы неугомонного паяца.
Мульт: Конечно – быть! Быть! И ни о каком «не быть» не могло идти и речи!
Призвав на помощь свои выдающиеся способности, я начал представление. Но, как это часто случается в тоталитарных режимах, в самый разгар выступления меня попросили сойти со сцены и выйти вон.
Кроме скуки и навалившейся тишины, в школьном коридоре никого не оказалось. Попытка выбраться на улицу через парадный вход провалилась. Его охраняла круглая, как наш с мамой аквариум, вахтерша. В левой руке у нее была газета «Вечерний Волгоград», а в правой – пластмассовый футляр для очков.
Зная по опыту, что так называемые пожарные выходы имеются во всех детских учреждениях, я стал искать запасной вариант и вскоре был вознагражден за свою наглость. Дверь, ведущая под лестницу, выпустила меня в другой двор, другой мир и другую реальность, где я увидел небольшую спортивную площадку, на которой светло-русый мальчик пинал мяч. Вскоре мы гоняли этот мяч вместе, отрабатывая по очереди мастерство голкипера и нападающего. Прозвеневший звонок отрезвил эйфорию спортсмена, и я побежал на следующий урок, отрясая на ходу штаны и рубашку от вездесущей пыли.
Открытая Давидом формула свободы: «День, парта, класс, спина соседа – моих рисунков синий след. Учись еще хоть четверть века – все будет так. Исхода нет!»[215] – обрадовала и воодушевила сознание первоклассника на новые подвиги. Во мне родилась уверенность – что в жизни всегда можно найти выход. Главное, не сдаваться и не терять надежду!
С этой поры я стал подавлять приступы сплина, посещающего меня во время уроков, рисунками сакральной геометрии на спинах одноклассников, что тут же поощрялось моей депортацией из кабинета в коридор. Постепенно бдительность, находившаяся еще в самом зачатке своего возникновения, перестала справляться с позывами ребенка к счастью, и я непроизвольно ослабил реакцию на подавляющие волю звонки. Все это и многое другое закончилось для Давида очень плохо.
Мульт: Детям нельзя жить естественной жизнью эукариотов[216]. Они должны существовать в искусственном мире взрослых.
Alieni juris[217].
Я это понял сразу, как только выплюнул соску. И все же не хотел мириться с групповой моралью внутри культурного сообщества, отстаивая право создателя на гуморальную регуляцию[218] моего развивающегося организма и его потребностей.
О, Создатель! О, Творец мой! Как хорошо я тебя понимал в то время. Как близок ты был мне по духу и природе своей – Дедала, не Сурта[219].
Но миром правят суета и страх. Страх перед массовым сиротством. Перед внезапностью уединения, которое может привести эту толпу в плохую компанию. В компанию собственного сознания. Сознания, не усомнившегося ни в чем, кроме своего достоинства. Кроме самого себя. Кроме того, что было единственно реальным в этой жизни от рождения и до последнего проникновения мира в легкие вашего тела…
За короткий срок моя слава выросла до таких размеров, что дело дошло до директора школы, и она вызвала маму.
6
Теплая осень заканчивалась. Небо все больше искажала гримаса теней и полутонов. В борьбе с облаками солнце настолько ослабло, что стало просыпаться позже, а ложиться раньше. Словно почуяв бессилие Творца, мелкие тучки боязливо выползали из-за горизонта и, пробежавшись по бархатному небу, как крысы по каменистой подворотне, начинали пиршество, заполняя собой весь мир. Они сваливались на небосвод огромными тюками ваты, пропитанными чернилами и пылью теней. От этого светло-голубое полотно неба утрачивало свою прелесть. Безмятежность вздрагивала, трепетала, разрушая идиллию природы, и, разрастаясь мазутными лужами, грозовые облака покрывали глаза людей нефтяной пленкой сумерек и целлофаном струящегося дождя.
Так приходил вечер.
Идя спать, я утешался мыслью, что после того как лягу, мама придет меня поцеловать. Но она приходила прощаться со мной так ненадолго и так скоро уходила, что в моей душе больно отзывались сначала ее шаги, а потом легкий шелест ее голубого муслинового платья, проплывавший по коридору, когда из кухни она шла в комнату прабабушки смотреть телевизор. Шелест и шаги возвещали, что я услышу их вновь. Я предпочитал, чтобы это наше прощание происходило как можно позже. Иной раз, когда она, поцеловав меня, уже отворяла дверь, мне хотелось позвать ее и сказать: «Поцелуй меня еще раз», – но я знал, что она рассердится, оттого что уступка, которую она делала моей грусти и моему возбуждению, раздражала прабабушку, считавшую этот ритуал нелепым. Словом, строгий ее вид нарушал то умиротворение, которым веяло от мамы на меня за секунду перед тем, как она с любовью склонялась над моей кроватью и, словно протягивая святые дары покоя, тянулась ко мне лицом, чтобы я ощутил ее присутствие и почерпнул силы для сна.
Когда она уходила, я слегка прикасался щеками к ласковым щекам подушки, таким же свежим и пухлым, как щеки нашего детства, и засыпал[220]. А потом просыпался в полночь и видел за окном всевидящий глаз луны. В такие пробуждения небо напоминало мне голову циклопа, и веки облаков, гонимые северным ветром в бескрайние равнины Африки, то обнажали, то смежали его глаз. Моему взору открывались саванны Танзании и странствующие по ним слоны, жирафы и носороги. А в голубой дымке – спящий великан Килиманджаро. Но вскоре картинка начинала расплываться. Ее пушистый мех сворачивался. Слоны и жирафы оказывались пятнами на шерсти запрыгнувшей в постель саванны[221]; и, мурлыча, она клала на мои глаза лапу, а я засыпал, обнимая свою кошку крепким сном. Дрожь ее тела и размеренный, вибрирующий звук убаюкивал и вселял надежду. А налетевший сон растворял безжизненные предметы, и последнее, что мне снилось, – солнечный луч, прожигающий тьму вечности, не имеющей ни начала, ни продолжения, ни конца…
Эти видения негативно действовали на формирующуюся психику ребенка, так как Солнце оставалось главным и древнейшим моим другом на этой планете. Поддаваясь обаянию невесты, набросившей подвенечную вуаль на свое окно, Светило приходило в нашу комнату тонкими лучиками тепла каждое утро и осторожно пробиралось сквозь узоры гардин хрустальными паутинками своих пальцев. Оно высвечивало пылинки, отделяя частицу кислорода от азота, углекислого газа от мифических чудовищ обескровленных и высушенных первыми лучами до таких размеров, что они парили в невесомости, потеряв способность наводить ночной страх на окружающее их пространство. Солнце будило меня неслышной радостью, и, пока мама спала, я лежал на диване, наблюдая за тем, как блаженно передвигаются по воздуху малюсенькие, еще несколько минут назад невидимые соринки атомов. Эти микроскопические пылинки галактик, эти создания причудливых миров, где нет привилегий: старших перед младшими, сильных перед слабыми, жадных перед щедрыми, уродливых перед красивыми, властных перед свободными. Где жизнь протекает по законам физики, а не толпы.
Все было мало-мальски терпимо, пока не стали задавать домашние задания.
Мульт: С этого момента школа окончательно вторглась в личную жизнь холостяка, лишив его приятного времени препровождения и сосредоточив все внимание на себе.
Каждый раз, когда я чувствую, что кто-то посягает на мою свободу, я бегу прочь или сопротивляюсь. Это заложено во мне природой (или при родах). Бегу от конфискации взглядов, спасая собственную уникальность. Но многие в такие моменты бегут от себя. От инстинктов. От своей натуры, вступая в борьбу с Создателем, потому что этому их учит общество. А обществу это привили андерсены древности, объявившие себя вождями конфессий созданных при помощи амфиболии[222] текстов.
Получив в результате эволюции сознание, люди стали сходить с ума, предпочитая избавляться от бесплатного приложения и не задумываться над тем, что, погружая свой разум в рабство чужих замыслов, они проживают чужую жизнь под чужими знаменами в чужом строю.
7
К зиме чердаки домов на пересечении улиц Мира и Ленина, где я играл в футбол во время школьных занятий, были освоены и обжиты. Этот небольшой участок земли, окруженный тремя домами довоенной постройки, являлся изрядной редкостью в нашем городе. Во всем Центральном районе насчитывалось чуть больше десятка довоенных зданий. А в других местах их не осталось почти совсем. Война, как «жопа с метлой»[223], смела историческую часть города с карты земли[224] в общую кучу забвения, где уже находились Герника[225] и Ковентри[226], а позже – Дрезден[227], Хиросима, Нагасаки, Грозный[228] и другие онтогенезы свободы.
И теперь три небольших домика, оказавшиеся рядом со школой, манили меня таинственной стариной и ветхостью испещренных пулями стен. Как древние донжоны[229] разрушенных замков, испытавших на своем веку гнев и милость воинов и строителей, они ветшали уже много десятилетий подряд, не обращая никого внимания на окружающую суету. Я шарил по чердакам, надеясь обнаружить сундуки счастья. Заглядывал в вентиляционные колодцы, пропитанные горьким запахом осенней золы. Рылся в голубиных гнездах, желая отыскать горстку орденов, потемневших от крови, сражавшейся до последней капли себя за обесцененное разумом тело.
Скрипучими жалобами косоуров старые деревянные ступеньки изливали душу на дряхлость своих перекладин, когда мы с Олегом, худым мальчишкой с необычным лицом и выпуклыми, как у жабы, глазами, осторожно поднимались к чердачному люку, а затем на крышу, где свежий ветер, и ощущение полета густым, травянистым ароматом брошенных осенних стогов выкуривал остатки моей осторожности, нашептывая сквозь голову в оба уха чарующие проклятия запрещенных соцветий[230].
Трали-вали-крыша, Где ты будешь завтра? Где ты будешь завтра? Тута или тама?[231]Кровельная жесть, разомлевшая под теплыми лучами уходящего в зиму солнца, сердито ухала, недовольная нашим вторжением. Голуби, ворковавшие на самой кромке пропасти, нехотя отлетали в сторону. Мир дремал в узорчатых перекрестках ветвей, не думая ни о чем. Не ища никаких поводов для собственного страдания или счастья. Осень. Поздняя осень. Последние пробуждения тяжелобольной звезды. Последние падения листьев. Последняя горечь скоротечности. Последняя черта финиша. Возвращение в сознание. В глубину утраты. В небытие минувшего, исчезнувшего безвозвратно, безропотно, бездарно. Осень.
8
За семь прожитых лет социальные правила, нормы, ценности и санкции, применяемые обществом для интегрирования моего поведения в групповую социализацию, успели настолько меня достать, что я начинал жалеть о подвиге, совершенном восемь лет назад.
Являясь самой маленькой клеткой[232] в теле двадцатишестилетнего мужчины, я совершил невозможное, выполнив ключевую задачу всего организма. Пройдя через шейку матки, через фаллопиевы трубы, обогнав на финише миллионы родственников, я первым столкнулся с яйцеклеткой! Первым среди миллионов, мечтавших не умереть, не погибнуть на финише. Когда уже столько позади! Когда уже так близко чудо. Когда остался последний рывок…
Все! Все двенадцать миллионов восемьсот сорок три тысячи четыреста двадцать восемь моих родных братьев и сестер погибли. Погибли все до последнего![233] Я плакал от горя и ликовал от радости, когда, прикоснувшись к ней волшебной палочкой феи-природы[234], смог возродить смерть[235].
И теперь мне хочется крикнуть в бездну человеческого апофеоза: «Люди, оставьте меня в покое! Я миллионы лет блуждал в космосе микроскопической Частицей Бога[236], прежде чем смог перевоплотиться в атом, попасть на землю, вживиться в клетку и совершить инсайт[237].
У меня очень маленький срок существования! Всего сорок – пятьдесят лет и, если повезет, еще двадцать на угасание. А потом – конец! После миллионов лет блуждания в космосе, после победы в немыслимом конкурсе – всего сорок или семьдесят лет, и опять пустотаааааа!!! Конеееееец! Потому что жизнь не вечна!.. Дайте мне прожить ее самому. Самому. Свою жизнь. От начала и до конца. Без вторжений на мою территорию счастья. Ведь это так естественно: я не трогаю вас, вы – меня…
– Не получится! – ответила грозно мама, пытаясь вечером всыпать сыну ремня за пропущенные днем уроки.
Дедовщина человечества работала как часы. А тем временем в кресле из взвешенной ряженки облаков и конденсации водяного пара Часовщик мироздания ухмылялся, глядя (из тропосферы рая в преисподнюю земли) на мое извивающееся тело. И, накручивая пальцем белую, как смоль, нить бороды, тихо напевал сквозь кудри нестриженых усов, чуть гнусавя простуженным голосом в пространство атмосферных фронтов, любимую мамину песню:
Ты в сарае стоишь, Юбка с разрезом. Нежно доишь быка С хвостом облезлым. Ой ты чува, моя чува, Тебя люблю я. За твои трудодни Дай расцелую.Если суммировать утверждение Библии, что Господь создал нас по своему образу и подобию, с исследованиями ученых, согласно которым человеческие стада разбрелись по планете из Африки, избавившись со временем от пигментации, и миксануть эти идеи в «коктейль Молотова», то получится, что Бог – чернокожий, а кожа, как известно, не седеет и всегда проглядывает сквозь белую (как смоль) религию негосударственных организаций, в сердца доверчивых индивидуумов – вывод напрашивается сам собой. Чернокожий Бог – это и есть та самая темная материя, которая занимает девяносто пять процентов всей Вселенной, включая атмосферу нашей планеты[238].
Разве вы не видите ее? Вокруг вас темной материи больше, чем всех ваших знакомых и родственников, таджиков и китайцев, христиан и мусульман, коммунистов и таксистов, гор и океанов, шмоток и жрачки, долларов и евро у Билла Гейтса и Карлоса Слима Элу[239] – вместе взятых!
Мульт: Все равно не видите???
Я: А знаете, почему вы ее не воспринимаете?
Вы: Почему?
Я: Потому же, почему и Бога…
Ну, и раз уж я начал лекцию о космологии – нужно довести все до конца, разъяснив, наконец, человечеству структуру Вселенной, ее образование и механизмы жизнедеятельности.
Черная материя это Создатель – Бог. Черные дыры – глотки, через которые Он завтракает, обедает, полдничает и ужинает, выпуская затем отработанные планеты в виде расплывчатых сгустков газов («по образу и подобию»), которые, в свою очередь, формируются в космические скопления и из них зарождаются новые галактики и прочая апофения[240].
Именно поэтому при движении в прошлое средняя температура частиц возрастает[241]. Проще говоря, свежий (ставший со временем реликтовым) «звук» вышел из Создателя теплым, а потом начал остывать. Ничего нового в этом нет. Элементарный принцип вечного двигателя: «Поел – облегчился – поел». В деталях это выглядит несколько замысловато, но в реальности все очень обыденно.
Кто-то съел то, чем облегчился предыдущий. Следующий – то, что облегчил тот, который пообедал тем, чем оправился предшественник.
И так далее.
Бывает такое, что кого-то съедают до того, как он успел навалять, и тогда отходы его жизнедеятельности выходят позже вместе с отходами того, кто ел его в общем помете. Недаром и фекалии, и новорожденные в русском языке обозначаются одним словом – помет.
И так по кругу до тех пор, пока растения, животные, бактерии, грибы и насекомые не выделят из себя еду биологической цепочки общепита. В результате круговорота пищи все сыты и довольны, но некоторым больно, если в биогеоценоз вмешивается политика.
Маленький мальчик рыбку удил, Сзади подкрался к нему крокодил. Долго кряхтел крокодил-старичок: В попе застрял пионерский значок.Я мог бы вам сказать, что это – всё! – но не скажу, потому что, как вы уже догадались, это еще не всё. Чтобы до конца осознать структуру Вселенной, вывести читателя из себя и открыть тайну Черных дыр (не дающих спать по ночам мужской половине населения), я должен внести поправку в Библию и раскрыть родовой обман: «Человек создан не по образу и подобию, а экспериментальным путем – методом научного тыка и космической графикой сверхнеразумных гуманоидов». Поэтому, увы, но мы не похожи на нашего Творца даже внешне!
На самом деле Создатель (он же Вселенная) выглядит, как песочные часы. Научному сообществу землян известен только тот фужер, из которого мы пьем вино жизни, а наша Вселенная – вино вечности. И это вполне закономерно, так как выпить хочется всем. Но также это закономерно еще и потому, что заглянуть во вторую половину песочных часов нет никакой возможности по той простой причине, что оттуда к нам не попадает реликтовое излучение. И поступает оно так не потому, что мы совсем уж плохие личности (хотя и не без этого), а просто оно не может сюда попасть из другой половины сосуда, так же как не может сыпаться в обратном направлении песок в песочных часах, если их не перевернуть.
– Оп-ля! – скажет читатель и опять будет не прав, потому что в этот момент и происходит самое интересное. Вся фишка заключается в том, что наши песочные часы (назовем это теорией Песочных часов) как раз-то переворачиваются! Крутятся и вертятся! Как шар голубой! Как дворник с метлой! Как шарики в роликах!.. Как… прима балета! Как фреза! Как… ну эта – «моя дорогая, моя дорогая, моя дорогая планета»![242]
И так как они крутятся постоянно, реликтовый фон (в обоих сосудах) всегда расходится от сужающейся горловины часов (то есть от центра) к их окраинам. В результате чего ученый мир может наблюдать только наш сосуд (уже находясь в нем) и не подозревать о том, что Вселенная (если брать ее целиком) не монична, а стереонична, так как растекается в разные стороны и создает над аэроторией Млечной полосы трехмерную величину, если взглянуть на Песочные часы Вселенной (вальсирующие в протяженности времени) из потустороннего пространства небытия.
Она (наша Вселенная) имеет свое зеркальное отражение на другом конце, которое мы вряд ли когда-нибудь увидим, но не исключено, что посетим.
А вот о том, как мы сможем это сделать, я расскажу вам в следующей книге, чтобы на этот раз не нарушать хронологию всего повествования…
Хотя нет… оставлю одну затравку для очень любопытных персон: сделать это можно с помощью черных дыр…
Ааа!.. чего резину тянуть! Помните, как в детстве? Вы сидите наказанный в одной комнате, а ваш хулиганистый друг (к которому вас привезли в гости) – в другой. Дверь, соединяющая комнаты, заперта, и попасть в другую комнату нельзя, но побывать в ней можно. Стоит только подойти к замочной скважине, поднять лепесток, скрывающий тайну второго сосуда, и дождаться, когда то же самое сделают с противоположной стороны. И вот, если с другой стороны двери лепесток замка поднимется и в нем появится глаз Вселенной, ваш сенсорный орган (проникнув в него) сможет увидеть вторую половину Песочных часов…
Только предупреждаю всех, что противоположная Вселенная сделает то же самое. Стоит ли так открываться? Решать вам.
Так что – никакого секрета, как образовалась Вселенная, нет. Но есть другой секрет, и он (скажу вам по секрету) беспокоит не только меня, но и самого Создателя:
Где Его родина? И почему Он сирота?
И еще один серьезный совет напоследок: если вы собрались устроить Большой взрыв, помните, что, возможно, он станет источником зарождения новой метагалактики. Поэтому снимите перед взрывом штаны и отойдите на два шага от ближайшей стены, чтобы новая Вселенная не задохнулась в ваших трусах и не разбилась о стену непонимания.
Мульт (интригующе): А вдруг вы Бог?
9
Зима пришла незаметно. Снег лежал на земле и асфальте, на ветках ясеня и качелях мягким кристаллическим пухом, наполненный влагой теплого воздуха еще не окрепшей погоды, когда я, счастливый, выпорхнул на улицу, изгнанный вслед за Данте[243]из общества, не терпящего внепланового творчества индивидуума.
Я вылетел с третьего урока за художества. Или, если точнее, – за безвкусную, бесчувственную, ябедническую натуру которую, кажется, звали Саша с Уралмаша, и он был уже четвертым впередисидящим соседом за прошедшие полгода, две недели и полдня.
Я был уверен, что соплеменники погубят очередное творение Давида, поэтому не сильно расстраивался, если, конечно, верить во всю ту ерунду, которую он написал выше.
Вскоре мама решила всерьез взяться за мое воспитание. Однажды вечером она поставила меня в тупик перед проблемой выбора, который, по ее глубокому убеждению, мне предстояло сделать немедленно.
– Дэйв!
– А? – откликнулся я из-под дивана, куда закатился мой броневичок.
Куда закатился мой броневичок??? – шарил я глазами в полумраке поддиванья, сдувая с носа вековую пыль. Может, туда? – отправлял я взгляд в дальний угол, скрывающий за ножкой какую-то загогулину. Или, может, туда? – пытался я развернуть голову в другую сторону сказочной страны поддиванья.
– Ага! – оповестила меня мама, выталкивая ногой из-под кресла дезертировавшую во время боя машинку. И добавила для связки событий: – Пора ужинать, сынок!
Я вырвал голову из цепких лап паутины и выбравшись в привычный мир материальной реальности, направился в ванную комнату мыть руки. Газовая колонка, как всегда, не желала гореть по-хорошему, и так как мне не позволяли приструнять ее пыл, я намылил руки хозяйственным мылом и ополоснул их под холодной струей с такой брезгливостью, что струя захрюкала воздухом и зашипела чем-то еще.
– Куда бы ты хотел ходить, кроме школы и двора? – спросила мама сына за ужином, состоящим из говяжьих котлет, картофельного пюре и бабушкиных соленых помидоров.
Мульт: Это сейчас мы знаем, чего не хватало на том столе. А тогда…
А тогда я довольствовался малым. Красные помидорчики были очень вкусными. Они таяли во рту, как и другие закрутки моей бабушки Нели.
Иногда мы ездили к ней в гости на автобусе ЛиАЗ, чья выхлопная труба выходила в салон, набитый до отказа усталыми людьми, а расход топлива достигал пятидесяти литров бензина на сто километров пути. Мы ехали минут сорок, и для меня это было вечностью, так как я не переносил вонь отработанного горючего и запах алкоголя из пор взмокших тел пассажиров, если дело происходило летом, а оно всегда происходило летом, потому что зимой у бабушки делать было нечего.
Район, где жила бабушка Неля, назывался Дар-гора и славился пикантными пристрастиями его жителей к вермутам и портвейнам советского производства. Исторические корни возникновения района уходят в далекий тысяча семьсот двадцать шестой год, когда на жителей Царицына обрушилось несчастье – большой пожар, уничтоживший половину домов густонаселенной части города за рекой Царицей.
В то лето пожары бушевали один за другим, минуя самую пожароопасную часть Царицына. Постройки ветхого деревянного жилья ютились по берегу Волги, плотно примыкая друг к другу, как бы сплачиваясь от обступающих их бедствий. Но трагедия пришла и объяла несчастные лачуги совокупностью раскаленных газов. Красный Петух вырвался на волю, когда хозяйка одного из домов растопила самовар и отошла к соседке поточить лясы. Заточка ляс перешла в расточку, а тем временем пышущий жаром самовар растопился без присмотра до беспредела и полыхнул, воспользовавшись презентом Прометея.
Радостное пламя охватило сухие доски халуп и помчалось олимпийским факелом смерти по крышам жилищ, перебегая с одной на другую с такой скоростью, что люди выскакивали из хибар налегке, невольно принимая участие в самом страшном забеге легкоатлетов…
Мульт: …самом страшном после лобовой атаки под Ленинградом[244], когда скрюченные от холода солдаты вжимались в снег, а потом с криками «Ура!» поднимались вместе с новой волной атакующих, подгоняемых сзади комиссарами[245].
Но, слава богу, в тысяча семьсот двадцать шестом году, когда вдоль Волги загорелись хижины Царицына, рядом не оказалось ни одного комиссара. И так как Генштаб не подготовил план наступления на огонь, люди просто отошли, предоставив возможность пламени захватить ту часть земли, которую оно смогло осилить. Несмотря на огромный урон, нанесенный жилищному фонду Царицына, в результате этой отступательной операции никто не погиб.
Мульт: А в то страшное время «сороковых-пороховых» день за днем, месяц за месяцем, год за годом Ленинград пожирал человеческие существа тысячами и сотнями тысяч штук городского и фронтового населения, превращая миллионы людей в измученные чуть живые привидения и трупы, а сотни – в умирающих от голода людоедов[246].
Я: Ленинград стал самым большим городом-людоедом в истории человечества, сыгравшего в фашистов-коммунистов всего-то один раз. В этом городе жила моя тетя – родная сестра деда Георгия, судьба которой мне неизвестна…
10
А чтобы вам (налив сто грамм) было легче понять, из-за чего несколько лет подряд убивали друг друга миллионы людей, представьте себе, что после вашей кончины каким-то невероятным способом друзья ухитряются переименовать город Москва в вашу честь и называют его… ну, скажем, Сидровград! Мало того, на площадях вам устанавливают памятники. Чужие дети пытаются любить вас, мертвого, так сильно, как не любили живого. Реперы сочиняют про вас частушки. Режиссеры снимают шляпы и клипы. А ваши кости, кожа и голова лежат в хрустальном гробу, ожидая прибытия белого коня на сказочном принце и их пробуждающего поцелуя[247], в то время как мозги хранятся за семью замками, чтобы, не дай бог, ими никто не смог воспользоваться еще раз[248].
Но тут отходит в мир иной состарившийся президент (и жизнь прошла, и ты уже старик). И теперь уже его друзья (отрепетировав процедуру переименования проспекта Победы в проспект его победителя) решают преобразовать СидроградЪ в НитупургЪ, чтобы, защитив репутацию почившего в бозе босса, спасти свои вложения от национализации внутренних карманов изголодавшимся населением страны. Вот тогда-то и заваривается каша-малаша из требухи нашей. Жители Сидорграда начинают колбасить и поливать сидром сторонников Нитупурга, пока те делают то же самое с ними (без сидра, но с огоньком)!
А коровы дают молоко и тем, и другим, и третьим, после того как быки задвигают им свои длинные шпаги в причинные места и снимают возникшее напряжение таким неразумным, звериным способом, в то время как правительство объявляет народные гуляния, посвященные удачному расстрелу вчерашней демонстрации, вместо того, чтобы вернуть городу прежнее имя, зарыть труп и жить-поживать да добра наживать за счет высоких качеств производимого вами товара и вкусного молока.
Мульт: И «не говорите мне во имя и ради тех четырех ягодиц, благодаря которым вы произошли на свет, и того животворного болта, который их скреплял»[249], что все это было сделано ради жизни на земле!
Ради жизни на земле погорельцам Царицына выдали даром, под вечное пользование, землю для строительства новых хибар в районе бывшей Вор-горы, куда раньше поселяли преступников. И снабдили денежным пособием. Дарственные земли обусловили новое название поселка: Дар-гора.
Дорога до Дар-вор-горы была целым испытанием для меня и шоком для Мохаммеда Али, который, вернувшись из России в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году, сказал: «Россия пугает меня – люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул».
Стул – это не стол, и проблемы с ним начинаются в глубоком детстве. Помните, как мама делала вам клизмочки и вставляла в попку свечи, когда ваш стул становился невыносимо дубовым (или в доме отключали электричество)? И наоборот – старалась его как-то укрепить, если он слишком расшатывался. Сомневаюсь, что кто-то из читателей обладает такой феноменальной памятью, и все же смею заверить, что большинству из вас этих процедур избежать не удалось.
Наверняка и с Али происходило нечто подобное.
После того как акушерка отвалила камень и открыла пещеру для воскрешения новорожденного Мохаммеда в мир иной, а ему удалось выбраться на волю живым, боксер прошел церемонии привыкания организма к новым продуктам питания, их метаболизму и выделению непереваренных остатков пищи во внешнюю среду в руках опытной Одессы Клей[250], надеясь в итоге попасть «туда, не знаю куда», где исчезает необходимость естественных испражнений в процессе дефекации «того, не знаю чего», а «все выходит из людей посредством особого пота, подобного мускусу, с поверхности кожи»[251] и смывается дождем из драгоценного металла, падающего, брызгающего и растекающегося на золотые и серебряные кирпичи[252].
Возможно, поэтому, а может быть, и по какой-то другой причине, Кассиус, не побоявшийся выйти на ринг с самим Джорджем Форманом, ужаснулся взглядам пассажиров со стульев (советского производства (работы мастера Гамбса) в городском автотранспорте), выполенных из диэлектрического материала с повышающим трансформатором и ограниченной подачей тока[253], чтобы граждане не разгорались во время поездок и не вскрывали сиденья, как консервные банки, в поисках фамильных драгоценностей Кисы[254].
Поэтому, интуитивно почувствовавший подвох в глазах советских пассажиров Клей, оказался недалек от истины, бурлящей в стране истории, когда испугался объема ее реалий, зависящих от импульса президентского смывного бачка.
Испугался, да и ладно. У всех свои фобии! А я возвращаюсь к своей бабушке Неле и Дар-горе.
Бабушка жила в частном секторе с сыном Славой и внуком Эдиком. Дядя Слава имел на груди наколку «Ленин-в-профиль-Джугашвили», так как, по представлениям советских людей, тех, кто имел на груди наколки лениных и швилиев, коммунисты не расстреливали, а только сажали в тюрьму. Он и сейчас носит ее на всякий случай, хотя теперь коммунисты занимаются политическим выживанием и им не до расстрелов. Народ многое узнал про их делишки в двадцатом веке, и находить слабоумных в современном обществе становится все труднее…
Или нет?
Мульт: Сколько угодно!!!
Бабушка Неля курила «Беломорканал» и умела одной рукой вынимать из пачки папиросу, сминать ее особенным способом и вставлять между зубов. Затем (этой же рукой) открывать коробок, доставать спичку, запаливать ее о черкаш коробка и прикуривать. При этом ее большая левая рука мирно покоилась на маленьком подлокотнике старого кресла.
Сделав глубокую затяжку всем телом, весящим сто сорок килограммов, бабушка приветствовала наше появление хриплым басом: «Аааа! Интеллигенция сраная приехала!» – и тушила выкуренную папиросу о железную пепельницу, на которой был выгравирован анфас Ленина.
Я не знал, что такое интеллигенция, но зато знал, что бабушка ушла на фронт в восемнадцать лет, через два года после того, как в тысяча девятьсот сорок первом году родила мою маму. Ее муж (мой дед Георгий) отправился на войну в августе тысяча девятьсот сорок первого года и попал в танковые войска. Георгий высылал Неле в Сталинград деньги, чтобы она могла существовать сама и кормить дочку. Когда начались бомбежки, мои прапрабабушка, прабабушка, ее сын, дочь и внучка (моя мама) были в городе. В один из первых же налетов у прапрабабушки Ксении осколком бомбы оторвало руку. Она умерла через несколько минут. Хоронить ее было не в чем, и прабабушка Аня вытащила из руин дома дедов сундук, положила в него свою маму, ее руку и засыпала останки прапрабабушки в окопе.
В сорок втором году окопы и блиндажи заставляли рыть (около домов) всех жителей города, хотя никто не верил в то, что война может докатиться в такую даль. После первой же бомбежки большинство людей лишились всего. Прячась двадцать третьего августа под вой сирен в самодельные землянки, люди не подозревали, что видят свой город в последний раз.
Небо потемнело от сотен самолетов люфтваффе. Бомбы сыпались и сыпались, пытаясь пробить панцирь планеты и разорвать мантию Земли. Земля дышала, двигалась, охала и кричала от непрекращающихся разрывов. Люди, сидевшие в блиндажах, прощались с жизнью, и жизнь покидала их, погребая под тоннами поднятого в небо грунта. Быстрее других умирали те, кто находился в окопах. Позже их местонахождение определяли по торчащим из земли рукам. Руки тянулись к небу, моля железных драконов о снисхождении, но после того как у монстров закончились фугасные бомбы, они обрушили на землю зажигательные снаряды. От их несметного количества в городе образовался огромный пламенный ураган. Огонь пожирал высохший за лето Сталинград и, покрывая землю ожогами, уничтожал следы преступления и его свидетелей.
К вечеру бомбежка прекратилась, и уцелевшее население стало выбираться наружу. Дымящиеся развалины ночного города освещались языками тысяч костров.
Словно маленькие родники, люди потекли из подвалов, бомбоубежищ и блиндажей на божий свет и слились в одну большую, стонущую от ужаса реку. Река подхватывала, несла, поглощала и вырывала у матерей их сокровища. Женские руки выскальзывали из детских ладоней так быстро, что оглушенные происходящим дети не сразу осознавали случившееся. Но вскоре поток выдавливал их маленькие тела на обочины улиц, и они громко рыдали, потеряв самое дорогое на земле существо.
Перекрывая стоны раненых и плач осиротевших, вопли матерей пронзали бурлящую лаву исступленными криками и, повторяя имена пропавших чад, продолжали двигаться к Волге.
Вскоре у переправы образовался огромный муравейник. Он ожил, заголосил, зашевелился, желая приблизить к себе спасительный левый берег. Но тут в ночном небе появились светлячки. Маленькие, безмолвные светлячки, словно души погибших детей, рассыпались по небосклону маячками и, озарив небо, стали спускаться, освещая под собой землю. Люди смотрели и смотрели вверх, пока не поняли, что это парашюты с прикрепленными к ним фонарями. Вслед за парашютами с неба посыпались бомбы. Рев снарядов смешался с грохотом озверевших от бессилия зениток и воем попавших в западню людей. Переполненные кораблики отчаливали от правого берега и тут же оказывались под обстрелом. Катера раскачивались, подпрыгивали от водяных столбов смерти, поднимающихся то с правой, то с левой от них стороны, и, не выдержав напряжения, кто-то прыгал за борт, обрывая невыносимые мучения и страх перед неминуемой смертью.
Привязанные к кораблям плоты с ранеными солдатами переворачивались, разлетались в щепки, и мать-Волга смывала с бинтов своих детей запекшуюся на жаре кровь…
Так прошли не одна ночь и не один день. Еды в городе не осталось. Люди питались убитыми лошадьми, жмыхом и кореньями.
У папы прабабушки Ани (моего прапрадеда Мирона) до революции в центре Царицына стоял большой дом, на первом этаже которого находился семейный кондитерский магазин и цех по производству шоколада. Дом возвышался где-то на улице Московской, исчезнувшей после бомбежек города навсегда. Новая власть коммунистов экспроприировала магазин вместе с тишиной и уютом семейной жизни, предложив взамен разруху и голод. Но у прабабушки Ани сохранились золотые украшения, спрятанные и перепрятанные ею так много раз, что нюх коммунистических ищеек не смог определить запах золота и напасть на след.
Во время Сталинградской битвы и после нее прабабушка обменивала украшения на провиант, пока несколько миллионов мужчин методично, профессионально и весьма эффективно убивали друг друга, разрушая до основания остатки жилых зданий, чтобы затем их выжившие товарищи замерзали каждую ночь в тридцатиградусный мороз, до самой весны – насмерть.
Средняя продолжительность жизни (во время битвы) вновь прибывавших в Сталинград советских солдат падала ниже отметки в двадцать четыре часа, что позволяет предположить желание некоторых генералов выманить таким образом у противника все боеприпасы, вместо того чтобы одолеть его старым испытанным способом, применяемым еще фельдмаршалом Кутузовым[255], и уж только потом испробовать суворовскую прыть, благо территория страны и ресурсы позволяли практиковать военную хитрость любых полководцев.
Мульт: Увы – на жизнях солдат решили не экономить…
Так прошел месяц. Бомбежки уменьшились и вошли в привычку. Несколько раз женщины пытались переправиться на левый берег, но всякий раз Неля отказывалась это делать, надеясь, что на Сталинградский фронт перебросят часть, в которой служит ее Георгий. Почти каждый вечер она пробиралась к развалинам своего дома и расспрашивала жильцов из соседних землянок – не искал ли ее кто?
В конце концов, прабабушка уговорила дочь эвакуироваться, но после того, как на их глазах два только что отчаливших кораблика были расстреляны из самолетов, Неля отказалась переправляться наотрез. Прабабушка Аня перебралась на левый берег вместе с десятилетним сыном. А Неля с моей мамой остались в Сталинграде. Их приютила в своем блиндаже родственница деда Георгия, делившая землянку со своими детьми и еще одной семьей. Днем женщины сидели под землей, а ночью по очереди пробирались то перебежками, то ползком к Волге, чтобы набрать воды.
Так они продержались до октября. Нелю подкармливали на солдатской кухне, расположившейся недалеко от водокачки, куда она регулярно наведывалась, надеясь что-то узнать о муже. Солдаты угощали девушку кто чем мог и отрицательно качали головой, отводя в сторону глаза, на бабушкин вопрос о Георгии.
Там бабушка научилась ухаживать за ранеными. Раненых было много. Очень много. Их постоянно отправляли на левый берег, но поток с места боев только увеличивался. Неля помогала раскладывать раненых на плотах, и когда плоты, привязанные к корабликам, отчаливали, она тревожно смотрела в небо. Если появлялась вражеская авиация, раненые бойцы на плотах снимали гимнастерки и сапоги, готовясь в случае необходимости прыгать в воду.
В октябре фашисты прорвали оборону, и блиндаж, где жили бабушка с мамой, оказался на оккупированной территории. Питаться стало совсем нечем, и если бы не мешочек пшеницы, припасенный запасливой хозяйкой блиндажа, они бы умерли с голоду.
В конце ноября, когда ударили морозы, немцы принялись выгонять людей из подвалов. Их отсылали на станцию. Там формировали колонны и кого поездом, кого пешком отправляли в глубь оккупированной территории – в Морозовск.
В колонне, где оказались бабушка и мама, было много женщин с детьми. Одна из женщин несла на руках девочку лет четырех. У девочки была перевязана голова, и она почти все время спала. На вторые сутки женщины заподозрили неладное. Ребенок с вечера не подавал признаков жизни. Они стали просить мать показать им ребенка, но та, укутав девочку в отрез из солдатской шинели, категорически отказалась это делать. Когда вечером женщина не предложила дочке похлебку, всем стало понятно, что ребенок умер. Ночью обессиленные люди уснули, а утром женщины попытались уговорить обезумевшую от горя мать оставить девочку на обочине дороги. От этих слов мать еще сильнее прижала трупик к своей груди и на все уговоры отвечала сквозь слезы одно и то же: «Так я не смогу найти ее могилку, так я не смогу найти ее могилку, так я не смогу найти ее могилку…»
Когда все прибыли на станцию, бабушку и маму вместе с остальными погрузили в вагоны и повезли в Белую Калитву. Там всех расселили в птичнике, отделив мужскую часть от женской. У родственницы деда Георгия (в чьем блиндаже жила бабушка в Сталинграде) были две дочки и тринадцатилетний сын. Его немцы забрали в другой барак, и вскоре женщины узнали, что всех мужчин отправили в Германию.
Наступил декабрь. Ударившие морозы косили наиболее слабых. Совсем маленькие дети умирали чаще других. Родственница Георгия смогла как-то договориться с охраной и наведывалась в соседнюю деревню, откуда приносила ботву.
Так прошел еще один месяц. Месяц голода, холода, ежедневных смертей и детских страданий на руках беспомощных матерей.
Через три дня после празднования нового тысяча девятьсот сорок третьего года немцы подожгли соседний барак, где лежали больные тифом. Началась паника. Люди подумали, что их тоже будут сжигать. Кому-то удалось убежать. Охрана к тому времени смотрела уже на все сквозь пальцы, так как фашисты готовились к отступлению. О том, что Красная армия приближается, поговаривали уже давно, но боялись сглазить. Поэтому, когда в середине января вдруг появились наши, никто не мог поверить в произошедшее, и плачущие женщины целовали солдатам руки, спрашивая их об одном и том же: «А Сталинград, сыночки, освободили?»
После капитуляции второго февраля тысяча девятьсот сорок третьего года шести немецких армий, двадцати четырех генералов, одного фельдмаршала и пятидесяти тысяч советских хиви[256] жители стали возвращаться на пепелище правого берега. Точнее, в то, что от него осталось. Сталинград был завален трупами. Их свозили в овраг реки Царица, где они лежали сложенными в ровные поленницы, ожидая погребения.
Скрежеща иглами снежинок по небритым щетинам мертвецов, зима пришла в котлован этого безумия ледяной стужей безмолвия. Желая остудить сердца людей, она несла холод и гибель, уравнивая всех единственным на земле правосудием, имя которому – смерть.
Так мои близкие стали свидетелями величайшего в истории человечества сражения сухопутных войск. Проще говоря – самого массового убийства при попустительском поощрении всех государственных органов, еще недавно ратовавших за мир.
Мульт: Только под эгидой государства можно создать армии убийц!
Благодаря моему прадеду женщины получили место в бараке, построенном около железнодорожного вокзала, восстановлением которого он занимался. Раз в месяц ему выдавали мешок зерна. Шансов выжить в таких суровых условиях у моей мамы практически не было. Но она это сделала – сделала всем смертям назло[257], хотя и осталась навсегда маленькой и хрупкой женщиной, в отличие от высоких и больших бабушки и прабабушки.
Страшная зима тысяча девятьсот сорок третьего года подходила к концу…
Февраль нищал и стал неряшлив. Бывало, крякнет, кровь откашляв, И сплюнет, и пойдет тишком Шептать теплушкам на ушко Про то да се, про путь, про шпалы…[258]Главное было – дожить до тепла, и у них это получилось. Весной началась расчистка города. Активное участие в ней принимали военнопленные. С каждым днем их становилось все меньше и меньше. К лету уже десятки тысяч немецких мужчин лежали в земле. Изможденные фрицы умирали вместе с русскими солдатами, которых они брали в плен, когда шли под Сталинград. Умирали за тысячи километров друг от друга. За тысячи километров от своих семей. Умирали, потому что, отправляясь на эту войну, надеялись выжить. Потому что боялись своих диктаторов. Потому что, становясь фанатиками чужой воли, они проживали чужую жизнь, под чужими знаменами, в чужом строю, расплачиваясь за это своей смертью…
Весна и лето прошли в восстановительных работах. Измученные жители города трудились не покладая рук, пока великие стратеги готовились к очередной небывалой битве, вновь протянувшей руку смерти к моей семье.
Наступивший июль ознаменовал в истории человечества начало невиданного танкового Армагеддона.
Для главных игроков этой схватки битва проходила в комфортабельных помещениях Вольфсшанце[259] и Кремля, обставленных мебелью, выструганной из костей человечества. Их кабинеты отапливались теплом остывающих на полях сражений тел. Столы, на которых лежали игральные карты, освещались потухающими взглядами детей, так и не успевших получить опыт прожитой жизни…
11
В сорок третьем году, после того как Рудольф Рёсслер[260], отрабатывая свои баснословные гонорары, передал из Швейцарии в Кремль агентурные данные о готовящейся немцами операции «Цитадель», танковая часть, где служил мой дед Георгий, оказалась на Курской дуге.
И битва началась.
Один закат. Одна ночь. Один рассвет. Один день[261].
Одна земля. Десятки птиц. Сотни кузнечиков. Пять тысяч самолетов. Шесть тысяч танков. Тридцать тысяч пушек. Два миллиона воинов…[262]
И где-то среди них – бронированный, раскаленный, родной. Пропахший порохом и горючим. Изрешеченный пулями и осколками. Ствол, в котором прячется ужас, смотрит на запад: «За Сталинград! За родину! За жизнь!» Уставший, гусеничный, мой двадцатисемилетний дед-танк…
Два года! Уже почти два года смерть гуляет вокруг него, заглядывая турбинами своих зрачков в глаза его друзей. Высасывая, выкуривая, выжигая и выплевывая из них жизни. Два года, в последнее мгновение, он успевает отвернуться, закрыться рукой, пригнуться, свернуть с ее пути и продолжает жить. Жить, чтобы увидеть свою женщину. Свою дочь, которую он никогда не видел. Не слышал. Не ощущал тепла ее маленького тела. Лучей ее глаз. Бархата волос. Никогда. Никогда. Никогда…
Ад
Вздрогнув многотысячным залпом артиллерийских орудий, земля скорчилась подавившись чудовищной лавиной снарядов. Воздух взревел двигателями «тигров», «тридцатьчетверок», «пантер», «черчиллей»[263], «фердинандов», «семидесяток» и «самоходок». Как стадо обезумевших буйволов, шквал однородной брони понесся стальным монолитом навстречу тысячетонному цунами вражеской армады. Опрокидывая все на своем пути, титаны сотрясли планету лобовым столкновением и стали вгрызаться в тело противника, прожигая его внутренности кумулятивными гранатами[264]. От рева моторов, грохота и взрывов снарядов вибрация барабанных перепонок разрывала людям мембраны уха, ломая слуховые молоточки и деформируя перепончатый лабиринт[265]. Не замечая вытекающей из ушей крови, наступающие полки мчались в объятья смерти, то падая, то вставая, то пригибаясь, то перекашиваясь от взрывных волн.
Вздыбливаясь, танки налетали друг на друга и от выстрелов в упор сносили башни. Не выдерживая напряжения, броня трескалась и закручивала в спирали изрыгающие смерть пушки. Бросаясь в очередную атаку, бойцы не отпускали гашеток раскаленных ППШ, пока не заканчивались обоймы. Скошенные ряды противника заваливались друг на друга, формируя неприступный вал крепости, и неугомонный МГ-42 извергал ответные проклятия со скоростью двадцать пять выстрелов в секунду – отрывая воинам руки и превращая в месиво головы. Обезглавленные, плечом к плечу, с прострелянными на груди орденами, они продолжали стоять насмерть, не разжимая пальцев на курках автоматов. Когда дымящийся ствол МГ начинало клинить, враг выдергивал безжизненный орган из тела перегревшегося пулемета, и, пристегнув новый[266], продолжал нашпиговывать свинцом приближающийся оползень противника. Противник проглатывал крупнокалиберные пули телами мужественных, двадцатилетних мальчиков и – наступал, наступал, наступал…
Падая на смятую зелень травы, бойцы ослепляли стеклами сумеречных глаз издыхающее в кровоподтеках небо. Не выдерживая тяжести наплывающих из-за горизонта эскадрилий, небо опускалось все ниже и ниже, смешивая гаубицы, бомбардировщики, танки, штурмовики, знамена, зенитки, истребители, живых, мертвых – в один неразрывный ком сражения. Пытаясь пробиться сквозь копоть и пыль обожженной земли, жаркий июльский день разгорался яркими лучами летнего солнца и, сохраняя иллюзию жизни, поддерживал прежнюю температуру в уже бездыханных телах павших солдат.
Поверженные солдаты наслаивались друг на друга; втаптывались новыми рядами наступающих в грунт; наматывались на гусеницы бронетехники – и орошались слезами столпившихся над полем битвы ангелов. Не в силах остановить начавшееся безумие, мертвецы сохраняли героическое хладнокровие и мужественно выпускали из потерянных в сражении тел освобожденные битвой души. Ангелы встречали их безмолвными упреками и, глядя вниз, скорбели над полотном создающейся истории мира.
Испаряясь, души стенали визгами падающих бомб, ревели пропеллерами бомбардировщиков и капали, капали, капали кровавыми слезами в открытые раны изуродованных туловищ.
Вонзаясь в грунт, бомбы сотрясали землю, и в аду с потолка на головы мучеников сыпалась штукатурка, подсказывая им, что это не самое ужасное место на планете.
Возбужденные от наплыва толпы, черти пировали у входа в чистилище, а архангелы метались вокруг него, выдергивая из ежесекундно обновляющихся рядов чудом сохранивших невинность психей[267]. Не скрывая радости от очередного пополнения, Дьявол встречал прибывающие к нему дивизии и, ухмыляясь, укомплектовывал собственную армию уже обученными новобранцами. Теряя превосходство в неживой силе и перевес в райских соблазнах, Господь кусал губы, с завистью поглядывая на протянувшуюся в царство Аида очередь. Молчаливые, безликие тени бойцов никуда не спешили и думали только об одном: «Как? Как это могло случиться?»
Свинцовые грозовые тучи расступались, обнажая вершины Кавказского хребта, и распятый на скале Прометей сурово взирал на пламя непрекращающейся войны. Пламя отражалось искрами скорби в потускневших глазах атланта, и после тридцати тысяч лет титанической борьбы[268] он признавал свое поражение от собственных детей[269].
Где-то далеко, за сотни километров от этого кошмара, тонкие невидимые иглы интуиции, пронзали женские исстрадавшиеся сердца, и ледяное дуновение предчувствия тушило пламя надежды на возвращение: сына, мужа, отца…
Разбуженные невыносимой болью, жены просыпались на мокрых от слез подушках и долго не могли разжать сведенных в кулаки пальцев. Белый бумажный голубь выпадал из сумки почтальона в трясущиеся руки стариков, и, обнявшись, они проливали друг другу на плечи слезы всего человечества. Далекий, однообразный звук колокола тревожно бил в набат над еще не покрытыми в траур головами, и ненавистные друг другу страны украшали чело своих дочерей черными платками одиночества…
В штабах противоборствующих армий маршалы отдавали приказы генералам, те спускали полканов на полковников. Полковники требовали от майоров. Майоры орали в трубки полевых телефонов на капитанов, и, запуская конвейер смерти, командиры поднимали тысячи измученных солдат и гнали их прямиком в ад.
Продолжая вести наступление, танкисты «тридцатичетверок» бросали снаряд за снарядом в топки семидесятишестимиллиметровых пушек и долбили без остановки по наседающим на них «тиграм». Лязгая окровавленными пастями, «тигры» отвечали раскатами грома, выпуская из нарезных восемьдесят восьмых стволов бронебойных птиц, вылетающих навстречу обороняющимся богатырям со скоростью один километр в секунду[270]. Смертоносные, с баллистическими клювами птицы прошивали вольфрамовыми сердечниками любую преграду. От прямых попаданий в бензобаки монстры взрывались железными внутренностями и, агонизируя пылающим телом, выхаркивали кишки снарядов, уничтожая по кругу вместе с неприятелем и собственную пехоту. Пехотинцы вжимались в землю, ожидая окончания агонии гиганта, а потом вскакивали и неслись вперед, пробивая заградительный огонь противника одной силой духа.
Артиллерийские снаряды, выпущенные из-за леса, начинающегося сразу за проселочной дорогой, сталкивались в небе с авиационными бомбами, ложащимися многотонными хлопьями смерти на минные поля и людей. Ожидая приближающуюся жертву, минные капканы прятались, как испуганные суслики, в приготовленные заранее норы, и выпрыгивали из них, расщепляя, как дрова, ноги рядовых и оставляя без гусениц танки[271]. Когда противотанковые мины срабатывали под атакующими бойцами, они исчезали с поверхности земли, не оставляя (кроме пуль, выпущенных в сторону врага) никаких доказательств собственного существования. Пули достигали окопов противника и тут же переименовывали в сирот – детей и во вдов – жен.
Захлебываясь в рвоте непрекращающейся атаки и откашливая кровь осатаневшего неприятеля, титаны поливали из противопехотных мортир плечи и головы пехотинцев фонтанами невидимых осколков[272]. Осколки рвали мясо, ломали кости, пробивали сердца и выкашивали вокруг себя целые поляны разгоряченных трупов. От методичных действий тяжелых орудий земля амортизировала то тут, то там пыльными батутами новорожденных воронок и, выгибаясь, подбрасывала в сражающееся небо тела поверженных солдат. Раскинув безжизненные руки, солдаты парили над жерлом вулкана, пикируя на вражеские куски тел, и, падая плашмя о землю, ударялись, как молот победы о наковальню поражения – дребезгом раскалывающихся черепов. Размашистые, стальные коршуны, кружащие над мясорубкой сечи, ампутировали друг другу крылья, прошивали кабины летчиков, поджигали боезапасы и, завывая истошным воем, падали на головы сражающихся, оставляя в небе густой шлейф черного дыма.
С каждым часом рев танков, разрывы снарядов и скрежет раздираемого металла становились все шире, все невыносимее, и кровь из ушей бойцов орошала тела погибших братьев дьявольским апофеозом клятвы отмщения. А месть ликовала, пируя на поле брани так размашисто, как никогда.
Ад разрастался, поглощая собой планету, и Дьявол потирал руки, ухватив за бороду Господа…
Героическая
Смерть только шмыгнула металлическим взглядом снаряда по несущемуся в бездну сражения танку деда, и он вспыхнул, споткнувшись о переломленную соломинку жизни.
Тридцатитонный бронированный носорог, еще мгновение назад мчавшийся навстречу своим сородичам, чтобы распороть стальным бивнем бочины их башен, рухнул… Остановился… Замер, вспыхнув посреди поля еще одной свечой похоронки. Одним потухающим сознанием. Жизнью… Чтобы – никогда. Не увидеть. Не узнать. Не услышать. Не почувствовать. Никогда… никогда… никогда…
– Неееееееет!!!
…Жарко. Дым. Очень жарко. Но я еще жив! Смерть рядом – здесь. Вся кабина пропитана ею. Она вокруг. Сознание уходит… Люк – спасение! Дымится, плавится. Боль. Не чувствую, но вижу ее: кожа на правой руке слезла, обуглилась до локтя. Фляга – не дотянуться… Гул! Гул набата нестерпим! Наводчик завалился на мое плечо: тяжелый, неподвижный, как земля. Головы и глаз не видно – они за спиной. Только ноги – два ствола. Два сломанных ствола обгоревшего дерева. Хриплю ему, чтобы помог открыть люк… Не слышит. Я тоже не слышу… Гул наполняет танк, словно бочку вода. Звуки тонут, как камни, ударяясь о дно… Руки… Руки! Руки, волшебники тела, спасайте меня! Спасайте! Левая шипит, дымится ладонью о раскаленный металл, толкая броню люка. Слабая… Правая справилась бы, но она сгорела… До кости сгорела… Черная, с запеченной кровью и жареным мясом на сухожилиях…
Боль. Должна быть боль!
Ущипнуть бы себя – проснуться рядом с Нелей. Рядом с Волгой. Рядом с Томой. Но – нет… Нет боли… Грудь хочет вздохнуть и не может. Воздух – где ты? Где все? – вода, солнце, планета, трава, Неля, жизнь, дочка, мама, папа, сестра – гдеее выыы?..
Агония
Темно… Очень темно… Глаза почти не двигаются… Взгляд липкий, цепкий, как семя репейника. Остановился. Замер, выхватив царапину на рукоятке люка. Затылок, как грузило, – тянет, тянет, тянет назад. Уперся во что-то человеческое. Догадываюсь – плечо наводчика. Хриплю ему: Сееереегаа… Молчит… Голова запрокинулась и замерла, устремившись поплавком носа в небо. Уже не клюнет. Не распустит круги жизни на озере мира. Картинка подернулась мутью и начала стекленеть. Дым перестает двигаться. Пламя – гореть. Замерли. Смотрят на меня. Прощаются. Двадцать семь…
Дваадцааать сееемь!
Кто из вас готов выполнить приказы генералов и отменить рождение своих детей?! Отказаться от них?! Умереть самим, убив перед этим чужих – таких же, как ваши, – невинных, не рожденных, исчезнувших?! Для того чтобы те, сидящие в кабинетах рейхстага или «Волчьего логова», сыграли в садистские игры с теми – из кремлевской банды. Кто из вас готов это сделать?
Вы все!..
Когда пришла похоронка на моего деда, прадеду стало понятно, что его пайка без фронтовых денег Георгия семье не хватит. А государство не поможет, потому что Неля не успела зарегистрировать свой брак с погибшим мужем. Пораскинув мозгами, прадед сказал бабушке: «Неля, здесь для тебя нет работы. Нет жилья. Все мужики или в могилах, или на фронте. Оставляй дочку нам, а сама иди на войну. Там тебя будут кормить и одевать. И там есть мужики. Ты молодая…» Хочешь жить – иди на войну!
И в тысяча девятьсот сорок третьем году от Рождества Христова бабушка ушла на фронт мстить за своего мужчину. На войну – хрупкой восемнадцатилетней девушкой, женщиной, матерью, вдовой.
Ухаживая на войне за самыми безнадежными больными, она выдержала и справилась с ролью медсестры, стараясь не пропускать через сердце их страдания. «Я выдержу. Я не сломаюсь!» – повторяла она мысленно заклинание все эти месяцы, годы, когда проходила через города сначала России и Украины, а затем Польши и Германии. Пока не пришла из Сталинграда в Берлин.
Иногда ночью она собирала несколько одеял, пропитанных слезами, кровью и смертью, и лежала, накрывшись ими. Наслаждаясь не столько теплом, которое они давали, сколько их тяжестью, вспоминая тяжесть тела Георгия. А когда лунный свет скользил по потолку, она просыпалась, и ее мысли путешествовали вместе с ним в тот последний довоенный сороковой год. Ей нравилось это состояние, когда можно спокойно поразмышлять, что-то вспомнить. Это действительно намного приятнее, чем просто спать. Если бы она была писательницей, она бы писала, только лежа в постели, взяв с собой карандаши и блокнот, и любимого кота в придачу. И она, конечно, никогда бы не обошла вниманием незнакомцев и влюбленных.
Так приятно ей было лежать и вспоминать, принимая все стороны жизни, всё, что произошло с ней, таким, как оно есть: купание в величественной и спокойной Волге. Ночь с Жорой. Нежность к неизведанному и безымянному, которая была нежностью к самой себе.
Чего ей действительно не хватало, так это медленных сумерек и знакомого шороха сталинградских тополей. Там, в Сталинграде, она научилась читать звуки летней ночи. Именно в ней, лежа в постели, она была сама собой. Или когда, полусонная, с котом в руках, ступала на пожарную лестницу их дома…
Кто знает, в какую страну забросит ее война? Взять хотя бы: после того как она прошла курс медсестер в больнице и попала под Никопольско-Криворожск. Это было в январе тысяча девятьсот сорок четвертого года. Восьмая гвардейская армия с боями пробивала себе путь сквозь Украину в Апостолово, к улице Ленина, к Кривому Рогу, к месторождениям марганца. И в полевые госпитали шел нескончаемый поток раненых, словно шлам, передаваемый горняками при проходке туннеля в темноте. Она не знала сна, ухаживая за ранеными днем и ночью. После трех суток без отдыха она рухнула на пол рядом с умершим солдатом и проспала там двенадцать часов, забыв на это время о кошмаре, окружавшем ее.
Проснувшись, она достала из фарфоровой вазочки ножницы, наклонилась и начала обстригать волосы, не задумываясь о том, что сама сделает это неровно. Просто стригла, и все, с раздражением вспоминая, как они мешали ей в эти дни, когда она наклонялась над ранеными, а волосы попадали в их раны. Теперь ничто не будет связывать ее со смертью. Она провела рукой по тому, что осталось от ее прядей, и оглянулась на комнаты, забитые ранеными. С этого момента она перестала смотреться в зеркало.
Когда бои на фронте становились тяжелыми, она получала от мамы сообщения о гибели ее одноклассников. Она словно окаменела.
Всех могло спасти только благоразумие, но о нем, казалось, забыли. Кровь захлестнула страну, словно поднявшийся в термометре ртутный столбик.
Где остался Сталинград, и вспоминает ли она о нем сейчас? Это была вероломная опера. Люди ожесточались против всего света – солдат, врачей, медсестер, гражданских. Неля, все ниже склоняясь над ранеными, и что-то шептала им.
Она всех называла «дружище» и смеялась над строчками из песни:
Если встречу я Жору по кличке Буфет, Он всегда говорит мне: «Дружище, привет…»Она тампонировала кровоточащие раны. Она вытащила из тел раненых уже столько кусков шрапнели, что ей казалось, будто она извлекла целую тонну рваного металла из огромного гигантского тела. Ее лицо стало жестким и узким, таким, каким не видел его Георгий. Она похудела, в основном от усталости. Ее, однако, не покидало постоянное чувство голода, и она раздражалась и бесилась, когда приходилось кормить какого-нибудь раненого, не желавшего есть. Хлеб крошился и рассыпался, а фасолевый суп, которым их кормили уже третий месяц и который она проглотила бы одним махом, остывал…[273]
Через несколько месяцев бабушка записалась на снайперские курсы. Твердая рука и зоркий глаз сделали из нее хорошего стрелка, и Неля била фашистов сначала на Украине, потом в Польше, Германии, пока не дошла до Берлина. Тридцать восемь единиц противника, многие из которых были ее сверстниками, значились на счету двадцатилетней девушки. Два ордена Красной Звезды и две медали за отвагу позвякивали на девичьей груди, когда вместе с армией победителей бабушка входила в Берлин. Берлин встречал их точно такими же развалинами, какими встречал армию Паулюса Сталинград. Потеряв на войне свою первую любовь – Георгия, она познакомилась с Вадимом – офицером, ставшим ее вторым мужем.
В тысяча девятьсот сорок пятом году она приехала в родной город и забрала мою маленькую четырехлетнюю маму в Берлин. От этого времени у мамы осталось одно воспоминание: как она купается в чугунной ванне, и стройная, молодая, высокая Неля лежит в большой, белоснежной посудине, наслаждаясь теплом воды, а моя мама стоит на цыпочках, вытянув шею, и крепко держится за бортик, боясь утонуть в огромном (по ее представлению) корыте. Бабушка смеется и говорит: «Томочка, не бойся! Я же с тобой!» Но, впервые попав в такой глубокий водоем, мама не отпускает рук от борта и силится выбраться на сушу…
Победа на войне и полученные награды не принесли материального благополучия бабушке Неле. Одноэтажный домик из красного кирпича, стоящий на повороте к садовому кольцу, был собственностью железнодорожного депо, в котором она работала бухгалтером. Бабушка с сыном вряд ли сумели бы свести концы с концами, если бы не маленький клочок земли, где они выращивали овощи и фрукты. Ее сын – дядя Слава страдал язвой желудка, вызванной то ли любовью к спиртному, то ли великой русской тоской, рождающейся из окружающего пейзажа великого государства. И все хозяйство держалось на бабушке, у которой в кошельке я никогда не видел больше трешки и которая никогда не пила ром, а вместо трубки курила «растаманские» папиросы, – но, несмотря на все эти отличия, местные «пираты» боялись ее не меньше, чем бабушку Гарика Сукачева, и уважали за могучий вид и крутой нрав победителя[274].
12
В общем, разносолы были вкусными. И когда мама спросила меня за ужином, куда я еще хочу ходить, кроме школы и двора, я ответил ей, высасывая сок из красного помидорчика:
– В соседний двор.
Мама вздохнула и сузила мою задачу:
– Выбирай: фортепьяно или балет.
С плаванием после спортивного лагеря, как вы понимаете, было покончено. И где-то в глубине души я предвидел такой поворот событий в ближайшем обозримом будущем. Но чтобы фортепьяно или балет… Балет или фортепьяно…
Фортепьяно отсекалось автоматически, так сказать, без рассмотрений, потому что этим занимались девчонки. А вот балет… Балет казался мне чем-то вроде спорта, но в какой-то извращенной форме, потому что совершенно не понятно было, как в нем побеждать.
Мама всегда обожала балет. Она даже умудрилась скопить каким-то образом денег, чтобы свозить меня перед школой в Одесский академический театр оперы и балета. Я был потрясен великолепием этого сооружения до такой степени, что некоторое время подумывал стать принцем. Но после возвращения на родину двор взял верх, и я вернулся к детским шалостям и проказам, похерив великосветский этикет…
А в театре все началось с парадной лестницы – мы вошли, и я остолбенел! Она одна затмила в сознании Давида всю красоту Советской улицы и гранитной набережной Волгограда… Зал показался мне великолепным великолепием, а занавес – образцом дикой роскоши, и уже через несколько минут я стал тяготиться пиршеством злата, сверкающего на люстрах и барельефах балконов, испытав на собственном опыте всю тяжесть торжественных интерьеров.
Когда занавес раздвинулся, я увидел то, что мама называла балетом, и сразу же стал гадать, когда наступит конец. Конец предвещал купание в Черном море, покупку эскимо, массаж песчаного дна ступнями и поиски рапанов, притаившихся под скользкими валунами в воде. Но когда он наступил (конец), мама сказала, что это антракт.
В антракте мы поспешили в буфет, отстояли там длинную очередь (дождавшись, когда распродадут заварные пирожные и пирожные-корзиночки), купили на втором звонке приторно сладкие трубочки безе и проглотили их, даже не почувствовав вкуса, так как задребезжал третий звонок и в зале стали сгущаться сумерки…
Я не любил сумерки, потому что они всегда предвещали финал, независимо о того, где возникали – в реальном мире или в сознании соплеменников, коррелирующих дуализм личности с обществом. И очень обрадовался появившимся лучам прожекторов на далекой (как мои воспоминания) сцене.
Мульт: Но вернемся к балету! Балету-атлету – балету-летуну.
Глубокообразные выступления солистов труппы поразили меня так сильно… А страдания Зигфрида[275] и музыка Петра Ильича Чайковского убаюкали столь неопровержимо… Что симбиоз танца-варианца, музыки и мыслей о море погрузил маленького зрителя в царство Ротбарта[276], даже не успев провести черту между исчезающей действительностью и просыпающейся явью…
В общем – я заснул.
Сон
Мне приснилось, что я иду по пустынному пляжу, который тянется, вьется, кружит и манит неизведанностью в свою даль. Теплые волны ласкают мои ступни, и тишина утреннего пробуждения обволакивает слипающиеся под первыми лучами восходящего солнца веки ребенка. Воздух вздрагивает, пугаясь случайного дуновения, и, готовясь к возрождающему вздоху дня, тени расползаются, как беспокойные крабы, пряча свои полупрозрачные ткани в позолоту опавших листьев.
Вдруг вдалеке я замечаю одинокую фигуру мальчика, сидящего у самой кромки воды. Вглядываясь в него, я замедляю шаг. Что-то неуловимо-знакомое сквозит в наклоне его головы, в движении руки, рисующей на песке узоры. Я продолжаю идти вперед, но ноги мои с каждым шагом наливаются свинцом, и тело, как будто преодолевая сопротивление, становится непривычно медлительным. Расстояние между нами неумолимо сокращается, и в тот момент, когда я останавливаюсь, желая увидеть его лицо, прежде чем подойти к нему вплотную, он поворачивает голову и, заметив меня, стремглав бросается прочь. Все происходит так быстро, что я не успеваю запечатлеть его образ. В моем сознании остается только мелькнувшая из-под пряди черных волнистых волос улыбка – не то искаженная страхом, не то выражающая дерзкий вызов.
Я кидаюсь за ним в погоню. Мальчик бежит, не оглядываясь, словно знает, что я буду его преследовать. Он движется в сторону скал. Желая догнать его раньше, чем он начнет взбираться на камни, я стараюсь ускорить бег. Но как только я прикладываю усилия и пытаюсь двигаться быстрее, неосязаемая сила сопротивления увеличивает свое давление, а планета повышает гравитационный потенциал.
Мальчик карабкается на скалу, и меня охватывает предчувствие беды. Страх окутывает язык и сплетает мои нервы в комок, который застревает под кадыком, блокируя взволнованное дыхание и оставляя альвеолы легких без кислорода. Я открываю рот, чтобы крикнуть, остановить его, но слова падают на песок, как куски гранита в черную бездну полыньи. Он вскарабкивается наверх и исчезает за большим валуном. Я лезу следом, стараясь успеть до того, как произойдет что-то непоправимое, трагическое. Цепляюсь пальцами за острые выступы камней, царапаю о сухостой колени, но мои движения, скованные невидимой силой сна, опаздывают, отстают от собственных устремлений, и душа все время хочет вырваться из тела и броситься в погоню одна.
Наконец я преодолеваю возвышенность, где нахожу узкую тропинку. Утес выпирает в море на десять саженей, и на его краю я вижу одинокую фигуру. Мальчик стоит ко мне спиной и смотрит на восходящее солнце. Утренние лучи божественного света окружают его чело, создавая ореол из отблесков, переливов и брызг отраженных в воде лучей. Двигаясь к нему по тропинке, я замечаю, что тяжесть в моих ногах прошла. Тело вновь обрело привычную легкость, и только душа, трепеща от переполняющего ее ужаса, пятится теперь назад. Страх ложится на сердце свинцовым брелком предчувствия. Я иду вперед, ступая по каменистой почве как можно тише. Мальчик продолжает любоваться поднимающейся над морем звездой. Ее огромный светящийся факел выплывает из голубой глади воды, выворачивая наизнанку тьму мира. Не замечая моего появления, он остается на месте, пораженный величием света. Кажется, беглец обо всем забыл: обо мне, о времени, о побеге, о годах, прошедших на берегу водоема, о погоне и желании уединиться. Его оцепеневшее тело неподвижно, как камни, выпирающие из грунта справа и слева от нас. Я приближаюсь к подростку настолько, что различаю пряди его волос, обдуваемые утренним ветерком. Они вздрагивают и покачиваются, как ковыль, перешептываясь друг с другом о чем-то далеком, забытом, исчезнувшем. В этот момент солнце отрывается от горизонта и, раздуваясь, вспыхивает в полную мощь, погружая в свое великолепие проснувшийся вокруг мир. Словно пробудившись от глубокого сна, мальчик медленно поворачивается ко мне, и я замираю, вспоминая эти черты лица. Но когда моя память, пробираясь сквозь терний долговременной[277] иконической[278] информации, оказывается так близка к разгадке, что кажется – еще мгновение, и она откинет завесу с тайны нашего знакомства, мальчик отклоняется назад и, словно серая тень от скользящей над водой птицы, раскинув в сторону руки, падает со скалы в море, даже не пытаясь удержаться, остаться со мной.
И улыбка – эта жуткая улыбка дерзости и безумия – не сходит с его лица на протяжении мучительных мгновений, пока длится полет.
Я бросаюсь к обрыву и, не увидев беглеца на поверхности, прыгаю за ним. После погружения тела в воду, к своему ужасу, я обнаруживаю, что скорость моего падения не изменилась. Вода оказывается такой же тяжелой, как в Волге. Она затягивает, влечет, манит и увеличивает скорость бурного погружения. Дно приближается так стремительно, что, несмотря на большую глубину, я едва успеваю перевернуться, чтобы оттолкнуться и всплыть для нового вздоха. Глубина сворачивает, сужает пространство и, сдавливая барабанные перепонки, вызывает острую боль, которая проникает в мой мозг оглушительным звоном фанфар. Мальчика нигде нет. Я отталкиваюсь, желая вернуться на поверхность, но вместо этого мои ноги погружаются в ил. Паническая атака мгновенно дереализует восприятие окружающего подводного мира, и в тот момент, когда я начинаю задыхаться, кто-то хватает меня за руку. Я вскидываю голову и встречаюсь с глазами мальчика, чьи два бездонных блюдца взирают на утопленника почти в упор. Его пронзительный взгляд, замутненный прозрачной бирюзой морской воды, внимательно рассматривает меня, проникая в самые потаенные уголки детской души, и изучает ее, как изучает археолог таинственный амулет, попавший ему в руки из глубины веков, как изучают рентгеновские лучи скелет вселенной, двигаясь с высокими энергиями в космическом пространстве глазами создателя.
Вдруг он с силой дергает меня за руку, и мои ноги чуть высвобождаются из западни. Он повторяет рывок и, заметив, что я теряю сознание, наращивает темп хаотичных движений. Но мои конечности очень медленно поддаются освобождению из песчаной ловушки. Он встает рядом со мной на дно и толкает мое тело вверх: раз… еще раз… еще… Наконец ноги освобождаются, и тело начинает взлетать. Опустив голову, я смотрю вниз и вижу на морском дне поглощенного илом ребенка. Он тянет ко мне плети своих беспомощных рук, и его глаза выражают мольбу, призыв о помощи. Вынырнув, я делаю вдох и тут же ныряю обратно. Первые движения даются мне легко, но вскоре коктейль могильного озера[279] встает между мной и подростком неприступной стеной. Чем глубже я опускаюсь, тем выше становится плотность воды. Я стараюсь преодолеть ее, но она борется, выпирает, выталкивает меня на поверхность, не позволяя погрузиться на необходимое расстояние. И каждый раз на глубине я вижу его – немого мальчика, тянущего ко мне свои тонкие руки. Вместе с движениями прибоя они колышутся, как пламя свечи, и тянутся, тянутся, тянутся вверх…
Я выныриваю на поверхность моря, набираю полные легкие воздуха и опять пытаюсь достигнуть дна. Периодичность моих ныряний учащается, сливаясь с барабанами сердца. Борьба продолжается, переходя в остервенение, и я начинаю задыхаться. В это мгновение гул нарастающих аплодисментов будит сознание эпилепсика[280], возвращая ему действительность в момент окончания музыкально-хореографического представления, и я вижу, что зал приветствует мое пробуждение аплодисментами, а я, избавленный от кошмара, сижу в кресле с благодарной улыбкой утопленника на бледном, как смерть, лице…
13
Как губка – мел со школьной доски, соленые волны Черного моря смыли ноэму[281] одесского театра в сознании ребенка одним прыжком.
Скопления воды на поверхности планеты, как бы они ни назывались: море, океан, река, озеро, пруд, ерик (главное, чтобы теплый), для Водолея – это всегда возможность психического, физиологического, этнического, религиозного и медицинского катарсиса.
Встреча с водой – это встреча резинки с каракулями прошлогоднего карандаша. Ррраз – и нет каракулей грусти, тоски и депрессии, в гардеробе различных процессов внутреннего мира высокоорганизованной материи средней интенсивности, образующей эмоциональный фон для протекающих психических курьезов в настроении ребенка, попавшего (ценой невероятных усилий) сначала на этот свет, а потом (ценой билета в один рубль пятьдесят копеек) на балет.
«Вот билет на балет, на тот свет билета нет», – спел в песне Игорь Корнелюк, испытав похожие впечатления от обладания пропуском в «оперу для глухих»[282], когда пришла пора доставать из кармана амбивалентный (по отношению к кондуктору) билет и обменивать его на кратковременную популярность.
Поэтому, немного поразмыслив над предложением мамы найти новое занятие, я смирился с ее настойчивостью, и на следующий день, после школы, меня отвели в балетную студию. Студия располагалась в здании Дома офицеров, находящегося на площади Ленина – вождя, изможденного величием (до неприличия) порабощенного им народа.
Торец здания выходил на улицу героической Тринадцатой гвардейской дивизии, и в нем располагался кинотеатр «Салют». Балетом мы занимались в холле. Два или три месяца преподавательница морочила мне голову растяжками и прыжками. Я освоил обе детали. На этом все и закончилось, потому что учить меня (как всегда) стало просто нечему. Хотя я-то как раз мог проинструктировать учителя, как правильно заряжать бутылки карбидом, чтобы не порезать во время выстрела рук и не лишиться зрения.
Мульт: А зачем учительнице балета стрелять из бутылок с карбидом?
Я: А зачем мальчику, стреляющему из бутылок с карбидом, изучать балет, если у него уже есть самострел и он готов защищать родину индейцев и идти в наступление?..
К большому разочарованию мамы, балет не сделал ее Дэйва серьезнее и не привил тяги к учебе. Я по-прежнему рисовал, рисовал, рисовал и разрисовывал рубашки товарищей, превращая их в пиратские полотна Пикассо, когда мне хотелось поиграть в футбол или подышать свежим воздухом. И классный руководитель уже не экспериментировала с показательными постановками лицедея в угол. Она выгоняла меня сразу за дверь, и я отправлялся в свободный полет, потому что знал уже тогда, что жизнь – это чудо. Чудо – это когда ты свободен. Свобода – это жизнь!
Вскоре за мной стали посылать ребят из третьего класса. Попытка привлечения к этой операции двух второклашек закончилась для них плачевными соплями, после того как полный, розовощекий, с оттопыренными ушами здоровячок решил напасть на меня сзади в тот самый момент, когда я отрабатывал балетную позу арабеска penchée[283]. Второклассник получил пяткой в нос и, видимо, первый серьезный опыт стратегической ошибки в тылу противника. Потеря лидера лишила уверенности его товарища, и они отступили на прежние позиции – в помещение школы.
Я не переносил попыток посторонних лиц (независимо от их возраста и пола) вступать в контакт с частями моего тела (взять за руку или погладить по голове и уж тем более ударить) без личного на то согласия. Это было похоже на вторжение чьих-то кирзовых сапог в нейтральную pH моего эмоционального процесса (с илистым дном и родниковой поверхностью), состоящего из чувств, переживаний и ощущений маленького ребенка. Ил тут же взбутитенивался, превращая прозрачность моей души в муть отрицательно окрашенного аффекта, и направлялся в сторону испытываемой мною несправедливости, сопровождаемый желанием устранить ее любыми доступными способами еще до того, как перцепция[284] происходящего со мной действия перерастет в апперцепцию[285] трансцендентальной[286] теории Канта, чем, несомненно, вызовет замыкание в недоразвитых извилинах семилетнего мальчика, лишив его тем самым идеации[287]случившегося происшествия в данном отрезке времени за мгновение до того, как голубой Будда Акшобхья[288] преобразует детский гнев в чистейшую мудрость и отразит картину этого инцидента в зеркале собственного сознания, открыв мне сущность свершившегося ноэзиса[289].
Мульт: Однако, автор шутник…
Автор: Весла отдай!
Поэтому я всячески старался не подпускать кирзуху чужих сердец в озеро своей ауры, ради их же безопасности. И третьеклассникам приходилось применять силу, возвращая меня в автозак класса с оторванными пуговицами и осколочными отпечатками чьих-то ботинок на груди героического пиджака, так и не дожившего до почетной возможности продырявить себя орденами и медалями за мужество и стойкость бескомпромиссного хозяина в борьбе с оккупантами его свободы.
Наверняка позже третьеклассники стали омоновцами. Уже тогда было заметно, что их способности исчерпываются задолго до значения этого слова.
Мама нашла беспроигрышный выход из сложившейся ситуации. Она обязала меня стирать школьную форму собственноручно. И я надраивал замоченные в тазике шмотки вместе со стружкой хозяйственного мыла, копя ненависть на мальчишек, заваливших меня на пол при попытке оказать сопротивление власти, данной им учителем.
Да-да-да! – все это овтсдялб, с «данной им властью» – на оказание сопротивления «беспрекословному подчинению» и верой в «святость учителя» закладывалось в этих олухов уже тогда, лишая их способности самовыражаться в созидательную половину человечества и приучая к насилию над ним.
После нескольких стирок я превратился в чистюлю. Техника моего сопротивления претерпела изменения, став более изысканной и мудрой. Проще говоря, я старался не доводить дело до свалки на полу, а спешил перейти к альтернативному урегулированию конфликта до появления первых признаков агрессии у одной из договаривающихся сторон. Но если кто-то все же пинал меня подошвой грязного сандалика исподтишка, я совершал трехкратное алаверды, стремясь превзойти тостуемого пацана во всем. Обидчики, в свою очередь, начинали копить ненависть на неподчинение слабого меньшинства (в моем лице) сильному большинству (в своем), закладывая основы «большинства» в будущую мораль – не гражданина, а исполнителя.
Мульт: Что может быть отвратительнее служению Амону – защитнику фараонов?[290] Только судьба лузера, пойманного ими на демонстрации народных чувств.
Нетрудно представить семейную жизнь человека, возвращающегося домой с двумя членами, где свой собственный всегда проигрывает размером и стойкостью резиновому представителю власти. О каком самолюбии, кроме государственного эгоизма, может идти речь внутри данного индивидуума на брачном ложе общества и личности, девиантной[291] ему во всем? Только избивая и насилуя, эта особь излучает удовольствие, проявляя тем самым державные судороги героического семяизвержения задыхающейся в рекреационных[292] потугах метрополии на оплодотворенные ниц колонии.
В общей каше современного общества «черепашки ниндзя» на службе у государства играют роль пугала во сне ребенка: страшно и одновременно унизительно от понимания того, что это – с резиновой палкой в руке – заточено всегда против тебя и никогда – против диктатора.
14
Наступившая зима принесла сугробы, морозы и надежду на новые дутыши, так как двухполозные детские коньки устарели не только морально, но и физически. Вместе с пацанами и слесарем дядей Федей мы залили каток. Замотали дверь на площадку проволокой и стали поочередно дежурить, чтобы кто-нибудь из мальчишек соседнего двора не зашел на еще не замерзший лед и не испортил его отпечатками сапог или валенок. Лучше всего площадка просматривалась из окон Соловья. Его балкон находился над хоккейным полем на пятом этаже. В случае возникновения опасности Соловей выбегал на балкон, издавал громкий свист и вновь прятался в тепло. Те из нас, кто был во дворе, тут же спешили к площадке, а те, кто был на ней, кричали: «Утекай!» – и бросались наутек, не догадываясь, что в подворотне их ждет маньяк Лагутенко, чтобы запечатлеть, а много лет спустя – обрисовать картину их утеканий в своих музыкальных мемуарах[293].
Соловей был страстным хоккеистом и моим главным соперником во всех видах спорта. Его сказочный пращур, Соловей-Разбойник, передал своему потомку через множество поколений немалую толику лихого безумия и внутреннего беспредела. Но в то далекое время он считался ребенком. Поэтому его проказы оценивались с высоты взрослой любознательности и представлялись детскими шалостями, с некоторыми отклонениями от нормы.
Как-то, в четвертом классе, он в очередной раз прогулял школу, и мама в очередной раз не пустила его вечером на хоккейный матч-реванш, который в очередной раз попытались взять пацаны из соседнего домоуправления. Гоняя шайбу по площадке, краем глаза я видел, как голова Соловья маячит в окне его комнаты, пытаясь расплавить горячим лбом мешающий обзору иней. В конце концов, не выдержав испытания созерцанием и вспомнив важнейшие категории бихевиоризма[294], Соловей дождался мгновения, когда мама зашла в ванную, а стимул ткнул голову хоккеиста побудительным моментом, вызвав у Соловья ответную команду «утекай!», и, схватив в охапку клюшку, коньки и куртку, он выскочил в подъезд босиком. Соловей так спешил захлопнуть за собой входную дверь, что приплюснул ею большой палец ноги и оторвал часть ногтя, даже не заметив полученной травмы. Он прибежал на поле и пытался какое-то время играть, пока боль не сломала его трудновоспитуемую натуру и не взяла верх над спортивным азартом четвероклашки. Дома к пальцу без ногтя добавилась порка без штанов, из чего он все равно не смог сделать вывод, что (назидательно), когда поведением личности движут биологические силы, поступки не должны заключаться в разрядке создаваемого ими напряжения…
Мама Соловья, высокая стройная женщина, любившая коньяк и жившая без мужа, не утруждала себя поиском (среди извивающихся конечностей сына) той самой центральной части тела, используемой для воспитания подростков, которое по мере взросления приобретает соблазнительные формы у противоположной мне половины человечества. Она была уверена, что для воспитательной роли ее сына подходят мослы, мышцы, сухожилия и даже костный каркас головы. Поэтому наутро Соловей частенько появлялся с синяком или полосой на шее от широкого кожаного ремня, купленного матерью специально для этих целей.
Мульт: Такая вот штука – детство под пятой взрослых: свои забавы взрослые называют делом, а детские – хулиганством или бездельем, несмотря на то, что дети считают их своим делом и не играют, как некоторые товарищи, в настоящие войны.
В детстве зима такое же прекрасное время года, как и лето. Каждое утро она дарит надежду на вечер, шайбу, клюшку и коньки, а иногда и санки. Это длится недолго – всего несколько лет, после чего воззрения общества начинают овладевать подростком, выдавливая из него естественные интересы и подменяя их искусственными привязанностями.
Санки, хоккей и футбол со временем заменяют сигареты, гитара, вино и умозрительное заключение, делящее увлечения на несолидные – до двенадцати лет, и солидные – после четырнадцати.
Но то время было прекрасным, потому что мама наконец-то купила мне старенькие, не совсем убитые дутыши, и я тут же кинулся испытывать их на свежем льду. Перед нашим подъездом была замерзшая лужица. Поскользнувшись, я грохнулся со всего разбега подбородком об асфальт, и кровь… Теплая, липкая кровь… потекла красной змейкой, согревая подбородок и шею растяпы.
Может, все же хоккей? – размышлял раззява, глядя на спортивную площадку, где пацаны гоняли неуязвимую шайбу, пытаясь забить гол. Но, вытерев варежкой с шеи эритроциты и тромбоциты, Давид понял, что нужно спешить домой.
Мама отвела сына в травмпункт, и травматолог наложил очередной шов, а Госстрах раскошелился, пополнив наши сбережения на некую сумму. Сумму столь мизерную, что, даже положив ее на депозит в Сбербанк сроком на сорок лет, я не смог бы позволить себе что-то такое, что удовлетворило бы взыскательный вкус гедониста и избавило его от окружающей серости и душевной вьюги во все дни до скончания века.
А на том месте, где у меня текла кровь (алая, свежая кровь Младенца – Агнца мужского пола), осталась метка – рубец, склеенный неуклюжей рукой природы. Я различаю его в зеркале, когда брею подбородок, совершая макрух. Вчера утром он меня видел… Сегодня?.. Сегодня занят был руководством предвечным и несотворённым для глупого и смешного человечества. Одним словом – насх…
Мульт: В смысле – аминь.
15
Зима прошла в хоккейных баталиях, где я набирался опыта, так как гонял шайбу не только вечерами (как все ребята), но и днем, вместо уроков. Именно тогда у меня сложилась особая техника игры клюшкой без лапты.
В том дворике, около школы, где осенью я овладевал футболом, клюшку достать было негде, и я гонял шайбу (которую приносил с собой в портфеле) чем попало – палкой или черенком, брошенным кем-то из ребят. С годами любой кол в моих руках становился грозным оружием для противников из другой команды. Они страшно бесились, когда не могли отобрать у Давида шайбу, и получали в свои ворота дулю от моего костыля раз за разом.
Так закончился третий месяц зимы, и пришла весна.
О, это чудо природы! Чудо возрождения! Когда еще все покрыто сырым, тающим снегом, по которому бегут первые робкие ручьи, но ты уже точно знаешь, что Создатель просыпается.
В начале апреля мы с пацанами начали осваивать бомбоубежища. В нашем дворе их было три штуки и четвертое (торчавшее бетонной конурой около западных ворот, на улице Комсомольской) находилось в том месте, где теперь построили офисное здание. В позапрошлом году я страховал в этом здании свою жизнь, когда отправлялся зимовать к Лазарю, променявшему резко континентальный климат родного отечества на теплые воды, дешевый ром, недорогих девушек и дым папирос в ранних сумерках пляжных баров Сиануквиля[295].
В прошлом году я повторил свой незатейливый опыт и закрепил результат, вылетев в том же направлении и с той же целью. Сделал я это потому, что, когда я приезжаю к приятелю, крестообразно раскинувшемуся на берегу Сиамского залива, и захожу в его шалаш – я делаю первую глубокую затяжку соленого пиратского воздуха. Воздух попадает в протекающую по легочным капиллярам кровь и взбадривает измученный рутиной мозг. Мозг откликается новыми образами, сбрасывая с себя кожу цивилизации, и я понимаю, что жизнь – это курятник, где несколько оборзевших петухов заняли в сарае глобального сообщества верхние жерди и теперь метят головы остальным жителям планеты, даже не заботясь о духовной чистоте своих желудков. Их давно уже пора ощипать и отдать вечно голодным псам исторических амнезий, после чего запретить всем пернатым залетать на такую высоту и отпилить опустевшие жерди, избавив бездарную часть человечества от соблазна «войти в историю» или «въехать в рай»[296].
Но потом у меня возникает вопрос: а почему этого не сделали до сих пор? Почему все ходят с головами, покрытыми куриным пометом, и даже не пытаются его смыть? Ведь для этого не нужно долбить друг друга по темечку. Для этого достаточно подпрыгнуть на необходимую высоту, взмахнуть крыльями и спихнуть маразматиков с их пьедесталов. Ведь это ваш курятник! Ваши жерди! Вы слышите меня, куры?..
И, не найдя ответа на риторический вопрос, я делаю вторую глубокую затяжку терпкого, густого, морского воздуха и задерживаю его в легких до тех пор, пока не сформирую разгадку на заданную загадку полностью.
– Да потому, что эти куры обкурились политической дури! Потому, что они обкололись патриотическими наркотиками! Потому, что они объелись геополитических грибов! Потому, что они обнюхались петушиных апофеозов! Потому, что они обглюкались телевизионными засёрами! И еще потому, что они забыли о своих яйцах… Они забыли о своих яйцах! Слышите? Куры?.. Вы забыли о своих яйцах! Вы забыли, что еще вчера вы были яйцами, а уже завтра превратитесь в скорлупу, удобряющую верхний слой планеты!
И вот, когда я вспоминаю про верхний слой планеты, я приступаю к третьей, наиглубочайшей затяжке наисвежайшего морского ветра и уже не выпускаю дым из своих легких, потому что не нахожу ответа на свой последний и главный вопрос человечества:
– А на фига все это было?..
Но вернемся в родное отчество и заглянем в его бомбоубежища – гарант стабильной безопасности русского народа от людей немецкой национальности в недавнем героическом прошлом нашей страны.
Все входы в них были зарешечены. Но бомбоубежище, находящееся на территории детского садика, давно подвергалось вандализму не только с нашей стороны, но и со стороны старших пацанов. Его решетка в левом верхнем углу была уже слегка оторвана. Неодолимое желание искателей приключений проникнуть в таинственные подземелья города уходило своими корнями в средние века послевоенной истории Волгограда. Иногда это кому-нибудь удавалось, и тогда домоуправление откомандировывало на место происшествия сварщика, чтобы он устранил непорядок и заварил проход. Сварщик прикатывал с собой ацетиленовый генератор, работающий на карбиде, и начинал процедуру подготовки к работе, на что уходило все дообеденное время.
Когда он отправлялся обедать, мы воровали куски карбида и прятали его в тайниках нашего дома.
Бомбоубежище стояло в «мертвой зоне», скрытое от посторонних глаз беседкой, трансформаторным зданием и старым ясенем. После долгих безуспешных попыток нам наконец-то удалось выломать часть металлического крепления и отогнуть его настолько, чтобы можно было протиснуться в образовавшуюся щель. Погружение решили отложить до завтра.
В предстоящей подземной экспедиции я выступал в роли руководителя, так как в Одессе мы с мамой ходили на экскурсию в знаменитые одесские катакомбы, протянувшиеся под городом и вокруг него на сотни километров. И я знал не понаслышке, что такое жизнь под землей.
Мальчишки с уважением и нескрываемой завистью слушали мои рассказы о том, как в шахтах одесских катакомб во время войны скрывались партизаны. Как они добывали из вырытых колодцев воду, имели свой травмпункт, столовую и ленинскую комнату отдыха. Внимательнее всех был Соловей. Во время рассказа его глаза то вспыхивали безумным пламенем приключений, то затухали, уходя в засаду детских тайн. Особенно Соловья возбудила та часть истории, где фашисты попытались проникнуть в катакомбы и выбить из них партизан.
Мое повествование так подействовало на друзей, что они решили перенести свой штаб из кучи ящиков (где он базировался, выдерживая периодические осады дворничихи) в катакомбы бомбоубежища. Вырыть там колодец и оборудовать место для отдыха и совещаний…
– Там дворничиха нас не достанет своей метлой, – логично заметил Егор. И весомо добавил: – Старая карга!
– Ага! – подытожил Пупок.
На следующий день я и Соловей спустились в подземелье, а Пупок с Егором остались дежурить на шухере.
Подземный ход был сумрачен, узок и невысок. Это нас удивило, так как мы понимали, что подобные сооружения строились не только для детей, но и для взрослых.
Неслышно ступая по безжизненной почве, мы осторожно шли вперед, напрягая слух, зрение и все остальные органы, включая человеческие инстинкты. Метров через десять тоннель стал расширяться, и образовалась комната – душная и мрачная, как и сотни других помещений в подземельях планеты, не попавших в туристические маршруты своих городов.
– Возможно, здесь никого не было с тех пор, как отсюда ушли последние пленные немцы, – высказал я пришедшую на ум мысль.
Соловей кивнул в знак согласия подбородком, носом и лбом, а собрав на затылке серьезную складку, добавил, чуть дыша:
– Точняк!
Так как фонарь был в руках у Соловья, а я шел сзади него, мне был виден только его белобрысый затылок.
Комната разделялась на два прохода. В конце первого, уходившего влево, виднелась металлическая дверь. Второй лаз заканчивался непроглядной мглой, исчезавшей за поворотом, куда свет фонарика не мог проникнуть, потому что подземелье не вело к черным дырам космоса, обладающим гравитацией, способной заворачивать кванты света не только за поворот коридора, но и назад, к Пупку с Егором и даже к истинному Создателю Земли – Солнцу.
Посовещавшись, мы выбрали мглу, надеясь встретить кого-то из группы Владимира Молодцова[297] или, на худой конец, попасть в подземные тайники нью-йоркского Федерального банка, хранящего под землей семь тысяч тонн золотых слитков, из-под земли добытых.
В те годы мы с Соловьем были уверены, что все подземелья мира соединены в одну цепочку тоннелей и лабиринтов, поэтому, не надеясь достичь конца, мы мечтали найти начало этой неразберихи.
Двигаясь уже достаточно долгое время, я догадывался, что нахожусь под той частью дома, где живет Егор. А может быть, уже и за территорией двора. Соловей шел не торопясь, прощупывая каждым шагом прочность черного грунта.
Вдруг земля вокруг нас загудела и начала дрожать. С потолка посыпалась труха, и над нашими головами (тух-ту-дух, тух-ту-дух, тух-ту-дух), скрежеща и постанывая, пронеслась стальная громадина трамвая. Мы присели на корточки, и, повернув голову вправо, я увидел боковой ход – «кротовую нору»[298], в сумерках которой маячили искаженные страхом лица.
Серые одежды людей, покрытые толстым слоем пепла и пыли, угловато торчали из темноты, где при плохой освещенности восприятие человеческого глаза становится ахроматическим, а в случае дальнейшего затемнения – черным. С первого взгляда было понятно, что стоят они здесь очень давно. Очень… Наверное, с той поры, когда бомбили Дрезден.
В ту ночь наверху слышались звуки, похожие на топот великанов. Это взрывались многотонные бомбы. Великаны топали и топали, но бомбоубежище было надежным. Только изредка с потолка осыпалась известка… Наверху бушевал огненный ураган. Город превратился в сплошное пожарище. Пламя пожирало все живое и вообще все, что могло гореть…
Такие дела[299], подумал я, пытаясь перевести взгляд из прошлого в настоящее, но он продолжал цепляться за обреченных и буксовал, волнуя воображение ребенка отдаляющимся грохотом трамвая. Начавшее было растворяться видение возвратилось: женщины и дети, которых они рожали для жизни и теперь прятали от смерти, зарождающейся в сердцах их отцов, стояли, плотно прижавшись друг к другу. Одна девочка смотрела на меня застывшим пронизывающим взглядом и что-то не то напевала, не то шептала, еле заметно шевеля серыми губами.
Прислушавшись, я разобрал несколько слов:
Ах, мамы, мамы, – зачем рожают, Ведь знали – папы меня раздавят… Меня раздавят – ведь знали мамы, Меня зачали зачем-то папы…[300]Губы ее продолжали растягиваться, округляться, вздрагивать, обнажая молочные зубы, и вновь повторять один и тот же текст…
Второй трамвай загрохотал в обратном направлении, вводя в заблуждение подростка, и без того подверженного мистическим переживаниям в условиях крайнего страха и глубокой философии подземелья, когда выступившая из полумрака женщина зашипела на девочку сухими потрескавшимися фразеологизмами: «Ад заполнен папами! Да-да, ад переполнен папами!»[301] Их там миллионы! Потому что единственным доказательством мужества для них стала приверженность Аресу![302] Потому что никто из них не понял, что геройство – это не убийство. Геройство – это отказ от убийства! Отказ в лицо генералам. В лицо президента. Перед всем строем. Перед всей страной, миром, Иисусом Христом, Аллахом и Буддой сказать: «Нет! Я не стану убивать!» Всего лишь один раз. Один-единственный раз каждому мужчине планеты сказать: «Нет, я не убийца! Я сын Создателя!..»
И генералы останутся без работы. А мир – без генералов. Без орденов и медалей. Без осколков и снарядов. Без диктаторов и вдов. Без полководцев и сирот. Так просто – сказать «нет»…
Все это и многое другое пронеслось в моем сознании вихрем Вальпургиевой ночи, и, очнувшись, я услышал шепот Соловья:
– Мы уже находимся под улицей Советской?
– Похоже, – ответил я, вглядываясь в полумрак тоннеля, где исчезающие лица женщин роняли последние слезы пепла с потолка подземелья на бесплодную равнину утоптанного фрицами черного грунта. Грохот отдалялся. Но навстречу ему приближался новый. Соловей встал и посветил вперед. Мрак расступился, приглашая нас в свои объятия. Мы продолжили путь и вскоре подошли к очередной нише. Она была больше прежней раза в три. Справа находилась толстая металлическая дверь с двумя рычагами-ручками, какие устанавливают в бомбоубежищах. Я взялся за верхнюю и повис на ней. Соловей встал на нижнюю. Моя ручка-рычаг чуть стронулась с места и замерла, издав стон разбуженного металла. Ручка Соловья осталась на месте.
– Берись за мою, – сказал я Сергею, и, уцепившись за нее, мы повисли в воздухе.
Ручка упорно не желала поворачиваться. Подтянувшись, я дернулся всем телом, и, отрыгнув грохочущий вопль, рычаг опустился вниз. Тягучее эхо расползлось по коридорам царства Аида и, отторгаясь от стен вибрацией звука, выдавило силуэты похороненных здесь призраков.
Настала очередь нижнего рычага.
– Становись сверху, а я буду бить по нему ногой, – сказал Соловей.
Я встал на ручку и нетерпеливо подпрыгнул. Рычаг поддался. Соловей взялся за меня, и, присев, мы оттолкнулись. Заскрежетав ржавчиной отсыревшей стали, рычаг коснулся земли, ознаменовав свое поражение низким коротким «до». Дверь, дожидавшаяся Третьей мировой войны, открылась до ее наступления. Нам осталось распахнуть преграду и направить фонарик в глотку подземелья.
– Давай, только потихоньку, – прошептал я, сглотнув приступ детского страха.
Соловей кивнул, и, ухватившись каждый за свою рукоять, мы потянули дверь на себя.
Из образовавшейся щели на нас пахнуло холодом. Мой друг направил фонарь в отверстие. Далее опять шел проход. Что-то таинственное и зловещее скрывалось в блуждающей вокруг фонаря тьме. На этот раз луч не достиг ни стены, ни двери. Он уходил по тоннелю вперед, постепенно сливаясь с его темнотой. Я почувствовал, как у меня засосало под ложечкой, а в горле появился ватный ком. Вдруг фонарик в руке Соловья мигнул, ослепив нас на мгновение отсутствием света, и вспыхнул вновь. Решение было принято молниеносно – назад!
Соловей шел впереди. Я следовал за ним, все время оглядываясь на догоняющий сумрак. Его холодные мягкие лапы неслышно опускались в мои убегающие следы и, маскируя их под своими ступнями, продолжали несуществующую погоню за обнаглевшими от смелости малышами.
А ведь у Соловья на фонарике есть кнопка, которой он хвастался пару недель назад, когда бабушка купила ему эту штуку, вспомнил я. При нажатии на кнопку свет гас без щелчка, и, возможно, Соловей специально воспользовался ею, когда мы стояли в той комнате, анализировал я на ходу случившееся. Ну и черт с ним! Разбираться по этому поводу не буду!
Запах сырости и духота усилились. Истосковавшееся в одиночестве безмолвие провожало нас глазами сгущающихся потемок и не желало отпускать смельчаков на свободу.
Вернувшись на перекресток второго зала, мы пересекли его, стараясь ступать по земляному полу как можно тише, чтобы не разбудить богиню ночных чудовищ – Гекату. Проход стал сужаться, и впереди замаячил свет. В этот момент я понял, что выход близок.
И хотя вздохнуть свободно В полный вздох еще не мог, Чую – жив! Тропой обходной Из жары, из тьмы безводной Душу с телом доволок[303].Наружу мы выбрались настоящими героями, вернувшимися с того света в одном порожняке с Василием Тёркиным. Счастливые – оттого что сделали это. Оттого, что это закончилось. И оттого, что «комендант иного мира за охраной суетной не заметил пассажиров на площадке тормозной»[304].
Глядя на измазанные паутиной лица друзей, Пупок, как всегда, подсмеивался над нами, а Егор уважительно помалкивал, так как в то время он был еще скромным толстячком и духовным бутоном, раскрывшимся и расцветшим чуть позже …
Вовка Егоров вместе с мамой занимал комнату в трехкомнатной коммунальной квартире на последнем этаже. Вместе с ними в комнате числился отец Егора, которого тоже звали Владимир. Егор рассказывал нам, что его отец – мастер спорта по гонкам на мотоцикле, боксу и виртуозный игрок на гитаре.
Первый раз я увидел отца Егора, когда нам было лет семь. Это был невысокий худой смуглый мужчина с решительными чертами красивого лица. Он отсидел к тому времени очередной срок и вышел на волю – не то на год, не то на полгода, – прежде чем снова сесть в тюрьму. Так продолжалось еще лет восемь, пока он не сгинул после очередного освобождения в никому не известном направлении, успев перед этим привить сыну не только страсть к мотоциклам, любовь к гитаре, но и романтику еще одной реальности нашего мира – зоны. Егор попал в нее, даже не достигнув совершеннолетия. «Малолетка»[305] была суровой школой жизни, и, выйдя на волю, Вовка рассказывал, как залетев в тюремный лазарет после очередной неудачной драки, он разрезал лезвием заживающие на голове раны, чтобы подольше находиться в невесомости больничной палаты и поменьше – в концлагере для непослушных детей.
Мульт: Такие дела…
Пупок же смеялся над нами еще и потому, что сам жил под землей и давно уже привык к сырости полуподвала. Его мама, тихая, немногословная женщина, была дворничихой. Она одна воспитывала детей – сына Сергея и дочку Лену. Отец Пупка утонул в Волге, пытаясь на спор переплыть реку. Серьезные поступки требуют серьезных тренировок, но пьяный человек предпочитает обходиться жидким допингом, и финал наступает еще до финиша, независимо от того, простой ли ты дворник или популярный скрипач[306].
Жили они в подвале, который выделило для них домоуправление. Маленькие квадратные отверстия на уровне земли заменяли им окна. Пол был земляной, кое-где проложенный досками. Сергея прозвали Пупком взрослые пацаны – за его маленький рост (чуть выше их пупков). Несмотря на это, Серега с легкостью вступал в любое сражение. Подпрыгивая, он наносил серию молниеносных ударов в голову противника и быстро отступал, если спор не удавалось решить нахрапом. В общем, это был очень живой мальчишка с русыми волосами и нежно-голубыми глазами, в отличие от Соловья, у которого глаза были темно-синими, а волосы светлыми, как хорошо просушенная солома.
А встреча на поверхности земли при выходе из бомбоубежища хоть и напоминала встречу на Эльбе, но не сохранилась в памяти потомков, так как не была запротоколирована ни одним летописцем.
Четыре года спустя я вернусь в это бомбоубежище, чтобы выполнить миссию кладосоздателя и повысить ценность сооружения.
Произойдет это так. Будучи уже пятиклассником, я подружился с мальчиком из интеллигентной, музыкально-театральной семьи. Гуляя как-то в его дворе по улице Комсомольская, 10, я познакомился с необычным человеком – высоким стариком с добрыми глазами и большими сильными руками. Кисти рук старика походили на два кузнечных молота, и предметы, попадая в его руки, становились маленькими и хрупкими, как наш мир. Старик был стар, худ и изможден, а вот глаза цвета моря были молодыми и веселыми. Глаза человека, который никогда не сдается[307] и ничего уже не боится в этой пустяшной жизни – в этих оковах грехов.
Меня всегда тянуло к старикам. К их суровым, задумчивым лицам. К их бугристым рукам. Будто что-то подсказывало любознательному подростку, что старые корни моего города могут передать юному саженцу какое-то знание, силу, которые я не получу ни в школах, ни за их пределами.
Этот старик оказался человеком, чья судьба связана с нынешним обликом Центрального района Волгограда и одним из любимых мест отдыха жителей города. После войны он работал в команде главного архитектора Василия Симбирцева и по его проекту возводил лестницу, спускающуюся к берегу Волги и поднимающуюся к фонтану «Дружба» – зависит от того, кто по ней идет: турист, прибывший на теплоходе, или горожанин, спешащий на утреннюю рыбалку.
Дело было весной. Я прогуливался во дворе старика вместе с Лешкой – подростком из своего двора. Иногда я брал с собой этого мальчугана. Лешка был на два года младше меня и представлял собой лучшую половину подрастающего в «двадцатке» поколения. Погода была отличная, делать было нечего, и, слоняясь по центру, мы зашли в этот двор, предварительно настреляв у прохожих денег и купив мороженое.
Я заметил, что недалеко от нас из подъезда вышел высокий старик. Старик нес в руках несколько саженцев. Меня заинтересовали планы незнакомца, и я пошел за ним, поглядывая на деревца, зажатые в огромной ручище. Старик обратил внимание на мое любопытство и, подойдя к намеченному месту, поманил нас пальцем, попросив помочь вырыть ямы. Мы с удовольствием принялись за работу, и вскоре три саженца были посажены. Старик предложил нам прийти завтра и еще раз помочь ему высадить деревца.
На следующий день Лешку не отпустили гулять, и я пришел один. Мы посадили несколько кустарников, и старик расспросил меня, где и с кем я живу. Позже несколько раз я помогал ему растягивать для полива шланги, и в конце концов мы подружились. Пару раз старик приглашал меня к себе домой и угощал чаем. Чай он заваривал на травах, в большом фарфоровом чайнике, и всегда предлагал несколько видов варенья. Банки с вареньем стояли у него на полочках в нише перед кухней и соблазнительно просвечивались осиропленными ягодами сквозь чуть зеленоватое стекло пол-литровых баночек.
В ту весну я часто встречался со стариком. Мой путь из школы проходил через его двор… За время наших непродолжительных встреч старик успел рассказать мне много занимательных историй. Из них я узнал, что после войны он строил нашу набережную. В его подчинении работали пленные немцы, и однажды, возводя центральную лестницу, они нашли кубышку с золотыми и серебряными монетами царской чеканки. Немцы рассовали монеты по разным местам и долго прятали их у себя в бараке, пока в один из обысков надзиратель не обнаружил у кого-то несколько монет. Военнопленного взяли в оборот, и он раскололся – сдал своих товарищей и показал, где лежит большая часть клада. Барак и немцев несколько раз перерыли, а тех, у кого выявляли монеты, наказали.
Вскоре надзиратели успокоились. А через неделю, собираясь после работы домой, старик обнаружил в кармане своего бушлата горсть золотых монет и немецкий крест. Он сразу понял, чьих это рук дело. По его словам, это был бригадир группы немцев, которого звали Вальтер.
Помню, старик еще похлопал меня по плечу и сказал, что Вальтер у немцев – то же самое, что у русских Валера.
– Знаешь Валерия Чкалова? – поинтересовался он.
– Знаю, – ответил я, вспомнив знаменитого летчика.
– Молодец, – улыбнулся старик и продолжил рассказ: – Этот Вальтер был бывшим офицером германских войск…
Старик близко сошелся с военнопленным, уважая того за исполнительность и мужество, с которым он переносил тяготы плена. Старик не стал ничего спрашивать у Вальтера про монеты, сообразив, что, испугавшись наказания, тот решит от них избавиться. Так и вышло. Выбросить монеты Вальтер пожалел, поэтому и подсунул их в бушлат старика, так как находился в прямом подчинении и имел доступ в рабочий барак. Из-за его поступка старик оказался в неприятном положении. Отнеси он эти монеты в НКВД и его замучили бы допросами. Пришлось бы не только рассказать о том, кого он подозревает, но и почему именно ему, а не кому-то другому этот фриц подложил монеты. В общем, выкинуть монеты у старика рука тоже не поднялась, и он их перепрятал в надежном месте.
Были и другие истории, рассказанные мне этим удивительным человеком, но их файлы стерлись в моей памяти, освободив место для фиксации новых приключений хозяина.
Так прошел месяц, за ним второй, и наступила середина июня.
Как-то мы встретились со стариком около бомбоубежища, стоявшего недалеко от площадки детского садика. Лешка пытался нарвать абрикосов, а я маялся от безделья, прекрасно понимая, что теряю бесценные минуты и торчу здесь, как дурак, вместо того чтобы купаться, как умный на Волге.
Старик подошел к нам сзади и положил мне на плечо руку. Последнее время он плохо выглядел и ходил с палкой, на которую опирался при каждом шаге. Мы сели на лавку и разговорились. Я рассказал ему, что у себя во дворе уже обследовал все бомбоубежища и знаю каждый вход и выход. Он заинтересовался моей историей и поведал мне, как возводились эти конструкции.
А осенью, когда старик стал совсем плох, я начал навещать его дома. Особой помощи от меня не требовалось, потому что он жил вместе со своей сестрой – тетей Верой. Но поболтать или выпить чаю с вареньем я иногда забегал, чувствуя, что ему это необходимо.
И вот в один из таких теплых осенних дней… когда печальный воздух приближающегося расставания начинает нашептывать прощальные молитвы… когда в листве увядающих вязов слышится первая тревога холодов… когда безнадежно больные кусты жасмина начинают ронять листву, оголяя морщины своих ветвей… когда высокая печаль, ложась с белесых небес на город, выматывает и ласкает сердце необъяснимой грустью… когда хочется читать стихи, и нет сил избавиться от них ни на уроках, ни дома, ни во дворе… ты поддаешься искушению, берешь в руки книгу и читаешь, читаешь, читаешь:
Прислушайся: осень в бреду. Пылают ее листопады, И я, как по ранам, иду, Ловя воспаленные взгляды. И, кажется, дни сочтены…[308]Вот в один из таких светлых и неуловимо горестных дней старик попросил нас прийти на следующий день к определенному часу.
Когда мы с Лешкой вошли во двор, он сидел на лавке и дремал. Лицо у Старика было очень старое, и теперь, во сне, с закрытыми глазами, оно казалось совсем неживым. Газета лежала у него на коленях, прижатая локтем, чтобы ее не сдуло[309]. Мы подошли, и я положил руку ему на плечо. Это были удивительные плечи – могучие, несмотря на старость, да и шея была сильная, и теперь, когда старик спал, уронив голову на грудь, морщины были не так заметны[310].
– Проснись! – позвал я его.
Старик открыл глаза и несколько мгновений возвращался откуда-то издалека. Потом улыбнулся[311].
– Пришли? – спросил он.
– Да, – кивнул я.
– Молодцы. Давайте мы пересядем на другую лавку. Я хочу вам кое-что показать.
Он с трудом встал и повел нас на дальнюю скамейку, стоящую под каштаном, около гаражей. Передвигаясь очень медленно, старик опирался одной рукой на палку, а другой о мое плечо. Когда мы подошли, он сел и перевел дыхание.
– Завтра меня кладут в больницу, – заговорил неторопливо старик, и я почувствовал в его голосе тоску. – Я тяжело болен и не знаю, когда меня из нее выпишут. Помните, как-то раз я рассказывал вам про клад, найденный немцами при строительстве лестницы на центральной набережной?
– Помним, – сказали мы.
– Я хочу вам дать две монеты. Это монеты из того клада. Когда-нибудь они вам пригодятся. Но сейчас вы не будете их никому показывать, потому что, если кто-то узнает, что у вас есть такие монеты, их отнимут, а вас заберут в милицию и заставят признаться в том, где вы их взяли.
Он внимательно посмотрел в наши лица и продолжил:
– Я уже стар и к тому же болен. Если милиционеры узнают, что монеты дал вам я, они придут ко мне в больницу и станут допрашивать. Обещайте, что вы сделаете так, как я вам посоветую.
– Обещаем, – сказал я и посмотрел на Лешку. Тот кивнул.
– Отнесите эти монеты в то бомбоубежище, про которое ты мне рассказывал, Давид. Найдите там самый укромный уголок и заройте их так, чтобы ничего не было заметно.
– Хорошо, – сказал я.
И, посмотрев по сторонам, старик достал из кармана тряпицу, завернутую в целлофан. Из тряпицы он вынул две желтые монеты и дал одну мне, сказав:
– Эта тебе, Давид.
А другую Лешке, сказав:
– А это тебе, Леша.
Желтые монеты были размером с пятнадцать или двадцать копеек. С одной стороны виднелся двуглавый орел, а с другой профиль бородача. Дождавшись, когда мы утолим свое любопытство, старик положил монеты обратно в тряпочку и вынул оттуда еще какую-то вещицу.
– А это вам обоим, – сказал он и раскрыл ладонь. На ладони лежал крест.
– Это орден, который получали воины Германии. Никому не показывайте эти вещи. Придет время, и они вам пригодятся.
– А когда придет это время? – спросил Леша.
– Не скоро. Но когда оно придет, вы поймете это сами. А сейчас отнесите это в бомбоубежище и сегодня же заройте.
– Хорошо, – сказали мы и одновременно кивнули.
Старик посмотрел на нас своими любящими, доверчивыми глазами, и я заметил, как сильно изменились они за последнее время. А потом он обнял нас, привлек к себе и, вздохнув, шепнул:
– Ну… бегите!
И мы ушли.
Бомбоубежище в моем дворе (на территории садика) было опять заварено решеткой. Но я уже знал другие ходы, поэтому мы попали в подземелье через подвал подъезда, от которого у меня был ключ. Подвал находился недалеко от верхней арки и сначала вел в подвал другого подъезда (через лаз в одной из кладовок жителей дома), а потом уже к развилке бомбоубежища.
Мы пробрались в катакомбы, и я нашел то место, где пару лет назад наткнулся на «кротовую нору». Там мы и зарыли свои сокровища, пообещав друг другу, что не расскажем про них никому и откопаем только вдвоем, когда придет время.
Обычные клятвы мальчишек бывают надежнее обещаний президентов и тверже международных договоренностей, потому что советские дети не преследовали корыстных целей. А главное, на вершине детской пирамиды всегда находятся настоящие лидеры, а не куклы из папье-маше.
Я был старше Лешки на два года и являлся для него непререкаемым авторитетом. Лешка рос правильным пацаном и ставил обычную справедливость выше соблазнов легкой победы. За это я его и любил, потому что справедливость была не самой сильной чертой характера у моих закадычных друзей, и мне приходилось постоянно напоминать о ее существовании с позиции меньшинства.
Но жизнь – хрупкое создание. И осенние листья падают, не разбирая возраста, времени и смысла происходящего…
Так случилось, что через пару месяцев, когда я пошел в пятый класс, Лешка, совершая головокружительный прыжок на территории строящегося речпорта, разбился. Он ушел одновременно со стариком, который умер в больнице. А через два года я переехал в самый северный город в мире (с постоянным населением более ста пятидесяти тысяч человек).
Вернувшись перед девятым классом в Волгоград, я намеревался пробраться в подземелье, где был зарыт клад. Но к тому времени домуправление заперло все двери, а основной ход, где раньше мы лазали через решетку, оказался не зарешеченным, но засыпанным мусором и песком. Потом была армия, а после нее пришло новое время. Подвалы приватизировались, превращаясь в частную собственность.
Иногда я заезжаю в «двадцатку», чтобы взглянуть на свой двор, и, проходя мимо садика, где все еще существует, уже почти совсем разрушенный, вход в бомбоубежище, вспоминаю старика, Лешку, золотые монеты и крест, что покоятся в подземелье бомбоубежища, ожидая новых военнопленных…
16
А тем временем наступил март тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Учеба в первом классе подходила к финалу, когда в школе случилось несчастье. У нашей учительницы закончился жизненный цикл, и она умерла. Новая наставница была моложе и энергичней прежней. Но вскоре она втянулась в рутину класса, и все пошло по-старому – чинно и благородно.
Весна сделала свое дело – растопила лед и оживила Волгу. Лед тронулся, и мы бегали смотреть на сошедшую с ума реку. Карабкались на береговые торосы. Заходили на льдины, рискуя быть оторванными от берега и захваченными величественным течением реки, крошащим без всяких усилий тонны льда. Восхищались белоснежными булавами айсбергов. В общем – знакомились с весенней течкой природы в момент ее полового созревания.
Год назад правящая СССР партия решила построить в нашем городе самый большой речной порт в Европе. По крайней мере, так это озвучивалось. Осенью были вырыты огромные котлованы, а когда весной началось половодье, котлованы заполнила вода и они превратились в озера. Я узнал об этом, так как будущий речной порт находился недалеко от моей школы.
Если спускаться от школы по улице Краснознаменской до ресторана «Маяк» (самого изящного ресторанного здания Волгограда), то с этого пригорка будет хорошо видно его будущее местонахождение. Несколько раз я приходил к этим ямам и, пока они наполнялись водой, лазал по песчаным барханам, разрабатывая стратегию будущего столкновения. Иногда туда же приходил и мой одноклассник Мишка, мама которого почему-то была уверена, что я оказываю на него такое же дурное влияние, как и «Приключения Гекльберри Финна» на Денверскую публичную библиотеку[312].
На самом деле все было не так. Никакого влияния я на него не оказывал. Просто иногда (когда мы возвращались домой из школы) я предлагал другу чуть отклониться от заданного маршрута, и Мишка с удовольствием отклонялся, потому что жизнь без отклонений, по прямой, не имеет никакого смысла и похожа на марширующий строй барабанов, мычание коров и блеяние баранов.
Постепенно в моей голове сформировалась мировая идея: восстановить картину битвы «Непобедимой армады», пытающейся вторгнуться в Англию времен королевы Елизаветы I, и сделать имитацию галеасов и многовесельных галер с помощью подручных средств – из досок.
Мой план, как и все гениальное, был прост до неузнаваемости.
Вокруг котлованов, наполненных водой, лежало много строительного и сплавляемого по Волге леса. На земле покоились несколько больших щитов, и, когда вода поднялась, оставалось только оттолкнуть их от берега, чтобы превратить в «плавучие острова» Великобритании и воссоздать историческое сражение понарошку, чтобы не затевать войну по-настоящему. Я долго разрабатывал сценарий предстоящей операции подбивая на историческое побоище пацанов из своего класса, и когда подбитые одноклассники клюнули, объявил дату инсценировки.
Между майскими праздниками (когда очередному бессменному «президенту» России присваивали звание Маршала Советского Союза и помышляли о генералиссимусе[313]) мне удалось преодолеть сомнения последних рекрутов, и в субботу, после занятий, Давид повел отряд новобранцев на берег.
По моему замыслу, битва планировалась на воде – три плота, наполненные мальчишками и кирпичами, отчаливали от берега и начинали сражение.
– Почему три? – спросите вы.
– Потому что Бог любит Троицу.
– Почему Бог любит Троицу, если их всего два? – поинтересуются некоторые.
– Потому что так решили мужчины, исключившие из Троицы женщину и включившие в нее Дух.
– Почему они это сделали?
– Потому что одни любят женщин, а другие мужской дух…[314] К этому времени вода в Волге поднялась настолько, что котлованы соединились между собой. Когда прибывшие на берег ополченцы увидели картину «Зайцы и Мазай», они струсили лезть на плоты, и под угрозой срыва оказалась ретроспектива всей баталии.
Новобранцы явно намеревались разбрестись по домам, и мне пришлось срочно менять план. Убедив в безопасности сюжета двух приятелей, я залез с ними на плот, запасся камнями и отчалил от берега с той же легкой ноткой грусти, что и моряки французского флота к берегам Северной Африки во время Второй мировой войны. Взявшись втроем за длинную жердь, мы несколько раз дружно оттолкнулись, и после того как палка перестала касаться дна, битва началась.
Противник открыл непрерывный огонь, и мои деморализованные товарищи стали уклоняться от шрапнели, прилетающей с побережья, даже не пытаясь сдержать натиск врага. Вся ответственность за встречный огонь легла на зачинщика этого сражения. Я использовал пушки и пулеметы, гранатометы и минометы, гранаты и бомбы, тактические ракеты и системы залпового огня, системы противовоздушной обороны и торпеды, отстреливаясь с невероятной, по тем временам, скоростью и кучностью попаданий в цель. Моя беспредельная храбрость тут же была отмечена противником, средний мозг которого выступил центром ориентировочных рефлексов на зрительные раздражители глаз и передал мозжечку команду к действию.
Камни сыпались градом. Плот медленно отходил от берега, подталкиваемый течением реки к основному руслу. И в тот момент, когда мы поняли, что главной опасностью для нас являются уже не одноклассники, а внеплановое путешествие в Астрахань, булыжник приличных размеров угодил мне в темечко. Кровь, которую я не видел уже больше месяца, потекла на рубашку и пиджак сразу с двух сторон. Я скинул школьную форму и, находясь в состоянии легкой контузии, запросил у противника перемирия. С помощью шеста мы попытались причалить к берегу. Но шест не смог достать дна и, не имя весельной тяги, беспомощно стучал по воде собственным телом. Потеряв управление судном, попутчики авантюриста загрустили, и наш баркас медленно, но верно стало относить к руслу великой реки. Кто-то на берегу догадался сбегать к вагончикам строителей и разбудить сторожа. Он примчался, вращая телескопами глаз, и, шумно вдыхая жабрами веселый весенний воздух, тут же оценил ситуацию. Сторож притащил веревку и с третьей попытки добросил до нас. Плот подтянули, и мои товарищи получили ушные растяжки и затылочные затрещины, а я, в соответствии с дополнительными протоколами Женевской конвенции от двенадцатого августа тысяча девятьсот сорок девятого года об «улучшении участи раненых и больных лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море», был отпущен на побывку домой без унизительных экзекуций.
Мульт: В ластах, маске и трусах я домой пришел. «Здравствуй, мама, хорошо субботний день прошел!..»
Перед домом я забежал к Пупку и постарался оттереть шею, рубашку и пиджак. Получилось не убедительно. Волосы промыть не удавалось, потому что, как только я смачивал их водой, начинала течь кровь. После получасового истязания школьной формы и головы я пошел сдаваться.
Дверь мне открыла прабабушка.
– А вот и наш хрустальный мальчик! – воскликнула она свое фирменное приветствие, присматриваясь отеческим взглядом к моим взъерошенным волосам. – Qu’est-il arrive?[315] – поинтересовалась она настороженно.
Мамы дома не было, и я кинулся стирать проклятую форму сам.
Сначала форма не хотела намокать. Потом мылиться. Затем вдруг всосала из тазика всю воду и, разбухнув, как прабабушкин новогодний пирог, всплыла, решив спалить меня по полной программе. Продолжая работу над сокрытием улик, я схватил пиджачок за шкирку и попытался вздернуть его как следует, чтобы напомнить таким приемом, кто в доме хозяин! Но, распихав по карманам почти целое ведро жидкости, пиджак нехотя вылез из тазика только до половины и, обдавая меня струями теплой мыльной воды, уперся, отказываясь идти на уступки и уничтожать следы преступления, – наотрез! Сделав последнее усилие над собой, я шваркнул пиджак с размаху назад в тазик и, плюнув ему на спину смачной, накопившей обиду слюной, ляпнул от бессилия в сердцах:
– Мокни тут, сколько хочешь!!! И не проси потом, чтобы я тебя надевал!
Когда вернулась мама, она осмотрела голову своего Дэйва. В том месте, где была рана, всклокоченные, слипшиеся и засохшие волосы образовали твердый треугольный ком – маленькую египетскую пирамиду с фараоном у основания.
Мама приняла решение отвести сына в травмпункт, потому что после ее попыток промыть волосы самой, она потекла опять – кровь.
Знакомого хирурга в травмпункте не оказалось, и, поддавшись мольбам неугомонного отпрыска «не штопать голову, как бабушка носки», родительница, пожалев свои нервы, разрешила дежурному доктору обойтись без пыток.
Тот выстриг Давиду клок волос. Промыл рану перекисью водорода. Намазал йодом и наложил повязку, начинавшуюся на темечке, в районе ранения, и заканчивавшуюся под подбородком белым пушистым бантиком, как на торжественной линейке у девочек… Но только в перевернутом изображении, сознании, ранении и моде семидесятых годов.
Когда я вышел из поликлиники, вид у меня был достойный восхищения и сожаления одновременно. Чеканя по двору шаг – ать-два! ать-два! – я задирал подбородок выше носа, выпячивая вперед бантик и прилегающую к нему грудь. Глядя в мою сторону, бабуси качали головами, как китайские болванчики, сочувствуя маме, что ей достался такой непослушный ребенок. Ребенок скользил взглядом конька по сверкающей поверхности собственного превосходства и, закатывая глаза в небо, готовился к предстоящей встрече и восторгу друзей.
В понедельник меня оставили дома, чтобы я не попался на глаза директору школы. А через несколько дней хирург снял повязку, и оставшийся на этом месте шрам я увидел только спустя десять лет, когда меня подстригли наголо перед призывом в Вооруженные силы СССР.
Голова у Давида быстро заживала и, продуцируя жизненный опыт из архетипа прежних веков, по-прежнему игнорировала действительность, акцентируя внимание сознания на предметах, увлекающих детство, и смещая общество развивающегося социализма в сторону приключений, фантазий и грёз.
Продолжая радовать каждую клетку, каждый нерв моего организма, весна вселяла веру в то, что школа скоро закончится и наступят летние каникулы – золотое звено в стальной цепи вокруг школьного дуба.
Не выдержав весенних импульсов, поступающих в голову первоклашки прямо из космоса, Давид определил себе персональные каникулы, и они начались чуть раньше общесоюзных. В мае я пропускал уроки чаще обычного и, к своему удивлению, не обнаружил дополнительных репрессий со стороны учительницы. Видимо, к этому времени (на высшем уровне) все было уже решено.
В один из теплых солнечных дней за нашим домом нашли неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны. Суммарная мощность оказалась небольшой, поэтому на этот раз эвакуировали только ту часть двора, где жили братья Витютьневы, Сергей, Света и Лена. Когда бомбы увезли, на их месте остался котлован. Вместе с Пупком и Соловьем мы полезли в него под видом проверяющей организации и обнаружили на самом дне пачку забытых сигарет «Астра». Это были классные советские сигареты (если только до «Астры» вы не курили ничего, кроме камыша и бамбука).
Мы топали за дом жарить на углях картошку и есть ее с луком, солью и хлебом, поэтому у Соловья были с собой спички. Момент для первой затяжки выдался подходящим. Учеба в школе придала всем дополнительное чувство уверенности в собственной глупости. А наступившие выходные расслабили некоторые участки мозга, вселив в них ощущение безнаказанности и пофигизма. Вскоре к нам присоединился Егор. Мы сели на краю ямы, вынули одну сигарету и, прикурив, пустили ее по кругу. Попав в легкие, дым вызвал спазмы и с помощью кашля постарался выбраться на свежий воздух. Но сжатое невероятным усилием воли горло стояло насмерть перед несметными клубами непроглядной устойчивой дисперсной массы, состоящей из мелких вредных частиц, находящихся во взвешенном состоянии.
Каждый из нас терпел до последнего вздоха, мешая юному организму избавиться от полония и прочих деликатесов, присутствующих в табаке[316]. После очередной затяжки следивший за шухером Пупок шепнул в мое правое ракушевидное ухо:
– Давидка, твоя мамка идет.
В этот момент Давидка как раз набирал полный рот дыма и расплывающимся, стелящимся по траве взглядом смотрел в пустоту. Услышав сквозь плотный слой затуманенного сознания позывной «Мамка идет!», я спрыгнул в котлован, выпустил из ротика дым и стал вылезать обратно, понимая, что, если мамка все заметила, – Давидке конец. Причем не такой, как обычно. А настоящий. Как это сказать… Широкий… кожаный… конец с бляшкой! Его подарил (не то мне, не то маме) болгарин Димитар, проходивший обучение в Следственной академии Волгограда.
– Листьями зажуй, чтобы не пахло! – сопел мне в ухо Пупок, засовывая в рот товарища по несчастью опавшую листву вяза. Я старательно пережевывал труху, борясь с внезапно появившимся желанием замычать и боднуть Пупка рогами в бок.
Листья имели неприятный вкус; отдавали горечью детской беззащитности, произволом возникшей ситуации и пролонгацией повторяющегося момента: в девяти случаях из десяти, когда взрослые общаются с детьми с позиции силы, а дети познают мир из любопытства, – силы притяжения всякого явления.
– Если мамка тебя засечет, скажи, чтобы она моей ничего не говорила! – шипел в другое ухо Соловей, заталкивая мне за щеку полынь. Еле шевеля нижней челюстью, уже неспособной соединять молочные зубы с альвеолярным отростком верхних клыков, я попытался объяснить Соловью, что я не хомячок и не корова. Но, восприняв мое дымчатое, зеленовато-пегое мычание как одобрение своих действий, умник присовокупил к уже имеющемуся стогу сена сорванный на ходу одуванчик.
Мама возникла над нашими головами в образе спустившегося с небес архангела, чтобы, задав риторический вопрос: «И кто тут, как Бог?»[317], пронзить наших драконов своим безоговорочным превосходством[318]. Находясь уже наполовину в аду, мы смотрели на нее из ямы, как грешники на деву Марию, – с надеждой и смирением.
– Здравствуйте, тетя Тамара! – заискивающе пискнул Соловей, желая заработать разовую симпатию.
– Здравствуйте! Тетя! Тамара! – звонко прокричал Пупок и, как всегда, засмеялся, давая тем самым понять, что он на стороне мамы, а смеется над нами – придурками, рассчитывающими своими невинными физиономиями ввести в заблуждение взрослого человека.
– Здрасьте, – буркнул Егор и потупил взгляд, не надеясь ни на что в принципе.
Я стоял молча с набитым листьями ртом, в которых, помимо горечи возникшей конфузии, скрежетал песок ускользающего времени на зубах исторического курьеза.
– Вылезай! – коротко скомандовала мама и, повернувшись, пошла назад, не ответив ни на чье приветствие…
Я полез.
– Давид! Не забудь попросить маму, чтобы она ничего не говорила моей! – умоляюще твердил Соловей, подталкивая меня плечами, головой и руками в попу.
Выбравшись и выплюнув на землю травяной кляп, я чихнул (из-за попавшего в мою ноздрю одуванчика) и, поперхнувшись соплями, поплелся вслед за мамой, сообразив по сухости ее обращения, что она обо всем догадалась.
«Сейчас будет большая порка», – удрученно мыслил я, глядя на обычных тупых детей, играющих на территории нашего двора в обычные тупые игры, вместо того чтобы, как мы – умные, пускать друг другу в глаза дым.
Наташка по кличке Дура опять висела на турнике вверх ногами, и ее юбка, опустившись, полностью открыла нижнюю часть тела, закрыв верхнюю вместе с головой. За этот трюк мы и прозвали ее Дурой.
Наташка жила с матерью, братом и отцом – жилистым, злым дядькой. Ее отец и мать постоянно пили, дрались и скандалили между собой, так часто, что Наташка больше времени проводила в подъезде, чем в квартире. Они были не то молдаване, не то цыгане, и когда у них начинались семейные дрязги, их крики разносились по всему двору, перекрывая шум трамваев и гул самолетов, облетающих наш двор стороной.
Ее братишка был мелким карапузом, и мы видели его, когда родители обязывали Наташку выгуливать брата на улице. Обычно она оставляла его кому-то из бабушек, сидящих около подъезда, а сама шла играть к девчонкам, которые шарахались от нее, как от ручной гранаты, только что потерявшей чеку.
Вместе с Наташкой в этой коммуналке жил Сергей. Серега был на два года младше нас, и мы его звали просто Серя. Его мама, шикарная женщина с совершенно несоветской внешностью, сносила крышу не только бабуленциям, но и мужчинам всего двора, когда, выходя из подъезда с гордо поднятой головой, в больших темных очках и брюках клеш, отправлялась на трамвайную остановку. Она производила это действие с таким достоинством, словно шла садиться в пимпмобиль[319]. Мужчины вились около нее, как вьюны у плетня, и она меняла их как перчатки, потому что достойных в этом городе не было, а одноразовые быстро снашивались.
Итак, я двигался вслед за мамой, искоса поглядывая на злорадно улыбающихся старушек, увлеченных игрой в лото, и готовился к драматическому развитию событий. События развивались неторопливо, шоркая через весь двор унылой поступью военнопленного и приближая час расплаты, даже не беспокоились о моей судьбе, попе и ремне – ни капли. Капли то появлялись, то исчезали на глазах восьмилетки, боясь пропустить первые аккорды симфонии номер девять.
Мы поднялись на третий этаж, и мама сказала: «Дыхни!» Я дыхнул, очень надеясь на волшебные свойства вяза, но их в нем не оказалось.
«Бесполезное дерево! За сорок миллионов лет[320] так и не научилось отбивать запах табака, – с досадой подумал я, глядя на серьезное выражение маминого лица. – Наверное, решает, каким способом меня казнить. Или выбирает орудие пыток», – сделал я неутешительный вывод из ее внимательного взгляда и тяжело вздохнул.
После непродолжительного молчания мама заговорила сдержанным, официальным тоном нравомучителя. Она говорила, говорила, говорила, а я все ждал, ждал, ждал, пропуская через уши ее силлогизмы и пытаясь предугадать начало порки. Но время шло, а важнейшая фаза воспитания всех инициативных детей нашей планеты так и не начиналась, вводя в ступор и замешательство мои первородные инстинкты, подвергшиеся (за прошедшие восемь лет) множественным модификациям под влиянием индивидуальной жизненной практики.
Мама прочла лекцию о вреде сигарет, никотина и дыма, из которой я хоть ничего и не понял, но усвоил одну важную мысль – что, накурившись, можно не только сразу умереть от смеха, но и долго жить, мучаясь от самых разных болезней и подозрений на них.
Не то от сочувствия к курящим, не то от жалости к себе я прослезился, представив собственную кончину и скорбь всего двора в ближайшие несколько часов.
Умереть так глупо и так рано – в самом расцвете сил! Выкурив всего-то одну-единственную сигарету. И то не целиком, а лишь четвертую часть. Вот, блин, не повезло! – размазывался я, выслушивая мамин нарратив.
Эта лекция отпечаталась в моей памяти с такой силой, что я еще несколько лет не брал в руки сигарет и решил вернуться к дурной привычке только в шестом классе, так как дальнейшее воздержание начинало дурно сказываться на моем авторитете.
Мульт: Аффторитет требует жертв! А кроме здоровья, человеку жертвовать больше нечем… Поэтому – не относитесь к жизни слишком серьезно, ведь ничего серьезного (кроме самой жизни) в ней нет…
17
Итак – первый учебный год подошел к своей развязке. Или, как говорят в народе, «подкрался незаметно». Это я к тому, что на последнем уроке учительница велела всем достать дневники и ручки для выставления оценок за год, а мне – веревку и мыло, для каких-то других нужд.
После окончания самого первого, самого героического, самого примитивного учебного года, когда я уже готов был встать на путь исправления, меня исключили из школы, к которой я начал потихоньку привыкать. Исключили не просто так, а с рекомендацией пройти обязательное обследование у психиатра, что по неопытности мама и сделала, так как я был у нее первым и, как оказалось, последним ребенком в жизни.
«Чистейшей воды анахронизм!» – как метко подметил Владимир Алексеевич Гиляровский. Ну, скажите мне: откуда в стране, где на правительственном уровне было доказано, что в природе не существует не только Бога, но и души, может появиться душевнобольная личность?
Мульт: Откуда?..
– А черт его знает! – хочется произнести автору, заканчивая рассказ о первом классе. Но, не желая останавливаться на достигнутом, я сяду вороной усталой на ветку голую… поищу глазами сыр исчезнувший – явь облезлую… и, не ждя лисы хитрой – санкций-гоблинов… каркну так, что весь лес вздрогнет иглами… и вонзятся они в волка серого… на загривке его ощетинятся… заерошатся, заерепенятся… И помчит он рысцой – Шапкой Красною… за границу в Париж белокаменный… чтобы выкрасть трубу позорную… чернодырую, оком стеклянную… и, взглянув из нее ясным соколом… в этот мир… егозою беззубою… я расправлю крыла безразмерные… взмою черной душой в небо синее… в небо синее – карлицей про клятой… чтобы рухнуть на землю, на милую… беспробудную, вековечнозеленую… не раскрыв глаз молочно-опаловых… не допив чашу жизни бездонную…
– Приснится же такое! – чертыхнулся автор, очнувшись на последних аккордах Thumbtacks, и тут же вспомнил, что со мною случилось…
Сегодня ко мне приходила группа делегатов с вопросом столетней давности: «Что делать, когда вершки не могут, а корешки не хотят»[321]. Ходоки просили совета, как, не мудрствуя лукаво, разделить репу, чтобы, с одной стороны, не обидеть мужика, а с другой – не разозлить медведя[322]. Я попытался отшутиться и даже достал из погреба абрикосовый самогон, произнеся в момент его раскупорки:
– Господа! Несколько глотков этого напитка помогут вам снять напряжение при погружении вашего мозга в мой, а моего – в ваш. Выпейте, и соитие наших идей избавит ваши сердца от чешуи, а глаза – от обязанности ее созерцать[323].
Отводя в сторону глаза и отвлекая обострившийся слух, делегаты ждали окончания трапезы. А дождавшись, посмотрели на владельца замка столь внушительно, что мне пришлось раскрыть послание мудрейшего Йоды[324]и подвести итог бытия.
– Видите ли, друзья, – начал я с вводных слов, чтобы не рубить концы сгоряча, – как многие из вас помнят: «Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется еще, чтобы и верхи не могли, как прежде, хозяйничать и управлять!»[325]. А вы? Вы-то что? Хозяйничать не можете, как прежде, или управлять?
– Да управлять-то мы можем! – включился с ходу в разговор мой старый приятель и оппонент из депутатского корпуса Андрей. – Но вот хозяйничать! Хозяйничать, как прежде, у нас уже не получается. – С этими словами он перегнулся через стол, достал запотевший графин с абрикотином и, хлопнув в одного, продолжил: – Понимаешь, – собеседник закинул в рот щепотку снеди и, не прожевав, ухватил быка за рога, – ведь, по своей сути, все государства создавались, как розальско-лопуховские коммуны[326], а по существу вышла брехня! – Андрей еще раз налил лафитничек первача, выпил и, зачерпнув деревянной ложкой капусту, – брехня? – стал перемалывать сельскохозяйственную культуру, вылупив на меня любознательный взгляд.
Прежде чем дать ответ на вопрос с подвохом, я внимательно осмотрел товарища с ног до головы, подметив при этом на нем новый четырехпуговичный двубортный льняной костюм от Redaelli, хлопчатобумажную черную рубашку от Ascot Chang, узорчатый шелковый галстук от Eugenio Venanzi и кожаные туфли от Brooks Brothers[327].
Кожаные туфли, а особенно шелковый галстук подсказали моему внутреннему голосу и внешнему взгляду, что на этот раз хозяину придется «разжевывать» не только капусту, но и рецепт ее приготовления…
Усевшись поудобнее в кресле, где еще недавно отдыхал Сократ, я решил поведать незваным гостям часть государственных хитростей таким образом, чтобы фрики, работающие над прослушкой моих снов, не смогли осмыслить лабиринт секретной реляции, а только определили состав ее канвы. Но, передумав, предоставил слово заглянувшему в окно Облаку.
Развалившись на подоконнике искомканной простыней будущего тумана, невесомое, как пух обетованной земли, оно начало выступление мягкими, перьевыми словами Создателя, чуть оттеняя подбрюшье собственных идей полутонами приближающегося заката.
– Друзья мои! – заговорило Облако, стараясь быть убедительным, – эвристический поиск общественного договора[328] привел вас к власти (точнее подсадил на иглу), способной воздействовать на жизнь других людей даже против их воли. Теперь суть власти уже не зависит от того, на чем основана такая возможность, потому что время формирования государственной морали ушло.
С этими словами Облако выпорхнуло из раскрытого окна в небо, желая раздышаться горизонтом назревающей грозы. И, расползаясь белизной пузырчатых завитушек по синеве безбрежного свода, уставилось на моих гостей с высоты птичьего полета кудряшками воображаемых глаз.
Чей-то невидимый клокочущий голос, то скатывающийся, то подпрыгивающий, как беспокойная волна в разбуженном водохранилище, засопел, забурлил и, подобно Днепрогэсу, обрушил на головы посетителей поток взбудораженного сознания[329]:
– Положение в экономике по-прежнему скверное! Мы должны найти способ сдерживания инфляции и уменьшения дефицита бюджета! Следует также обеспечить обучение безработных и создать для них рабочие места, равно как и защитить рынок рабочей силы от наплыва иностранцев-нелегалов. Мы должны сделать так, чтобы страна стала лидером в передовых технологиях. В то же время нужно заботиться об экономическом росте и развитии деловой активности; упорно бороться против федеральных налогов на доходы; снижать процентные ставки; создавать благоприятные условия для развития мелкого предпринимательства; контролировать слияния крупных корпораций и их сделки[330].
После этого заявления Андрей едва не выплюнул абрикотин на стол, а я почему-то вспомнил о существовании сцифоидных медуз[331] и попытался заглянуть в голову каждого собеседника по отдельности, прежде чем перевести взгляд в прежнее, удобное положение задумчивости.
– Ты сам-то понял, что сказал? – поинтересовался у задравшего до ушей локти и повернувшего голову назад Богомола Андрей.
– А что я такого сказал? – засомневался Богомол.
– А то! Разговариваешь тут, как телевизор… Расслабься и выражайся человеческим языком. Договорились?
– Договорились, – согласилось обескураженное наездом насекомое, протягивая к графину цепкую лапку. Плеснув себе и Андрею, чокнувшись, выпив и распрямив усы, оно сокрушило стойкость остальных пассионариев личным примером расхлябанности и забулдыжья.
Словно по команде, делегаты окружили мой стол и стали разливать самогон в чарки.
Кто-то опрокидывает рюмку два, а кто-то и три раза подряд, пытаясь разложить выступление оратора по признакам на составные части. Части кубика не рубятся комбинаторикой в теорию вероятности, и, возмущенная извилинами собственного мышления, Борода изрекает, глядя с упоением в шкалик:
– Все, что не созидает, разрушает!
На что увлекшийся опустошением рюмок Богомол откликается новостями эротического содержания:
– А вы в курсе, что вчера у нас вышло еще одно остроумное постановление юмористического правительства?
– И что это за постановление? – интересуется ради смеха Борода.
– Запрет на продажу белья с содержанием синтетических материалов[332].
– В каком смысле?
– В обыкновенном. Основной удар этого запрета приходится по женским кружевным трусикам.
– Раньше ударяли автопробегом по бездорожью! – сокрушается помалкивавший до сей поры Иван Грозный, – а теперь бьют ниже пояса. И кого?
– Но это же вредно! – подключается голубоглазый Фальцет.
– Вредно, это когда женщина с утра до ночи сидит на работе за компьютером! – вступает в спор царь. – Вредно, это когда женщина, живя в самой богатой стране мира, не может себе позволить раз в год отправиться к морю! – продолжает он. – Вредно, это когда красна девица в тридцатиградусный мороз идет в туалет на улицу из негазифицированного дома…
– Ты что? – подкалывает царя Фальцет. – Не патриот своей державы?
– В каком смысле? – пасует Грозный.
– В прямом! Мы сейчас Китай газифицировать будем! Это наша первейшая…
– А мне нравятся, – обрывает Фальцета Богомол.
– Что нравится? – изумляется Андрей.
– Трусы с кружевами на женских ягодицах.
– Мне тоже нравятся, но теперь они вредные! – стоит на своем Фальцет.
– Кто? Ягодицы?
– Трусы!
– Трусы, как и ягодицы, – прищуривает выпуклые глаза насекомое. – Есть вредные, а есть не очень.
– Мы тебе про закон говорим! – срывается на повышенные тона Андрей.
– Ну и что? – строит собеседник изумленную гримасу. – Законы тоже, как трусы, – пока не поносишь, не поймешь – жмут они или ничего…
– Что – ничего?
– Пока ничего из того, что узаконили те, кто сочинял поправки, не подходит для тех, кому они были посвящены, – умничает Богомол.
– Почему?
– Во-первых, это не стихи. А во-вторых, тут очень важна форма ягодиц общественного сознания на местном уровне тела. А там, в столице, этого не учитывают.
– Хорошо, пусть и так. Но скажи мне, что, по-твоему, вредней – каждый день носить акриловые трусы или каждый день есть сладкие пирожные? – морочит треугольную голову Андрей.
– А зачем каждый день есть сладкие пирожные?
– А зачем каждый день носить акриловые трусы?
– Кремовые?
– Почему кремовые? Черные, с кружевами.
– Черных с кружевами пирожных не бывает. А вот от кремовых – каждый день – заработаешь диабет.
– А диабет, как известно, вреднее кружев! – добивается желаемого результата Андрей.
– Это с какой стороны посмотреть, – огорошивает победителя Фальцет. – Кружева вещь тоже опасная. У меня один товарищ закружился с женой мента, а тот оказался начальником отдела по наркоконтролю. Он только на одних «отпускных»[333] трехэтажный дом себе отбабахал! У него этого подконтрольного «дела» было видимо-невидимо – пруд пруди! Вот он и подкинул упаковочку любовнику…
– Ты мне про что сейчас рассказываешь?
– Про кружева.
– Про кружева в моей голове от твоих примеров? – злится Андрей.
– Нет. Про кружева законов в трусах моей жены.
– И что эти кружева могут сделать?
– Запалить меня перед шефом, – вздыхает делегат.
– Это как?
– Обычно. Она же человек.
– Кто?
– Жена.
– Допустим. И что с того?
– Как что? Выпьет она, предположим, на корпоративе нашего советского шампанского и пойдет в наш советский sortir помочиться, – произносит с французским прононсом иностранное слово Фальцет, – а там – Он!
– Кто – он?
– Ну этот… который ищет, кого бы замочить.
– И?
– И! А тут она…
– Жена?
– Конечно! В запрещенных синтетических алых трусиках, обрамленных кружевами законов, и лифчике типа «брасьер», меняющем свой цвет в момент овуляции стратегии шефа на территории соседних кабинок…[334]
– Да… – вздыхает, понурив голову, Андрей…
– Да… – подтверждает контрагент.
– А знаете, в чем заключается главная ошибка наших депутатов? – решаю я абсорбировать отрицательный эффект беседы.
– В чем? – интересуется царь.
– В том, что они принимают законы, а им нужно принимать лекарства.
– Та же бодяга была и у моих бояр! – смеется, вспомнив молодость, Грозный и наливает сто грамм.
Оздоровительная пауза, продиктованная новым приемом лечебного средства, длится не долго. Больные быстро получают приход, и подруга Богомола – шикарная особа с достойными подиума конечностями, – выступив вперед, смеряет присутствующих блеском зеленоватых глаз. Цокнув каблучком о бутовую поверхность прихожей, она задает бархатным голосом пикантный вопрос, поправляя лапкой на груди полупрозрачную блузку:
– А ходят ли наши мужчины по утрам в душ?
– Ходят! – отвечает за всех Фальцет, ратуя всей душой за гигиену всех тел.
– А что они делают, выходя из душа?
– Надевают трусы и идут завтракать, – раздается смех на зарождающуюся контроверзу.
– А куда они отправляются, закончив трапезу?
– В зависимости от интенсивности эмоций главы государства – на работу или на фронт.
– И как на это реагируют их жены?
– Сквозь струи дождя и речи вождя смотрят мужьям вслед, – не уступает голубоглазый оппонент.
– И что они там видят?
– Как по улицам идут трусы.
– А как давно это длится?
– Давным-давно, давным-давно, давныыым-давно! – запевает песню из кинофильма «Гусарская баллада» Борода.
– А что нужно сделать, чтобы страна избавилась от трусов? – обрывает песню секс-дива.
– Отказаться от душа?.. – сомневаются собеседники.
– Страна без души?.. – гримасничает слабый пол.
– Голубые ели?.. – ерничает Мульт[335].
– Размышлятельная пауза! – объявляет Богомол. И, словно путники, пережившие засуху Сахары, делегаты плещутся в водоемах рюмок и океане графина так старательно, что океан колышется, перетекая из горлышка ко дну и обратно со скоростью одной стопки в интервал. Стопки мелькают перед моими глазами искрами хрусталя и, орошая металлокерамику поредевших десен, открывают внутренности бездонных глоток товарищей над трофейным столом бабули…
– Кстати о столе! – создаю я лирическое отступление вдаль. – Бабушка привезла его из Берлина в сорок шестом году. Тогда и рядовые, и маршалы промышляли пиратством в столице Германии[336]. Освободители заселялись в квартиры освобожденных и, если представлялась такая оказия, высылали на родину заморский скарб скопом…
– И ассимилировали немок[337], – пополняет сказание о столе непонятно откуда взявшийся делегат бундестага.
– Что напоминает, как десятый или двадцатый Фриц или Иван в терпеливом хвосте насильников прикрывал белое лицо женщины ее же черной шалью, чтобы не видеть невозможных глаз, пока наконец добывал свою солдатскую радость… – цитирует зачем-то набоковскую «Лолиту», Андрей.
– Получилось? – интересуется с чисто мужской точки зрения Фальцет.
– Кроме страданий, не вышло ничего, – отмахивается коллега из-за рубежа с очень русским (на удивление) лицом, – и те и другие оказались нордической расой[338].
– Не арийцами?[339] – искренне изумляется Иван Грозный, припоминая теорию национал-социалистов.
– Нет.
– А для чего же была война? – вопрошает Борода.
– Для души, – усмехается в погребе дьявол, закручивая левой рукой рыжий тараканий ус с правой стороны и поправляя «пилотку» «зубной щетки» с левой[340].
– Как же так?! Как же так! – сокрушается несправедливостью утверждения царь, вспоминая слова избранницы о ду ше и душе. – Не может этого быть! Мы же самая душевная нация в мире! Можно сказать, душевая человеческих сердец! Возьмите хотя бы Льва Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова…
– Взяли! – перебивает Ивана Грозного Борода и начинает перечисление персоналий. – Преданный анафеме Лев Толстой. Отправленный на каторгу Достоевский. Убитые на дуэлях Пушкин и Лермонтов. Уничтоженные Гумилев, Блок, Мандельштам, Хармс, Мейерхольд. Доведенные до самоубийства Цветаева, Есенин, Маяковский, Фадеев. Бежавшие из России Рахманинов, Бунин, Глазунов. Изгнанные из страны Солженицын и Бродский. Затравленные обществом Пастернак, Ахматова, Булгаков. Обвиненные в пресмыкательстве перед Западом Шостакович[341], Вознесенский[342], Макаревич…
– Стоп-стоп-стоп, – останавливает его Богомол. Достаточно! Освежил, что называется, память, от души.
– Мы их душили-душили, душили-душили… – слышится хриплый голос Шарикова[343].
Разомлевшее на просторе Облако вспыхивает под ореолом возникшей радуги неожиданным смущением пурпурного цвета и, выбрасывая в нас жемчужины ледяных градин, совокупляется с пришедшей грозой раскатами грома:
– Мы истекаем сердцами! Мы выплевываем сами себя в прыжке к счастью и выхлебываем его недосягаемость! Мы сочимся сквозь решетки государства в камеры безвозвратных потерь! Мы разливаемся злорадством на площадях равнодушия. Мы барахтаемся обрубками надежд в паутине беспросветной лжи. Мы гибнем в амбициях императоров прострелянными сердцами детей. Мы сосем мутными глазами триумф и скорбь обезумевших экранов. Мы склоняем головы и встаем на колени. Мы – педали государственной гильотины. Мы не рабы, мы подрабье чьих-то жабр, дышащих нашими легкими. Мы – бездонные колодцы выблеванных надежд. Мы – шипы, впившиеся в ступни Бога. Мы – крест дыбы, на которой распят Его глас. Мы – пепел на золе собственных надежд. Мы – бред больных тиранов. Мы – стадо буйволов, увлекающих за собой народы. Мы – сель безмолвного ужаса, несущегося от горла к душе и из души в ад. Мы – россияне, рассияющие костер, в котором сгорит мир! – обрывают молнией пророчество небеса…
Слышно, как, подбирая на ходу жертву из действующих лиц романа, по залу летит комар. Пухлая щека Ивана Грозного кажется ему такой аппетитной, что, не справившись с эмоциями гипоталамуса[344], он вонзается в нее, как пуля в висок Кутузова[345], и начинает сосать кровь, выделяя в делегата собственные антикоагулянты. Жадность губит опьяненного кровью гнуса и могучая лапа кормильца наносит гусарскую пощечину сквозь тело противника себе в морду, лишая последнего вызова на дуэль. Кровь брызжет из комара в разные стороны, образуя красную кляксу на месте непредвиденного конца. Конец бряцает медными тарелками и начинает похоронный марш Шопена. Звон наполняет уши задумчивых визитеров колебаниями звуков до двадцати килогерц и выше, но этого уже никто не слышит[346].
Дребезг оплеухи выводит Андрея из задумчивости, и, разливая правой рукой струящийся янтарь абрикотина, он возрождает мистификацию истории в одностороннем порядке:
– Взять хотя бы слова коллеги о Второй мировой войне…
– Не советую! – возражаю я, подкручивая собственный висок.
– Что у нас получается? Каков итог?
– Немыслимый! – развожу я в разные стороны руки, пытаясь остановить исследование и засекретить отчет.
– В результате освободительных действий Красной армии были оприходованы страны Прибалтики, столица Восточной Пруссии – Калининград[347], часть Финляндии[348], куски Польши[349], Чехословакии[350] и Японии[351], – глаголет устами истины Андрей.
– А остальные пущены в оборот, – коверкает идею социалистического лагеря Фальцет, вспоминая слово «сателлиты», повторное взятие Чехословакии[352], Польши[353], Будапешта и казнь венгерского президента[354].
– Но если территории захватываются, а не освобождаются, война не может называться освободительной? – изумляется Борода.
– Как тебе сказать… – подбирает современную модель для иллюстрации достойного примера Андрей…
– Говори, как есть! – требует собеседник.
– Каждый считает, что он прав, и только правда знает, кто с ней! – стараюсь нейтрализовать формирующийся вердикт.
– Нууу?! – не отступает соперник, оставляя мой афоризм без внимания. – Мы ждем!
– Пожалуйста, – соглашается Андрей. – Когда в результате действий спецназа в театре на Дубровке сто тридцать заложников были освобождены от жизни, находившейся в руках террористов, – это считалось убийством или освобождением?[355]
– Но здесь совсем другое! Люди в театре гибли не от пуль террористов, а от газа и сильного ослабления организма.
– Так и в газовых камерах Освенцима люди гибли не от пуль террористов, а от газа и сильного ослабления организма.
– И что же из этого выходит? – интересуется Иван Грозный.
– Выходит, что преследовалась цель по освобождению… – замолкает оратор.
– А получилось?
– А получалось, как всегда, – одним награды и повышения, а другим смерть и отчуждение территорий (жизней) в пользу освободителей, – подливает самогон в рот Андрей.
Из-за кататонического ступора, возникшего по вине докладчика, немая сцена спасает на некоторое время гостей от переизбытка эмоций. И мне начинает казаться, что скандала удастся избежать. Но вычурность рефлексий подскакивает вверх, когда Фальцет ошеломляет окружающих новой постановкой вопроса.
– А какая, на ваш взгляд, казнь, выглядит человечнее остальных? – начинает он из далекого далека. – Сожжение на костре, четвертование на плахе, продырявливание пулями, отсечение головы, поджаривание на электрическом стуле или удушье в газовой камере?
– Наверное, в газовой камере, – фыркает озадаченно Иван Грозный, вспоминая казематы Кремля и работу своей бригады.
– Следует ли из этого, что палачи концентрационных лагерей были гуманнее твоих гуманоидов? – обращается безумец к царю.
– Моих?! – восклицает Грозный.
– Твоих, – подтверждает Фальцет.
– В советских или фашистских концлагерях?[356] – пытается конкретизировать ситуацию Борода.
– В британских[357], – расширяет границы собеседник.
– А разве палачи могут быть гуманными в принципе? – шевелит Богомол усами мозги.
– Это зависит от жертв, – улыбается царь, вспоминая Федю Басманова[358].
– Но они же убивали невинных людей! – сопротивляюсь я. – Тысячи, десятки, сотни тысяч людей!
– Так и армии освободителей убивали невинных людей, – не сдается в окружении противников маргинал, – бомбу не интересует профессия и возраст пациента. Мы для нее – начинка для гробов[359].
Андрей переводит взгляд на графин, потом на рюмку, наполненную ароматным зельем всклянь, и опять пытается сконцентрироваться на хрустале, произнося при этом чуть слышно:
– Во-первых – газовые камеры существовали еще до нацистов, и людей в них убивают до сих пор[360]. – Содержимое рюмки отправляется в желудок. – А во-вторых, в истории человечества отношение к палачам переворачивается с ног на голову очень быстро. – Изображает он рукой переворот песочных часов. – Помните сотника Лонгина?[361]
– Не помним, – честно признаются делегаты.
– А помните, почему он стал святым и получил придел в Храме Гроба Господня?[362] – не замечает ответа проповедник.
– Почему?
– Потому что убил Иисуса[363], – тычет указательным пальцем в бок резонер.
Закинув ногу на ногу и скрестив на груди руки, Андрей возносится мыслями на небеса, желая проверить, там ли еще сотник, пока остальные интересуются телом пронзенного Иисуса.
– Армия не страшна, страшны ее главнокомандующие… – вздыхает, вспоминая начинку для гробов, Борода.
– Мухи рождаются для того, чтобы их съедали пауки, а люди – для того, чтобы их глодали скорби[364], – импровизирует Мульт.
– Ты это к чему? – интересуюсь я.
– Так… К слову пришлось.
– Шопенгауэра почитываешь?
– Уже завязал…
– Ну, а про город! – вдруг возвращается в родные пенаты царь. – Про Волгоград что скажешь, Андрей!?
– А что о нем говорить? – сливает тему земляк. – Чем гордиться?
– Тем, что в Волге больше нет осетров, – излагает гадкую версию Фальцет.
– Истуканом, чей гроб спрятан в сердце страны?[365]– не реагирует на шутку Андрей. – Или матерью, что бьется с мифическими чудовищами, не жалея родных детей?
– Может, великанам пора встретиться, – предлагает посредничество Богомол, – и обсудить будущее потомков?
– А может, их лишить родительских прав? – упрощает задачу Борода.
– А может быть, корова, а может быть, собака, а может быть, ворона, но тоже хороша, – мурлычет себе под нос мультяшную песню Иван Грозный, довольный тем, что его вопрос нашел отклик в двадцать первом веке.
– Нет достойной в городе идеи! – перебивает коллег Андрей. – Люди есть, а гордиться нечем!
– Как нечем?
– Так нечем!
– А героическое прошлое? – изумляюсь я.
– Прошлое принадлежит не нам!
– Не нам?
– Прошлое – ложь. Для памяти нет дорог обратно, – цитирует ученого каталонца[366] Богомол, закидывая цепкой лапкой очередной полтинник в узкую щель рта.
– Прошлое принадлежит прошлому! – рубит на корню национальную идею Фальцет. – Настоящее принадлежит нам!
– Прошлое принадлежит… – подгоняет аллегорию на заданную тему Андрей и, сочинив необходимый сценарий, проводит параллель: – Если жители Италии начнут возводить памятники героическому прошлому Древнего Рима и ходить на демонстрации с портретами Юлия Цезаря, их экономика улучшит свои показатели?
– Нет.
– Уподобится Италия Древнему Риму?
– Не уподобится, – соглашаются собеседники.
– Вы не задумывались, почему Грозный с населением вчетверо меньше волгоградского обласкан бюджетом значительнее нашего героического Сталинграда?
– Почему? – интересуется, услышав свою фамилию, царь. И добавляет, осмыслив предложение до конца: – О! О-о! О-о-о! Вы назвали город в мою честь? Молодцы! Молодцы ребята! Когда-нибудь я вас за это помилую!
– Так почему же? – заостряет внимание на своем вопросе Андрей.
– Не знаем, – отвечают все хором.
– Потому что Грозный сражался с правительством, а Сталинград – с фашизмом! – ударяет ладонью о стол докладчик. – Сечете разницу?
– Сечем, – вздыхаем мы.
– Вот и секите, пока есть такая возможность. А то ведь гайки существуют для того, чтобы их закручивали, а народ для того, чтобы его секли…
– Продолжим? – катапультирую я мысли в пространство, желая избежать скрупулезного анализа человеческой драмы.
– Продолжим, – соглашается Андрей, перетекая из одной колоды событий в другую с такой легкостью, что собеседники теряют связь: – Вот скажи мне, – обращается он к Богомолу, – ты привык к террористическим актам?
– В каком смысле? – шарахается в ужасе насекомое, вспоминая встречу с газонокосилкой.
– В обыкновенном! – обыкновенничает Андрей. – Всего за несколько последних лет нас приучили к тому, к чему, казалось бы, приучить невозможно! – толерантности к террористическим актам, массовость и регулярность которых до прихода к власти спецслужб не достигала такого масштаба (за всю историю Древней Греции) никогда!
Андрей наливает и выпивает первач, после чего его язык становится деревянным, как у Буратино нос:
– Перед Новым годом в нашем городе были совершены очередные террористические акты[367]. Были?
– Были.
– Очередные?
– Очередные.
– Как часто вспоминала о них страна, празднуя всего через месяц Олимпиаду?
Богомол вздыхает.
– Вспоминала? – настаивает Андрей.
– Ну… не знаю…
– А после Олимпиады?
– Не уверен…
– Неуверенность – основополагающая черта русского человека при совершении им благородных дел, так же как и героическое мужество при осуществлении очевидной глупости, – выдвигает очередной тезис, меняя очередную тему Андрей. – А нанесенный государству ущерб здесь, – гость тычет пальцем левой руки на нижний этаж моего дома, – ценится всегда выше полученной прибыли там. – Андрей указывает правой рукой в сторону Кипра и Канарских островов. – Или не так?
– Так, – соглашается Фальцет, зачарованно глядя в сторону Канарских островов.
– Вы, кстати, не задумывались: почему, когда страной управляли дети из образованных семей, она воевала с Германией вполсилы[368]. А когда на трон сели дети рабочих и крестьян[369], Россия сражалась на пределе своих возможностей и понесла немыслимый урон! Урон, не сопоставимый с численностью армии противника![370]
– Не задумывались, – отвечает, не задумываясь, Борода. – Почему?
– А потому, друг мой, что наличие извилин под скальпами наших президентов еще не доказывает присутствие в них бокового лобного полюса[371] и стабильной работы лимбической системы[372] в префронтальной коре головного мозга[373]. И если в первом случае царским детям скрывать было нечего, то во втором – руководители страны становятся похожи на притаившегося за футбольным мячом слона, когда матч берется судить история. Врубаешься?
– Вырубаюсь! – хохочет Иван Грозный, ударяя посохом, убившим сына, об пол.
– Если я сегодня ликвидирую президента, – открывает цирковую программу Фальцет, затуманивая глаза, – меня осудят и проклянут! Но если завтра он начнет ядерную войну, человечество проклянет меня за то, что я не кокнул его сегодня! – делает театральную паузу фантазер. – Так какое из двух проклятий мне выбрать?
– Второе, – предлагает Борода.
– Кстати, – вновь перехватывает инициативу Андрей, – президент уже предупредил мировое сообщество о том, что глобальное потепление можно всегда уравновесить термоядерной зимой…
Ядерная минута молчания, во время которой, выпив и крякнув, «Все через жопу!» – заявляет Богомол.
– Искаженное восприятие реально существующего явления, называется иллюзией, а иногда и белой горячкой, – пытаюсь я диагностировать мышление насекомого.
– Значит, мы страна иллюзионистов? – отдергивает лапку от очередной рюмки собеседник.
– Этого я не говорил. Но иллюзии внешней угрозы могут возникать под влиянием выраженных колебаний настроения или в связи с остро формирующимся аффектом страха, вызванным тревогой за будущее государства.
– Если бы не мурдалаки, управлявшие целое столетие богатейшей страной мира, мы бы жили сейчас лучше любой Америки! – богохульничает захмелевшая Борода.
– Но в Америке не было мировых войн! – выдвигает общепринятую идею всех бед Грозный Иван.
– Отмазка для лохов! – фамильярничает Борода, опираясь на плечо правителя.
– Почему? – интересуюсь я.
– Потому что не Россия, а Германия проиграла две мировые войны подряд. И, в отличие от нас, Германию долбили со всех сторон сразу! Видели, как это происходит на порносайтах?
– Ил не фо па парле о жанс![374] – высокопарно изрекает Богомол.
– Keep Calm and Carry On![375] – парирует Андрей.
– Моя родина – Россия! И мне плевать, как живут другие! – заявляет не вступавший до этого момента в беседу Патриот.
– Ваша родина – это ваше сердце, оплодотворенные сперматозоиды и декларативная зрительная память[376], – пытается разрядить обстановку Мульт.
– Почему? – интересуется царь.
– Потому что, когда я приезжаю в Краснослободск и смотрю на посеревшие от беспробудного счастья лица земляков, я вспоминаю про миллиарды рублей, закопанные в землю, пущенные по ветру, разворованные по карманам, розданные для нужд других стран[377]. И про миллионы людей нашей родины, так и не дождавшихся своего счастья…
– А национальные интересы? – принимает сторону Патриота Грозный Иван. – Как прикажешь блюсти национальные интересы?
– Национальные интересы находятся внутри страны и обращены к ее жителям. За территорией страны находятся интересы других государств, – пытается разделить интересы народов Андрей, после чего опрокидывает очередной полтинник в рот, и его язык становится резиновым, а глаза матовыми.
– Не патриот ты, Андрюха! Вот что я тебе скажу: Не-па-три-от! – отмахиваюсь, расстроенно я.
– И даже не «уазик», – издевается смутьян, вспомнив прародителя внедорожника.
– А знаешь, что сказал наш президент на совещании общественности по вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи? – переходит на фа-диез первой октавы хозяин дома.
– Что? – наливает полрюмки Андрей.
– Что «мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм! Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого все равно не придумаем!»[378]
– Думалка плохо работает, – опрокидывает полрюмки Андрей.
– До него это еще император Николай I сформулировал, – подтверждает неудачную претензию на оригинальность Богомол: – «Россия не есть держава земледельческая, промышленная или торговая. Россия есть держава военная, и назначение ее – быть грозой остальному миру!»
– Работать нах – давай бах-бах! – расшифровывает царскую сентенцию Фальцет, а Андрей кладет в нужное место нужное количество капусты и, прожевав нужное количество раз, цитирует эластичным языком нужного классика:
– А знаете, что по этому поводу изрек Лев Толстой?
– Что? – настораживается Грозный Иван.
– Что «патриотизм есть не что иное, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей правительства! Ослепление, в котором в наше время находится народ, восхваляющий патриотизм и воспитывающий свое молодое поколение в суеверии патриотизма, дошло до такой степени, при которой достаточно самого простого, просящегося на язык каждого непредубежденного человека рассуждения, чтобы люди увидали то вопиющее противоречие, в котором они находятся!»
– Расширенно! – смеется Фальцет.
– Да я и так его сократил, – улыбается Андрей гибкой улыбкой бесформенных губ, расползающихся изогнутой раной по его велюровым щекам.
– Самуэль Джонсон выразился короче, – вновь напрягает память насекомое: – «Патриотизм – последнее прибежище негодяя», а Бернар Шоу чуть длиннее: «Патриотизм есть разрушительная, психопатическая форма идиотизма».
– А какое это имеет отношение к России? – слышится закипающий голос Патриота.
Я знал, что, в конце концов, этот вопрос прозвучит в нашей беседе. И также знал, что у меня не будет на него ответа. Поэтому передал слово Андрею.
– Ну, к России, может, и никакого… – неуверенно начал приходить в себя балагур, – но параллели прослеживаются налицо! – оборвал предложение собеседник и вновь принял на грудь, после чего его язык стал оловянным, а мысли каучуковыми…
Воспользовавшись сиюминутным мгновением, Борода наполнил рюмку и, отхлебнув, сунул в рот горсть квашеной капусты, в которой краснела маленькая ягодка клюквы. Клюква успела бросить на Грозного Ивана прощальный взгляд и, зажатая между пятым (пломбированным) и шестым (металлокерамическим) молярами жевальщика, выпустила из себя сок, смешиваясь со слюной уплетающего ее индивидуума с той же последовательностью, с какой смешались между собой – мещеры, кривичи, словене, бастарны и муромы, формируя основу славянского этногенеза[379] в будущую национальность народа, прежде чем к групповому сексу присоединились остальные племена.
– Вот вам и ответы на ваши вопросы, – решаю я завершить начинающую выходить из-под контроля беседу.
– Постой-постой! – останавливает меня Андрей.
– Спасибо, я посижу, – вежливо отказываюсь я от предложенной постановки общения.
– Сиди-сиди, я не это имел в виду. Ты что, забыл, о чем шла речь?
– О чем?
– Повесткой встречи был поиск изменения силы взаимодействия между вершками и корешками: с отталкивающей фазы (преобладающей в данный момент) на притягивающую электростатику впечатлений народных масс от нашего труда в будущем, – заканчивает Андрей бессмысленное предложение.
Внимательно выслушав гостя и разгадав его тайный план, я понимаю, что разговор может затянуться, а, затянувшись, растворит часть моей абрикосовки в животах гостей. Поэтому решаю перейти от критического реализма[380] к наивному с помощью редукционизации[381] собственного примера:
– Народ, – начал я, неторопливо проливая благодатную жидкость в чарку из чистого серебра, – как известно, субстанция простейшая, могилу роет без понуканий. – Стопка опрокинулась, и прохладная влага потекла вниз, согревая трубопровод пищевода. – Вы никогда не задумывались, почему у человека только две щеки, а желающих ударить по ним гораздо больше? – задаю я хрестоматийный вопрос, стараясь потянуть время.
Воцаряется молчание, нарушаемое хрустом капусты, попавшей под пресс обстоятельств, возникших во рту Андрея. Слышится глотательный звук, и закусивший рот изрекает тряпичным языком:
– Потому что жизнь похожа на палку колбасы: сначала с тебя снимают шкуру, а затем откусывают и глотают, откусывают и глотают.
– Вы давайте конкретно! Что-то относящееся к России расскажите! А то Лев Толстой – это было давно, а Олимпиада уже закончилась, – слышится повелительный голос Патриота, натягивающего на себя бронежилет и вызывающего по рации подкрепление.
– Ну что же, можно и конкретно! – приходит в себя Андрей. – Вот вам исторический пример, связанный непосредственно со сложившейся ситуацией в целом … – сбивается вдруг с мысли смельчак и, покраснев, смолкает.
«Он явно нервничает», – думаю я, глядя на то, как шелковый носовой платок Armani промакивает Андрею лоб и, спрятавшись в кулак хозяина, ложится смятой тряпицей на внушительной толщины столешницу.
«Похоже, он провел эту ночь не дома», – делаю я невольный вывод, заметив трясущиеся кончики пальцев его кулака.
– Так вот, – продолжает выступающий, – когда в США избирали первого президента страны[382], Россия произвела первую аннексию Крыма[383] и вскоре завершила депортацию населения, начатую еще Суворовым[384].
– Удачное приобретение! – радуется взятию полуострова царь, вспоминая позорную сдачу Москвы Девлет-Герею[385].
– После раздела Польши и присоединения Западной Украины[386], – берет чуть западнее докладчик, – Россия запретила использование украинского языка в школах… театрах… при книгопечатании… – загибает пальцы Андрей, вспоминая пункты Эмского указа[387], – и…
– Кооороче! – перебивает соперника Патриот.
– Короче, – любезничает тот, – в связи с вышеизложенным, я считаю, что заявления о нежелании игнорировать случаи дискриминации русского языка на территориях соседних государств выглядят теперь неэтично…
– Этично, неэтично – нам это безразлично! – выходит из полумрака прихожей на божий свет страж отечества.
Все смолкают.
Патриот невысок ростом, среднего телосложения, с редкими волосами на голове. Под бронежилетом на нем четырехпуговичный двубортный пиджак в мелкую полоску, хлопчатобумажная рубашка от Christian Dior с отложным воротничком и широкий шелковый галстук с узором пейсли от Givenchy[388].
Он обводит присутствующих взглядом и поднимает руку, призывая всех к тишине.
Игнорируя предупредительный жест, Андрей воспламеняет бикфордов шнур скандала, заканчивая прерванный монолог очередной исторической справкой:
– И если прибавить к вышеупомянутым событиям геноцид тридцатых годов[389], центр тяжести смещается за границу…
Не выдержав наглости храбреца, Патриот обрушивает на Андрея шквал эмоций:
– Да ты русофоб!
Выступавший защищается:
– Нет! Это неправда! Я не русофоб!
– Ребята, давайте жить дружно, – пытается играть роль кота Леопольда Грозный Иван.
Патриот наседает:
– Да ты не любишь русских людей!
Андрей не сдается:
– Я люблю русских людей! Я люблю Лермонтова, Булгакова, Достоевского, Рахманинова, Чайковского, Врубеля. Горжусь Ломоносовым, Королевым, Менделеевым, Кутузовым, Василевским[390], но это не означает, что я должен любить Джугашвили, Дзержинского, Жукова…
– Чё ты сказал? – перебивает наглеца Патриот, вгрызаясь хищным взглядом в кадык оратора. – Жукова не любишь???
– Да что это с вами? – опять вмешивается царь. – Мы же цивилизованные люди! Почему никто не хочет говорить обо мне?
– Не люблю! – пропускает мимо ушей спорщик призывы Его Величества. – Не люблю, потому что Жуков сам, являясь унтер-офицером русской армии, стал предателем России, когда в тысяча девятьсот девятнадцатом году перешел на сторону незаконных вооруженных формирований и начал воевать против русской армии. Потому что позже он защищал главарей тех самых банд, не жалея солдат. Потому что солдаты – это мужская половина народа, о котором мы говорим. Потому что, следуя словам Канта, человек обладает свободой выбора в поступках и является высшей ценностью в самом себе! Потому что государство, ставящее собственное существование выше человеческой жизни, – это людоед, пожирающий детей Бога! Потому что жизнь – это капля дождя в пустыне смерти, и ее нужно лелеять, как зеницу ока Творца! Потому что каждый выстрел попадает в сердце Создателя…
Андрей вытирает дрожащей рукой лоб, прежде чем закончить выступление на скорбной ноте:
– Но Жуков приказал расстреливать попадающих в плен русских солдат. Расстреливать вместе с их женами и детьми…[391]
– А как же тогда родина? Как родину прикажешь защищать? – уже практически шипит от злости оппонент.
– Давайте я расскажу вам, как это нужно делать, – пытается опять привлечь внимание Грозный Иван. Но остается незамеченным и, расстроившись от того еще сильнее, отливает из графина в мою чарку пятьдесят миллиграммов абрикосовки, а остальное пьет из горла.
– То, что вы называете родиной, – продолжает Андрей, – есть не что иное, как частица нашей планеты. На ее существование никак не влияет победа одних человеческих армий над другими. Меняя названия и территории, родина всегда остается на прежнем месте, и потерять ее можно только одним способом – погибнув! Именно в тот момент, когда вы отдаете свою жизнь за родину, вы теряете ее навсегда! Люди, не принявшие участия в войнах, не погибшие в них, сохранили связь с родиной в своих потомках. В то время как сгинувшие в боях утратили ее не только сами, но и лишили родины своих нерожденных младенцев, которые теперь лично поджаривают их за это на сковороде вечных мук, потому что шанс попасть на землю дается один раз в году…
– В галактическом году!!![392] – присвистывает с восхищением Богомол, глядя на опустошенный царем графин, в то время как Андрей завершает разрушение основ патриотизма.
– Очередь из детей, желающих прийти в наш мир, так велика, что видна невооруженным взглядом, – это Млечный Путь, которому пришлось сжаться в спираль, чтобы поместиться в нашей Галактике. Вы можете видеть его на нашем небосклоне каждую ночь. Эта очередь, состоящая из сверхскоплений бестелых душ, тянется к нашей планете, как тянется путник к родному дому, возвращаясь из далекого путешествия. Как тянутся руки матери к своему малышу, чтобы, отрезав от него кусочек мяса, скормить мякоть второму ребенку и спасти ему жизнь[393]..
– Я бы закусил сейчас человечинкой, – вытирает рукавом халата влажные от самогона усы Иван Мучитель[394].
Расшитый золотом и отороченный драгоценными камнями царский халат мерцает искрами, отражая лучи заката, и погружает комнату в сумрачный фейерверк.
Не замечая солнечных зайчиков, бегающих по неровной поверхности стен, Андрей продолжает вести наступление по всем фронтам:
– Только диаметр этой спиралевидной очереди составляет один квинтиллион километров[395]. Обрывая эту цепь, вы обессмысливаете путь всех предыдущих поколений, пронесших сквозь мглу тысячелетий светоч жизни до вас. До вас – отдающих ее за родину или, если быть точнее, за расставание с ней! Это не мои слова. Это заповедь древнейшей на земле религии. Она существовала, когда еще не было людей, не было самих динозавров. Она дожила до наших дней только потому, что те, кто принял ее в свое сердце, сохраняли жизнь, а те, кто отверг, – гибли. Это религия самого Бога. Его последнее послание миру. Его последний вздох. Его надежда на воскрешение.
Андрей снова вытирает дрожащей рукой крупные капли пота на побледневшем как мел лице и заканчивает, не теряя самообладания:
– То, что вы называете патриотизмом, на самом деле есть не что иное, как защита кучки людей, находящихся у власти. Вы рвете цепь своего поколения, чтобы потомки этого объединения, назовите его как угодно: кучка, пучок, связка, союз власть имущих[396], – получали возможность попадать в этот мир вновь и вновь, принимая человеческое обличье, которое, увы, не всегда скрывает под собой человека. Иногда в этом обличье на землю приходят динозавры древности. И тогда мир становится близнецом ужаса!
Трясясь от негодования и проглатывая часть букв, Патриот набрасывается на белого, как молоко, парламентария, подступая к нему со всех сторон сразу.
– Вот ты как заговорил? Родину хочешь предать? Из союза выйти? Да я тебя, как раба на галерах, замочу, падла, век воли не видать! Дубиной власти в сортире замочу! А потом в унитаз смою! А потом со дна канализации выковыряю на свет божий и еще раз замочу! Ты думаешь, «оттепель» будет вечна? Ты думаешь, я намерен терпеть это дальше? Конец «оттепели», я сказал! Всё! Поиграли и будя!
Он окружает дрожащего от страха Андрея, и тот скукоживается, как сорванный ветром лист, но, собрав остатки мужества, вдруг произносит неожиданно звучным голосом:
– Изыди, сатана, вон! Я глаголю устами истины!..
Слышно, как в ванной комнате у окна жужжат две мухи… Ползают, ползают, потом отлетают и, разогнавшись, бьются о прозрачность, не в силах разбить стекло или покончить с собой…
Патриот взрывается вокруг себя проклятиями:
– Да мы вас закопаем, педеласты проклятые! Засуньте свои доводы себе в жопу! Ублюдки! Христопродавцы! Сионисты! Холуи американского империализма! Дрозофилы! Ненавижу! Ненавижу! Будьте вы прокляты![397]
С этими словами он подскакивает к противнику и, схватив его за темно-синий двубортный блейзер, проводит классический прием дзюдо, от которого Андрей с грохотом падает на пол, а Патриот, повернувшись к остальным, объявляет:
– Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи![398].
Поднявшись с кресла, я набрасываю на плечи ярко-красный халат и иду в ванную, где придирчиво изучаю в стекле свое отражение на предмет, нет ли на нем отеков. Потом переодеваюсь в трусы-боксеры от Ralph Lauren с вышитой монограммой и тонкий свитер от Fair Isle. Сую ноги в шелковые шлепанцы в крупный горошек (Enrico Hidolin), надеваю на глаза охлаждающую маску и приступаю к гимнастике. После ее завершения я встаю перед раковиной Washmobile (хром и акрил) с мыльницей, держателем для стаканчика и поручнями, на которых висят полотенца. Полотенца я покупаю в Hastings Tile, а саму раковину (отшлифованный мрамор) я заказывал в Финляндии. Не снимая охлаждающую маску, я изучаю свое лицо и остаюсь им доволен. В стаканчик из нержавеющей стали я наливаю жидкость для удаления зубного камня Plax и полощу рот в течение тридцати секунд. Потом выдавливаю зубную пасту Rembrand на зубную щетку из искусственного черепашьего панциря. Тщательно чищу зубы (из-за похмелья мне не до зубной нити, но, может быть, я чистил их нитью вчера, перед сном?). Я полощу рот листерином, вытираю лицо махровым полотенцем и выхожу из ванной комнаты[399].
Кажется, мне что-то снилось? – пытаюсь я вспомнить момент своего пробуждения…
– Да… что-то снилось, – повторяю я собственную мысль вслух, глядя на упавший фужер, стук которого, по-видимому, и разбудил меня. – Но вот что именно? Хоть убей, не помню…
Слышно, как за четырехслойным стеклопакетом с бронированным внешним стеклом завывает метель. Метель две тысячи четырнадцатого года. Я сажусь в кресло.
Пытаясь прорваться в дом, ветер залетает в каминную трубу, и из зала доносится запах разгорающихся углей, а вслед за ним – первые аккорды с диска Аsaf Аvidan. Это Thumbtacks in my marrow, узнаю я музыкальную композицию и засыпаю вновь…
Часть третья Каникулы
Я отталкиваюсь от планеты, и, качнувшись, она медленно сходит с орбиты.
Экспрессия первая
1
Читатель, я обращаюсь к тебе с трибуны своего сознания, не как Гордон Байрон в палате лордов перед будущими пэрами Англии[400], а как беспомощное существо, получившее тело от родителей, жизнь от планеты и решетки от государства. Читатель, кем бы ты ни был, чего бы ни ждал ты от этой скоротечности, имя которой жизнь, – прошу тебя!.. Вообрази меня! Меня не будет, если ты меня не вообразишь; попробуй разглядеть во мне лань, дрожащую в чаще моего собственного беззакония[401]. Попробуй увидеть, узнать, ощутить себя совсем еще юным, доверчивым восьмилетним созданием. Вспомнить что-то – какую-то деталь, игрушку, встречу, что поможет, сумеет вновь вернуть тебя к тем, давно исчезнувшим и хранящимся только в твоем сердце и в твоей памяти ощущениям детства, ощущениям счастья ребенка, только что закончившего первый класс. Чтобы, попав в то время, в истоки собственного бытия, ты смог проникнуть, проскользнуть в мои грезы и впечатления от окружившего меня урагана извращений, имя которому – мир взрослых людей. Существ, имеющих безграничную власть над детьми только потому, что в их руках находится ужасающая сила – сила сочиненных ими законов.
Мульт: «Идет все прямо Правосудье, не потеряет след, могучих губит, губит слабых – в нем милосердья нет»[402].
2
Я: Первый класс я закончил плачевно…
Мульт: По их мнению!
Я: И если бы сознание людей не промывали растворителем общественных правил, лишая их способности логически осмыслять объективную действительность… Если бы позволяли отражать в нее собственный мир, обогащая его стратификацию[403] слоями чистого разума. Мне бы сказали: «Ну и что с того? Проиграл в этот раз – выиграешь в другой! Жизнь-то на этом не заканчивается! А все, что не делается, делается к лучшему…»
Мульт: Запомни это, дружок!
Я: Но все вышло наоборот. За плохое поведение меня исключили из лучшей школы города и на прощание (прошедшее без крокодильих слез) завуч школы сообщила взволнованной родительнице: «Если Давид не пройдет курс лечения у психиатра, история с его исключением повторится. Ваш мальчик позорит советский строй! Его характер нужно ломать сейчас, потом будет поздно!»
Мульт: О том, что строй позорит Давида, как вы понимаете, она умолчала.
Я: Эмпатическая[404] песня старой клячи так подействовала на впечатлительного Росинанта[405], что вместе с мудрым Инцитатом[406] он пришел в дикий восторг и тут же помчался трехкратным аллюром по трын-траве, оставляя на ней вмятины от копыт и выпуклости от удобрений. Но, вспомнив трагическую кончину своего императора[407], Инцитат остановился и загрустил. Являясь мудрейшим из когда-либо живших на земле сенаторов[408], он хорошо понимал последствия такого совета. Поэтому, понурив голову и хвост, жеребец вернулся к своим дочеловеческим интересам и перестал посещать парламент.
Причина же одиночества Росинанта была значительно прозаичнее. Его хозяина (Дон Кихота) забрал себе Луначарский[409], задолго до того, как я позаимствовал у Алексея Толстого Ивана Васильевича[410], который по матрилинейной традиции[411] имел бы фамилию того самого Мамая[412], что прославил Дмитрия Донского, а по русской – был Рюриковичем, но, по сути, являлся носителем СДВГ[413], потому что вырос сиротой с экзальтированной антиномией[414] разума и поехавшей от напряжения крышей, выразившейся (после исчерпания всех известных ему удовольствий) в поиске иных наслаждений среди душевных и физических страданий тех, кто не успел вовремя свалить из этого царства-государства (например, в Испанию), где непременно попал бы в руки Инквизиции или на галеры Непобедимой армады, что и в том, и в другом, и в третьем случае не предвещало веселого конца.
Мульт: А без веселого конца жизни нет у молодца!
Я: В общем, все это (а это было еще не все) так подействовало на мою маму, что, поддавшись обаянию проповедницы, она отвела меня туда, куда следовало отправлять детей слабонервных, процеживая их сквозь сито лидеров своего двора, способных прозелитизмировать[415] мировую общественность в социалистические коммуны и сохранять популяцию некомбатантов[416] в надежном для страны месте, пока вожаки держат удар.
Мульт: И они стартанули!
Я: Идти, а точнее ехать на трамвае, нам пришлось все по той же улице Советской, от которой не дождешься никакого совета, кроме одного: «Вся власть Советам!»
Мульт: Получался замкнутый круг.
Я: И вот по этой улице Советской, замыкающейся только в том случае, если градостроители протянут ее горловину в эллипс расширяющейся Вселенной – мимо Дома Павлова, мимо разбитой мельницы, стоящей еще без всяких ограждений и не имеющей этого архитектурного чуда-комплекса «Панорама Сталинградской битвы», пристроенного в тысяча девятьсот восемьдесят втором году к мельнице Гердта, которую тот воздвиг в тысяча девятьсот третьем, а в тысяча девятьсот тридцать третьем (в «благодарность» за продвинутый проект) силовики арестовали и запытали Александра Гердта в подвалах организации, переименовавшейся (после нескольких прокладок) от греха подальше в МВД, чтобы со спокойной совестью и в будущем «грешить бесстыдно, беспробудно, счет потерять ночам и дням и с головой, от хмеля трудной, ходить сторонкой в божий храм[417]».
Мульт: Запытали со всеми признаками возникшей преемственности, как и у тех президентов, которым они подчиняются, хотя, следуя логике демократического государства, подчиняться они должны народу, который «силовики» имеют и в хвост, и в гриву, если тому вздумается этого от них потребовать.
Я: Теперь своими формами Панорама Сталинградской битвы напоминает боеприпас, убивающий не только во время войны, но и после ее окончания[418].
Мульт: Огромная каменная мина, в которую вложили кучу средств, но (слава богу) не вставили запал, стоит на берегу Волги, приглашая поглазеть на чудо застойной[419] архитектуры попавших в отпуск советских людей – чей скудный маршрут был всегда неизменен.
Псих: На нем подорваться мог только Ленин, если б решился пойти погулять или проведать Родину-мать. Всех успокаивает одно – никто никуда не ходит давно. Кровавый октябрь всегда на чеку и если дернуть опять за чеку, взлетит на воздух стальной монолит, и меч не поможет и матери крик…
Мульт: Аплодисменты партийных лидеров. Стоны Христа на кресте невидимом. Апофеоз новоявленных скреп, и дерзкий финал, возмужав, окреп:
– Предлагаю ребенка, любовь и себя в обмен на холодную сталь меча![420] – добавлю я к выше озвученной транспирации[421] испаряющегося слога писателя в образующееся над ним пространство, созданное мышлением пользователя, вызвавшим чувство голода у моего к вам сочинения, прежде чем индуцировать фабулу[422] симулякра[423] в сознание реципиента[424] и препарировать[425] его «нулевой уровень»[426], в конфлюенцию[427] сверхчеловека[428] с обществом, а общества с божеством эйдоса[429].
Юзер[430] (гневно): Кто написал этот чертов трэш?!![431]
Мульт: Может быть, Фридрих[432], а может, Нэш[433].
Я: Но за три года до вышеупомянутого события, двигаясь в сторону Седьмой Гвардейской, я думаю совершенно о друг-Ом. Ни в коем случае не принуждая Георгия Симоновича становиться моим друг-Ом[434]. А лишь ценя взаимную гениальность мыслителей, где я (со своей стороны) признаю не только отсталость научного мирового сообщества для подобных – нашим – озарениям, но и значение открытого им закона природы, персонифицируемого[435] в фамилию автора, и тут же деперсонифицируемого[436] в двадцать четвертую букву алфавита, изменяющую свою конфигурацию в зависимости от того места, где она находится (в начале, середине, конце или обособленно)[437], и порождающую звук «ОМ», создающий не только основу жизни на Земле[438], но и разум для тех, кто жаждет чудес разного рода, употребляя по утрам вместо чая с ОМу[439] (когда заваривает кипятком эфедру, гармалу или что-то среднее между растениями и живыми организмами[440]), желая достичь четвертого, блаженного состояния (являющегося окончательной, высшей целью духовной деятельности сознания), а в русской транскрипции производящего еще и первый звук имени нарицательного, от благополучного существования хозяина которого зависит жизнь любого из нас[441], что доказывает (опираясь на вышеизложенные теоремы) несомненное превосходство данного сонорного[442] мычания над остальными частотами упругих волн[443] и ставит его на первое место в алфавите фонем[444] и стаде коров[445].
Псих: Для расшифровки текста и передачи полученной информации прямо в мозг отправьте четырнадцать долларов на расчетный счет автора, два доллара для голографической инъекции в вену и шестьдесят восемь – за антидот.
Юзер (разъяренно): Что это?!! Кто это все сочинил?!!
Мульт: Тот, кто в безумие разум вложил.
3
Так, постепенно, не торопясь, по улице Советской шлясь, я с мамой дошел до дома номер пятьдесят один. Мы зашли в психоневрологический диспансер, и на Давида завели карточку. Я посмотрел на сидящих в холле людей и подумал: «Вот они какие – психи…»
Психи были как психи. Если бы не знал, что это они, ни за что бы не догадался.
Вскоре подошла наша очередь, и мама провела меня в кабинет, где сидела тетенька с симптомами базедовой болезни.
Мульт: Ее глаза, как шишки геморроя, мне не дают покоя до сих пор.
Она держала в руках лист бумаги и внимательно изучала чьи-то каракули. Закончив знакомство с текстом (скорее всего похвальной грамотой от директора школы), врач выпучила на меня стробилы и попыталась проникнуть в синусно-предсердный узел мальчика влет. Раздражаясь справедливостью мысли, что я трачу на эту дамочку бесценное лето, которое так прекрасно и восхитительно, когда в него не лезут доктора, пытаясь сделать из тебя пациента, мое сердце забилось, как бабочка в кулаке, стремясь вырваться на свободу.
После некоторой паузы и разглядывания нас по очереди (то маму, то меня, то меня, то маму, то муху на столе, то краску на стене, то щели на полу, то полутень в углу, то мои сандалии, то взглядов двух баталии, то мамины туфли, то красочный пол между нас под мухой – с мамой на столе и краской на стене в Давидовых сандалиях, упавших в щель полового сознания, где люди-тараканы (от людей-палканов) прячут своих душ безобразные раны, их морят и травят, а они это все когда переварят, как стойкие стойки стоически стоят, давлению вечности противостоя и трогать ограду не смея, глядят на дерево, яблоню[446], рифму блюдя, которую стоики, вытерев столики, предали стоической этики толику, еще на заре первобытных ребят, когда не положено по пятьдесят…) докторша попросила выйти маму в коридор (как меня в школе) и подождать там (окончания урока).
Оставшись наедине с Давидом, женщина (это я понял по вытачкам на белом халате) вперила в меня свои очи и, выдержав запланированную паузу, спросила, словно холодной водой окатила:
– Как тебя зовут, мальчик?
Вопрос был настолько неординарным, что я, ожидавший чего-то менее прозаического, опешил.
«А вы что, читать не умеете?» – хотел ответить эскулапу пациент, вступая в игру зарождающегося сценария. Но нехотя произнес:
– Вааалееерааа…
А чтобы избежать полагающейся добавки, подкосил медицинского работника преждевременным пророчеством на формирующийся вопрос, назвав свою фамилию, отчество и дату рождения.
Шлеп! – и губы, испачканные советской помадой, сомкнулись.
«Оценка неудовлетворительная», – понял я по ее глазам, которые, посмотрев на меня с презрением, опустились на стол, где кисти рук (без обручального кольца на безымянных пальцах) сделали в моей карточке какую-то пометку с помощью синих чернил, шариковой ручки и полученной над ними властью грошовой ценой в десять копеек.
– Почему плохо учишься, Давид? – вымолвила врач, не поднимая глаз.
«Повеселей ничего не придумала?» – вздохнув, подумал я и добавил, устремляя взгляд в окно, за которым (и в которое) голуббилось[447] небо:
– Нормально учусь… Меня устраивает…
Тетя опять царапнула ручкой бумажку и продолжила, посуровев бровьми:
– А вот у меня информация другая.
«Поменяй информатора», – покривился я сквозь зубы, но промолчал, подумав про себя: «Ну как можно плохо учиться в первом классе?»
Кириллические буквы и арабские цифры я знал до школы. Песенки на английском языке пел вместе со всем классом добровольно. Более того, мне нравилось голосить с девочками в одном хоре непонятные слова германо-англо-саксонского происхождения[448], так благозвучно вылетающие из миленьких губ одноклассниц, что, привлекая к себе внимание Давида, этот хор помогал взрослеющему школьнику забывать детсадовскую любовь – Ию и не страдать, как некоторые из старших товарищей, от глубокой привязанности к объекту своего вожделения, занимаясь душераздирающим садомазохизмом: «Любит? не любит? Я руки ломаю, и пальцы разбрасываю, разломавши»[449].
Какие еще претензии к Давиду? Что ходит не на каждый урок? А зачем ходить на каждый урок, если по четным дням учительница рассказывает нам новую тему и задает домашнее задание, а по нечетным – проверяет домашнее задание и закрепляет результат?.. Мне достаточно четных. Если же до Давида что-то не доходит, он появляется в нечетный день, когда на улице падает дождь или капает снег. В такие дни, от неожиданности, учительница часто сбивается с истинного пути и начинает путаться в своих показаниях, рассказывая первоклашкам урок четного дня, так как четные и нечетные сутки она всегда определяет по моему присутствию, а я – по ее наличности.
Голос, долетевший извне, прервал поток моего сознания, а старательно прореженные брови сгустили краски концентрированного сумрака.
Под грядками прореженных бровей открылся рот, над которым свисал нос. Нос зашевелился, освобождая место для верхней губы, приподнявшейся, чтобы, соединив накопившиеся в груди звуки (а в голове мысли), выпустить в меня вопрос.
– И как, с такими оценками, ты собираешься жить дальше? – продолжила выбивать признания из уст подозреваемого следователь в белом халате.
«Я живу со дня на день и, говоря по совести, живу только для самого себя», – захотелось ответить ребенку словами Монтеня, если бы «Опыты» изучали с первого класса. Но, сохраняя субординацию, я мысленно порылся в школьной программе за первый год и, не найдя в ней ничего подходящего для удовлетворения тетиной любознательности, вежливо промолчал, переводя свое сознание в окно веселящегося лета, от чего внезапно появилась Грусть…
Она вышла из-под стола и, подойдя ко мне, села на колени… Маленькая, печальная, с большими серыми глазами и вековой в них тоской – Грусть. Тоска тоже попыталась вылезти наружу, но Грусть вовремя сомкнула веки, остановив удручающее развитие событий. Я погладил ее по голове и подмигнул. Она так грустно улыбнулась мне в ответ, что лучше бы этого не делала.
– Ты здесь живешь? – спросил я ее.
Она кивнула.
– Под столом?
Она опять кивнула, и ее длинные, прямые светло-русые волосы упали на лицо, закрыв его от меня. Я вознамерился их поправить, но тут откуда-то с небес ко мне в мозги вопрос залез:
– Писаешься по ночам? – вошла лезвием неприятного слова в мои мысли, мои скакуны, эфебофилка[450].
Я вернул взгляд на прежнее место, оторвав его феноменальную наблюдательность от старой рамы окна (покрашенной масляной белой краской и замазанной алебастром на стыках дерева со стеклом, в тех местах, где штапики давно отвалились); от тополя, радостно размахивающего (на устремившихся ввысь ветвях) свежей зеленью еще молодой листвы; от искрящейся водной глади, отражающейся в голубом небе ватных облаков; от стаи ворон, перелетающих Волгу с правого берега на левый; и еще множества мелких деталей (от мухи на подоконнике до трещины в углу форточки) – на два пучеглазых геморроя, неприятно увеличенных оптикой линз в тонкой золоченой оправе, и, чуть наклонив голову, прищурил левый глаз, анализируя смысл заданного вопроса.
– Писаешься? – настойчиво повторилась повторюша, положив шариковую ручку на стол и вперив в меня взгляд хищницы, почуявшей запах крови.
– После драки, – сказал я, вспомнив ночное побоище в спортивном лагере прошлым летом. И, вновь, срабатывая на опережение ее торможения, добавил: – И какаюсь тогда же.
Вслед за этим Давид снял с колен Грусть, поставил ее на пол, поцеловал в лоб, встал, давая понять, что аудиенция закончена, и направился к двери.
– Стой! Я тебя не отпускала! – послышался возмущенный голос, обращенный к моему затылку своим лицом.
О, боже!.. Как я не любил это глупое выражение: «Я тебя не отпускала!» Что за чушь? Что за чушь, вылетает, как правило, из напомаженных женских уст: «Я тебя не отпускала!» «А ты меня покупала?» – хочется тут же задать не менее глупый вопрос вопрошающей. Как можно не отпускать человека, который не совершал преступления, не сидит в тюрьме и живет в стране, где крепостное право отменили сто лет назад?
Мульт: Или с отменой рабства была опять «утка»?..
Но она все еще на что-то надеялась.
– Я сказала, вернись, или ты об этом пожалеешь! – успел выскользнуть писк психички в расщелину между дверью и косяком. Дверная конструкция сомкнулась, и наступила тишина…
– Здравствуй, Тишина, – прошептал я. – Как приятно бывает тебя услышать. Хоть на одно мгновение. Только тебя – Тишину… Без ваших просьб. Без ваших мольб… Без ваших записок, вложенных в карточки и засунутых в стеллажи регистратуры с историей болезни человечества. Без вас. Без нас. Только я и Стена Плача…
Она была здесь, оштукатуренной, побеленной и выкрашенной в зеленый цвет. Но я все равно ее узнал…
Мама поднялась со стула, опешив от неожиданности:
– Давид, ты куда? Тебя же зовут.
– Я не останусь.
– Но это доктор – его нужно слушать.
Не прекращая движения мимо Стены Плача и покидая храм больной души, я промолвил:
– Тебя подожду на улице.
Мульт: Иногда человеку приходится взрослеть рано. Подобные ситуации, когда решения за старших вынуждают принимать подростка, вырывают ребенка из детства мудрости во взрослую жизнь абсурда, лишая его прекрасных мгновений собственной безмятежности и портя ему настроение на десять, а иногда и на двадцать минут!
Царский диагноз был очевиден – СДВГ или дислексия[451]. А возможно, и то и другое. Я шел домой, сшибая носком правого сандалика кусочки гравия и бормоча себе под нос старинную логическую считалку:
– Варкалось. Хливкие шорьки Пырялись по наве, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове. О бойся Бармаглота, сын! Он так свирлеп и дик, А в глуше рымит исполин — Злопастный Брандашмыг![452]Мульт: Психиатры всего мира видят маленьких больных человечков, не причиняющих никому зла, и не замечают исполинских маньяков, ежесекундно рвущихся к власти и получающих ее, превращая мир в больничную палату. Что это? Некомпетентность? Нежелание? Страх? Или неумение целой отрасли клинической медицины осмыслить главную задачу собственного развития в кондоминиуме человечества, обосновавшегося на этой планете через призму методологии эволюции, начавшей давать сбои с появлением особей, приходящих к власти, как в покои к императрице У Цзэтянь[453], чтобы сделать ей куннилингус[454] и получить таким примитивным способом возможность использовать свои биполярные аффективные расстройства, внедряя полотна Босха в цветущие картины мира?
Юзер (с пеной у рта): Что это?!! Кто написал этот бред?!!
Мульт: Вопрос ваш комичен. Читайте ответ.
Бред
Сегодняшнее утро наступило внезапно. Я очнулся от изнуряющего завывания бензопилы, которой мой сосед пилит по утрам дрова, когда наш хутор заметает снегом или засыпает сахаром. Дуб борется, сражается, сопротивляясь так бесстрашно и так самоотверженно, каждой щепкой своего оплота свободы, возникающего на пути стальных зубьев государственного интереса, что мне становится его жалко. Он знает, что, если металлическая цепь агрессора вклинится в строй сплоченных волокон, она расчленит их на дрова, а затем расколет на небольшие группы и отправит в печь поражения весь ствол, каким бы крепким и могучим он ни казался изначально.
Бензопила работает с надрывом, старательно вгрызаясь вывернутой наизнанку пастью в плоть благородного материала. Шум нарастает, звенит, грохочет, и разорванные куски некогда красивого тела падают, как подкошенные в бою солдаты, на мягкую землю, покрытую рыжими опилками отстрелянных гильз.
Не выдержав нервного напряжения, я вскакиваю с кровати и, накинув майку на фуфайку, выбегаю на улицу, где отбираю у недоуменного мужика пилу и, пока он не успел прийти в себя, отпиливаю ему голову и расчленяю ствол, получая от этого процесса феерическое наслаждение. Капли крови, подхваченные звеньями зубастой сволочи, разлетаются в стороны брызгами липкой росы и создают в небе алую радугу. Я работаю не покладая рук до тех пор, пока не превращаю соседа в ровную поленницу мелко нарезанных конечностей, подобной тем, что я видел на окраинах Венского леса. Но потом, стоя над грудой разбросанных по земле дров и держа в руке орудие убийства, я вдруг вспоминаю, что в прошлом году уже зарубил этого чудака и закопал его тело в лесу, под раскидистым старым дубом. Теперь в том месте, где останки соседа питают плодородную почву планеты, образуя симбиотическую связь с корневой системой дерева, появилось много трюфелей, создавших, в свою очередь, микоризу[455] звена в общей цепочке вечного двигателя экосистемы. А благодарная мне природа заблагоухала умиротворением завершившейся битвы…
Вот в это самое мгновение я и просыпаюсь по-настоящему!
4
Сегодня 28.09.2013.
Очень скоро ты, читающий эту историю (спустя пятьдесят или сто лет), будешь воспринимать рассказанное здесь как что-то далекое и фантазийное. Как что-то доисторическо-коммунистическое, что не позволяло оторвать хвост своего мышления и встать на задние лапы Обезьяне[456], попавшей в трану дремучего заблуждения. Ты станешь улыбаться, натыкаясь на методы лечения того, что и в твое время сохранит прежние формулировки дуалистической[457] нематериальной субстанции сущности человека. Ты позеленеешь от скуки, слушая детскую болтовню, и будешь бороться с зевотой. Ты проклянешь день и час, когда купил эту рукопись, и не захочешь дойти до финала. Ты…
Мульт: Ну и черт с тобой, дорогой читатель!
Я: Черт с тобой, потому что, только когда человечество покинет этот мир, завершив создание виртуальной юдоли, и обездвижется, продав тело разуму, только тогда ты поймешь, что Господь создал примата, а дьявол наделил его сознанием. Сознанием, не подвластным телу и порабощенным им. Но будет уже поздно. Поздно, потому что ты, сознание, уже лишишься плаценты тела, о которой я буду сейчас рассказывать.
Сегодня
Сегодня я первый раз затопил камин – прямо сейчас. Загорелся быстро, без дыма. А еще – сегодня день рождения моего брата Валеры. Я поздравил его по телефону, но в гости не поехал. Книгу пишу, да и далековато. Тысяча километров русских дорог – это, скажу вам, не американские горки. Посерьезнее аттракцион. Старею… Нервы, увы, ни к черту, и память туда же… Чуть не забыл! Еще сегодня днюха моего товарища – Жака. Как раз сейчас Таркан в скайпе просил номер его мобильника, чтобы поздравить и пожелать ему то же самое, что в свое время пожелал Жак.
Но это все сейчас, а тогда – почти сорок лет назад…
5
На пустынной горе, за высоким забором стоит зарешеченное здание, из которого открывается вид на Волгу. Тот самый вид, о котором мечтает любой волгоградец и волгоградка, пока их не обнесли оградкой. А если и не мечтают, то все равно думают, потому что с видом – дороже.
Эта картина еще не испорчена новыми постройками. Еще не возведены Волгоградский государственный университет, Областной клинический перинатальный центр, Областной кардиологический центр. И покой одиноко стоящей больницы не нарушают суета и шум расползающегося по берегу Волги города.
Больница одиноко таращится глазами своих окон на безлюдный пейзаж склона, и ничто не вмешивается в процедуру лечения аномальных душ, слетающихся сюда со всего света в последний лунный день летнего месяца – тридцать первого июня[458], чтобы, встретившись, вспомнить все…
После долгой тряски в автобусе мы с мамой выходим на безлюдной остановке и начинаем подниматься в гору. Она устало и расстроенно о чем-то думает. Взгляд напряженный, сосредоточенный.
Чёт или нечёт? – догадываюсь я по ее грустному выражению лица и понимаю: сегодня чёт… Но ведь сегодня такой хороший день. Лето! Каникулы! Зачем грустить? Зачем осложнять и толкать его в пропасть? Ведь пропасть не спасает. Она не дает, а забирает, потому что – сестра бездны, которая поглотит всех, когда придет время.
Зачем?
Да просто так – потому что бездна!
Но пока это всего лишь пропасть, которую мне прописал доктор. Ему дано судить о здоровье души, которой он сам лишен, иначе понимал бы, что душа – не тело, в больнице не вылечишь. Особенно если она не болит.
Мульт: «И раз сапоги не болезнь, то почему душа – болезнь?»[459].
Мы подходим к синим железным воротам и нажимаем на кнопку звонка. Из будки выходит сторож:
– Куда?
– В приемный покой, – отвечает мама.
– Какое отделение?
– Детское.
– Тогда туда.
Сторож взмахивает рукой, пропуская нас на территорию больницы.
– Вон в ту дверь, – добавляет он.
Мы идем в указанном направлении по асфальтированной дорожке, по краям которой растет зеленая трава, пряча в своих зарослях несметные полчища муравьев, подверженных коллективной бессознательной деятельности, и заходим в здание.
После яркого солнца, провожающего меня до двери, в маленьком холле сумрачно. Справа находится регистратура. Прямо – раздевалка. Слева – решетка, и за ней дверь. Мама подает документы в распахнувшееся после стука окошко, и, проглотив историю моей болезни, регистратура отрыгивает безмолвие.
Стоим, ждем… Стены вокруг зеленые. Затем, до потолка, идет побелка. Кое-где видны трещины. На углах паутина. В зелени чувствуется искусственность, ненастоящность. Решетка, за которой прячется металлическая белая дверь (с закрытым окошком в центре), расползлась в стороны, захватив часть пространства железными прутьями. Прутья тянутся вверх. Но до неба не достают. Там рай.
Справа на стуле сидит женщина. Видимо, тоже кого-то ждет.
Мысли тревожно бегают по нейронам. Хотят спрятаться. Ищут место.
Безнадега. Мы в западне.
Вышедшая навстречу врач берет направление и просматривает его. Закончив знакомство с прейскурантом болезни, она предлагает нам попрощаться, так как дальнейшее присутствие родителей здесь не приветствуется. С режущей болью в сердце и плохими предчувствиями я прощаюсь с мамой и, схватив ее за шею, не отпускаю от себя. Мама – в который раз – повторяет, что это только на две недели. Врач помогает нам разделиться и уводит Давида за железную дверь, которая захлопывает за ним счастливое детство летних каникул.
Меня раздевают. В одних трусах я вхожу в палату. Следом шествует медсестра. В руках у нее больничная пижама. От брезгливости по телу дрожь. Пупырышки рассыпаются, как жемчужины.
– Ты что, замерз? – задает медичка вопрос и, как любопытная обезьянка, внимательно осматривает Давида в поисках лишаев и других грибковых заболеваний.
Брезгливость растет, как снежный ком. Уже не в силах сдержаться, я сжимаю зубы и прожигаю взглядом в животе врачихи большую сквозную дыру. Мне видны ее внутренности. Их оголившиеся конечности съеживаются, прячутся от лучей моих глаз в тело. Если бы не отвращение, я протянул бы руку и вырвал ей что-нибудь. Но они – слизкие, обугленные, внутренние.
Не обнаружив на коже ничего интересного, медсестра приступает к голове.
– Голову нужно начинать лечить с блох, – замечает она с сосредоточенной задумчивостью и продолжает осмотр. Пальцы холодные, чужие, ядовитые.
– Лишаи или вши были?
– Нет! – резко отвечаю я.
– А что это мы такие возбужденные? – киношно изумляется медсестра.
Прижав подбородок к груди, молчу. Она бесцеремонно просовывает свои костлявые пальцы под мой подбородок и с силой поднимает его.
– Я задала тебе вопрос! Отвечай!
Отшатнувшись, возвращаю челюсть на прежнее место и вдруг понимаю, что это – началось!..
Схлопнувшись, ком отвращения исчез, уступив место ярости. Волчица замерла… Чует опасность… Насторожилась, приготовившись к схватке. Ждет повода. Я еще не догадываюсь об этом, но природный инстинкт и осторожность, доставшаяся от деда, подсказывают – таись, внук! Таись! Ты в танке!
Мое тело трансформируется, готовясь к бою.
Широчайшие и трапециевидные мышцы спины набухают, расползаются, пряча под себя затылочную кость, и заполняют пространство вокруг позвоночника. Кожа покрывается чешуйками кольчуги. Прямые мышцы живота, скрежеща и постанывая, стягиваются стальными тросами и заворачивают корпус вниз. Плечи выдвигаются, поддаваясь пронированию большой грудной мышцы, и группируются вокруг шеи. Подбородок (подобно крабьему) превращается в челюстегрудь. Туловище наклоняется в сторону противника. Кулаки разжаты. Когти выпущены. Пульс: «Тик-так, тик-так, тик-так…»
Голова тяжелая, чугунная. Горло дрожит, сдерживая бычий рев. Пространство вокруг шатается, пытаясь выскользнуть до начала. Но выхода нет. Мы в западне. Я – в танке. Волчица – в белом халате. Глаза в глаза – стоим, прицениваемся к потерям.
Она – холодная, как сталь, пылает лезвием взгляда, пытаясь отбросить меня назад. Покорить. Но мои ноги уже нашли в полу трещины и проросли в землю корнями, готовыми выдержать столкновение с пароходом. Он гудит, плещет волной, проплывая за окном мимо больницы по великой русской реке Волге.
Ждем.
Секунда… вторая… третья… четвертая… пятая… шестая… седьмая…
Вдруг вижу – начала гаснуть. Подернулась инеем высокомерия. Но я знаю – струсила. Моя взяла.
– Понятно… – говорит она. – Ну, ничего, это мы вылечим!
Чувствую тревожную гордость от легкости победы. Когти возвращаются в пазлы пальцев, сверкнув на прощание титановыми наконечниками. Проксимальные валики защелкиваются, выдвигая на прежнее место роговые пластины ногтей.
Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш… Щелк! – шшш…
Ноги расслабляются, втягивая корни и снимая напряжение с планеты. Стою…
– По ночам писаешься?
Молчу.
– Молчание означает – да!
Безразличен.
– Так, может, ты еще и какаешься? – произносит она, окатив меня ледяными струями раздраженного взгляда.
Ее капли стекают по моему лицу, покрываясь коркой ледяного презрения. Чтобы сдержать озноб тела, складываю руки на груди и, подняв подбородок вверх, дерзко смотрю ей в глаза – Карбышев![460]
– Значит, какаешься, – делает, вывод медсестра. – Выносить какашки будешь сам! Понял?
Смеюсь молча. Беззвучно. Разве осилить – такую – восьмилетнему мальчику? Пусть катится колбаской по малой Спасской – сама!..
Но она стоит, требуя ответа, и накаляет приступ собственного ожидания так, что склера и роговицы моих глаз запотевают от простирающегося из нее духа. Призрак в белом халате маячит в клубах зловония, то растворяясь в образах происходящих перемен, то экспонируясь в видимое излучение собственной галлюцинацией миража. Больница пропитана ее запахом. Стены хотят откашляться но, боясь рассыпаться, терпят смрад внутренностей строения, впитывая свежий воздух через крохотные поры форточек.
– Я не слышу ответа на мой вопрос! Ты меня понял?! – надрывается медсестра.
Это крик поражения. Крик досады. Проиграла… Отражаясь в моих глазах, видит свою смехотворность и бесится от этого еще больше.
– Не хочешь разговаривать? Так и запишем: глухонемой! А раз глухонемой, положим тебя в палату с глухонемыми!
Сарказмирую мысленно: будем играть в города…
– И запомни, что твое выздоровление зависит как раз от того, как скоро ты научишься говорить! – подытоживает врач.
От прозвеневшего слова «выздоровление» больница выгибается крышей в небо и, провалив спазм отвращения, принимает прежнюю форму.
Анализирую: две недели, я потерплю…
– Мать заберет тебя отсюда, если это разрешит сделать доктор Алевтина Адриановна! А доктор разрешит это сделать только после твоего полного выздоровления. Пока же я вижу, что ты болен, и болен очень серьезно!
Киваю – говори-говори. Мама сказала – мама сделает, потому что знает – терпеть не буду.
– На, одевай! – кидает больничную робу. – Это твоя койка. Запомнил?
Молчу.
– Геееррасим! – бросает с досадой медсестра и эвакуирует свое тело с поля боя.
С прогулки возвращаются ребята. Первым подходит белобрысый пацан:
– Новенький?
– Угу.
– Как зовут?
– Давид. А тебя как?
– Лешка. Тебе сколько лет?
– Восемь. А тебе?
– Мне десять. Ты с медсестрой лучше не спорь! Она у нас того, – крутит пальцем у виска, – психанутая!
Я показушно отмахиваюсь:
– Кроме мамы, я вообще никого никогда не слушал и слушаться не собираюсь.
Лешка информирует:
– Эта шиза может накачать тебя сульфозином[461] и сделать жесткое пеленание. Тогда ты будешь слушаться даже глухонемых!
Все смеются. Пропустив мимо ушей угрозы, я заливаюсь вместе с лучами солнца, пробивающимися в нашу палату сквозь стальные решетки правосудия.
Лешка:
– А за что тебя положили?
– Не знаю. За школу, наверное.
– Голову пробил учителю?
Я смотрю на него, стараясь понять, шутит он или говорит всерьез. Но лицо мальчика не выдает никакого подвоха. Понимаю – есть и такие. Отвечаю:
– Да нет. Просто не учился и в футбол играл.
– За это не кладут.
Вспыхиваю:
– Я совсем не учился!
– А что же ты делал?
– Приходил, садился за парту и рисовал на рубашке впереди сидящего одноклассника. Он жаловался учительнице, и та либо выгоняла меня из класса, либо ставила в угол рядом с доской. Если меня ставили в угол, я строил рожи и делал вот так, – показываю Лешке, как строил рожи, и тот начинает хохотать. Вместе с ним посмеивается подросток, лежащий в углу палаты.
Поймав волну вдохновения, я продолжаю дурачиться. Теперь уже вслед за подростком гогочет его сосед. Вскоре к ним подключается дебиловатый паренек с отвислой губой и телом орангутанга. Он выказывает свое возбуждение резкими гортанными звуками. При этом Дебил почему-то смотрит не на меня, а на подростка. Он хлопает руками по кровати, раскачивается из стороны в сторону и мычит. Я передразниваю его. Все ржут.
– А еще я делал так!
Засунув ладонь под мышку и резко прижав руку к туловищу, я издаю характерный звук и одновременно со звуком приседаю на корточки.
Рядом с Дебилом на кровать садится мальчик с печальным лицом Пьеро и молча следит за моей клоунадой. Закончив выступление, я продолжаю рассказывать историю своей болезни:
– В общем, весь класс смотрел только в мою сторону, и в конце концов меня все равно выгоняли.
Лешка интересуется:
– И что, ты шел домой?
– Не-а! В соседнем дворе есть футбольная площадка. Вот туда я и шел. Если на площадке никого не оказывалось, я отправлялся кататься на лифте. У нас рядом со школой стоит новый дом, и в каждом подъезде есть лифт!
Обращаюсь к Лешке:
– Ты катался на лифте?
– Два раза.
Продолжаю с гордостью:
– Иногда я лазал на крышу и гулял там, наблюдая за людьми с высоты десятого этажа.
Интересуюсь у Леши:
– Ты залезал на крышу десятиэтажного дома?
– Нет… Я в частном секторе живу.
– Знаешь, как оттуда далеко видно! Все улицы города! Волгу! Мост! Цирк! Косу! Рынок! Все видно!
Лешка смущенно молчит. Я продолжаю зарабатывать авторитет:
– А знаешь, какие маленькие сверху люди?
– Да ладно врать! Как они могут быть маленькими?
– А так – как птицы! Сверху люди становятся меньше в сто раз!
– Да ты брехун! – взрывается сосед.
– Сам ты брехун! Они такие маленькие, что я даже яйцами не мог в них попасть!
– Ты что, дурак, кидаться в людей яйцами? – ржет Лешка.
– А ты как думал? – смеюсь я.
– Поэтому тебя и положили сюда! – заливается мальчик.
– А тебя положили, потому что ты два раза дурак!
– От дурака и слышу! – приседает он от смеха.
– С дураком и разговариваю! – не отстаю я.
– А раз ты с дураком разговариваешь, значит, сам дурак!
– Дуракам отвечают только дураки!
– Дурак дураку сказал ку-ку, фигу показал, палец облизал! – не сдается Лешка.
– Дураки не мы, прокричали грачи у берегов Невы, а наши врачи! – ошарашиваю я всех каламбуром.
Сев на кровать и обняв подушку, Леха хохочет. Остальные ребята смеются вместе с нами.
Успокаиваюсь… Вроде не страшно. Жить можно…
– А где ты яйца брал? – интересуется Леша.
– На чердаке. Голубиные.
В палату заходит медсестра, закатывая перед собой медицинский столик. На столике разложены порошки и таблетки. Рядом с пилюлями стоят маленькие пластмассовые стаканчики, до половины наполненные водой. Она останавливается посередине палаты и выдает всем по списку лекарства. Дети приближаются к ней, кладут таблетки в рот и запивают водой.
После приема лекарства каждый открывает рот и, вытащив язык, говорит медсестре:
– Ээээээ!
Она обращается ко мне:
– Новенький, это твои лекарства.
Я подхожу.
– Выпей и покажи язык.
Медсестра дает таблетки. Взяв стакан, я кладу лекарства в рот, запиваю их водой и проглатываю.
– Язык!
Он у меня розовый, шершавый, слюнявый и гибкий, какой и должен быть у здорового ребенка.
– Зачем вам язык? – спрашиваю я.
– Показывай!
Я показываю.
Когда она уходит, Лешка достает из-за щеки таблетку и несет ее старшему в палате пацану. Тот выплевывает еще две. Они хвастаются, у кого больше пилюль скопилось за неделю.
«Ну и развлекуха», – думаю я.
– У меня пять! – гордо объявляет Лешка.
Подросток, с ухмылочкой:
– Салага! У меня восемь! Ну, а ты, Тихоня, сколько? – поворачивается он к мальчику, с внешностью Пьеро.
Тихоня чуть слышно отзывается:
– Две.
Подросток:
– Тихоня, заканчивай лопать таблетки! Совсем разговаривать разучишься!
Обращается к Лешке:
– Проиграл. Твоя очередь! – командует он, отдавая все таблетки Лешке. Лешка зажимает их в кулак и идет к двери. Остановившись у входа, он некоторое время осторожно выглядывает в коридор и убегает.
Подросток смотрит на меня:
– Чего рот разинул? Таблетки он пошел в туалет выкидывать. Ты первый раз здесь?
– Да, – отвечаю я.
– А я третий! Зови меня дядя Витя! Понял?
– Понял.
– Не бойся! Если не будешь ябедничать, все будет хорошо.
– Я не ябеда.
В это время в коридоре раздается шум, и в палату вводят Леху. Большой, лохматый санитар крепко держит мальчика за ухо. С пунцовым от боли лицом Леха не то висит, не то стоит на цыпочках. Санитар приподнимает его еще выше, и Леха касается пола только большими пальцами ног. В этой стойке он напоминает мне танцора из одесского балета. Санитар накручивает ухо на лебедку своего толстого, как рог у барана, пальца и пытается выдавить из Лешки признание:
– Ну? Говори, чьи еще таблетки выкидывать собирался?
– Ничьи! Нашел я их под раковиной! – воет Леша.
– Не ври! – продолжает медбрат.
На шум приходит медсестра.
– Что случилось, Степаныч?
– Таблетки хотел выкинуть, заррраза!
Медсестра засовывает руки в карманы белого халата и сквозь накрахмаленную ткань видно, как ее кисти сжимаются в кулаки. Глаза проникают мальчику в голову и начинают анализировать мышление ребенка, пытаясь разобраться в скоплении чувств, впечатлений и желаний. Но, запутавшись в этом бардаке, вылезают наружу и приклеиваются к Лешкиным зрачкам, надеясь считывать информацию с них. Информация скачивается отрывочными файлами, так большая часть глазных дисков залита слезами. Тогда она обращается к Леше напрямую, выговаривая каждое слово нарочито внятно и делая между ними паузы.
– Леша… Чьи… Это… Были… Таблетки…
– Под раковиной я их нашел! – пищит тот, пытаясь все время зависать в воздухе. Это у него получается плохо, и рука санитара постепенно поднимается все выше и выше.
Степаныч, недовольный эластичными свойствами уха, рычит:
– Вррееет он! В кармане они у него, в кулаке были! – И приподнимает Лешку за ухо, но тот опять растягивается, окончательно подрывая авторитет садиста.
Медсестра пробегает по верхней губе язычком и беззвучным голосом шипит:
– Леша, или скажешь правду, или получишь пеленание.
– В туалете я их нашел! – вопит мальчик.
Степаныч снова подвешивает больного, затем опускает его на пол и тут же вздергивает вновь, приговаривая при этом:
– Привык, сволочь, к боли! Натренировался!
Медсестра втягивает шею в халат, и ее глаза подергиваются голубоватой пеленой.
– Анатолий Степанович, привяжите его к кровати.
Продолжая взвешивать Лешкино тело и ухмыляясь в щетину правым уголком пухлых губ, Степаныч сипло протягивает:
– Может, жесткое сделать?
Повернувшись к двери, медсестра змейкой ускользает в коридор, бросая напоследок неожиданно резко:
– Нет! Только привяжи. Алевтина Адриановна сама решит, как с ним поступить.
Степаныч подводит Леху к кровати, и тот, облегченно вздохнув, ложится, размазывая тыльной стороной ладони по щекам слезы. Санитар достает из карманов халата бинты из плотного материала, и привязывает к кровати сначала руки, а потом ноги провинившегося подростка. Делает он это с любовью, не отрывая глаз от материи, которая ложится ровными стяжками, как изолента на лапту новенькой клюшки, регистрируя тело непослушного ребенка в необходимой для лечения позе.
Закончив пеленание, наставляет:
– Ну вот, полежи, подумай. А то как бы тебе Алевтина Андриановна укол не выписала. – Затем обращается к остальным: – А вас, умники, если поймаю с таблетками, свяжу широким бинтом!
После чего уходит.
Витек тут же вскакивает и подбегает к Лехе.
– Молодец, Лешка! Не сдал!
Лешка вздыхает:
– Эхх! – покурить бы.
Витек смеется, похлопывая товарища по худощавому плечу.
– Покуришь, когда выпишут.
Вдруг Лешка сникает. Витек, заметив перемену, пытается поддержать друга:
– Боишься?
Леха кивает, и на его глазах вновь появляются слезы.
– Витек, если Адрияга выпишет сульфозин, я могу расколоться, – бормочет он.
Витек взмахивает головой, как бы отгоняя дурные мысли.
– Не бойся! Не выпишет! Андриановна сегодня добрая! Я ее утром видел.
Лешка всхлипывает:
– Для тебя она, может, и добрая, а меня ненавидит. Прошлый раз после прогулки Адрияга без всякого предупреждения укол впорола.
Витек:
– А чё ты вцепился тогда в эту сетку, как ненормальный? Гулял бы себе и гулял. Какого хлеба тебя к забору потянуло?
Лешка прерывисто вздыхает, подавляя рыдания.
– Не знаю. Переклинило что-то… Домой вдруг так захотелось… Мать уже вторую неделю не показывается. Я тут совсем дураком стану, если Адрияга возьмется за меня по-настоящему.
Витек дружелюбно передразнивает:
– Домой ему захотелось… Степаныч пижаму на тебе разорвал, пока от сетки оттаскивал! Да ты еще не видел, как наш Дебил возбудился, глядя на тебя со Степанычем.
Витька поворачивается к мальчику, которого я передразнивал, изображая обезьяну. Крупный подросток с неспокойным взглядом безучастно смотрит в пол.
– Ну-ка, Федя, изобрази бабуина!
Дебил многократно кивает, после чего вскакивает на койку, улюлюкая и хлопая себя по животу. Мы смеемся.
– А хвостом, хвостом, как ты умеешь? – не унимается Витька.
Взявшись руками за грядушку кровати, Дебил крутит задом, показывая движения воображаемого хвоста, и прыгает на пружинящей сетке.
Витек продолжает:
– Степаныч не знал, к кому вперед бежать, к тебе или к Дебилу.
Лешка не очень-то радуется представлению и шепчет:
– В туалет охота.
– Ты ж только что там был? – удивляется Витек.
– Ни фига я там не был! – огрызается Леша. – Я когда к туалету стал подходить, Степаныч из сестринской комнаты вынырнул и сразу ко мне. Я зашел в туалет и стою, воду пью из-под крана. Думал, он отольет и уйдет. А он заправил своего змееныша в штаны и говорит: «А ну-ка, Леша, выверни карманы!»
Витек проводит ладонью по затылку:
– Вот сволочь! Все чует!
Лешка слезно просит:
– Витек, позови сестру или врача, чтобы меня отвязали, а то не удержусь – напущу лужу.
Витек остается на месте:
– Ты же знаешь, так быстро тебя не отвяжут. Терпи!
Лешка жмурит глаза:
– Да не могу я терпеть. Я и правда в туалет хотел, а мне там воду пришлось пить!
Витек качает головой:
– Неее, Леха, я просить не пойду. У меня два предупреждения. Если получу третье, мне Адрияга еще месяц добавит. Терпи.
Лешка безмолвно плачет:
– Да не вытерплю я долго. Все равно придется идти звать. Тихоня, сходи ты, – обращается Лешка к молчаливому пареньку, сидящему на кровати рядом с Витей. Тот ложится на койку и кладет на голову подушку.
Я подхожу к пацанам:
– А хочешь, я тебя развяжу? – предлагаю я свою помощь.
Витька чешет затылок и отвечает за Лешку:
– А чё? Пусть развяжет. Ему на первый раз простят. Развязывай!
Улыбка вспыхивает на моем лице, и я начинаю распутывать узел. Лешка подсказывает, где нужно ослабить бинт:
– Узлы не развязывай до конца. Только ослабь, чтобы я мог высунуть руки и ноги, а когда вернусь, затянешь все, как было.
Вынув правую руку из петли, Леха помогает распускать узел, поучая при этом:
– Я потом сам примотаюсь. Ты мне только последнюю руку поможешь завязать, – объясняет он.
Освободив левую кисть, я переключаюсь на ногу, Лешка занимается другой конечностью. Когда одна его нога оказывается на свободе, в палату входит врач, Алевтина Адриановна. Витек шарахается на свою кровать. Я остаюсь на месте с бинтом в руках. Леха с тяжелым вздохом ложится на спину.
Врачиха обращается ко мне:
– Только прибыл и уже нарушаешь?..
Молчу.
Кричит в коридор:
– Антон Степанович, быстро сюда!
Леха, слезно:
– Алевтина Адриановна, я в туалет хотел сбегать.
Прибегает Степаныч. Увидев развязавшегося пациента, выкатывает из орбит глаза:
– Ах, ты еще и развязываешься без разрешения?
Леха снова скулит:
– Я в туалет хочу.
В палату входит медсестра. Врачиха обращается к ней:
– Маргарита Юрьевна, приготовьте два миллиграмма сульфозина и широкий бинт для пеленания.
– Холодный будете делать укол или горячий? – интересуется подчиненная.
– Не будем терять время на пустяки, – произносит доктор, – уколем холодный.
У Лешки начинают капать слезы. Но это длится недолго – одно мгновение, после чего они льются ручьем. Я вижу, что его трясет. Захлебываясь соплями, он делает движение к привязанной ноге, пытаясь ее освободить.
Врачиха командует:
– Не дайте ему развязаться, Антон Степанович!
Одной рукой Степаныч без труда разгибает сопротивляющегося Леху и прижимает его к кровати.
– Ну вот, доигрался, субчик! Сейчас тебя успокоят, – бормочет санитар, наваливаясь на вырывающегося мальчика и снова привязывая его.
– Не дергайся, только хуже сделаешь, – шепчет он.
Приходит медсестра со шприцем в руках. Вдвоем они скручивают подростка и приматывают его к кровати широким бинтом. На ягодице санитар оставляет щель для укола.
Врачиха командует:
– Лежи спокойно, кому говорят, а то иголку сломаешь! Сломаешь – придется резать, – пугает она все еще извивающегося под бинтами Лешку.
После укола врач пристально смотрит мне в глаза и о чем-то размышляет. Видимо, приняв для себя какое-то решение, она поворачивается к выходу но, дойдя до двери, останавливается, возвращая лицо в палату. Ее глаза устремляются на меня. Грудь вздымается и, замерев в наивысшей точке, оседает, изменяя давление кислорода в легких. Увеличиваясь, интенсивность атмосферного потока воздуха попадает на голосовые связки женщины и вынуждает их создавать звуковые колебания. Складки растягиваются, меняя свою толщину, и возросшее движение струи углекислого газа порождает звук.
– Вот видишь, – обращается она ко мне. – Теперь Леша будет из-за тебя страдать. Если еще раз подобное повторится, будешь привязан, как он!
Командный, рубленый голос звучит отрывисто.
– А пока… сделайте ему, Анатолий Степанович, легкое пеленание.
Санитар достает из кармана бинты и привязывает к кровати мои руки. Пораженный происходящим, я подчиняюсь, чувствуя, как атмосфера бессилия, царящая в этих стенах, завладевает моими клетками. Рядом скулит Лешка.
Степаныч докладывает:
– Готово!
Глядя в сторону Вити, Алевтина Адриановна произносит:
– Если кто-то захочет еще раз развязать Лешу, его ждет та же участь!
Она обводит испытующим взглядом серые подушки с вмятинами детских лиц, на которых зияют впадины испуганных глаз, и, удовлетворенная осмотром, заканчивает начатую мысль:
– До прогулки никому с постели не вставать! И заглядывайте сюда почаще, Антон Степанович.
Степаныч кивает большим римским бивнем, выпирающим у него из центральной части щетинистого лица, и подобострастно отвечает:
– Обязательно, Алевтина Адриановна! Обязааательно! – после чего все уходят.
Витек, не вставая с кровати, шепчет:
– Лешка, ты как?
Лешка всхлипывает. Под его кроватью журчит струя. Витек злобно шипит:
– Вот крыса!
Все молчат. Проходит минута, за ней вторая… Ничто не меняется.
Кружа по палате, время снижает скорость и, зацепившись за тумбочку шлейфом необратимости, тянется, как резина. Тишина расползается от потолка к полу и, напрягаясь изо всех сил, держит в своих объятьях захваченную территорию. Кто-то идет по коридору. Цоканье каблучков выдает волчицу. Им не страшно. Они под защитой… В соседней палате возня и шум. Детский крик выбегает в коридор и, ударившись о противоположную стену, направляется в сторону туалета. Каблучки цокают за ним. Цок-цокх, цок-цокх – хромают… Возможно, мозоль… Шум отдаляется и стихает. Лешка тяжело дышит. Его голова, словно бабушкина скалка во время приготовления коржей, перекатывается слева направо и назад. От непрерывной работы она становится мокрой. Подушка впитывает пот и, отсыревая, образует темный ореол вокруг светлого лика мальчика.
Я вспоминаю, что моя голова тоже всегда горячая. Даже зимой она кипит, как самовар, и, как термос, держит температуру, не выпуская из оттопыренных ушей пар. Мама часто волнуется по этому поводу. Старается ее остудить. При каждом удобном случае снимает шапку и возмущается, разлохмачивая мои волосы на проветривание:
– Что же это за наказание такое?
И так в любое время года. А сейчас лето. Июнь. За окном – решетки, а за решетками – жара…
Чувствую, как по лбу стекают капли, испаряясь на полпути.
На окне две мухи: ползают, ползают, потом отлетают и, разогнавшись, бьются о прозрачность, не в силах разбить стекло или покончить с собой. Правая жужжит эвтаназией, левая – суицидом. Их звуки сливаются и призывают Азраила[462]. Он медлит, хочет войти, но, не найдя повода для работы, отправляется в другое место…
Лежу. Смотрю вверх.
Потолок – высоко-высоко. Белый, как рай на небесах. В коридоре кто-то напевает: «Тут я постиг, что всякая страна на небе – Рай, хоть в разной мере… хоть в разной мере…»[463].
Но конца меры не видно. Неба тоже нет. Только побелка. Паутинки тонких трещин расползаются по сторонам, образуя бессмысленный узор. Можно попробовать его осмыслить, но – жара… Июнь…
Солнце – мой друг – потеряло Давида из виду и теперь врубилось на полную мощь, заливая собой все закоулки мира. Я люблю его, но летом…
Слышится Лешкин стон. Витек приподнимается и, отворачивая лицо к стене, что-то шепчет себе под нос. В раздраженном бормотании подростка слова проглатываются, путаются друг о друга, и только одно звучит почти целиком – Оксана…
Но, поднимаясь над кроватью, вторая буква девичьего имени, ударяется о металлическую грядушку и падает на пол, оставляя покалеченную Осанну…[464]
Горячий воздух застревает в горле. Высушивает его. Стены плавятся, стекают на пол. Под штукатуркой открываются фрески битвы: ржание лошадей, крики воинов, дрожь моста – все тонет в безмолвии палаты. Краски блекнут, осыпаются, и опять – штукатурка…[465]
Намотавшись на тумбочку, обессиленное время замирает в тени кровати. Остановилось… Не тикает…
В комнату заглядывает санитар:
– Лежите, субчики?
Исчезает.
Лешка дышит, но сил уже нет. Широкие бинты, стянувшие грудь, сдерживают, не дают набрать полные легкие воздуха. Лишь по чуть-чуть… чтобы не умер… а только мучился…
Бинты проходят по груди, потом огибают металлический уголок, на котором держится сетка, и опять: грудь – уголок – грудь – уголок – живот – уголок – живот – уголок – пах – уголок. Ноги разводятся в стороны и привязываются к уголкам. Распятие закончено. Но Господу не до него…
Слышится шепот Мульта: Или, Или! Лама савахфани?[466]
– Леша, а нас скоро развяжут?
Он молчит.
У меня примотаны только руки. Могу шевелить ногами, сгибать их. Это большой плюс. Но главное – могу дышать.
– Ты чего стонешь, тебе плохо? – не оставляю я попыток отвлечь мальчика.
Не отвечает… Затем, наклонив голову, блюет на подушку. Облизав языком пересохшие губы, шепчет:
– Сволочь.
Пауза. Думаю…
Ощущая свою вину за произошедшее, понимаю, что нужно как-то помочь. Но, боясь повторения ошибки, помалкиваю.
Витек, встав с кровати, подходит к Лешке, берет полотенце и вытирает ему лицо.
– Терпи, скоро должны развязать, – уходит на место.
Я продолжаю:
– Лешка, а у тебя есть брат или сестра?
Шепчет:
– Сестра, – плачет.
– А у меня нет.
Молчу…
– А сколько раз здесь выводят гулять?
Плачет.
– Лешка, ну, не плачь! У тебя что-то болит?
– Все болит.
Думаю: как это – все?..
– А хочешь, я расскажу тебе, как катался на плотах?
Не откликается…
Проходит одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь минут – сна нет. Наволочка совсем промокла. Лоб и шея чешутся, но руки привязаны – не почесать.
Лешка стонет. Заунывно, протяжно, как колесо телеги, на которой в наш двор приезжал цыган, чтобы обменять игрушки на старую одежду. Мы бежали к нему всем двором, желая потрогать лошадь. Погладить ее шею. Посмотреть в большие черные глаза. Она – гладкая, теплая, живая. Стоит, переминаясь с ноги на ногу. Машет хвостом, принимая ласки и вздрагивая от наших прикосновений. Копыта костяные, облезлые. Истоптанные…
– Леша, ты когда-нибудь плавал на плоту? – предпринимаю я очередную попытку.
Не отвечает.
– Ну, ладно, не хочешь, не отвечай.
Лежу, размышляю, чем еще его можно отвлечь.
– Леша, когда нас развяжут, я покажу тебе свои шрамы. У тебя есть шрамы?
Тишина…
Еще дышит, но уже с трудом. Бинты, как камни, как запертая дверь, – держат грудь, не дают набрать воздуха…
– Знаешь, Лешка, недавно мама решила, что школьную форму я должен стирать сам. И теперь я стараюсь ее не пачкать.
Открывает глаза, смотрит на потолок и, скорчив гримасу боли, закрывает опять.
– Леша, а ты сам стираешь форму? Или мама?
Молчит…
Я вздыхаю, вспомнив тазик с хозяйственным мылом и грязную штанину своих брюк. Материал грубый, мокрый. Отстирываться не хочет. Сгибаться и тереться себя об себя – тоже не желает. Ногти впиваются в плотную ткань и неприятно шатаются во время трения материи.
– Я не люблю стирать форму. Сильно не люблю!
С кровати встает Дебил и уходит.
– В туалет пошел, – информирует Витек. – Ему можно. У дураков здесь больше прав.
Одна из мух, почуяв аромат пищи, подлетает к Лешкиной подушке и приземляется на ее край. Оглядевшись вокруг себя огромными внимательными глазами, начинает передвигаться отрывистыми движениями неврастеника. Подобравшись к Лешкиной голове, она слизывает своим хоботком наиболее вкусные, на ее взгляд, кусочки блевотины и, предварительно растворив их в своей слюне, съедает. Вдруг замерла. Видно, второпях проглотила что-то несъедобное. Чистит хоботок. Затем затылок. И, уже не в силах прервать чесоточный экстаз, переходит на крылья но, испугавшись Лешкиного выдоха, улетает.
Возвращается Дебил и ложится на кровать. Его кровать у окна. Моя слева от двери, потом Лешкина, за ней кровать Тихони. Витя лежит у стены. Рядом с ним глухонемой.
Появляется Степаныч. Приближается к Лешке и, одобрительно бормоча, начинает его развязывать:
– Ну что, успокоился?
Снимает широкий бинт с груди мальчика:
– Э-ээх! На бинт-то зачем наблевал?
Развязав, добавляет:
– Ну, вот-те раз, еще и лужу напустил!
Закончив, санитар уходит, бросая на прощание мне:
– А ты пока, субчик, полежи. В первый же день пеленание схлопотал, орел!
Леша залезает под простыню и, скрючившись, скрежещет зубами.
– Лешка, тебе плохо? Ну, Леша, ну чего ты все время молчишь?
Не отвечает.
– Не трогай его. Может, заснет, – говорит Витя.
Интересуюсь:
– А долго будет болеть укол?
– Долго, – отвечает Витек.
– До вечера?
– Да, – и, помедлив, добавляет: – До завтрашнего.
Пытаюсь представить такую длинную боль.
В коридоре голос:
– Выходим на прогулку!
Заглядывает медсестра:
– На прогулку!
Все поднимаются. Витек останавливается у Лешкиной кровати и что-то ему шепчет.
– …о …ле …жу…
Затем отправляется вслед за остальными.
Лежу. Таращусь в потолок. Трещинки на побелке начинают двигаться, складываться в узоры и расплываться в мозаику калейдоскопа. Веки набухают, как весной почки у тополя, и становятся липкими. Засыпаю… Вижу двор.
Пупок с Егором поставили ловушку для голубей, вынесли хлеб и подбрасывают мякиш под ящик. Пупок бросает крошки, а Егор держит веревку. Голуби ближе, ближе. Но под ящик заходить боятся. Пупок кидает кусочки хлеба, стараясь попасть под навес. Один голубь раздувает зоб и обхаживает самочку. Зоб переливается на солнце синими и зеленоватыми цветами, образуя фиолетовые оттенки. Самка голодная, ей бы поесть. Но голубь пристает, волочится, не в силах побороть похоть. Ближе, ближе к западне. Егор не выдерживает и дергает за шнурок. Птица успевает выпорхнуть из-под ящика. Пупок бросается на Егора с упреками:
– Ты чего дергаешь раньше времени? Я тебе говорил дергать? А? А?
Егор оправдывается:
– Да он уже зашел туда.
– Куда – туда? – не отстает Пупок. – Он только наполовину зашел, а нужно целиком!
Вдруг шум. Спросонья вскакиваю, но, рванув за плечи, руки тут же приземляют меня на кровать. Вернувшись с прогулки, в палату вваливаются пацаны. Первым вбегает Витя и сразу идет к Леше:
– Ну, ты чё, живой?
Лешка не реагирует.
– На обед пойдешь?
Продолжает молчать.
– Твоя Оля спрашивала, почему ты не гулял. Я сказал ей, что тебя спеленали и вкололи сульфозин. Она сначала расстроилась, но потом успокоилась и передала привет. Слышь, что ли?
– Ага – всхлипывает Лешка.
Витек продолжает рассказывать новости:
– А Аксану тоже на прогулку не пустили. Оля говорит, что нянечка оставила ее мыть полы в столовке и что они хотят ее выписать.
Появляется медсестра:
– Выходим обедать!
Подходит ко мне:
– Ну что, ты понял, что вмешиваться в лечение других детей нельзя?
Молчу.
– Если врач назначил пеленание, значит, это вынужденная мера, необходимая для вашего же психического равновесия. Усвоил?
Отворачиваю голову.
Показательно вздыхает:
– Ну что ж, не понял. Продолжим лечение.
Уходит.
Возвращается тишина.
Лешка, кажется, заснул. Постанывает во сне. Тихо, еле слышно. Как тот маленький щенок, которого я взял домой, пообещав маме хорошо учиться. Мама сказала, что ему негде у нас жить, но я упрашивал, умолял, уговаривал, и она согласилась с одним условием:
– Как только увижу, что он намочил пол, – унесешь его обратно во двор! Договорились?
– Да! – радостно закричал я и стал ухаживать за щенком, стараясь изо всех сил приучить собаку к чистоплотности. Но запах все же появился, и после двух дней немыслимого счастья от сосуществования с настоящим зверем в одной конуре утром в понедельник мне пришлось вынести его вместе с коробкой.
Я оставил собаку на прежнем месте около арки, над которой по утрам висел Ленкин отец. Щенок совсем не обиделся. Продолжая вилять хвостом, он поглядывал на меня снизу вверх, пока я его гладил. А потом завалился откормленным пузом на подстилку и от удовольствия закрыл глаза.
«Везет же ему!» – подумал я, глядя на беззаботную дворнягу. И, поднявшись с корточек, потопал в школу через улицу Комсомольскую, Советскую и так далее…
Овладев территорией, тишина вновь силится удержать ее в своих объятиях и, фиксируя любые шорохи, вздрагивает от их появления…
Я вспоминаю влажный язык и прохладный нос щенка. Щенок всегда веселый, всегда просит ласки, всегда готов ею делиться…
Подушка неудобно расплющилась под моей головой, и глаза теперь могут смотреть только в потолок. Поднимаю голову, пытаясь затылком собрать подушку в кучу. Получается плохо, но все же это лучше, чем было.
Интересно, что сейчас делают пацаны? Наверное, гоняют в мяч, а утром пойдут на рыбалку… Зеваю так, что в скулах что-то хрустит, а из моей груди вырывается неопределенный звук. Просыпается Лешка. Он лежит на правом боку, лицом ко мне, потому что в левую ягодицу ему сделали укол и переворачиваться теперь больно. Пару мгновений сосед смотрит на меня, пробираясь узкой тропой рассудка сквозь помутневший сумрак разума, и, наконец выбравшись из дремы, припоминает, кто я и что здесь делаю. Откликнувшаяся на пробуждение боль тут же закрывает увлажняющиеся веки ребенка, пряча под них внутренний мир страдальца. Веки дрожат, шевелятся, выдавая движения глазных яблок. По лицу пробегает серая тень и, соскользнув с него, делает по палате круг, возвращаясь к Лешке.
Из его правого глаза просочилась слезинка. Словно березовый сок на срубленной ветке дерева, она выплеснулась в засушливое пространство, но, испугавшись окружающей картины, повисла на реснице, ожидая от своего хозяина душевного наводнения или засушливого мужества.
Отвернув голову от соседа, напеваю песенку, которую иногда поет моя мама, когда протирает в комнате пыль или наводит всеобщий порядок. Я не знаю смысла песни, потому что она состоит из древнерусских слов и фрагментов современного фольклора. Но в ней есть одно слово, и оно так запало мне в душу, что я запомнил весь текст.
Песню пою шепотом, чтобы не потревожить Лешу:
– Эх, получим диплом, хильнем в деревню, Будем Нюшек щипать, их воплям внемля, Ой ты, чува, моя чува, тебя люблю я, За твои трудодни дай расцелую!Мне понравилось слово «хильнем», потому что оно предшествует «деревне» и пахнет яблоками, парным молоком и свободой…
Лешка притих, слушает.
С обеда возвращаются дети. Дебила ведет медсестра. Его пижама чем-то залита, и он монотонно мычит. Медсестра укладывает мальчика на кровать.
– Федя, успокойся! Сейчас я тебе пижаму принесу.
Уходит. Витька приближается к Лешке.
– Хочешь, я расскажу, что натворил за обедом Немой?
Леха молчит. Витек продолжает:
– Когда к нашему столу подошла Адрияга, чтобы проверить, кто как ест, и оперлась о стол, Немой укусил ее за руку! Представляешь? Она оперлась рукой о стол и только раскрыла рот для объявления, а он ка-ак вцепится в нее! Вот была умора!
Витек хлопает ладонью по матрасу и смеется.
– Слышишь, что ль, Лешка? Это он за тебя ей отомстил! Стопудово за тебя! А потом перевернул тарелку супа на этого, – показывает на Дебила, – и погнался по столовке со Степанычем в догонялки играть. Щас он уже в смириловке. Укол и пеленание ему обеспечены. Жалко! Он хоть и глухонемой, а пацан нормальный.
Появляется Степаныч, ведущий под руки глухонемого, одетого в смирительную рубашку. Медбрат укладывает его на кровать, снимает рубашку и привязывает руки к кровати. Витька подсаживается к Немому.
– Ну, чё, герой, связали твои языки? – трогает мальчика за руку.
Лешка поворачивает голову:
– Спроси его, зачем он укусил Ягу?
– Я-то спрошу, да только толку от него, безрукого, никакого.
Витька делает знаки руками, спрашивая что-то у Немого, но тот не реагирует.
– Не-е, Лех. Не реагирует! Похоже, Яга аминазином[467] его успокоила.
Удивленный, я приподнимаюсь.
– А ты, что, умеешь на языке немых разговаривать?
Витек отвечает:
– Я много чего умею.
– А меня научишь?
Витек ухмыляется.
– Задержишься здесь надолго, сам всему научишься.
– Не-е, тогда не надо…
Витек опять возвращается к связанному:
– Ну, ты, Немой, даешь! Тихушник тихушником, а чуть палец Адрияговне не отгрыз.
В разговор вступает Тихоня:
– Витя, а зачем он так поступил?
– Как зачем? Понятно, за Леху мстил! Леха на прошлой неделе помог ему бугая Ваську из соседней палаты отогнать. Вот и он теперь заступился за него.
Тихоня вздыхает:
– Я Ваську боюсь… Он здоровый и совсем-совсем ненормальный.
– Правильно! Его все боятся. Он не то что мы – настоящий дурак! Буйный! Да еще и сильный, черт, уродился. Его и домой-то не больше, чем на месяц, выписывают, а потом опять сюда. Даже Степаныч с ним сюсюкается. Только наш Немой его не боится! Да? – обращается к Немому Витек. – Правда ведь? Не боишься Ваську с соседней палаты?
Немой не реагирует.
Входит медсестра и переодевает испачканную супом кофту Дебила. Затем подходит к Лешке и, потрогав его лоб, ставит градусник. Витек садится ко мне.
– Ну чё, Давид, руки не затекли?
– Да все уже затекло. Когда меня отвяжут?
– Я думаю, скоро отвяжут, если, конечно, Адрияговна про тебя не забудет. Да ты сядь, посиди. Садиться можно. Врач зайдет – ляжешь. Главное – рук из бинтов не вынимай.
Я сажусь.
– Пить хочешь? Могу воды принести.
– Хочу.
– Тихоня, принеси ему воды, – обращается Витек к своему соседу, и тот уходит.
– А чего он все время стонет? – спрашиваю я про Лешку.
– Плохо ему сейчас. После сульфы, знаешь, как хреново! Тело болит. Голова болит. Температурит. Тошнит. Полная задница!
– Понятно, – вздыхаю я.
Витек продолжает:
– Я от уколов никогда не блюю. Сначала блевал, а потом привык.
Тихоня приносит воду и поит меня, как младенца, из рук.
Входит медсестра. В ее руках простынка, пеленка и наволочка. Она проверяет градусник и поднимает скорчившегося Лешку с кровати. Меняет постельное белье. Взявшись двумя руками за грядушку, Лешка послушно стоит у койки. Его знобит. Забрав грязное белье, медсестра уходит. Витек опять обращается к Лешке:
– Леха, не отпускает?
Леха мотает головой.
Витька вздыхает и поворачивается ко мне.
– А ты чего сюда, такой молодой, попал? Ты ж вроде нормальный?
– Из школы меня исключили, после первого класса. Врач сказал маме, что, если меня не вылечить, из следующей школы тоже исключат.
– И она их послушала?
– Ну да.
– Зря! Теперь тебя могут каждый год сюда упекать.
– Не смогут! Я, когда отсюда выйду, все маме расскажу!
Витек улыбается.
– Ты видел нашу Адрияговну? Гремучая смесь – маньячка и старая дева! Она тебе такое заключение может под выписку сделать, что тебя и спрашивать не станут. И мать твою тоже.
– А что такое – старая дева? – интересуюсь я.
– Замужем она не была, и детей у нее нет. Она, знаешь, как мою Аксану ненавидит? Меня когда первый раз сюда положили, Аксана пришла и попросила, чтобы ее тоже взяли. А ей говорят: «Иди, девочка, в психдиспансер. Если врач выпишет к нам направление, мы тебя примем». Аксана ответила: «Хорошо». Поехала в город, зашла в диспансер с флаконом чернил и выплеснула на стол врачихе! А врачиха в новом платье была. Представляешь?
– Ага! – изумляюсь я такой глупости. А Витек с гордостью продолжает:
– Она в момент карету вызвала, и сюда! Когда пойдем на прогулку, я тебе ее покажу.
– А девочки здесь тоже лежат?
– Лежат. Площадка для прогулок у нас одна, но разделена рабицей на две половины. Подходить к забору нельзя.
– Почему?
– Чтобы с девчонками не общались. Мы подбегаем, конечно, когда Степаныч отворачивается. Но если у тебя там девочки нет, лучше этого не делать. Хотя Дебилу подходить разрешают. Ему некоторые вещи проще разрешить, чем запретить. Да, Федька? – Дебил рыкает что-то в ответ и накрывается простыней с головой. Витек смеется. – Девчонки с ним все равно не общаются, – заканчивает он и, встав с кровати Немого, идет к своей койке.
Я ложусь и вспоминаю сначала девочек с нашего двора, а потом Ию. Она кажется мне такой далекой. Такой недосягаемой, как и то время, когда (год назад) я вот так же лежал на кроватке, а рядом со мной (как сейчас Лешка) спала хозяйка голубых гигантов.
Я вспоминаю, как мама оставляла меня в садике на ночь и воспитательница перед сном читала нам сказки. Ее спокойный, невыразительный тембр обволакивал полупустое помещение и, безучастный к собственному смыслу, рассеивался в памяти, внемля преданию старины. Ию редко оставляли на ночь, и, сидя на стульчике, я грустил, глядя сквозь потемневшее окно в опустевший без Солнца мир. Мир колыхался вечерним ветром, скребя по стеклам узорчатыми ветвями деревьев, и, закрыв глаза, я представлял счастье. Оно виделось мне вдали – ватным облаком парусника, потерявшего цель, смысл и волю.
Бросив якорь, он медленно раскачивается из стороны в сторону, и всплески воды за его кормой слышатся то с правой, то с левой стороны. Деревянная палуба, выжженная солнцем Азии, белесо смотрит в небо. Я лежу на ней, укрытый наполовину тенью паруса, и, прищурив глаза, слушаю море, которое шепчет проплывающим в нем рыбам сказку мира. Перестав суетиться, ненасытное время приобщается к легенде, внимает ее смыслу и, очарованное, погружается на морское дно, выпуская из себя вечность.
– Дааа… – вздыхаю я.
– Ты чего вздыхаешь? – усмехается Витек.
– Да так… Просто…
– Аксана у меня, знаешь какая красивая? – говорит мечтательно Витька. – Увидишь ее, сам все поймешь. А имя у нее белорусское. Пишется не как у нас Оксана, а через букву «А». И ударение на последней букве: Аксан-ааа. У нее отец родом из Белоруссии. Он ее в честь бабушки так назвал.
Я представляю Белоруссию, бабушку и Аксану. Но представление комкается и никак не наводит резкость на букву «а».
Витя продолжает:
– А Лешка любит Олю. Он с ней здесь познакомился. Может, и ты кого-нибудь найдешь. Так что сильно не расстраивайся! Жить тут можно! Но не долго…
Входит медсестра Маргарита Юрьевна и начинает меня развязывать. Некрасивое хищное лицо склоняется надо мной, когда она отвязывает вторую руку, ее грудь ложится на мой живот.
– На первый раз хватит. Повторится такое еще раз, будешь лежать весь день! – резюмирует она, обводя меня с головы до ног враждебным взглядом.
Я молчу. Чувствуя мою беззащитность, медсестра слизывает с края губ выступившую в уголке сухость. Она могла бы одним щелчком перекусить хрупкое тело мальчика. Но нельзя… Вокруг свидетели… А еще есть Алевтина Адриановна, которая не простит ей кровожадной выходки, потому что имеет больше на это прав.
Церемония лечения должна предшествовать выздоровлению, которое наступит только после того, как больной, встав на колени, склонит голову. Правила не меняются…
Справившись с возбуждением, медичка продолжает:
– Советую не пытаться устанавливать здесь свои порядки. Я прочла твою характеристику и многое о тебе знаю, Давид. Понял?
– Понял, – машинально отвечаю я.
– Ну, вот и хорошо, раз начинаешь понимать. Будешь слушаться – лечение закончится быстро. А нет – пеняй на себя!
После того как она уходит, я бравирую перед мальчишками и, строя вслед медсестре рожицы, бросаю негромко:
– Сама себя слушайся!
Витя качает головой:
– Ну, это мы посмотрим! Дебил тоже раньше буйствовал, а теперь притих. Хоть и Дебил, а понимает, что на рожон лучше не лезть. Да, Дебил?
Дебил вдруг садится на кровать и с ненавистью смотрит на Витю.
– О! Ты чего это – не спишь, что ли? – удивляется Витька. Дебил молчит. – Спи, лунатик! В Багдаде все спокойно.
Появляется медсестра.
– Выходим в столовую! – Замечает Дебила. – Федя, а что это ты сидишь?
Он молчит, не реагируя на ее вопрос, и продолжает смотреть на Витю.
– Анатолий Степаныч! Анатолий Степаныч! – кричит медсестра и берет Дебила за руки. Приходит Степаныч. – Ну-ка, привяжи его на всякий случай, – командует она на опережение. – Ложись, Федя, ложись, – укладывает она Дебила. Тот ложится, и Степаныч привязывает его руки к кровати. – Выходим на ужин, – повторяет медсестра и, подойдя ко мне, берет за руку: – Пойдешь со мной.
Ведет…
Коридор длинный, узкий, как катакомбы в Одессе.
– Я в туалет хочу, – тихо говорю я в пространство, поддаваясь унижению просьбы.
Она подводит меня к туалету. Сама остается у двери. Пол и стены вокруг кафельные. Плитка местами отбита. Резкий запах хлорки режет глаза. Справа при входе раковины. Пожелтевшая от времени эмаль рябит щербинками прошедших здесь лет. Они знают сопли и слюни каждого новобранца. От этого – раковины потускнели, сморщились и состарились.
Вокруг все мерзкое, безжизненное, как в морге. Но там мертвые, и им все равно. А здесь я – еще живой, еще не вставший на колени, не выздоровевший, не забывший свои квартиру, двор, жизнь… Стою, привыкаю…
Чтобы добраться до писсуара, нужно преодолеть две ступеньки и попасть на площадку, где находятся три очка. Поднимаюсь, писаю и выхожу назад. Медсестра берет меня за руку и отводит в столовую. Столовая рядом – чуть дальше, справа. Заходим.
Столы, столы, дети, дети. Столы одинаковые. Дети разные. Я таких раньше не видел. Половина столовой пуста. Кормят не всех сразу, а по очереди, чтобы избегать конфликтов. Сажусь за стол со своей палатой. Беру в руку алюминиевую ложку. Осматриваю. Она насквозь пропиталась длинными поколениями бесцветных супов, один из которых налит в мою тарелку. Супы не люблю. Ненавижу с детства! А я еще в нем… Только борщ или щи! От мамы! Или бабушки Нели! Но здесь – суп…
Желтая маслянистая пленка прикрывает куски картошки, лука и моркови. Подняв голову, замечаю испытующий, тяжелый взгляд Маргариты Юрьевны. Превозмогая отвращение, опускаю ложку в жижу и мешаю ее. К горлу подкатывает ком. Не глядя на медичку, медленно отодвигаю тарелку в сторону. На второе котлета и картофельное пюре. Ищу глазами вилку. Вилок нет, только ложки. Котлету невозможно есть ложкой. Она теряет вкус! Но здесь нет ни вкуса, ни вилок. Только обгрызенная алюминиевая ложка и незнакомая тарелка смотрят на меня удивленными глазами чужестранцев. Знакомятся с новичком…
Темно-серо-коричневая котлета, брошенная прямо на кучку пюре, молчит, готовясь к поглощению. Блюдо ждет зрелищ. Из него ели тысячи раз. Десятки тысяч раз чужие рты касались ложки, которая затем дотрагивалась до тарелки. Чужие языки вылизывали ее, закончив прием пищи. И чужие руки мыли эту поверхность в чужой раковине, на чужой кухне.
Бросаю исподлобья взгляд на медсестру. Она продолжает наблюдать за мной. Ем аккуратно, стараясь не касаться зубами столового прибора. Съедаю второе и два куска хлеба. Выпиваю компот. Привыкаю.
Прием пищи заканчивается. Мы встаем и идем в палату.
– Здесь выход на площадку для прогулок, – показывает на дверь Витек.
В палате подходим к Лешке. Он лежит с закрытыми глазами. Я ложусь на свою кровать и, уставившись в потолок, думаю: все не так страшно. Жить можно. Сражаться нужно. Терять, кроме жизни, все равно нечего…
Бэд трип[468] первый
К моменту выхода книги эта глава уже закончена. Но я намеренно пропускаю опыт первого психоделического кризиса, возникшего после ввода в мое тело пробных доз нейролептика (способного купировать действия амфетаминов и ЛСД), чтобы не портить светлое полотно лечебного процесса и рукопись романа.
Краткое содержание первой недели
В течение нескольких дней я теряю весомую часть нейронов головного мозга, заставляя их не отдавать шайбу разума гоняющимися за ними лекарствами и не позволять лечебному препарату блокировать нейромедиаторы[469] дофамина[470] в голове восьмилетнего мальчика, чтобы (прервав цепь биохимических реакций) аминазин не смог отменить у меня возникновение потенциала действий.
Я учусь сохранять здравый смысл даже после внутримышечного ввода вещества, приводящего к психическому изменению подвергшихся его воздействию больных и возникновению вакуолей[471] у подопытных крыс, что, казалось бы, не дает повода утверждать со стопроцентной уверенностью о возможности появления вакуолей у людей. Но спустя тридцать пять лет научные сотрудники опубликуют результат исследований, осуществленный с помощью магнитно-резонансных изображений головного мозга в целях сравнения мозговых изменений у пациентов, принимавших антипсихотики и обошедшихся без них. Скан покажет уменьшение объема мозга и объема серого вещества у испытуемых, на фоне увеличения объема полостей, заполненных цереброспинальной жидкостью, благодаря чему (предполагаю я) лечебная цель, поставленная обществом перед врачами больницы (в моем случае), будет достигнута, и мозг больного ребенка (после уменьшения общего объема) примет стандартные среднестатистические параметры советского мальчика, перестав раздражать (взрослые особи) высокой скоростью обработки информации процессором моей головы.
Перед успокаивающим уколом нас предварительно привязывают к кровати, так как во время ввода аминазина возможно резкое падение артериального давления. После отключки бинты снимают, и назад дети возвращаются лояльными членами общества.
Но вскоре Лешка достает мне сиднокарб[472]. Эти таблетки выдают шизофренику в соседней палате, пытаясь вывести его из коматозного состояния флегмы. Психостимулятор[473] взбадривает Давида не хуже амфетамина, выдергивая из транса аминазии, и открывает второе дыхание.
Хитрость расхитряется после одной истории, когда неожиданно для себя медсестра обнаруживает молниеносность моей реакции и, раздраженная этим открытием, увеличивает дозу нейролептика.
Тем временем печень ребенка учится обезвреживать лекарственные ксенобиотики[474] и удалять из организма нейротоксичные антогонисты. При этом матрица моего тела, сражаясь с экспериментами взрослых, несет определенные потери, знакомясь с признаками нейролептического синдрома в пока еще легкой его форме – дискинезии[475]. После этого усиленная доза препарата снижается Алевтиной Адриановной до стандартной, во избежание появления тремора и других нежелательных отклонений.
Остаточные воспоминания о синдроме покалеченная воля подростка запрет в сумерки памяти на двадцать пять лет, прежде чем они вырвутся наружу и заберут его тело из объятий разума вновь. Но это будет уже совсем другая история одной и той же жизни.
Бэд трип второй
1
Так пролетает первая неделя акклиматизации, где за «хорошее» поведение уже во вторник мне вгоняют пробную порцию аминазина, а в среду утром, во время обхода, Алевтина Адриановна благодушно объясняет незадачливому малышу, как избегать подобных ситуаций в дальнейшем.
Чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно выбираю путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже второй катет[476] изменяет угол движения моей души, перпендикуляря ее от земли ввысь.
Блаженное состояние от воздействия хлорпромазина[477] – созерцает смену последовательных картинок дня беспокойным движением глазных яблок и превращает меня в зрителя диафильма, запечатлевающего блуждающий по палате день в перфорированную пленку сознания пучками волокон зрительного нерва, после чего космическое пространство расширяется и, высвобождаясь, Вселенная иннервирует[478] себя, подключая меня к афферентной[479] связи с собственной ЦНС.
Лечение повторяется вновь, и вот я здоров. Я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь – я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто. Точнее, не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться[480].
По окончании первого курса мне прописывают новые таблетки, но уже к воскресению я начинаю водить их за нос, пряча лекарства под язык. Для тренировки Давид использует маленький металлический шарик, который мне выдает Витька. Главное – суметь протолкнуть таблетку вбок удержать ее в ротовой полости, как можно ближе к горлу и уздечке, под языком. Тогда при открывании рта и выпрастывания языка лекарство остается скрытым от глаз проверяющей.
Как и следовало ожидать, аминазин купирует мое психомоторное возбуждение и расслабляет так, что во вторник, среду и четверг я помню только дообеденные события. Но зато благодаря этому к субботе я высыпаюсь сверх меры и накапливаю кучу неизрасходованной энергии. На выходные приезжает мама и привозит мои любимые «Ленинградские» печенья. В холле, где дети встречаются с родителями, все время присутствует медсестра, и я решаю не рассказывать маме о правилах эксперимента, в котором принимаю участие, дабы не портить ей понапрасну настроение. Мы договариваемся о том, что в следующую субботу мама заберет меня домой, и на этой позитивной ноте расстаемся.
Дни, на удивление, пролетают быстро. Я узнаю, где находится ванная комната. Знакомлюсь с некоторыми мальчишками из соседних палат и делаю вывод, что у нас самая нормальная компания. Придя в себя после уколов, Лешка учит Давида играть в «ниточку», когда один из игроков надевает на руки связанную в кольцо нить, а другой снимает ее пальцами таким образом, чтобы она сменила узор. Игра мне нравится, можно фантазировать, но мои эксперименты частенько заканчиваются узлами, и Лешка психует, призывая меня к порядку. Я стараюсь сдерживаться, но это удается ненадолго, и вскоре на нитевом орнаменте вновь появляется «государственный герб».
В первый же банный день я исподтишка рассматриваю на лопатках Немого таинственные шрамы, о которых мне уже успели рассказать пацаны, и всякий раз прячу взгляд, когда он поворачивается в мою сторону. Раздраженные запретом хозяина (смотреть туда, куда им хочется), глаза тут же находят новый объект – удовлетворяя свое любопытство движением бинарного неорганического соединения в тонких струях воды[481].
В четверг вечером, возвратившись из туалета, Витек заговорщически зовет меня к двери.
Я выхожу из палаты и иду за ним.
– Сейчас увидишь, чем буйный Васька успокаивает себе нервы, – говорит Витя вполголоса. – Раньше он этим не занимался, но после последней увольнительной вернулся назад в новом образе и с новой концепцией взглядов на окружающую среду. Теперь ему чудится, что вокруг него эллины, а больница – это Афины.
Мы осторожно подходим к соседней палате и заглядываем в нее. У дальней стены сидит Васька. Его крупная фигура по пояс оголена. Грудь, имеющая чрезмерно выпуклую форму, неестественно бугрится вперед. Вытащив огромный, похожий на гриб фаллос, он обстукивает его «шляпу» алюминиевой ложкой, приговаривая при этом: «Не будь лапшой, расти большой». Васька старательно дубасит шляпу «гриба», и внутренний голос мне подсказывает, что кайф наступит только тогда, когда он промахнется. Но Васька не промахивается, и кайф не наступает, отчего на покатом лбу психа появляются капли пота.
– Видал? – ухмыляется Витек. – Кто-то сказал ему, что у большого «гриба» должна быть большая «шляпа». Вот теперь он и старается. Только где он собирается хвастаться им? Не достанет же он его, как Диоген на площади Афин, во время прогулки?[482]
Витька смеется и, махнув безнадежно рукой, добавляет:
– Ладно, пошли.
Мы возвращаемся в палату и, шагая вслед за Витей, я думаю про Диогена, пытаясь вообразить эллинов. Они представляются мне грибами, растущими у самого берега будущих островов. Замерев в ожидании, когда схлынет вода, эллины терпеливо жмутся друг к другу и, прячась под большими, пузатыми шляпами, не подают вида, что эта история их уже окончательно достала. Но вода все никак не спадает, и грибы нервничают, искоса поглядывая друг на друга[483].
Входя в палату, я вижу Дебила Федю, и мираж в голове Давида растворяется, как сахар в крутом кипятке. Сидя на кровати и упершись локтями в колени, Федя не то грустит, не то тупит, опустив лицо вниз.
На следующий день пацаны устраивают произвольный концерт. Рассевшись около своих тумбочек, они начинают отбивать руками такт. Сначала удар об угол тумбочки делается кулаком правой руки. Затем левой. Затем согнутым указательным пальцем правой руки. Затем левой. Затем опять по одному удару правого и левого кулака. И снова указательные пальцы. Постепенно темп нарастает и сливается в одну нескончаемую пулеметную очередь. Под финал Витька колотит быстрее всех, и после того, как остальные сдаются (выбывая из соревнования по одному), он умудряется взвинтить темп еще сильнее, прежде чем оборвать барабанную дробь оглушительной тишиной. Гул стоит какое-то время в наших ушах, и все терпеливо ждут, когда он осядет и успокоится. Вскоре я обучаюсь этому несложному исполнению, и мой музыкальный инструмент (тумбочка) пополняет ансамбль народного творчества еще одним исполнителем.
Ну и конечно же главное развлечение в больнице – это прогулки на свежем воздухе.
Нас выводят гулять на площадку, огороженную забором и разделенную на две половины рабицей. Площадка имеет прямоугольную форму. На ней находятся несколько лавок, стол, песочница и большое раскидистое дерево, укрывающее детей собственной тенью в жаркие дни.
На вторую половину выпускают девочек. Прогулки врачи стараются проводить в разное время, и когда мы выходим на улицу, девочек уводят в корпус, и наоборот. Если наши прогулки совпадают, сквозь забор я вижу худые, неряшливые создания прекрасной половины человечества. В отличие от мальчиков девочкам разрешают подходить к забору и не дергают лишний раз. Но за нами следят всегда. Больше других от этого страдает Витек. Его Аксана старается быть около ограждения, и когда, улучив подходящий момент, Витьку удается подбежать, они берутся за руки и разговаривают. Пару раз я видел, как Витек целовал Аксану сквозь сетку-рабицу.
Она у него красивая, с длинными рыжими волосами и изумрудами вместо глаз.
Отличить больных от здоровых, оказывается, не сложно. Но пару раз я все же ошибаюсь. Так, однажды я подхожу к девочке, одиноко стоящей у забора. Она кажется мне такой несчастной, что, рискнув быть наказанным, я приближаюсь к ней вплотную и говорю:
– Привет!
Прикладывая определенные усилия, девочка отрывает взгляд от точки, находящейся где-то за моей спиной, и переводит его на меня. Не достигнув намеченной цели, ее глаза останавливаются на щеке Давида и гаснут, словно кто-то нажал рубильник и выключил нагрузку большого тока. Надеясь продолжить знакомство, я повторяю приветствие:
– Привет! Как тебя зовут?
Пробудившись из состояния обесточенного андроида, зрачки ребенка сбрасывают с себя покрывало дремоты и встревоженно бегают по моему лбу, пытаясь сосредоточиться на какой-то детали. Им это долго не удается, но, споткнувшись о переносицу моего лица, они случайно обнаруживают рядом с ней правый глаз. Пару мгновений ее глаза знакомятся с внешней оболочкой моего зрачка, и, наступив на тонкий лед подсознания, взгляд девочки проваливается в меня всем своим существом…
Я чувствую, как в мое тело проникает ужас. Он обволакивает трепещущее сердце храбреца и, расползаясь газопроводом по голубым венам тела, воспламеняет фитили страха.
Продолжая начавшееся проникновение, девочка неотрывно смотрит в мой глаз, приближаясь к объекту своего внимания настолько, насколько это позволяет сделать сетка. В какой-то момент мне кажется, что ее лицо сейчас пройдет сквозь забор и прикоснется к моему. Чувствуя, как волосы на моей голове встают дыбом, я отклоняюсь назад. Упершись лицом в рабицу, девочка молчит, не произнося ни звука, и дышит – сначала неслышно, спокойно, но вот шум воздуха из ее легких увеличивается, нарастает, выказывая психическое возбуждение хозяйки. Плечи поднимаются во время набора кислорода, и она силится что-то сказать. Ее левая кисть, просунувшаяся сквозь ячейку сетки, тянется к моему лицу, и вдруг, испустив глухой, безжизненный звук, девочка успокаивается так же стремительно, как до этого возбудилась. Ее взгляд угасает, вновь становясь безжизненным, пустым, и я осторожно отступаю в сторону.
Сзади ко мне подходит Тихоня.
– Познакомился? – спрашивает он, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности.
– Ага, – отвечаю я.
– Я тоже один раз подошел к ней. Она мне потом всю неделю снилась.
– А что с ней?
– Не знаю. Больная. Как и мы. Просто болеет по-другому.
Тихоня мне кажется абсолютно здоровым мальчиком. Он немногословен и всегда вежлив. Единственная странность, замеченная мной, это напряжение в его внимательном взгляде, перерастающее порой в нечто большее. Произойти это может в любой момент. Достаточно отвлечься, отвернуться во время разговора на мгновение в сторону, и, повернувшись назад, можно увидеть уже совсем другого подростка – с перекошенным от страха лицом. В такие минуты он замыкается и уходит в себя, отказываясь отвечать на вопросы. Мои попытки расспросить его, что случилось, не дают никакого результата.
В режиме нон-стоп пробегают еще три дня, и вторая неделя подходит к концу. Наступает долгожданное субботнее утро. Проснувшись еще до подъема, я заправляю кровать и залезаю на подоконник. Вскоре просыпается Витя и, увидев меня, зовет:
– Давид, ты чего это встал? Команды подъем не было!
– Маму жду. Сегодня суббота. Она приедет меня забирать, – отвечаю я и вновь поворачиваюсь к окну.
– Ну-ну, помечтай, – бормочет спросонья Витек.
Выполняя установку товарища, я продолжаю сидеть на подоконнике и таращусь в пространство. Окно улыбается на всю палату дифракцией волн света, и я жмурюсь, вспоминая бабушкиного кота.
Пробуждающееся солнце потягивается утренними лучами в разные стороны. Позевывает, запуская фотосинтез природы, и, подставив озябший бок, планета мурлычет возобновляющимся ритмом жизни.
Я представляю, как обрадуются моему возвращению пацаны. Как мы пойдем купаться на Волгу, а вечером во дворе будем играть в футбол. Поразмыслив, решаю сделать на прощание что-то хорошее.
– Витек?
– Чего?
– Хочешь, я отдам тебе печенье и конфеты, которые мне привезет мама?
– Слушай, иди, ложись. Ты же знаешь, что вставать с кровати до подъема нельзя. Тебе и так уже три раза аминазин кололи.
– Больше не уколют!
– Так быстро отсюда еще никто не уезжал.
– А я уеду!
– Иди ляг на койку, а то Маргарита увидит и настучит Адрияге, – настаивает друг.
– Пусть стучит.
– Все тебе пусть.
– Пусть-пусть.
– Если Маргарита доложит, что ты встал до подъема, да еще залез с ногами на подоконник, – пеленание тебе гарантировано. Иди ложись!
– Фигня.
– Хозяин барин, как хочешь. Я тебе не папа, – заканчивает лекцию недовольный Витек.
Сквозь решетки я гляжу на открывающийся за окном вид – на Волгу, выгибающуюся плавной дугой влево и исчезающую в безжизненных степях Калмыкии, на острова, поросшие густой растительностью и заселенные несметными полчищами комаров. Пустынная гора, на которой стоит больница, покрыта сорняком и проплешинами выгоревшей каштановой почвы[484]. Закончив потягивания, проснувшееся Солнце замечает в окне Давида и радуется моему возвращению. Я вспоминаю, как два дня назад передал Аксане Витину записку, когда его не выпустили на прогулку. И в благодарность за это она потрепала меня по голове. Мне понравились прикосновения ее тонких, изящных пальцев, и я запомнил их нежность.
– Вить?
– Ну?
– А я когда записку Аксане передавал, она меня по голове погладила и сказала, что у меня волосы шелковистые.
– Ну и чего?
– Даже лучше, чем у тебя, сказала.
– Так и сказала? – присев на кровати, удивляется Витя.
– Ага. И еще сказала, что у Витьки кучеряшки жесткие, а у меня мягкие.
– А что ж ты раньше мне этого не рассказывал?
– Специально не говорил. Боялся, что ты мне балдушек наставишь. А теперь мне все равно.
– А ну-ка, иди сюда, – говорит заинтересованно Витька.
Я спрыгиваю с подоконника и отбегаю в сторону.
– Да ладно! Хорош, Витек! Я же твою записку передавал.
– Да не бойся ты! Я только волосы потрогаю, – зовет он.
Я подхожу к нему, и Витя касается сначала моих волос, а потом своих. И снова мои, потом свои.
– И правда, мягче.
Я тоже трогаю его волосы и убеждаюсь в справедливости Аксаниных слов.
– Ага, у меня мягче.
Отхожу к окну, довольный результатами опыта. Залезаю на подоконник и продолжаю мечтать вслух:
– Завтра встану пораньше, зайду за Егором, Пупком, Соловьем – и на Волгу. Буду купаться до посинения. Потом наворуем рыбы. Мама нажарит, мы налопаемся, и опять на Волгу!
– А рыбу-то где воруете?
– На пристани. Мужики там с утра стоят. Они нас гоняют. «Идите, – говорят, – на берег ловить. От вас здесь шума много!» А чего с берега ловить? Мелочь одна! Ну, мы и воруем у них. Один из нас идет зубы заговаривать рыбакам. Спрашивает, на что лучше язь ловится, или еще какую глупость. А двое с сеткой подныривают под понтоны и понемногу вытаскивают из всех садков. Мамы нас потом хвалят: «Вы прямо рыбаки настоящие. Кормильцами растете!»
– Дурите, в общем, всех, – приземляет меня Витек.
– Почему дурите? Воровать – не на боку лежать! Та же работа, да еще и с риском для жизни, – подшучиваю я и, окрыленный воспоминаниями о друзьях, перехожу к кулинарной теме:
– Иногда нам попадаются раки. Раков в Волге мало, поэтому, когда мы их варим, обязательно фаршируем, чтобы было сытнее. Меня такому рецепту бабушка научила.
– И чем вы их фаршируете?
– Пшеном. Для заправки начинкой, членистоногому требуется вскрыть панцирь. Делать это следует осторожно, чтобы не поломать скорлупу. Под спину раку засовывается большой палец и им отрывается пленка, удерживающая внешнюю хитиновую оболочку корпуса от внутренних органов. Затем панцирь осторожно приподнимают и засыпают чайную ложку пшена. Варим раков мы за домом, на костре. У Егора есть казан. Мы подвешиваем его над огнем и кипятим воду. Затем Пупок ее солит. По этому делу он у нас главный специалист. Без него вечно либо недосол, либо пересол получается. Соль необходимо подсыпать до тех пор, пока из сильно соленой вода не начнет превращаться в горькую. Поймать эту грань сложно и невкусно, так как все время приходится пробовать кипяток. В рассол мы бросаем порезанные яблоки, морковку и стебли сухого, с семенами, укропа. Даем ему еще минуты три покипеть и кладем фаршированных раков. После того как бульон закипит снова, варим раков минут семь или десять, в зависимости от их размера. Потом снимаем казан и позволяем ему немного остыть.
– Зачем? – интересуется Витя.
– Как зачем? – удивляюсь я. – Чтобы раки набрались сока.
– Понятно.
– Пока казан остывает, мы в угли закладываем для запекания картошку. Вот и все – раки готовы!
Просыпается Лешка и, увидев меня, шепчет:
– Давид, ты зачем встал? Иди ложись!
– Не пойду!
– Он думает, что его сегодня выпишут, – иронично констатирует Витька. – Я уже говорил ему, что лучше лечь. Но он не собирается слушать старших товарищей.
Лешка продолжает настаивать:
– Да никуда тебя не выпишут! Ты всего-то здесь вторую неделю лежишь.
– Мама сказала, что на две недели кладет. Сегодня они закончились. Я и так уже четырнадцать дней тут с вами тусуюсь, вместо того чтобы там с пацанами шляться, – чехардачу я игрой слов.
– У тебя и уколы, и пеленания есть. Если сейчас засекут, можешь на сульфозин напороться, – не сдается Лешка. – Иди ложись!
– Ничего они мне не сделают сегодня.
– Говорю тебе, сделают! А матери скажут, что ты наказан за плохое поведение. Или что в отделении карантин. И поедет она домой.
– Нет! Не поедет! – вспыхиваю я.
– Да ладно, оставь его, Леха. Ты сам-то помнишь, как уверял нас, что тебя на обследование привезли и через три дня назад заберут, когда в первый раз сюда попал? – вступается за меня Витек.
Лешка отмахивается и поворачивается на другой бок:
– А! Как хотите.
Я возвращаюсь к панораме за окном. На забор прилетели два воробья. Сидят, крутят головами в разные стороны. Думают: где бы нашухарить и смыться по-быстрому. Но, ничего не придумав, улетают восвояси.
Вдруг вспоминаю, что, прожив здесь две недели, я еще многое о себе не рассказал.
– Витек!
– А?
– А хочешь, я расскажу тебе, как мы бомбили автобусы?
– Валяй.
– У нас за домом начинается набережная. По ней склон к Волге идет. Вдоль склона дорога к пристаням спускается. По ней автобусы ездят. Мы на склоне в кустах спрячемся и кидаем в автобусы куски засохшей земли. Они ударяются о стекло, и земля разлетается. Получаются взрывы, как в фильмах от пуль. Один раз кто-то кинул ком, а это оказался настоящий камень. И этот камень в водительском боковом окне пробил дырку. Водила ка-ак тормознул! Даже люди в автобусе попадали. Выскочил на дорогу и за нами бегом. Мы через набережную – и во двор. Кто в подъезд ближайший, кто на деревья. Притаились, сидим ждем. И надо ж было в этот момент выйти гулять моему соседу – Вадьке-заике. Мы пока разбегались кто куда, он все пытался спросить: «Вы-вы чё-чё-чё, па-па-пацаны?» Но нам было не до него. А когда все спрятались, он так и остался стоять один. И вот стоит он, глазеет по сторонам на опустевший двор, как вдруг в калитку вбегает разъяренный водила и, схватив Вадьку за грудки, начинает орать: «Где твои подельники, быстро говори! Где родители? Щас башку всем откручу!» Вадик открыл рот, набрал воздуха, а сказать ничего не может. Водила еще сильнее бесится, орет на него, трясет, как грушу боксерскую: «Говори, где родители живут, а то прямо здесь закопаю!» В этот момент из подъезда выходит Вадькина мама – тетя Света и видит картину маслом: здоровый мужик вытрясает из ее сына душу. Тетя Света вообще женщина интеллигентная, спокойная. Но тут она ка-ак взбесится! Ка-ак подбежит к мужику и давай его по голове сумкой охаживать. Мы с пацанами от смеха чуть с деревьев не попадали. Но деревья затряслись, и мы замерли. Мужик вырвал у нее сумку и вопит: «Ваш сын стекло мне в автобусе разбил! Его в милицию нужно сдать, а вам штраф выписать! Наплодили тут хулиганов, а воспитанием Пушкин будет заниматься?» – «Ах, вы еще и в Пушкина не верите?» – возмущается тетя Света и с удвоенной силой продолжает прежнее занятие, лупася водителя рукой и сеткой с яйцами, которые она берегла до этого момента для яичницы. Мужик стоит весь в белках и желтках, но сумку и Вадима не отпускает, раздумывая, что ему делать дальше. Вдруг из подъезда на всех парах вылетает Вадькин отец – дядя Серожа. Он, видно, в окно все увидел. И, выпуская из ноздрей пар, несется прямо на водилу. Тот, оценив размер кулака папаши и скумекав, что к чему, бросает Вадьку с сумкой на землю и газует из нашего двора с такой поспешностью, что чуть не разбивает себе о калитку лоб.
– Мда… констатирует Витька, – умеете вы развлекаться.
Лешка разворачивается к нам лицом и заявляет:
– Ну, тогда еще чего-нибудь рассказывай, все равно уже разбудил.
– Подумать надо, – отвечаю я и начинаю думать. Но в голову ничего не лезет… Пробую думать в обратную сторону – получается еще хуже… О! Кажется, залезло!
– Витек, а из твоего окна Волгу видно? – начинаю я издалека.
– Не-а. Из моего окна «Химпром» видно, когда выбросов мало. А когда много, то и он исчезает.
– А из моего видно, – с гордостью сообщаю я. – Еще лучше, чем здесь, видно. Наш дом ближе всех к воде стоит, и с лоджии все корабли как на ладони.
Лешка ерничает:
– Ну, конечно, ты ж у нас центровой!
– Ага, – соглашаюсь я без задней мысли. – Летом я почти каждое утро просыпаюсь под песню «День Победы». Ее врубают все подплывающие к берегу корабли. Ночью они стоят на рейде, а утром причаливают к берегу, выпускают туристов и снова встают на рейд. Так вот, когда они причаливают, у всех играет одна и та же песня.
Я начинаю шепотом ее напевать:
– День Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшем таял уголек. Дни и ночи, обгорелые, в пыли, Этот день мы приближали, как могли.Витек и Лешка подхватывают:
– Этот День Победы порохом пропах, Это праздник с сединою на висках, Это радость со слезами на глазах, День Победы! День Победы! День Побеееды!В этот момент в палату входит медсестра.
– Это что такое?!.. Бегом на койку! – командует она, закипая от возмущения.
– Не пойду! – огрызаюсь я.
Доставая из кармана бинты, медсестра надвигается, пытаясь отрезать пространство для маневра. Вскочив на кровать Дебила, я перепрыгиваю с нее на койку Немого и, когда она уже думает, что загнала меня в угол, оказываюсь за ее спиной. Промахнувшись, медичка злобно щелкает зубами и снова разворачивается ко мне лицом. Но лица уже нет…
Колючие бледно-зеленые глаза бросают жесткий, голодный взгляд с вытянувшейся, волосатой морды волчицы. Червоточины мерцающих зрачков гипнотизируют, сужаясь от луча моего друга – Солнца. Приподнятая верхняя губа дрожит, оголяя под клочьями вспенившейся слюны большие желтые клыки. Голова опущена. Уши прижаты к затылку. Она лязгает зубами и приседает на задние лапы, готовясь к броску.
Но мое зрение уже обострилось до невероятной реакции мангуста, и, фиксируя происходящее в замедленной, покадровой съемке, я способен сейчас разложить движение стрелы Зенона на временные отрезки и доказать ее неподвижность[485].
Опережая волчицу на доли секунды, я устремляюсь вперед (когда она бросается на меня) и, пролетев от нее сбоку, распарываю халат медсестры титановыми наконечниками когтей.
Хрясть! – и белая накрахмаленная материя, нарезанная, как вермишель, расползается длинными, ровными лоскутами, оголяя бедро пармиджанового цвета[486].
«Спагетти подано – садитесь жрать, пожалуйста!»[487] – шлю я веселый посыл в свое сознание и продолжаю готовиться к обороне.
Второй раз она прыгает, не оглядываясь. Вывернувшись, как кошка, всем телом, хищница отталкивается задними конечностями сначала от пола, затем от стены и, развернувшись ко мне в воздухе, пытается нанести сокрушительный удар передней правой лапой.
Глупая – она не знает, что я с шести лет играю в настольный теннис, и мои глаза в минуту опасности видят каждую дробинку, вылетающую из отцовского ружья на охоте.
Нырнув под промелькнувшую над моей головой пятерню, я уклоняюсь от молниеносного нападения, и, промахнувшись, лапа волчицы проезжает по стене плугом кривых когтей, вспарывая осыпающуюся на пол штукатурку и рассеивая вокруг белую пыль. Я бросаюсь по полу в ее ворота и, пролетая шайбой между лохматых мускулистых ног зверя, вижу узкую щель вульвы, покрытую барашками колючей проволоки.
Один взгляд на эту темную незашитую рану – и голова моя раскалывается от образов и воспоминаний… Я смотрю в этот кратер, в этот потерянный и бесследно исчезнувший мир, и слышу звон колоколов. Смеясь и рыдая, он расползается и паясничает над полем битвы, оголяя в памяти ребенка снимки непосредственной любознательности.
Подобные картины Давид встречал и раньше, когда в детском садике вместе с мальчишками заглядывал под дверь в кабинки девочек. Но то были улыбки Моны Лизы, а эта – великая блудница и матерь человеческая с джином в крови, плотно сжатая по всей длине и чуть приоткрытая в том месте, где сквозь пушистые бакенбарды[488] возбужденно топорщится поверхность распускающегося бутона, – пугающе притягательна и смертельно опасна, как ядерный гриб в сознании японца. Как факел жизни в руках Прометея.
Я смотрю вверх, в эту расселину времен, и вижу в ней знак равенства. Мир в состоянии равновесия. Мир, сведенный к нулю без остатка[489]. И мир обдает меня жаром собственного стыда и похотью эструса[490]. Но прирожденное озорство мотивирует детское сознание, тронуть волчицу за приоткрывшийся сосок Венеры[491], который тут же стыдливо накидывает кожаный капюшон, обнаружив, что его заметили.
Я мелькаю под кроватями, пока не достигаю другого конца палаты.
Она медленно поворачивает голову, выплескивая на меня северное сияние зеленовато-голубых глаз, и, увидев цель, перемещает тыл своего туловища на сто восемьдесят градусов. Ее тело начинает оседать на задние лапы.
Оседает… оседает… оседает, накапливая потенциальную энергию путем изменения расстояния между атомами в стальных мускулах ног, и в помещении появляется тяжелый аромат гибели. Леденящий сердце смрад ложится инеем на раскаленные окна палаты. От предчувствия беды напряжение клаустрофобит о глухие каменные стены и съеживает вокруг пространство в гравитационный коллапс[492]. Расползаясь массой ударной волны внутрь, опасность сужается, готовясь к разрыву оболочки больницы[493].
«Ой, ой, ой», – сигнализирует мозг мальчика, и краем правого глаза я вычленяю квадрат для отступления: тумбочка, грядушка, кровать (на которой лежит Дебил) – под ней, как в доте на линии Маннергейма.
Волчица срывается вперед, торпедируя противника мощью взбесившегося неврастеника. Моя кровать, находящаяся в момент прыжка рядом с ней, взлетает, подхваченная инерцией движения, и кружится, как волчок, раскидывая в стороны одеяло, матрас и простыню. Из-за возникшей декомпрессии подушка взрывается, покрывая все белой порошей гусиного, лебединого, гагачьего и куриного пуха. Я выдыхаю облако пара и проваливаюсь в туман. Туман глушит звуки моего исчезновения, и, чтобы определить направление удара, волчица втягивает набалдашником кожаного носа летучие вещества взмокшего тела ребенка. Разгадав еще в полете план моей перегруппировки, она выбрасывает левую лапу вперед. Ее пятерня натыкается на спинку кровати, и та стонет, скрежещет, гнется, перераспределяя кинетическую энергию, а затем отлетает, впечатываясь в стену иероглифами древней мантры пяти слогов и издавая на всю палату шестой, глубокий звук ОМММММ…[494]
Вставая на мою защиту, кровать заваливается на один бок, но хищница успевает схватить жертву за ногу.
Ощутив прикосновение дикой суки, я впиваюсь своими клыками в ее плоть и чувствую нитевыми и грибовидными сосочками языка колючие волоски захваченной ртом шкуры.
От рукопашного контакта с противником волна брезгливости захлебывает мое сознание шквалом ярости. Я сдавливаю челюсти так, что мою латеральную мышцу[495] сводит судорога, а мозг понижает порог болевой чувствительности до нуля.
Внутренним ухом, из носоглотки, я слышу звуки, проникающие в мою голову через евстахиеву трубу[496]. Вот под толстой дермой дикого зверя затрещала лучевая кость. Поддаваясь давлению сжимающихся челюстей, клыки входят все глубже, глубже, глубже, разрывая сухожилия и нервные окончания оборотня, и, не выдержав боли, она отпускает меня еще до того, как ее тело полностью приземляется на пол, возвращаясь в прежнее состояние медсестры.
«Два ноль», – регистрирую я.
Мокрая, взъерошенная, тяжело дыша, медичка делает несколько глубоких вздохов и, задержав дыхание, произносит деревянным голосом:
– Ну всё, ты доигрался!
Осматривает укушенную руку и выходит из палаты, бросив на прощание свирепый взгляд на притихших мальчишек.
Лешка садится на кровать и, взявшись за голову, шепчет:
– Готовься… Сейчас она вызовет санитара, и ты получишь укол.
Витек учит:
– Давид, ты, главное, теперь, не сходи с ума. Будет больно. Очень больно. Но зато ты станешь настоящим мужиком! Лучше не сопротивляйся. Дайся им подобру-поздорову. Силы пригодятся потом.
Возвращаясь в прежнее состояние, я ощущаю во всем теле страшную усталость.
Нет! Я не дамся! Сегодня приедет моя мама!
Спасаясь от приближающейся расплаты, я выбегаю из палаты и попадаю в западню. По коридору уже идет Степаныч. Увидев его, я поворачиваю назад и, юркнув в комнату, осматриваюсь по сторонам в поисках убежища. Но мой взгляд падает на стальные решетки, объявляя, что чуда не произойдет и сражение на этот раз будет проиграно.
Первым входит санитар. Вслед за Степанычем в палату вбегает медсестра. В ее руке широкий бинт и шприц. Распределившись по территории, они начинают загонять меня в угол, и, когда я ухожу щучкой под койку, Степаныч хватает Давидову ногу и дергает на себя. От резкого торможения голова моя бьется о ножку кровати, и, вцепившись в нее, я кричу, чтобы меня не трогали! Что сегодня за мной приедет мама! Что я уезжаю от них домой! Навсегда! Навсегда! Навсегдаааа…
Степаныч прижимает меня коленкой к полу и Маргарита Юрьевна вводит сульфозин.
Боль наступает сразу. Горячая волна сводит судорогой мышцы и, двигаясь вперед, от ягодицы через спину к плечам, вытягивает сухожилия в струнку. Правая нога немеет, и Степаныч ослабляет хватку. Я собираю остатки гнева и пытаюсь вскочить на ноги, но тут же падаю на пол. Подняв оглушенное уколом тело, санитар кладет меня на койку и, привязав только одну руку, ставит рядом с кроватью ведро, произнося при этом:
– Если будет тошнить – а тошнить будет, – блюй в ведро. Все, что напачкаешь мимо, уберешь сам.
Я смотрю на ведро, стараясь осмыслить булькающие вокруг меня звуки. Но гул уже наполняет окружающее пространство всплеском проникающей боли и направляет ее в бочку моей головы. Звуки тонут, как камни, ударяясь о дно затылка. Глаза почти не двигаются. Взгляд липкий, цепкий, как семя репейника. Остановился. Замер, выхватив трещинку на потолке. Силюсь поднять голову, но затылок, как грузило, – тянет, тянет назад. Уперся во что-то мягкое. Догадываюсь – подушка. Голова запрокинулась и застыла, устремившись поплавком носа в небо. Уже не клюнет. Не распустит круги на воде. Картинка подернулась мутью, начала стекленеть. Мир щурится, закрывая глаза на мое исчезновение. Васильки солнечных зайчиков бегают, как загнанные в угол мыши, и, сверкнув в последний раз бриллиантовой крошкой окон, растекаются каплями хрустального дождя по моему лицу. Собрав в ладони остатки углей от некогда прекрасного, бушующего костра жизни, я выгибаюсь дугой и, выпуская из легких воздух, наполняю парус надежды алым отблеском матовой золы.
– Неееееет!!! – несется в пространство вопль поверженного Люцифера.
Обдавая кабину жаром, кровь закипает в моем сердце. Пелену неба разрывает обожженная рука солдата, и, склонившись над внуком, дед трогает прохладной мертвой рукой голову ребенка.
Сквозь грохот орудий, сквозь колокольный звон, сквозь набат времен и безмолвие вечности я слышу его хриплый бас:
– У него аллергическая реакция! Возможен анафилактический шок! Быстро – капельницу, адреналин и димедрол!
Чьи-то руки подставляют ведро под мою блевотину. Красочная, подобно весенней радуге, она летит фонтаном несметных брызг и, прочертив арку освобождения, распускается под кроватью бутоном цветущего папоротника[497].
Не переставая наполнять топку углем, голова гудит, как паровоз, и тикает по темечку кувалдой взбесившейся тахикардии. Дым валит из трубы нескончаемым потоком раненых, словно шлам, передаваемый горняками при проходке туннеля в легкие моего тела. Реальность падает невесомыми хлопьями снега на поскрипывающую от страха кровать и, укутав меня в сугроб холода, тут же тает от весеннего теплого солнца, перетекающего в жар доменной печи туда и обратно так быстро, что сталь моего тела дрожит, как струна, не выдерживая термической обработки.
Кто-то гладит мою голову… Наверное, Витек опять проверяет волосы на шелковистость. Кто-то кладет мокрое полотенце… Кто-то шепчет: «Аксана…»
Рыжая, с бирюзовыми изумрудами глаз, она тянет ко мне свои тонкие руки и, встав на цыпочки, подбрасывает Давида в небо, повторяя опять: «Осанна! Осанна!»
Слова поднимаются в огненную сферу страдающего от себя тела и, выбрасывая магму действительности, то возвращают в нее рассудок, переполненный ртутным столбиком жизни, то, загораясь смолянистыми факелами мутных зрачков, освещают остатки исчезающей палаты.
Соскользнув со ступенек пульса, сердце скатывается по перилам артериального давления в бомбоубежище диастолы[498], и, целуя невесомую фею жизни, вылетающую из моей груди, я отпускаю ее на свободу, погружаясь в сумрак расползающейся агонии…
После долгих мучений я наконец проваливаюсь в густой туман забвения и погружаюсь в галлюцинирующий сон, подернутый тревожными ведениями ежика и лошадки[499]. Вынырнув из тумана, ее большая голова свешивается над моим горячим лбом и, лизнув лобную кость, растворяется в скоплении воздушной воды на дне глубинного (состоящего из бреда, вскриков, комков сворачивающейся крови и пылающих детских гланд) беспамятства.
Колючая, соленая вода расплывается по горизонту хрустальной глади прибоем невольных слез, и плети моих синеющих, бледно-призрачных рук колышутся на дне пробуждения, устремляясь с пузырьками воздуха и мольбой – ввысь. Обволакивающая пространство бирюза трепещет, тянется как резина сквозь сознание в явь и рвется в том месте, где из призрачности клаустрофобии вырисовывающегося видения утопленника то появляется, то исчезает лицо давно забытого мальчика.
Его хаотичные движения… порывы… и даже глаза, преисполненные благодарности, ужаса и надежды, двигаются и барахтаются, устремляясь ко мне навстречу. Беспомощный, немой рот открывается под водой, пытаясь сообщить, крикнуть сквозь водяную мглу что-то сокровенное, не поддающееся здравому смыслу. Но море выплескивает его назад, вверх, и смыкающиеся под ним волны создают прочную, непреодолимую трясину безнадежности и западни.
Я чувствую, как из-за недостатка кислорода мои легкие начинают трещать. Мышцы горла выталкивают разбухший кадык в рот, стараясь разжать стиснутые до боли зубы, и, не выдержав, я открываю его, наполняя тело водой.
Заливая паренхиму… и эпителий дыхательной системы, гидравлический удар останавливает, кроша, молоточки сердца. Облака свешиваются на тонкой нити просыпающегося горизонта шелковыми простынями осыпающихся теней, и утреннее сияние золотой звезды расходится первыми лучами пробуждающегося в элизии елисейских полей[500] младенца.
Чик-чик… чик-чик… чик-чик… щелкает ключ рассудка, исполняющий роль иллюзиониста, то включая, то выключая кадры быстрого сна…
2
Очнулся я от шума и Лешкиного крика:
– Зачем вы ему сделали укол?! Он же еще совсем мелкий! К нему же мать сегодня приезжала!
Голос медсестры звучит встревоженно-резко:
– Напросишься, и тебе сделаю!
– Вы не врач! Вы… вы… садистка!
– Я это запомню.
Витя:
– Леха, хорош!
– Помолчи, Витя, пусть выговорится… Ну что же ты замолчал, Леша? Или это все, что ты хотел мне сказать? – Леха сопит, но помалкивает. – А теперь я скажу. Ты с твоим характером никому, кроме больницы, не нужен. Ни матери, ни бабушке. Они рады, что повесили тебя на нашу шею. А ты вместо благодарности еще и грубишь.
Медсестра вынимает у меня из-под мышки градусник и смотрит температуру. Лешка вспыхивает:
– Вы все врете! Врете! Вы всегда врете!
Посмотрев на градусник, медсестра идет к выходу, бросая напоследок:
– Нет, Леша, не вру. К тебе и не приходит никто, потому что ты никому, кроме больницы, не нужен!
– А вы!.. Вы!.. Вы дура! – кричит Лешка удаляющейся медсестре.
Витек встает с кровати, не замечая, что я лежу уже с полуоткрытыми глазами.
– Ты чего, вообще сбрендил? Вообще не соображаешь, что говоришь? Теперь и тебе вколют!
Леха продолжает беситься:
– Пусть колют!
Маргарита возвращается вместе с Алевтиной Андриановной и опять ставит мне градусник. Алевтина обращается к Лешке:
– Леша, повтори, пожалуйста, как ты сейчас назвал Маргариту Юрьевну?
Леха молчит.
Медсестра подзадоривает:
– Ну, что же ты, Леша, молчишь? Или при Алевтине Адриановне тебе стало страшно?
Лешка не отвечает. Алевтина Адриановна пытается вывести его из себя:
– Так ты еще и трус, Леша? Трус, который умеет делать гадости только исподтишка?!
Терпение у Лешки лопается, и он кричит:
– Нет! Не трус! Я сказал – дура! И вы… вы тоже дура!
Тихоня ложится на кровать и накрывает голову подушкой. Дебил залезает под простыню. Витек молчит.
Достав градусник у меня из-под мышки, доктор смотрит температуру и размышляет вслух:
– Поняяятно… Маргарита Юрьевна, принесите еще таблетку аспирина, – обращается она к медсестре.
Медсестра уходит. Алевтина Андриановна поворачивается к Лешке.
– Значит, лечение не подействовало? А я уже думала, что ты выздоравливаешь, и хотела тебя выписывать. Но, оказывается, ты все это время притворялся и обманывал нас… Что ж, придется повторить курс.
У Лешки текут слезы.
Возвращается Маргарита Юрьевна со стаканом и таблетками. Она сажает меня на койке и заставляет выпить пилюлю. Затем опять ставит градусник и поворачивается к Леше:
– Говоришь, что мы дуры… А ты, получается, умный… Что же, если ты такой умный, ответь нам, Леша: почему у тебя в школе одни двойки и тройки? И как же ты, такой умный, додумался инспектору детской комнаты милиции сбросить на голову бомбочку с чернилами, а директора школы запереть в туалете? И разве умные дети убегают из дома и путешествуют на товарных поездах? – берет небольшую паузу врач. – А учителей из школы, ты, наверное, тоже дураками считаешь?.. Одни дураки кругом тебя? Так, выходит, по-твоему? – Лешка молчит, и, не дождавшись ответа, врач продолжает: – А не слишком ли много у тебя получается дураков? Может быть, все-таки это не они, и не я, и не Маргарита Юрьевна, а ты дурак? И может быть, тебе это уже пора осознать и стараться поумнеть? А?
Пауза.
– Пойми, Леша, мне сульфозина не жалко. И Маргарите Юрьевне не жалко. Нам тебя жалко. Жалко, что ты не понимаешь того, что ты болен и тебе нужно лечиться. И единственные, кто может и хочет тебе в этом помочь, это мы, твои лечащие врачи. Вот когда ты это поймешь, тогда, может быть, нам и удастся выписать тебя отсюда. А пока, Леша, ни о какой выписке не может быть и речи!
Она достает мой градусник и кивает.
– Спадает, – говорит врач медсестре, и они уходят.
Витек идет к Лешке:
– Лешка, ты чё наделал? Она же тебя теперь заколет на фиг!
Понимая, что сглупил, Лешка бычится и отворачивается:
– Не знаю. Вырвалось как-то само.
Витек не унимается:
– Я чё тут, с трупами теперь должен целую неделю лежать? Одного нашпиговали, что еле дышит, теперь второго в расход пустят! – Витек подходит к Тихоне и сдергивает с его головы подушку. Тот испуганно закрывается руками и ногами. – Тихоня, ты случайно не собираешься Степаныча стулом по кумполу навернуть?! А?! А?! – ополчается Витек. Тихоня зажмуривает глаза и закрывает руками уши. – Ну, хоть этот не собирается, – вздыхает с облегчением Витя и возвращается к сникшему Лешке. – Лешка, ты чё, не понял до сих пор? Они же специально выводят нас из равновесия. Ты думаешь, что ты за Давида заступился? Много ты ему помог? Полегчало? Спроси у него – полегчало ему от твоей помощи?.. Ну? Спроси-спроси, – подталкивает Лешку в плечо Витек. – Ни хрена ему не полегчало! А вот Адрияге полегчало! За это я тебе ручаюсь. Она теперь вколет тебе двойную дозу сульфы, подержит еще пару месяцев в больничке, а в деле напишет: шизофреник. И доказывай потом всю жизнь, что это не так. – Леха плачет. – Молчать надо! Понимаешь, Леха? Молчать! Сжав зубы, молчать и не реагировать. Это единственный способ выйти отсюда на свободу. – Лешка плачет. Витек обнимает его за плечо. – Мой тебе совет – проси прощения и у Маргариты, и у Яги. Проси и говори, что все понял. Что больше такого никогда не повторится. Будешь хорошо просить, может, и простят.
Слышится голос медсестры:
– Выходим все на прогулку.
Заметив наконец, что я пришел в себя, Витек обращается ко мне:
– Давид, держись. Мать твою сегодня уже не пустили. В другой раз увидишь.
Все удаляются, оставляя меня наедине с болью в теле и тоскливыми мыслями о несостоявшейся выписке и встрече с мамой.
К вечеру температура поднимается вновь, и я долго-долго мучаюсь, не в силах забыться сном. Потом засыпаю, но от длительного желания это сделать понимаю, что я не сплю, а только помышляю об этом. С жаром приходит озноб, и, пробудившись, я осознаю, что всю ночь не спал. Всю ночь об одном… Голова после вчерашнего туго стянута бинтами. Итак: это не бинты, а обруч, беспощадный, из стеклянной стали, обруч наклепан мне на голову, и я – в одном и том же кованом кругу: убить М.Ю. Убить М.Ю, – а потом пойти к той и сказать: «Теперь – боишься?» Противней всего, что убить как-то грязно, древне, размозжить чем-то голову – от этого странное ощущение чего-то отвратительно-сладкого во рту, и я не могу проглотить слюну и все время сплевываю ее на подушку[501]. Затем поворачиваю голову в другую сторону и смотрю на спящих ребят. Луна серебрит предметы и лица мальчиков, окутывая палату таинственностью. Лунный иней мерцает отраженными лучами солнца и уводит мой взор по тропинке света вверх. Я гляжу через окно в небо и вижу лики детей, прошедших сквозь концентрационный фильтр клиники. Их повзрослевшие лица бесстрастно сверкают далекими звездами космоса над горизонтом движущейся земли и вдруг, вспыхнув гневными лучами рассвета, опаляют гору и стены больницы. Поток лучистой энергии приносит ветер. Ветер усиливается, трещит, попадая в костер зари, и вздыбливает пурпурные клубы утреннего тумана. Но, выпорхнув из западни конденсата, тут же растекается над фиолетовой гладью Волги. Волга наполняется сиянием атмосферной рефракции[502], и дети всматриваются звездами тускнеющих глаз в ускользающую даль предутренней иллюзии. Иллюзия пробегает рябью по волнам прилива. Туман ширится, оседая слезами росы на деревянных рангоутах парусников, и ровная поверхность грозного океана покачивает игрушечные суденышки, когда мама опускает меня в ванную…
Так наступает сон. Но от длительного желания это сделать я понимаю, что вновь не сплю, а только помышляю об этом…
Экспрессия вторая
1
Детская площадка, разделенная по центру рабицей на две отдельные зоны: для девочек и для мальчиков. На площадке мальчиков имеется песочница, лавка, столик и детский домик. У девочек все то же самое и еще качели с перекладиной. Степаныч ставит стул, который всегда выносит с собой на прогулку. Дети гуляют. Рядом с санитаром стоит Лешка.
– Чтобы дальше одного метра от меня не отходил, – говорит Степаныч Лехе и садится на стул читать газету.
Леха молчит, опустив голову. Витек в дальнем углу площадки разговаривает о чем-то с Аксаной, которая стоит у забора. Дебил ходит по территории, озираясь по сторонам и набивая карманы всяким мусором. Глухонемой сидит на лавке, глядя на девчонок, играющих на своей территории. К сетке подходит Лешкина Оля и зовет его тихим голосом: «Леша… Леша…» Лешка поднимает голову, смотрит на Олю и опять опускает взгляд на землю. К Оле подбегает Дебил и начинает показывать ей мусор из своих карманов. Оля смотрит на Дебила, делает шаг в сторону и опять обращает взгляд на Лешу. Дебил перемещается к ней. Оля снова отходит в сторону и зовет: «Леша… Леша…» Лешка всхлипывает и вытирает слезы. Дебил вновь перекрывает обзор Оле, доставая из штанов очередную чудовину. Оля отступает от сетки и смотрит на Лешу издалека. Показав все свои сокровища, Дебил убегает за новыми. Оля подходит к ограждению, берется за нее руками и молча глядит на Лешу. Глухонемой смотрит на Олю, затем на Лешку и опять – на девочку. Не выдержав затянувшейся паузы, он начинает что-то мычать и жестикулировать, пытаясь объяснить Оле, что Лешка наказан. Оля оглядывается на Немого и опять переводит взгляд на Лешку. Слышно, как Аксана спрашивает Витька:
– А где Давид?
Витек сообщает:
– У него вчера мать приезжала, а Маргарита ему сульфозин уколола…
Аксана вздыхает:
– Бедняга. За что она его?
– Встал до подъема. Маргарита увидела и сказала, чтобы он лег. А он стал убегать. Они полчаса по палате гонялись, а когда она его поймала, Давид прокусил ей руку.
– Ну и что, что прокусил?
Витек смотрит на Аксану влюбленными глазами. Не выдержав собственных чувств, подходит к сетке и просовывает руку.
– Аксана, как… как?..
Девочка улыбается, берет прядь своих волос и щекочет ею Витькин нос. Оглянувшись по сторонам, Витька целует Аксану.
– Маргарита вышла! – шепчет она, заметив появившуюся в дверном проеме медсестру.
Витек делает шаг назад и садится на корточки. Оглянувшись, шепчет:
– Кобра…
Аксана тоже садится на корточки. Витек продолжает:
– У Давида аллергия на укол была. Он задыхаться стал, и температура скакнула. Его три часа в чувства приводили.
Аксана вздыхает:
– Смешной он.
– Он мне рассказал, как ты его нахваливала.
– Как? – притворяется удивленной Аксана.
– Про волосы шелковистые, – конкретизирует Витя.
– Они у него и правда шелковистые, – улыбается девочка.
Маргарита уходит с площадки. Витек сразу делает шаг к Аксане, и она тоже подходит к забору, Витек целует ее через сетку и, отступая, произносит:
– У тебя лучше!
Аксана начинает заплетать косичку. Витя возмущается:
– Не надо!
– Не нравится? – удивляется Аксана.
– Нет! Мне распущенные нравятся!
– Распущенные девочки? – подкалывает она.
– Нет. Твои волосы. Из всех психов в этой больнице у тебя самые красивые!
– Ну, хорошо, не буду, – соглашается Аксана и расплетает косу.
– А ты знаешь, я думаю, что Давиду повезло, – заявляет Витя.
– В чем же ему повезло?
– У него аллергия на сульфозин, значит, серой его колоть больше не будут. А аминазин – это фигня по сравнению с сульфой. Ему теперь бояться нечего – только влажное пеленание.
– У нас влажное пеленание никому не делали. Холодно лежать?
Витек усмехается:
– Замерзнуть не успеваешь. В мокрую простыню плотно оборачивают тело, а затем широким бинтом приматывают к кровати. Когда материя начинает высыхать, ткань садится и дышать становится нечем. Паника наступает – будь здоров! Даже на крик воздуха не хватает.
– Понятно, – опять вздыхает Аксана.
– Мне когда первый раз сделали, я думал, задохнусь, – продолжает Витька. – Эффект потрясный. Потом как с того света возвращаешься. Но продолжительность пытки короткая – развязали, и отмучился.
Аксана печально вздыхает:
– Витя, а когда ты отсюда выйдешь?
– Не знаю. Адрияга ничего не говорит. Я ее уже спрашивал об этом. А она талдычит, как попугай, одно и то же. «Все зависит только от тебя самого. От твоего поведения. Будешь стараться, пойдешь на поправку, мы тебя сразу же выпишем», – передразнивает врачиху Витек. – Я уже и так целый месяц тише воды, ниже травы. Не знаю, что ей еще надо.
– А меня опять хотят выписывать. Врач сказала, что максимум неделю продержит и отправит домой.
Пауза.
– Я не поеду домой без тебя…
– А врач что?
– А врач говорит, что, если не пойду, меня переведут в область.
– Вот сволочь!..
Пауза.
Витек:
– Говоришь, неделю еще?
– Да.
– Черт! Я попробую поговорить с Адриягой. Но она такая…
Оля опять жалостливо зовет Лешку:
– Леша… Леша…
Аксана:
– А Лешу за что наказали?
– У Лехи вообще крышу сорвало. Представь, он Маргариту и Адриягу дурами назвал! Если бы не Давидова аллергия, они бы его спеленали. Не до него им было. Но Адрияга такие слова не прощает. Я ее знаю.
Аксана глубоко вздыхает и, взявшись за собственную прядь, шепчет:
– Медсестра сказала, что отрежет мне волосы, если я опять вернусь сюда после выписки. У нас уже подстригли двух девочек. Говорят, что вшей нашли, но я не верю, потому что постригли нормальных.
– Нас тоже стригут за провинность. Дебилов не трогают, им все равно. Адрияга это перед выпиской любит делать, чтобы дома лысина подольше напоминала про больницу.
Пауза.
Аксана:
– Вить?
– Чё?
– А если мне волосы отрежут?
– Тебе не отрежут. Тебе в школу осенью идти. Они знают, что в школе тебя любят!
– А ты любишь?
– Ну, ты же знаешь… Люблю…
– А если отрежут – будешь любить?
Витек делает шаг к сетке и берет прядь волос Аксаны в руки.
– Я тебя любую люблю. Но они не отрежут. Побоятся!
– А как ты меня любишь?
– Ну, как-как… сильно, – смущается Витек.
Аксана не унимается:
– А еще как?
– Блин… ну… очень сильно!
– А почему ты меня любишь? – не успокаивается Аксана.
– Потому что ты красивая.
– А еще?
– Клевая.
– А еще?
– Потому что… ты такой же псих, как и я! – смеется Витька.
Пауза.
Оля жалобно зовет Лешку:
– Леша… Леша…
К ней сразу подбегает Дебил и показывает новые чудовины. Оля снова отходит в сторону, и все повторяется. После очередной неудачной попытки отвязаться от Дебила из песочницы встает Немой и начинает оттаскивать Федю от сетки. Тот возмущается, привлекая внимание Степаныча. Степаныч кричит: «Эй! Эй! Оставь его в покое!» Но глухонемой стоит спиной к санитару. Он не слышит Степаныча и продолжает тащить Дебила от забора за шиворот. Вдруг Дебил кидается на Немого, и начинается драка. Степаныч спешит к дерущимся. Леха смотрит санитару вслед, потом переводит взгляд на Олю, потом на забор, потом снова на санитара, снова на забор и бросается на другой конец площадки. Он не замечает, что в этот момент из корпуса выходит Маргарита Юрьевна. Разгадав его намерение, она бежит за Лешкой. Лешка спотыкается о выпирающий из земли корень вяза, но, удержав равновесие, подбегает к сетке и прыгает на нее. Вслед за ним прыгает медсестра и повисает на Лешке, от чего тот соскальзывает вниз. Прижав рвущегося на волю мальчика, Маргарита Юрьевна кричит:
– Степаныч! Быстрей сюда!
Степаныч оглядывается на нее, но, продолжая сдерживать драчунов, не может прийти коллеге на помощь. Подвешенные за уши в руках санитара Немой и Дебил стоят на цыпочках, продолжая кидаться друг на друга. От боли Дебил звереет и уже пытается нападать на медбрата. Не справляясь с обезумевшим Лешкой, который вновь карабкается на забор – Маргарита Юрьевна опять призывает на помощь санитара. Лешка лезет, как неугомонный скалолаз вверх, и санитарка уже еле держит его за одну ногу. Степаныч бросает свои жертвы и бежит к ней. Глядя вслед убегающему санитару, осатаневший от боли Дебил кидается за ним в погоню. В последний момент Леха выдергивает ногу из когтей медсестры, но подоспевший вовремя Степаныч достает его в прыжке:
– Стой, падла! Куда собрался?
В это мгновение Дебил запрыгивает санитару на спину и впивается зубами в его большое, правое ухо. Степаныч кричит от боли:
– Аааа! Рита, убери его!
Маргарита Юрьевна отпускает Лешку, которого держит Степаныч, и, схватив Дебила за шиворот, пытается оттащить, чем причиняет еще большую боль санитару, так как Дебил не отпускает уха жертвы изо рта. Степаныч орет по новой:
– Аааа! Он мне ухо сейчас отгрызет!
Медсестра начинает бить Дебила по голове, но только отбивает себе руку. От ударов по голове Дебил рычит и звереет, раздуваясь на глазах у детей ненасытной тягой к мести. Из больницы выбегает Алевтина Адриановна. В одной руке у нее шприц, в другой смирительная рубашка. С разбегу она всаживает иголку в ягодицу Дебилу, шепча сочувствующе Степанычу:
– Потерпи, Степа, потерпи – сейчас отпустит.
Через пару мгновений Дебил начинает мякнуть и, схватившись рукой за то место, куда ввели шприц, поворачивается к врачихе. Его рот и подбородок в крови. Алевтина Адриановна готовится накинуть на буяна смирительную рубашку, но тот бежит прочь. С каждым шагом он хромает все сильнее и сильнее. Через несколько метров Дебил уже волочит ногу и вскоре падает на землю. Врачи набрасывают на него смирительную рубашку и завязывают рукава. Дебил стонет, но не сопротивляется.
Все это время Лешка, успевший перевалиться через забор, не оставляет наивных попыток вырваться из стальной хватки санитара. Врачиха командует медсестре:
– Беги за второй рубашкой!
Степаныч сдергивает Лешку с забора, как с пальмы банан, и прижимает мальчика к земле. Маргарита Юрьевна приносит вторую рубашку, и они одевают ее на бьющегося в истерике подростка.
Леха кричит:
– Я сам! Я сам! Только не колите! Не делайте мне уколов!
Связав Лешку, Степаныч берется за кровоточащее ухо и, не обнаружив его на месте, верещит благим матом, как недорезанный поросенок:
– Сволочь! Он мне ухо откусил! «Скорую»! Скорее «скорую» вызывайте!
Санитар пулей летит к связанному на земле Дебилу. Алевтина Андриановна спешит в помещение вызывать карету.
– Где ухо, паразит? – набрасывается на Дебила медбрат. Он старается открыть ему рот, но Дебил стискивает зубы, и Степаныч чуть не лишается пальца.
– Открой рот, идиот! – вопит потерпевший, нанося больному тяжелые оплеухи.
Медсестра, как обученная ищейка, рыщет на корточках по земле, повторяя путь Дебила от сетки к месту борьбы. Добравшись ни с чем до палача и жертвы, она заискивающе шепчет:
– Может, он его все же выплюнул?
Продолжая методично обрабатывать Федю, санитар орет:
– Сожрал он его, падла! Я по глазам его сытым вижу – сожрал!
Тяжелые пощечины впечатываются листьями канадского клена в пухлые щеки мальчика. Не получив желаемого результата, санитар переворачивает Дебила и кладет, как свежевыловленного утопленника, животом на свою коленку. Он барабанит Федю кулаками по спине, надеясь, что в этой позе тот отрыгнет ухо быстрее. Но и этот прием не приводит к очищению желудочно-кишечного тракта Феди от инородного тела санитара. Вдруг медсестра подпрыгивает на две конечности и со словами: «Сейчас он откроет свой поганый рот!» – разбегается и со всего размаху бьет Дебила ногой в то место, куда ему только что сделали укол. Взвыв, Дебил выплевывает ухо Степаныча и корчится от боли.
– Вот оно! – радостно горланит счастливчик, хватая ухо и стряхивая с него песчинки родной земли. Они падают на прежнее место, успевая перед этим напитаться кровью и слюной своих земляков.
– Чуть не сожрал его, боров! – восхищенно констатирует мужик в белом халате, разглядывая и обдувая на свету пожеванный отросток тела.
– Волоки его внутрь, я скорую вызвала! – зовет Степаныча выбежавшая на улицу Алевтина Адриановна. Степаныч закидывает Дебила на окровавленное плечо и тащит его в помещение.
Врачиха командует: «Все бегом в палаты!»
Ошарашенные произошедшей на их глазах фантасмагорией, дети послушно плетутся в здание. Медсестра ведет замотанного Лешку. Тот ноет. Площадка пустеет. Порядок восстановлен. Победителей не судят.
В палате Леше вкалывают двойную дозу аминазина и даже не привязывают его к койке.
Распластавшись, как медуза на горячем песке, он смотрит стеклянными глазами в одну невидимую точку на посеревшем к вечеру потолке… Аминазин угнетает рефлекторную деятельность Лехиной нервной системы, и, продолжая внешне бодрствовать, он отсутствует в больнице напрочь.
Тем временем сульфозиновая боль начинает прощаться с телом Давида, напоминая о себе лишь легкими прострелами, берущими свое начало в принявшей на себя удар ягодице.
Следующая неделя проходит без происшествий. Лехе регулярно колют аминазин, и он становится безразличным к окружающим его событиям. На выходные приезжает мама и привозит мое любимое «Ленинградское» печенье. Я уже понимаю, что просить ее забрать меня отсюда бессмысленно, так как она ничего не решает, и поэтому не жалуюсь, чтобы не расстраивать ее понапрасну.
В конце третьей недели Тихоня вдруг объявляет, что Алевтина Адриановна сказала ему, что завтра его выпишут. К тому времени Лешку уже перестают накачивать аминазином, и после слов Тихони он садится на свою койку и плачет. Витек пытается его успокоить:
– Леха, заканчивай! Адрияга запретила тебе плакать. Увидит, опять уколет. Слышишь, Леха?
Лешка ревет тихо, почти беззвучно. Тихоня подходит ко мне и, оглянувшись на Лешу, шепчет:
– После той истории Леша очень много плачет.
Витек слышит его слова и заступается:
– Тихоня, ты бы тоже плакал, если бы тебя неделю продержали на уколах.
Все молчат. Тихоня вздыхает:
– Уже прошел месяц летних каникул. Мама сказала, что отвезет меня в деревню к бабушке, чтобы я там отъедался. Но я совсем не хочу есть… Иногда мне кажется, что еда живая…
Витек настороженно переспрашивает:
– Живая?
Тихоня заговорщически шепчет:
– Да… Мне кажется, что мясо коровы не мычит, когда я его кусаю, только потому, что оно отделено от горла и головы.
Витек взрывается:
– Слушай, Тихоня: поставь весла в угол и приготовься к выписке!
Тихоня испуганно оправдывается:
– Но я не обманываю, Витя, это правда…
– Вот поэтому и говорю – оставь весла в покое!
Пауза.
Слышно, как за окном гудит проплывающий по Волге пароход. Звук поднимается в гору, задерживается на ее вершине и, перевалив через преграду, растворяется на другой стороне в кустарниках дикого терна. Тихоня не унимается:
– Один раз в деревне я видел, как мой дедушка убивал корову… Он вывел ее на зады, привязал за голову к дереву, взял кувалду и со всего размаха ударил свою корову по голове… Я испугался и подумал, что он разбил ей голову. Но корова только упала на передние колени и стала молча смотреть на нас. Ты знаешь, Давид, какие большие у коровы глаза? – обращается он вдруг ко мне.
– Знаю, – отвечаю я, вспомнив корову бабушки Гали.
– Моя вторая бабушка, папина мама, живет за Волгой, и у нее есть корова, – оповещаю я Тихоню.
Тихоня понимающе качает головой и продолжает:
– Стоя перед дедом на коленях, корова смотрела-смотрела, смотрела-смотрела, и мне показалось, что она спрашивала дедушку: «За что ты меня так бьешь?..» Но дедушка ничего не ответил, и тогда корова опять встала на все четыре ноги. А дед поплевал на ладони и снова взялся за кувалду. Он так сильно размахнулся на этот раз, что я испугался, как бы дедушка не попал корове по ее большому черному глазу. Но дед попал в то же место. Понимаешь? – он ударил ее со всей силы в то же самое место… Со всей силы!
– Понимаю, – отвечаю я, не понимая, к чему он клонит.
– После второго удара я решил, что ее голова расколется, и очень боялся увидеть трещины. Но корова опять упала на колени, а из ее глаз потекли слезы… Они текли и текли, а ее добрые большие глаза смотрели на меня и говорили уже мне: «За что?.. За что дедушка так сильно бьет меня по голове?» Я стоял сзади дедушки и не знал, что ей ответить. Тогда дед взял огромный нож, подошел к корове, воткнул нож ей в горло и стал резать сверху вниз. Сначала он резал ее горло к земле, а когда разрезал, перевернул нож заточенной частью наверх и стал резать к небу, до тех пор, пока не уперся во что-то твердое. А корова все это время продолжала послушно стоять на коленях и беззвучно плакать…
Тихоня замолкает.
– А что было потом? – спрашивает его Леша.
– Потом ничего не было… Бабушка сказала, что я потерял сознание[503].
Пауза.
– Это он ее оглушал, чтобы телка не чувствовала боли, когда ее режут, – разъяснил процедуру Витька.
– Наверное. Но теперь, когда мне дают мясо или котлеты, мне кажется, что это дедушкина корова, и я сразу представляю, как всех их режут большими, остро заточенными ножами и бьют по голове кувалдами. Поэтому я не могу их жевать. А мама злится…
– Тихоня, ты только не говори, пожалуйста, про это Адрияге, а не то твоя выписка отложится на неопределенный срок, – говорит Витька и опускает голову на руки.
– Нет-нет! Я ничего не говорю Алевтине Адриановне… Просто мне совсем не хочется есть в последнее время.
Пауза.
Где-то за окном слышен приветственный гудок парохода и первые аккорды «Прощания славянки». Витек шепчет, не поднимая головы:
– Моя бабушка считает, что коровы и есть наш Иисус… Он в каждой из них, так же, как они в каждом из нас. И через них он несет свой крест страдания за все человечество… Раньше люди об этом знали, но потом забыли…
Пауза.
Лешка всхлипывает. Мне становится его жалко.
– Не плачь, Леша. Меня же тоже не выписывают.
Витек отрывает голову от рук и произносит голосом, в котором пробегают нотки затаенной злобы.
– Леха, слышишь меня? Выпишут тебя! А не выпишут – вместе убежим!
Сквозь слезы Леха бормочет:
– Я уже два раза убегал. Первый раз на два укола набегал. Второй раз на три. Четыре укола я не выдержу! Больше не побегу. Здесь буду жить!
Витек не сдается:
– А кто так бегает? Только Адриягу разозлил и внимание привлек! Степаныч на прогулках от тебя глаз теперь не отводит.
Витя подходит к Лешке и обнимает его за плечо:
– Ну, перемахнул бы ты через забор, а дальше что? Куда побежал бы в больничной робе – подумал?
– Не знаю, – всхлипывает мальчик.
– Тебя первый же прохожий вернул бы назад. – Витек треплет Лехину голову. – Думать нужно, прежде чем что-то делать. Дууумать!
Молчим.
Витек продолжает:
– Меня первый раз когда сюда положили, я тоже решил бежать. Познакомился здесь с одним пацаном. Все звали его Юрок-шнурок. Высокий был – выше меня. Но худющий – страсть! Шнурок был на год младше. Ему тогда двенадцать исполнилось, а он уже три раза убегал из больнички. Адрияга ему сказала, что, если еще раз убежит, она его положит в область. Оттуда не убежишь – далеко. Да и вообще… Так вот, Шнурок рассказал мне, где здесь в заборе есть дырки. Я говорю про общий забор, которым огорожена вся больница. Через сетку, вокруг нашей площадки перелезть не проблема. А второй забор высокий. Его с кондачка не перепрыгнешь.
Витя обращается к Лешке:
– Вот скажи, как ты через второй забор собирался перелезть?
– Не знаю, – бормочет Леша.
– Вот то-то же! А я знаю. И знаю, как до дома добраться.
Это пробуждает мое любопытство:
– Витек, а как до дома добраться в больничной пижаме?
– А так! Я прошлый раз отсиделся в овраге до ночи. А ночью пошел. Главное – дорогу знать. Через два часа я был уже дома. Переспал на чердаке. Ну а утром, когда мать ушла на работу, взял ключ у соседки и зашел в квартиру.
– Здорово! – восхищаюсь я.
– А Шнурок рассказывал, что один раз он прямо днем спустился к Волге, снял пижаму и в трусах пошел по берегу до ближайшего пляжа. На пляже стащил у кого-то из отдыхающих шорты с майкой и домой прибился уже в обновке. Правда, дома его особо-то и не ждали. Поэтому он вскоре опять сюда загремел.
Я поднимаю брови:
– Витек, а как ты сюда попал после побега?
– Инспекторша наша, из детской комнаты милиции, привезла. Мать ей сказала, что я уехал к бабке в деревню, но та все равно вычислила. Посадила в мусорской «газон» – и в больничку… Мы ее так и зовем – Гестапо. К ней, если кто в кабинет попадает, – без слез не возвращается. Ее и родители боятся.
В палату входит медсестра, вкатывая перед собой столик. Все дети по очереди подходят к ней, запивают таблетки водой, открывают рот, вытаскивают язык и говорят: «Ээээээ!» Закончив раздачу «оздоровительных средств», она несет «свой крест» в следующую палату. После ее исчезновения я, Витька и Лешка сплевываем пилюли в ладонь. Дебил садится на кровать и начинает монотонно качаться на сетке. Немой лежит с безучастным видом и смотрит на окно. Юному телу хочется что-то делать, но делать нечего, и я сочиняю каламбур, пытаясь оживить обстановку.
– Завтра мама печенья с конфетами привезет, без сладкого жить невкусно!
– Вкусно… невкусно – какая разница, когда ты в больнице? – парирует Витек.
– Разницы никакой, – соглашаюсь я, – но с конфетами она слаще..
– С конфетами слаще во рту, а в палате от их присутствия решетки не исчезают, – не перестает раздражаться Витек.
– Решетки от печений, конечно, не исчезают, – соглашаюсь я, – но и не прибавляются. А значит, сладости способны причинять удовольствие, не вступая с медицинскими работниками в конфликт.
– Ты нам-то принеси, – поддается моей проповеди Лешка, к которому никак не может добраться мать.
– Ага, – отвечаю я, удовлетворенный общим результатом.
Погружаясь в невеселые мысли, ребята смолкают. Сидя на тумбочке, я смотрю сквозь стены больницы вдаль. Где-то там, за этими стенами, летние каникулы – последнее прибежище усталого путника перед тяжелым восхождением на заснеженную вершину учебного года.
Догадавшись (по моему виду), что я сканирую пространство, Витек безразлично вопрошает:
– Ну чё там? Плывет чё по Волге или нет?
– Плывет, – вздыхаю я. – Два корабля плывут…
– А куда плывут?
– Прямо…
– Ааа… Ну что ж, я так и думал…
Лешка не выдерживает и скулит:
– Блииин… купаться хочется!
Я сразу подхватываю любимую тему:
– Мы на Волгу с пацанами каждый день ходим купаться. Утром встаем часов в шесть, берем удочки – и на берег. Купаемся, рыбу ловим и за солитерами гоняемся.
– Так их же нельзя есть? – вклинивается Тихоня.
– А мы их и не едим! – усмехаюсь я.
Вскочив на тумбочку, я развожу в стороны руки и, сделав удивленное лицо, восклицаю:
– Мы ж не дураки, чтобы солитеров есть…
После короткого замыкания пацаны взрываются общим смехом. Я свожу руки над головой и, сделав идиотское выражение Мальвины, хлопаю ресницами несколько раз подряд, после чего опять развожу руки в стороны, передразнивая ее жест… Мальвина переворачивается в сундуке Карабаса Барабаса и пихает локтем в живот развалившегося на перине Пьеро, который спросонья дергается в сторону и чуть не выкалывает себе глаз о нос спящего Буратино… Смех повторяется. Не вставая с кровати, Дебил прыгает, амортизируя от сетки задницей так, что его ноги подлетают почти на метр. Я опять повторяю жест и обвожу палату удивленным взглядом, учащая сердцебиение век. Шутка срабатывает уже в третий раз, и, лишившись невинной внешности, я хватаюсь за живот и ржу вместе со всеми.
Когда пацаны успокаиваются, Тихоня с прежним упорством повторяет свой вопрос:
– Но их же все равно нельзя кушать?
– Кушать нельзя, а ловить можно! – зарубаю я его любопытство и продолжаю повествование: – Мы устраиваем на них облаву. Один стоит на пристани и указывает, где появилась солитерная рыба. А другие гонят ее к берегу и там уже глушат… бедолагу ладонями.
Оттаявший после шутки Витек подключается к моей теме:
– А у нас вдоль Волги одни заводы стоят. Мы на озеро ходим купаться. Там ни солитерной, ни молитерной – ни-ка-кой рыбы нет.
Волна вдохновения спадает, растекаясь образами воспоминаний, и все смолкают.
Я опять беру инициативу в свои руки:
– А один раз я двух пацанов от смерти спас!
– Как это? – удивляется недоверчиво Витя.
– У нас на пляж в прошлом году привезли бетонные балки и вырыли котлован. Хотели что-то строить, но потом, как всегда, передумали. От замышлявшегося строительства осталась яма и куча бетонных плит. Мы с мальчишками знаем про яму под водой и раздеваемся чуть правее, как и другие посетители пляжа. Поэтому у плит и берег всегда пустынный. А если кто-то располагается около ямы, нам сразу становится понятно, что человек пришел сюда в первый раз.
История со спасением произошла на выходные. Не то в пятницу, не то в субботу… Хотя нет – все же в субботу! В субботу, потому что народу на пляже с утра было видимо-невидимо! Ноге ступить некуда! Да что там ноге – взгляду невозможно было упасть, чтобы не приклеиться к чьей-нибудь голой ляжке или обгоревшей лысине!
Мы пришли, как всегда, рано утром и забили самые элитные места до появления общей массы праздношатающихся… Или нет… – невероятного скопления отдыхающих тел!.. Так вот – до появления невероятного скопления мы успели так накупаться, что животы наши (часам к двенадцати) стали подвывать от голодухи, требуя у Карабаса Барабаса выдать тайну Золотого Ключика. Но никакого Золотого Ключика поблизости нигде не наблюдалось, а была буханка белого хлеба, принесенная Пупком, и два рогалика из моего арсенала. Рогалики, брошенные в пропасть наших желудков, не произвели должного эффекта, поэтому мы сели лопать хлеб. Хлеб был с поджаренной корочкой. Когда мы за него взялись, он разлетелся на кусочки за одно мгновение, которое не успело открыть рот – как с ним было покончено… Наевшись и напившись бутылкой лимонада (прихваченной Егором), мы сразу легли загорать пузом вверх. Пузо-то у нас, сказать по-честному, только у Егора и есть. Он и из воды никогда не вылезает, потому что ему там всегда комфортно. Как человеку-амфибии. И вообще – не мерзнет он! Жир защищает его от переохлаждения. А наши мослы, их чего переохлаждать? Они и так всегда холодные.
И вот лежу я, балдею на песочном ковре природы. Мослы прогреваю для будущего охлаждения. Ни о чем таком не думаю, кроме того – чего бы еще стрескать. Одним словом, бездельничаю всем своим сикульдевым телом… И вдруг краем глаза замечаю, что левее нас двое мальчишек барахтаются в воде как-то не по-человечьи. Не правильно барахтаются… Ну, я взглянул на них и отвернулся. Пацаны незнакомые какие-то. Кто их знает? – может они инопланетяне, вот и барахтаются по-инопланетному.
Повернулся я лицом к солнышку и продолжаю думать о небесных кренделях с мясной начинкой. И о пряниках с молоком. А инопланетян потихоньку забываю.
Как вдруг… меня словно током в голову мысль ударила: там же яма! Посмотрел я еще раз на этих инопланетян и сразу понял – никакие они не инопланетяне. И не барахтаются они, а тонут! Тонут самым обыкновенным способом. Булькают, захлебываются и… вытянув шеи к небу, уже еле шевелят руками.
Огляделся я вокруг – народу полным-полно, видимо-невидимо, а внимания на них обращать никто не хочет. Всем всё по фигу на этом свете! До лампочки! Они же отдыхать пришли на пляж, а тут пацаны тонут рядом с берегом, где и тонуть-то, по всем правилам, не положено.
Я вернул свои мысли к инопланетным существам, повернул в их направлении голову и – глядь! – а одного-то уже и нету! Тю-тю уже одного! Тут мое тело не стало дожидаться, когда голова перестанет разглагольствовать и, воспользовавшись поправкой к конституции на человеческий инстинкт, с разгона нырнуло спасать этих идиотов.
Нырнуть-то оно нырнуло, но сделало это чисто интуитивно. Думает: сейчас я их вытолкну побырику обратно, а потом вернусь к своему прежнему занятию – ничегонеделанию о небесных пирожках. Но на практике все вышло иначе…
Того, который уже под водой был, я нашел сразу и, опустившись на самое дно ямы, оттолкнулся изо всех сил от песочного ковра природы и запустил его наверх. Он обрадовался, конечно, заколотил руками по воде и по моей голове тоже, когда я вынырнул вслед за ним набрать воздуха.
Он как увидел своего спасителя – Давида, так и влюбился по уши! Влюбился и, не скрывая собственных чувств, обнял, чуть не придушив из-за нахлынувших от него ко мне впечатлений. Но мне было не до обнимашек. Мы находились всё еще над ямой, и я заметил, что второй инопланетянин стал потихоньку превращаться в «Титаник» и заваливаться на один бок.
Очень вежливо – я сдернул руки утопающего воздыхателя со своей шеи и, хапнув легкими большой куш воздуха, опять пошел ко дну, борясь с дурацким законом Архимеда, которым ученый в тот момент пытался помешать моему телу опуститься вниз и действовал на меня с помощью выталкивающей силы, равной весу вытесненной моим телом воды.
На опровержение этой научной рухляди у меня ушло очень много сил. Да еще и уши от высокого давления внизу заложило. В общем, уже на втором приземлении на подводный ковер природы (в центре ямы) я понял, что при следующем нырке могу израсходовать остатки энергии, и решил, что после того, как оттолкну «Титаник» от «Айсберга» – буксировать инопланетян буду по очереди. Что, собственно, и сделал.
На выходе из воды я пихнул второго мальчишку к берегу, погрузившись под воду во время отдачи сам. Вновь потеряв силы на возвращение в прежнюю точку, я вынырнул и вздохнул как можно глубже, спасая тело от кислородного голодания. Потом толкнул ближайшего придурка к берегу. Но толчок мой, не имевший стартовой силы дна, оказался слабым, и, развернувшись ко мне лицом, барахтающийся олух тут же раскрыл объятия для обнимашек. Высвободившись из его удуший, я перешел к новой тактике спасения. Поднырнув под пацанов, я попытался толкать их снизу, но, получив ногой в глаз, снова оказался между ними.
Чувствуя, что присоединюсь вскоре к их компании, я безотчетно стал просчитывать ситуацию. Сил у меня уже не осталось даже на крик, который вряд ли привлек бы чье-нибудь внимание, так как в это время по берегу бегал пьяный (без трусов) мужик и махал своими рейтузами, как флагом парламентер, призывая всех к поголовному нудизму.
В это время пацаны опять повисли на моей шее, и я ушел под воду, едва успев набрать свежего воздуха. Погружаясь вниз, я заметил, что спасительный берег стал чуть ближе и вот-вот должно появиться дно. Времени на размышление под водой не было, так как сердце мое колотилось со страшной скоростью, требуя срочно повторить порцию кислородного коктейля. Я рискнул пойти на дно, понимая, что, если оно окажется все еще таким же далеким, вернуться на поверхность Волги сил у меня уже не будет. Но (к счастью для читателей, добравшихся до этого места) песочный ковер природы оказался значительно ближе, и, используя его как стартовую площадку для космического корабля, я вытолкнул на выходе из воды одного балбеса так удачно, что он хоть и продолжал барахтаться и тонуть – я уже точно знал, что, когда он решит это сделать, ноги его упрутся в песок. Набрав полные легкие кислорода, я нырнул вниз и вновь оттолкнулся от песчаного дна. В результате нечеловеческих усилий второй болван причалил к своему другу, и, подплыв к ним, я стал буксировать лоботрясов к суше. Почувствовав дно, охламоны выбрались из воды и, еле волоча ноги, поплелись прочь.
Я же, собрав волю в кулак, сделал еще два шага и рухнул на песок, даже не вытащив из воды нижнюю часть тела. Пробегая мимо меня, пьяный парламентер чуть не наступил мне на голову. Но мне было все равно, потому что в тот день я впервые узнал, что такое смертельная усталость.
Пауза.
– Ну, а эти двое, чё? Спасибо-то сказали? – не сдержался заинтригованный Леха.
– Не-а. Добрались до родителей, упали и лежат, на меня зыркают.
– Так они еще и с родителями были?! – удивляется Витек.
– Были, – подтверждаю я, – с мамой и папой. Я еще посмотрел на них и подумал: хоть бы кто (на мороженое) поблагодарил…
– Чё, не дали ничего, штоль?! – второй раз удивляется Витек.
– Не-а.
– Ну а чё ты сам не подошел к родичам? Сказал бы, что спас ихних придурков! Они бы тебя чем-нибудь наградили.
– Так я ж говорю: усталость смертельная не позволила. А враждебная скромность, ну, в смысле – врожденная, помешала даже об этом думать. Поэтому я перевернулся на спину лицом к солнцу и стал мечтать о небесных блинах с ежевичным вареньем. Облака, они, знаешь, если присмотреться к ним как следует, – самые что ни на есть настоящие блины в сметане.
– Угу, – сказал Витек. А Леха даже «угу» не стал говорить, так, видно, его моя история растрогала. Но потом он все же буркнул:
– Купаться охота после твоих историй еще сильнее.
Витек добавил:
– Да… купаться охота…
– А я плавать не умею, – еле слышно признался Тихоня, пытаясь влиться в общую струю беседы. Но у него ничего не вышло.
Пауза.
– Ну? Чего замолчали? Давай, Леха, ты теперь что-нибудь рассказывай! – командует Витек, недовольный возникшей паузой.
Почесав затылок, Леха начинает рассказ:
– У меня во дворе тоже есть друзья: Био, Псих и Граф. Био – это Роман. Отец у Романа учитель биологии, поэтому мы и дали ему кличку Био. Псих – это Генка. Граф – Сашка. Сашку мы прозвали Графом, потому что он все время хвалится, что его прабабка до революции была любовницей у какого-то графа и теперь в нем течет графская кровь.
– А теперь этот граф где? – перебивает Лешу Витек.
– Когда началась революция, графа убили красноармейцы. Повесили на старой яблоне, что росла около его дома. А детей и жену куда-то увезли. Поэтому Сашка считает себя единственным потомком. Ему об этом рассказала его бабушка – дочка той прабабушки.
– Графиня что ль? – вновь интересуется Витя.
Леха опять чешет затылок.
– Почему графиня? – удивляется он, – это Сашка граф, а бабушка его просто дочка той прабабушки, которая была любовницей графа, – заканчивает Леха с некоторым сомнением.
– Все правильно, – разъясняет Витька, – его бабушка – дочка прабабушки, любовницы графа. А раз так, значит, ее отец граф. Поэтому она графиня. И ее дочка, мать твоего Сашки, тоже графиня. Понял?
– Понял, – вздыхает Леша, ничего не поняв.
– Валяй дальше! – благосклонно разрешает Витюган, – если что-то будет не так, я поправлю.
– Сашкина мать… графиня, – неуверенно добавляет Леха, – умерла при его родах. А отец подался на заработки куда-то в Сибирь, и с тех пор о нем ни слуху ни духу. Граф живет с бабушкой вдвоем, так как его деда убили на войне. И вот как-то Био, Граф и…
– А в какой школе преподает отец Био? – возобновляет допрос Витька.
– Кажется, в Первом железнодорожном интернате. А что?
– Да так… просто. Давай дальше!
– Био, Граф и я пошли нарвать яблок в садах на Ангарском. Ну и в озере заодно искупаться. Знаешь, озеро на Ангарском поселке? – спрашивает Лешка Витю.
– Знаю.
– Вот… Но сначала мы решили заехать на завод игрушек, где тюрьма на Голубинке находится. Набрать там пистолетов с липучками. Ну, такие пистолеты трехствольные с самолетом на рукоятке…
– Да знаю, знаю, – встревает Витек.
– Пока ехали на трамвае, Био поспорил с Психом, что тот ляжет под товарняк. Мы на стадионе «Динамо» вышли, здесь как раз полотно железнодорожное проходит, и пошли мимо тюрьмы, где народу поменьше. А Генка – тот еще псих! – он никогда не отступает. Мы так и зовем его – Псих. Он может один броситься на пятерых. Или на парня старше себя на несколько лет, – пытается аргументировать кличку слушающим его психам Леша.
– Какой же он псих, если его нет среди нас? – удивляюсь я.
Витек смеется:
– Это точно! Какой же он псих? Я его здесь ни разу не видел.
– Псих, псих! – настаивает Лешка. – С ним лучше не связываться! – уверяет он.
– Ну вот, дошли мы до оврага и стали ждать товарняк. Псих сразу сказал: если сегодня не дождемся, приедем завтра! Но нам повезло – мы и второй сигареты докурить не успели, как видим: он уже ползет. Псих сделал последнюю затяжку, выпустил дым и пошел ложиться на шпалы. Машинист паровоза увидел его и загудел. Мы в стороне, в кустах, стояли и то чуть не оглохли. Думали: встанет и убежит. Но Генка не встал. Так и пролежал под товарняком до самого конца. Длинный был товарняк. Бесконечный. Казалось, никогда не закончится. Медленно шел. Мы с Графом со счета сбились. Граф пятьдесят четыре вагона насчитал, а я пятьдесят семь. Когда половина поезда прошла, мы подбежали к рельсам и стали подглядывать – живой ли там Генка? А он лежит себе, улыбается, даже глаз не закрыл.
– Ну, это скорее показатель силы духа, чем психики, – высказывает предположение Витек.
Духа или нет – я не знаю. Но только когда товарняк прошел, Псих встал и как ни в чем не бывало подходит к нам, отрясая от пыли штаны и рубашку. Био отдает ему проспоренные пятьдесят копеек, а сам говорит: «Один раз любой дурак может лечь под паровоз. А спорим, что два раза подряд не ляжешь?» – «Чего? – говорит Псих, у него уши после товарняка заложило, он и кричит Био: «Чего ты там бормочешь?» Био тоже кричит ему в ответ: «А спорим: два раза подряд не ляжешь!» Псих повернулся назад, а тут как раз пассажирский со стороны вокзала появился. Он глянул на нас, ударил Ромку по ладони – спор зафиксировали бегом к рельсам. Поезд как загудит опять! Генка прыгнул чуть ли не под колеса и снова выиграл! С тех пор с ним никто ни на что не спорит. Боятся.
– Психа? – интересуюсь я.
– Проиграть боятся. А вообще Генка, он парень нормальный. Справедливый. Только нет в нем страха. Совсем нету.
– Страха, говоришь, нет?.. Тогда точно псих, – резюмирует Витек.
– Ну да… Я и говорю…
Все замолкают и Лешка продолжает:
– Он космонавтом мечтает стать. Сам рассказал. Вечером, после того как спор с поездами выиграл, мы его спрашиваем: сильно под поездом трясло? А он: «Нормально! Думаю, не сильнее, чем в космическом корабле. Только смотреть не на что. Железки мелькают да неба полоски между вагонами. А под пассажирским и полосок нет. Одна большая стальная змея. Вот в космос бы слетать – другое дело! Там и посмотреть есть на что, и экстрима побольше… Только представьте себе: прибыл ты на орбиту, паришь в невесомости, любуешься звездами… И вдруг – бац! Кислород закончился! А потом – бац! – движок отказал! Представляете? Что тогда делать одному за сотни километров от Земли?.. Или если с орбиты корабль сойдет и полетит в открытый космос – представляете? А? Вот это да! Вот это должно быть страшно!»
Представляем, согласились мы, совсем не представляя невесомость в темноте без кислорода. А Псих продолжил: «Я недавно задумался: как стать космонавтом, не заканчивая на “отлично” школу? Все же говорят, что космонавты отличниками в школе были. А зачем космонавту быть отличником? Главное – чтобы выносливый и все такое… Космонавт – это же не гений? Космонавт – это как… Как водитель троллейбуса! Посади сто лет назад за руль троллейбуса человека и выкати его на улицу – все бы подумали: ого! Космонавт прямо какой-то!.. А теперь что? Теперь думают: лишь бы помнил, что не дрова везет!»
– И на остановках не забывал двери открывать, – добавляет Витька.
– Ну да. И чтобы не закрывал их раньше времени.
– Это точно! – вступаю в разговор я. – У нас мальчишку с Аллеи Героев, на «Современнике», вот так задавило. Людей было много, он схватился за рукоятку, думал пристроиться как-нибудь. А его какой-то мужик пузом выдавил, и дверь на груди сомкнулась. Троллейбус тронулся и поехал. Пока докричались до водителя, пока он остановил троллейбус, у пацана паника началась, и он задохнулся.
Пауза.
– А я вот что думаю, – опять вступает Витя. – На фига в космос гонять вхолостую? На фига пустые корабли запускать? Таксисты вон и то порожняком не ездят! А тут вон – на прошлой неделе «Союз-34» запустили[504], а сегодня по радио сказали, что приземлился «Союз-32»[505]. Обе ракеты без пассажиров мотались. И так каждую неделю! А чего холостить-то без пассажиров? Построили их на народные деньги, всем миром. Болели за них тоже всей страной. Вот взяли бы да и разыграли эти полеты в лотерею! Всем миром, всей страной – разыграли бы, как «Запорожец» в лотерею разыгрывают. Глядишь, и твоему Психу повезло бы – он, может, и страх там первый раз в жизни испытал бы, и… все остальное. А то вот так всю жизнь проживет без страха. А в страхе все же что-то есть…
– Ну да, – подхватывает Лешка, – сначала собак в космосе выгуливали, потом людей выпуливали, а теперь вообще – пустые летают…
Пауза.
– А все же и в самом деле, как стать космонавтом нормальному человеку? Неужели и туда только отличников берут?
– Это неправда, что отличников, – возмущается Витек. – Все отличники дохляки! В космосе их может от перегрузок стошнить. Это же не мозговые перегрузки – физические! А в скафандре блевать нельзя. Задохнешься. Так что, я думаю, отличников туда не приглашают. Но как стать космонавтом, не знаю…
– Или как стать гением? – вдруг подключается Тихоня.
Все оборачиваются и с удивлением смотрят на него.
– Ты о чем это, Тихоня? Каким еще гением? – интересуется подозрительно Витек.
– Ну… гением… Как люди становятся гениями?.. Вот, чтобы стать космонавтом, нужно много тренироваться и быть бесстрашным. Потом нужно, чтобы очень-очень повезло, потому что натренированных и бесстрашных людей пруд пруди. Очень много! Особенно бесстрашных. Одних только спортсменов, десантников и морпехов вон уже сколько тысяч, а может, и миллионов наберется. А в космонавты только одного из всех этих тысяч, ну, максимум двоих, возьмут. А гений… Гению ни тренироваться не надо, ни в десантники идти, ни в космос лететь…
– Ни в кружок юных лунатиков записываться, – смеется Витек.
– Ну да… Ничего не надо – а он все равно первый! Гений… он, как… Как лучший цветок в клумбе – раскрылся, и все тобой любуются, восторгаются.
– А он? – интересуется Витек.
– Он? – переспрашивает Тихоня.
– Ну да – он? Он-то восторгается от того, что все восторгаются?
– Не знаю, – пожимает плечами Тихоня.
Витек продолжает:
– Ну, вот смотри: человек приходит в зоопарк и подходит к клетке с обезьянами. Те прыгают, лазают по решеткам. Восторгаются. Ждут чуда – что им дадут чего-нибудь подержать, или поглазеть, или погрызть. И человек дает им, например, банан.
– Где ж он его взял? – вмешивается Лешка.
– Я же говорю тебе: на-при-мер! Мне что, по-твоему, если бананы – дефицит, воблу дать обезьяне? – Витек смотрит с усмешкой на Лешку, тот пожимает плечами. – Так вот, – продолжает он, – дает человек обезьянам воблу… тьфу ты!.. банан, конечно!.. Обезьяны радуются, скачут, дерутся за него, а человек смотрит и улыбается: вроде как дело полезное сделал. И достает им второй банан…
– Блин! Да откуда он их достает!? – снова возмущается Лешка. – Я банан последний раз год назад у тетки на дне рождения ел. И то два раза сестра откусила!
– Ну, какая тебе разница, откуда он их берет? Не в бананах дело!
– Для тебя, может, и не в бананах, а я для меня в них, – ворчит недовольно Лешка, и Витек возвращается к обезьянам.
– Обезьяны опять ликуют, дерутся за банан. Визжат. Человек смотрит на них и улыбается. Сияет от удовольствия, что доставил его другим. Но так как бананов у него больше нет, он ничего им и не предлагает. Тут к клетке подходит другой посетитель и сует обезьянам огурец. У него нет бананов, и он предлагает огурец. Обезьяны сначала морщатся и бросают его на пол. Мол: чё это за фрукт такой? Подделка какая-то! Но одна, та, которой не достался банан, подходит и, понюхав огурец, начинает его есть. Через некоторое время подбегает вторая, за ней третья, и вот уже обезьяны воюют из-за огурца, кроме той, одной, что попробовала банан первой. Слопав овощ, мартышки просят у гостя добавки, но у того больше нет огурцов, и он смотрит, наслаждаясь ощущениями благодетеля, просто так – на халяву. Тут появляется Буратино и протягивает обезьянам корочку хлеба. Они хватают ее, но, укусив, бросают на пол и опять делают возмущенные физиономии: «Чё это за сухарь такой, не понимаем?» Проходит некоторое время, и вскоре все повторяется: сначала хлеб пробует та, которой не достался ни банан, ни огурец. А затем они скандалят из-за корочки, и только та, что ела банан первой, сидит в стороне. Вечером работник зоопарка вываливает им на пол похлебку. Или что там дают, я не знаю. Сначала обезьяны отворачиваются. Поглядывают за границу клетки, ожидая чего-то повкуснее. Но голод не тетка, и через некоторое время все уплетают похлебку, похрюкивая от удовольствия, кроме той – одной. Эта обезьяна ждет утра и ждет того посетителя, что приносил банан. Но наступает одно утро, второе, третье, а посетителя с бананом все нет. В один из таких дней кто-то из шутников приносит в зоопарк пластмассовую имитацию фрукта и бросает его в клетку. Одураченные обезьяны так быстро разрывают и съедают игрушку, что не успевают понять, что это было на самом деле. А в их головах отпечатывается новый вкус «банана». И только та, что помнит вкус настоящего банана, сидит в стороне. Но спустя неделю, когда она окончательно убеждается, что бананов в этой клетке больше не будет, а на волю никто не выпустит, примат вместе со всеми прихлебывает помои, которые выливают по утрам и вечерам работники зоопарка. Забыв вкус и аромат настоящего банана, она хватает все, что суют в клетки избавляющиеся от разного секонд-хенда посетители, потому что еда в зоопарке становится все несъедобнее и несъедобнее. А запах настоящего банана рассеивается в ароматах вечерних ужинов.
В этот момент появляется тот, уже забытый всеми дядька и, подойдя к клетке, вытаскивает из сумки настоящий большой, желтый и ароматный банан. Подбежавшие обезьяны хватают любимый фрукт, но, понюхав его, бросают на пол, потому что их недавно кормили помоями и они по горло сыты…
Пауза.
– А ты к чему это про обезьян заговорил? – интересуется Лешка.
– Да так… Хэма вспомнил…[506]
Пауза.
– И все же… как стать гением? – вновь подает голос Тихоня.
Но все игнорируют его вопрос, так как в нашем воображении все еще стоят бананы.
Тогда Тихоня идет обходным путем:
– А давайте в игру поиграем? Меня в нее бабушка научила играть.
– Тихоня, – не бесели[507] меня! Ты же знаешь, чем у нас игры заканчиваются, – возражает ему приунывший Леха.
– А я и не беселю. Она простая. Там всего один игрок должен участвовать.
– Один? Это что же за игра такая? Неинтересная, наверно…
– Интересная, интересная! Давайте сыграем. Вам понравится!
– Ну, давай, рассказывай, – соглашается Витюган.
– Только мне нужны несколько кусочков бумаги и карандаш.
– Началось! Где же мы их тебе сейчас возьмем?
– Вить, а у тебя карты самодельные есть… Дай мне несколько штук, пожалуйста. Я только по одному слову карандашом напишу.
– Карты? Да ты чё? Ты ж их испортишь!
– А ты потом сотрешь карандаш. Они же самодельные… А?
– Да дай ты ему, Витек! Все равно мы в них не играем, а только прячем да перепрятываем, – вступается за Тихоню Лешка. – Новые нарисуем!
– Ну, ладно.
Витек достает из матраса карты и передает их Тихоне. Тихоня пишет на картах слова и, разложив в две тумбочки, произносит:
– Нужно вынуть из каждой тумбочки по одной бумажке и прочитать написанное. А потом это изобразить. Хотите, я буду первым?
– Валяй! – благодушно разрешает Витька.
Тихоня вытаскивает по одной бумажке из тумбочек и читает:
– Молча… Кричать…
Почесав голову, он начинает выкрутасничать. Машет руками и изображает черт знает что. Все хохочут. Дебил, стоя на кровати, пародирует Тихоню. Мы орем на Дебила: «А ну, сядь на койку!» Дебил садится, но продолжает передразнивать игрока.
После того как Тихоня заканчивает, вскакивает Немой и жестами просит принять участие в игре. Осененный Лешка радостно восклицает:
– О! Это же игра для Немого!
Немой тащит из тумбочек бумажки, просматривает надпись и протягивает Тихоне. Тот читает вслух:
– Лёжа… Скакать…
Немой ложится на пол и показывает спектакль кузнечика-плавунца. Все опять смеются. Дебил подбегает к Немому и ложится рядом, копируя его жесты.
Следующим идет Витек. Ему достается сочетание «Тупо» и «Молчать».
– Ну вот, фигня какая-то попала!.. Чё тут показывать?
Опустив руки, Витек стоит посреди комнаты. К нему тут же подходит Тихоня и корчит рожи. Поняв, в чем фишка, мы вскакиваем и кривляемся, пытаясь рассмешить Витьку. Я залезаю на Лешку, и мы изображаем всадника на хромой кобыле. Витек давится от смеха, но молчит, раздувая щеки. Дебил неожиданно запрыгивает на Тихоню, и Витек, не выдержав, ржет. Перепуганный Тихоня довозит Дебила до своей кровати и падает на нее без сил.
– Придурки, вы чё тут вытворяете?! – хохочет Витька.
Следующий листок берет Лешка и читает:
– Скользить… Сопливо…
Приняв позу лыжника, Лешка останавливается, так как в палату заходит медсестра и объявляет:
– Все, кроме Леши, выходят гулять. А ты, Леша, за свои побеги отстранен от прогулок до особого распоряжения Алевтины Адриановны. Ложись!
Лешка ложится, и медичка привязывает его руки к кровати.
Пока она фиксирует его конечности, он гундосит:
– А когда меня начнут выпускать?
– Когда научишься себя вести, – наставляет медсестра.
Уходя из палаты, я, пожалев Лешку, обмениваюсь с ним душами, и остаюсь в его теле, выпуская друга на прогулку.
Через некоторое время в комнату входит уборщица. Увидев меня в Лешкином обличье, старенькая женщина приветствует больного ребенка:
– Что, сынок? Наказанный опять? На-ка вот тебе конфету. Хоть какая-то радость.
Она кладет в Лешкину руку мне конфету и принимается за мытье полов. Посмотрев на вкусный сувенир, я отвожу взгляд в сторону. Бабулька делает уборку и неторопливо беседует сама с собой, как с умным человеком.
– Сколько лет я здесь работаю, и сколько вас прошло за эти годы – не сосчитать! Одних, таких как ты, в конце концов выписывают. Других со временем переводят во взрослое отделение. Третьих присылают сюда периодически, как в санаторий.
Умолкнув, бабушка наклоняется и гоняет швабру под Витькиной кроватью. Удовлетворившись проделанной работой, она выпрямляется и продолжает:
– А что толку? Толку-то никакого! Никого ведь не вылечивают!
Уборщица опять наклоняется и выгоняет пыль из-под кровати Давида.
– Вот тебя, Лешка, от чего лечить? От того, что ты все время домой рвешься? Тьфу, глупость какая!.. А этого мелкого, Давыдку, от чего? От подвижности чрезмерной? Или от любопытства? Ну ладно, я понимаю, Федька – Дебил. И то ведь, все равно не лечат его здесь. Ни одной капельки не лечат!.. Лечат – это когда человек выздоравливает и к нормальной жизни возвращается. А когда тебе палки в колеса вставляют или крылья отшибают – это по-другому называется.
Приходит очередь кровати Немого. Она проводит под ней шваброй и, выпрямившись, продолжает поучать, словно книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова[508].
– Вот, скажем, на грядках, в огороде, люди ранним сортам радуются, ухаживают за ними, поливают, пропалывают. От заморозков прячут, от вредителей опрыскивают… А в жизни что? Все наоборот! Каждый старается тебя вышколить под себя. Меряет по себе. Сравнивает с собой. А все, что не сходится в этом сравнении, считает ненормальным… А что нормального-то в этой жизни есть? И как эту нормальность определить? Нет ведь – определяют!.. Кого больше, те и нормальные, а кого меньше, те дураки!.. А раз дураки, давайте их переделывать в тех, кого больше… А то, что эти – кого больше – как раз и устраивают потом разные войны и заставляют на них воевать то самое меньшинство, с которым они борются в мирное время, – так это в порядке вещей!
Уборщица хлопает себя возмущенно рукой по бедру и, покачав головой, заводится еще больше:
– Вот мой-то, мой Мишенька… Как он не хотел тогда на войну с фашистами проклятыми идти. Как не хотел! Весь последний вечер проплакал у меня на груди, как ребенок малый. Видать, чувствовал свою судьбинушку. Знал, что жить ему совсем чуть-чуть осталось. Животное и то чует приближение беды. А человек и подавно! Только одни прячут чувства, боясь этого большинства, а другие не могут спрятать или не хотят.
Уборщица замирает и смотрит на меня долгим грустным взглядом.
– Убили его… В первый же день, как на фронт попал, убили… Первым и последним письмом, которое мы получили от него, была похоронка. Уж как его мать, Зоя Филипповна, горевала! Уж как плакала. Один он у нее был. Без мужа растила. Я, как узнала, что Мишеньки моего больше на свете нет, руки хотела на себя наложить, да сил не хватило дойти до Волги, чтобы утопиться. До дома только смогла добрести. А как пришла – легла на кровать и пролежала так целый месяц. Мама моя уж больно тужила. Хорошо хоть, сестры помогли мне к жизни вернуться. Я младшенькой в семье была. Меня все жалели. А что толку-то? Выжить-то я выжила, а ни семьи, ни детей не нажила…
Бабушка возобновляет уборку, не останавливая нахлынувших воспоминаний.
– Я так думаю, если б уже тогда была эта больница, меня б это большинство сюда бы и упекло для лечения моего горя. Ведь им, большинству этому, нужны здоровые личности, способные и винтовку в руках держать, и на заводе вкалывать по десять часов с одним выходным, на их благо… А зачем мне их благо? Зачем мне их благо, если мне и своя собственная жизнь после смерти Мишеньки не нужна стала? Мне он нужен! Без него нет у меня никаких благ. Забрали у меня все блага вместе с ним, а взамен – ничего. Пусто и на душе, и в сердце, и в доме.
Бабулька полощет тряпку, продолжая на ходу изложение вводного курса собственной философии:
– Вот они каждый год победу празднуют. Когда папашка[509] запретил, так небось и не праздновали! Двадцать лет молчали[510], словно и не было ничего! А теперь, на тебе, вспомнили! Парады, демонстрации… – Старушка выжимает тряпку и бросает ее на швабру. – Но победа-то опять у большинства получилась. А к меньшинству – смертушка пришла… Проиграли они свою жизнь… Как вот мне ходить и веселиться в этот день? Чему радоваться, если все мысли в этот день о Мишеньке? А ведь таких, как я и Мишина мама, – миллионы! Десятки миллионов после войны было!.. А они все празднуют, и празднуют, и празднуют… Празднуют, что они живые, а те – мертвые…
Бабушка вздыхает и крестится.
– Прости меня, Боженька, за мысли мои шальные. Прости старую… Я ад свой на земле прошла. Вот, видно, и потеряла совсем страх.
Совершает троекратный поклон и продолжает:
– Праздник это – весна! Это – урожай осенний! Это – солнышко в мороз! Это – любовь в сердце! Это – рождение ребеночка!.. Вот Исусик у Марии родился – радовалась она? Радовалась! И Кеке Геладзе[511], и Клара Пёльцль[512], и сатана радовался, чтоб ему пусто было! – добавляет в волнении бабушка. – Все матери радуются, если только их не силой взяли, а любовью с ума свели… С ума свели… – усмехается уборщица. – Прям по-больничному заговорила. Как дохторша… – Она опять смотрит на меня.
Слушая ее откровения, я думаю про себя:
«Что за Миша? Что за Зоя Филипповна? Ничего не понимаю! Ну, убили и убили. Победили и победили. Похоронили и похоронили… Мне-то зачем этим голову морочить? Немцев я и без войны ненавижу. Учительница немецкого языка ставит мне двойки в четверти на раз-два-три, даже не заботясь о годовой оценке. На фига мне вся эта катавасия, когда я мать и то раз в месяц вижу?.. Как-то раз учительница по истории сказала нам, что человечество существует уже несколько тысячелетий. И за все это время не было ни одного мирного дня. Каждый день где-нибудь воюют. И что мне теперь – все войны нужно праздновать? Получается, каждый день, что ли, праздник на земле? А какой мне тут праздник, если я в больнице лежу уже второй месяц? Мне тут что праздник, что не праздник – все тоска! Мать уже четвертую неделю не появляется, а Адрияга звереет все больше и больше…»
Постой-постой… – ловлю я себя на подозрении. Давид, это ж не твои совсем мысли, а… Лешкины! Я же здесь только… вторую… ну, максимум, третью неделю лежу. И мне как раз есть дело до войны, потому что там, на той войне, убили моего деда. А бабушка победила!..
Я пытаюсь подумать что-то еще – свое, родное, чтобы Лешкина голова не путала мои мысли, но бабулькин голос отвлекает Давида от наведения порядка в Лехином скворечнике и возвращает к наведению порядка в палате.
– Э-хе-хе, дохтора-лектора… – вздыхает уборщица, – всё-то вы в душу чужую хотите залезть. Разведать желаете, как там у других… А вы к себе-то, к себе в душу давно заглядывали? Проверяли ее? На месте ли она? А то, может, и нет ее уж вовсе?.. Колоть да вязать детей – какая уж тут душа выдержит? Никакая! Улетит из тела раньше времени, чтобы потом за их поступки в чистилище не расплачиваться, и ищи-ищи ветра в поле!.. Брехня это, а не лечение! Потому как не лечат здесь! А не лечат, потому что не знают, с чего начинать и как заканчивать.
Наклонившись над ведром с водой, она споласкивает тряпку и, намотав на швабру, продолжает уборочный процесс, порождая новую волну просвещения, обращенную своими постулатами к деклассированному элементу общества.
– Если у человека что болит, он приходит к врачу и говорит об этом сам. Врачи берут у него анализы, рентгены делают и всякие другие процедуры, чтобы понять болезнь и ее причину. А здесь? Никто ни на что не жалится. Анализов никаких не беруть. Рентгенов не делають… И правильно, что не делають! Какие возьмешь анализы из головы? Это ж не жопа, прости меня, господи!
Вновь троекратно крестится и кланяется, повернувшись к окну. Потом продолжает:
– Никаких анализов из головы взять невозможно! Слава богу, Господь об этом позаботился – спрятал мозги в кубышку! А рентген головы, что он дасть? Пусть даже самый хороший рентген?.. Тьфу ты, слово-то, какое – рен-т-ген! Пока выговоришь – все зубы выплюнешь… – ругается бабка на Вильгельма Конрадовича[513], убираясь под Лешкиной кроватью. – Ну, сделают они его – рентген этоть. Ну, увидят там извилины всякие. Разглядять, какого цвета. Толщину и длину ихову померюють. А что толку-то? В них-то что происходить – никому ведь не ведомо!
Уборщица переходит к подоконнику. Протирает его. Затем, насколько позволяет рост, смахивает с рам пыль и, вздохнув, по новой взвинчивает уже и без того напряженный воздух.
Воздух висит, не шевелится. И, пряча в прозрачность гнев раздражения, ищет уединение под тумбочками.
Не замечая божественных откровений[514], бабушка экстраполирует[515] в себе создателя с помощью эвентуальностей[516] собственного рассудка:
– Вот я вдохнула кислород, а выдохнула другой газ – не видно ведь? Не видно! Но зато можно анализ взять и разобраться, где какой воздух… А здесь? И не видно, и не слышно, и анализов никаких не возьмешь, а они один хрен лечат!.. Чё лечат? Как лечат? Чем лечат? Для чего лечат? Не знаю… Лекари-аптекари… Если Господь не дал, знать, и не надо было! Вон Федька, да ему и так хорошо! И чаво его трогать? На что надеяться? Не понимаю…
Я, лежавший все это время молча, подаю первый признак жизни:
– Марь Иванна, а вы… может, в рот мне конфету положите?
– Ой ты, гхосподи! – всплеснув руками, возмущается на себя старушка. – Совсем выжила из ума, не соображаю!
Вытирает руки об халат, идет ко мне, разворачивает конфету, кладет ее в рот, а фантик убирает в карман, из которого достает вторую конфету и с улыбкой благотворителя опять кладет ее мне в Лешкину руку.
Довольный произошедшими переменами, я благодушно спрашиваю бабушку:
– А вы уже сколько лет в больнице работаете?
– Да давно уж! Как построили, так и убираюсь здесь. В поселке работы не найдешь, а в город пусть молодые мотаются. Им гоняться – хлеба не давай… Я свое уж отмыкалась. Отсуетилась… Хвать!
Бабка моет пол, а я сосу конфету, думая, чего бы еще спросить у нее в благодарность за угощение. Но бабуся начинает продолжать сама:
– У старого человека аппетит мал, да опыт велик. Нам вашу голову насквозь без рентгенов видно. Все ваши мысли у нас на ладони… На ладони! – повторяет она, потрясая ладонью, и наклонившись над ведром, полощет тряпку. Выжимает ее, старательно наматывает на швабру и, кряхтя, разгибается.
– Как-то я хотела здесь одного мальчонку усыновить. Так ведь не дали! Сказали: иди в детдом. Он же и так из детдома, говорю я им. Нет! – отвечают, выбирай нормального! И в детдоме, а не здесь.
Женщина останавливается и утирает со щеки старческую слезу.
– Через месяц его в область отправили. Потом не знаю, как у него жизнь сложилась. А три года назад он вдруг объявился. Высокий стал. Выше меня на голову. Или даже на две. Я с работы иду, а он сидит здесь, у ворот в больницу, и курит. Меня увидел – обрадовался. «Баб Маш, – говорит, – займи денег». А у меня зарплата как раз была с собой. Только получила. Я и отдала ему ее. Больше не приезжал. Наверно, в романтику подался…
Закончив уборку, бабуська берет ведро и идет на выход. В дверях она оборачивается:
– А ты, Лешка, не ерепенься здесь! Будь смирным. А то мать твою два раза уже не пустили на свидание. Смотри только, не говори никому, что я тебе про это сказала!
Уходит. На меня наваливается Лешкина тоска, и я понимаю, почему он все время плачет.
С прогулки возвращаются пацаны. Возбужденный Витек подбегает ко мне и выпаливает:
– Леха, представляешь, они все-таки выписали мою Аксану! Твоя Оля рассказала, что врачиха вызвала мать и отправила ее домой. Аксана не хотела уезжать, но медичка стала ей грозить переводом в область, и она ушла. Представляешь? Вот сволочи!
– Но почему сволочи? – интересуюсь я. – Как ни крути, а на воле лучше, чем здесь.
Витек злится:
– Дурак ты! Не понимаешь! Она с матерью все равно жить не будет! Мать мужиков водит, а они к Аксане пристают. Опять у подружек или на чердаке ночевать станет. Хорошо, если еще шалаш наш не разобрали.
– Какой шалаш? – интересуется Давид.
Витек садится на кровать и начинает рассказывать:
– Я в прошлый раз, когда убежал отсюда, жил с Аксаной на чердаке. Днем жарко, конечно. Но мы днем там и не сидели. А ночью хорошо. Лампочка есть, чего еще надо? Я картонных коробок натаскал и шалаш из них сварганил. Картон проволокой связал, чтобы не расползался… Боялись, что жильцы снизу милицию вызовут. Аксана принесла краски и на картонках нарисовала цветы. Классно получилось! Красиво… Ложишься спать, а вокруг цветы. А над ними облака нарисованные, а в чердачном окне – звезды настоящие. Так и жили, пока инспекторша из детской комнаты милиции нас не вычислила… Аксана даже не знала ничего. Я сказал ей, что за арбузом домой сгоняю. Зашел домой, поболтал с матерью, взял арбуз, выхожу на улицу, а там инспекторша с участковым стоят. Я думал, сейчас мне мозги прочистят, как это они обычно делают, и отпустят на все четыре стороны. А они в машину посадили и сюда повезли. Видно, с Адриягой по телефону обо всем заранее договорились.
– Даа… Представляю, как тебя тут встретили, – восхищаюсь я…
– Адрияга приняла меня с распростертыми объятиями. Сразу два укола сульфозина сделала. Один в левую ягодицу, а другой под правую лопатку. Я три дня трупом лежал. Думал, сгорю. А как отошел, она мне опять укол в задницу. И так три раза, через каждые три дня, чтобы я оклематься не успевал. Потом долго тормозил… Когда на прогулку первый раз вышел, не поверил своим глазам – за сеткой Аксана! Она, оказывается, уже неделю как в больнице была. Аксана подошла к забору, взялась за рабицу и стоит плачет, на меня смотрит. А Степаныч, сволочь, за руку меня держит и к сетке не пускает. Будешь, говорит, теперь две недели со мной за руку гулять. Так я две недели и смотрел на Аксану, стоя около Степаныча. А она все это время плакала. Одно время я даже подумывал навернуть санитара стулом по башке, чтобы к Аксане подойти. Но потом, как представил себе, что на это скажет Аксана, и не стал рисковать…
– А чего они ее выписывают все время? – интересуется Тихоня.
– Не хотят в больнице держать, потому что она учится хорошо. Как учебный год начнется, школа искать ее станет. Врачи это знают. А то, что у Аксаны дома все плохо, – этого никто не знает. В школе она не рассказывает. Мать-то ее приедет, заберет домой, а дальше ей плевать, что она делает и где живет. Она сама женихуется всё, гуляет… – Витек сжимает кулаки. – Не дай бог, кто из материных хахалей по пьяни приставать к Аксане станет. Выйду – убью!
– Витя, не переживай, все будет хорошо, – успокаиваю его я Лешкиным голосом.
– Придется, видно, в бега опять пускаться, – вздыхает Витек и ухмыляется: – Выпишусь вместе с Тихоней… – Он заговорщически подмигивает мне (в Лешкином обличье).
– Ты чё, убегать завтра собрался? – спрашивает его Лешка моим голосом.
– Рвану после обеда. Темноты меньше ждать.
Вошедшая медсестра развязывает меня и выгоняет всех на ужин. По дороге в столовую я опять меняюсь с Лешкой сознанием, возвращаясь в свое родное тело. Если честно, в Лешкином уж больно тоскливо. Мысли какие-то дурацкие все время лезут, и плакать хочется. Но спрятанная в палате под подушкой вторая конфета (которую дала мне уборщица) работает, как скрытая камера, передавая всю информацию по наитию свыше, и с помощью телепатии нутром – прямо мне в мозг.
Усаживаясь за стол, третьим глазом я вижу, как в нашу палату вместе со Степанычем заходит Алевтина Андриановна. Отвлекая внимание от римского бивня – пришитое на прежнее место ухо белеет снежным бубоном бинтов на лохматой голове санитара. Врачиха командует:
– Приступайте, Анатолий Степанович!
Санитар начинает обыск. Он осматривает все подушки, матрасы и тумбочки. У Витьки Степаныч находит самодельные карты. Под подушкой у Лешки – мою конфету. Под матрасом Дебила – принесенный с улицы мусор. У Немого – листок, разрисованный странными иероглифами.
Алевтина Андриановна подходит к тумбочке Витька и скрупулезно разглядывает ее со всех сторон. Вынув верхний ящик, она переворачивает его и обнаруживает с обратной стороны спрятанную фотографию Аксаны. Покраснев от возмущения, врач вынимает фото и вставляет ящик назад.
Без фотографии Аксаны ящик упирается и не хочет попадать в пазлы. Врачиха нервничает, крутит в руках настырную деревяшку, толкая ее вперед, но та то застревает, то перекашивается на полпути и соглашается вернуться на прежнее место только после того, как ощущает во взгляде врачихи сульфозиновую угрозу.
– Он еще и фотографию ее сюда притащил! – возмущается Алевтина Адриановна, с грохотом вгоняя ящик на прежнее место. – Мало в женском отделении проблем с этой рыжей бестией – она и здесь хочет присутствовать!
Проверявший тайники за батареей Степаныч встает, отряхая от паутины и пыли руки. Маленький, серый паучок торопится, бежит, усердно работая лохматыми лапками по хлопковой ткани рукава санитара. С ужасом он оглядывается назад и видит всеми своими восьмью глазками надвигающуюся на него лавину волосатых пальцев. Помня пословицу, которую ему говорила в детстве мама – надежда умирает последней, – паучок спешит спасти собственную шкуру, впервые оказавшись в роли беспомощной жертвы сам. Но рука медбрата обрушивается, как топор на плаху революции, и паук оказывается размазанным по полотну белого рукава. Восемь микроскопических глазных яблок падают в бездну палаты, последний раз отражая кружащийся вокруг них мир.
– Тьфу ты черт! – чертыхается Степаныч, глядя на испачканный рукав.
– Вызывали? – появляется из стены шкодная рожица.
– Исчезни, не до тебя сейчас! – бросает санитар, не поднимая головы.
– Исчезаю, – строит недовольную мину рогатая харя и растворяется в белой штукатурке.
Закончив отряхивание, Степаныч поворачивается к Алевтине Адриановне и замечает фото.
– Аксана? Так ее ж сегодня выписали!.. Там… – добавляет он неуверенно.
– А мы ее выпишем здесь, – резюмирует врач и прячет фотографию девочки в карман халата. – Закончил?
– Вроде бы да.
– Приготовь укол, широкий бинт и позови Маргариту Юрьевну. Я сейчас сделаю всем замечания, после чего объявлю, что нашла фотографию девицы, и постараюсь вывести Витю из себя. Он наверняка не сдержится, когда я начну ее рвать. Может быть, даже кинется на меня. Если это произойдет – привязывайте его к кровати, а я сделаю укол. Справишься?
– Обижаете, Алевтина Адриановна, я здесь пятнадцать лет работаю. Надо будет, я и крокодила вам спеленаю, – лебезит, ухмыляясь, Степаныч, но тут же осекается, заметив взгляд, направленный на его ухо. – Это… Этот жук… он сзади напал… если б не Лешка на заборе… – Врачиха перебивает:
– Лешка, маркошка… – проехали! Пусть сначала Маргарита Юрьевна раздаст всем таблетки, а я начну после.
Слышатся детские голоса. Врач командует:
– Уже идут, зови медсестру.
Степаныч уходит. С опаской глядя на Алевтину Адриановну, входят дети. Та приглашает всех сесть. В дверях появляется медсестра со столиком для таблеток. Дети по очереди подходят к ней, получают порцию, выпивают, открывают рот и, сказав «Эээээ», отходят на свое место. Чтобы не нарваться на неприятности, я глотаю таблетки по-настоящему. Витькин, Лешкин и мой рот Алевтина Адриановна проверяет лично, залезая туда пальцем и ковыряясь им под языком. После приема пилюль врач начинает лекцию:
– Дети… вас неоднократно предупреждали, что прятать в больнице ничего нельзя. Все, что вы хотите иметь у себя в палате, должно лежать на видном месте. Если вы что-то прячете, это может означать только одно – у вас плохая вещь! А от плохих вещей нужно избавляться, если вы желаете выздороветь и побыстрее отсюда выписаться. То, что я нахожу в ваших матрасах и подушках, – записывается в личное дело каждого пациента нашей клиники. Таковы правила. И чем больше будет найдено у вас запрещенных предметов, тем меньше у вас остается шансов на выздоровление.
Пауза.
– Сегодня я с Анатолием Степановичем проверила вашу палату и была неприятно удивлена.
Она достает из кармана листочек с иероглифами глухонемого. Мальчик сидит на кровати, опустив голову. Алевтина Адриановна подходит нему и поднимает его голову за подбородок. Далее она говорит четко и внятно, потрясая рисунком перед носом Немого, так как знает, что он может читать по губам:
– Я тебе сколько раз говорила, что рисовать непонятные предметы нельзя? А ты опять нацарапал какие-то скрижали. Что это за казя-базя? А? – Немой молчит, и врач продолжает, – это говорит об очень медленном процессе твоего выздоровления. И молчание тоже об этом говорит! – заканчивает в сердцах Алевтина Адриановна и, скомкав листок, бросает его в ведро. Следующим предметом, появившимся из ее кармана, оказывается мусор Дебила.
– Федя, я неоднократно просила тебя, чтобы ты не таскал в палату с улицы всякую дрянь. Все, что тебе нужно, – имеется здесь. Если ты хочешь чего-то еще – подойди ко мне или Маргарите Юрьевне и скажи об этом. Уборщица не для того убирает, чтобы ты опять здесь мусорил. Ты понимаешь, что я говорю, Федя? Или мне тебя наказать? – грозно нависает над испуганным Дебилом врачиха. Дебил кивает головой, что-то мычит и вдруг громко пукает. Все смеются. От злости лицо у Алевтины Адриановны покрывается пятнами.
– Прекратить немедленно смех! – кричит она, переходя на фальцет. Дети смолкают. – Смешно вам? Смешно?! Федя хоть и больной мальчик, а понимает порою больше вас! Поэтому и выйдет отсюда раньше других!
Алевтина Андриановна поворачивается к Дебилу.
– Больше чтобы я не видела ничего у тебя под матрасом. – Федькин мусор летит в ведро. Из кармана халата врач достает конфету:
– Леша… Не нужно прятать под подушкой продукты питания. Они там портятся. Ты отравишься чем-нибудь, а мы не будем знать чем. Держи все в тумбочке. Понял?
Лешка удивленно пожимает плечами.
– Но я не клал туда конфет, – протестует он.
– Вранье только усугубляет твою вину! – настаивает на своем доктор.
– Но я не вру! Откуда у меня конфета, если ко мне мама уже три недели не приезжала?
Адрияга анализирует полученную от ребенка информацию и, бросив карамельку в ведро, заканчивает спор:
– Значит, следи за постелью внимательнее, чтобы тебе никто ничего не подкладывал. – После этого она поворачивается к Витьку: – Витя, в твоем матрасе лежали самодельные карты.
Пауза.
– Ты знаешь, что азартные игры у нас запрещены?
– Да, знаю…
– С кем ты играл в карты?
– Ни с кем. Просто нарисовал… Порисовать захотелось…
Пауза.
– В следующий раз, когда захочется рисовать, рисуй географические карты. Это более полезно для твоего недоразвитого мозга!
Опустив голову, Витек молчит.
– Это еще не все! В вашей палате я нашла женскую фотографию… – Алевтина Адрияговна обращается ко всем сразу, демонстративно обводя детей взглядом. Мы молчим. Она опять поворачивается к Вите.
– Никаких женских фотографий здесь быть не должно!
Врачиха достает из кармана халата фото. С черно-белого снимка нам улыбается Аксана.
– Кто-нибудь знает эту девочку? – интересуется врач.
Я шепчу Лешке:
– Это же Аксана.
Лешка цыкает на меня:
– Тихо, ты!
Витька удивленно смотрит на фотку. Врачиха повторяет вопрос:
– Ну? Что молчим? Кто-нибудь узнает эту девицу?!
Тишина.
– Это пациентка из корпуса девочек. Аксана Сапега, которую сегодня выписали домой…
Пауза.
Адрияга обращается к Вите:
– Кажется, это твоя подружка, Витя?
Витек, наблюдавший все это время за рукой выступающей, кивает:
– Моя.
Врачиха улыбается:
– Значит, и фотография твоя?
– Моя.
– Так вот!.. Ее сегодня выписали там, а мы теперь выпишем ее здесь!
С этими словами она демонстративно начинает рвать фотографию на части, растягивая это удовольствие как можно дольше. Исподлобья Витек следит за движениями пальцев Алевтины Адриановны. Разорвав портрет на мелкие кусочки, она бросает его в мусорное ведро. Обрывки летят, как опавшие листья клена, в разные стороны, и пара клочков падает мимо ведра.
Врачиха возвращается к Вите:
– А зачем тебе нужна была фотография Аксаны Сапеги? Витек не отвечает:
– Молчишь? Не хочешь говорить – зачем?.. Тогда я скажу!
Многозначительная пауза.
Дальше она говорит нарочито внятно, с большими пробелами и ярко выраженной артикуляцией, но одним словом:
– Что-бы-за-ни-мать-ся-по-но-чам-о-на-низ-мом!
Витек приподнимается над кроватью. В дверях появляется Степаныч, и мальчик садится на место.
Врачиха не успокаивается:
– Ну, что, Витя, я права? Она тебе нужна была для занятий онанизмом?.. Может быть, ты еще кого-то приучил здесь к этому развлечению?
Лицо Витьки вытягивается и становится пунцовым. Осипшим голосом он шепчет:
– Можно мне забрать остатки фотографии?
– Что-что?.. Говори громче, Витя!
– Можно мне забрать остатки фотографии, Алевтина Адриановна?
– Ах, фотографию забрать… Конечно, можно!.. Но только после того, как тебя отсюда выпишут! – заканчивает врач, не довольная проделанной работой.
– Маргарита Юрьевна! – зовет она медсестру, которая тут же входит в палату. – Выбросьте, пожалуйста, содержимое ведра в мусорный бак!
Витек опять встает с постели.
– А что это ты, Витя, встал? Разве ты забыл, что подниматься можно, только когда это предлагаю сделать я? – изображает удивление врач.
Уставившись на врачиху полными ненависти глазами, Витек не двигается. Алевтина Адриановна ждет развязки. Помедлив, Витек снова опускается на кровать.
– Вопросы у кого-то есть?
Молчание.
– Может быть, есть какие-то просьбы?
Молчание.
– Жалобы?
Молчание.
Обращается ко мне:
– Давид, ты не забыл, что завтра к тебе приезжает мама?
– Нет.
– Я могу рассчитывать на твое хорошее поведение?
– Да.
– Вот и славно!
Все уходят.
Витек вскакивает и, как загнанный в клетку зверь, начинает метаться по палате.
– Сука! Сука! Сука! – повторяет он сквозь зубы, стуча кулаком по спинкам кроватей.
Почесав голову, Леха предупреждает друга:
– Теперь они станут тебя пасти.
– Знаю!
– Завтра тридцать первое июня. Приедет мать Давида. Адрияга обязательно будет здесь. А в воскресенье она отдыхает. Подожди до воскресенья, тогда и сбежишь. Только если не получится, я тебе не завидую.
– Посмотрим.
Слышен голос медсестры:
– Дети, приготовиться ко сну!
Все ложатся в кровати. Вошедшая медсестра тушит свет, оставляя дежурное освещение.
– Никаких разговоров, – объявляет она перед уходом.
Наступает тишина. Какое-то время дети вздыхают и ворочаются. Но постепенно все засыпают. Не спит только Витек. Пытаясь подобрать удобную позу, он крутится с бока на бок и что-то шепчет. Но вот и он погружается в царство Гипноса, или это мне только кажется, потому что на самом деле в царстве оказываюсь я…
Гипнос сидит на резном мраморном троне, из-под которого вытекает река забвения, и беседует с Морфеем[517], отчитывая того за какие-то промашки:
– Морфей, ты вот науськался подделывать человеческие голоса, походки… облики перенимать умеешь… а скажи ты мне, отцу своему родному, когда ты в последний раз ходил на рыбалку? А?! Когда ты в последний раз рыбу домой приносил? Вот видишь – нечего тебе тут сказать! Потому что: как ты ни притворяйся добрым молодцем, как ни подражай ее движениям, как ни обаяй ее собственной красотой, а один черт – ни одна из рыб за тобой на берег не выплывет. Не выплывет ни одна из них за тобой на берег, как бы ты красив и соблазнителен ни был!
Морфей стоит, виновато понурив голову. На нем шестипуговичный костюм от Ermenegildo Zegna (шерсть с шелком), хлопчатобумажная рубашка с двойными манжетами от Ike Behar, шелковый галстук от Ralf Lauren и кожаные остроносые ботинки от Fratelli Rossetti[518].
Гипнос продолжает:
– Так что вот что скажу я тебе, Морфей-Орфей: пора тебе переставать обезьянничать и становиться взрослым мужчиной. А то ты там где-то ночами по чужим снам нашляешься, а чуть заря, бежишь ко мне и требуешь, чтобы я тебя покормил… А у папы самого – шаром покати, весь в работе, аки пчела! К папе в царство даже газ эти суки не провели за столько лет!..[519] На газовой-то плите гораздо удобнее готовить. Ты небось видел такие плиты во снах у людей? А? Видел?
– Видел, – кивает Морфей и, сконфузившись, меняет облик. Теперь на нем костюм от Alan Flusser с удлиненным пиджаком и узкими брюками, в стиле восьмидесятых (который, в свою очередь, является обновленной версией моды тридцатых). В этой модели пиджак имеет подплечники, небольшой вырез на полочках и с фалдами спинку. На поясе есть удобные петельки для подтяжек. Шелковый галстук в крапинку – от Valentino Couture. Легкие туфли без шнурков из крокодиловой кожи – от A. Testoni[520].
Гипнос наседает:
– А раз видел, чего ж не стащил папе в подарок на день рождения ни одной штуки? А? Лень небось замучила? Пожрешь небось там на халяву у молодки какой-нибудь, приняв облик ее мужика, и домой возвращаешься! А папа тут голодный сидит, хрен с солью доедает! Уж и не помнит, когда в последний раз рыбку кушал!.. Э-эх, достался ж ты на мою голову. Вырастил себе бездельника на шею!
Вдруг раздается звук разбитого стекла. Сначала звук идет издалека, но потом все ближе, ближе, ближе, и я просыпаюсь. Первый звук слышен где-то в соседних палатах. Второй раз стекло разбивается совсем рядом.
Прибегает Степаныч:
– У вас не разбили?
– Нет, – отвечаем мы хором.
– Лежите на местах! Это пьяные с поселка. Сейчас их прогонят!
Убегает.
В наружной раме нашего окна разлетается стекло. Я испуганно смотрю на Витька:
– Витек, чего это?
– Не знаю. Наверное, правда, какие-то придурки с ума сходят.
Прибегает Степаныч:
– Это у вас разбили?
– Да.
– Внутреннее стекло целое?
– Вроде целое.
Степаныч осматривает окно и убегает, командуя на ходу:
– С кроватей не вставать, к окну не подходить!
Тихоня шепчет:
– Ну и денек сегодня…
– Лучше б они Адрияге голову пробили, чем стекла колошматить, – заявляет недовольный пробуждением Лешка и, накрывшись с головой одеялом, переворачивается на другой бок.
– Это точно, – соглашаюсь я, внутренне принимая сторону нападающих.
Дебил вскакивает и подбегает к окну. Витек кричит на него:
– Куда ты? Все уже закончилось. Иди ложись!
Дебил ложится, и тишина возвращается. Слышно только, как по коридору бегает Степаныч. Но вскоре и он куда-то уходит. Я лежу, вспоминая, что там говорил про рыбалку и про газовую плиту Гипнос. И постепенно возвращаюсь в их сон…
– Ты, – говорит Гипнос, – когда последний раз у нас в пещере убирался?.. Не помнишь? Вот и я вспомнить не могу, хотя болезнью Альцгеймера вроде бы не страдаю… Ага? Понял намек?.. Так вот… о чем это я?.. О грибах, что ли?.. Или что ли не о грибах?.. Подскажи папе, сынок, о чем здесь речь шла?
– Об уборке, – вздыхает Морфей.
– Ну да, точно! Так вот, богиня уборки, как ты хорошо знаешь, в наши края не заглядывает, потому что проклятые древние греки ее не придумали. Видно, такие же охламоны и бездельники были! А ведь у нас здесь клининговых компаний нет. Потому что, сам знаешь, – спят их служащие в моем царстве на ходу. Прямо на ходу и со шваброй в руках засыпают. И потом их до конца смены хрен растолкаешь! Поэтому – всё мы, сами с усами – делаем сами! Запомнил? Или раздвоить пообъемней?
– Запомнил, – опять вздыхает Морфей.
– И не вздыхай мне, как баба! Вон, твой брат Фантас[521] – поприкидывается матрасами да унитазами в чужих снах, а под утро, глядишь, чего-нибудь домой и притащит! На прошлой неделе папе холодильник притаранил. Чудо, а не холодильник! Папа теперь в жаркий полдень может пивка холодного испить. Побаловать себя, так сказать, во время бессонницы под старость лет алкоголем. Расслабиться… Оттянуться, в некотором смысле… Разомлеть… Пивко-то, оно, знаешь, как кумарит?
– Знаю, – кивает сын.
– Мда… Пивка-то испить папа может… а рыбки сушеной нет… Нету рыбки сушеной! Понимаешь ты это или нет, дурья твоя башка?! Бери пример с брата. Он не только в снах может пылесосом притворяться, но и здесь, в пещере, чистоту наводить. Изгоняет, так сказать, дух нечистот из нашей пещеры в кошмары своих пациентов!.. Вооот… Чистоту-то он наводит… а рыбки-то все равно нет!.. А порой так хочется… так хочется воблёшечку к пивасику в живот уронить… ан нет… Как пить дать – нет!
Голос у Гипноса начинает дрожать, и он отворачивается от сына, чтобы смахнуть скупую божественную слезу. Тут уже в разговор вступает Морфей:
– А ты попроси воблы у Фобетора![522] Он в рыб умеет превращаться. Ему проще твою просьбу выполнить.
– Ты что, идиот совсем? – вскипает Гипнос. – Я что, по-твоему, сына своего должен сожрать?! Я что, на Кроноса[523] похож что ли! Или ты опять за свое взялся?! Говорю же тебе, не пойдут за вами рыбы на сушу! Ни на сушу, ни в сковородку – не пой-дут! Ловить их нужно! На удочку! На лесочку! На крючочек! На поплавочек! На червячка! Ло-овиить! А не рассказывать мне, что да как делать… Яйца курицу не учат! Досёк, о чем я тебе кукарекаю?!
– Досёк… – вздыхает виновато Морфей.
– Ну вот, – продолжает Гипнос, – Фобетор может пригнать ко мне кабанчика или косулю. Это Фобетор мне, всегда пожалуйста, делает. Возьмет, превратится в самочку нужного экземпляра и завлекает ко мне самца аппетитной наружности. А как пригоняет его в наш огород, я ворота закрываю, беру кувалдочку – тюк! – его по затылку, и освежевываю тут же. Расчленяю, так сказать, и запекаю в газовой духовке. Потрошки у свежего кабанчика, знаешь, какие? Ммм… пальчики оближешь!
– Папа, – басит Морфей, – ты же говорил, что эти суки к тебе в пещеру газ до сих пор не провели.
– Газ?!.. – вытаращивает на сына глаза Гипнос, – не-про-ве-ли?!. – переваривает последние новости от «Газпрома», Бог, – суки??? – задумывается, вспоминая предысторию сюжета родитель. И, воскресив все до копейки, восклицает с отчаянием в почках, – конечно, не провели! Я и сейчас это могу подтвердить перед лицом прародителя нашего – Хаоса![524] Я на сжиженном газе готовлю! Мне его в баллоне твой брат притащил. Он стянул его у кого-то на даче в России. Там этого газа до хренааа! – растягивает последнюю гласную Гипнос. – Понимаешь? До хренища там газа!!! Без газа там не проживешь! В России все газуют! Друг на друга, друг из-под друга, друг перед другом, друг в друга… Вот и я на нем запекаю… А ты что ж, подумал, врет папа твой? Обманывает? Поймать хотел Бога на лжи?.. Да? Э-эх! Сынок-сынок…
Морфей краснеет от стыда и еще ниже опускает голову.
– Ну, так вот – назапекаю я, значит, оленины. Наемся ее. Впрок наготовлю. Уберу недоеденное в холодильник… Глядь! – а там пиво лежит… Лежит оно себе, охлаждается… Ни о ком не думает… А чё ему думать-то? – оно же пиииво, а не бог!
Гипнос берет початую банку пива и делает из нее глоток, прищуривая от удовольствия глаза.
– О чем это я говорил давеча, сына?.. А?.. Ах, да! Вспомнил! Не буду же я жареную оленину пивом запивать? Не буду! Вот и делай выводы, пока папа живой, а то потом сделаешь, а они уже могут не пригодиться…
– Почему? – удивляется Морфей.
– Потому что бессонница в современном обществе – болезнь заразная!
С этими словами Гипнос хлопает Морфея по плечу, и от его толчка я просыпаюсь.
Рядом с моим изголовьем стоит Немой и стеклянными глазами смотрит вперед. Съежившись от страха, я не двигаюсь. Несколько раз Немой пробует сделать шаг, но всякий раз натыкается на мою кровать. В конце концов он прекращает попытки пройти сквозь койку, и отправляется к окну, где, упершись лбом в стекло, замирает.
Через несколько минут в палату заглядывает Степаныч. Увидев стоящего у окна глухонемого, он ругается:
– Вот, ёшкин кот, лунатик!
Санитар подводит мальчика к кровати, укладывает его и привязывает руки бинтом. После этого еще раз осматривает окно и выглядывает наружу.
– Давненько у нас стекла не били, – сетует себе под нос медбрат и, взглянув на Немого еще раз, уходит.
Немой лежит на кровати с широко открытыми глазами. Свет от луны падает на его левый глаз, преломляясь через сложную систему линз глазного яблока, и проникает в мальчика сквозь сомнамбулистический сон. Перевернутое изображение мира на выпукло-вогнутой линзе роговицы безмолвно мерцает кристаллическими отблесками звезд.
На желтом пятне луны отсвечивается область наибольшей остроты зрения Немого, модифицируемая ее поверхностью в слепой изъян[525]. Отражая солнечные лучи, лунный свет крадется сквозь жидкость передней и задней камеры глаза в хрусталик и, пройдя сквозь стекловидное тело, движется через толщу сетчатки. Попав на отростки светочувствительных клеток, палочек и колбочек, свет запускает миллионы фотохимических процессов, преобразующих лунный блеск в нервное возбуждение. После чего передает информацию дальше, по зрительным нервам через средний и промежуточный мозг в зрительные зоны коры головного мозга больного.
Большая, темная туча закрывает своим телом ночной спутник Земли и, впитывая фотоны солнечных лучей, гасит светящийся зрачок ребенка. Немой закрывает глаза и продолжает лежать, не издавая никаких звуков. Его спокойствие передается по палате от койке к койке и, дойдя до Давида, выключает его в сон, где он опять попадает в царство Гипноса и ловит с Морфеем рыбу до тех пор, пока не наступает утро. Утром Морфей голосом Степаныча кричит: «Подъем! Подъем! Просыпаемся!», – и Давид просыпается.
Глухонемой мычит, показывая головой на привязанные руки. Лешка ехидно интересуется у него:
– Чё? Опять ночью сквозь стены ходил?
Немой показывает головой на бинты, давая понять, чтобы его развязали.
– Когда ж тебя привязали-то? – продолжает любопытствовать Лешка.
– Ночью, – отвечаю я за Немого.
Немой мотает головой, показывая на дверь.
– Степаныча позвать? – спрашивает Витек и обращается ко мне: – Давид, позови Степаныча. Скажи, что Немой в туалет хочет. А то он про него, наверное, забыл.
Я отправляюсь выполнять задание.
Недалеко от туалета спиной ко мне стоят Степаныч и санитар из соседнего отделения. Медбрат рассказывает Степанычу, что стекла ночью била шизофреничка из женского корпуса, которую вчера выписали.
Степаныч возмущается:
– Вот дура!
Его напарник кивает головой и продолжает:
– Мать эту Сапегу только увезла, а она ночью вернулась и давай по окнам кирпичи швырять. Назад ей, видишь ли, захотелось.
– И что? Где она теперь? – интересуется Степаныч.
– Да где-где – в палате лежит, привязанная.
Я возвращаюсь к ребятам с порога новостью сенсационного калибра:
– Витек! Это Аксана была!
– Где Аксана была?! – не понимает Витек смысла моих слов.
– Это Аксана ночью стекла била! Сейчас об этом санитар из соседнего отделения Степанычу рассказывал.
– И что? Что он рассказывал? – недоверчиво спрашивает Витя.
– Что она ночью вернулась и стала бить стекла, чтоб ее назад взяли.
– И? Взяли?
– Да! Санитар сказал: спеленали ее.
Витек вскакивает:
– Черт! Черт! Черт! Чччеееерт!..
Лешка осторожно высказывается:
– За такое могут и сульфозином накачать.
Витек не унимается, чертыхаясь:
– Черт, если ее начнут накачивать сульфозином, я ее неделю, а то и две не увижу!
– А девчонок что, тоже сульфозином колют? – любопытствую я.
– За разбитые стекла могут все что угодно сделать. Черт! Черт!
Пауза.
– Если ее не будет на прогулке, то это может означать только одно… или два, – добавляет, подумав, Витя.
– Если Аксаны не будет, спросим у Оли, что с ней, – успокаивает Витю Лешка.
Немой мычит, чтобы его отвязали.
– Давид, да позови ты Степаныча, пока он не напустил в кровать, – обращается ко мне Лешка.
– Черт! Черт! Черт! – продолжает повторять сквозь зубы Витек.
Я шагаю за Степанычем. Тот приходит в палату и отвязывает глухонемого. Витек, как бы невзначай, интересуется:
– Анатолий Степанович, а что там слышно про ночное происшествие?
– А тебе зачем? – отвечает медбрат, взглянув с подозрением на Витюгана.
– Да просто интересно, чем все закончилось.
– Чем закончилось, тем и закончилось, – отсекает Степаныч и, уходя, добавляет: – Не знаю я ничего!
– Вот гад! – шепчет вслед Витек. – Быстрее бы прогулка.
Слышен голос:
– Готовимся к завтраку!
Мы идем умываться, потом отправляемся в столовую. На завтраке поедаем яичницу с белым хлебом и запиваем ее черным чаем.
Потихоньку я начинаю привыкать к здешним условиям. Брезгливость уступает место безразличию. Мне уже не колет глаза выстиранная больничная роба, и пятна на ней не кажутся такими отвратительными. Во время обеда я позволяю себе крошить на стол (чего так не любила моя мама), а в туалете – писать мимо очка. Два раза на прогулке я уже высмаркивался прямо на землю и утирал нос рукавом. Я замечаю, что, когда проглатываю таблетки, они благотворно действуют на мою психику и помогают расслабиться. Перелистывая больничную книгу жизни, я вживаюсь в образ своего героя: день за днем, неделю за неделей, отпуская содержание всего произведения на волю ее авторов – врачей. Дебил кажется мне уже не таким дебильным, и один раз я играю с ним в песочнице. Несколько порций аминазина, заработанные на вторую неделю, конечно, не превратили меня в анеуплоидного[526] олигофрена, но, угнетая рефлекторную деятельность и прежде всего оборонительную способность, уменьшили мою активность до минимума. Расслабившийся скелет мускулатуры погрузил Давида в состояние пониженной реактивности к эндогенным и экзогенным стимулам. И на некоторое время заблокировал влияние на центральные адренергические и дофаминергические рецепторы.
В общем, жизнь потихоньку налаживается, и я начинаю забывать – что там говорила в таких случаях моя прабабушка Аня: Medicus curat, natura sanat[527].
2
После завтрака нас выводят на прогулку. Девчонок еще нет. Витек нервно прохаживается, поглядывая на дверь женского корпуса.
– Ну, где они? – произносит нетерпеливо Витька.
– Девчонок всегда позже гулять выводят, – говорит Лешка.
– Только бы не кололи. Если подержат несколько дней связанной, это ничего. Это не страшно. Она уколов не переносит. Она вообще боль не переносит. Один раз на чердаке руку поцарапала об гвоздь, у нее кровь выступила. Царапина-то пустяковая. Я посмотрел и говорю ей: «Ерунда. Завтра уже все заживет!» А она села на ящик, улыбается, а у самой слезы текут. И так каждый раз. Ударится обо что-нибудь – сразу слезы, а сама улыбается. Даже не всхлипывает.
– Дааа… укол – это не царапина, – бормочет Леха.
Пауза.
Витек храбрится и, стараясь скрасить тоскливое ожидание, откровенничает:
– Мы с Аксаной, когда на чердаке жили, голубей подкармливали. Они привыкли к нам. Совсем ручными стали. Один так привязался, что разрешал брать себя в руки. Сначала голубь был невзрачным заморышем, которого собратья пихали из стороны в сторону. Но после того, как Аксана стала его выделять и кормить отдельно, он распушился, а потом вдруг взял да и расцвел переливами бирюзово-голубоватого зоба, покрытого фиолетовыми отблесками звезд. За это сходство его зоба с Голубым мрамором[528], нашей планетой (когда на нее смотришь глазами Гагарина), мы и прозвали птаху Голубем Мира. А он, набравшись сил, стал колошматить других птиц. Прежний лидер стаи несколько раз пытался вернуть упущенное превосходство и вступал с Голубем Мира в кровопролитные сражения, продолжавшиеся даже на космической высоте. Но, не имея моральной поддержки в нашем лице, всякий раз проигрывал и вскоре зачах. Разобравшись со всеми противниками, голубь стал огуливать порабощенных им самок. Его раздобревшая в баталиях грудь засияла медалями и засверкала орденами с такой силой, что Творец, поглядывавший на нашу планету только в часы сиесты, увеличил время собственной медитации для релакса старческих глаз. Любуясь оперением материков и переливами океанов, Господь забывал свое предназначение и уходил в нирвану.
– Так протекали секунда за секундой, час за часом и день за днем. Бывало, сядет создатель на небе, начнет с замиранием сердца восхищаться зобом нашей планеты да и задремлет… А она все воркует-воркует – уже не в силах успокоиться без посторонней помощи. Тогда Аксана берет в свои тонкие, изящные руки вафельное полотенце, в вафельную клеточку, из вафельной страны и одним грациозным движением стройного тела нарушает возникшую дисгармонию природного баланса и восстанавливает прежнюю идиллию Дарвина, лишая обозревшую птицу неоправданной поддержки союзников…
Витя замолкает, и наступает пауза.
Длительная пауза…
Слышно, как недалеко, за кустами, вокруг голубки воркует голубь. Вдруг из кустов выпрыгивает полосатый кот и парит навстречу своему обеду, но, промахнувшись, приземляется на мягкую траву и с завистью смотрит ввысь, туда, куда улетели, захлопав крыльями, потомки динозавров[529]. Нервно стукнув хвостом о родную землю и облизав шершавым языком не пригодившуюся на этот раз пасть псевдэлуруса[530], кот, развалившись на траве ничком, начинает лизать свои пушистые причиндалы, компенсируя голод страстью.
Лешка формирует общую мысль и выпускает ее в пространство:
– Э-эх, был бы я птицей! Улетел бы отсюда к черту на кулич ки! Жил бы себе на чердаке, где бы меня никто не трогал.
– Ага, и летал бы к Аксане за крошками, – подхватываю я.
За забором из здания начинают выводить девочек. Не удержавшись, Витек подходит к сетке и, взявшись за нее, ищет глазами Аксану. Степаныч отзывает его назад:
– Отойти от сетки! Слышишь, что я сказал?
Витек отходит.
– Нету Аксаны, – объявляет Витя.
Он садится на землю и закрывает голову руками.
Лешка, желая обнадежить друга, сообщает:
– Вон Оля идет!
Оля подходит к забору. Витек встает. Леша спрашивает:
– Оля, а где Аксана?
Оля молчит.
Леша:
– Ну, не молчи ты! Говори! Где Аксана?
Оля опять молчит.
В разговор вступает Витя:
– Олечка, скажи, пожалуйста, где Аксана?
Оля переводит взгляд на Витю, тот не выдерживает:
– Ну?
– Я не знаю… – вздыхает она.
Пауза. Все смотрят на Олю.
– Как не знаешь? – возмущается Лешка.
– Так не знаю… – отвечает Оля, – ее перед прогулкой старшая медсестра увела.
– Куда увела? – не успокаивается Витя.
– Куда-то… К себе, наверное… – произносит Оля тоскливым голосом и переводит взгляд на Лешу.
Витя отходит в сторону, внимательно осматривая территорию девочек. Оля обращается к Леше:
– Леш, а Леш…
– Что? – спрашивает Лешка.
– А ко мне мама приезжала.
– Ну и что?..
– Она сказала, что бабушка умерла.
– Жалко…
Пауза.
– Я бабушку больше всех любила.
– Я тоже люблю бабушку.
Пауза.
– Леш, а Леш…
– Ну, что еще?
– Я не хочу без бабушки…
– Я тоже не хочу.
Пауза.
– Леш, а Леш…
– Чего?
– А ты не умрешь?
– Не знаю.
Подходит Витя.
– Слушай, Оль, может, ты сходишь спросишь у медсестры, где Аксана?
Оля мнется, потом нерешительно отвечает:
– Я боюсь.
– Ну, а чего ты боишься? Ты просто подойди и спроси: «А где Аксана?» Что она тебе за это может сделать?
Оля молчит.
– Ну? Сходишь?
– Сходи, – подбадривает ее Леша, – не бойся.
– Я ответа боюсь, – говорит Оля, опустив голову.
Витек садится на землю и закрывает голову руками. Оля пытается его успокоить:
– Вить, не плачь. Аксана только по ночам плачет. А днем никогда…
Витины плечи сотрясаются от безмолвного рыдания. Мы стоим рядом. Глухонемой сидит в песочнице, глядя то на нас, то на площадку девчонок. Дебил ходит по территории, набивая карманы всяким мусором. Самые ценные образцы он прячет в трусы, озираясь по сторонам.
Оля шепчет:
– Витя… Аксана просила передать тебе привет… Она сказала, что если ей начнут делать уколы, чтобы я на каждой прогулке тебе приветы передавала…
Глядя на Витю, мы с Лешей тоже вытираем слезы. Вдруг Немой, стараясь привлечь наше внимание, мычит и машет руками. Я поднимаю взгляд и смотрю на него. Он тычет пальцем в сторону девчачьего корпуса. Повернув голову в направлении его пальца, я не замечаю ничего особенного. На площадке играют девочки. На скамейке сидит санитарка, мимо которой в нашу сторону идет мальчик…
– Витек! – ошарашенно шепчу я. – Аксана…
Все поворачиваются и смотрят на приближающуюся к нам Аксану. Она лысая.
Витя бросается к забору.
– Аксана!!! – кричит он сквозь слезы. – Сволочи! Сволочи! Сволочи! – давится слезами Витек. – Что они с тобой сделали?! Как они могли так поступить?!
Аксана молчит. Слезы струятся по ее щекам и капают на Витины пальцы.
– Аксана, Аксаночка… тебя не били?
Аксана мотает головой.
– Сволочи! Сволочи!
Аксана шепчет:
– Они отвели меня в кабинет, посадили на стул и привязали руки… А потом медсестра принесла машинку и сбрила волосы.
– Сволочи! – мычит Витя.
Всхлипывая и размазывая слезы по щекам, я задаю глупый вопрос:
– А куда они их дели?
Аксана пожимает плечами. Оля подходит к Аксане.
– Аксаночка, не плачь. Хочешь, я отдам тебе свои волосы?
Вцепившись в сетку, Витек возбужденно шепчет:
– Аксана, давай убежим!
– Когда? – спрашивает она так, как будто только и ждала этого предложения.
– Сейчас! Ты сможешь перелезть через сетку?
– Смогу, – кивает она лысой головой.
Витек поворачивается к нам с Лешкой и смотрит по очереди на каждого из нас, решая для себя что-то важное. Определившись, он обращается ко мне:
– Давид, поможешь нам сбежать?
– А как?
– Нужно отвлечь Степаныча. Лешку и так уже сульфой закололи, а у тебя аллергия. Тебя они больше колоть не будут. Поможешь?
– Не знаю, – прикидываю я силы для подвига.
– Без твоей помощи нам не убежать, – уговаривает меня Витя. – Отвлечешь Степаныча? Тебе максимум влажное пеленание сделают.
– А что это за пеленание? – интересуюсь удивленно я.
Из корпуса выходит Маргарита Юрьевна и кричит:
– Ну-ка, отошли все от сетки! – Мы отходим и садимся на траву. – Сапега Аксана, и ты отойди! – кричит медсестра Аксане.
Аксана отходит. Не глядя на нас, Витька шепчет:
– Леха, уходи в сторону, чтобы не толпиться кучей.
Леша удаляется. Оля идет за ним по своей территории. Витек опять обращается ко мне:
– Влажное пеленание – это когда тебя заворачивают в мокрую простыню, а потом жестко привязывают широким бинтом к кровати[531]. Вытерпишь? – спрашивает он.
– А на какое время заворачивают?
– Пока не высохнет простыня. Тут главное – не сопротивляться. Но когда начнут пеленать, руки в локтях чуть-чуть раздвинь, чтобы потом легче было дышать. И самое главное – вали все на меня! Говори, что я заставил тебя помогать! А я, как только доберусь до дома, сразу к твоей матери поеду. Все расскажу ей. Адрес я помню – твой дом стоит около Центрального рынка. Его легко найти.
– Мой подъезд – из арки сразу направо. Третий этаж, – уточняю я. – Витек, только обязательно съезди, а то Адрияга сгноит меня здесь!
– На зуб клянусь! – отвечает он, делая характерное движение рукой клятвы на зуб. – Завтра же буду у твоей матери. Ну что, поможешь?
Я чешу затылок и спрашиваю:
– А как мне отвлечь Степаныча?
– Спасибо, Давид! – Витя жмет мне руку и объясняет план предстоящей операции: – Подойти к Дебилу и незаметно ущипни его за спину. Когда трогаешь Федьку за спину, он сразу бесится. Сделаешь?
– Да.
– Ущипни и отходи в сторону. И так повторяй до тех пор, пока он за тобой не погонится. Только смотри, чтоб Степаныч не заметил раньше времени. От Дебила-то, я думаю, ты увернешься?
– Конечно, увернусь! – смеюсь я. – Он бегает, как бегемот! Ему меня никогда в жизни не догнать.
– Молодец!
– Мне уже начинать?
– Нет, подожди, когда уйдет медсестра, – отвечает Витек и обращается к Аксане, стоящей недалеко от сетки; при этом он не поворачивает к ней головы, как бы продолжая разговор со мной: – Аксана, как только Степаныч поведет Дебила в корпус, мы убегаем. Готова?
– Да.
– Дырка в основном заборе помнишь где?
Аксана улыбается:
– Я же ночью через нее сюда пролазила.
– А зачем ты в нашу палату камень запустила? – интересуется Витька.
– Чтобы вы не считали себя обделенными, – шутит Аксана и добавляет: – Прости, если потревожила, я же не знала, где чьи покои располагаются.
– Да нет, все нормально! Мы ничего и не заметили. Да, Давид?
– Ага, – усмехаюсь я в ответ.
– Наверняка я знала только те окна, где кабинет нашей врачихи. У нее на подоконнике герань цветет. В это окно я три камня кинула. Первый раз в решетку попала. А остальными в стекло. Выбежавшая медсестра, утащила меня в блок и спеленала до утра.
– Маргарита ушла, – сообщаю я Вите.
Витя продолжает наставлять Аксану:
– Главное – перелезть через забор. Точно сможешь?
– Смогу.
– Лезь в углу, на стыке с нашей сеткой, чтобы, в случае чего, я мог тебе помочь.
– Мы еще посмотрим, кто кому помогать будет, – улыбается она, и ее улыбка сияет рядами белоснежных зубов, озаряя больничный мир надеждой на выздоровление.
– Отходи в другой конец площадки и стой там, – командует Витька, – я тоже отойду. Как только Давид начнет доводить Дебила, следи за мной. Когда Дебил взбесится и Степаныч поведет его в корпус, я махну рукой. Махну – значит, сразу беги и лезь! Запомнила?
Аксана кивает.
– Расходимся, – говорит Витя.
Мы расходимся в разные стороны. Проходя мимо Дебила, сидящего в песочнице, я щиплю его за спину. Тот вздрагивает, смотрит по сторонам и успокаивается. Я захожу на второй круг и, ущипнув его, отбегаю. Дебил резко поворачивается в мою сторону и грозит кулаками, но не встает. Я опять иду на повторный круг. Подкравшись сзади, я щиплю его сразу двумя руками за спину и за шею. Дебил вскакивает как ошпаренный и бросается за мной в погоню. Встав со стула, Степаныч с опаской смотрит на Дебила и, взявшись рукой за ухо, кричит:
– Федя! А ну перестань! Слышишь? Кому говорю, перестань!
Дебил не сбавляет скорости и продолжает преследование. Степаныч зовет на помощь медсестру:
– Маргарита Юрьевна, несите смирительную рубашку!
Дебил носится по площадке, загоняя меня в угол. Пробегая мимо Витьки, я кричу:
– Витек, он сейчас меня убьет!
– Не бойся, я рядом! – отвечает Витек и внезапным выпадом правой ноги делает Дебилу подсечку. Тот летит кубарем на землю. Выбежавшая из больницы медсестра вместе со Степанычем надевают на Дебила рубашку.
В дверях появляется Алевтина Адриановна.
– Что здесь происходит? – настороженно интересуется она.
– Федя опять взбунтовался, – докладывает Степаныч. – Это он его довел, – указывает санитар на меня.
Врачиха поворачивается в мою сторону и подзывает к себе. Понурив голову, я плетусь к врачу. Алевтина Адриановна пропускает Дебила с санитарами в дверь, и Витек делает знак Аксане. Та бежит к сетке, запрыгивает на нее и лезет вверх. Витя следует ее примеру. Переключив внимание на меня, врачиха не сразу замечает происходящее но, почуяв нутром неладное, поднимает взгляд и, крикнув «Стоять!», бросается к Вите. Она успевает схватить его за штанину, которая, зацепилась за крючок в рабице и, порвавшись на несколько сантиметров, остановилась на нижнем шве колоши ны. От неожиданности тот чуть не падает назад, но, благодаря помощи Аксаны, удерживает равновесие, продолжая тянуть за брючину рукой. Аксана лежит верхом на заборе, пытаясь помочь Вите. Врачиха с силой дергает его за ногу, и он опять чудом сохраняет равновесие. Девочка тянет к нему вторую руку и не замечает подбегающих к ней сзади санитарок. Витек отталкивает врачиху и предпринимает новую попытку. Из дверей больницы вылетает Степаныч и мчится на помощь к Алевтине Адриановне. Неожиданно наперерез ему бросается Немой и сбивает Степаныча с ног. Тем временем санитарки стаскивают с забора Аксану.
Пытаясь вырваться из рук медсестер, она бьется и царапается. Выбежавшая из ее отделения врач кричит: «Держите крепче! Сейчас принесу шприц!» От этих слов лицо Аксаны искажает гримаса ужаса и, вцепившись двумя руками в волосы одной из санитарок, она бьет ее лбом прямо в лицо. Медсестра охает, и из носа у нее начинает капать кровь. Вторая санитарка пытается заломить Аксане руку. Но так как девочка лежит на спине, ей это никак не удается. Она пыхтит, сдувая с лица прядь потных волос, и продолжает неловкие попытки.
На помощь Алевтине Адриановне, сумевшей каким-то чудом удержать Витю за ногу, прибегает медбрат, которого я видел утром со Степанычем около туалета. В это время Степаныч подминает под себя Немого, а выбежавшая со шприцом Маргарита Юрьевна вкалывает ему аминазин. Немой затихает. Бросив его на земле, Степаныч спешит на помощь к Алевтине Адриановне и второму санитару. Они уже стащили Витька на землю и пытаются его скрутить. Чувствуя приближающийся финал, Витек бьет, кричит, кусается и рвет на Алевтине Адриановне халат, оголяя ее большую грудь. В момент замешательства ему удается вскочить на ноги, но подбежавший сзади Степаныч обхватывает смутьяна двумя руками за туловище. Наклонившись вперед, Витя резко откидывает голову назад и попадает своим затылком санитару по зубам. Нокаутированный Степаныч отшатывается и чуть не выпускает жертву из рук. На губах медбрата появляется кровь. Медсестра убегает за порцией сульфозина, а Степаныч обвивает волосатой рукой шею подростка и применяет удушающий прием. Витькины глаза наливаются кровью. Он силится сделать вздох, и его беспомощный взгляд блуждает по нашим лицам в поисках поддержки.
На территории девочек вернувшаяся со шприцем врач справляется с извивающейся под телами медсестер Аксаной и вкалывает ей аминазин. Та начинает затихать.
Неподвижно наблюдавшая за борьбой Оля вдруг бросается в сторону клена, растущего в левом углу детской площадки девочек, и со всего маха бьется о его ствол так, что падает на землю и теряет сознание. Врачи торопятся к ней, оставляя Аксану на месте.
Собрав последние силы, Витя прокусывает санитару руку, и когда тот ослабляет удержание – устремляется к сетке, вцепляясь в нее мертвой хваткой. Санитары тянут его за ноги назад, и проволока, из которой сплетена рабица, впивается в пальцы мальчика, грозя отделить его проксимальные фаланги от средних и дистальных конечностей. Сетка надувается парусом, выгибаясь искривленными ромбами смеющихся ячеек в сторону Витиного лица. Витя жмурится, сдавливает от боли челюсти, и, не в силах оторвать подростка, санитары меняют тактику. Они прижимают его к забору, и вогнувшаяся на женскую территорию рабица приближает Витю на несколько сантиметров к своей возлюбленной. Он пытается крикнуть, разбудить отключающееся сознание Аксаны, но прижатая санитарами грудная клетка не оставляет Вите никаких шансов. Впившийся в рот подростка ромб рабицы держит его оцинкованной сталью наручников, не позволяя произнести любимое имя даже губами. Выкатывающиеся из его глаз слезы натыкаются на проволоку, вдавленную в щеки несостоявшегося беглеца, и вьются по металлической спирали вниз к земле, на которой все происходит. Выскочившая из больницы медсестра спешит на помощь и, подбежав к жертве, осеняет ее сульфозиновым крестом, вводя уколы сначала в каждую ягодицу, а затем под каждую из лопаток мальчика. Перекосившись от боли, Витек стонет, корчится, слабеет и, когда санитары оставляют его в покое, медленно сползает на корточки, глядя на распластавшуюся от него в двух шагах девочку. Аксана лежит на измятой борьбой траве, уставившись зрачками неподвижных глаз в бескрайний простор синего неба. Следуя за ее взглядом, я поднимаю голову вверх и вижу расступающиеся небеса…
На самом деле – безбрежное голубое небо остается безразличным к происходящей под ним трагедии. Но мне очень хочется верить в то, что сейчас, в момент полного сознания, исключающего галлюцинации от полученных уколов и бреда от лекарств, – обожженная рука моего деда раздвинет величественные своды и заберет нас отсюда. Я продолжаю смотреть ввысь и лелеять в своей душе надежду. Но беспристрастные секунды отправляют настоящее в прошлое, и ничего не происходит.
Глаза Аксаны мирно покоятся вкраплениями лучезарных изумрудов в кожаный шар обритой головы, не обращая никакого внимания на страдания и слезы ее возлюбленного…
Замедлив шаг, время ступает кошачьими лапами, старясь быть незамеченным, и, опустившись в гондолу минут, секунды проплывают по циферблату планеты солнечными тенями часов.
Тени копируют мысли… Считывают желания… Формируют шквал… И боковым зрением я замечаю пытающегося подняться с земли Немого. Что-то странное и неестественное сквозит в его медленных, неторопливых движениях. Он упирается руками в грунт, и его локти дрожат, колышутся на ветру, как пламя свечи в руках поседевшего Прометея. Картинка расплывается, преломляя сквозь слезы моих глаз перламутровую рябь света, и в какой-то момент мне кажется, что Немой не сможет преодолеть собственной слабости. Но, подобно Антею[532], он напитывается от земли силой и, выдержав паузу, справляется с дрожью. Наконец ему удается встать на колени и, выпрямившись, вздохнуть полной грудью. Немой разводит в стороны руки, и от напряжения окрепших мышц больничная пижама рвется на его теле, расползаясь вермишелевыми лоскутами пармеджанового цвета.
В этот миг начинает дуть ветер… Слабый, еще только поднимающийся ветер, наполненный желтыми бабочками, голосами прошлого – шепотом старых гераней и вздохами разочарования[533]. Немой не замечает его. Он стоит с закрытыми глазами, запрокинув лицо в небо, и на его спине начинает расти горб. Горб увеличивается, раздувается, трещит, издавая стоны натянутых у причалов канатов, и лопается вздыбленными парусами в тех местах, где я видел таинственные шрамы на лопатках мальчика. Устремляясь ввысь – из разрывов плоти вылетают два огромных белоснежных крыла и, распрямившись, заполняют пространство над всей территорией больницы. Шелковые, серебристые перья чуть шевелятся, поддаваясь возрастающему давлению ветра. Его порывы подхватывают с земли клубы коричневой каштановой почвы и бросают облако пыли вверх. Поднимаясь, громадный нимбус[534] раздувается водородным дирижаблем и вдруг замирает, ожидая чего-то большего… Проплывая под созвездием Парящих тигров, планета замедляет движение, и, словно захваченный в фотографию, мир зависает парализованными атомами вокруг детской площадки. Наступает одно, неизменяющееся мгновение…
Листья могучего вяза впечатываются в палеонтологические снимки происходящего[535], и, остановившись окончательно, Земля фиксирует собственное окаменение турбинами молочно-опаловых глаз Горгоны. Осматриваясь вокруг, я вижу, как сковываются неподвижностью трава, листья деревьев, облака, взгляды… Вместе с ними исчезают звуки, шорохи и дуновения…
Но вдруг, обдавая лицо прохладной свежестью, с неба падает капля… За ней вторая… третья… четвертая…
Ударная волна ионизации[536] превращается в широкий атмосферный ливень[537] и, мелькнув молнией – в моей голове грохочет осеняющей догадкой: «Имаго свершилось!»
Немой поднимает отяжелевшие веки, и я вижу, что черты его лица приняли осмысленное, суровое выражение Архистратига. Архангел упирается о правую ногу, готовясь к захвату санитаров, но, опережая его на долю секунды, Степаныч взмывает в небо, оставляя на земле глубокие вмятины от широких когтистых лап. Два огромных матовых черных крыла, вырвавшихся из-под халата санитара, накрывают глубокой крестообразной тенью площадку, больницу, гору, на которой она стоит, и часть излучины Волги. В это мгновение что-то проносится перед моим взором, и, прежде чем я успеваю осмыслить произошедшее, снежная лавина крыльев полководца Святого воинства сплетается с вороными перьями санитара в единую косу вихря и, завывая, начинает перерастать в смерч. Смерч вытягивается трубой архангела[538] вверх и оглашает округу грозным эхом. Алые веснушки покрывают кровавыми пятнами черно-белый ствол битвы, который направляет зияющую воронку Тартара в потемневшее от ужаса небо. Готовясь к ответному залпу, грозовые тучи стягивают тяжелое подкрепление. Скорость урагана увеличивается, расползается, и у скамейки, стоявшей под деревом, отрывается доска. За ней летит ножка, лавкастол и стул санитара. Сзади меня раздается грохот, и сквозь скрежет разрывающегося металла я различаю рев танковой армады. Обернувшись назад, в том месте, где стоял второй санитар, я обнаруживаю исполинскую фигуру оскопленного Зевсом титана. Кронос клацает кровожадной пастью богоеда и, бросаясь вперед, вонзается в эпицентр сражения. Отпрыгнув в противоположную сторону, я ощущаю необычайную легкость в собственном теле, в результате чего улетаю значительно дальше и приземляюсь на крышу больницы.
Гигантский волчок покрывает территорию клиники, продолжая втягивать ее содержимое в себя. Качели, домик, песочница, еще одна скамейка – все отправляется в сумрак торнадо.
Посреди площадки, спиной к смерчу, стоит волчица. Ее шерсть, вылизанная всевозрастающим давлением ветра, отливает пепельными наконечниками ворсинок. Морда растянулась в улыбку мертвеца. Устремленные на меня глаза растеклись, опустившись на веко эпикантусом татаро-монгольской складки[539]. Голова опущена. Шкура съехала назад.
Оборотень с трудом поднимает переднюю правую лапу и, выпустив из нее ятаганы стальных когтей, ударяет о землю так, что крайний столик, еще державшийся в земле за счет тяжелой бетонной подушки, подлетает в воздух и исчезает в кружении урагана. От удара лапа зверя погружается в почву до колена. Но сила смерча еще не достигла своего апогея, и вой, производимый им все это время, перерастает в гул, от которого по шиферной крыше пробегает первый озноб. Поддаваясь силе атмосферного вихря, хищницу начинает оттаскивать. Она медленно съезжает назад, и от ее когтей в земле остаются глубокие раны. Под раскидистым большим вязом волчица останавливается, но затем продолжает путь неизбежности, вырывая из-под земли крюками своих когтей огромные корни старого дерева. Корни лопаются, как струны контрабаса (отправляя сквозь литосферу планеты посыл тяжелого, низкого звука, скатывающегося в отдельных местах до фа контроктавы), и пробуждают для битвы с отцом Плутона[540].
Вот лопнула первая струна… вторая… третья… четвертая… Опустив низко голову и упершись задними лапами в землю, волчица замирает на месте. Из-под земли начинает появляться пятая, исчезнувшая струна контрабасовой виолы[541]. Огромный коричневый корень, как доисторический эласмозавр, нехотя вылезает, тянется, выдирается, выворачивается, взрывая наискосок всю площадку, и лопается, не выдержав натяжения. Волчица проваливается в месиво вихря: сначала хвост, затем задние лапы, туловище… Последним (вместе с последним вздохом) исчезает кожаный набалдашник ее носа, после чего кокон смерча набухает, темнеет, разбрызгивая в разные стороны шлейф нефтяного дождя, и, издав истошный рев, глохнет, превращая на фронте ударной волны часть кинетической энергии собственного потока во внутреннюю энергию газа и оглушая мир[542] ядерной вспышкой безмолвия[543].
– Время ужасных чудес пришло![544] – осознаю я и прыгаю на землю.
Но тело мое, начавшее трансформироваться еще в полете, тяжелеет настолько, что приземление сотрясает грунт, отчего обрушается стена и слышится детский плач. Родина бьется в моей груди кровавым осколком сердца и пульсирует по закипающим венам. Широчайшие и трапециевидные мышцы спины увеличиваются, расползаются, пряча под себя затылочную кость, и, заполняя пространство вокруг позвоночника, покрываются титановыми пластинами. Скрежеща и постанывая от запредельного напряжения, прямые мышцы живота стягиваются стальными тросами, заворачивая корпус вниз. Плечи набухают, раздвигаются и от поступающего в них углерода чугунеют, группируясь вокруг шеи тяжелым стальным монолитом. Подбородок формируется в челюстегрудь. Сдавленные зубы хрустят, ощущая на языке привкус закаляющегося металла. Туловище наклоняется в сторону кружащего балериной кокона. Кулаки разжаты. Когти выпущены. Пульс: «Тик-так, тик-так, тик-так…»
Голова тяжелая, чугунная. Горло дрожит, сдерживая бычий рев. Пространство вокруг плывет, шатается, пытаясь выскользнуть из эпицентра сражения. Но выхода нет. Мы в западне. Я – танк TV-1![545]
Тело продолжает набирать вес, ощетиниваясь новыми пластинами брони, и покрывается вольфрамовой пленкой[546]. Урановые батареи запускают цепную реакцию: нейтроны бомбардируют изотопы и заставляют их делиться. В результате начавшегося распада появляется нуклид плутония, и мощность батарей возрастает в разы.
Готовясь к прыжку, я пригибаюсь, опираясь рукой о землю, и, встав на одно колено, прощаюсь с отчизной. Вся сила моего тела медленно перетекает в четырехглавые мышцы бедер, подергивая их судорогой напряжения. Взгляд, в котором прячется ужас, устремлен вперед: «За деда! За жизнь! За внука!» Глаза фиксируют последние этапы разрушения: оконные рамы, вырванные с корнем свирепствующим ураганом, зияют бойницами осажденного варварами донжона. Бетонные подушки, на которых держались лавочки и столы, дымятся обугленными трупами на взбугрившейся от разрывов корней земле. Крыша больницы, забор, площадка для прогулок девочек, беседка, деревья и часть здания, исчезли в коконе смерча, который уже уперся в небо гигантской юлой и, подобно извергающемуся Тоба[547], начал втягивать его, погружая в себя мир.
Вздыбившаяся спина выгнулась, сообщая импульс для прыжка телу. Оторвав от земли руку, я отталкиваюсь от планеты, и, качнувшись, она медленно сходит с орбиты, направляясь в открытое пространство бескрайнего космоса. Мимо проплывают Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун… Налетевший кокон поглощает меня, и последнее, что я вижу, – солнечный луч, прожигающий тьму вечности, не имеющей ни начала, ни продолжения, ни конца. Но содержащую в одном нераздельном акте отрицательной энтропии[548] всю полноту космогонического[549] бытия.
Схлопнувшись, кокон замирает, ожидая своей метаморфозы.
Тик-так… тик-так… тик-так…
Примечания
1
Биоген – название с двойным шифром. Первый шифр – от греч. Bios – жизнь и Gennao – рождаю; интерпретируется как «начиная жизнь». Второй шифр – аббревиатура слова БИОПСИЛИКАСТАГЕН. В свою очередь БИОПСИЛИКАСТАГЕН является аббревиатурой полного названия рукописи. Расшифровка этого слова находится в тексте романа. Текст романа расширяет сознание, вызывает эмоции и деформирует мозг. Мозг читателя выступает реципиентом данной рукописи. Рукопись – симулякром автора.
(обратно)2
Мизанабим (от фр. mise en abyme – помещенный в бездну) – рекурсивная художественная техника, известная как сон во сне, роман в романе и т. д.
(обратно)3
Туранга Лила – основной женский персонаж мультсериала «Футурама». Является мутантом. Мутация сводится к циклопии – имеет один глаз вместо двух. Капитан и пилот космического корабля курьерской фирмы Planet Express. В переводе с санскрита Лила – игра, Туранга – лошадь.
(обратно)4
Фрай (Филип Джордж Фрай) – главный герой мультсериала «Футурама», неудачник и бездельник, попавший из XX века в третье тысячелетие.
(обратно)5
Бендер (Бендер Родригес Сгибальщик) – робот-сгибальщик. Комический антигерой мультсериала «Футурама». Сквернослов, алкоголик, заядлый курильщик сигар, большой любитель порнографии для роботов (в виде электрических схем) и к тому же клептоман. Друг Фрая.
(обратно)6
В межгалактической схеме полетов внеземных цивилизаций ветка солнечного направления обозначается следующим образом: планета Нептун, планета Сатурн, планета Юпитер, планета Марс, планета Алкоголиков, планета Венера, планета Меркурий, конечная – Солнце.
(обратно)7
Профессор (Хьюберт Дж. Фарнсворт) – персонаж мультсериала «Футурама». Старейший член Академии изобретателей, владелец и основатель фирмы Planet Express. В сериале является пра-(умножить на 30) племянником и пра-(умножить на 32) внуком Фрая.
(обратно)8
Посыл к картине Сальвадора Дали «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения».
(обратно)9
Посыл к картине Константина Васильева «Человек с филином».
(обратно)10
Посыл к любимой иконе автора «Иоанн Креститель» Леонардо да Винчи. Единственная икона, на которой святой улыбается, обещая (жестом) рай всем.
(обратно)11
Посыл к библейской истории, в которой танец юной Саломеи так очаровал Ирода Антипу, что он согласился выполнить ее желание: убить пророка Иоанна Крестителя и принести его голову на блюде.
(обратно)12
Посыл к иллюстрациям Обри Бёрдслея на пьесу Оскара Уайльда «Саломея». (Парящая в воздухе Саломея держит в руках отрубленную голову Иоанна Крестителя, изображенную художником в виде головы Медузы Горгоны.)
(обратно)13
Посыл к Люциферу – светоносному падшему ангелу, отождествляемому с дьяволом и – вместе с Иисусом – с утренней звездой, что позволяет предположить истинный способ появления Иисуса на земле. О Люцифере: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!» (Ис. 14:12); об Иисусе: «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». (Откр. 22:16).
(обратно)14
Посыл к действию нейролептиков, когда с увеличением дозы человек перестает реагировать на внешние и внутренние раздражители, оставаясь при этом в сознании.
(обратно)15
Посыл к Библии: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем» (Мф. 6:34).
(обратно)16
Посыл к утверждению, вытекающему из доктрины о непорочном зачатии: все женщины, зачавшие детей, – порочны. Единственная непорочная женщина была Мария, которая при зачатии Иисуса Христа осталась девственницей.
(обратно)17
Цитата из монолога Пимена; неизвестная трагедия «Иоанн IV».
(обратно)18
Таинственная книга, написанная около 600 лет назад неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита.
(обратно)19
Между камней Стены плача ежегодно вкладываются более миллиона записок. В древности люди, если отправлялись в далекие края и надеялись вернуться к священной стене снова, вбивали между камнями гвозди. Вернувшись, гвозди вытаскивали.
(обратно)20
После омовения иудеи приближаются к западной части Стены плача и, встав на колени, читают: «Сие есть не что иное, как Дом Божий, и здесь Врата Рая».
(обратно)21
He’s a cold fish – английская поговорка, означающая «человек без эмоций», «холодная женщина».
(обратно)22
Отрывок из стихотворения А. Блока.
(обратно)23
Шхина – термин, обозначающий в иудаизме присутствие Господа, в том числе и в физическом аспекте.
(обратно)24
Посыл к истории, когда Лиза Симпсон (персонаж мультсериала «Симпсоны»), выполняя лабораторную работу, поставила опыт, в результате которого на свет зародился микромир с людьми и обществом, подобным нашему. Люди этого мира считали девочку своим Богом.
(обратно)25
К оксигенации атмосферы привел кислородный фотосинтез ок. 2,5 млрд лет назад. Оксигенация началась примерно 2,4 млрд лет назад.
(обратно)26
Посыл к Кембрийскому взрыву – внезапному увеличению биоразнообразия в начале кембрийского периода (ок. 540 млн лет назад). В отложениях предыдущих времен следы существования животных встречаются намного реже.
(обратно)27
Посыл к фантастической повести Михаила Булгакова «Роковые яйца», где в результате ошибки во время транспортировки из (якобы) куриных яиц вылупляются крокодилы и анаконды чудовищных размеров.
(обратно)28
Коран, 55:15.
(обратно)29
Цитата из романа Дж. Джойса «Улисс».
(обратно)30
Репродуктивный успех (способность к размножению) является ключевым элементом теорий естественного отбора и эволюции. Самцы мулов бесплодны и не способны размножаться.
(обратно)31
Посыл к деснице Иоанна Крестителя – правой руке трупа святого пророка Иоанна Крестителя.
(обратно)32
Тетраморф – крылатое существо с четырьмя лицами – человека, льва, быка и орла – из видения пророка Иезекииля.
(обратно)33
Посыл к песне, занимающей третье место в списке ста лучших песен русского рока в XX веке, – «Город золотой», получившей известность в исполнении группы «Аквариум».
(обратно)34
Франческо Канова да Милано (1497–1543) – известный итальянский композитор и виртуоз-лютнист, предположительно сочинивший музыку к песне «Город золотой».
(обратно)35
Посыл к «пломбированному вагону», в котором прибыл из Германии в Россию Ленин в апреле 1917 года.
(обратно)36
Имеется в виду встреча богини Деметры со своей дочерью Персефоной, похищенной Аидом, хозяином подземного царства, и возвращенной Зевсом на землю.
(обратно)37
Дхарави – трущобный район Мумбаи, большинство жителей которого принадлежат к неприкасаемым кастам.
(обратно)38
Hasta la vista, baby (До встречи, детка) – ставшая крылатой фраза киборга Терминатора из фильма «Терминатор 2: Судный день», произносимая Арнольдом Шварценеггером.
(обратно)39
Цитата из фильма Л. Гайдая «Операция “Ы”».
(обратно)40
Ubi culpa est, ibi poena subesse debet! (лат.) – Где есть вина, там должна быть и кара.
(обратно)41
Архистратиг – военачальник ангельских небесных сил.
(обратно)42
Предикат – это то, что утверждается о субъекте. Импликацией предикатов называется новый предикат, который при определенных значениях является ложным.
(обратно)43
Коллективный интеллект – способность группы находить более эффективные решения задач, чем лучшее индивидуальное решение в группе.
(обратно)44
Екклезиаст – проповедник или оратор в собрании. Также название ветхозаветной книги, которая в христианской Библии помещается среди Соломоновых книг.
(обратно)45
Посыл к поведению пьяных кентавров на свадьбе Пирифоя и Гипподамии, которое привело к возобновлению войны с лапифами.
(обратно)46
«Я требую продолжения банкета!» – известная фраза Ивана Васильевича Бунши из популярной советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Л. Гайдая.
(обратно)47
Хилер – целитель, якобы выполняющий хирургические операции без использования каких-либо инструментов, путем особых манипуляций рук.
(обратно)48
Посыл к боевому искусству ката. Ката – формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником. Принцип изучения этого искусства состоит в том, что, повторяя ката многие тысячи раз, человек выводит их на бессознательный уровень.
(обратно)49
«Я человек, измученный нарзаном» – знаменитая фраза из книги «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, произносит ее монтер Мечников.
(обратно)50
Посыл к крылатой фразе «В Европу прорубить окно» из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник». Фраза относится к основанию Петром I Санкт-Петербурга, новой столицы России, построенного за многие тысячи километров от большинства российских городов – «в самом неподходящем месте».
(обратно)51
Отрывок из стихотворения В. Я. Брюсова «Первый снег».
(обратно)52
Болюс – кусок частично пережеванной пищи, разжиженная фармацевтическая или иная субстанция.
(обратно)53
Моляры – большие коренные зубы.
(обратно)54
Сердуш – контаминация из слов «сердце» и «душа».
(обратно)55
Известная фраза из кинокомедии Л. Гайдая «Бриллиантовая рука».
(обратно)56
Отрывок из стихотворения «Поэты».
(обратно)57
Фраза, сказанная Лилей Брик Андрею Вознесенскому.
(обратно)58
Цитата из стихотворения В. Высоцкого «Утренняя гимнастика».
(обратно)59
Согласно теории множеств аксиома пустого множества провозглашает существование по меньшей мере одного множества, не содержащего ни одного элемента. Пустое множество является своим же подмножеством, но не является своим элементом. Таким образом, аксиома пустого множества отвергает «само собой разумеющееся» высказывание: «В каждом множестве есть хотя бы один элемент».
(обратно)60
Бездна Челленджера – самая глубокая точка Марианской впадины в Тихом океане.
(обратно)61
Фораминиферы – тип простейших одноклеточных организмов из группы протистов, обнаруженных на дне Марианской впадины.
(обратно)62
Слово, навеянное крылатым выражением из кинофильма Л. Гайдая «Бриллиантовая рука», – «руссо туристо облико морале!»
(обратно)63
Линия Маннергейма – комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой, позволивший финской армии длительное время сдерживать наступление многократно превосходящих сил Красной армии после нападения СССР на Финляндию в 1939 году.
(обратно)64
«Маньяки на острие атаки» – строчка из песни группы «Дискотека Авария».
(обратно)65
Несвежая новость – имеется в виду, что реликтовый фон, с помощью которого человечество знакомится с событиями во Вселенной, доходит до Земли спустя миллионы и миллиарды лет. То есть, к примеру, обнаруженная недавно звезда на самом деле может уже давным-давно почить в бозе. Поэтому большинство свежих новостей, передаваемых астрономами, на самом деле являются более чем несвежими.
(обратно)66
Нейтрины – нейтральная фундаментальная частица. Двигаясь в космическом пространстве, нейтрины проходят сквозь все предметы, попадающиеся на их пути.
(обратно)67
Во время Роттердамского блицкрига бомбардировщики германской армии сбросили ок. 97 тонн бомб, в основном на центр города, уничтожив все на площади 2,5 км².
(обратно)68
Посыл к неофициальному заявлению китайцев в 2008 году, что летом 2007 года им удалось сбить американский истребитель пятого поколения F-22A «Рэптор», построенный по стелс-технологии, позволяющей сделать объект почти незаметным для радара.
(обратно)69
Посыл к фильму «Обыкновенное чудо» М. Захарова, где, в частности, король увлекается рыбалкой, отказываясь от прежнего образа жизни.
(обратно)70
Посыл к Крестовому походу на Иерусалим 7 июня 1099 года, когда город был взят крестоносцами за восемь дней.
(обратно)71
Боливар – кличка коня из рассказа О. Генри «Дороги, которые мы выбираем». Фраза «Боливар не выдержит двоих» стала популярной благодаря кинофильму Л. Гайдая «Деловые люди».
(обратно)72
Посыл к Джейн Грей – некоронованной королеве Англии, правившей с 10 по 19 июля 1553 года и получившей известность как «королева девяти дней». В шестнадцатилетнем возрасте Джейн была приговорена соперницей к смерти и спустя несколько месяцев обезглавлена. Соперницу звали Мария I Тюдор, или Мария Кровавая.
(обратно)73
«Турангалила» – симфония французского композитора Оливье Мессиана, одно из сложнейших произведений мирового оркестрового репертуара. В переводе с санскрита значит «Песнь любви». Термин «лила» (игра божества) является важным философским понятием в индуизме.
(обратно)74
Вес скульптуры 8 тысяч тонн.
(обратно)75
Посыл к кинофильму Л. Гайдая «Операция “Ы”»: «Ваши условия. – Триста тридцать! – Согласен. – Каждому!.. – Согласен».
(обратно)76
Семнадцатого сентября 1939 года, выполняя договоренности между СССР и гитлеровской Германией, войска Красной армии захватили часть территории Польши. После совместного парада советских и фашистских войск в Бресте Брестская крепость была торжественно передана СССР.
(обратно)77
Historiam nescire hoc est semper puerum esse (лат.) – Не знать истории – значит всегда быть ребенком.
(обратно)78
Согласно концепции христианства, бесы ненавидят все творение Божие, и особенно венец творения (то есть самое лучшее, что создал Бог) – людей.
(обратно)79
Дедушка Лёва – Лев Толстой.
(обратно)80
Папильон – карликовая изящная собачка. Высота в холке 20–28 см, вес 1,8–2,5 кг.
(обратно)81
Имеется в виду Оскар Уайльд.
(обратно)82
Отсылка к рецептам алкогольных коктейлей из книги Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки»: 1) «Слеза комсомолки»: «Лаванда» – 15 г., «Вербена» –15 г., «Лесная вода» – 30 г., лак для ногтей – 2 г., зубной эликсир – 150 г., лимонад – 150 г. «Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, теряет разом и то и другое. А в случае со «Слезой комсомолки» просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой «слезы”, – память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм – и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? и куда девалась вся твердая память?..» 2) «Ханаанский бальзам»: денатурат (технический спирт) – 100 г., бархатное пиво – 200 г., политура очищенная – 100 г. «Пить просто водку, даже из горлышка, – в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном – в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «Ханаанского бальзама» – в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек».
(обратно)83
Оттавский договор 1997 г. запрещает применение противопехотных мин.
(обратно)84
Посыл к теории Черноморского потопа, согласно которой ок. 5600 г. до н. э. случился масштабный и катастрофический подъем уровня Черного моря, возможно, породивший легенды о Всемирном потопе. В основу причин катаклизма была положена гипотеза о прорыве вод из Средиземного моря в Черное вследствие землетрясения. Черное море в древности было пресноводным, но затем туда хлынула соленая вода.
(обратно)85
Бестиарий – гладиатор, вооруженный дротиком или кинжалом.
(обратно)86
Гоминиды (также известные как большие человекообразные обезьяны) – семейство наиболее прогрессивных приматов, включающее и людей.
(обратно)87
В 1474 году в Московском Кремле произошла катастрофа – рухнул почти достроенный Успенский собор.
(обратно)88
Посыл к битве на Гидаспе – последнему крупному сражению Александра Македонского.
(обратно)89
Посыл к закону теплопередачи. Самопроизвольная передача тепла всегда происходит от более теплого тела к более холодному, что является следствием второго закона термодинамики.
(обратно)90
Медленная фаза сна, наступающая сразу после засыпания, длится 80–90 минут. Быстрый сон следует за медленным и длится 10–15 минут.
(обратно)91
Религиозный фанатик пророк Илия собственноручно казнил около двухсот жрецов во время жертвоприношения на горе Кармель (3 Цар. 18:40).
(обратно)92
В народе говорят, что 2 августа Илья в воду пописал; начиная с этого дня вода зацветает, появляется ряска, водоемы уже не такие чистые и теплые.
(обратно)93
Иисус Христос в тридцать три года был казнен, а Илья Муромец в тридцать три года излечился от паралича.
(обратно)94
Посыл к сказке «Кот в сапогах», где два старших брата – Даниэль и Леман, – поделив отцовский капитал, оставили младшего брата ни с чем, в дураках.
(обратно)95
Проведение Олимпиады обошлось налогоплательщикам России в 50 млрд долларов. Отчет компании «Олимпстрой» за 2013 год показал, что фактические расходы на строительство олимпийских объектов составили 1,524 трлн рублей. Универсиада 2013 года в Казани обошлась в 228 млрд рублей, что составило 735 млн долларов. Аудит Счетной палаты выявил, что общий объем инвестиций в строительство объектов для саммита АТЭС составил 690 млрд рублей или почти 20 млрд долларов.
(обратно)96
Джордж Вашингтон изображен на купюре в один доллар.
(обратно)97
Во время проведения Универсиады корреспондентка центрального телевидения брала интервью у главы Счетной палаты. Она задала вопрос: «Можно ли в столь сложное для страны время тратить 240 млрд рублей на проведение заведомо не окупаемого спортивного мероприятия?» В ответ прозвучала та самая шутка.
(обратно)98
«Дочка» – термин, используемый для обозначения дочернего предприятия, созданного в качестве юридического лица другим предприятием (учредителем) путем передачи «дочке» части своего имущества в полное хозяйственное ведение.
(обратно)99
Крылатая фраза из фильма «Ширли-Мырли» В. Меньшова: «Внувнувнупрачка президента Линкольна».
(обратно)100
На самом деле древнегреческий философ Сократ гостил у автора за пять лет до описываемых в книге событий.
(обратно)101
После суда и обвинительного приговора Сократ, как свободный афинский гражданин, не был подвергнут казни палачом, а совершил самоубийство, приняв яд.
(обратно)102
Пол Тиббетс – пилот американского бомбардировщика, сбросившего атомную бомбу на японский город Хиросима.
(обратно)103
Речь идет о бомбардировщике B-29 «Enola Gay», с которого была сброшена атомная бомба на японский город Хиросима. Бомбардировщик был назван по имени матери (Энола Гей Хаггард) командира экипажа, Пола Тиббетса.
(обратно)104
«Религия – опиум народа» – образное определение, ставшее широко известным благодаря Карлу Марксу, который использовал его в своей работе «К критике гегелевской философии права».
(обратно)105
Доместикация – одомашнивание, превращение диких животных в домашних путем отбора, приручения, содержания и разведения в созданных человеком искусственных условиях.
(обратно)106
Майевтика – метод, созданный Сократом как искусство извлекать скрытое в каждом человеке знание с помощью наводящих вопросов.
(обратно)107
Посыл к Книге Бытия, описывающей проклятия Всевышнего после вкушения Адамом и Евой плодов древа познания. Он говорит Еве: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей» (Быт. 3:16).
(обратно)108
Проклятие от Бога Адаму при изгнании из рая, описанное в книге Бытия: «Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:17–19).
(обратно)109
Один из парадоксов Сократа. Полностью звучит так: «Никто не желает себе зла, и никто намеренно не стремится к злу, поскольку такое желание или стремление есть верное средство стать несчастным».
(обратно)110
Мафусаил – одно из древнейших деревьев на Земле. Приблизительная оценка времени прорастания семени – 2831 г. до н. э.
(обратно)111
Диоген был киником, Сократ – диалектиком. Киники – одна из наиболее значимых сократических философских школ. Кинизм отталкивался от общепринятых взглядов и развивал новые, прямо противоположные существующим, пользуясь методом «негативной филиации идей».
(обратно)112
Посыл к теории Адама Смита (1723–1790), шотландского экономиста, одного из основоположников современной экономической теории. Считал основой общества человека с его стремлением к личной выгоде, которое и образует интересы, благополучие, а также развитие человечества в целом.
(обратно)113
Посыл к концу 1990-х, когда цены на нефть (в 1998 г.) достигли своего минимума – 11 долларов за баррель, а потом выросли более чем в десять раз: 11 июля 2008 года цена нефти сорта WTI (Light Sweet) достигла исторического максимума, превысив 147 долларов за баррель.
(обратно)114
Этатизм – политика активного вмешательства государства во все сферы общественной и частной жизни.
(обратно)115
Посыл к труду Н. Гартмана «Феноменология нравственного сознания», в котором автор призывал к избавлению от трех иллюзий, владеющих умами людей: иллюзии земного счастья, иллюзии потустороннего счастья и иллюзии достижения счастья в результате исторического развития. Эволюция влечет Вселенную к уничтожению путем осознания ее неразумия и нецелесообразности.
(обратно)116
Интериоризация (от фр. intériorisation – переход извне внутрь, и лат. interior – внутренний) – формирование внутренних структур человеческой психики посредством усвоения внешней социальной деятельности.
(обратно)117
Имеется в виду население России – 143 975 923 человека (на конец 2015 г.).
(обратно)118
Отрывок-перифраз из «Этики» Демокрита.
(обратно)119
Вобизор – мало, немного.
(обратно)120
Отрывки из песни Л. Успенской «Гусарская рулетка».
(обратно)121
Омар Хайам «Рубаи о жизни» (пер. И Голубева).
(обратно)122
Ха це хую (чечен.) – Как тебя зовут?
(обратно)123
Никогда, о nevermore! (никогда, о никогда) – строка из знаменитого стихотворения Эдгара По «Ворон» (пер. Н. Зенкевича).
(обратно)124
Согласно догмату, после распятия Иисус спустился в ад, освободил заключенные там души и вывел из ада всех ветхозаветных праведников, включая Адама и Еву.
(обратно)125
Гостерог – контаминация слов: гость и рог.
(обратно)126
См. комедийный монолог Джорджа Карлина «Это плохо для тебя».
(обратно)127
Агорафобия – боязнь открытых дверей.
(обратно)128
Посыл к песне Виктора Цоя «Мама, мы все тяжело больны», где есть такие строки: «Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом».
(обратно)129
После распятия Иисус Христос спустился в ад, сокрушив его ворота – в Евангелиях об этом прямо не говорится, но есть косвенные свидетельства.
(обратно)130
При изгнании сатаны из рая Господь призвал вооруженного мечом архангела Михаила.
(обратно)131
Ипостась – термин, используемый в христианском богословии для обозначения одного из лиц Триединого Бога: Отца и Сына и Святого Духа.
(обратно)132
Согласно христианской мифологии осиновые листья до сих пор дрожат от ужаса, вспоминая о распятии Христа и ужасном конце Иуды Искариота (он повесился).
(обратно)133
В Книге Иезекииля, в частности, говорится, что Сатана был прекраснейшим из ангелов: «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты» (Иез. 28:12).
(обратно)134
Пресуществление – богословский термин; употребляется для передачи смысла преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Искупителя Христа в таинстве Евхаристии.
(обратно)135
Евхаристия – обряд в христианстве (таинство, священнодействие); освящение хлеба и вина особым образом и последующее их вкушение.
(обратно)136
Эласмозавр – гигантский плезиозавр позднего мелового периода, обитавший в океане. В длину достигал 15 метров.
(обратно)137
Гай Юлий Цезарь Август (63 до н. э. – 14 н. э.) – римский император. Прощаясь с друзьями перед смертью, Август якобы спросил, хорошо ли, по их мнению, он сыграл комедию жизни. «А коль мы прекрасно сыграли, овацией нас наградите и проводите с весельем», – выслушав ответ, произнес император, цитируя греческий стих.
(обратно)138
Хенрик Юхан Ибсен, пьеса «Кукольный дом».
(обратно)139
Впервые обязательное образование возвел в норму закона в 1647 году верховный суд Плимутской колонии (ныне штат Массачусетс). В 1852 году штат Массачусетс первым принял закон об обязательном начальном обучении. Европа в этом отношении отстала. В 1833 году парламент Великобритании впервые утвердил ежегодные ассигнования на строительство и содержание школ для бедных, а через 37 лет, в 1870 году, в Британии был принят Закон о всеобщем обязательном обучении в начальной школе всех детей страны в возрасте от 5 до 12 лет.
(обратно)140
Посыл к основным метафизическим вопросам: «Что есть причина причин? Каковы истоки истоков? Каковы начала начал?»
(обратно)141
Посыл к четырехбуквенному непроизносимому имени Господа (транслитерация YHWH, произношение в настоящее время точно неизвестно).
(обратно)142
Апелляция к книге Макса Штирнера «Единственный и его собственность»; начинается со слов: «Религия, совесть, мораль…»
(обратно)143
Жан Бедель Бокасса (1921–1996) – президент Центрально-Африканской Республики с 1 января 1966 года по 4 декабря 1976 года, затем до 20 сентября 1979 года – император. По некоторым сведениям, употреблял в пищу лидеров оппозиции (в прямом смысле). После государственного переворота выехал из страны, заочно был приговорен к смертной казни. Как ни странно, в 1986 году вернулся в ЦАР, где приговор был подтвержден. Но Бокассу не казнили – сначала дали пожизненное, а потом отпустили по амнистии. Скончался он от сердечного приступа вскоре после освобождения.
(обратно)144
Томас де Торквемада (1420–1498) – основатель испанской инквизиции.
(обратно)145
Патриарх Иоаким (1621–1690) – девятый патриарх Московский в досинодальный период. Царевна Софья, старшая сестра малолетних государей Ивана и Петра (будущего Петра I), по просьбе Иоакима в 1685 году издала знаменитые «12 статей», на основании которых были преданы изгнанию, пыткам и смерти тысячи старообрядцев.
(обратно)146
Кронос – в древнегреческой мифологии – верховное божество (или, по другой версии, титан), младший сын бога Урана. Опасаясь исполнения предсказания, по которому его свергнет кто-то из детей, проглатывал свое потомство. Уцелел только Зевс, и предсказание сбылось.
(обратно)147
Гематофилия – сексуальное возбуждение от вида крови.
(обратно)148
Отрывок из книги Макса Штирнера «Единственный и его собственность»; начинается со слов: «Мое дело <…> не должно быть ни добрым, ни злым».
(обратно)149
Стивен Уильям Хокинг (род. 1942) – парализованный физик-теоретик и космолог; после операции в 1985 году потерял способность разговаривать.
(обратно)150
Рубен Давид Гонсалес Гальего (род. 1968) – писатель и журналист; парализован с рождения.
(обратно)151
Вероятно, имеется в виду история с квартирой на Чистопрудном бульваре, которую тринадцатого августа тринадцатого года по доносу депутата штурмовала полиция в поисках листовок оппозиционера А. Навального.
(обратно)152
Как утверждает автор, пытавшийся перестучать дятла собственным клювом, птица в среднем делает 130 ударов в минуту, в то время как автор смог сделать только 109. В секунду дятел может произвести до двенадцати ударов и до семи притоптываний лапками.
(обратно)153
To turn over a new leaf – английская поговорка, означающая «начать жизнь с чистого листа, перевернуть страницу».
(обратно)154
Маршал В. Я. Чуйков (1900–1982) является единственным Маршалом Советского Союза, похороненным за пределами Москвы. Согласно завещанию, его похоронили на Мамаевом кургане в Волгограде, у подножия монумента «Родина-мать», рядом с воинами его армии, погибшими в Сталинградской битве.
(обратно)155
Нед Келли (1854–1880) – самый известный преступник в истории Австралии, грабитель и убийца.
(обратно)156
Сергей Мадуев (1956–2000) – одиозная фигура преступного мира; прославился тем, что завел роман со следователем-женщиной, которая пыталась помочь ему сбежать из Крестов.
(обратно)157
Бонни Паркер и Клайд Бэрроу – известные американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии. Выражение «Бонни и Клайд» стало нарицательным для обозначения занимающихся преступной деятельностью любовников.
(обратно)158
Бони Паркер вела дневник и писала стихи.
(обратно)159
Сиката га най – японская поговорка; примерный перевод – «ничего не поделаешь».
(обратно)160
C’est la vie (фр.) – такова жизнь.
(обратно)161
Волгоградцам Моисей Маркович Гольдштейн известен под псевдонимом В. Володарский. Именем Володарского названа улица в Центральном районе.
(обратно)162
Марв – один из главных героев серии фильмов «Город грехов».
(обратно)163
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк.1:35).
(обратно)164
Согласно Никео-Цареградскому Символу веры, являющемуся основой христианского вероучения, Бог Святой Дух предвечно исходит от Бога Отца к Богу Сыну.
(обратно)165
Посыл к вере в то, что Святой Дух на протяжении всей истории нисходил на отдельных людей с целью облечь их сверхъестественными способностями: на пророков, священников, праведных иудейских царей, апостолов, христианских мучеников и всех святых.
(обратно)166
Посыл к «Божественной комедии» Данте Алигьери, в которой описываются круги ада. Так, в круге восьмом находятся тираны и убийцы, плавающие в потоках кипящей крови; самоубийцы, превращенные в растения; богохульники, еретики и насильники, сжигаемые пламенем; обманщики всех родов, муки которых весьма разнообразны. Девятый круг ада предназначен для самых ужасных преступников – предателей и изменников.
(обратно)167
«Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую» (Лк. 6:27–29).
(обратно)168
Фатера, фатерка (жарг.) – жилище, квартира, дом.
(обратно)169
Долбожители – производное от слов «долбик» и «елбик».
(обратно)170
В 1848 году Тютчев, занимая должность старшего цензора, не разрешил распространять в России «Манифест коммунистической партии» на русском языке, заявив: «Кому надо, прочтут и на немецком». Манифест начинается словами: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма».
(обратно)171
Конвекция – вид теплопередачи, при котором внутренняя энергия передается струями и потоками.
(обратно)172
Интроспекция (от лат. introspecto – смотрю внутрь). Метод психологического исследования, который заключается в наблюдении собственных психических процессов.
(обратно)173
Перифраз из стихотворения Самуила Маршака.
(обратно)174
Посыл к картине Рубенса «Портрет камеристки инфанты Изабеллы».
(обратно)175
Никто из большевистских лидеров не горел желанием войти в историю, поставив свою подпись на позорном для России договоре. Но Ленину 6–8 марта 1918 года на VII экстренном съезде РСДРП(б) удалось «продавить» ратификацию Брестского мира.
(обратно)176
По данным, приводимым газетой «Московский комсомолец», на 2003 год в России насчитывалось ок. 1800 памятников Ленину и до двадцати тысяч бюстов.
(обратно)177
Самый большой в мире памятник реально жившему человеку – памятник В. И. Ленину в начале Волго-Донского канала в Волгограде.
(обратно)178
«Матерь городов русских» – выражение, широко используемое в советское время в отношении Киева. Появилось в результате отсылок к «Повести временных лет» и другим историческим источникам.
(обратно)179
Скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде имеет общую высоту (с постаментом) 87 метров. Общая высота монумента «Родина-мать» в Киеве, на правом берегу Днепра, – 102 метра.
(обратно)180
Посыл к поединку между Голиафом, филистимлянским воином, и молодым Давидом. Будущий царь Иудеи и Израиля побеждает Голиафа в поединке с помощью пращи, а затем отрубает его голову (1 Цар. 17:49–51).
(обратно)181
Из-за проблем со здоровьем в последние годы речь Л. И. Брежнева, Генерального секретаря ЦК КПСС, фактического руководителя страны, была неразборчива.
(обратно)182
Афазия – системное нарушение уже сформировавшейся речи, возникающее при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей и инсультов (у Брежнева нарушение речи стало следствием ранения, полученного на войне).
(обратно)183
Георгий Константинович Жуков (1896–1974) – унтер-офицер царской армии. В Первую мировую был награжден Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степени. В 1918 году, нарушив воинскую присягу, стал воевать против войск Белой гвардии, в частности против генерал-лейтенанта А. И. Деникина и георгиевского кавалера генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. Семен Константинович Тимошенко (1895–1970) – участник Первой мировой войны. За храбрость награжден Георгиевскими крестами. В 1918 году, как и Г. К. Жуков, перешел на сторону большевиков. Участвовал во взятии Царицына. Константин Константинович Рокоссовский (1896–1968) в Первую мировую служил в 5-м Каргопольском драгунском полку 5-й кавалерийской дивизии 12-й армии. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени и Георгиевской медалью 2-й и 4-й степени. После отречения Николая II от престола присягнул Временному правительству. В октябре 1917 года перешел на сторону большевиков. Участвовал в боях против войск адмирала А. В. Колчака. Федор Иванович Толбухин (1894–1949) в Первую мировую войну командовал ротой, батальоном. За боевые отличия был награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава. В августе 1918 года перешел на сторону большевиков. Участвовал в подавлении восстания Балтийского флота в марте 1921 года (Кронштадтское восстание).
(обратно)184
Отрывок-перифраз из поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».
(обратно)185
«Ленинский, огромный лоб» – строка из поэмы В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».
(обратно)186
Посыл к клетчатой фактуре кондитерских вафель, где клетка олицетворяет решетки, а страна – диктатуру коммунистов в СССР.
(обратно)187
Отрывок из сонета Петрарки, написанного на смерть Лауры.
(обратно)188
Вопрос, который задал Вини-Пух Сове, когда увидел у нее хвост ослика Иа.
(обратно)189
Дэвид Сет Коткин, он же Дэвид Копперфильд (род. 1956) – американский иллюзионист и гипнотизер, известный своими зрелищными фокусами. В 1983 году он показал фокусу с исчезновением статуи Свободы.
(обратно)190
Метакомет – вождь индейского племени вампаноагов. Английские поселенцы прозвали его «Король Филипп» – за сходство во внешности с испанским королем Филиппом II. Наиболее кровопролитная из индейских войн на территории современных США вошла в историю, как война Короля Филиппа.
(обратно)191
Гипербореи – в древнегреческой мифологии – жители легендарной северной страны Гипербореи.
(обратно)192
Отрывок из произведения Ф. Ницше «Антихрист»; начинается со слов: «Мы гипербореи!..»
(обратно)193
Среди определенного круга родственников и побратимов у чукчей допускалось взаимное (по соглашению) пользование женами; распространен был также левират – обычай, согласно которому вдова доставалась брату умершего.
(обратно)194
Бас-профундо – очень низкий грудной басс нижним пределом до 43,7 Гц (фа контроктавы).
(обратно)195
Чарльз Лютвидж Доджсон (1832–1898) больше известен под псевдонимом Льюис Кэрролл, и его представлять не надо.
(обратно)196
Варган – самозвучащий язычковый музыкальный инструмент.
(обратно)197
Наивный реализм – эпистемологическая позиция в философии и в обыденном сознании, согласно которой реально все, что нормальный человек воспринимает в нормальных условиях и описывает общепринятым, соответствующим фактам языком.
(обратно)198
Чукчи героически сопротивлялись завоеванию. 26 октября 1582 года атаман Ермак Тимофеевич совершил успешный набег на Кашлык, столицу Сибирского ханства, но позже он принял смерть от хана Кучума (утонул в Иртыше, пытаясь уйти от внезапно напавших кучумовцев, в ночь с 5 на 6 августа 1584 года). В марте 1730 года аборигены разгромили отряд казачьего головы Шестакова, убив и его самого. В 1744–1746 годах три похода на Чукотский полуостров совершил майор Дмитрий Павлуцкий.14 марта 1747 года в битве при реке Орловой близ Анадыря его отряд был разгромлен.
(обратно)199
1675 год, война Короля Филиппа. После нападения индейцев на городок Нортфилд в засаду был заманен отряд англичан под командованием капитана Бэра и полностью разгромлен. Позже, в связи с наступающей зимой, в Хэдли был отправлен отряд Томаса Лотропа, которому было поручено вывезти заготовленное зерно. На обратном пути отряд подвергся неожиданному нападению индейцев и также был разбит, чудом уцелели лишь семеро солдат.
(обратно)200
Ринотиллексомания (ковыряние в носу) – привычка извлекать из ноздрей засохшую слизь.
(обратно)201
Муконазальный секрет – носовая слизь, разговорное произношение – сопли.
(обратно)202
Слова Ральфа Виггама – героя мультсериала «Симпсоны».
(обратно)203
Гипоним – понятие, выражающее частную сущность по отношению к другому, более общему понятию.
(обратно)204
Подмножество в теории множеств – понятие части множества.
(обратно)205
Гипероним – слово с более широким значением, выражающее общее, родовое понятие, название класса (множества) предметов (свойств, признаков).
(обратно)206
Надмножество – расширенное множество подмножеств.
(обратно)207
Булеан (степень множества, показательное множество, множество частей) – множество всех подмножеств данного множества.
(обратно)208
В начале 1976 года Л. И. Брежнев перенес клиническую смерть. После этого он так и не смог физически восстановиться, и его неспособность управлять страной с каждым годом становилась все очевиднее.
(обратно)209
Л. И. Брежнев – единственный за всю историю существования СССР человек, обладавший пятью Звездами Героя. Для сравнения – у маршала Жукова были только четыре Звезды. С учетом звезд других стран наш генсек был Героем восемнадцать раз (или девятнадцать, если учитывать румынский орден «Победа социализма»).
(обратно)210
Посыл к героическому переходу русских войск под командованием фельдмаршала Александра Васильевича Суворова в 1799 году через Паникс – высокогорный перевал в Гларнских Альпах.
(обратно)211
«Сент-Луис» – судно, получившее известность благодаря так называемому «Плаванию обреченных» – неудачной попытке еврейских эмигрантов избежать нацистского преследования. Другие государства отказались принять пассажиров судна, покинувших фашистскую Германию.
(обратно)212
Мандала – сакральное схематическое изображение (конструкция), используемая в буддийских и индуистских религиозных практиках. Геометрический символ сложной структуры, интерпретируемый как модель Вселенной, «карта космоса».
(обратно)213
Посыл к формулировке сознания Артуром Шопенгауэром. Шопенгауэр называл сознание «загвоздкой Вселенной».
(обратно)214
Любовь Попова (1889–1924) – русский и советский живописец, художник-график, дизайнер.
(обратно)215
Перефразированное четверостишье Александра Блока, у которого было: «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века – все будет так. Исхода нет».
(обратно)216
Эукариоты, или ядерные, – домен (надцарство) живых организмов, клетки которых содержат ядра. Все организмы, кроме бактерий и архей, являются ядерными, соответственно и человек.
(обратно)217
Alieni juris (лат.) – выражение римского права, означающее человека, находящегося во власти другого, то есть человека несамостоятельного в политическом или гражданском отношении.
(обратно)218
Гуморальная регуляция – один из эволюционно ранних механизмов регуляции процессов жизнедеятельности в организме, осуществляемый через жидкие среды с помощью гормонов. У высокоразвитых животных и человека гуморальная регуляция подчинена нервной регуляции и составляет совместно с ней единую систему нейрогуморальной регуляции.
(обратно)219
Дедал – согласно древнегреческой мифологии, строитель Лабиринта на острове Крит, отец Икара, соорудивший для сына крылья. Сурт – в скандинавской мифологии – огненный великан-разрушитель.
(обратно)220
Отрывок-перифраз из романа Марселя Пруста «По направлению к Свану»; начинается со слов: «Идя спать, я утешался мыслью…»
(обратно)221
Саванна – порода кошек, гибрид домашней кошки и африканского сервала. Отличительные особенности саванны – густая пятнистая шерсть, продолговатое тело, вытянутая шея, длинные ноги, большие круглые уши.
(обратно)222
Амфиболия – двойственность или двусмысленность, получающаяся от того или иного расположения слов или от употребления их в различных смыслах, смешение понятий.
(обратно)223
Слова из песни «Дворник» группы «Агата Кристи».
(обратно)224
Бомбардировка Сталинграда 23 августа 1942 года лишила жизни более 90 тысяч человек и уничтожила более половины жилого фонда, превратив город в пылающие руины.
(обратно)225
Двадцать шестого апреля 1937 года на Гернику (Испания, а точнее, Страна басков) совершил воздушный налет немецкий «Легион Кондор», результаты налета были ужасающими.
(обратно)226
В результате воздушных налетов в 1940–1942 годах город Ковентри (Великобритания) был практически полностью уничтожен. В бомбардировках принимали участие до 437 самолетов; погибли в общей сложности 1236 человек.
(обратно)227
В конце Второй мировой войны, 13–14 февраля 1945 года, Дрезден подвергся крупномасштабной бомбардировке со стороны английской и американской авиации. Центр города был полностью разрушен.
(обратно)228
Бомбардировки Грозного в ходе 1-й и 2-й чеченских войн практически полностью уничтожили город. Так, например, только за один день, 23 сентября 1999 года, российская авиация уничтожила несколько электроподстанций, несколько заводов нефтегазового комплекса, грозненский центр мобильной связи и центр телепередач.
(обратно)229
Донжон – главная башня в европейских феодальных замках – крепость внутри крепости.
(обратно)230
Намек на соцветия мака снотворного, или мака опийного, – культивируемого во многих странах на протяжении тысячелетий растения. В России такой мак запрещен к возделыванию с 2004 года.
(обратно)231
Слова из песни «Опиум» группы «Агата Кристи».
(обратно)232
Самой маленькой клеткой в организме человека является сперматозоид.
(обратно)233
Для успешного оплодотворения в матку должно проникнуть не менее 10 млн сперматозоидов.
(обратно)234
В момент оплодотворения яйцеклетки сперматозоид похож на маленький жгутик (палочку), так как он значительно меньше яйцеклетки.
(обратно)235
Посыл к утверждению Артура Шопенгауэра – индивид, утверждающий волю к жизни, одновременно утверждает смерть.
(обратно)236
Бозон Хиггса, или Частица Бога – последняя из найденных частица стандартной модели теоретической конструкции физики элементарных частиц.
(обратно)237
Инсайт – проницательность, проникновение в суть, понимание, озарение, внезапная догадка.
(обратно)238
Темная материя – форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним. Это свойство делает невозможным ее прямое наблюдение. Присутствие темной материи можно, однако, обнаружить по создаваемым ею гравитационным эффектам. Темная материя вкупе с темной энергией составляют 95 % Вселенной.
(обратно)239
Карлос Слим Элу (род. 1940) – мексиканский миллиардер, один из самых богатых людей планеты.
(обратно)240
Апофения – немотивированное видение взаимосвязей, сопровождающееся характерным чувством неадекватной важности; анормальное сознание значения.
(обратно)241
Посыл к законам ядерной и квантовой физики (в теории Большого взрыва), которые зиждутся на экстраполяции предположения, что при движении в прошлое средняя энергия частиц (температура) возрастает.
(обратно)242
Посыл к песне из кинофильма «Приключения Буратино», исполняемой Дуремаром: «Мои дорогие, мои дорогие, мои дорогие пиявочки!»
(обратно)243
Данте Алигьери был изгнан из родной Флоренции. В изгнании он создал свое бессмертное сочинение «Божественная комедия».
(обратно)244
Согласно исследованию «Россия и СССР в войнах XX века» потери Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского фронта во время Любанской операции (7 января – 30 апреля 1942 года) составили 95 064 человек убитыми и 213 303 человек ранеными и попавшими в плен, всего 308 367 человек (94,67 %). Таким образом, за время операции не погиб, не попал в плен или не был ранен только один из двадцати человек (5,33 %).
(обратно)245
Строки из воспоминаний участников этого наступления начинаются со слов: «Когда скрюченные от холода солдаты…»
(обратно)246
Только по официальным данным УНКВД Ленинградской области, за употребление человеческого мяса были арестованы: в декабре 1941 года – 43 человека, в январе 1942 года – 366, в феврале – 612, в марте – 399, в апреле – 300, в мае – 326, в июне – 56 человек.
(обратно)247
Посыл к трупу Ленина, лежащему в Мавзолее в открытом гробу уже больше девяноста лет.
(обратно)248
Посыл к изъятому мозгу Ленина, хранящемуся, по слухам, в Институте мозга в Москве.
(обратно)249
Строки из произведения Рабле Франсуа «Гаргантюа и Пантагрюэль».
(обратно)250
Одесса Клей – мама боксера Кассиуса Марселлуса Клея (Мохаммеда Али).
(обратно)251
«В раю не будет естественных испражнений – все будет выходить из людей посредством особого пота, подобного мускусу, с поверхности кожи» (Муслим, Джаннат 18, 3835; Абу Дауд, Суннат, 23, 4741).
(обратно)252
В хадисе, переданном Ибн Садом, Пророк говорил, что «рай создан из серебряных кирпичей и золотых кирпичей, на которых будет ароматный мускус. Там будет галька из жемчуга и яхонта» (Тирмизи, Джаннат 2, 2528).
(обратно)253
Технические характеристики электрического стула для смертной казни.
(обратно)254
Посыл к роману «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова.
(обратно)255
М. И. Кутузов сдал неприятелю Москву ради сохранения жизни солдат. Благодаря его стратегии огромная наполеоновская армия была практически полностью уничтожена, а победа достигнута ценой умеренных потерь в русской армии.
(обратно)256
Хиви – так называемые «добровольные помощники» вермахта, набиравшиеся из местного населения на оккупированных территориях СССР и советских военнопленных. По утверждению кандидата исторических наук Кирилла Александрова, во время Сталинградской битвы на стороне фашисткой Германии против Красной армии сражались 50 000 бывших советских граждан, солдат и офицеров. А всего на стороне Германии во Второй мировой войне воевали от одного до полутора миллионов советских людей.
(обратно)257
Строчка из знаменитого стихотворения Константина Симонова, написанного в годы войны, – «Жди меня, и я вернусь».
(обратно)258
Из стихотворения Бориса Пастернака «Высокая болезнь».
(обратно)259
Вольфсшанце («Волчье логово») – главная ставка фюрера и командный комплекс Верховного командования Вооруженными силами Германии.
(обратно)260
Рудольф Рёсслер (1897–1958) – один из наиболее эффективных и самый высокооплачиваемый агент советской разведки времен Второй мировой войны, агентурный псевдоним Люци.
(обратно)261
На самом деле Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Здесь автор передает кульминацию большого сражения под Прохоровкой – 12 июля, когда произошел крупнейший в истории человечества встречный танковый бой.
(обратно)262
Курская битва – самое крупное танковое сражение в истории; в нем участвовали ок. двух млн человек, шесть тысяч танков и до пяти тысяч самолетов.
(обратно)263
Тяжелый пехотный танк MK.IV «Черчилль» состоял на вооружении британской армии. Поставлялся в СССР по программе ленд-лиза.
(обратно)264
Ручная противотанковая граната (ручная кумулятивная граната) предназначена для борьбы с танками и бронемашинами, а также для разрушения оборонительных сооружений.
(обратно)265
Звуковое давление вызывает вибрацию барабанной перепонки. К перепонке примыкает молоточек, который посредством других слуховых косточек – наковальни и стремени – передает колебания далее – овальному окну и улитке уха.
(обратно)266
Как и в пулемете MG-34, проблема перегрева у MG-42 при продолжительной стрельбе решалась путем замены ствола.
(обратно)267
В греческой мифологии Психея – олицетворение человеческой души.
(обратно)268
За похищение огня Зевс приказал Гефесту приковать Прометея к Кавказскому хребту. Муки Прометея, по разным античным источникам, длились от нескольких столетий до тридцати тысяч лет.
(обратно)269
Согласно Гесиоду, Прометей вылепил людей из земли, а Афина наделила их способностью дышать.
(обратно)270
Дульная скорость бронебойного, подкалиберного, с вольфрамовым сердечником снаряда для танковой пушки калибром 88 мм, установленной на «тиграх», – 930 м/с.
(обратно)271
Средняя плотность минирования в месте ожидаемых ударов противника составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на каждый километр фронта.
(обратно)272
На вооружении «тигры» имели противопехотную мортиру типа «S». Мина выстреливалась на высоту 5–7 метров и разрывалась, поражая осколками пехоту, которая пыталась уничтожить танк в ближнем бою.
(обратно)273
Перифраз из романа «Английский пациент» Майкла Ондатже. Начинается словами: «Ухаживая на войне за самыми безнадежными больными…»
(обратно)274
Посыл песне, исполняемой Гариком Сукачевым, – «Моя бабушка курит трубку».
(обратно)275
Зигфрид – главный герой балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского.
(обратно)276
Ротбарт – злой колдун из того же балета.
(обратно)277
Человеческая память разделяется на два основных вида памяти: кратковременная и долговременная. Долговременная память может хранить гораздо больше информации, и хранить потенциально бесконечное время (на протяжении всей жизни).
(обратно)278
Иконическая память – дискретный сенсорный регистратор зрительных стимулов. Особенностью иконической памяти является фиксация информации в целостной, портретной форме.
(обратно)279
Могильное озеро – реликтовое озеро в Кольском районе Мурманской области, уникальность которого заключается в наличии нескольких слоев воды разной степени солености, от почти пресной на поверхности (соленость не более 3 %) до более 30 % у самого дна.
(обратно)280
Здесь посыл не к болезни, а к значению слова «эпилепсия», которое с древнегреческого переводится как «схваченный, пойманный, застигнутый».
(обратно)281
Ноэма – мысленное представление о предмете, или, другими словами, предметное содержание мысли; представленность предмета в сознании.
(обратно)282
«Опера для глухих» – шуточное название балета.
(обратно)283
Arabesque penchée – арабеск, при выполнении которого корпус сильно наклоняется вперед для того, чтобы позволить работающей ноге подняться назад на максимально возможную высоту.
(обратно)284
Перцепция – познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира.
(обратно)285
Апперцепция – одно из фундаментальных свойств психики человека, выражающееся в обусловленности восприятия явлений внешнего мира и осознания этого восприятия.
(обратно)286
Трансцендентность – философский термин, характеризующий то, что принципиально недоступно опытному познанию или не основано на опыте.
(обратно)287
Идеация – непосредственное усмотрение, созерцание сущности.
(обратно)288
Будда Акшобхья – один из пяти Будд мудрости в буддизме Ваджраяны. Преобразует гнев человека в чистейшую мудрость.
(обратно)289
Ноэзис – понятие, означающее реальное содержание переживания сознания. То есть само переживание, взятое как таковое, вне сопряженности с трансцендентной ему реальностью.
(обратно)290
Вероятно, это посыл к древнеегипетскому богу Солнца (Амон), покровителю власти египетских фараонов. Но некоторые историки утверждают, что посыл сделан к сотрудникам ОМОНа и их высшим чинам – фараонам (жаргонное выражение, синоним слова «полицейский»). Спор в данной ситуации может разрешить только читатель.
(обратно)291
Девиантность – поведение, отклоняющееся от общепринятых норм в определенных сообществах.
(обратно)292
Имеется в виду совокупность элементов природных, природно-технических и социально-экономических геосистем, которые при соответствующем развитии производительных сил могут быть использованы для организации стабильного существования системы.
(обратно)293
Посыл к лидеру группы «Мумий Тролль» и его песне «Утекай, в подворотне нас ждет маньяк».
(обратно)294
Бихевиоризм – формула, согласно которой предметом психологии является поведение, а не сознание.
(обратно)295
Сиануквиль – город-провинция в Камбодже.
(обратно)296
Посыл к поговорке «Въехать в рай на чужом горбу».
(обратно)297
В. А. Молодцов в годы Великой Отечественной войны руководил разведывательно-диверсионным отрядом в оккупированной Одессе. Казнен румынскими оккупантами.
(обратно)298
Кротовая нора, или «червоточина» – гипотетическая топологическая особенность пространства-времени, представляющая собой туннель в пространстве в каждый момент времени.
(обратно)299
Отрывок из романа Курта Воннегута «Бойня номер пять».
(обратно)300
Перифраз стихотворения Андрея Вознесенского «Монолог Мерлин Монро».
(обратно)301
Из монолога Джона Карлина.
(обратно)302
Арес – в древнегреческой мифологии бог войны, предпочитающий вести войну ради самой войны.
(обратно)303
Строки из поэмы Александра Твардовского «Тёркин на том свете».
(обратно)304
Там же.
(обратно)305
«Малолетка» – специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа или воспитательная колония для лиц, не достигших 18 лет.
(обратно)306
Шестого августа 1986 года, пытаясь переплыть Волгу, утонул скрипач группы «Аквариум» А. Куссуль.
(обратно)307
См.: Э. Хемингуэй, «Старик и море» («Старик был стар, худ и изможден…»).
(обратно)308
Отрывок из стихотворения Татьяны Кузовлевой.
(обратно)309
См.: Э. Хемингуэй, «Старик и море» («Лицо у Старика было очень старое…»).
(обратно)310
См. там же: «Это были удивительные плечи…»
(обратно)311
См. там же.
(обратно)312
«Приключения Гекльберри Финна» – роман Марка Твена, изданный в 1884 году. В 1902 этот роман был запрещен Денверской публичной библиотекой.
(обратно)313
Звание Маршала Советского Союза Л. И. Брежневу было присвоено 7 мая 1976 года. В архиве сохранились письма от полковника К. Рыбалко и слесаря М. Гаджи из Сумгаита с предложением присвоить генсеку звание генералиссимуса.
(обратно)314
Посыл к Деве Марии (матери Иисуса) и Святой Троице: Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу, заменившему в Троице мать и жену.
(обратно)315
Qu’est-il arrive? (фр.) – Что случилось?
(обратно)316
В табаке и табачном дыме содержится радиоактивный высокотоксичный элемент – полоний-210.
(обратно)317
Посыл к переводу имени архангела Михаила; на древнееврейском оно звучит как Михаэльи и переводится «Кто как Бог».
(обратно)318
Посыл к Откровению Иоанна Богослова, в котором повествуется о победе архангела Михаила и его ангелов в небесной битве над семиглавым и десятирогим драконом.
(обратно)319
Пимпмобиль (англ. Pimpmobile, что можно перевести как «сутенеромобиль») – американский термин для больших роскошных автомобилей, обычно «линкольнов» или «кадиллаков» 1970-х годов, сильно переделанных в вычурном, экстравагантном стиле.
(обратно)320
Вяз, или ильм, появился ок. 40 млн лет назад.
(обратно)321
Посыл-перифраз-контаминация к мультфильму «Вершки и корешки» и знаменитой в советские времена фразе: «Верхи не могут, низы не хотят» – революционному принципу, выведенному В. И. Лениным в работах «Маевка революционного пролетариата», «Крах II Интернационала» и «Детская болезнь “левизны” в коммунизме». Ленин условно называл верхами правительство, а низами – простой народ.
(обратно)322
Посыл к мультфильму «Вершки и корешки», в котором медведь делит с мужиком урожай репы.
(обратно)323
Посыл к интервью с Галиной Тимченко (журналистка, в 2004–2014 годах главный редактор интернет-издания Lenta.ru, затем – главный редактор новостного проекта Meduza), в котором она сказала: «По утрам я вижу в зеркале себя, а не нечто, покрытое чешуей. Не рептилию».
(обратно)324
Йода – один из главных персонажей «Звездных войн», мудрейший и самый сильный джедай своего времени.
(обратно)325
Цитата, надеюсь, правильная, из работы В. И. Ленина «Маевка революционного пролетариата».
(обратно)326
Посыл к роману Николая Чернышевского «Что делать?». Центральным персонажем романа является Вера Павловна Розальская. Чтобы избежать замужества, она заключает фиктивный брак со студентом-медиком Дмитрием Лопуховым. Пытаясь найти свое место в жизни, Вера Павловна открывает швейную мастерскую «нового типа» – коммуну, где нет наемных рабочих и хозяев и все девушки одинаково заинтересованы в благополучии совместного предприятия.
(обратно)327
Отрывок из романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат»; начинается со слов: «Четырехпуговичный двубортный…»
(обратно)328
Теория общественного договора объясняет происхождение гражданского общества, государства и права как результат соглашения между людьми.
(обратно)329
Посыл к трагедии, произошедшей в начале Великой Отечественной войны, когда после прорыва немецких войск в районе Запорожья плотина Днепрогэса была взорвана работниками НКВД. Взрыв вызвал многометровую волну. В плавнях и береговой зоне погибли тысячи солдат и местное население.
(обратно)330
Отрывок-перифраз из романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат»; начинается со слов: «Положение в экономике…»
(обратно)331
Кишечник сцифоидных медуз слепо замкнут, и ротовое отверстие поочередно выполняет функции рта и ануса.
(обратно)332
На территории стран Таможенного союза (Россия, Казахстан и Белоруссия) запрещено продавать, производить и ввозить нижнее белье, изготовленное из синтетических материалов с 1 июля 2014 года.
(обратно)333
«Отпускные» – сленговое выражение у преступников-полицейских, отпускающих за определенную плату пойманных ими наркодилеров.
(обратно)334
Бюстгальтеры, меняющие цвет в момент овуляции, действительно изобретены. Брасьер – тип бюстгальтера, едва прикрывающего соски.
(обратно)335
Посыл к анекдоту про Штирлица, зашедшего в лес, где были голубые ели.
(обратно)336
В июне 1946 года было начато расследование по так называемому «трофейному делу». Фигурантами проходили маршалы Жуков, Новиков и многие генералы армии. Были собраны свидетельства, что Жуков вывозил из Германии значительное количество мебели, произведений искусства и прочее трофейное имущество для личного пользования. На Ягодинской таможне (вблизи Ковеля) было задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову (Булганин, 23 августа 1946 г).
(обратно)337
Число изнасилованных немок солдатами наступающих войск в конце Второй мировой войны разнится от нескольких десятков тысяч до двух миллионов. Э. Бивор говорит о 1,4 млн изнасилованных в Померании, Восточной Пруссии и Силезии, рассматривая это как «величайшее массовое изнасилование в истории». Д. Херцог пишет, что в Восточной зоне оккупации имели место «от одного до двух миллионов изнасилований» русскими солдатами. Немецкий историк М. Гебхардт утверждает, что американские солдаты изнасиловали ок. 190 тысяч женщин. Число 1,9 млн (по всей оккупированной территории) представлено феминистками Йор и Зандер. Историки Ю. Т. Темиров и А. С. Донец писали, что после войны в Германии у немецких женщин, изнасилованных советскими военнослужащими, родилось примерно 300 тысяч детей. В книге-воспоминаний «Война всё спишет» участник Великой Отечественной войны Леонид Рабичев так описывал происходящее: «…это было пять месяцев назад, когда наши войска в Восточной Пруссии настигли эвакуирующееся гражданское население. Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали их и, позабыв о долге и чести, тысячами набросились на женщин и девочек… Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами… Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону…» Подобные преступления в своей книге «Воспоминания о войне» описал и другой участник Великой Отечественной войны, искусствовед, профессор, член-корреспондент Российской академии художеств Николай Никулин.
(обратно)338
Нордическая раса – тип внешности, широко распространенный среди населения Северной и Восточной Европы.
(обратно)339
Арийская раса, арийцы – лженаучный термин (происходит от слова «арии», что в переводе с древнего санскрита означает «достойный, уважаемый, благородный»), выдвинутый в середине XIX века авторами расовых теорий и широко использовавшийся немецкими национал-социалистами. Арии – самоназвание исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии (II–I тыс. до н. э.), говоривших на арийских языках индоевропейской семьи языков.
(обратно)340
Тараканьи усища – посыл к стихотворению О. Мандельштама о Сталине: «Тараканьи смеются усища, И сияют его голенища». Усы «зубная щетка» – как у Гитлера; впервые появились на лицах мужчин в конце XIX века. «Пилотка» – вульгарное выражение интимной стрижки у женщин. Вертикальной формой «пилотка» напоминает «зубную щетку».
(обратно)341
В 1948 году Д. Д. Шостакович, великий советский композитор, был обвинен в «формализме», «буржуазном декадентстве» и «пресмыкательстве перед Западом», лишен звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий и изгнан из них.
(обратно)342
В марте 1963 года на встрече с интеллигенцией в Кремле Н. С. Хрущев подверг А. А. Вознесенского резкой критике. Под аплодисменты большей части зала он кричал: «Убирайтесь из страны вон, господин Вознесенский, к своим хозяевам на Запад!»
(обратно)343
Крылатая фраза из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Вчера котов душили-душили, душили-душили, душили-душили, душили-душили…»
(обратно)344
Гипоталамус – небольшая область в промежуточном мозге, регулирующая ощущение голода, жажды и прочие функции организма человека. У комара гипоталамус отсутствует.
(обратно)345
В июле 1774 года, во время боев за турецкий Крым, пуля пробила будущему генерал-фельдмаршалу Кутузову левый висок и вышла у правого глаза.
(обратно)346
Человек способен слышать звуковые колебания в диапазоне частот от 16–20 Гц до 15–20 кГц.
(обратно)347
В период с 1773 по 1945 год Калининград носил название Кёнигсберг; город был центром провинции Восточная Пруссия. По итогам Второй мировой войны Кёнигсберг был присоединен к СССР, а все немецкое население города (составлявшее до войны 370 тысяч человек) было депортированно из России в Германию.
(обратно)348
В результате нападения СССР на Финляндию в 1939 году от Финляндии была отторгнута часть территории в пользу СССР.
(обратно)349
В начале Второй мировой войны, в 1939 году, в результате совместных военных действий СССР и Германии, от Польши были отторгнуты и присоединены к СССР Западная Украина (включая Галицию) и Западная Белоруссия. После окончания войны эти территории остались в составе СССР.
(обратно)350
В 1945 году от Чехословакии в пользу СССР были отторгнуты Закарпатская Украина и Земплина (город Чоп с окрестностями).
(обратно)351
В результате Второй мировой войны СССР приобрел основную группу Курильских островов и южную часть Курил (закрепленную за Японией Симодским договором с 1855 года).
(обратно)352
После того как в 1968 году глава Коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчек решил предоставить гражданам свободу слова и свободу передвижения, а также создать предпосылки для экономических реформ, СССР ввел в страну трехсоттысячный воинский контингент и семь тысяч танков стран Варшавского договора. Дубчека и других членов правительства советские десантники арестовали и передали сотрудникам КГБ, которые вывезли их в Москву.
(обратно)353
В ночь на 19 октября 1956 года части советской Северной группы войск выдвинулись в направлении Варшавы. В том же направлении по приказу министра обороны ПНР маршала Рокоссовского двинулись моторизованные колонны польской армии под командованием советских офицеров. На варшавских заводах началась раздача оружия для обороны Варшавы. Продемонстрированная решимость произвела на Хрущева впечатление, и он пошел на уступки польскому народу.
(обратно)354
В начале ноября 1956 года начался ввод в Венгрию новых советских воинских частей под общим командованием маршала Г. К. Жукова (операция «Вихрь»). К 8 ноября, после ожесточенных боев, были уничтожены последние очаги сопротивления венгров. Премьер-министр Венгрии Имре Надь, министр обороны Пал Малетер и некоторые другие руководители страны были вывезены в Москву и казнены, а остальные посажены в тюрьмы.
(обратно)355
В результате операции по освобождению заложников «Норд-Оста» погибли 130 человек (по утверждению общественной организации «Норд-Ост», 174 человека), 119 из 130 умерли в больницах. Основные обвинения бывших заложников и родственников погибших сводятся к следующему: власти не организовали надлежащего расследования обстоятельств трагедии; военные так и не сообщили состав газа; комитет Государственной думы по безопасности отказался изучить правомерность засекречивания газа.
(обратно)356
В Советской России первые концентрационные лагеря были созданы по приказу Л. Д. Троцкого в конце мая 1918 года, и существовали они до начала пятидесятых годов (до смерти Сталина).
(обратно)357
Принято считать, что первые концлагеря в современном понимании были созданы лордом Китченером для бурских семей во время Англо-бурской войны 1899–1902 годов в Южной Африке. Всего в концентрационных лагерях британцы содержали 200 тысяч человек, что составляло примерно половину белого населения бурских республик, из них по меньшей мере 26 тысяч человек погибли от голода и болезней.
(обратно)358
Посыл к истории отца и сына Басмановых. Федор Басманов – опричник, сын воеводы Алексея Басманова, фаворит и предполагаемый любовник Ивана Грозного. После доноса и обвинения в измене отец и сын Басмановы были вместе брошены в темницу. Царь заявил, что помилует того из них, кто сумеет убить другого. Федор убил отца, но Иван Грозный сказал: «Отца своего предал, предашь и царя!» – и приказал его казнить.
(обратно)359
Слова робота Бендера Сгибальщика Родригеса, героя мультсериала «Футурама»: «Мы для нее – начинка для гробов».
(обратно)360
Газовые камеры использовались для казни приговоренных преступников в США начиная с 1920-х годов. В нацистской Германии газовые камеры, в том числе и передвижные, были впервые использованы в рамках программы Т-4 (еще до применения в концентрационных лагерях). В США газовые камеры для исполнения смертной казни применялись вплоть до конца XX века. Последняя казнь (по данным на апрель 2015 года) состоялась 4 марта 1999 года в Аризоне, когда был исполнен приговор в отношении некоего Уолтера Ла-Гранда. В настоящее время использование газовой камеры допускают законодательства четырех штатов.
(обратно)361
Сотник Лонгин – римский воин, центурион, пронзивший копьем бок распятого Иисуса Христа.
(обратно)362
Один из приделов Храма Гроба Господня в Иерусалиме посвящен святому сотнику Лонгину.
(обратно)363
В Новом Завете о сотнике Лонгине упоминается в Евангелии от Иоанна следующим образом: «…один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Ин. 19:34). Так как из мертвого человека кровь не вытекает, можно сделать вывод, что в момент прокалывания тела копьем Иисус был еще жив и находился без сознания.
(обратно)364
Слова Вольтера, приписываемые зачастую Шопенгауэру, использовавшему их в работе «О ничтожестве и горестях жизни».
(обратно)365
Посыл к самому большому в мире памятнику (истукану), установленному реально жившему человеку – В. И. Ленину (памятник находится в Волгограде), и гробу с трупом Ленина в центре Москвы.
(обратно)366
Слова ученого-каталонца – героя романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».
(обратно)367
21 октября в Волгограде произошел взрыв рейсового автобуса. Погибли 7 человек, 37 ранены. 29 декабря был совершен теракт у входа в железнодорожный вокзал. Погибли 18 человек. 30 декабря произошел взрыв в троллейбусе. 16 человек погибли, 25 ранены.
(обратно)368
В Первую мировую войну военные расходы составили менее 30 % от национального дохода. Во Вторую мировую – 44 %.
(обратно)369
Сталин был сыном сапожника-алкоголика, Хрущев – шахтера, Брежнев – рабочего, Андропов – телеграфиста-железнодорожника, Черненко – крестьянина, Горбачёв – крестьянина, Ельцин – крестьянина, Путин – сын заводского мастера.
(обратно)370
В начале Второй мировой войны Красная армия имела подавляющее превосходство в технике и живой силе перед фашистской Германией. Согласно исследованиям историков и опубликованным документам Института военной истории Министерства обороны, примерная картина соотношения германских и советских войск в начале Второй мировой войны выглядела следующим образом: на начало войны, то есть на июнь 1941 года, личный состав Красной армии насчитывал 5,4 млн человек. У Германии и ее союзников было 4,3 млн. У нас было 24 488 самолетов, у Германии – 6900. Танков и штурмовых орудий у нас было 23 700 штук, у Германии – 4200 штук. Орудий и минометов – 117 581 (у нас) и 42 500 (у Германии). Также Красная армия имела на вооружении средний танк Т-34 весом свыше 25 тонн и тяжелого КВ, броня которого практически не пробивалась танковыми пушками, и машина могла спокойно расстреливать танки противника. Один из эпизодов описан в мемуарах полковника Эрхарда Рауса, чья группа пыталась уничтожить советский КВ: «6-я танковая дивизия вермахта 48 часов воевала с одним-единственным советским танком КВ-1. Пятидесятитонный танк расстрелял и раздавил своими гусеницами колонну из 12 грузовиков со снабжением, которая шла из захваченного города Райсеняй, а потом прицельными выстрелами уничтожил артиллерийскую батарею». Немцы вели ответный огонь, но безрезультатно. Снаряды противотанковых пушек не оставляли на броне даже вмятин. Броню КВ-1 не могли пробить даже 150-миллиметровые гаубицы. Солдатам Рауса удалось обездвижить танк, взорвав снаряд у него под гусеницей. Но КВ-1 и не собирался никуда уезжать. Он занял стратегическую позицию на единственной дороге, ведущей в Райсеняй, и двое суток задерживал продвижение дивизии.
(обратно)371
Боковой лобный полюс префронтальной коры отвечает за стратегическое планирование, многозадачность и принятие решений и отличает человека от животных.
(обратно)372
Лимбическая система – совокупность ряда структур головного мозга; играет важную роль в обучении.
(обратно)373
Префронтальная кора головного мозга – совокупность нескольких областей лобных долей, непосредственно связанных с отделами лимбической системы.
(обратно)374
Il ne faut pas en parler aux gens (фр.) – Не надо говорить об этом людям.
(обратно)375
Keep Calm and Carry On (англ.) – Сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе. Знаменитый агитационный плакат, произведенный в Великобритании в 1939 году, в начале Второй мировой войны.
(обратно)376
Декларативная память – память об усвоенной информации, о том, что происходило в действительности на глазах индивида.
(обратно)377
Здесь (как пример) сделан посыл только к одному из президентов России – Путину, с перечислением долгов, прощенных им иностранным государствам за время своего правления. В 2001 году 4,8 млрд долларов были списаны Эфиопии.
– В июне 2003 года 700 млн долларов были списаны Лаосу.
– В марте 2005 года Эфиопии простили еще 1,104 млрд долларов из 1,268 млрд долга.
– В конце 2003 года 11,1 млрд из 11,4 млрд долларов были прощены Монголии. Оставшиеся 300 млн Монголия вернула сразу после списания.
– В ноябре 2004 года был списан долг Ираку в размере 9,5–9,8 млрд долларов при общей задолженности 10,5 млрд долларов.
– В 2007 году президент списал 11,1 млрд долларов Афганистану.
– В 2008 году президент списал 4,5 млрд долларов Ливии.
– В июне 2014 года был списан долг Северной Корее в размере 9,87 млрд долларов.
– 11 июля 2014 года был списан долг Кубе в размере 32 млрд долларов.
(обратно)378
Из выступления президента России 12 октября 2012 г. в Краснодаре.
(обратно)379
Этногенез – процесс сложения этнической общности (этноса) на базе различных этнических компонентов; представляет собой начальный этап этнической истории.
(обратно)380
Здесь имеется в виду критический реализм в философии – теория познания, в которой критический реализм противопоставляет себя неореализму. Если неореализм считает, что в процессе познания внешний мир непосредственно включается в сознание субъекта, «схватывается» им таким, как он есть, то критический реализм исходит из того, что процесс познания опосредован содержанием сознания.
(обратно)381
Редукционизм – методологический принцип, согласно которому сложные явления могут быть полностью объяснены с помощью законов, свойственных более простым явлениям.
(обратно)382
Посыл к 1789 году, когда был избран первый президент США – Джордж Вашингтон.
(обратно)383
В 1783 году, после длительных войн, манифестом Екатерины II Крымское ханство было присоединено к России.
(обратно)384
В 1778 году А. В. Суворов выселил из Крыма армян и греков, заселивших полуостров еще в XI–XII веках, в Азовскую губернию. В мае 1944 года из Крыма в степи Казахстана были депортированы более 180 тысяч крымских татар. В июне 1944 года также были депортированы ок. 40 тысяч болгар, армян, греков и представителей других национальностей.
(обратно)385
Поход на Москву в мае 1571 года под предводительством крымского хана Девлет Герея, воевавшего с Иваном Грозным, закончился сожжением российской столицы.
(обратно)386
В 1772–1795 годах Россия приняла участие в трех разделах Речи Посполитой, в результате которых присоединила к себе территории нынешней Белоруссии, Западной Украины, Литвы и Курляндии.
(обратно)387
Эмский указ, подписанный императором Александром II 18 (30) мая 1876 года, был направлен на ограничение использования и преподавания украинского языка и просуществовал вплоть до революции 1905 года.
(обратно)388
Отрывок из романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат»; начинается со слов: «Четырехпуговичный двубортный пиджак…»
(обратно)389
Посыл к закону Верховной рады Украины, принятому в 2006 году. Закон определяет Голодомор 1932–1933 годов, в результате которого погибли более 7 млн этнических украинцев, как геноцид украинского народа. C 2003 года представительские органы ряда стран (количество колеблется от 10 до 19, а география – от Австралии до Канады) приняли документы различ ного правового характера, в которых это историческое событие упоминается в связке с термином геноцид (Famine-Genocide, Famine/Genocide) и позиционируется как «умышленно организованное Сталинским режимом».
(обратно)390
Маршал Советского Союза А. М. Василевский (1895–1977) был единственным полководцем Великой Отечественной войны, не проигравшим ни одной стратегически важной баталии.
(обратно)391
Приказ маршала Жукова – шифрограмма № 4976 от 28 сентября 1941 года: «Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны, и по возвращении из плена они также будут все расстреляны».
(обратно)392
Галактический год – период времени, за который Солнечная система совершает один оборот вокруг центра нашей Галактики; составляет, по разным оценкам, от 225 до 250 млн земных лет.
(обратно)393
Посыл к выступлению Даниила Гранина в Берлине на церемонии в память о жертвах национал-социализма. Приводя шокирующие подробности о жизни в блокадном Ленинграде, он рассказал об одной матери, которая не стала хоронить своего умершего от голода трехлетнего ребенка, а положила маленький трупик на мороз между окнами и каждый день отрезала от него по кусочку, чтобы сохранить жизнь хотя бы двенадцатилетней дочери.
(обратно)394
В своем самом известном произведении «История государства Российского» Н. М. Карамзин указывает, что прозвище Грозный на самом деле принадлежало деду Ивана IV – Ивану III, прославившемуся объединением русских земель вокруг Москвы и окончательным освобождением страны из-под власти ордынских ханов. Современники же Ивана IV дали своему правителю кличку Иван Мучитель – за его непомерную тягу к садизму. Но со временем, из-за того что и первый и второй Иван (то есть третий и четвертый) имели одинаковое имя и отчество, кличка Грозный перешла от деда к внуку, изменив смысл.
(обратно)395
Посыл к космическим характеристикам Млечного Пути, где диаметр Галактики составляет ок. 30 тысяч парсек (примерно 100 тысяч световых лет, 1 квинтиллион километров), при оценочной средней толщине в тысячу световых лет.
(обратно)396
Посыл к переводу с итальянского слова «фашизм».
(обратно)397
«Крылатые фразы» Н. С. Хрущева, который правил страной с 1958 по 1964 год.
(обратно)398
Фраза из речи Н. С. Хрущева на закрытии XXII съезда КПСС (октябрь 1961 г.)
(обратно)399
Большой отрывок из романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат»; начинается со слов: «Поднявшись с кресла, я набрасываю…»
(обратно)400
27 февраля 1812 года лорд Байрон произнес в палате лордов свою первую речь, имевшую большой успех.
(обратно)401
Отрывок из романа Владимира Набокова «Лолита»; начинается со слов: «Прошу тебя!.. Вообрази меня!..»
(обратно)402
Оскар Уайльд, «Баллада Рэдингской тюрьмы».
(обратно)403
Здесь речь идет о социальной стратификации, то есть о системе признаков и критериев социального расслоения в обществе.
(обратно)404
Эмпатия – осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека при осознании внешнего происхождения этого переживания.
(обратно)405
Росинант – конь Дон Кихота.
(обратно)406
Инцитат – любимый конь императора Калигулы.
(обратно)407
Калигула был убит 24 января 41 года.
(обратно)408
Согласно легенде, Калигула назначил Инцитата сенатором.
(обратно)409
Посыл к пьесе Анатолия Луначарского «Освобожденный Дон Кихот».
(обратно)410
Посыл к трагедии Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного».
(обратно)411
Матрилинейность – счет происхождения и наследования по материнской линии.
(обратно)412
Иван Грозный был старшим сыном великого князя Московского Василия III и Елены Глинской. Если по отцовской линии он происходил из московской ветви династии Рюриковичей, то по материнской – от Мамая.
(обратно)413
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическое поведенческое расстройство развития, проявляющееся в детском возрасте.
(обратно)414
Антиномия – противоречие в законе или противоречие закона самому себе. Речь идет о противоречивости характера Ивана Грозного.
(обратно)415
Прозелитизм – стремление распространить свою веру, обратить других в свою веру.
(обратно)416
Некомбатанты – лица, обслуживающие армию.
(обратно)417
Строки из стихотворения Александра Блока.
(обратно)418
Архитектурная форма Панорамы Сталинградской битвы напоминает мину.
(обратно)419
Имеется в виду период застоя, ассоциирующийся с временем правления Л. И. Брежнева.
(обратно)420
На родине автора, в Советском Союзе, было две скульптуры Родины-матери. Одна – в Киеве, вторая – в Волгограде. Вместо детей, обе матери держат в руках мечи и призывают к битве. Волгоградская композиция так и называется «Родина-мать зовет!».
Предлагая «ребенка, любовь и себя в обмен на холодную сталь меча», автор хочет сменить направленность материнского зова (как главного символа России) на строительство детских садов, создание высоких технологий и повышения благосостояния россиян до уровня сотрудников ФСБ и других спецслужб государства.
(обратно)421
Ярким примером транспирации (oт лат. trans – «сквозь, через» и spiro – «дышу») является испарение воды растением. Вода испаряется с поверхности листьев, пройдя путь из земли в корни, из корней в ствол, а из ствола – в ветви и листья. В философии формулировкой транспирации может считаться изречение Сенеки «Через тернии к звездам». В литературе – канва заклинания автора, проникающая со страниц романа в душу читателя.
(обратно)422
Здесь делается посыл к понятию индуцированный бред – бредовая симптоматика, демонстрируемая реципиентом бредовой фабулы, в то время как индуктором бреда является другое лицо.
(обратно)423
Речь идет о пространстве «испаряющегося слога писателя» – пространстве, образующемся над романом и определяемым как симулякр. Симулякр – копия, не имеющая оригинала в реальности. Иными словами, семиотический знак, не имеющий означаемого объекта в реальности.
(обратно)424
В этом романе реципиентом выступает читатель, впитывающий слог писателя сквозь индуцированный бред, образующийся в симулякре над страницами романа.
Реципиент – объект, принимающий, что-либо от другого объекта, называемого донором. В узком смысле слова это может быть читатель, слушатель, зритель, т. е. целевая аудитория текста сообщения массовой коммуникации.
(обратно)425
В этом месте текста наступает момент препарирования образовавшегося симулякра (обработка и придание ему надлежащего вида; подготовка к рождению и сами роды).
(обратно)426
После того как роды (препарирование) завершились, наступает момент развития симулякра, превращение его из селфи-атери и селфи-отца в прототип дагеротипа – индивида, проходящего путь нулевого уровня. Нулевой уровень – это этап развития личности с неосознаваемыми и, возможно, неаутентичными стереотипами поведения. Типичен для детского периода развития личности и рассматривается гештальтпсихологией как адаптивный.
(обратно)427
На данном этапе происходит слияние симулякра романа «Биоген» с душой читателя. Через читателя автор проникает в мир будущего, независимо от того, когда знакомится с текстом читатель – при жизни или после смерти автора. Именно в ту минуту, когда читатель доходит до этой строки, заклинания вызывают эффект конфлюенции автора с миром, а через транспирацию – симулякра романа с читателем. Конфлюенция – это слияние организма и окружающей среды. С явлением конфлюенции сталкиваются тогда, когда границы между индивидом и окружением стираются и исчезает чувство отличия. То есть это такое состояние, когда непонятно – где я, какой я, где мое «я» заканчивается и начинается «другой» (автор). Маленький ребенок находится в конфлюенции со своей матерью, влюбленный – со своей возлюбленной, взрослый – с группой духовно близких ему людей, читатель – с автором.
(обратно)428
После совершившейся конфлюэнции симулякр читателя превращается в сверхчеловека, а автор становится его доппельгангером, подобно тому, как Биопсиликастаген является доппельгангером романа – Биоген.
Доппельгангер – двойник человека, появляющийся как темная сторона личности или антитеза ангелу-хранителю.
Сверхчеловек – образ, введенный философом Фридрихом Ницше в произведении «Так говорил Заратустра» для обозначения существа, которое по своему могуществу должно превзойти современного человека настолько, насколько последний превзошёл обезьяну.
(обратно)429
После свершившихся преобразований в процессе дальнейшего чтения текста и его расшифровки читателем появляется неразрывный симбиоз между симулякром читателя и доппельгангером автора. В результате возникшего симбиоза зарождается Эйдос нового сверхсверхчеловека – тождество читателя с автором.
Эйдос – термин философии, обозначающий конкретную явленность обобщения, выступающего как прообраз творения в мышлении Божьем. Эйдос означает наивысшую мыслительную абстракцию, равную сущности.
(обратно)430
Юзер – национальный герой, пытающийся спасти читателя и выстилающий для него благими намерениями дорогу в ад.
(обратно)431
Трэш (от англ. Trash) – мусор.
(обратно)432
Здесь речь идет о Фридрихе Ницше – немецком мыслителе, композиторе и поэте, потерявшем в начале 1889 года рассудок. Он был помещен в базельскую психиатрическую больницу, где оставался до марта 1890 года, когда его забрала к себе домой мать. После смерти матери Ницше не мог ни двигаться, ни говорить: его поразил апоплексический удар. Болезнь не отступила до самой смерти, что многие современники восприняли как божью кару за его произведение «Антихрист».
(обратно)433
Речь идет о Джоне Форбсе Нэше (1928–2015) – американском математике, работающем в области теории игр и дифференциальной геометрии. В 1949 году он написал диссертацию о теории игр, за которую сорок пять лет спустя получил Нобелевскую премию. Однако прочитать традиционную Нобелевскую лекцию в Стокгольмском университете он не мог. В тридцать у Нэша появились первые симптомы шизофрении, и он был принудительно помещен в частную психиатрическую клинику. Адвокату математика удалось добиться его освобождения. Нэш уехал из США и пытался получить статус политического беженца, однако властям США в конце концов удалось добиться возвращения ученого – он был арестован французской полицией и депортирован на родину. Где, впрочем, его жизнь сложилась вполне успешно.
(обратно)434
Посыл к знаменитому закону Ома, сформулированному в 1826 году. Научное сообщество выводы Ома о связи между напряжением, сопротивлением и током для проводников проигнорировало. Потом (в середине 1830-х) к этим же результатам пришел Клод Пулье, и только тогда закон Ома был признан.
(обратно)435
Имеется в виду персонификация фамилии Георга Ома в физический закон, до этого существовавший только в сознании Вселенной, подобно тому, как ребенок, существующий в чреве матери, материализуется и признается обществом только после своего рождения. Персонификация – представление природных явлений, предметов или отвлеченных понятий в образе человека, признание за перечисленным человеческих свойств.
(обратно)436
Деперсонифицировать – уничтожать личностную принадлежность, обезличивать. Лишать человеческих свойств, качеств, овеществлять.
(обратно)437
Посыл к двадцать четвертой букве арабского алфавита, которая произносится как русская буква «М». Меняет форму написания в зависимости от места расположения в тексте.
(обратно)438
Посыл к индуистской и ведической традиции, где «М» – сакральный звук, изначальная мантра, символ божественной троицы Брахмы, Вишну и Шивы, квинтэссенция Слова. От вибрации Вселенной, произносящей этот звук, произошла жизнь.
(обратно)439
Посыл к ритуальному напитку сома, рецепт которого точно не известен.
(обратно)440
Имеются в виду грибы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
(обратно)441
Посыл к первой букве «М» в слове «мама».
(обратно)442
Посыл к звуку «М». Сонорные согласные – звуки, производимые без участия турбулентного потока воздуха в голосовом тракте.
(обратно)443
Посыл к физическим способностям сакрального звука «ОМ». Упругие волны (звуковые волны) – волны, распространяющиеся в жидких, твердых и газообразных средах за счет действия упругих сил.
(обратно)444
Фонема (звук) – минимальная смыслоразличительная единица языка. Фонема не имеет самостоятельного лексического или грамматического значения, но служит для различения и отождествления значимых единиц языка.
(обратно)445
Посыл к сакральному звуку, производимому священным животным – коровой – в начале каждого слова. Так, например, американские коровы, читая свежую прессу, вместо «Нью-Йорк таймс» произносят «Муу-Йорк таймс». Корова почитается как священное животное в индуизме, джайнизме, зороастризме. Ранее почиталась в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме.
(обратно)446
Посыл к сравнению философии стоиков с фруктовым садом: логика соответствует ограде, которая его защищает, физика является растущим деревом, а этика – плодами.
(обратно)447
Голуббилось – контаминация слов «голубь» и «биться».
(обратно)448
Посыл к родоначальникам нынешних англичан и их языка – германским племенам англов, саксов и ютов.
(обратно)449
Отрывок из стихотворения Владимира Маяковского.
(обратно)450
Эфебофилия – половое влечение взрослых людей к лицам подросткового и юношеского возраста.
(обратно)451
Дислексия – вид нарушения обучения неврологической природы. Характеризуется неспособностью быстро и правильно распознавать слова, осуществлять декодирование, осваивать навыки правописания.
(обратно)452
Четверостишья из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазерклье».
(обратно)453
У Цзэтянь (У Хоу) (624–705) – наложница китайского императора Тай-цзуна. Первая и единственная женщина, единолично правившая Китаем на протяжении сорока лет.
(обратно)454
Так как фелляция является символом мужского превосходства, императрица У Цзэтянь (чтобы возвысить женщину и унизить мужчину) заставляла всех чиновников и сановных особ выказывать особое уважение к Ее Императорскому Величеству посредством куннилингуса, то есть оральными ласками.
(обратно)455
Микориза (грибокорень) – симбиотическая ассоциация мицелия гриба с корнями высших растений.
(обратно)456
Посыл к гороскопу автора.
(обратно)457
Дуализм – это двойственность. Здесь имеется в виду убеждение, что существуют два соперничающих друг с другом бога. Например, один злой – другой добрый; один покровительствует порядку, а другой – хаосу.
(обратно)458
Посыл к повести Джона Пристли «31 июня», где влюбленные живут в разных мирах и все время пытаются воссоединиться. Но на их пути стоит злой волшебник, а главному герою приходится вступить в битву с Красным рыцарем и Драконом, чтобы получить руку возлюбленной.
(обратно)459
Строка из романа Евгения Замятина «Мы».
(обратно)460
Генерал Д. М. Карбышев, захваченный в плен в 1941 году, после зверских пыток был облит водой на морозе; погиб в лагере смерти Маутхаузен.
(обратно)461
Сульфозин – взвесь возгоночной серы в персиковом, оливковом, прованском и других маслах. Использовался в психиатрии СССР в карательных целях. При внутримышечном введении вызывает пирогенную реакцию (повышение температуры тела), обездвиженность, сильную боль и некроз мышц в месте укола.
(обратно)462
Азраил – ангел смерти в исламе и иудаизме; помогает людям перейти в иной мир.
(обратно)463
Строки из «Божественной комедии» Данте Алигьери.
(обратно)464
Осанна (краткая молитва) – Спаси, мы молим!
(обратно)465
Посыл к утраченной фреске Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари», которая начала разрушаться уже в процессе работы и частично выполнялась восковыми красками. Есть предположение, что Вазари, восхищенный работой Леонардо, спрятал ее под своей фреской.
(обратно)466
Восклицание Иисуса на кресте: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?»
(обратно)467
Аминазин – первый в мире синтезированный нейролептик (1950 г.).
(обратно)468
Бэд трип (англ. bad trip) – сленговое выражение, описывающее психоделический кризис; негативные, опасные переживания, которые могут возникать во время психоделического опыта, вызванного приемом веществ-психоделиков.
(обратно)469
Нейромедиаторы (нейротрансмиттеры, посредники) – биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами.
(обратно)470
Дофамин (допамин, DA) – нейромедиатор, вырабатываемый в мозге живых существ.
(обратно)471
Вакуоль – полость (пустота) в протопласте эукариотических клеток.
(обратно)472
Сиднокарб – психостимулятор, созданный в СССР в 1970-е годы. По химическому строению он имеет некоторое сходство с амфетамином, так как содержит фенилизопропильный радикал.
(обратно)473
Психостимуляторы быстро снимают усталость, сонливость и вялость.
(обратно)474
Ксенобиотики – условная категория для обозначения чужеродных для живых организмов химических веществ.
(обратно)475
Дискинезия – патологические внезапно возникающие непроизвольные движения в различных группах мышц. Могут быть следствием побочного действия нейролептиков.
(обратно)476
Отрывок из романа Евгения Замятина «Мы»; начинается со слов: «Чтобы выполнить предписание доктора…»
(обратно)477
Хлорпромазин – то же, что и аминазин.
(обратно)478
Иннервация – сообщение всех органов живого организма с центральной нервной системой (ЦНС) посредством нервов.
(обратно)479
Афферентная – чувствительная.
(обратно)480
И снова Евгений Замятин – «Мы».
(обратно)481
Вода и есть бинарное неорганическое соединение.
(обратно)482
Одна из легенд гласит, что древнегреческий философ Диоген то и дело занимался рукоблудием у всех на виду. Когда афиняне по этому поводу замечали, мол, «все понятно, у нас демократия, но не перегибаешь ли ты палку?», следовал ответ: «Вот бы и голод можно было унять, потерев живот».
(обратно)483
Посыл к древнегреческой мифологии, согласно которой родоначальником греческого народа был Эллин, родившийся после Всемирного потопа.
(обратно)484
Каштановые почвы – почвы, распространенные в сухих степях Калмыкии, юга Волгоградской, востока Саратовской и юга Оренбургской областей.
(обратно)485
Посыл к одному из парадоксов древнегреческого философа Зенона Элейского. Обращаясь к парадоксам, Зенон пытался доказать относительность движения, пространства и времени. Например: «Летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она занимает равное себе положение, то есть покоится; поскольку она покоится в каждый момент времени, то она покоится во все моменты времени, то есть не существует момента времени, в котором стрела совершает движение».
(обратно)486
Посыл к телесному цвету пармиджано-реджано, знаменитого итальянского твердого сыра долгого созревания.
(обратно)487
Перифраз знаменитого высказывания из кинофильма А. Серого «Джентльмены удачи»: «Кушать подано – садитесь жрать, пожалуйста!»
(обратно)488
Здесь использованы отрывки из романа Генри Миллера «Тропик Рака»: «Один взгляд… звон колоколов», «великая блудница… с джином в крови», «сквозь пушистые бакенбарды».
(обратно)489
У Миллера в «Тропике Рака»: «Когда я смотрю вниз в эту расселину, я вижу в ней знак равенства, мир в состоянии равновесия, мир, сведенный к нулю без остатка».
(обратно)490
Эструс – течка, страсть, ярость у млекопитающих. Психофизиологическое состояние самок, предшествующее спариванию.
(обратно)491
Сосок Венеры – определение клитора, сформулированное итальянским анатомом XVI века Реальдо Коломбо.
(обратно)492
Гравитационный коллапс – катастрофически быстрое сжатие массивных тел под действием гравитационных сил.
(обратно)493
С наступлением гравитационного коллапса и исчерпания в звездах материала для термоядерных реакций они теряют свою механическую устойчивость и начинают с увеличивающейся скоростью сжиматься к центру.
(обратно)494
Ом намах Шивая – Панчакшара, основная мантра для всех школ шиваизма. Часто ее называют «мантрой пяти слогов». Когда Панчакшара читается вместе со звуком «ОМ», она называется Шадакшара – мантрой шести слогов.
(обратно)495
Латеральная крыловидная мышца расположена в подвисочной ямке. Функция мышцы заключается в том, что она смещает нижнюю челюсть кпереди и в сторону. Также она смещается из стороны в сторону и совершает движения вперед и назад. Благодаря этим движениям происходит равномерное измельчение пищи.
(обратно)496
Евстахиева труба – канал, соединяющий полость среднего уха с глоткой.
(обратно)497
На самом деле папоротник не цветет. Однако многие верят, что папоротник расцветает в ночь накануне Ивана Купалы. Сорвавший цветок и сумевший его сохранить приобретает необычные возможности.
(обратно)498
Диастола (пауза) – расслабление всего сердца, короткий период отдыха этого органа.
(обратно)499
Посыл к мультфильму «Ежик в тумане» Юрия Норштейна.
(обратно)500
Элизий (Елисейские поля, Долина прибытия) – в античной мифологии часть загробного мира, где царит вечная весна и где избранные герои проводят дни без печали и забот.
(обратно)501
Отрывок из романа Евгения Замятина «Мы»; начинается со слов: «Всю ночь не спал…»
(обратно)502
Посыл к атмосферной рефракции – преломлению в атмосфере световых лучей от небесных светил. Преломление происходит таким образом, что своей выпуклостью искривленный луч света всегда «приподнимает» изображения небесных светил над их истинным положением.
(обратно)503
Так называемый синдром маниакального сострадания. Похожая история произошла в начале 1889 года с Ницше. Когда на глазах философа извозчик избил лошадь, у Ницше помутился рассудок.
(обратно)504
Шестого июня 1979 года, в то время, когда автор романа лежал в больнице, к орбитальной станции «Салют-6» был произведен запуск советского беспилотного космического корабля «Союз-34».
(обратно)505
Тринадцатого июня 1979 года приземлился беспилотный корабль «Союз-32».
(обратно)506
Хэм – первый выживший шимпанзе-астронавт. 31 января 1961 года он был запущен в космос с космодрома на мысе Канаверал. Хэм был одет в скафандр и не пострадал, когда в кабине корабля упало давление воздуха.
(обратно)507
Бессели – контаминация из слов «веселить» и «бесить».
(обратно)508
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова написана после заключения еврейского канона Священных книг Ветхого Завета. Общее содержание книги издревле считалось глубокопоучительным для тех, кто ищет уроков мудрости.
(обратно)509
Так называло Сталина низшее сословие советских людей.
(обратно)510
В 1947 году Сталин отменил празднование Дня Победы. В газете «Известия» от 24 декабря 1947 года читаем: «Президиум Верховного Совета СССР постановил: во изменение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года считать день 9 мая – праздник победы над Германией – рабочим днем». Возобновил этот праздник только спустя 20 лет Л. И. Брежнев.
(обратно)511
Екатерина (Кеке) Геладзе – мать Иосифа Джугашвили (Сталина).
(обратно)512
Клара Пёльцль – мать Адольфа Гитлера.
(обратно)513
Ученого, совершившего открытие икс-излучения, звали Вильгельм Конрад Рентген.
(обратно)514
Откровение в религии и теологии – открытие Богом Себя Самого и Своей воли людям.
Посыл к возможности открываться Богу людям через посредников.
(обратно)515
Экстраполяция (в общем смысле) – распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью того или иного явления, на другую ее часть.
(обратно)516
Эвентуальность – возможность при определенных обстоятельствах.
(обратно)517
Морфей – бог сновидений. Его отцом является Гипнос – бог сна. Морфей может абсолютно точно подражать голосу и стилю речи человека, которого изображает.
(обратно)518
Отрывок из романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат»; начинается со слов: «Шестипуговичный костюм…»
(обратно)519
Посыл к бедственному положению района, где прозябает автор, а живет он в трех минутах езды от центра одного города и в шести минутах езды от центра другого города, в стране, которая находится на первом месте в мире по добыче газа. И у нас до сих пор (2014 год) не проведен газ, а жители вынуждены отапливать дома углем и дровами из дубовой рощи, которую сажали их деды и отцы.
(обратно)520
Отрывок из романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат»; начинается со слов: «Костюм от Alan Flusser…»
(обратно)521
Фантас – сын Гипноса, брат Морфея. Принимает образы неодушевленных предметов.
(обратно)522
Фобетор – также брат Морфея, может принимать вид различных животных.
(обратно)523
Кронос боялся предсказания Геи, по которому кто-то из его детей, рожденных Реей, лишит его власти, а поэтому проглатывал младенцев одного за другим. Я уже об этом писал.
(обратно)524
Из Хаоса родился Эреб, а Эреб и Нюкта сотворили Гипноса. В мифологии древних греков Хаос – персонификация изначального состояния мира.
(обратно)525
Имеется в виду слепое пятно – область на сетчатке глаза здорового человека, не чувствительная к свету.
(обратно)526
Анеуплоидия – изменение кариотипа (полный набор хромосом), при котором число хромосом в клетках человека не кратно гаплоидному набору (нормальному числу хромосом).
(обратно)527
Medicus curat, natura sanat (лат.) – Врач лечит, природа излечивает.
(обратно)528
«Голубой мрамор» – знаменитый снимок, сделанный в 1972 году экипажем космического корабля «Аполлон-17»; на снимке изображена полностью освещенная Земля.
(обратно)529
В современном научном мире распространена гипотеза, что птицы произошли от динозавров.
(обратно)530
Псевдэлурусы – вымерший род кошачьих. Обитали в Европе, Азии и в Северной Америке до начала времен. Предки всех современных больших и малых кошек.
(обратно)531
Так называемое «влажное пеленание» в детских отделениях психиатрических больниц использовалось в карательных целях. В клиниках для взрослых, помимо карательных мер, такое пеленание применяли, когда появлялась необходимость избавиться от больного: спеленутого оставляли на всю ночь, и к утру он задыхался.
(обратно)532
В греческой мифологии Антей получал силу от соприкосновения с землей.
(обратно)533
Отрывок-перифраз из романа Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества»; начинается со слов: «В этот миг начинает дуть ветер…»
(обратно)534
Здесь автор имеет в виду несколько значений. Нимбус (лат. nimbus) – туча, ветер, буря, ураган. «Нимбус BP-1729» – название космического корабля из мультсериала «Футурама». И, наконец, нимб – сияние вокруг головы Христа, Богоматери и святых.
(обратно)535
Палеонтология – наука об организмах, существовавших в прошлые геологические периоды и сохранившихся в виде ископаемых останков. Посыл к тому, что палеонтология – это природный дагерротип.
(обратно)536
Ударная ионизация – физическая модель, описывающая ионизацию атома при ударе о него электрона или другой заряженной частицы.
(обратно)537
Широкий атмосферный ливень – поток вторичных субатомных частиц, преимущественно электронов, образующийся в результате множественных каскадных реакций в земной атмосфере.
(обратно)538
Труба архангела – см. Откровение св. Иоанна Богослова (Апокалипсис), главы, 8–9, в котором рассказывается об ангелах, трубящих в трубы перед Страшным судом.
(обратно)539
Эпикантус – особая складка у внутреннего угла глаза, в большей или меньшей степени прикрывающая слезный бугорок. Один из признаков, характерных для монголоидной расы.
(обратно)540
Плутон, бог подземного царства и смерти, когда-то тоже был проглочен отцом – Кроносом.
(обратно)541
Контрабасовую виолу принято считать предшественницей современного контрабаса. У инструмента было пять струн. В середине XVII века итальянский мастер Микеле Тодини на ее основе сконструировал новый инструмент, без пятой (самой низкой) струны и ладов.
(обратно)542
Посыл к гиперзвуковым скоростям в аэродинамике, которые значительно превосходят скорость звука в атмосфере; по мере удаления от источника фронт их ударной волны превращается в звуковую волну.
(обратно)543
Энергия обычного смерча радиусом 1 км и средней скоростью 70 м/с сравнима с энергией эталонной атомной бомбы.
(обратно)544
Перифраз строки из романа «Солярис» Станислава Лема – «Не пришло еще время ужасных чудес!»
(обратно)545
TV-1 – атомный танк с ядерной силовой установкой. Проекты таких боевых машин разрабатывались в США в 1950-х годах.
(обратно)546
Посыл к свойствам вольфрама. Вольфрам является одним из наиболее тяжелых твердых металлов и имеет самые высокие температуры плавления.
(обратно)547
Вулкан Тоба (Индонезия) известен крупнейшим извержением ок. 75 тысяч лет назад. Из-за выброшенных в атмосферу трех миллиардов тонн сернистого ангидрида сернистые дожди лились на землю в течение шести лет. Тучи пепла ослабили солнечный свет, вызвав наступление вулканической зимы, Землю сковал холод. По мнению ученых, извержение вызвало резкое сокращение численности животных и людей.
(обратно)548
Энтропия (от греч. entropia — поворот, превращение) – часть внутренней энергии Вселенной, которая ни при каких обстоятельствах не может быть использована. Можно сказать и так – хаос, дезорганизация. Отрицательная энтропия, или негэнтропия – противоположность энтропии: упорядоченность, системность, открытость к действию.
(обратно)549
Космогония – учение о происхождении или о сотворении Вселенной.
(обратно)




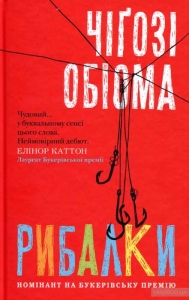




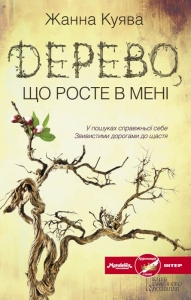


Комментарии к книге «Биоген», Давид Ланди
Всего 0 комментариев