Владимир КОЛОТЕНКО Дом для Тины
Рассказы
Эта книга необычна и по замыслу, и по жанру. Автор фокусируется на психологии своих героев, поставленных перед выбором принимать верные решения в различных жизненных, часто драматических ситуациях. Менее всего автору хочется увлечь читателя в область выморочных сексуальных подробностей, ушатами льющихся сегодня как вода из лейки из теле — и киноэкранов, желтой прессы, книг популярных авторов. В большинстве рассказов речь идет о какой–либо психологической черте героя, стороне или качестве человеческой натуры, проявляющихся ярким молниеносным штрихом или резким поворотом повествования — сверкающей, пугающе–красочной зарисовкой. При этом амок повествования не изгоняет здесь романтические чувства, и переживания героев не чужды живой страсти, а подчас и острому неодолимому вожделению.
Страсти человеческие… Неповторимые и бессмертные!.. Не они ли правят миром?
© Колотенко В. П., 2015
ФОРА
Белыми шит шеврон. Пряжка из серебра. Рядом упрямый клон Из твоего ребра. Искренность. Брызги искр. Взгляд, словно рой ос. В левом кармане есть Карта предместий Оз. Выспренность. Перехлёст. Сладкое под языком. Почерк прозрачно прост. Многое — на потом. Время требует жертв. Образов и подобий. Ласковость в неглиже Жаждет атак подробных. Я напишу водой Тайное на камнях. Если ты был собой, Значит, избыл свой страх. Если ты был со мной. Гладил меня. Читал. Значит, ты точно знал Тяжесть и месть креста.Гроб устанавливают на крепкий свежесрубленный стол, покрытый тяжелым кроваво–красным плюшем. Мне приходится посторониться, а когда гроб едва не выскальзывает из чьих–то нерасторопных рук, я тут же подхватываю его, чем и заслуживаю тихое «спасибо». Пожалуйста. Не хватало только, чтобы покойничек грохнулся на пол. С меня достаточно и того, что я поправляю складку плюша, задорно подмигивающего своими сгибами в лучах утреннего солнца, словно знающего мою тайну. Нет уж, никаких тайн этот ухмыляющийся плюш знать не может. Боже, а сколько непритворной грусти в глазах присутствующих! Большинство искренне опечалены, но есть и лицемеры, изображающие скорбь. Я слышу горестные вздохи, всхлипы… Ничего, пусть поплачут. Не рассказывать же им, что покойничек жив–живехонек, цел и невредим, просто спит. Хотя врачи и констатировали свой exitus letalis*. Причина смерти для них ясна — остановка сердца. Я это и сам знаю. Но знаю и то, что в жилах его еще теплится жизнь, а стоит мне подойти и сделать два–три пасса рукой у его виска, и покойничек, чего доброго, откроет глаза. Дудки! Я не подойду. Я его проучу. Кто–то оттирает меня плечом, и я не противлюсь. Теперь сверкает вспышка. Снимки на память. Кому–то понадобилась моя рука — чье–то утешительное рукопожатие. Понаприехало их тут, телекорреспонденты, газетчики… Это приятно, хотя слава и запоздала. Кладут цветы, розы, несут венки. Золотистые надписи на черных лентах: «Дорогому учителю и другу…» Золотые слова! А как сверкает медь духового оркестра, который, правда, не проронил еще ни звука, но по всему видно, уже готов жалобно всплакнуть. Я вижу, как устали от слез и глаза родственников. Особенно мне жаль его жен. И первую, и вторую… Жаль мне и Оленьку, так и не успевшую стать третьей женой. Все они едва знакомы, и вот теперь их собрала его смерть. Оленька вся в черном и вся в слезах. Прелестно–прекрасная в своем горе, она стоит напротив. И когда новые озерца зреют в уголках ее умопомрачительно больших серых глаз, О, Боже милостивый! я еле сдерживаю себя, чтобы тоже не заплакать.
— Извините…
— Пожалуйста…
Я вижу, как Оленька, расслышав мое «пожалуйста», настороженно вглядывается в лицо покойника, затем, убедившись, что он таки мертв, закрывает глаза и снова плачет. Видимо, ей что–то почудилось. Теперь я смотрю на руки усопшего, как и принято, скрещенные на груди. Тонкие длинные пальцы, розовые ногти… Никому ведь и в голову не придет, отчего у покойника розовые ногти. Может быть, у него и румянец на щеках? В жизни он такой краснощекий! Я помню, как три дня тому назад он ввалился в мою комнату со своими дурацкими требованиями. Уступи я тогда и…
— Будьте так добры…
Сколько угодно! Я уступаю даме в беличьей шубке и не даю себе труда вспомнить, как там все было. Было и прошло. И точка! Меня интересует теперь эта дама с бархатными розами, которые сквозь стекла очков кажутся черными. Кто бы это мог быть? Я не знаю, зачем я обманываю себя: разве я не знаю ее? Я ведь только делаю вид. Вообще, надо сказать, это удивительно, просто до слез трогательное зрелище — собственные похороны. Мы ведь с покойником близнецы, плоть от плоти. И, если бы на его месте сейчас оказался я, никто бы этого не заметил. А все началось с того… Он просто из кожи лез вон, так старался! Носился со мной, как с писаной торбой. Честолюбец! Ему хотелось мирового признания. Вот и получил. Теперь все газеты будут трубить.
— Сколько же ему было? — слышу я за спиной чей–то шепот.
Ответа нет. Но я и не нуждаюсь в ответе. Ему еще жить и жить… Это–то я знаю. Может быть, Оленька еще и выйдет за него замуж. Выйдет непременно. Не такой уж я злоумышленник, чтобы лишать их земного счастья. Я его лишь маленько проучу. Это будет ему наука. Я все еще не могу взять в толк: неужели он мне не верит? Или не доверяет? Зачем он держит меня в узде?
Дама в шубке тоже смахивает слезу. А с каким открытым живым любопытством Оленька смотрит на эту даму. О чем она думает? Народ прибывает, струится тихим робким ручейком вокруг гроба. Сколько почестей покойнику! Чем же он так славен? Кудесник, целитель… Профессор! Ну и что с того? Вырастил, видите ли, меня из какой–то там клетки… Ну и что с того? Этим сейчас никого не удивишь. Я протискиваюсь между двумя толстяками поближе к даме с бархатными розами. Вполне вероятно, я рискую быть узнанным и все–таки надеюсь на свой парик. Усы, борода, темные очки, котелок… Вряд ли кому–то придет в голову подозревать во мне двойника. Никто ни о чем даже не догадывается.
Мой котелок!
От толчка в спину он чуть не слетает с головы и мне приходится его снять.
«Осторожно!» — хочу крикнуть я и не кричу. Кто же этот неуклюжий медведь? Беличья шубка! Ее нежная шерстка мнет мне шляпу, которую я уже поднимаю над головой. Мы стоим сжатые, просто впритык, и я, конечно же, узнаю эту даму с бархатными розами. Мне снова хочется крикнуть: «Мама!» Но я не кричу. Я никогда не произнесу этого слова. Я никому его не прошепчу.
— Ради бога, простите… Ваша шляпа…
— Ну что вы, такая давка…
Я вижу, как она внимательно, вскинув вдруг влажные ресницы, изучает меня. На это я только кисло улыбаюсь и напяливаю котелок на парик. Чтобы все ее сомнения развеять.
— Да, — вздыхает она, — у него было много друзей.
Я этого не помню.
Затылком и всей кожей спины я чувствую жадный взгляд Оленьки и кошу глаза — так и есть: мы с беличьей шубкой у нее на прицеле. О чем Оленька может догадываться? Да ни о чем. Шаркая по мрамору своими ботинками, я то и дело спрашиваю себя: кто я теперь? И не нахожу ответа.
А все началось с того, что Артем срезал со своего пальца махонькую бородавку, измельчил ее на отдельные клеточки, взял одну из самых живых и выдавил из нее ядро, свой геном. Рассказывая потом все это, он почему–то ухмылялся: «Ты и есть теперь это ядро…» Много лет я не мог понять причину его ухмылки, и вот теперь…
Я представляю себе, как все было, и вижу себя длинной нитью, скрученной в замысловатый клубок и упрятанной в чью–то яйцеклетку, лишенную собственного ядра. Я даже слышу голос Артема:
— Осторожно, не повреди мембрану…
Он давно говорит сам с собой, я это знаю. Отшельник, паяц. Чего он добивается? Мирового признания! А мне, признаться, не очень–то уютно в этой чертовой яйцеклетке. Какая–то она липкая, вязкая… Как кисель. Это поначалу, я потерплю. Через час я уже чувствую себя вполне хорошо. Мы привыкаем друг к другу и уже шепчемся на своем языке, беззвучно шушукаемся, роднимся. И вскоре живем душа в душу в какой–то розовой жидкости, счастливые, живем как одно целое, единой зиготой, нежимся в теплой темноте термостата. Наш папа, этот лысоватый Артем, нами доволен, доволен собой. Я понимаю: я и есть теперь та зигота. Проходит какое–то время, и меня берут за шкирку, берут как кота. Больно же! А они просто вышвыривают меня из моей розовой спальни. Куда? Что им от меня нужно?
— Это не больно, — говорит Артем, а я ему не верю. Это ужасно больно! И холодно! Словно я голый попал в ледяную прорубь.
— Артем, я боюсь, — слышу я женский голос, — я вся дрожу…
Это меня поражает, но и приводит в восторг: мой лысеющий папа обзавелся женщиной! А я думал, что он холостяк.
— Не надо бояться, родная моя, все будет прекрасно, — шепчет папа и сует меня куда–то… Куда? В полную, жуткую темноту. Меня тут же обволакивает вялая томная теплая нега, я куда–то лечу, кутаюсь в мягкую бархатную кисею и, наверное, засыпаю. Потом я просыпаюсь! Потом я понимаю, куда меня наглухо запечатали — в стенку матки. Целых девять месяцев длится этот невыносимый плен. Такая мука! Лежишь скрюченный, словно связанный, ни шагу ступить, ни повернуться. Слова сказать нельзя, не то, что поорать вдосталь. Набравшись сил, я все–таки рву путы плена и выкарабкиваюсь из этой угрюмой утробы на свет божий и ору. О, ору! Это немалая радость — мой ор! Я вижу их счастливые лица, сияющие глаза.
— Поздравляю, — говорит папа, берет меня на руки и целует маму.
И я расту.
Я не какой–то там вялый сосун. Да уж! Я припадаю к белой груди, полному теплому тугому наливу, и пью, захлебываясь, сосу эту живительную сладкую влагу… Так вкусно! А какое наслаждение видеть себя через некоторое время в зеркале этаким натоптанным крепышом, который вдруг встает и идет, шатаясь и не падая, балансируя ручонками, затем внезапно останавливается и любуется сверкающей струйкой, появившейся внезапно из какой–то пипетки. Вот радость!
Радость проходит, когда однажды приходит папа и, что–то бормоча себе под нос, надевая фартук, берет меня на колени и сует в рот какую–то желтую резинку, надетую на горлышко белой бутылки.
— Ешь, — говорит папа, — на.
На!
Он отчего–то зол и криклив.
— Ешь, ешь!.. — твердит и твердит он.
Такую невкусную бяку я есть не буду. И не подумаю!
— Ешь, — беря себя в руки, упрашивает папа, — пожалуйста…
А где мама? Я не спрашиваю, вопрос написан на моем лице. Мама уехала. Надолго, уточняет папа. Мой маленький мир, конечно, тускнеет — маму никто заменить не может. Даже папа, который по–прежнему что–то бормоча, уже с пеленок учит меня читать, думать, даже фехтовать. Затем передо мной проходит череда учителей. Чему только меня не учат! Я расту на дрожжах знания, легко раскусываю умные задачки, леплю, рисую… Мой коэффициент интеллекта очень высок. Я уже знаю, почему наступает зима, и как взрываются звезды, что есть в мире море и океан, есть рифы, кораллы, киты, носороги, а мой мир ограничен стенами какой–то лаборатории, книгами, книгами…
— А это что, — то и дело спрашиваю я, — а это?
Папа терпеливо объясняет и почему–то совсем не растет, а я уже достаю до его плеча. Он, правда, делает мне какие–то уколы, и это одна из самых неприятных процедур в моей жизни. Как–то приходит мама. Она смотрит на меня и любуется. Шепчется о чем–то с папой, а затем они встают, идут к двери и зовут меня с собой. Куда? Я еще ни разу не переступал порог этой комнаты. Мы выходим — мать честная! Я попадаю в царство зелени и цветов, живая трава, ручеек, даже птички… И солнце! Настоящее солнце! Это не какая–то лампа ультрафиолетового света. Над нами большой прозрачный свод, точно мы под огромным колпаком, хотя солнечные лучи сюда свободно проникают. И даже греют. Как много света, а в траве кузнечики, муравьи… Летают бабочки и стрекозы, я их узнаю. А вот маленький ручеек, и в нем плавают рыбки…
— Поздравляю, — говорит мама, — тебе сегодня уже двадцать.
Мне не может быть двадцать, но выгляжу я на все двадцать два.
— А сколько тебе? — спрашиваю я.
— Двадцать три, — отвечает мама и почему–то смущается.
— А тебе? — спрашиваю я у папы.
Папа медлит с ответом, я смотрю ему в глаза, чтобы не дать соврать. Зря стараюсь: у нас ведь это не принято.
— Сорок, — наконец произносит папа, — зимой будет сорок.
Сейчас лето…
Может быть, мой папа Адам, а мама Ева?
— Нет, — говорит папа, — ты не Каин и не Авель, ты — Андрей.
— А как зовут маму?
— Лиля…
В двадцать лет можно подумать и о выборе жизненного пути. Вечером я говорю об этом папе, который пропускает мои слова мимо ушей. Я вижу, как смотрит на него молодая мама. Она не произносит ни слова, но в глазах ее читается: я же говорила… На это папа только пыхтит своей трубкой и разливает вино. Вино — это такой бесконечно приятный, веселящий напиток, от которого я теряю рассудок и просто не могу не пригласить маму на танец. Мы танцуем… Мои крепкие руки отрывают маму от пола, мы кружимся, кружимся, и вот уже какая–то неведомая злая сила пружиной сжимает мое тело, ее тело, наши тела, а внутри жарко пылает живой огонь… Что это? Что случилось? Я теряю над собой контроль, сгребая маму в объятья…
— Мне больно…
Я слышу ее тихий шепот, чувствую ее горячее дыхание.
— Потише, Андрей, Андрей…
Но какая музыка звучит у меня внутри, какая музыка…
— Лиля, нам пора.
Это Артем. Он все испортил! Плеснул в наш огонь ледяной водой. Вскоре они уходят, а я до утра не могу сомкнуть глаз. Такого со мной еще не было. Через неделю я набираю еще несколько килограммов, а к поздней осени почти сравниваюсь с Артемом. Мы так похожи — не отличишь. Это значит, что половина жизни уже прожита. Но то, чем я жил… Я ведь нигде еще не был, ничего не видел, никого не любил… Или Артем готовит для меня вечную жизнь? На этот счет он молчит, да и я не лезу к нему с расспросами. Единственное, что меня мучает — пластиковый колпак над головой. Я бы разнес его вдребезги. Надоели мне и таблетки, и уколы, от которых уже ноет мой зад. Однажды утром я подхожу к бетонной стене, у которой лежит валун, становлюсь на него обеими ногами и, задрав голову, смотрю сквозь прозрачный пластик крыши на небо. Там — воля. Ради этого стоит рискнуть? Поскольку мне не с кем посоветоваться, я беру лопату. Подкоп? Ага! Граф Монте — Кристо…
Трудно было сдвинуть валун. Была также опасность быть пойманным на горячем. А куда было девать песок? Я перемешиваю его с землей и сую в нее фикус: расти. Можно было бы выбраться другим путем, но дух романтики пленил меня. Уже к вечеру следующего дня я высовываю голову по другую сторону бетонной стены. Там — зима! Уфф! Я возвращаюсь домой и собираюсь с мыслями. Артем ничего не подозревает. У него какие–то трудности. Доходит до того, что он орет на меня, топает ногами и брызжет слюной. Но я спокойно, вполне пристойно и с достоинством, как он меня и учил, переношу все его выходки, и это бесит его еще больше. Истерик. С этими гениями всегда столько возни. Мир это знает и терпит. Или не терпит…
Бывает, что я в два счета решаю какую–нибудь трудную его задачку, и тогда он вне себя от ярости.
— Да ты не важничай, не умничай, — орет он, — я и без твоей помощи… Я еще дам тебе фору!
На кой мне его фора?
Я выбираю момент, когда ему не до меня, и, прихватив с собой теплые вещи, лезу в нору. Выбираюсь из своего кокона наружу, на свет Божий. Природа гневно протестует: стужа, ветер, снежная метель… Повернуть назад? Нет уж! Никакими метелями меня не запугаешь. Каждый мой самостоятельный шаг — это шаг в новый мир. Прекрасно! Я иду по пустынной улице мимо холодных домов, под угрюмым светом озябших фонарей, навстречу ветру… Куда? Я задаю себе этот вопрос, как только покидаю свой лаз: куда? Мне кажется, я давно знаю ответ на этот вопрос, знаю, но боюсь произнести его вслух. Потом все–таки произношу: «К Лиле…»
— К Лиле!..
Своим ором я хочу победить вой ветра. И набраться смелости. Разве я чего–то боюсь? Этот маршрут я знаю, как собственную ладошку: много раз я бывал здесь, но всегда под присмотром Артема. Теперь я один. Мне не нужен поводырь. Мне кажется, я не нуждаюсь в его опеке. Я просто уверен в этом. Это я могу дать ему фору! В чем угодно и хоть сейчас!
— Привет, — произношу я, открывая дверь ключом Артема.
— А, это ты…Ты не улетел?
— Я отказался.
— От чего отказался, от выступления?
— Ага…
Отказываться от своей роли я не собираюсь.
Какая она юная, моя мама. Я никогда еще не видел ее в домашнем халате.
— А что ты скажешь своей жене? Она же узнает.
Разве у Артема есть жена? Я этого не знал.
— Что надо, то и скажу. Пусть узнает.
Не ожидая от меня такого ответа, Лиля смотрит на меня какое–то время с недоумением, затем снова спрашивает:
— Что это ты в куртке? Мороз на дворе.
— Да, — говорю я, — мороз жуткий, винца бы…
Потом Лиля уходит в кухню, а я, по обыкновению, иду в ванную и вскоре выхожу в синем халате Артема. Мы ужинаем и болтаем. Потихоньку вино делает свое дело, и я вспоминаю его веселящий дух. Бывает, я что–нибудь скажу невпопад, и Лиля подозрительно смотрит на меня. Я на это не обращаю внимания, пью свой коньяк маленькими глоточками, хотя мне больше нравится вино.
— Что–нибудь случилось?
— Нет, ничего, — я наполняю ее фужер, — а что?
Молчание.
— А где твое обручальное кольцо?
— Я снял…
— Оно же не снимается…
— Я распилил…
Не произнося больше ни слова, Лиля встает, молча убирает со стола, затем молча моет посуду. А мне вдруг становится весело. Какая все–таки удивительная штука этот коньяк. Я снова наполняю свою рюмку до краев и тут же выпиваю. И, чтобы избавиться от неприятного чувства жжения, тут же запиваю остатками вина из фужера. И вот я уже чувствую, как меня одолевает безудержно–неистовый хмель желания, а в паху зашевелился мерзавец, безмерно полнокровный господин…
— Что ты делаешь?
А я уже стою рядом и тянусь губами к ее шее.
— Что с тобой?
А я беру ее за плечи, привлекаю к себе и целую. Ее тело все еще как тугой ком.
— Ты остаешься?
— Да, — шепчу я, — конечно…
— Зачем ты снял кольцо?
— Да, — говорю я, — я решил.
— Правда?
— Я развожусь.
— Правда? И ты на мне женишься?
Я чувствую, как она тает в моих объятиях, беру ее на руки и несу, сдергивая с ее податливого тельца желтый халат… Несу в спальню… Потом мы лежим и молча курим. Мягкого света бра едва хватает, чтобы насладиться уютом спаленки, но вполне достаточно, чтобы видеть блеск ее счастливых глаз.
— Хочешь, — спрашивает она вдруг, — хочешь, я рожу тебе сына?
— Можно…
— Настоящего. Хочешь? А не такого…
Я не уточняю, что значит «такого», я говорю:
— Ты же знаешь, как я мечтаю об этом.
— Ты, правда, разведешься?
— Я же сказал, — отвечаю я, беру ее сигарету и бросаю в пепельницу. И снова целую ее… Это такое блаженство.
Ровно в два часа ночи, когда Лиля, утомленная моими ласками, засыпает, я только вхожу во вкус, встаю и, чтобы не разбудить ее, на цыпочках иду в кухню. Я не ищу в записной книжке Артема телефон Оли, я хорошо помню его.
— Эгей, это я, привет…
— Ты вернулся? Ты где?
— В аэропорту.
— Артем, я с ума схожу, знаешь, я…
— Я еду…
Я кладу трубку, одеваюсь и выхожу. Ну и морозище! Роясь в карманах папиной куртки, я нахожу какие–то деньги, и мне удается поймать такси. Я еще ни разу не переступал порог Олиной квартиры и был здесь в роли болванчика, ожидавшего Артема в машине, пока он… пока они там…
Теперь я ему отомщу.
Я звоню и вижу, что дверь приоткрыта… и вдруг, о, Боже! Господи милостивый! Дверь распахивается, и Оленька, Оленька, как маленькая теплая вьюжка, как шальная, бросается мне на шею и целует меня, целует, плача и смеясь, и плача…
— Ну что ты, родная, — шепчу я, — ну что ты…
— Я так люблю тебя, Артем…
Я несу ее прямо в спальню…
— Ты пьян?
— Самолет не выпускали, мы сидели в кафе…
— Артем, милый… Я больше тебя никуда не пущу, никому не отдам… Ладно, Артем? Ну скажи…
Никакой я не Артем, я — Андрей!
— Конечно, — шепчу я на ушко Оленьке, — никому…
Потом мы набрасываемся на холодную курицу, запивая мясо вином, и, насытившись, снова бросаемся в объятья друг другу. Мы просто шалеем от счастья…
Наутро я в своей теплице. Весь день я отсыпаюсь, а к вечеру ищу куртку Артема. Я не даю себе отчета в своих поступках (это просто напасть какая–то), ныряю в свой лаз… Куда сегодня? Преддверие ночи, зима, лютый холод… Куда же еще — домой! Я звоню и по лицу жены Артема, открывшей мне дверь, вижу, что меня здесь не ждут.
— Что случилось? — ее первый вопрос.
Я недовольно что–то бормочу в ответ, мол, все надоело…
— Почему ты в куртке, где твоя шуба?..
Далась им всем эта куртка!
Затем я просто живу… В собственном, так сказать, доме, в своей семье, живу
жизнью Артема. Я ведь знаю ее до йоточки. Пока не приезжает Артем. А я не собираюсь уступать ему место, сижу в его кресле, курю его трубку… Он входит.
— Привет, Андрей, ты…
Это «ты» комом застряет в его горле. Он стоит в своей соболиной шубе, в соболиной шапке…
— Как ты здесь оказался?…
Что за дурацкий вопрос!
Входит жена, а за нею мой сын… Мой?
Что, собственно, случилось, что произошло?
Я не даю им повода для сомнений:
— Андрей! — Я встаю, делаю удивленные глаза, вынимаю трубку изо рта и стою пораженный, словно каменный, — ты как сюда попал? И зачем ты надел мою шубу?
Я его проучу!
Артем тоже стоит, как изваяние, с надвинутой на глаза шапкой, почесывая затылок. Вот это сценка! А ты как думал!
Тишина.
Затем Артем сдергивает с себя шубу, срывает шапку…
Лишь на мгновение я тушуюсь, но этого достаточно для того, чтобы у нашей жены
случился обморок. Она оседает на пол, и я, пользуясь тем, что все бросаются к ней, успеваю выскользнуть из квартиры.
Ну и морозище!
К Оленьке или к Лиле? Куда теперь?
Я дал слабинку, и это мой промах. Я корю себя за то, что не устоял. Пусть бы Артем сам расхлебывал свою кашу. Чувствуя за собой вину, я все–таки лезу в свою нору. Да идите вы все к чертям собачьим!
Артем, я знаю, сейчас примчится…
И вот я уже слышу его шаги…
— Ах ты сукин сын!..
Я пропускаю его слова мимо ушей. Это — неправда!
— Ты ничтожество, выращенное в пробирке, жалкий гомункулус, стеклянный болван!
Ну это уж явная ложь. Какое же я ничтожество, какой же я стеклянный? Я весь из мяса, из плоти, живой, умный, сильный… Я — человек! Я доказываю ему это стоя, тараща на него свои умные черные глаза, под взглядом которых он немеет, замирает, а я уже делаю пассы своими крепкими, полными какой–то злой силы руками вокруг его головы, у его груди… Через минуту он как вяленая вобла. Я беру его под мышки как мешок, усаживаю в кресло и напоследок останавливаю сердце, а вдобавок и дыхание. Пусть поостынет…
И вот я стою у его гроба, никому не знакомый господин с котелком на башке…
Откуда он взялся, этот котелок, на который все только и знают, что пялиться. Дался им этот котелок! Зато никто не присматривается ко мне. Даже Оленька ко мне равнодушна. А как она убивается по мертвецу! Я просто по–черному завидую ему. Ладно, решаю я, пусть живет. Мне ведь достаточно подойти к нему, сделать два–три пасса рукой, и он откроет глаза…
Подойти?
И все будет по–прежнему…
Подойти?
А как засияют Оленькины глазки, как запылают ее щечки от счастья. Представляю себе, как я заявлюсь потом к Лиле, к Оленьке… После похорон! Вот будет потеха–то!
Эх, папа, папа… Собственно, мне и папа уже ни к чему: технология клонирования у меня в кармане, ну, а кем населить этот новый мир после этой страшной войны, я уж придумаю! Как–никак 2015 год на дворе! Нужны новые люди, не жадные до страстей и не столь подлые и невежественные, как эти уроды! Нужна новая эра, новая раса людей. Ведь тезис о том, что нет ничего страшнее деятельного невежества, до сих пор актуален!
Я снимаю котелок и, переминаясь с ноги на ногу, стою еще долю времени в нерешительности, затем выхожу на улицу, где такое яркое веселое солнце, и вот–вот уже грянет весна, швыряю котелок куда–то в сторону и ухожу прочь.
Зачем мне этот котелок?
АВГУСТ 99‑го, ОСЕНЬ…
Пересечемся, не пересекаясь. Войдем в стихи как в лоно, ошалев. Мы не бродяги, мы с тобой остались Однажды совершенно не у дел. И Нечто свыше, из дрянных осколков Сложить пытаясь словоформу «ЖИЗНЬ», Сложило пару наших одиночеств. Краями. Ненадолго. Не cошлись.— Если верить Нострадамусу и всем радио– и телеведущим, как раз в августе девяносто девятого и наступит конец света. Все начнется с солнечного затмения. А ты предлагаешь ехать к морю…
— Ерунда все это, — говорю я, — завтра выезжаем…
Это случилось по дороге домой. Мы провели славные две недели у моря и уже подъезжали к своему городу… Нужно же было проехать более чем полтыщи километров, чтобы это произошло у самой городской черты.
Легкий дождик пробарабанил по крыше и, чтобы смахнуть дрожащие капли с ветрового стекла, достаточно было лишь нескольких вялых движений «дворников».
— Асфальт влажный, будь осторожна, — предупреждаю я, любуясь профилем и ставшей уже привычной сосредоточенностью ее лица, когда она занята чем–то важным.
— Ахха…
Мы с сожалением расстались с райским уголком, где ласковое море дарило нам блаженные часы счастья, а высокие цепкие вершины гор охраняли его от разрушительных посягательств серых низких туч. Здесь даже небо кажется ухоженным. Все так мирно, сияюще мирно. Все эти дни казалось, что счастье будет вечным.
Ей в июле исполнилось двадцать четыре. Она красива, стройна, длиннонога. Зеленоокая бестия.
Будучи здесь год назад, я не знал никакой Лю.
Я никогда не забуду ее глаза, эти глаза, я забуду ее, но не эти глаза…
— Не гони, пожалуйста, — прошу я, когда она превышает скорость на повороте.
— Ладно.
Особенно я люблю ее кожу, белую–белую, нежную, как пена волн. Когда мы впервые выбрались на пляж, она была словно ангел, с ее божественными плечами и нежными крылышками лопаток. Ее ноги — самые красивые ноги, которые я когда–либо видел. А как она идет! Как она несет свою женственность!
— Загар просто боится меня, я всегда такая белая, просто стыдно.
Ей хочется быть смуглянкой.
Сейчас, когда мы берем очередной подъем, ее цепко ухватившиеся за ленту дороги глаза на фоне загорелого лица кажутся белыми. Словно светлый сланец под водой.
— Надень очки.
— Не хочу.
Надеюсь, белые не от злости.
Ей нравится вести машину, смело бросать ее в погоню за каким–то там «фордом» или «ситроеном». В такие минуты она, как молодая кобылица, с гривой волос, реющих на ветру. Ей не хватает воздуха. Ей не нравится и задница грузовика, который вдруг возник перед глазами, а обойти его не дает встречный поток машин.
— Осторожно…
— Ахха…
На следующее утро после первого солнечного дня я нахожу ее в постели прелестно–нежно–розовой, кораллово–алой. Она вся горит, я вижу ее жаркие плечи, обнажившуюся из–под простыни розовую ножку.
Спящая королева.
Проснувшись, она покашливает и жалуется на боль в горле. Не накрашенные веки кажутся восковыми, а лицо мертвым, но она дышит.
— А что, и в самом деле Гомер был слепым?
— Да.
— Как же он мог видеть?..
— Он слышал.
Ее любознательности нет предела.
Она могла бы быть историком. Или любовницей Цезаря. Клеопатрой? Нет, только не Клеопатрой.
Я могу дотянуться до нее рукой.
— Вам кофе подавать, миледи?
Она не слышит. Надо видеть ее спящей!
В этом году небо словно прорвало. Уже август, а все еще идут дожди. Разрушительные ливни. Размыты дороги, сорваны мосты, не вызревают персики. И другие неприятности.
Наши две недели тоже были полосатыми: кажется, день будет ясным, солнечным, и вдруг — на тебе! — зловеще мчится черное крыло тучи, крадя солнце. Высверки молний и грохочет так, что можно оглохнуть. Мы хватаем наши вещички и бросаемся наутек вместе с оголтелой толпой пляжников, подгоняемые плетью дождя. Я тяну ее за руку, а ей нравится, когда ее стегают длинные водяные нити. Потом ей нравится слышать, как дождь барабанит по крыше и шепот моих слов у самого ее ушка:
— Знаешь, как я люблю тебя, знаешь…
От этого ее прелестная кожа берется пупырышками.
Ни единому моему слову она не верит.
Вот и сейчас мы въезжаем в полосу дождя.
— Может быть, я сяду за руль?
— Нет–нет! — Она бесконечно счастлива тем, что в состоянии и сама побеждать это нашествие водной стихии. Побеждать — это стиль ее жизни.
Вечерами, когда нет дождя, мы надеваем теплые вещи и бредем на пустынное побережье.
Где–то вдали на берегу мерцают сизые язычки маленького костра, слева светлячок сигареты, а голову задерешь — лучистые шляпки золотых гвоздей, вколоченных в черную твердь неба.
— Правда, что эта белая полоса и есть тот знаменитый Млечный путь?
— Да, тот. Я тебя никогда ни в чем не обманываю.
— Правда?
Она мне не верит.
— Остановись, пожалуйста, — прошу я, когда ехать становится опасно.
— Ни за что.
Ей нравится сидеть вечерами на берегу, накинув на себя шерстяную кофту, обхватив ноги руками и уткнув подбородок в колени. Она может так сидеть часами и смотреть в темноту ночи. Молча. На мои редкие вопросы она не отвечает. Но она слышит, о чем я спрашиваю. Когда меня начинает злить ее безучастное молчание, она произносит:
— Ты же видишь во мне только женщину. Тебе ведь наплевать…
— Мне не наплевать.
Это правда. Да, сейчас, здесь, у моря, я хочу видеть ее только женщиной, желанной женщиной.
— Ты ошибаешься, родная моя, я вижу в тебе не только женщину, но женщиной в тебе я буду восхищаться всегда.
У нее золотисто–каштановые волосы, высокий открытый лоб, красивые большие зеленые глаза, капризно–вздернутый маленький носик и губы… Ее губы — лишенные нежной кожицы дольки зрелого апельсина, от них невозможно оторваться. В нее невозможно не влюбиться. А эти восхитительные ямки на щеках, когда она улыбается!
Мы на пляже: вершины гор залиты светом, высокие перистые облака, белопенные волны. Водоворот ее пупка с бусинкой пота, где сосредоточено все солнце юга. Я пишу сухой веточкой на песке: 17.08.99. Набегающие волны нежно смывают мою попытку увековечить и этот день нашего счастья.
— Ах, — сокрушается она, стоя у зеркала вполоборота и смазывая кремом обгоревшие ноги, — мне уже двадцать четыре, я уже старуха.
О моем возрасте, она ни разу не обмолвилась.
Мы развивали планы на эту поездку задолго до отпуска, тщательно скрывая их от друзей, мечтая о тех сладостных минутах, когда мы будем только вдвоем. Но уже на следующий день после приезда вдруг возникает ссорка. Без всякого повода. Возникает, так сказать, из смеха.
— Ты не поцеловал мне родинку.
— Еще чего…
Это мое «еще чего» сковало все ее движения. Она закутывается в простыню, как в кокон и, не шевелясь, лежит целый час. Больше! Конечно же, я пошутил. Я стою на коленях у постели и сквозь простыню шепчу ей на ушко:
— Я целую ваши руки, завидуя тому, кто целует все то, чего не целую я.
Шепчу и шепчу. Каждую минуту. Целый час.
Она — мертва! Но вся ее кожа, я знаю, в пупырышках…
Я приношу ей кофе.
— Ваш кофе, сударыня.
— Ах!
И глаза ее яснеют.
Я называю ее Лю.
О том, что у нее депрессия, она заявляет на следующий день к вечеру. Может быть, ее развеет теннис? Мы берем ракетки и спешим на корт. Солнце уже скрылось за верхушки кипарисов, ветерок шелестит листьями платанов, вершины гор в дымке. На ней цветастая тенниска, белая спортивная юбка, красная лента украшает лоб. Игра в теннис ее преображает: мягкая и уступчивая, немножко капризная и нерешительная, она становится жесткой и уверенной в своих действиях на корте. Она легка, ловка и проворна. Чего только стоят ее «хэх!» Но я ведь тоже парень не промах. Мне нередко удается удачно сработать ракеткой, и тогда она злится, что не может принять подрезанный мяч. Это меня подзадоривает! Моя тенниска промокла насквозь, пот застилает глаза и, хотя я толстоват и менее проворен, я тоже набираю очки. А ей нужна только победа.
Я готов сегодня же жениться на ней.
— Ты единственная женщина, без которой я…
— Так я тебе и поверю.
На улице она не позволяет мне проявлять никаких чувств. Только дома. А дома забивается в свою раковину.
Как все умные женщины, она не считает себя умной. Ее приводит в восторг беседа с умным человеком. Если же она не находит собеседника умным, она ничем не выдает этой потери.
На протяжении всей поездки я думаю о том, чтобы ничего не случилось.
— Обгони его.
На это она молчит, уцепившись обеими руками за руль и подавшись чуть вперед. Фургон, который еле тянется на подъеме, обдает нас мелкими грязными брызгами. То и дело приходится включать «дворники».
Зачем я тороплю ее?
Она совсем недавно стала говорить мне «ты», но ни разу не произнесла еще «Я люблю тебя». Ни «тебя», ни «вас».
Что значит депрессия? Мне кажется, что сейчас она самая счастливая женщина на свете, потому что рядом с ней я, мужчина, который любит ее бесконечно и нравится ей, я знаю. Она этого не понимает и выигрывает третий сет — 50:30.
Нужно быть совсем слепым, чтобы вбить себе такое в голову: «У нас ведь нет будущего, ты сам сказал». Мало ли, что я сказал. У нас есть настоящее и оно прекрасно.
Когда часам к десяти становится ясно, что день будет пасмурным, мы решаем идти в горы. Какую бы тропинку не выбрал, все они ведут к небольшой белостенной церквушке, царствующей на вершине горы. Бывает, что солнце все–таки пробивается сквозь дыру в чернильной крыше туч, и тогда маковки храма сияют золотом, озаряя все вокруг и радуя глаз. Ночью церковь подсвечивается и кажется, что в черном небе завис инопланетный корабль, а в бинокль посмотришь — сияют купола.
— Невозможно оторвать глаза, — говорит Лю.
Такая разница в возрасте! Преступно даже думать, считает она, что мы можем быть вместе. Люди скажут… Дуреха, она еще в том возрасте, когда мнение других играет решающую роль в выборе ее поступков. Если она в чем–то не права, я тут же прошу у нее прощения и до сих пор удивляюсь тому, что меня раздражает женское несовершенство.
На правой ноге чуть выше колена у нее родимое пятно, которое не загорает и напоминает крестик. Меченая. Бог держит ее под присмотром, но это и мой крест.
— Ой, смотри! — вскрикивает Лю, — радуга…
Разница в возрасте — это, конечно же, помеха нашему будущему. Но не настоящему!
Наконец мы все–таки обходим фургон.
В первый же день южное солнце высыпало на ее лицо целый короб веселых крапинок. Паломничество веснушек. Уже на третий день кожа лица стала смуглой, а кончик носа просто лиловым, зато глаза приобрели цвет небесной лазури.
— Вытаращи глаза, как ты умеешь, — прошу я.
По заказу она ничего не делает.
Когда она таращит свои глазищи, я просто умираю от мысли, что она может принадлежать кому–то другому. Я ревную ее ко всему на свете.
Однажды, когда тучи затягивают небо, мы решаем куда–нибудь поехать.
— Куда?
— Куда хочешь.
Она предоставляет мне право выбора. Она впервые в этом райском уголке, а я горд тем, что подарил ей эту встречу с морем. С запахом хвои. Эти вершины гор.
— Ты превышаешь скорость — видишь знак? — Она не упускает случая указать мне о нарушениях правил движения, — теперь ты обгоняешь справа.
Мне нравится, когда она поучает меня. Поэтому–то я и нарушаю правила.
У нее привычка повторять: «Ну, вот…»
— Лю, — спрашиваю я, — посмотри, пожалуйста, в путеводителе, как называется…
— Мы забыли его дома.
— Ну, вот…
Я знаю, она прилагает неимоверные усилия, чтобы не броситься мне на шею. Чтобы не влюбиться в меня по уши.
Фотография на память у мраморного льва на фоне арабской вязи: «Нет победителя, кроме Аллаха».
— Я хочу быть твоим победителем.
— Только Аллах. Ты же видишь.
Мы едем дальше, она сосредоточенно о чем–то думает. Вдруг смеется.
Иной раз я яростно ревную ее. Становлюсь мелочным и дотошным, я знаю, но удержаться от этого не могу. Она с усердием школьного учителя настойчиво убеждает меня, что сейчас я единственный мужчина, который ей нужен. «У меня есть друзья, а ты — единственный, кому я позволяю…»
Исповедь Пенелопы?
Она не замечает вокруг себя мужчин и не дает повода обратить на себя внимание. С удовольствием выслушивает комплименты в свой адрес, но те, кто их произносит, успеха у нее не имеют. Зато она прикладывает много усилий, чтобы быть красивой в глазах тех мужчин, которые считают ее умницей. Умна ли она? Я никогда не спрашивал себя об этом. Ясно и так.
Иногда мне бывает достаточно слышать ее голос.
Ожерелье из лунного камня, которое я ей покупаю, она обещает никогда не снимать.
Она любит лежать в воде на спине, глядя в высокое небо, а спит — свернувшись калачиком.
— Запомни, я буду любить тебя всегда, какие бы фортеля ты мне не выкидывала.
Она только улыбается. И еще больше задирает и без того уже вздернутый носик.
Это первое наше путешествие и вообще все, что сейчас происходит, для нас впервые: она впервые видит это море, эти горы, впервые узнает, что это дерево называется бесстыдница (платан).
— А название этого поселка в переводе означает «Порыв ветра». Разве ты знал об этом?
— Не-а.
— Ну, вот…
Она говорит мне «ты», без всякой уверенности в голосе, делая паузу перед тем, как это «ты» произнести. Дается ей это нелегко, поэтому она немножко злится. А иногда, набравшись мужества, говорит громко:
— Ты не мог бы не разбрасывать свои вещи по всей комнате!
Она не терпит беспорядка, а когда я спрашиваю, что она называет порядком, она злится еще больше.
По–настоящему в постели, без спешки, без оглядки на будущее, на прошлое, мы тоже впервые. Я просто без ума от ее губ, ее шеи, пупырышек на ее коже. Просто без ума. А она — как пружина. Она не может дождаться, когда все это кончится. Конечно же, все дело во мне.
Дня три или четыре она меня к себе вообще не подпускает. Диктатор, она требует от меня беспрекословного подчинения, присвоив себе роль недотроги. «Ты вчера держался молодцом». Это значит, что для меня вчерашний день тоже пропал. Каннибал в тунике ангельской святости, она поедает меня живьем!
Когда настроение особенно уныло, мы лепим нашу любовь, как попало и, бывает, я пугаюсь, что мой великолепнейший стек ваятеля может меня подвести.
— Ты — чудовище. Не могу же я, глядя на тебя, такую обезоруживающе–прекрасную, с такими пленительными…
— Можешь.
Я, конечно же, бешено злюсь, что она отдается здесь только солнцу: я ведь тоже пылаю жаром и просто лопаюсь от желания обладать ею.
У нее ни в чем, считает она, нет надо мной превосходства и, вероятно, втайне гордится тем, что близка со мной. И все эти ее штучки время от времени удерживать меня на дистанции, являются не чем иным, как свидетельством ее неравнодушия. Кроме того, ей нужны доказательства хоть какой–нибудь власти надо мной. Пожалуйста!
Любуясь ею, я завидую ее молодому задору, тугому тургору ее кожи, свежести ее губ и этим чертикам в глазах, поэтому всегда помню о своем возрасте. Иногда я мирюсь с этим: возраст мужчины в постели, как известно, имеет и свои преимущества. И снова чувствую себя молодым. Живу, конечно, в страхе.
Иной раз своими капризами Лю загоняет меня в тупик. Стою, как Буриданов осел: что предпринять? Мне кажется, что я могу наперед просчитать все ее ходы и хитрости. Она не умеет лгать. Но что она прячет от меня в своем молчании?
— Послушай, — произношу я, снова стоя на коленях у ее постели, — как же ты можешь вить из меня веревки, вампирище…
— Ну, вот… Завтра едем домой.
Назавтра мы спим, пока солнце не запутывается в листьях платана. Затем, как обычно — кофе в постель. О вчерашнем вечере — ни слова.
У нее единственное превосходство надо мной — молодость. И чем дальше мы будем жить, тем больше у нее будет превосходства, а значит и власти. Мы это понимаем прекрасно, но как бы я ни старался, ничего изменить не смогу: время удаляет нас.
Целый день я делаю вид, что злюсь. Молчу. Дуюсь. Играя вечером в теннис, я делаю бешеные удары по мячу и она, конечно же, не в состоянии их отражать. Ей не удается принять ни одного мяча. Это ее огорчает. Несколько раз после таких смертельных мячей она зло смотрит мне в глаза, но я не останавливаюсь. Она бросает ракетку и заявляет:
— Завтра едем домой.
— Едем, — соглашаюсь я и знаю, что становлюсь занудой.
И, действительно, придя домой, она собирает сумки. Я помогаю. Жить нам осталось целую ночь и еще завтра несколько часов. Молчание, которое задает мне тысячу вопросов, длится до утра. Мои попытки как–нибудь исправить дело успеха не имеют. Наутро мы уезжаем. Дни, которые казались мне самыми прекрасными днями моей жизни, вдруг оказались потерянными.
— Мы могли бы еще два–три дня…
— Не хочу.
Еще только середина августа, лето в разгаре, а осень уже закралась в наши отношения. К тому же мне жаль потерянного времени. Просто бесконечно жаль.
Мы едем навстречу огромному красному солнцу, застывшему на венце горы. Справа — горизонт в молочно–лиловой дымке.
— Смотри, я дарю тебе и это солнце. Правда, красиво?
Она соглашается:
— Да.
Я съезжаю с верхней дороги еще раз, чтобы показать ей панораму моря и гор, освещенных утренним солнцем. Я уже не первый год любуюсь этим пейзажем. Выхожу из машины и приглашаю ее с собой. Она послушно идет следом по узкой каменистой тропочке.
— Держи, — говорю я, — и широким жестом обеих рук бросаю к ее ногам эти горы, это море, это солнце. Глаза ее сияют.
— Это мне?
Кому же еще! Она счастлива.
Затем мы идем к машине, она говорит:
— Поведу я.
Я не возражаю. Я рад, что у нас еще несколько сот километров впереди. А сколько дней или лет? Мы ведь не решили расстаться навсегда. Это произойдет потом, это ясно. А пока она рядом весело насвистывает модную мелодию.
Только часа через полтора мы въехали под крышу низких туч. Дорога была еще сухой. Затем пробарабанил легкий дождик, когда мы остановились еще раз, чтобы съесть дыньку. Тогда еще ничего не случилось. Она снова села за руль. Чтобы смахнуть дрожащие капли с ветрового стекла, достаточно было лишь нескольких ленивых движений «дворников». Конечно же, она устала. Мне нужно было бы настоять на своем: сесть за руль. Мы вырвались из плена дождя, кое–где сквозь тучи уже пробивались солнечные лучи, но асфальт был еще мокрый, а в тех местах, где вода нанесла полосы грязи — как мыло. На крутом подъеме — крутой поворот. Здесь надо бы ехать на второй, а ей захотелось преодолеть и эту преграду на бешеной скорости. Она прибавила газу, и мы, как волчок, завертелись вдоль дороги. Все произошло в мгновение ока. Я не успел сообразить, что нужно сделать. Она только вскрикнула, оборвав насвистывание. Встречный грузовик заскрежетал тормозами, но намыленная грязью дорога не держала машину. Мы бешено неслись навстречу друг другу. Лоб в лоб. Я успел рассмотреть этот лоб грузовика, крутой, мрачный, мощный… Ну и бычище! Устоять перед таким — об этом даже мысли не мелькнуло. Я видел только эту морду быка и не мог видеть выражения ее лица. Я зажмурил глаза и слышал только ее крик. Потом скрежет, лязг, звон… Когда я пришел в себя, долго не мог осознать, что произошло. Затем попытался повернуть голову. Она сидела, откинувшись на спинку сидения, с открытыми глазами. Солнце ласкало ее золотисто–каштановые волосы, ветерок шевелил их. Только загоревшее лицо было неестественно бледным. Словно с него смыли бронзу загара. Кровь, густая, рубиновая в лучах солнца, звонкая кровь кричала мне, что все кончено. Лунные камешки ожерелья, рассыпались, разбежались со страху…
— Лю, — выдавил я из себя, — Лю, ты…
Зачем? Чтобы убедиться, что ее уже нет?
Затем я услышал голоса и открыл глаза.
Все это мне только привиделось.
Произошло чудо: каким–то чудесным образом в тот момент, когда машины должны были столкнуться лбами, наш автомобиль, вращаясь, как юла, скользнул параллельно грузовику впритирочку, не коснувшись даже краешком, и благополучно сполз в кювет, как сани. Ни царапины, ни вмятины, никакого звона разбитого стекла и лязга металла. Ничего. Все произошло в мгновение ока, машина стояла, как вкопанная, задрав нос на дорогу, мы лежали в креслах, светило солнце, мы видели синее небо, из динамиков саксофон струил нежную мелодию нашей любви. Ничего не случилось. Я смотрю на нее: смугло–серое, просто черное лицо, желто–белые пальцы, намертво уцепившиеся за руль. Такой я ее никогда не видел. Тихонечко, чтобы вывести ее из состояния ступора, я кладу свою ладонь на ее руку, долго держу, согревая своим теплом, затем пытаюсь разжать ее пальцы, приклеенные к баранке. Мне это дается нелегко.
— Лю, — шепчу я, — все в порядке.
Она — мертва. Ни единого движения. Только едва–едва вздымается при вдохе грудь. Затем она плачет. Навзрыд, громко. Это — истерика, обычное дело. Я не успокаиваю ее. Я помогаю водителю грузовика взять на буксир нашу желтую легковушку, вытащить на дорогу, благодарю его, сую какие–то деньги, что вызывает его гнев и поток бранных слов. Наконец, сажусь на придорожный камень, и успокаиваюсь. Ничего не случилось!
— Ну вот, — наконец слышу я ее голос, — просто ужас…
Она тоже приходит в себя, и весь остаток дороги молчит. Курит. Я был свидетелем и, возможно, причиной ее неудачи, ее поражения. Такое не забывается. Ничего не случилось. Но что–то кончилось, я знаю. Все эти две недели, десяток прелестнейших дней моей жизни, я был, как ребенок, счастливейший раб своей любви. Я, не жалея сил, из кожи вон лез, чтобы ей было со мной хорошо. Я старался, как мог.
Теперь я долго не увижу ее.
Затем приду и скажу: «Привет».
Я принесу ей две смолистые сосновые шишки и скажу: «Ты забыла их в машине, держи. Я по–прежнему люблю тебя… ".
Завтра…
А сегодня опять льет, как из ведра. Осень настойчиво заявляет о своих правах. Пусть. Но ей никогда, никогда не забраться в наши души, ведь там всегда будет наш август.
* * *
Как я ни стараюсь, мне не удается укротить свое воображение. Оно настойчиво рисует радужные картины нашей встречи, независимо от моей воли. Я хочу снова слышать ее «Ну, вот…».
* * *
Смерть настигла ее, когда она насвистывала какую–то веселую мелодию, и наступила мгновенно. Перелом костей турецкого седла, обширное кровоизлияние в мозг. Я устал объяснять всем, как все было. Я готов волком выть от горя. Вою! Да, говорю я всем. Да! Я люблю ее и сейчас, и буду любить всю жизнь. И не ваше собачье дело, как могло так случиться… Так случилось. Так было. Было прекрасно. Да!
Говорят, в гробу она лежала, как принцесса. Как они могут такое говорить!
Я не ходил на похороны. Зачем? Ведь ее там не было.
Я вижу ее живой, юной, красивой…
— Зеленоокая бестия, — ору я, — ах, ты, заразище…
Ору!
Она не слышит.
Она никогда больше не улыбнется навстречу моему поцелую.
Сегодня днем по всей территории страны будет наблюдаться солнечное затмение, говорят, что наступит конец света и больше в этом тысячелетии никаких потрясений во Вселенной не предвидится.
* * *
Ну и дурак же! Как я мог себе всё это только представить! Ну и дурак же!
— Тебе кофе в постель, или?.. — спрашиваю я.
Лю сонно убирает с лица уголок простыни, открывает один только глаз.
— Хм!.. Ну ты и спрашиваешь!
Я стою с чашечкой дымящегося кофе у ее постели. Жду ее приговора.
— Сперва — «или», — говорит она, — а потом можно и кофе.
«Ну, вот…».
ДИКИЙ МЕД ТВОИХ ГУБ…
Я кладу два пальца как двоеперстие На биение пульса в яремной ямке И слова выходят кровавой взвесью Без остатка на серые полустанки. Мир сошел с ума. Он сошел с китов, Со слонов и раненой черепахи. Отшептать его не хватает слов, Черепов для заклятий и горьких ахов. Я сама — как взмах, как удар бича. Нас, таких нелепых в шаблон не втиснешь И не взвесишь страх на моих весах. Если только сам своей смерти свистнешь И пойдешь вдвоем, словно с верным псом, Вдоль по белой пустыне аршины мерить… …я вчера стучалась в твой старый дом. Я ошиблась эпохой, страной и дверью…— И что же стало причиной этой трагедии? — спрашивает Ли.
— Мало ли что может послужить причиной, — говорит он, — ревность, например…
И рассказывает, как было дело.
— Некий пасечник, — говорит он, — сорока семи лет, известный среди друзей, как человек благонадежный, беспримерно добрый, а в чем–то даже робкий и милый, совершил поступок. Пасечником он стал не шутки ради, а разуверившись в порядочности людей, которые его, деятельного и признанного ученого, окружали в течение многих лет. Будучи рафинированным интеллигентом, чудом сохранив честь и достоинство, он уже годам к сорока нажил себе преждевременные седины и неизлечимый тик, а в желудке язву и, решив, что с него довольно, сделался пасечником.
Он бросил все: шумный город, квартиру, бросил жужжащую по любому поводу жену, и со своей ученицей, страстно в него влюбленной, бежал, куда глаза глядят.
Пасека была огромной, стояла то среди луговых трав, то на лесной поляне, у них был дом, срубленный из запашных сосен, ружье, пес без привязи…
Однажды Клим поехал в город, шел дождь, он долго бродил по знакомым улицам, не решаясь зайти ни к себе домой, ни в НИИ, где прошли лучшие его годы и, когда уже ехал домой, сидя в автобусе, решил для себя — кончено! Переночевав на каком–то знакомом сеновале, он продрог до последней косточки, но не заболел и этому был рад: есть еще порох в пороховницах! Пришел утром домой веселым, до восхода солнца. Едва скрипнула половица, жена выскочила навстречу и со слезами на глазах бросилась ему на шею, успев даже в предрассветных сумерках рассмотреть в его глазах не то чтобы грусть, нет, какую–то желтую тень смирения.
А ей достаточно было уже того, что он снова рядом. От внезапно нахлынувшего счастья Клим крепко прижал к себе милое, молодое тело жены, закрыл глаза и сжал веки, чтобы удержать слезы радости, и нежно поцеловал жену.
— …дикий мед твоих губ… — затем тихо пропел он, не открывая глаз, а когда открыл, увидел сверкающее в первом луче солнца, словно улыбающееся и даже подмигнувшее ему задорным выблеском ствола, веселое ружье. В ответ он тоже подмигнул ему: еще поохотимся…
Сейчас он хотел казаться себе счастливым, сам не зная отчего, но с этих пор твердо знал — его время ушло.
В конце сентября хлынул по–настоящему осенний дождь, стало холодно, золотой лес вдруг почернел, и они решили, что пришла пора топить печь. Как обычно, они встречали зиму вдвоем, улья, правда, притеплить не успели, но дров заготовили вдосталь, запаслись вареньем, солениями… Чего еще не успели припасти — яблок. Свежие яблоки у них всегда были до весны ну, да не в этом дело…
Они уже лежали в постели у себя наверху, когда услышали лай собаки. Кто бы это мог быть? Они никого не ждали, вообще люди здесь бывали редко, хотя они всегда были рады гостям, но такие поздние гости, да еще в такую погоду… О том, что это были люди, а не какой–то там лось, кабан или, на худой конец, волк, они узнали сначала по рычанию пса, а потом и по голосам, сначала робким, тихим, затем раздался смех. В их спаленке было тепло и они лежали при открытом окне. Прислушались. Смех не утихал, не стихал и пес, затем позвали: «Э-эй! Хозяйка…». Клим встал, оделся и спустился вниз, она тоже оделась и, когда вошла в горницу, гости, трое, уже топали ногами, кряхтели, раздеваясь, мокрые до нитки, и в свете лампы казались привидениями. Их тени плясали на стенах, на потолке, ружье висело на гвозде, никому не нужное, а они называли Клима дедом, и, когда она появилась перед ними, кто–то промолвил: «Какая же у тебя дочка, старик!..». Он промолчал, а она стала накрывать на стол. Гости принесли с собой водку, пили, ели, шутили… Оказалось, что они геологи, и ни у кого из хозяев это не вызвало подозрения, только у Клима вдруг возникла мысль: на такие вот случаи брать с собой ружье в спаленку. Мало ли что может быть, хотя за все эти годы еще ни разу не приходилось прибегать к его услугам для устрашения или защиты от не прошенных гостей. Тот вечер прошел прекрасно, все были веселы, она заливалась звонким смехом, а Клим радовался ее веселью. Была даже музыка и каждый по очереди танцевал с хозяйкой, а Клим осмелился чуть ли не вприсядку пойти, и все смеялись и хлопали в ладоши, подбадривая его, смеялись до слез.
Утром гости ушли.
Ярко светило солнце, все вокруг сияло и радовалось, но лета вернуть было невозможно, как невозможно вернуть голым веткам утерянных листьев, и это–то и было печальным напоминанием Климу о том, что наступила и его осень. Зато в эту осеннюю пору весенней мимозой расцвела жена, и особенно это было заметно сейчас, утром, когда она смотрела вслед уходящим гостям.
Вскоре Федор, один из троих, вернулся. Не знаю, каким уж его ветром занесло — пришел в полдень. Прошло недели две с того дождливого вечера. Он сказал, что не сегодня–завтра должны подойти и те, остальные, и если хозяева будут так любезны, нельзя ли ему их дождаться. Ну кто же станет возражать? Пожалуйста!
До вечера они провозились на пасеке, готовя пчел к зимовке. Клим рассказывал, что это за удивительные люди–человеки эти пчелы, вот–де у кого нужно поучиться… Многому. Например, тому как…
Федор слушал.
Они поужинали, как давние приятели, ждали еще какое–то время и, не дождавшись, улеглись спать. Для Клима бессонные ночи давно кончились и теперь он спал, как ребенок, старик, а тут вдруг проснулся ни с того, ни с сего. Что–то приснилось? Нет, не может быть. Не может быть, чтобы…
Он был разбужен пустотой, которая лежала с ним рядом, холодной пустотой. Он что–то буркнул, повернулся на бок и готов был вернуться в свой сон, но вдруг на мгновение замер и, прислушавшись, дыхания жены не расслышал. Ничего не было: ни дыхания, ни самой жены, ни единого звука. Что он мог предположить? Мало ли что…
Он сел в постели, успокоил себя и пошарил рядом рукой. Постель уже остыла. Он выжидал, время шло. Что–то нужно было делать. Снова бухнуться в постель? Клим заставил себя встать, и как был в исподнем белье, прихватив фонарик, который всегда был у него под рукой, стал спускаться вниз. Сонный, на ощупь, не включая фонаря. Дойдя до половины лестницы, он удивился самому себе: ружье–то зачем прихватил? Привычка! И не возвращаться же. Он включил фонарь, просыпаясь на ходу, кашлянул и тихо, чтобы не разбудить гостя, позвал: «Жень…» Чтобы не разбудить гостя, он выключил фонарь, прислонив ружье к стене, оставил его в доме и в потемках, вышел на улицу. В свете луны, он был похож на привидение и, чтобы не испугать ее, тихо окликнул: «Жень…» Он улыбнулся, увидев себя со стороны, освещенного светом луны, в кальсонах, в сорочке… и крикнул еще раз, уже громче: «Женя!» В ответ взвизгнул только пес, а когда он позвал ее еще раз, услышал знакомый звук. Филин, подумал он и зажег фонарь. От этого светлее не стало. Он выключил фонарь и удивился: где же Женя? Войдя потом в дом, и набрасывая крюк на петлю он вдруг вспомнил, что когда выходил, дверь была заперта: крюк был наброшен и ему пришлось отодвигать засов, чтобы выйти во двор. Он усмехнулся собственной забывчивости и зачем–то включил фонарь снова, осветил потолок, подошел к гостю поближе. Зачем? В отраженном свете фонаря он увидел их распростертые молодые тела, молодые, сильные, уставшие от любви. Они спали, как и полагается спать молодости после дико излившихся страстей, утомленной сладостью заждавшегося поцелуя, молодости, сбросившей, наконец, оковы запретов, разорвавшей путы условностей.
Какое–то время Клим любовался: две буйные головы, два тела, четыре ноги… Он осветил тела, не освещая, правда, их лиц, прислушался к мирному дыханию. Он даже втянул воздух ноздрями, как молодой конь, чтобы ощутить этот сладкий запах свободы. И поставил фонарь на стол, свет — в потолок…
Сначала он выстрелил Федору в затылок. Счастливчик умер, не просыпаясь, поселившись на небе в сладком сне. Затем Клим поднялся наверх, не обращая никакого внимания на глухой, как крик сыча, вой жены, закрылся с ружьем и дождался рассвета. С первыми лучами солнца спустился вниз. Жены нигде не было, дверь была не заперта, но это его и не тревожило. Он как ни в чем не бывало пошел на пасеку и продолжал возиться со своими пчелами. Часа полтора спустя он подкатил тележку, погрузил на нее улей и повез к дому. Обычно он перевозил улья вечером, когда пчелы затихали, и ему всегда в этом помогала жена, но жены нигде не было. И он решил все сделать сам. Она сидела у крыльца, каменная. Вероятно, он ее не заметил, когда шел на пасеку, а теперь, увидев издали, продолжал свой путь, подвез тележку к самому крыльцу и, по ступенькам, закрепив веревками улей, затащил ее в дом. Как ему это удалось — одному Богу известно. Она сидела рядом, у крыльца, каменная. Солнце взошло, и было утро, какие бывают в осеннем лесу: звонкое, хрупкое, золотое. Пчелы уже были готовы к спячке, и будить их в такое время нельзя, даже в такое утро. Климу, чтобы завезти улей в дом пришлось закрыть все летки. Федор лежал с простреленной головой, кругом все было в крови, пятна на стене, на полу, а лучи солнца, пробиваясь сквозь редкую листву березки, шелестящей за окном, играли зайчиками на уголках белых простыней, не запачканных смертью. Климу не было до этого никакого дела, он кликнул жену: «Жень…». Как всегда. Она не вошла. Он позвал еще раз, как и ночью, но только пес отозвался, скулькнув, как и ночью, а потом протяжно завыл, чуя неладное. Она, каменная, сидела у крыльца. Он смотрел на ее шелковистые волосы, стоял рядом, понуро опустив голову, она не шевелилась. Затем взял в сарае инструментальный ящик, который смастерил собственными руками и зашел в дом. С полчаса можно было слышать удары молотка, затем все стихло, он снова вышел на крыльцо, она сидела в той же позе, только теперь уже освещенная солнцем, выглянувшим из–за угла дома. «Идем» — сказал он тихо и взял ее за руку. Она поднялась. Они вошли в дом. Клим уложил ее на тяжелый стол, на спину, затем крепко перехватил запястья рук веревками и их концы прикрепил к огромным гвоздям, вбитым в углы стола. Потрогал веревки пальцами, как струны: не сильно ли натянуты. Не сильно. Он остался доволен собой. Затем то же самое проделал с ее ногами, но веревки закрепил крепко. Она не сопротивлялась, смотрела в потолок, но не гордо, мертвыми стеклянными глазами, не роняя ни звука, ни стона. Когда с ногами было покончено, Клим стал легонько натягивать веревки, прикрепленные к рукам, легонечко, чтобы не сделать ей больно и, когда она была уже распята на столе, как на кресте, забил гвозди, загнув их так, чтобы они намертво закрепили веревки. Она лежала с открытыми глазами, ружье было наверху, а тело покойника теперь вовсю освещало солнце. Не знаю, как ему это удалось, но Клим поставил стол на попа, так, чтобы она, распятая, могла видеть своего Федора, который мук ее уже видеть не мог. Клим несколькими движениями разорвал на ней легкую рубашку, и теперь ее клочья не могли скрыть наготы молодого тела. Лиловые волосы были распущены, стекали по хрупким плечам, упрятав от глаз Клима ее груди, застилали ее лицо, глаза. Она молчала. Если бы она произнесла хоть слово, хоть стон, если бы вырвался из ее груди… Она молчала, и это молчание еще больше успокаивало Клима. Он смотрел на нее, ожидая чего–то, но она молчала, и никто не приходил. Ни друзья Федора, ни лесничий, никто. Только Рык выл и выл. Клим хотел снять крышку с улья, но она не поддавалась, затем он увидел, что она привязана к улью веревкой, удерживающей его на тележке, он еще какое–то время возился с узлами, а затем просто пнул тележку ногой, она чуть отъехала и остановилась. Это просто взбесило Клима.
— …дикий мед твоих губ… — вырвалось из него.
Он подбежал к тележке и перевернул ее, крышка не открывалась, он пнул ногой еще раз и вдруг услышал: «Клим…». Он замер. Не почудилось ли? «Клим» — услышал он еще раз и посмотрел на нее, оглянувшись. Она улыбалась. Боже милостивый! Он взвился вверх, как ужаленный, хотя ни одна пчела не вылетела из улья. Найдя нож, он полоснул лезвием по веревкам и крышка отвалилась, словно голова гильотинированного, а в воздухе заклубились пчелы. Опыт пчеловода бросил его к стене, он напялил на себя защитную маску, а жена, бедная женщина, уже извивалась, как в восточном танце, пчелы путались в ее роскошных волосах, жалили не жалея ее лицо, шею, грудь, тело…
Поднявшись по лестнице в спаленку, прихватив с собой ружье, Клим заперся и не выходил до вечера. Когда снизу стали доноситься крики жены, он закрыл уши указательными пальцами и так лежал до тех пор, пока все не стихло. Он сошел вниз, был вечер, но было еще светло и то, что он увидел, сначала испугало его, но он–то понимал, что пугаться нечего — жизнь кончена. Клим стоял перед нею в маске, пчелы поприутихли, ползали по полу, бились в стекла, зло жужжали еще, но ее оставили в покое. Она была обезображена до неузнаваемости: безглазое, тестообразное одутловатое лицо с вывернутыми наизнанку губами–пиявками, сизо–синими, скривленными в непостижимо уродливой улыбке. Молодые красивые жемчужные зубы, безукоризненной правильностью своих форм и жуткой белизной придавали улыбке еще больше ожесточения. Вместо глаз — затянувшиеся щелки, ресниц было не видно, только черные черточки–щелки, над которыми вдруг разросшиеся длинные и толстые брови. Что бросалось в глаза, так это совершенно не тронутый смертью нос. Ни смертью, ни пчелами. Красивый маленький нос, совершенно не измененный и поэтому казавшийся неуместным на этом страшном лице. Ну и груди, конечно… Они висели перезревшими, пребелыми арбузами, глядевшими на Клима разбухшими сосками–ежевичками. Клим даже усмехнулся, когда ему на ум пришло это сравнение, глядели на него безжизненным мертвым укором, ее груди… Он закрыл глаза…
— А на том берегу… — прошептал он, — незабудки цветут…
И больше не произносил ни слова.
Когда несколько дней спустя, наконец, появились друзья Федора, трое, крича во все горло и горланя песни, они удивились, что никто их не встречает: ни милая хозяйка, ни угрюмый старикан, ни Федор. Даже пес, бегающий с ошейником на шее, ни разу не гавкнул. Скуля и виляя хвостом, он подбежал и прижался к ногам. Они переглянулись. Затем вошли, осторожничая…
Клим уложил из ружья двоих. Третьему удалось бежать, и Клим не преследовал его. Потом пришли солдаты. Им не удалось с наскока разделаться с Климом, и они подожгли дом. Когда огонь добрался до спаленки, Клим выпрыгнул из окна и по крыше скатился наземь. Без ружья, без рубахи, босой…
— Ясно, ясно, можешь не продолжать.
— Они расстреливали его в упор, как затравленного волка, сделали из него решето…
— Да, это ясно.
— Он умер улыбаясь…
— Да–да…
— Словно счастье вернулось к нему.
Она на секунду задумывается, затем произносит:
— Ты никогда не был счастлив, ты просто не знаешь, зачем тебе жизнь…
— При чем тут я?
— Ты же про себя всё это рассказывал. Всю эту историю…
Он молчит, затем:
— Я знал, что ты догадаешься. Знаешь, когда тебя зацепили за живое, когда вдруг понимаешь, что прижат к стене и выхода нет — мир не мил… Я чудом выжил…
— Зачем?..
— Задай этот вопрос Богу. Ведь и правда — зачем?..
ВЕЧЕРНЕЕ ВИНО
От озноба укрыться нечем И зажмурясь, тебя я вижу. Режиссирует тени вечер. Где тут ставят свечки за рыжих? Я хотела вплыть павой белой В этот мир из злых лабиринтов. Быть здесь рыжим — шальная смелость, Очень сложно здесь выжить рыжим, Если нет у тебя арены. Мечен рыжий тавром ломким. Сердцем алым, внутри–рыжим. Освещаем собой потемки. Не пугайтесь! Однажды выжав Каплю рыжести в тусклой гамме Получаешь в мир рыжий визу. Подпишитесь кардиограммно.Их уговор о том, что он, наконец, расскажет ей там, на море, чем он в жизни занят, остается в силе даже здесь, на безлюдном камне, под лучами летнего солнца, при легком ленивом шевелении моря. И отсутствие на его шее галстука не дает ему права нарушать условия этого уговора.
Не долго–то усидишь на не прогретой ребристой поверхности камня, можно встать или лечь, или прыгнуть в воду. Он встает, видит сквозь прозрачную, как слеза, воду камни на дне, видит краешек матраса и ее волосы, ее белый лоб, очки, и прыгает. И плывет какое–то время под водой с открытыми глазами, но камней уже не видит, только пугающую своей бесконечностью зеленовато–желтую толщу воды. Страха нет, но хочется поскорее вырваться из этой безмолвной стихии к привычному небу, солнцу…
Когда он снова взбирается на камень и стоит перед ней, как мокрая курица, но, втянув живот и выпятив грудь колесом, она только улыбается, но очки не снимает. Несколько случайных капель неосторожной воды, упавших с его руки ей на живот, не в состоянии заставить ее изменить позу.
Удивительно, но он мерзнет. Он решает растереться полотенцем, чтобы не дрожать, но вскоре понимает, что никакими полотенцами эту дрожь не унять. Что это, вернулась молодость?
Тогда в августе… Стоп–стоп! Никаких воспоминаний! Он дал себе слово навсегда забыть все, что было в том августе. Пора, да, пора. Началось, правда, все гораздо раньше. Та, с кем они тогда бродили здесь по абрикосовым тропкам… Стоп! Он запретил себе всякую память о том, что ушло навсегда. Да, прошлое больше никогда не заставит его терзаться воспоминаниями об утерянном счастье.
Сейчас его ничто не раздражает и он рад этим минутам абсолютного покоя. Даже крики чаек не привлекают его внимания. Он видит ее стройное красивое юное тело, водоворот пупка, по–детски выпирающие ключицы, яремную ямку, ямки на щеках, когда она улыбается… Она улыбается. Этого ему вполне хватает. Чего еще желать? Он благодарен судьбе за эти мгновения счастья на камне.
Она не произносит ни слова, но он слышит ее вопрос: «А у вас?». На его обычное «Как дела?» она никогда не отвечает, только спрашивает: «А у вас?». И ему приходится самому отвечать.
Он не жалеет о том, что отказался от поездки в Йоханнесбург, хотя это была прекрасная возможность предоставить миру свою теорию. Он отказался от оваций признания. Зато он признан здесь и вполне удовлетворен тем, что располагается у ее ног на мокром полотенце. Без всякой дрожи в руках, в голосе. Он легко с этим справляется и вполне доволен собой.
Он, конечно, расскажет ей все, что обещал. Он давно ищет слушателя, кому можно было бы рассказать свою жизнь.
Розовые, ее розовые пятки! Господи, да она же совсем ребенок!
Она пришла к нему с каким–то совершенно никчемным, ничего не значащим вопросом, ответ на который не мог интересовать ее настолько, чтобы искать его в рабочем кабинете на исходе дня. Рыжая! О, Господи, да ты же рыжая! Как…
Тогда он только заглянул ей в ореховые глаза. Потом ночью они ему не давали покоя. На следующий день он обвинил ее в том, что ее глаза украли у него сон. Она ничего на этот счет не сказала, присела на край кресла и попросила найти книгу.
Какую еще книгу? К ним постоянно заглядывали, входили, задавали какие–то вопросы, выходили, сновали как на блошином рынке, всем вдруг он стал нужен, она сидела молча, глядя в окно, никому не мешая и не пытаясь изменить такое положение дел. Он заметил, что время от времени она с любопытством рассматривала его, а когда стал пиликать его телефон, сняла трубку и коротко бросила: «Он вышел», и телефон больше не звонил.
Из вопросов, которые ему задавали, и его ответов она не могла, конечно, представить его жизнь, тем не менее когда они, наконец, остались вдвоем, спросила: «Вам это интересно?». «Что?». «Ну, все это?». Он многозначительно улыбнулся, но она не поддержала его улыбки. Рабочий день кончился, все разбежались по своим делам, как тараканы, теперь они могли обсудить ее проблемы, но разговор не получался, он думал о чем–то своем, она ни о чем больше не спрашивала. Он предложил кофе, она отказалась. Зато ему удалось хорошенько рассмотреть ее: ничего особенного. Хорошенькая. Хрупкие плечи, тонкие руки, красивая шея, ключицы… Ничего примечательного. Профиль! Профиль, конечно, классический, высокий красивый лоб, губы, нос, подбородок — предмет восхищения Леонардо да Винчи. Или Рафаэля, или Эль — Греко… Но не Дали, не Сикейроса или Пикассо, нет, линии тонкие, чистые, вычерченные совершенством.
Шея! О, Господи, какая шея!..
Почему он решил, что она — дар судьбы? Он не мог себе этого объяснить. Всякая логика и попытки понять, в чем тут дело были бессильны. Вот так штука!
«Вам это интересно?» Что она, рыжая, может понимать в его интересах?
Позже, провожая ее до лифта и прощаясь, поскольку ему нужно было еще остаться на работе, он предложил встретиться завтра. Он поймал себя на том, что чуть было, не чмокнул ее в щечку, как близкую женщину. На это она улыбнулась, открыто глядя ему в глаза, и нажала кнопку. Двери лифта закрылись у него перед носом, и какое–то время он стоял в задумчивости, потом вызвал лифт и уехал домой.
Книгу он так и не нашел. Он не стал звонить своему другу–психологу, чтобы выяснить свое состояние, он понимал, что все дело в ней, в ней… Только в ней и ни в чем другом. И ни в ком.
Ночью он снова не спал.
На следующий день он ей сам позвонил рано утром и спросил, как называется книга. Чтобы что–то спросить. «Вы ее сунули в шкаф». «В какой шкаф?» Она согласилась приехать после пяти, чтобы найти эту злополучную книгу.
Вечером она не приехала, а когда он стал ее разыскивать по телефону, он не мог уже не думать о ней, она вдруг оказалась под капельницей. Потом была его пресс–конференция, на которой она снова спросила его о духометрии, и вот уже море плещется у их ног.
На следующий день с самого утра они спешат на берег. Завтрак наспех, яичница, кофе с бутербродами. Солнце, правда, уже давно взошло, зато они выспались. Поселок маленький, прилепился на склонах крутого берега, оглянешься — высятся розовые горы.
Этот безмолвный торжественно–праздничный рассвет с высоким небом и белесой далекой дымкой над гладью воды принадлежит только им.
Когда–то эта тропинка была усыпана мелкими камешками, на которых легко можно было поскользнуться, теперь ее упаковали в бетон, а в самом низу, где откос очень крут, сделали ступеньки с перилами из обычной трубы.
Он знает, где свернуть, где переодеться, где укрыться от отдыхающих, которые еще не рассыпаны, как пшено, по побережью. Кто–то, конечно, уже в воде. Штиль.
В правой руке у него пакет с полотенцами, фруктами и печеньем, в левой — ее рука. Надувной матрац, как обычно, на голове.
Им повезло: дожди ушли три дня назад, штормило, говорят, даже видели над морем смерчи, которые никому не причинили вреда. В этом и им повезло. Но с горечью приходится констатировать, что с каждым годом количество человеческих тел на квадратный метр побережья становится все больше и больше. Все меньше безлюдных и нетронутых мест. Люди размножаются как мухи.
Глядя на них со стороны, невозможно установить, кто они — отец с дочерью или пара? Но он–то точно знает, что его сын на десять лет старше ее. На одиннадцать!
Когда–то могучая рука бушующей природы бросила в воду горсть огромных каменных глыб, которые уже давно остыли и успели обрасти водорослями. Он знает среди них одно уютное место и тянет ее туда. С камня на камень, рука в руке, здесь не нужна спешка, требуется только его крепкая ладонь, которой она доверяет.
Места на камне не то, что на двоих — на пятерых хватит, но если двое его заняли, никто уже не смеет им мешать.
Он надувает для нее матрац, а сам усаживается на голый прохладный камень. Штиль, но поверхность моря едва заметно волнуется, слышится слабый плеск воды и крики чаек. Больше ничего не слышно.
Про себя он отмечает: день первый, утро. Она восхитительна!
И снова думает о том, что никто не может его здесь найти и разрушить эту прекрасную сиюминутность.
Она лежит на спине, глаза спрятаны под темными стеклами очков, но купальник не в состоянии скрыть от его взгляда глянец ее кожи, ребрышки на вдохе, ниточку пульса на шее…
Чувствует ли она этот взгляд?
Он теперь знает, что волосы на самом деле могут встать дыбом оттого, что ты обвинен в причастности к убийству. Но он никогда никого не убивал, он–то это знает.
А вот и первые голоса. Радостные задорные крики разрушающих прибрежную гладь воды тел, затем музыка из переносного магнитофона.
Наконец и она шевельнулась. Сначала приподнялась, опершись на локти, затем села на матраце и сняла очки. Какое–то время они смотрят друг другу в глаза, но не произносят ни слова.
Слов и не требуется.
По молчаливому обоюдному согласию ровно в полдень (солнце в зените!) они встают, чтобы сегодня уже не появляться на пляже. Можно ведь обгореть. Да, соглашается он, солнечные лучи жалят безжалостно.
— Персики!.. Хочешь персик?! — вдруг вспоминает он.
Ему нравится ее улыбка. Он очищает от кожуры плачущий персик и преподносит ей это южное чудо, как дар. Ее губы припадают к сочной сладкой мякоти, она даже глаза прикрывает от удовольствия, и ему все это нравится, нравится… Вероятно от счастья, он облизывает свои пальцы.
Видна узкая полоска берега, отдыхающих не много, но и не мало, а вон и магнитофон, ухают ударные, пищит гитара… Никто не интересуется твоим отношением к черному бухающему ящику на берегу.
Ее глянцевые голени…
Какая захватывающая жизнь!
Чтобы смыть с пальцев сок персика, ей приходится спуститься по камню до самой воды и присесть. Он видит ее белые колени, красивую шею, изогнутую цепь позвонков вдоль спины…
Вдруг она поворачивает голову, чтобы о чем–то спросить, видит его глаза и ни о чем не спрашивает.
Шлепая по самой кромке воды, чтобы не переступать через обнаженные тела, она идет босиком, шлепанцы в руке, он за ней, надутый матрац на голове, они возвращаются в свое жилище, чтобы известное время жить там по обоюдному согласию как пара.
На черный гремящий магнитофон он не обращает никакого внимания, хотя ноги так и чешутся садануть его пару раз пяткой. Чтобы убить навсегда. И если уж на то пошло, он бы убил и владельцев этого ящика.
Нет, он не убийца, это подтвердит каждый, с кем ему доводилось хоть однажды встречаться. Гуманист и добряк.
Сиротливо стоящая у подъезда его желтая «бээмвешка». Их квартира на седьмом этаже, вид не на море — на горы. Трудности с надутым матрацем при посадке в лифт, когда с ними непременно хочет подниматься улыбающаяся дама с глазами совы. С непременной болонкой на поводке.
После освежающего душа, который они принимают поочередно, хочется есть и они обедают, чем попало, вчерашние бутерброды, остатки курицы, помидоры, разрезанные на четыре части, какой–то напиток из пластиковой бутылки. Им лень куда–то идти, чтобы съесть чего–то горячего, хочется полежать, может быть, вздремнуть.
Постель, одна на двоих, замерла в ожидании, еще не смяты простыни, не измяты подушки…
Они лежат рядом с закрытыми глазами и делают вид, что спят. Ему грезится, что она думает о нем и он не может о ней не думать, но, когда он слышит ее ровное дыхание и, повернув голову, искоса смотрит на нее, обнаруживает, что она спит. Она спит. Спит!
Остается смириться с этим и попытаться думать о чем–то другом. О чем? Зачем он ее сюда привез? Зачем же?
Ему не кажется, что он ошибся в своем выборе.
Он бесшумно встает, идет на балкон, видит бурые, высвеченные солнцем жаркие горы, чахлые сосны у подножья, желтеющую зелень кустарника, слышит голоса внизу, которые не могут помочь ему ответить на его вопрос — зачем?
Когда она просыпается, он читает какую–то книжку, сидит в кресле и читает.
— Я спала?
Он продолжает читать.
Сладко зевнув, она потягивается, закрывает глаза и лежит неподвижно еще целую минуту. Ему кажется целый час: он успевает прочесть полкниги.
Молчание, тишина.
Его неожиданное «Кофе?» звучит дружелюбно.
— С удовольствием!
Она ищет расческу. Вскоре обнаруживается, что она потеряла и свою косметичку. Куда она могла запропаститься?
Затем они не идут на камни, а располагаются на прибрежной гальке, чтобы сначала поочередно бросать камешки в какую–то, плавающую недалеко от берега, белую дощечку (или картонку, или пенопластик).
Его снаряды ложатся кучнее, есть одно прямое попадание, вот уже два. Из десяти. А она не стремиться поразить цель.
Море уже не так спокойно, как это было утром, слышится шорох слизываемой с берега гальки, прибавилось и голосов, не слышно стона гитары и барабанного боя, и это отрадно.
Когда он неожиданно даже для себя называет ее чужим именем, она, не переставая бросать, поправляет его:
— Меня зовут Ю–ли–я, смотрите: Ю. Ли. Я.
Она произносит свое имя так, словно ножом отрезает от него по слогу. И ищет новый камешек, чтобы, наконец, поразить эту непотопляемую цель.
— Ю. Ли. Я. — Говорит он, так же разрезая ее имя на части, словно стараясь запомнить каждую из них и принять окончательное решение, какую же выбрать на будущее. Он выбирает: Ли!
Он называет ее именем, которое пришлось бы ей впору, как приходятся впору новые штиблеты или новое платье, которые не нуждаются даже в примерке — Ли!
Неделю тому назад он безошибочно называл ее Юля или коротко — Ю, и она охотно отзывалась. Теперь она возмущена? Она права — она не Гала и не Мона, не Клеопатра, не Таис и даже не малыш — Юлия! Как Цезарь! И поступай с этим как хочешь.
— Извини, — произносит он.
Она пропускает его извинение мимо ушей и, поскольку он тянется рукой к очкам, подает ему их.
У него вырывается вздох облегчения, который, конечно, не спасает его от промаха. Он берет темные очки и, не зная, что с ними делать, встает и идет в воду так решительно, словно собирается переплыть море. В солнцезащитных очках! Тем не менее, он останавливает свой выбор на Ли!.. Ли — как вскрик! Ей очень подойдет это имя. Эти орехово–рыжие глаза, эта улыбка. Этот звонкий голосок! Будь он Леонардо да Винчи…
Она не купается, хотя вода — сказочная. Завтра. Никакая обида здесь ни при чем, она вообще не умеет обижаться. Она считает, что обижаться — это удел горничных.
Солнце еще высоко, но и берег высок, его тень надвинулась на них, и они перебираются левее, где снова встречаются с солнцем. Но лучи уже косые и так же безжалостны, как и в полдень, ее кожа подрумянилась и к вечеру станет пунцовой. Это он знает по себе, поэтому и запасся какой–то дорогой волшебной мазью.
Мокрому холодно. Даже после растирания полотенцем он вздрагивает и надевает футболку. Отдыхающие потихоньку собирают вещички, тянутся к ступенькам, осматривают себя, ощупывают; еще один день отпуска прожит не зря. Потянуло дымком — неподалеку разложили костер. Небольшая компания собирается варить мидий.
Дома после душа они не знают чем заняться, и его предложение поужинать в кафе на открытой террасе встречается с восторгом. Да, она голодна, говорит Аль, ероша своими пальчиками с розовыми ноготками, мокрые темные волосы под теплой струей фена, и с удовольствием съела бы чего–нибудь. На ней только легкий бежевый халатик, комнатные тапочки и ничего больше. Нет, фен ему не нужен, его ежик высохнет в считанные минуты.
Теперь он пробует вино, закрывает глаза, затем кивает. Это тот, августовский вкус, он его помнит.
Малолюдно, никого, кто мог бы помешать их признаниям в любви. Но он не уверен, что это любовь, а она, по всей видимости, не готова выслушать его — нож как раз соскальзывает с упругой поверхности мяса и раздается только скрежет. Она улыбается. Он готов прийти ей на помощь, но она и сама справляется, так и вот так, и теперь отсылает очередной ломтик в свой очаровательный коралловый ротик. Признание приходится отложить, но невозможно отложить любовь, она с ними.
Зажглись фонари, но прохладней не стало, августовская теплынь, ее теплые плечи с майскими веснушками…
Он с удовольствием наблюдает, как она нежадно уплетает ломтик за ломтиком, орудуя вилкой и непослушным ножом.
Первые звуки саксофона. Уже вторник. Ли берет фужер с вином и делает первый глоток: ммм!.. Она не лишена чувства детской простоты. «Смотрите» — ее любимое словцо, которое она произносит на каждом шагу.
Она не свалилась ему на голову, как снег, она сошла с небес. Он в нее еще не влюблен, нет, просто ему с ней хорошо, он полон молодости, юного звона. И только, и только… Их будущее? По этому поводу он сказать ничего не может.
Теперь и он отдает должное мидиям, предпочитая роскошному салату из морской капусты острый соус и какую–то местную с незапоминающимся названием зелень. Как и два года тому назад оно напрочь выветривается из памяти, хотя он до сих пор помнит, как та женщина из недавнего августа назвала его психом. Разве? Это было несправедливо с ее стороны. Жаль, что она не разглядела в нем…
— Вино из одуванчиков, — улыбаясь, произносит Ли и делает сразу несколько глотков.
Он только любуется ею, оставив в прошлом все сожаления о каких–то несбывшихся желаниях.
Вдруг аплодисменты! Она поворачивает голову, и он видит ее профиль, лоб, нос, приоткрытые губы, шею… Не поворот ли ее головы встречают аплодисментами танцующие пары? Нет, они аплодируют друг другу и музыкантам. Этой традиции уже много лет.
Он не находит повода, чтобы начать свой рассказ о жизни, которая, он надеется, ей интересна. С чего начать? Не со дня же своего рождения? В июне ему исполнилось… Боже мой, как летят годы!
С мидиями покончено! Да, было вкусно. Она готова даже облизать свои пальчики. Сыта ли она? Да! Да, конечно! Спасибо–спасибо!..
Нельзя обвинять только вино в том, что они вдруг встают и, вплетая свои движения в звуки музыки, припадают друг к другу в танце, впервые прислушиваясь не только к звукам саксофона, но и к стуку собственных сердец. На каблуках она достает ему до плеча. Ее волосы щекочут ему губы, а его руки крепко держат ее маленькое податливое тельце, живущее ожиданием чуда. Какого чуда?
— Тебе хорошо? — шепчет он.
Она молчит, он чувствует только, как едва заметно качнулась ее голова, отвечая на вопрос, и волосы прошептали его губам: да.
Что, собственно, он может рассказать такого, что привело бы ее в восторг? Зачем? Эти вопросы застают его врасплох: в самом деле — зачем? Разве он хочет ее поразить? Почему он выбрал ее, почему она согласилась с ним ехать, ведь они знакомы–то всего ничего, они еще не выучили имена друг друга?
Чернильные сумерки, ярче горят фонари, он видит мошкару в ярком свете, нарядных людей в белом, много молодежи, каменную кладку, затем снова танцующих рядом, музыкантов, стойку бара и официанта, разговаривающего с барменом… Его губы купаются в ее волосах, ее теплая кисть в его большой надежной ладони…
Но здесь случаются и землетрясения, камни, как горох, сыплются с гор и приходится неделями разгребать завалы. А зимой серо и тоскливо, безлюдно, что называется пусто, снега почти нет, поэтому горные вершины никогда не сияют, слепя глаза, белизной, не алеют по утрам румянцем и не золотятся вечерним солнцем. Зимние дожди тихи, дни длинны, унылы и серы, а ночи промозглы и безнадежно бессонны.
Ничто так не сближает, как музыка.
Он что–то шепчет ей на ухо, произносит слова, которые ничего не значат, он даже не прислушивается к ним, несет привычную сказочную чушь, от которой ее кожа покрывается пупырышками, он чувствует это своими крепкими нежными пальцами и продолжает шептать и шептать, глядя невидящими глазами в черную пустоту южной ночи. Для него эта роль привычна, и он прекрасно ее играет. Соблазнитель юных сердец? Да нет. Нет, ему тоже хорошо. Впервые за долгие годы абсолютного одиночества. Он признается в этом себе и этим признанием делает ей больно. Он чуть было ее не раздавил, на что она только заглянула ему в глаза.
Все когда–нибудь кончается, умирает и эта музыка. Внезапная тишина разрушает их объятия, но обещает рождение новой музыки, новых надежд… Вдруг аплодисменты, аплодируют и они друг другу. Да, этот танец достоин похвалы.
Они усаживаются за свой столик и какое–то время молчат. Полумрак, который здесь царит, не в состоянии скрыть румянец на ее щеках, глаза тоже блестят, но им нечего сказать друг другу, потому что сейчас, они молча признают это, никакие слова не нужны. И официанту, подающему десерт, нет необходимости приходить ей на помощь своим «Это вечернее вино вам к лицу».
— Выпьем еще? — предлагает он, когда официант наполняет фужеры.
— Охотно.
Ее волнистые пышные рыжие волосы, он вдруг тянется к ним рукой, коротко прикасается и убирает руку — знак душевного расположения и признательности.
Они не чокаются, просто, глядя в глаза друг другу, чуть приподнимают фужеры и отпивают по глотку.
Так вот в чем смысл жизни! Какой прекрасный, наполненный теплом и светом прожит день!
Когда они бредут домой мимо спящих домов (здесь нет улиц в привычном понимании — дома разбросаны по побережью, как спичечные коробки, хотя в адресах улицы существуют), он не думает о том, как пройдет эта ночь, он только обнимает рукой ее хрупкие озябшие плечи, прижимая к себе и готов нести ее на руках, жаль, что вот уже и знакомый подъезд, их уютная квартира на восьмом этаже — временное пристанище.
Ничто так не сближает, как уют квартиры. Снова его губы купаются в ее волосах. Они не пьяны, они просто не в состоянии сдерживать себя от натиска судьбы.
Утром:
— Смотри, а вот и расческа!
Она находит ее в книжке.
— Ты…
Ее первое «ты».
Ничто так не сближает, не роднит…
Неделю спустя он все–таки звонит ей из Йоханнесбурга.
— Привет. Как дела?
— А у тебя?
Потом звонки раздаются из Торонто, Антверпена, Лиссабона и Мельбурна, откуда–то еще, она даже не знает, в каких странах эти города, потом она ждет его на каких–то вокзалах и в каких–то аэропортах, на каких–то причалах и остановках…
— Слушай, я звоню тебе уже целый час!..
Это звучит как угроза.
— Ты где пропадаешь!? — спрашивает он.
— Я?! — она удивлена таким тоном. — Ах ты Боже мой! Я как всегда дома. Где же мне еще быть? Я как всегда жду тебя. Вот уже много лет…
— Прости, — говорит он, — прости, пожалуйста…
— Ты когда прилетаешь?
— Сегодня ночью…
Он так и не успевает, не находит времени, чтобы, наконец, рассказать ей всю жизнь. А если бы ему удалось это сделать, он рассказывал бы теперь о мидиях, о том камне, о ее веснушках и ключицах…
— Привет, — говорит он, влетая в переднюю, — вот и я…
И она тоже бросается ему на шею.
— Ой, — шепчет она, — ты такой колючий… Теперь осторожно…
— Что? — он не понимает, зачем ему осторожничать.
— Да, — говорит она, — теперь — да…
— Правда?!!
— Теперь — да…
‟Да» — это теперь тоже его жизнь…
— Я хочу сына, — говорит он.
— Все, что захочешь…
Рыжая!..
В ЖЕРЛЕ ЭТНЫ
Мне сказали — твой бездонен ад. Бросишь камень — не услышишь эха. Это рай причудами богат. В ад впускают нас не для потехи. Мне сказали — отмоли грехи. Мне сказали — сразу станет проще. Отрекись. Но ангелы глухи. Боги в кущах. Или, может, в рощах. Каждый мне советовать был рад. Только дважды я не выбираю. Если дорогих мне выбрал ад — Я не предаю во имя рая.В Москву они заскочили на пару дней — повидаться с Россией. Уже в печенках сидят эти мельбурны и гонконги, гонолулы и антананаривы! От карибов и гаваев просто тошнит… Разве что только Вануату, да–да, вот только Вануату пришлась по душе…
Они прилетели в Шереметьево последним рейсом, был поздний вечер, тем не менее жара была адская, и пока добирались домой на Рублевку на своей желтой «бээмвешке», расклеились еще больше. В машине еще ничего, а окно откроешь — коса жара, и тут же поднимаешь стекло — спасаешься кондиционером. Да, жары пришли и сюда. И эти пробки, эти вечные километровые пробки!.. Устали? Конечно! Даже есть не хочется. Спасаешься минералкой… Даже вечером, было уже часов девять, солнце исчезло в мареве, и жара не спадала. Июльская Москва — это ад, а как раз был конец июля, тридцать первое, синоптики предрекали грозу, но где эта гроза? Пекло! Ад!..
Устали? Еще как!..
Завтра август, и лето (какая досада!) уже заметно качнулось к осени.
Ее предложение «Махнем на дачу!» принимается с восторгом. Он даже включил поворот, чтобы развернуться.
— Умница, — говорит он.
— Ага. Хвали меня… Только на минутку заскочим домой, — говорит Юлия.
— Ладно…
Ему приходит в голову:
— «Хороша в июле Юля…».
— Просто ах! — говорит она, — пальчики оближешь!..
Они ведь хотели и машину сменить на свой внедорожник: не очень–то разгонишься в «бэхе» за городом по российскому бездорожью.
Она, не переставая, звонит: «Мы в Москве!.. Мы в Москве!.. Увидимся… Нет, не беременная, еще нет…». Она рада дому! Она так рада!..
— Тебе привет, — говорит Юля.
— Угу…
Дома она раздевается догола и бежит к открытому бассейну: бух! Она — как рыба в воде! Он тоже плюхается: бултых! За день вода нагрелась, и теперь как остывший чай. Высвеченная светильниками и радующая глаз вода немыслимой бирюзы, но не дающая никакой свежести.
— Остаемся? — его вопрос.
— Нет! Едем, едем!.. Я только…
— Ты куда?
— Я посмотрю почту. А ты одевайся.
И мокрая она мчится наверх по деревянной винтовой лестнице (точная копия модели ДНК!), на самый верх в свой кабинет.
— Ладно, — повторяет он, и ложится в воде на спину.
Ей не терпится заглянуть в электронный ящик: что он там еще написал? Если бы не эта изнуряющая работа по упорядочиванию мира… На бегу она успевает промокнуть только руки о какую–то занавеску. За две недели она не смогла заглянуть в свой ящик! Жуть!.. Некогда! Он бы не смог удержаться, думает она, бегая теперь по клавиатуре своими пальчиками с розовыми ноготками. Она кончиками ногтей читает эти письма, находя их забавными. Что сегодня, сейчас? Не прислал ли ей тот далекий писака, которому вздумалось вдруг накрапать о ней целый роман? Да–да, целый роман! Во всяком случае, так он обещал. А что?! Да она достойна не только его пера, но и пера Гомера! Ну, по крайней мере, пера Бальзака! Ей нравится, скажем, это неоспоримое утверждение этого загадочного писаки о том, что без ее плодотворного участия какая–то там Пирамида совершенства не может быть выстроена. Какая Пирамида? Какое совершенство? В наш гибельный век?! Ну и еще нечто миленькое, сладкие подробности, рожденные лишь его воображением, которые ее только веселят. Ах, льстец, ах, засранец!..
Обо всем этом он ничего не знает, и не может даже догадаться, что ей приписывают великую роль великой женщины…
Величественной!
Такие роли под ногами не валяются!
Клеопатра! Не меньше!..
Она даже обнаженная (лучше — голая!) чувствует себя Клеопатрой!
— Мы едем? — его новый вопрос. Он давно одет и стоит у двери.
— Счас…
Ему ничего не остается, как любоваться шелковой цепью ее позвонков.
— Мне холодно. Принеси, пожалуйста, халат, — просит Юля.
Он приносит и халат, и кружку горячего, с чайной ложечкой коньячку прегорячего чая, и махровое полотенце, которым сперва нежно промокает бисер капелек на ее плечах, на спине, волосы, а затем кутает это беспримерное божье творение в желтый махровый халат.
Она благодарит лишь кивком головы, не отрывая глаз от экрана.
Каких–то три недели тому назад (4‑го июля) ей рукоплескала не только Америка, да, весь мир отмечал эту дату: ее рождение…
— Тебе не терпится узнать…
— Ага…
А он, словно угадывая ее мысли, спрашивает:
— А кто еще родился четвертого июля?
— Я! — восклицает она. — Разве ты не знаешь: я и Америка!
Она, оторвавшись от экрана, бросает на него короткий взгляд.
— Кто–то там еще, — говорит она, но разве тебе не все равно кто?
— Нет, — говорит он, — ну так… все равно…
Ее же волнуют совсем не те, кто родился вместе с ней, ее волнует… Это — не обсуждается. Что, например, значит это его «Totus Tuus»? «Весь Ваш» или «Весь Твой»? Твой! Мой? Не знаю… Но звучит неплохо: «Туз»!
Неужели этот Tuus тоже пузастый?! Она ведь терпеть не может этих назойливых пауков, лоснящихся салом губ… с влажными подмышками!
«Тройка, семерка, туз»… «Ночь, улица, фонарь, аптека…»… «А Германа все нет…».
Она, к сожалению, не может ответить и на это письмо — некогда!
Ах, если бы не эта нужда (она хочет иметь свой дом и в Лондоне. Ведь только ленивый, считает она, не имеет сегодня свой дом в Лондоне), она бы давно забросила все свои съемки о каких–то озоновых дырах над Антарктидой, о каких–то стремительно тающих и наползающих, как татарская орда, ледниках, о каком–то исландском вулкане с таким бесчеловечным названием (Эйяфьяллайекюль!), парализовавшем своим непроглядным пеплом все небо Европы, о новом всемирном потопе… Собственно, о начале конца… И давно бы перебралась жить в этот сказочный виртуальный мир какой–то там Пирамиды, выстроенный этим славным, по уши влюбленным в нее, милым малым из какой–то там провинциальной глуши…
А что?!
Если бы не эта нужда (она хочет стать миллиардершей и снять (хрустальная мечта!), снять, наконец, свой эротический фильм… Не какую–то там мазню с голыми сиськами и задницами, которые уже застряли в зубах кислой капустой, залипли в порах, застили взоры, а настоящий: эротика — как акт совершенства! Нет, не акт — как принцип! Как путь совершенствования. Да, как Путь! С пупырышками по всей коже, с рвущимся на лоскутки от радости сердцем, с выдергиванием из тебя самых сокровенных жил жизни, наконец, с сумасшедшинками, да–да, с умопомрачением во всей твоей голове…
Если бы не эта жуткая нужда!
Чтобы облетать мир на воздушном шаре, сыпля на головы деревенских ротозеев (божий дар!) охапки цветов и конфет, и халвы, и разных там куличей и пряников, и, может быть, даже соленых орешков для пива, чтобы ночью, устав до изнеможения, засыпая, читать свой молитвенник и потом спать только в новом беспощадно белом, как чаячий пух, постельном белье…
Если бы не эта жуткая беспощадная нужда!..
— Эгей, ты слышишь меня? — спрашивает он.
— Ага…
Он не заглядывает через плечо на экран, ему ведь все равно, кто там что–то там ей пишет. Мало ли на свете мужчин, у которых она вызывает восторг. Это чистой воды вранье, что она влюбляется в первого встречного!
— Жду в машине, — говорит он.
— О’key!.. — снова кивает она, шумно отпивая очередной глоток.
Проходит еще целый час, прежде чем она усаживается на соседнее сидение.
— Знаешь, — говорит она, — тут такое дело…
— Тебе не холодно? — спрашивает он, чтобы избавить ее от необходимости делиться какими–то там своими тайнами.
Она благодарна ему за это:
— Хочешь — поведу я.
Наконец, им удается выбраться на Ленинградский проспект!
— Теперь руль мой, — говорит она.
Рулить и разруливать — ее страсть.
— Пожалуйста! Что–то случилось?
— Ничего. А что?
— Ничего. Так…
Машин, конечно, гораздо поубавилось, и можно ехать быстрее. Он косится на спидометр: 120.
— Ты спешишь? — спрашивает он.
— Нет. А что?
— Ничего.
— «Рест», — говорит она, — что за имя!? Ты не находишь его слишком каким–то хрустящим что ли? Таким трескучим?..
Он находит ее профиль прекрасным! Затем тянется губами и находит ее маленькое ушко, которое печатает нежным поцелуем.
— Ну–ну, не мешай, ты рискуешь… Видишь, — она бровью кивает на спидометр, — уже сто тридцать…
Только к двум часам ночи их «Лексус» упирается своими белыми глазами в сиреневые ворота. Охрана не спит:
— Юлия! Вы ли это?! Я не верю своим глазам!..
— Мы, мы… Привет, Санек, здравствуй… Все в порядке?
— Какие сомнения?
— Макс, Макс, здравствуй, родной!.. Тише, тише. Не прыгай ты так, не лижись же!.. Ты меня еще помнишь?
Наконец, лес! Леслеслеслес… А этот воздух, а эти звезды… Родина! Это для нее ее небо вызвездило свой черный купол лучистыми шляпками золотых гвоздей! Небо давно ждет встречи с ней!..
Дальние зарницы, но еще тишина… Тишина такая, что слышно, как на озере спят, посапывая, кувшинки (лилии?).
Никакого грома, как сказано, еще нет и в помине, только редкие дальние зарницы…
Они приняли душ, выпили вина и уже, проваливаясь в сон, Юля спросила:
— Как ты думаешь, Клеопатра была счастлива со своими Цезарями и Антониями?
— Спим, — сказал он, и укрыл ее оголенное плечико своей теплой ладошкой.
Потом какое–то время царствовала тишина. Ни шороха, ни звука. Их разбудил близкий удар грома. И тут же вспышка света озарила спальню. Не открывая глаз, она только крепче прижалась к нему, натянув простынь на голову.
— Закрой окна, — чуть слышно попросила она и, свернувшись калачиком, продолжала сонно дышать, — и хвали меня, ладно?..
Гроза приближалась. Он встал и закрыл окна, опустил жалюзи, стало тише, но раскаты не стали глуше. Гроза приближалась.
— Дождь? — спросила она.
— Дождь, — сказал он, укладываясь рядом, — слышишь, как весело бурчит и булькает в трубах? Такой ливень!..
— Ага, слышу. «А вы ноктюрн сыграть могли бы…», — шепчет она.
— Что–что? — не слышит он. … «на флейте водосточных труб?».
И еще этот Жора, думает она, уже проваливаясь в свой сладкий сон, этот ненормальный и непотопляемый Жора с его: «Я — нормальный!». Что он нашел в этом Дюрренматте, в этом его «Двойнике»?
Спать, спать… Ах, как славно оторваться от этой грешной земли!..
Вдруг звонок, телефонный звонок. Я слушаю…
— Юсь, — вдруг сквозь сон слышит она чей–то совершенно чужой встревоженный голос, — ты в порядке? Ты где? Там у вас такое… В метро… Ты где?..
Она не успевает ответить. Следующий удар был такой силы, что она, испугавшись, вздрогнула, ее тельце вмиг сбилось в тугой мышечный ком, и она, вжав голову в плечи, в инстинктивном порыве поиска защиты, еще плотнее прижалась к нему.
— Что опять?! Даже здесь?!
Он тоже потянулся рукой к пистолету, а другой, ухватив ее кисть, уже готов был сдернуть ее с постели… Но нет, слава Богу, нет, это только гроза!..
— Нет, — сказал он, — это гром, гроза…
— Слава Богу, — сказала она, и ее тельце снова сладко вздохнуло.
Теперь сверкало так, словно рядом работала электросварка. Он обнял ее крепко, мол, я здесь и тебе нечего бояться. Было страшно? Да нет! Нет же, нет: гроза как гроза, обычное летнее дело. Страшное же произошло минутой спустя. Она вдруг вырвалась из его объятий и, схватив на ходу лишь свою легкую, как тополиный пух, шелковую накидку, вдруг молнией бросилась к двери и, распахнув ее настежь, вдруг выскочила на крыльцо. Вдруг! Вне себя (он еще не знал ее такой!) от какой–то пугающей радости! Это было так неожиданно! Он сидел на постели голый, ошеломленный и только смотрел, не веря собственным глазам. Затем голый бросился следом. В слепящих высверках он видел, как она, на ходу облачаясь в легкий бесшумный и невесомый шелк, мчалась к озеру. Лило как из ведра. Их смелый славный Макс забился в будку, весь дрожа.
«Стой!» — кричало все его тело, но крика не было. Его рот был разодран в этом немом крике, но не слышно было ни звука. Только крик Неба, громы, остервенелые бешеные громы… И молнии… И молнии… Одна за другой. Словно был парад этих злых и неистовых молний. Будто Небо устроило фестиваль этих молний. С фонтанами и фейерверками! Карнавал стихий, праздник дикой природы…
Было страшно? Еще как!..
Он настиг ее на берегу озера, она взобралась на тот камень, где обычно любила сидеть русалкой, а теперь стояла на нем, встав на цыпочки в своей насквозь промокшей накидке, голова задрана вверх, руки выпростаны в небо, а пальчики, ее хрупкие сильные смелые пальчики с розовыми ноготками, растопырены, как корни молодых деревец, безнадежно пытающихся врасти в это густо недружелюбное даже злобное небо. Он смотрел на нее снизу вверх безумными глазами: Господи, что же это?! Она сошла с ума? Он не видел ее глаз, но знал, что они широко распахнуты. Он знал этот ее безумно–вожделенный взгляд, этот крик этих черных, как эта ночь сумасшедших глаз. Умопомрачение?.. В бесконечных высверках (словно фотовспышки густых толп папарацци!) он видел в таком ракурсе ее ноздри, две черные жирные точки (точно жерла двустволки!), волевой уголок подбородка (как клин), туго натянутую выгнутую (как древко лука) тонкую лебединую выю, проступающие под мокрой накидкой соски (как две вызревшие морошинки), угадывающиеся водоворот пупка и кратер лона, и эти дельфиньи бедра, и голые коленки и ноги, и голые ровные бесконечно длинные, убегающие вверх, смелые ноги (как …). Он не успел найти подходящий эпитет так как грохнуло так, что, казалось, лопнули барабанные перепонки. Столб огня был такой мощи, что, казалось, воспламенился фонтан нефти, брызнувший из–под земли. Молния угодила в сосну на том берегу, и теперь дерево горело, треща и пылая точно огромный факел, под проливным дождем.
— Да, да!.. — услышал он ее крик в наступившей вдруг тишине, — я слышу!..
Вот! Вот!!! Это Его руки, это Его почерк!.. Так вот чьи письма она читает без единой запинки, не отрываясь, взахлеб, одним залпом!..
Лило по–прежнему как из ведра.
Этот високосный год выдался баснословно щедрым на грозы. Угрозы с неба сыпались, как перезрелые персики. Особенно досталось северной Африке. Юля вернулась оттуда с синими полулуниями под глазами, с запавшими щеками, но такая счастливая: «Я догнала их, достала!..».
Да, эти громкоголосые грозы, которые голосят не только сейчас над ними, но сотрясают всю землю, стучась в двери сердец этих двурукодвуногих существ: стойте! Хватит!.. Те глухи… Олухи! Да, эти грозы, этот крик… Юля хочет многократно усилить этот стук, этот крик, сделать из него грохот, канонаду… Ор на весь мир!..
Он не успел испугаться, и только обреченно смотрел то на нее, то на дерево, то на свои тянущиеся к ней руки, готовые в любую секунду принять ее, словно застывшее в мраморе, но живое любимое тело. Озаренная теперь светом горящей сосны, она казалась не мраморной, а золотой. Да–да, думал он, она достойна сиять всем своим золотом рядом с золотым Зевсом самого Фидия.
Он был рад и горд этим сравнением, этими мыслями: да, достойна!
Гроза уходила, дерево продолжало гореть, дождь лил… Теперь сверкало там, за озером, а по небу ангелы все еще катали свои бочки, большие и маленькие, и совсем далекие, крошечные. Гроза ушла… А ее глаза все еще сияли, блестели, как те звезды над Джомолунгмой, когда они… Джомолунгмой или Килиманджаро… Он тотчас вспомнил ее нрав. Ведь она, ненасытница, просто гоняется со своей камерой (Nikon?) наперевес, просто гоняется на своем джипе, на скоростном катере или тихоходном одноместном (ей рядом никто не нужен!) самолете за этими смерчами и тайфунами, за этими огнедышащими вулканами и цунами по всему свету. Со своей кинокамерой наперевес! Она считает, что только там, в воронке смертоносного смерча или в жерле вулкана, или в грохоте лениво ползущего по ущелью самодовольного ледника или в многомиллионной толще крутой волны можно расслышать крики этой угасающей на глазах планеты, только здесь можно заглянуть в глаза ужаса и заснять этот ужас, только здесь можно собственной кожей ощутить жар разгорающегося пожара, сотворенного этим жутким и уродливым чудовищем, неразумно прозванным Человеком разумным (Homo sapiens).
О, ублюдки! О, олухи!..
(Разве она у нас хомофоб, человеконенавистник?).
У нас!
(И уж никакой она не хронофаг! Вот уж нет! Хронолюб! Да! Только ею и надо заполнять свое время!!!)
Только так можно, считает она, подслушать этот разговор Неба с Землей и расслышать в нем тайну бытия, его суть, чтобы тут же, тотчас, нести эту тайну людям, записать ее золотом на гранитных скрижалях, на дискетах и дисках, навеки выкалить, высечь ее для потомков, разжевать эту кашу сути сейчас, признать ошибки их, потомков, придурошных предков — жалких ублюдков с тем, чтобы те, потомки, растрощили вконец, наконец, эти вечные грабли невежества и скупердяйства, этого утлого ума недоумков, да–да, эти жалкие грабли утлого ума… Этот «золотой миллиард», что называется, достал уже всех!..
Он тотчас вспомнил Сицилию… С разбуженной Этны ее невозможно было стащить: она слушала этот божественный рокот недр, ловя в нем биение большого сердца планеты, вдыхала полной грудью запахи бурлящей огненной крови, рвущейся с клекотом и жаром из разодранной раны кратера, уклоняясь от летевших в нее раскаленных глыб и снимала, снимала… А на своем скоростном катере она пыталась распороть, рассечь надвое десятиметровую волну цунами… Напрочь! Ей хотелось увидеть ее развалы и еще испытать свою смелость и силу своего владычества над стихией. Ее связали тогда скотчем, скрутили, склеили, спеленали и едва успели запихнуть, дергающуюся в пляске святого Витта, в вертолет. Она ором орала: «Разлепите меня!.. Расклейте!.. Разрежьте меня!..».
Ей заклеили рот!
Разрезали ее только в воздухе, когда вертолет, сделав вираж над кратером, взял курс на Фьюмефреддо–ди–Сичилия. И едва не потеряли ее: она силилась выброситься с камерой в свой долгожданный кратер!
И она бы прыгнула! Со своей непременной камерой. Если бы не Леша Карнаухов, успевший поймать ее за ремень камеры, которую она не могла, не имела права терять. Как же она без камеры?! Кто она?! И зачем она нужна этой злой горласто–клокочущей Этне без камеры?!
Потом ей рот разлепили. Вся в слезах, совладав с собой и уняв дрожь тела, она произнесла одно только слово:
— Страусы…
В ярости от бессилия. Было ясно: для нее это был удар, шок, за которым последовал срыв… Истерика? Нет! Какая истерика — жуткая обида. Жуткая!
Ее руки все еще дрожали, они просто чесались растерзать, разметать этих своих близких и родных, вдруг наложивших в штанишки трусливых операторов на мелкие кусочки: ах, вы мои бедные зайчики!..
Секунду спустя, собравшись с силами и совсем успокоившись, она добавила:
— Всем вам песка всех пустынь мира будет мало, чтобы зарыть в него свои дыни…
Она просто махнула на них рукой.
— Ты ненормальная!..
— Я — нормальная! Это вы все тут…
И потом–таки прыгнула. Прыгнула!.. Присыпив их внимание этим укором (Страусы…), она вдруг резко вскочила и молнией кинула себя в проем вертолета… Молнией! Никто даже пальцем не успел шевельнуть, чтобы удержать ее. Ступор и ошеломление превратили всех в статуи и они, каменные, сидели еще какое–то время, и когда кому–то приползла–таки в голову мысль о ее спасении, было уже поздно. Правда, кратер Этны был уже далеко позади, вертолет уже плыл над морем… Ее выловили рыбаки, она потеряла сознание… Но не камеру!
— Ты же могла погибнуть?
— Но зачем же так жить?!
Через три дня она уже была на ногах, и все эти три дня ее била депрессия…
Чему же она сейчас так загадочно радуется?
Она мягко сошла с камня в его объятия, он вынес ее из озера и уже подносил к калитке, когда она попросила поставить ее на ноги. Он обнял ее сзади за плечи, но она мягко и уверено–внятно высвободилась из его объятий (так высвобождаются от не в меру тесноватого платья) и, устремив свой взор к Небу, что–то там тихо шептала. Он ждал.
— Юль, ты в себе? — спросил он, когда она заглянула ему в глаза.
— Ну, привет! Где же мне быть?
Тот, Орест, называет ее Ли. Или Юсь… Юсь! Юсь ей нра, думает она: Юсь!!! Как славно и сладко! Да, нра… Ах, сластёна… Но и вампир! Вампирище!!!
— Что же ты делаешь?
Господи, Боже мой, что же я делаю, думает она. И отвечает:
— Учусь…
Учусь. Учусь!!!
Так ответить могла только она. Учится учиться у Неба — только ей дан этот дар! Это было прекрасно! И эта величественная прекрасность восхитила его еще раз. Надо же! Восхищаться ею каждое мгновение жизни, делать это мгновение праздником — этот дар дан ей Небом, это ясно, и она спешит разделить его с ним.
— Разве all this не отличнейше, не bravissimo? Не all right и не very well?! O’key!!!
— Что же ты со мной делаешь? — шепчет он.
— Люблю.
Обласканная Небом, теперь она отдает себя всю во власть его крепких рук.
Ах, эти хрупкие податливые мужественные плечи!
— Люблю, — шепчет Юля еще раз.
Она смотрит на него с нескрываемым любопытством.
— Разве ты этого не знаешь? Что это?..
— Не расплескай! Пей!..
Горячее, чуть подслащенное красное вино расплескало по ее щекам горящий призывный румянец, воспламенивший не только его глаза, но и низ живота. И этот прыщик, вдруг вскочивший на самом кончике ее носа… Он даже знает, как называется эта точка: су–ляо (простая дыра), сексуальная точка. (Да уж: простая!).
— Иди же уже! — говорит он. — Я весь просто лопаюсь…
— Вижу–вижу, — смеется она, и ставит наполовину опустевшую кружку на столик, — какой ты колючий…
Потом, в постели она убеждает его еще раз: люблю! Неистово, до дрожи, до пупырышек, шепот которых он читает кожей собственных пальцев, и аж до сладкого пота… Любви ведь пот не страшен!
— Oll–out! (изо всех сил!), — шепчет она.
И потом — еще…
— It is right–down! (Это — совершенно!).
У нее даже мысли не мелькнуло о том длиннющем захлебывающемся письме, которое она наспех пробежала по диагонали, успев усвоить только одно: роман пишется, роман, видимо, с продолжением, и конца этому не видно. Надо же: Клеопатра!.. Она, Юлия (Totus Tuus называет ее Юсь) — Клеопатра!.. Надо же! А вот «Рест» и правда ей нравится не очень. Или все–таки нравится?!
А тут еще этот невероятно виртуальный Владимир! Тут не только черт ногу сломит — Бог голову! Ведь владеть миром своей Пирамиды вовсе не означает владеть и ею, Юлией! Владей себе своей Ли сколько угодно! И своей Юсь!.. Придумал же! Вампир–таки, да…
И уже засыпая, она шепчет ему на ухо:
— Извини…
Это просто счастье, говорит она, что ты у меня такой! И снова шепчет:
— Прости, пожалуйста…
А утром, полусонная и чуть свет, она снова опрометью бросается в свой кабинет, и теперь, найдя письмо, перечитывает его, теперь не спеша, слово в слово и теперь улыбается яркому солнцу, которое просто слепит, и она, слепая от счастья, затем мчится по густой росе босиком и вприпрыжку («Макс, за мной!») в своей, едва прикрывающей эти славные белые молочные ягодицы, сиреневой, подбитой синим, накидке с рюшечками и оборками, спешит в лес на ту, давно ждущую ее, любимую поляну, балующую ее белыми, как чаячий пух, полями ромашек, роскошествующими своими золотыми пятачками–пуговками: привет!..
Ни ветерка!
Привет, приве… приве… Это эхо. И они все разом качнули ей головами, а она просто утопает в них, теряясь и пропадая, и ему с трудом удается ее разыскать.
— Ты вся мокрая!..
Та сосна уже не горит, обугленная головешка, она только вяло дымится (тонкая струйка иглой вонзается в белое небо), тлея и мирно дожидаясь конца. Она сделала свое дело: «Вот какой станет вся ваша Земля, если вы не дослушаетесь Моих слов, Моего голоса, крика, наконец!..».
— Это тебе, — произносит он, вручая ей охапку ее любимых ромашек.
— Ах!..
— Да!
— Зачем же ты так?..
В уголках ее дивных глаз зреют озерца слез. Он не понимает: что не так?
Она не в состоянии даже вымолвить слова, только крепче прижимает к груди сорванные ромашки, на которые уже падают ее медленные тяжелые слезы.
Теперь — тишина.
— Прости… Ты прости меня, ладно? — наконец произносит она.
Он несет ее на руках.
— Ну, пожалуйста, — шепчет она, вплетаясь нотками своего голоса в звонкую мелодию птиц, захлебывающихся в вечном утреннем споре.
— Зачем же ты плачешь?
— Ладно?..
О, Господи, думает она, рассуди меня…
ДОМ ДЛЯ ТИНЫ
Ты мой омут, острог и порт. И несбыточная печаль. Где немыслимый тот аккорд? Для того чтоб любовь зачать, Не хватило ветров и сил, Недостало тебе огня — Обесточенный мир остыл С появлениями меня. Ты дичаешь — отстань, отринь, И, впиваясь, в мои соски, Ты глотаешь свой горький Рим Квинтэссенциями тоски. Мы рисуем. Мазок. Каприз. «Ты испачкал вот здесь. Утрись.» Мир, впечатанный в наш эскиз, Подставляет живот под кисть.Я спрашиваю себя, что, собственно, представляют собой все эти её миражи и погружения. А бывает и сам позволяю себе…
Когда жизнь припирает к стенке…
Ее идея о строительстве собственного дома, в котором мы сможем жить вместе, наконец, вместе, приводит меня в восторг. Теперь у Тины земля просто горит под ногами, ее невозможно удержать, она выбирает место то на берегу реки, то у моря, а то где–нибудь у подножья горы или даже на самой вершине, чтобы мир, говорит она, был перед нами, как на ладони, и мы могли бы первыми встречать восход и любоваться закатом, а потолки будут, мечтает она, высокими, комнаты просторные с большими окнами на восток, чтобы дети наши каждое утро, просыпаясь, шептались с солнцем, и полы будут из ливанского кедра, у тебя будет отдельная комната, настаивает она, чтобы ты мог спокойно заниматься своими важными делами, а спать будем вместе, наконец, вместе! восклицает она, и каждый день я буду кормить тебя чем–нибудь вкусным, скажем, супом из крапивы с твоими любимыми специями, или, на худой конец, жареной рыбой, и вино будем пить красное или белое, какое пожелаешь, из нашего подвала, а потом, ты будешь, она закрывает глаза и улыбается, ты будешь нести меня на руках в спальню, в нашу розовую спальню, и мы с тобой…
Ее можно слушать целый день и всю ночь, бесконечно… Когда ее глаза переполнены мечтой о счастье, о нашем доме, или, скажем, о детях, наших детях, чьи голоса вот–вот зазвенят в этом доме, слезы радости крохотными бусинками вызревают в уголках этих ореховых дивных глаз и мне тоже трудно удержать себя от слез. И вот мы уже плачем вместе. А вскоре я уже таскаю песок, цемент, скоблю стены, долблю всякие там бороздки и канавки, теша себя надеждой на скорое новоселье, тешу стояки и планки, нужна глина, и я рою ее в каком–то рву, тужусь, тащу… Проблема с водой разрешается легко, а вот, чтобы добыть гвозди, приходится подсуетиться, дверные ручки ждут уже своего часа, вот только двери установят, и ручки уже тут как тут, очень тяжеловесной оказалась входная дверь, зато прочность и надежность ее не вызывают сомнений. А вот что делать с купальней — это пока вопрос.
— Что это ты строишь? — спрашивает меня Жора.
— Тадж — Махал! — отвечаю я весело. — Скоро мы тебя и всех вас пригласим…
И какие нужны унитазы — розовые или бежевые, может быть, кремовые или бирюзовые, римский фаянс или греческий?.. Пока нам очень нелегко выбрать и цвет керамики, на которой ведь тоже нужно оставить свой след в истории.
И вообще вопросов — рой!
Проходит неделя…
Куда девать весь этот строительный мусор?! Я сгребаю его лопатой, а остатки руками, пакую в корзины и таскаю их на свалку одна за одной, одна за другой… До ночи. А рано утром привозят вьюки с камнями, которые пойдут на простенок. Не покладая рук, я таскаю их в дом, аккуратненько складываю и тороплюсь уже за досками. Не покладая ног.
— Ты не устал? Отдохни.
— Что ты!
Я называю её Тинико!
Строительство идет полным ходом, и моя Тинико вне себя от счастья. Нарядившись в легкое цветастое платьице, она сама принимает решения и выглядит невестой. С бубенцами на щиколотках! Чтобы я целый день слышал, как прыгает моя козочка, помогая мне в моём трудном деле: динь–динь… Динь–динь–динь…
Никакая музыка с этим спорить не может!
Тинка ни в чем мне не доверяет.
— И спуску от меня не жди!
Я жду только её похвалу.
— Здесь — хвалю, молодец!..
Нет музыки слаще!
Но я — человек: бывают и промахи. И то я делаю не так, и это. Она вооружается мастерком и сама кладет стену, затем заставляет меня развалить ее и снова кладет. Ей не нравится, как я прорубил в стенке канавку.
— Вот смотри, — поучает она, — и ударяет себя молотком по пальчику. Я бросаюсь, было, ей на помощь, но из ее ореховых глаз летят искры.
Приходит лето…
— Я хочу, хочу чуда, хочу чуда, малыш… Удиви меня!
— Ладно…
Её «малыш» звучит как зов командира: «Вперёд! В атаку!..».
И я хватаю ружьё!..
— Уррррааааа!..
Тина улыбается, смыкает ресницы и с закрытыми глазами бросается мне на шею!
— Какая же ты у меня умница!
И я снова закатываю рукава. Целыми днями мы заняты стройкой, а вечером обо всем забываем, бросаемся в объятия друг друга, а утром все начинается снова.
— Ты не забыл заказать эти штучки…
— Не забыл.
— Я так люблю тебя, у тебя такой дом!
Я прекрасно осознаю, что это признание случайно вырвалось у нее, что она восхищается мной, а не моим домом, мной, а не белыми мраморными ступенями, мной, а не просторной солнечной спальней с высоким розовым потолком, мной…
Мной, а не…
Еще только макушка лета, а мы уже столько успели! Ее день рождения пролетел незамеченным — я просто забыл. О, какой стыд–то!!!
— Ты прости меня, милая…
— Что ты! Дом — вот твой лучший подарок! К тому же, день рождения у меня в августе! Как ты мог забыть?
— Ой, и правда, да, первого… Как я мог забыть?
Я корю себя и корю, винюсь, повинуясь её приказам:
— Здесь — ровненько, смотри, вот так!
Я ровняю…
Во, урод–то, думаю я, как ты мог такое забыть!
— Да–да, — соглашаюсь я, — здесь вот так…
Как скажешь, милая!
Жизнь кипит…
— Пирамиду строишь? — спрашивает Жора.
Я киваю: Пирамиду! Для Тинико!
— Не надорвись, — шутит Жора.
Уж постараюсь…
— Слушай, — как–то предлагаю я, — давай мы выстроим наш дом в виде пирамиды!..
У моей Тины глаза как орехи:
— Совершеннейший бред! Какой еще пирамиды?
— Где царит гармония, где мера, вес и число будут созвучны с музыкой Неба…
— Какая еще мера, какое число?..
Тина не только удивлена, она разочарована.
— Зачем тебе эти каменные гробы?
Конечно, мне это только послышалось. Она — за пирамиду! Ведь и все её тетки и бабушки, и прабабушки… И Хатшепсут, и Тиу, и Нефертити… И даже Клеопатра была прекрасным строителем пирамид.
— Не отвлекайся, — говорит Тина.
— Угу…
Иногда я допускаю промахи.
— Слушай, — прошу я, — будь умницей…
— Не такая я дура, чтобы быть умницей!
Затем:
— Разве ты не видишь, что рейка кривая?!
Я с радостью рейку меняю.
И вот я уже вижу: дом ожил. Мертвые камни, мертвые стены, мертвые глаза пустых окон вдруг заговорили, вдруг задышали, засияли на солнце.
Празднично зашептали занавески, засверкала зеркалами веселая спальня, засветились стекла, засмеялись, запрыгали на стене солнечные зайчики, заструились, заиграли радугой водяные волосы фонтана…
Дом ожил!
А Макс, наш рыжий пес, который так любит ютиться у наших ног, вдруг залился радостным лаем.
— Макс! — ору и я радостно, — ты рад, ты тоже рад… Так вперёд, вперёд!..
И мы мчимся с ним наперегонки… Я ещё поспеваю за ним, никакой усталости!..
— На, держи! — в награду за послушание я даю ему ложку меда. Он слизывает с ладони, досуха… Щекотно!..
— Что ещё?
Его рыжие с зеленцой глаза (точь–в–точь как у моей Тины) только смотрят, выжидающе, только то и делают, что смотрят и смотрят… Ничего не прося. Выжидая…
— Ладно — на!..
И мы с Тиной снова любуемся нашим ласковым Максом.
Лев!..
Затем строим и строим… наш дом…
И у меня появляется чувство, будто мы созидаем шатер для любви. Нет — дворец… Храм!..
— Рест, — говорит она, — ты просто… знаешь…
— Да, — говорю я, — знаю…
И целую её в пунцовую щёчку.
Но праздник не может продолжаться вечно, и, бывает, в спешке что–нибудь, да упустишь. И тогда Тине трудно сдержать раздражение.
— Зачем же ты метешь?! Я только что выбелила стену.
— Извини.
Бывают же промахи.
— Какой ты бестолковый!..
Это правда.
А утром я снова полон сил и желания, и мышечной радости: я горы переверну! Тина верит, но промахи замечает.
— Слушай, оставь окно в покое, я сама…
Ладно.
— И откуда у тебя, только руки растут?..
Я смотрю на нее, любуясь, молчу виновато. Затем рассматриваю поперечину, на которой можно повеситься.
«Дом хрустальный на горе для нее…» — напеваю я.
— А здесь будет наша купальня! Мы голые… А комнаты раскрасим: спальня — красная, яростная, для страстей, абрикосовая гостиная…
— А моя рабочая комната…
— А твоя рабочая комната будет в спальне!
— В спальне?..
— Да! А ты где думал? А там будет библиотека, и все твои книжки, все твои умные книжки мы расставим на полочки одна к одной, друг возле дружки… Наша библиотека будет лучшей в округе, правда?
— В стране.
Ее невозможно не любить.
— Там — камин. А там — комната для гостей… Мы пригласим всех твоих лучших друзей, и всех этих чокнутых и бродяг, горбатых и прокаженных… Пусть… Мы растопим камин, нальём им вина…
Тина еще не знает, что я отмечен даром творца и приглашает молодого архитектора, который готов, я вижу, не только руководить строительством, но и самолично скоблить пол или окна, таскать мусор на свалку, а время от времени приносить кувшинчик с вином и пить с нею в мое отсутствие. На здоровье! Только бы Тина была довольна ходом событий. Она рада. И молодой архитектор рад. Обнажив свой прекрасный торс, он готов прибивать и пилить, и долбить, и красить… И я рад…
Он готов жениться на Тине!
Я — рад!
О, жить бы нам в шалаше из тростника и бамбука на берегу Амазонки! К осени становится ясно, что к зимней прохладе нам не удастся поселиться в новом доме. Вечерами Тина теперь молчалива. Мои слова не производят на нее впечатления, а ласки, я понимаю, просто неуместны. Глаза, ее большие красивые рыжие родные глаза полны бездонной печали, милые плечи сникли и, кажется, что и сама жизнь оставила это славное молодое тело.
— Ти…
— Уйду…
— Послушай, — говорю я, — послушай, родная моя, ведь не могу же я больше…
— Все могут, все могут, а ты…
«Сам, как пёс бы, так и рос в цепи…».
Тина разочарована. Я целую ее, но в ее губах уже не чувствую жара.
Моя попытка вдохнуть в нее жизнь безуспешна, к тому же я не нахожу возможности, просто ума не приложу, как нам помочь в нашем горе. Был бы я Богом, не задумываясь, подарил бы ей этот мир, а был бы царем — выстроил бы дворец или замок, или даже башню на краю утеса. Из мрамора! Или хрусталя.
«Дом хрустальный на горе для неё…» — цежу я сквозь зубы.
— Что–что? — спрашивает Тина.
Был бы я Богом! Клянусь — выстроил бы!
— Не старайся переплюнуть себя, — предупреждает Тина, — вырвет.
А так я только строю планы на будущее, в котором не нахожу места нашему замку. Понятно ведь, что, когда дом построен… Здесь нужна особая мягкость и сторожкость, чтобы она не упала в обморок.
— … и ты ведь не хуже моего знаешь, — говорю я, — и в этом нет никакого секрета, что, когда дом построен, в него потихоньку входит, словно боясь чего–то, оглядываясь и таясь, чуть вздрагивая и замирая, то и дело, озираясь и как бы шутя, на цыпочках, как вор, но настойчиво и неустанно, цепляясь за какие–то там зацепки, чуть шурша подолом и даже всхлипывая, пошмыгивая носом или посапывая, а то и подхихикивая себе и, наверняка со слезами горечи на глазах, но напористо и упорно, и даже до отвращения тупо, почти бесшумно, как вор, но твердо и уверенно, крадя неслышные звуки собственных шагов и приглушая биение собственного сердца, но не робко, а удивительно остро и смело, как движение клинка… в него входит…
— Что… что входит?.. — глядя на меня своими огромными дивными глазами, испуганно спрашивает Юля.
Я не утешаю ее и не рассказываю, что прежде, чем строить на этой суровой земле какой–то там дом или замок, или даже храм, этот храм нужно, хорошенько попотев, выстроить в собственной душе. Чтобы он был вечен…
— Рест, — останавливает меня Тина, — кретинизм — это диагноз?
И я, врач, рассказываю ей, что кретинизм — это такая прекрасная штука… Рассказываю в деталях, что там и к чему, этиологию и патогенез в абсолютных подробностях, привлекая все знания, от которых у меня кружится голова, уверяя и утверждая, что это совсем не болезнь, хоть она и неизлечима никакими человеческими ни усилиями, ни средствами…
— И не надо меня лечить, — прошу я, — и не надо даже пытаться…
Я прошу лишь об одном…
— Да, я слушаю, — говорит Тина.
От этого нет лекарств.
Я хочу, чтобы она восторгалась мной, а не моим домом, мной, а не зеркалами и фаянсами, мной, а не кедровыми полами и резными окнами, вызывающими зависть чванливо–чопорной публики, которую она отчаянно презирает. И еще я хочу, чтобы у нее дрожали ее милые коленки, когда она лишь подумает обо мне, чтобы у нее судорогой перехватывало дыхание и бралась пупырышками кожа при одном только воспоминании обо мне…
Обо мне!..
А не о моем доме.
Об этом я не рассказываю, она это и сама знает!
— Что входит–то? — ее глаза — словно детский крик!
Я выжидаю секунду, чтобы у Тины не случилась истерика. (Как такое могло прийти мне в голову?!!). Я выжидаю… Затем:
— Когда дом построен, — едва слышно, но и уверенно говорю я, — в него входит смерть…
Литературно–художественное издание
Колотенко Владимир Павлович
Дом для Тины
Рассказы
Редактор и изготовитель электронного макета Грошева Д. Г.



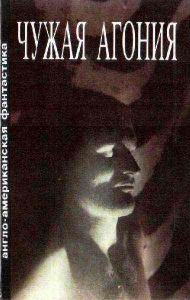
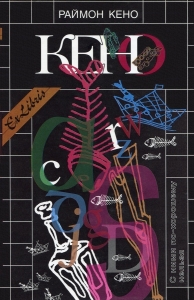


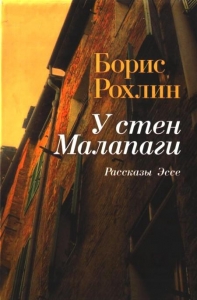



Комментарии к книге «Дом для Тины», Владимир Павлович Колотенко
Всего 0 комментариев