Таир Али ИДРИС-МОРЕХОД роман
© Tair Ali, 2000
© «Абилов, Зейналов и сыновья», 2004 г.
«…стал я упрекать себя за то, что сделал, и за то, что начал это тягостное путешествие после того, как сидел и отдыхал в своем доме и своей стране, довольный и счастливый…»
Сказка о Синдбаде–мореходеПРЕДИСЛОВИЕ
Вдруг и как ниоткуда вошел в азербайджанскую литературу писатель Таир Али.
Его имя никому не было известно. Впервые он заявил о себе уже в тридцатилетнем возрасте. Три года назад увидел свет его серьезный роман–исследование — «Ибишев».
Автору оказались чуждыми традиции национальной классики и современной азербайджанской прозы. Дело вовсе не в том, что он пишет на русском языке.
Таир Али избежал и тенденций русской литературы, тем более — в ее советском исполнении.
При ярко выраженных национальных особенностях содержания и колорита «Ибишева», это исследование скорее восходит к творческим достижениям таких корифеев мировой литературы XX столетия, как Фолкнер и Джойс, Борхес и Кортасар.
Казалось бы, родная для писателя среда должна была предстать в его творчестве с позиций двойной отчужденности. Ведь он пользуется неродным языком, да и к тому же привносит в национальную литературу содержательность формальных достоинств извне — от признанных зарубежных мастеров пера. Но сработал открытый в недрах физики прошлого века принцип дополнительности Макса Бора — получился свежий, непредвзятый взгляд на историю и современность Азербайджана.
Вы держите в руках вторую книгу Таира Али — роман «Идрис–мореход». Это тоже исследование.
В «Ибишеве» прослеживалась убогая жизнь маленького человека предместья в условиях переходного периода в жизни народа. Вывод однозначен — он обречен перед лицом грядущих перемен.
В новом же романе Таир Али ищет и находит корни выживания лирического героя своего произведения, от имени кого ведется повествование. Перед нами оживают в его восприятии сложные перипетии истории начала прошлого столетия и связанной с нею личной судьбы его деда — своего рода перекати–поле. События происходят в Азербайджане и Турции на фоне недолгой жизни первой на Востоке Азербайджанской Демократической республики и в последующие советские годы.
Таир Али остается верен себе во всем. Но путь от первой книги до второй приводит его от пессимизма к жизнеутверждающему началу.
Итак, в путь вместе с героями Таира Али до последней очки в его новом романе!
М. Вида
Часть 1 В ГОРОДЕ ЦАРЕЙ
1
Сказано:
«Ты видишь корабли, рассекающие море…».
В 27 лет мой дедушка, Идрис Халил, увидел Город Царей.
Путь его лежал на Запад, туда, где в белых водах Мраморного моря исчезает солнце.
Поезд, окутанный клубами горячего пара, тронулся, и на перроне старого Сабунчинского вокзала, бесследно исчезнувшего еще в 1928 году, в суетливой толпе провожающих, носильщиков с бронзовыми бляхами на груди, продавцов шербета и чистильщиков обуви остались стоять два старших брата Идриса Халила в одинаковых пиджачных парах.
Он смотрит в запотевшее окно вагона второго класса — длинный, тощий, нелепый — и выглядит растерянным.
Спустили пар, раздался свисток, кондукторы с грохотом захлопнули двери. Поезд тронулся и стал медленно набирать ход. Идрис Халил провел рукой по коротко стриженым волосам. На календаре лето 1912 года. Дорога ведет на Запад, через всю страну с ее выжженными равнинами и пестрыми холмами, узкими железными мостами через обмелевшие реки, полосатыми жандармскими будками, глухими ночными полустанками и казармами из красного кирпича, нищими деревнями и призрачными городами. За желтыми обочинами, чередуясь, тянутся то хлопковые поля, отороченные телеграфными столбами, то залитые солнцем плантации винограда, мелькают купола и минареты будто бы игрушечных мечетей, медленные отары овец и крестьянские подводы, груженные корзинами фруктов.
Через «красный мост» рельсы вступили во влажные земли Грузии. В лихорадочном тумане, поднимающемся от мутной Куры, остался Тифлис со всеми его чудесами, а рельсы бежали дальше, все время на Запад — к чопорным, крашенным белой краской домам Батума, утопающим в мандариновых садах, над которыми завивались клубы черного дыма из пароходных труб.
Всю дорогу длиною в несколько дней, оберегая свой мусульманский желудок от соприкосновения с богопротивной свининой, мой дедушка, Идрис Халил, ел только то, что ему собрали в дорогу — в большую плетеную корзину, укрытую сверху полотенцем, — и пил чай в маленьких буфетах на промежуточных станциях. Не знаю, нужно ли об этом говорить, но, посещая отхожие места, дедушка никогда не забывал брать с собой специальный дорожный кувшин для омовения, и после туалета, несмотря на все неудобства вагона второго класса, прежде, чем сесть на свое место, добросовестно отмеривал необходимые по традиции сорок шагов вдоль узкого коридора.
В Тифлисе в ожидании поезда, идущего до Батума, он пробыл почти одиннадцать часов, не покидая здания вокзала из провинциального страха заблудиться и не поспеть вовремя. Адрес купца–мусульманина из Нухи, давнего приятеля его покойного отца, тщательно выписанный на куске плотной бумаге, так и остался лежать невостребованным в глубине обширного кожаного портмоне.
Рельсы закончились в Батуме, почти у самой кромки сверкающего черным серебром Черного моря.
В порту, предъявив паспорт, Идрис Халил купил заветный билет на пароход до Константинополя. И когда через два дня вибрация от запущенных винтов волной побежала по деревянной палубе большого торгового судна «Перс», а оглушительный глубокий гудок возвестил отплытие, дедушка был там, среди двух десятков пассажиров, и, вцепившись влажными руками в поручни правого борта, смотрел, не отрываясь, на сверкающую ширь незнакомого моря.
Потом он увидел дельфинов. Они выпрыгивали из воды, и солнце яркими бликами вспыхивало на их мокрых спинах. Все утро стая дельфинов сопровождала «Перс» на почтительном расстоянии.
Как и следовало ожидать, само путешествие, за исключением первых нескольких часов, прошло ужасно. Уже у Трапезунда погода испортилась, и они шли под тяжелыми быстрыми облаками. Качка. Обессиленный рвотой и головокружением, Идрис Халил не мог даже молиться и пластом лежал в грязной темной каюте, где помимо него изнывали от качки еще трое пассажиров.
У Инджебуруна, сразу за Синопом, где на рейде дежурили огромные крейсеры с зачехленными орудиями под красными флагами Оттоманской Империи, разразился шторм. Он начался с холодного дождя, за которым последовали свистящий ветер, молнии и огромные черные волны, которые, заливая палубу, стали швырять судно из стороны в сторону. С закрытыми глазами дедушка катался по заблеванному полу каюты вместе с чемоданом, плетеной корзиной и холщовым мешком с лежащим в нем дорожным кувшином для омовения. И, подобно известному мореходу из арабских ночей, проклинал день и час, когда он, покинув благополучный отцовский дом, мать и братьев в одинаковых пиджачных парах, пустился в это безумное и дорогое путешествие.
Молнии рвали в клочья низкое небо, ветер сбивал с ног матросов на скользкой палубе. Слева по борту грозно нависали обрывистые берега, заросшие гигантскими соснами, с которых в кипящее море срывались разбухшие реки. Волны с невероятным грохотом выплескивались на прибрежные рифы, и в наэлектризованном воздухе таяли ошметки пены.
Насколько мне известно, поездка Идриса Халила в Константинополь действительно стоила немалых денег. Дорога, паспорт, плата за учение и прочее — все эти расходы были покрыты из той части наследства, которую ему оставил покойный отец.
Отец Идриса Халила, мой прадед, удачливый хлебопек из «крепости», умер почти за два года до описываемых событий и был похоронен на высоком чемберикендском кладбище. Удача пришла к нему в сорок лет, в самом начале столетия вместе с нефтяным бумом в Баку, и вылилась в две небольшие, но хорошо оборудованные пекарни и три кондитерские лавки, одна из которых находилась в районе модной Ольгинской улицы. Особым спросом пользовались его чуреки с маком, персидская бадам–бурма и булочки на европейский манер с марципаном, изюмом, орехами и еще бог знает чем. Он имел двух жен, разрешенных шариатом, и трех детей мужского пола. Идрис Халил, согласно повествовательной традиции, был самым младшим сыном от второй жены — маленькой, но невероятно энергичной Зибейды–ханум.
Год рождения Идриса Халила, приблизительно, 1885 или 86. Рожденный в просторном доме, смотрящем с фасада высокими окнами на Восток — на узкую крепостную улочку, мощеную булыжником, а с торца — на квадратный патио, отделяющий дом от пекарни, где среди мешков муки, изюма, черного хаш–хаша, засахаренных фруктов и фундука словно языческий бог восседал мой прадед с амбарными ключами на поясе под суетливый шум раннего утра, когда выпечку развозят по лавкам и адресам заказчиков, младенец был наречен двойным именем Идрис Мирза. Будучи сыном Халила Али Хусейн оглы, позже он стал называться Идрис Мирза Халил оглы, или еще проще — Идрис Халил. Отсюда и наша фамилия — Халиловы.
Имя было подобрано с особой тщательностью, ибо хорошо известно: имя — это Судьба. В Книге Идрис это тот, кто обманул Ангела Смерти и до срока вошел в Царство Небесное. Он первым писал каламом, шил одежду и умел предсказывать по звездам.
Не могу утверждать этого наверняка, но, согласно семейным преданиям, помимо удачливости и бережливой предприимчивости, прадед обладал еще одним необычным талантом — он умел видеть особые записи Судьбы, сделанные невидимыми чернилами на лбу. Умел их видеть и читать, потому что записи эти, само собой, были начертаны летящими буквами священного алфавита. А мой прадед, некогда прилежный ученик моллаханы Хаджи Пир Хасана, вполне сносно писал и читал по–арабски.
Говорят, что записи Судьбы проступают на лбу у человека лишь перед самой смертью. Видеть их — особый дар посвященных.
Удача не оставила его до самой его смерти, о дне которой он узнал наперед. Как–то отправившись в пятницу утром к брадобрею, цирюльня которого располагалась рядом с мечетью в полуподвале двухэтажного дома на Большой Крепостной улице, в мутном зеркале на беленой известью стене среди бронзовых складок кожи и геометрических морщин своего лба он разглядел то, что милостиво скрыто от глаз обычного человека.
Через две недели он умер, успев за четырнадцать отпущенных ему дней привести в порядок все дела и как следует подготовиться к длительному путешествию.
Умер он с легким сердцем, во сне.
Это случилось в 1910 году, а через два года его младший сын, Идрис Халил, закрыв глаза, катался по заблеванному полу четырехместной каюты торгового парохода «Перс», через скрипящую палубу которого с яростным шипением перемахивали черные волны.
Шторм успокоился только у входа в Босфор. Там, где киноварные воды проливов смешиваются с темной водой Черного моря, где на холмах среди средиземноморских сосен разбросаны рыжие пятна черепичных крыш, а острые пики минаретов нацелены в жемчужное небо, совсем не похожее на наше — плотное и, словно бы, маслянистое.
Чем глубже в проливы, тем светлее вода за кормой. Мраморное море — собственное море Константинополя — встретило их криками чаек, сверкающей рябью, пароходными гудками, рыбацкими шаландами, азаном (было раннее утро, время второй молитвы), белыми дворцами, быстрыми каперами, снующими вдоль берега, и поднимающимся жарким маревом пробудившегося гигантского города.
Несмотря на слабость и обожженное желчью горло, этим ранним утром Идрис Халил стоял на палубе и, конечно же, следуя установившейся традиции всех восточных мореходов, начиная с Синдбада, позабыв обо всех тяготах путешествия, с восторгом приветствовал дивный, новый мир, в самом сердце которого он оказался по воле Всевышнего. И восторг его был так велик, что, проплывая мимо маяка, напоминающего лишь по названию сторожевую башню в его родном городе, обычно сдержанный и в чем–то даже суховатый Идрис Халил стащил с головы картуз и помахал им Городу Царей.
На причале его ждали. Трое студентов, приблизительно его же возраста, в которых лишь наметанным взглядом можно было определить земляков из Баку.
Они поселились где–то за площадью Таксим. Где точно — не знаю. Снимали довольно просторную квартиру в три комнаты с окнами на запад, на тихую улицу с кофейней, мясной лавкой, цирюльней и складом какой–то торговой компании, которой владела многодетная греческая семья, живущая этажом выше.
Идрис Халил был принят вольнослушателем на отделение германской филологии Стамбульского университета и сразу после этого сменил картуз на малиновую феску. Еще одним новшеством в его гардеробе, появившимся через некоторое время, были дорогие французские штиблеты и щегольское пальто с барашковым воротником. Однако не следует думать, что Идрис Халил, очарованный соблазнами Константинополя, кишащего проститутками и плюрализмом, поддался увещеванию наперсников по квартире и хоть каким–либо образом нарушил строгие нормы поведения, установленные для скромного студента–мусульманина за границей. Причин тому несколько: известная стесненность в средствах, крестьянская экономность, унаследованная им от отца, а также природная стыдливость, свойственная моему деду и перешедшая через поколение ко мне.
В 1913 благословленном году мира и благополучия (локальные кровопролития не в счет), всеобщего процветания и не вполне утраченных иллюзий, стихотворение моего деда «В пекарне» было опубликовано в константинопольской газете «Хилал» («Полумесяц»). Так Идрис Халил стал поэтом.
А потом началась война. Первая Большая Война, и железные крейсеры с заклепками по бронированным бортам расчехлили орудия и встали у Золотого Рога. И у дворца Долмабахче появились вооруженные патрули, а на вокзале Хайдарпаша под покровом ночи грузили полевую артиллерию и боеприпасы. И призрак грядущего кровопролития, словно святой дух, витал над водой пяти морей и трех океанов, в глубине которых таились невидимые субмарины и рогатые глубинные бомбы. И Большая Война породила, как это ни странно, еще больше иллюзий, чем шаткий мир.
Многие кавказские студенты воспользовались временным нейтралитетом Порты и тем же летом вернулись домой. Некоторые задержались до середины сентября. Идрис Халил предпочел остаться.
Что задержало его на те четыре месяца, в течение которых еще можно было выехать из Константинополя и добраться до границ Российской Империи? Не знаю.
Единственно, что доподлинно известно, дедушка остался в Константинополе и продолжал работать над своим, так и оставшимся незавершенным романом в стихах, который, словно плющ, таинственным образом неразрывно переплетен с биографией моего предка:
…В городе Царей, пока молчали смертельные мортиры, Я стоял у серебряной груди проливов и смотрел, как дым последних пароходов превращается в зыбкий туман. И буквы, словно крыши домов осенними вечерами, стали моим последним пристанищем, не считая каморки под чердаком с окном на соседний двор. Но смертельные мортиры молчали недолго.1 октября 1914 года премьер–министр младотурков Талат–паша объявил о закрытии Дарданелл и начале мобилизации. И на площади перед шестиглавой Сулейманией, словно фантастический краб, по выражению другого поэта, выползший из глубин проливов, под огромными знаменами стояла армия, нарезанная на правильные квадраты полков, и железные каски гвардейцев с ранцами за спинами перемежались в точно установленном ритме с серыми кургузыми папахами пехотинцев, изящными фесками военных бюрократов и белыми шапками полковых имамов. После короткого молебна голос военного министра Энвера–паши, многократно усиленный громкоговорителем и марширующим эхом громадной площади, возвестил о вступлении Империи в последнюю войну своей истории.
Вскоре уже, чудесным осенним днем 29 октября, турецкая эскадра в Черном море обстреливала Севастополь и Одессу. И офицеры в нарядных кителях на мостиках бронированных чудовищ смотрели в бинокли на горящие города и людей, в панике бегущих по набережной, сотрясаемой разрывами снарядов. В хаосе внезапной атаки мирные суда в гавани вспыхивали как факелы, и граница между морем и сушей исчезла совершенно.
Так захлопнулась последняя дверь, через которую можно было вернуться домой, захлопнулась прямо перед самым носом Идриса Халила, превратив билет, купленный им десятью днями ранее на торговую баржу с грузом табака и фундука, в бесполезный клочок бумаги. Билет, который стоил ему почти всех наличных денег — 65 имперских лир и 50 серебряных пиастров, учитывая обстоятельства, перекочевал из нагрудного кармана в глубину портмоне к залежавшемуся адресу тифлисского купца.
Так, 28 лет отроду Идрис Халил оказался в чужом беспощадном городе, городе Царей, солдат и купцов, совершенно один, без денег и без какой–либо надежды на перемены к лучшему для него.
С квартиры в районе площади Таксим пришлось съехать еще летом, когда студенты–наперсники, так и не сумев уговорить его отправиться с ними, благоразумно покинули Константинополь. Идрис Халил ходил провожать их в порт и долго стоял с непокрытой головой, глядя вслед кораблю, режущему стальными винтами сверкающую, как ртуть, гладь моря. И еще долго после того, как пароход исчез в дымке узкого пролива, а черный шлейф дыма превратился в зыбкий туман, дедушка продолжал топтаться на голом пригорке и курил, не обращая внимания на суетливую возню портовых грузчиков.
По дороге домой он купил у уличного торговца жареной рыбы, которую ему завернули в обрывок газеты с фотографией Лимана фон Сандерса.
И даже хрупкий позвоночник рыбы указывает мне путь:
Все время на Восток, все время на Восток.
Между тем дни складывались в недели. Недели — в месяцы. Война была в полном разгаре. Дедушка перебрался на четвертый этаж трущобного дома на узкой грязноватой улочке ниже знаменитой Пера Палас, где, словно в каком–то оцепенении, строчка за строчкой сочинял невообразимую поэму, прерываясь лишь на сон, покупку провизии и, когда повезет, переводы на заказ. Короткие заметки да переводы из немецкой беллетристики для пестрой константинопольской прессы того времени стали для него основным источником существования.
Еще до начала войны охотнее всего дедушку печатали в «Хилал» е. Помимо довольно удачных подборок из Гейне, современного Рильке и нескольких ранних стихотворений, там были опубликованы некоторые части поэмы Идриса Халила, а именно, целиком первая и вторая главы и фрагменты третьей. Но потом случился скандал, бессмысленная шумная склока в стиле восточных поэтов, и редакция «Хилала» отказала ему в дальнейшем сотрудничестве…
Случай свел их в большой темной кофейне на первом этаже четырехэтажного особняка в самом начале проспекта Бейоглу, там, где он спускается к площади Таксим. В дымном гвалте нищих эмигрантов, начинающих поэтов и неудачливых журналистов, пропитанном ароматом кофе с кардамоном и розовой воды, пузырящейся в кальянах. Они сели за столик у самой стены, бурой от табачной копоти и бесконечных диспутов, в компании нескольких студентов–азербайджанцев, турка, хроникера из газеты «Тенин», и русого татарина, члена некой боевой организации.
Это была первая но, как показало время, далеко не последняя встреча моего дедушки со знаменитым соотечественником Мухаммедом Хади.
Два восточных поэта, двое прилежных учеников из моллаханы, один — Бакинской, другой — Шемахинской, два эмигранта в неуютном Городе Царей, и, наконец, два безумца, почти забытые потомками.
Они не понравились друг другу с самого начала. Поэтому я не склонен считать, что причиной громкой перебранки, в результате которой язвительный Хади назвал моего деда «заблудившимся пекарем», а его стихи «бессмыслицей, присыпанной сахарной пудрой», послужили формальные расхождения во взглядах на пути развития восточной поэзии. Перебранка едва не закончилась потасовкой.
Как известно, вскоре после этого Мухаммед Хади был неожиданно арестован по некоему доносу и сослан в Салоники, где его едва не убили.
Досадное совпадение. Случайность, ставшая Судьбой с удушливым запахом предательства, отравившей поэтическое дыхание моего деда, Хади на каменистом берегу Эллады, среди кустов терпкого лавра, в доме местного священника, укрытый от бунтовщиков, разыскивающих имперских шпиков, и униженный, оклеветанный Идрис Халил перед закрытыми для него дверьми редакций.
Случайность и Судьба развели их по разные стороны и, в то же самое время, переплели их жизни невидимыми узами. Пластичные и надежные, как нити кетгут, — они переживут их обоих.
2
24 ноября 1914 года.
С утра моросит холодный дождь, временами переходящий в мокрый снег. Идрис Халил торопливо идет по проспекту Бейоглу, мимо роскошных витрин с импортной европейской одеждой, цены на которую, в связи с войной и морской блокадой, выросли почти втрое, мимо кофеен, ярко освещенных рыбных ресторанов, бакалейных магазинов. С грохотом проезжает трамвай, выкрашенный в красный цвет, над кабиной кондуктора трепещет маленький флажок с тремя полумесяцами. Уличные зазывалы хватают Идриса Халила за руки, назойливо предлагая зайти в маленькие кафе. Он отмахивается и продолжает торопливо идти, не поднимая глаз от мокрой брусчатки. На нем пиджак с поднятым воротником, из кармана которого торчит свернутая трубочкой рукопись, на опущенной голове промокшая феска, вокруг шеи длинный шарф. Нет ни светлого пальто с барашковым воротником, ни пресловутых штиблет.
Как это ни прискорбно, Идрис Халил голоден. Его подташнивает от пряного аромата кофе и запахов всевозможной снеди.
У тумбы с афишами, отпечатанными на тонкой газетной бумаге многоязыким, многоалфавитным языком Константинополя, турок с огромными висячими усами в расшитой золотом короткой курточке жарит на углях каштаны. Он переворачивает их щипцами, каштаны трещат на железной решетке, острый дым быстро поднимается к мокрому небу, тяжело висящему между летящими крышами многоэтажных домов. В переулке, под навесом, стоят торговцы рыбой. На деревянных подносах рядами уложена рыба и крупные мидии, увенчанные половинками лимонов.
У ворот опустевшей британской миссии, возле которой лениво дежурят вооруженные полицейские, Идрис Халил почти теряется в торопливой толпе, текущей в обоих направлениях. Непривычно много офицеров и агентов тайной полиции. Со стороны порта, из темных боковых улиц, парами выходят военные моряки с проститутками в широкополых шляпах кричащих цветов: некоторые из них держатся за руки и громко смеются, другие — молча смешиваются с толпой. И никто не обращает внимания ни на них, ни их спутниц, потому что идет война, и потому что Судьба, записанная на молодых лицах этих моряков, уже отчетливо проступила несмываемыми Знаками.
В Цветочном Пассаже за столиками почти нет свободных мест. Играют на скрипках цыгане, а огненный смерч все ближе подкатывается к тысячелетнему городу.
Белое и черное на золотом. Белые особняки, глядящие в свинцово–черные осенние проливы, и опадающее золото гигантских платанов. Листья с хрустом ломаются под ногами прохожих, липнут к колесам повозок и роскошных авто. Листья падают на черепичные крыши и на газон у недостроенного дворца Чираган Палас. В порту на баржи грузят солдат и отправляют в Трапезунд, Египет и Месопотамию. И товарные поезда со всей страны, заполненные до отказа свежим пополнением, выбрасывая кольца черного дыма, несутся на всех парах к вокзалу Хайдарпаша.
Судьба пальто с барашковым воротником и штиблет — очевидна. Дедушка продал их на блошином рынке. И еще он сбыл часы, и большую часть своих книг.
Жалко часы. Жалко пальто. Хорошее, теплое, красивое.
Идрис Халил сидит на железной кровати в темной, сумрачной мансарде. Единственное окно выходит на крышу соседнего дома, где развешано белье. Рядом с кроватью — стол и железная печка с трубой, отведенной в закопченную форточку. Самое ценное во всей обстановке — это кусок старого паласа на полу.
В комнате холодно, потому что приходится экономить на угле, и дедушка ужинает, завернувшись в одеяло. Черные маслины, помидор, нарезанный круглыми ломтиками, кусок молодого сыра и чурек. Кроме него, в комнате еще рыжая кошка. Свернувшись клубочком, она лежит на кровати. Огненно–рыжая. Как–то вечером она сама пришла к двери. А рыжих кошек, кошек Пророка, как известно, нельзя прогонять. Кошка без имени. По ночам, когда смолкает городской шум и становится отчетливо слышно, как в порту гудят отплывающие пароходы, она просится на улицу и бродит по окрестным крышам до самого утра.
Дедушка вдруг перестает жевать, поднимает голову от тарелки и, резко обернувшись, смотрит на меня из плывущих сумерек долгим удивленным взглядом.
Но день еще не закончился. 24 ноября 1914 года продолжает длиться как долгие сумерки поздней осени, как дробный стук капель по черепичной крыше, как глубокие гудки грузовых пароходов.
Волшебная лампа.
Идрис Халил снимает плафон и, чиркнув спичкой, зажигает пропитанный керосином фитиль. Огонек быстро вытягивается в ровный лепесток, и густой теплый свет разливается по столу, захватывает часть беленых известью стен и изломанный потолок мансарды, с выползающими на них острыми тенями.
Керосин, чудотворное масло родом из горькой земли Биби — Эйбата и Балаханы, единственное напоминание об утраченном доме. С началом морской блокады цены на него подскочили почти вдвое.
Идрис Халил убирает тарелки с остатками еды на подоконник, сухой ладонью сгребает крошки и высыпает их в пепельницу. Из кармана пиджака, что висит над изголовьем кровати, он достает рукопись поэмы, раскладывает перед собой мятые листы.
…окно на крышу соседнего дома…
Чернильные завитушки скатываются с кончика стального пера, постепенно обретая смысл.
Тем временем наступает вечер, и стихают все эти пронзительные крики разносчиков овощей, старьевщиков, шарманщиков, продавцов газет, свистки полицейских. В плывущих сумерках растворяются грохот повозок, цокот копыт по мокрой от дождя брусчатке, редкие клаксоны автомобилей и последние заунывные фабричные гудки, и остается лишь дробный стук капель в дребезжащие оконные стекла.
Отложив перо и поплотнее запахнувшись в одеяло, Идрис Халил гладит кошку. Он думает о том, что снаряды, рвущиеся в окопах Галиции и Месопотамии, на самом деле, подобно трубному гласу архангела Джебраила, возвещают о конце времен, за которым неизбежно должно последовать явление сияющего Махди. И то, что может и неизбежно должно будет произойти в конце этой Великой Войны, ему, верующему мусульманину и сыну законопослушного пекаря из Баку, представляется не иначе, как Судным Днем, в самой сути которого, под языками очистительного пламени, удивительным образом таится надежда на спасение.
Извилистый ход его мыслей прервал громкий скрип деревянной лестницы в коридоре.
Все дальнейшее происходит очень быстро, почти без пауз и общих планов на некой, точно очерченной волшебной лампой границе между светом и тенью.
Вначале — быстрый стук солдатских ботинок, кошка, рыжей тенью спрыгивающая на пол и бесследно исчезающая в темноте под кроватью. Идрис Халил пытается встать и чуть не падает, запутавшись ногами в одеяле.
Солдаты прикладами колотят в дверь — с треском отлетает щеколда. Они врываются в мансарду. Их четверо. Последним входит молодой лейтенант. Тень от круглой папахи с матерчатым верхом стремительно проплывает через всю комнату и широкой полоской ложится на его лицо, исключая, таким образом, всякую возможность разглядеть водяные знаки Судьбы. Из–под тени видны лишь аккуратно подстриженные пшеничные усики и ямочка на подбородке.
И пока продолжается эта старая игра со светом и тенью, летящие голоса муэдзинов, накладываясь друг на друга в навсегда утраченной гармонии, прокатываются эхом по закоулкам Вечного города, поднимая в черное небо миллионы голубей, дремавших на куполах мечетей.
В комнате стоит запах казенных сапог и мокрых шинелей. Лица солдат непроницаемы, как восковые маски.
Дедушка, завернутый, словно тряпичная кукла, в лоскутное одеяло, выглядит жалко и нелепо. Как в ожидании приговора он, не отрываясь, смотрит на пшеничные усики офицера и облизывает пересохшие губы.
— Твое имя — Идрис Мирза, сын Халила, из Баку? Предъяви документы!
Дедушка снимает с изголовья кровати пиджак и начинает шарить по карманам в поисках паспорта.
— У тебя есть оружие?.. Запрещенные книги?.. Географические карты?.. Ты умеешь делать бомбы?.. Ты член каких–либо тайных организаций?.. — монотонно, с короткими паузами, заполненными шумом дождя и трансцендентальным пением с минаретов, цедят сквозь зубы пшеничные усики. Дедушка, продолжающий искать паспорт, растерянно молчит. Так и не дождавшись ответа, офицер ткнул ему кулаком в лицо, и он, потеряв равновесие, упал на кровать.
Из носа вытекла струйка крови, скатилась по губам на подбородок…
— Уведите!
Тотчас двое солдат, грубо схватив его за руки, стащили с кровати.
В темноте, насыщенной острым запахом прелого дерева, то и дело спотыкаясь, они долго спускаются по узкой лестнице мимо закрытых дверей с выставленной у порога обувью. Вниз, вниз, вниз!
Вот парадная дверь. Холодный ветер обжег лицо, наполнил глаза колючими слезами, сквозь их мутную пелену Идрис Халил увидел на обочине мостовой крытую жандармскую повозку — черный ящик на колесах с зарешеченным окошком на двери.
Масляный фонарь освещает бледное лицо солдата на козлах. Еще один, чуть в стороне, держит под уздцы лошадь офицера. А где–то в глубине темной улицы устало лают собаки, и призрачный свет в окнах домов тонкими линейками сочится сквозь задвинутые жалюзи.
Его затолкали в повозку.
Он нащупал низкую скамью, прикрученную к стене, и сел. Кровь из носу продолжает капать на подбородок.
— Откинь голову назад. Откинь! На таком холоде кровь скоро остановится, — сказал незнакомец, сидящий напротив. Голос теплый, вкрадчивый, с легкой хрипотцой.
— На, возьми!
Дедушка благодарно кивает и берет протянутый ему платок.
— Как тебя зовут?
— Идрис Мирза Халил. Из Баку.
— Из Баку?… Ты что–нибудь натворил?
Хлюпая носом, он качает головой:
— Ничего…
Незнакомец больше ни о чем не спрашивает, оставив дедушку наедине с его страхами, возмущением и болью.
Из подъезда дома стали шумно выходить солдаты. Потоптавшись немного на улице, они подсели к арестантам, и повозка тронулась.
Долго ехали безлюдными темными переулками мимо нависающих над ними домов, мимо черных пустырей, закрытых магазинов и мастерских.
Солдаты сонно молчали, непроницаемые в своих плотных шинелях. Вскоре, разомлев от их теплого дыхания и тряски, Идрис Халил сомкнул усталые веки и даже не успел заметить, как благословленный сон, подобно легкому зефиру, опустился на него.
Мужчина в длинной рубахе достает хлеб из огромной печи — круглые чуреки, тонкие посередине и пышные по краям. Кто–то невидимый отрезает небольшие куски теста, бросает их на весы, а тем временем кто–то другой разминает и раскатывает их на столе и руками, белыми от муки, посыпает маковыми зернами. Черные семечки медленно падают, падают, липнут к глянцевому тесту. И где–то там, у прилавка, в облаках вездесущей мучной пыли приказчик в фартуке и нарукавниках собирает горячие хлебцы в плетеные корзины…
Повозка пересекла огромный плац, освещенный фонарями, и остановилась. Идриса Халила грубо растолкали.
Их вели по коридорам с высокими потолками, украшенными лепниной. Несмотря на поздний час, здесь было довольно оживленно. Курьеры тащили огромные канцелярские книги в дерматиновых переплетах и подносы с кофейниками. Вдоль стен стояли какие–то люди, то ли просители, то ли тайные полицейские осведомители, мимо которых, стуча сапогами, конвоиры вели новых задержанных.
Коридоры разветвлялись и разветвлялись то вправо, то влево. Одни из них упирались в мраморные лестницы, устланные ковровыми дорожками, или просторные приемные, другие продолжали все так же хаотически делиться в некой всепоглощающей страсти к воспроизводству.
— Стоять!
Их завели в комнату, густо залитую электрическим светом, где они долго ждали, пока им оформляли сопроводительные бумаги. Старший делопроизводитель в сверкающем пенсне, словно бы вросшем в кончик мясистого носа, сидел за массивным столом и бдительно надзирал, как десяток канцеляристов, не спеша, заполняют документы и подшивают их в серые папки. Было тихо. В голландской печи горел огонь, желто–рыжие отсветы которого дрожали на вощеном паркете. Никто ни о чем не спрашивал, никто ничего не объяснял, никто даже не смотрел на них. Идрис Халил, заткнув ноздри платком, старался не хлюпать носом, чтобы ненароком не нарушить ритмичного скрипа перьев по бумаге.
Потом их опять повели по коридорам. Но это уже были какие–то совсем другие коридоры — безлюдные, холодные, с редкими фонарями на неоштукатуренных стенах. Скорее — туннели. Они внезапно обрывались темными пролетами, ведущими вниз, под землю, в жуткое царство Инкира и Минкира. Там, на летящих черных сводах лежала рыхлая плесень, и падающие капли воды отмеряли время неведомого мира вечных архетипов.
Пропуск под землю — бумаги, скрепленные печатями и множеством подписей.
У низкой двери им приказали остановиться и повернуться лицом к стене. Шаркая башмаками, из темноты появился бородатый тюремщик с огромной связкой ключей на поясе. Он тщательно обыскал их, велел снять шнурки, ремни и подтяжки, если таковые имеются, а затем завел в камеру и запер там.
Сидя на холодных нарах, они жгли спички, чудом сохранившиеся после обыска в кармане незнакомца.
— Не бойся! Скоро все кончится…
С тоскливым ужасом прислушиваясь к отчетливой возне крыс на каменном полу, Идрис Халил потрогал пальцами распухший нос.
— Откуда вы можете знать?
— Знаю!
Колеблющийся лепесток огня на кончике спички. Идрис Халил пытается разглядеть лицо незнакомца. Лепесток постепенно вытягивается, темнеет по краям, вянет и опять наступает темнота.
— Когда они отпустят меня — я все устрою. Если за тобой ничего серьезного нет — сегодня же будешь дома! Земляк…
— А вы тоже из Баку?…
Незнакомец не ответил.
— Я ничего не сделал, клянусь Аллахом! За что меня арестовали?
— Война!..
Сказано в Книге:
«В убытке — те, которые убили своих детей по глупости…»
В небе над Константинополем спрятаны два пути: один путь Соломенный — он все время ведет на Восток, другой Млечный — на Запад.
…город в короне из пылающих оранжевых листьев.
У подножья заснеженных гор (кажется, это Эрзрум), у дымных костров жмутся друг к другу солдаты. По безлюдным пустыням Трансиордании ползут санитарные поезда, набитые ранеными в бинтах, пропитанных кровью и гноем. В море жиреют рыбы, объедая лица погибших моряков.
А под землей — страдает душа Идриса Халила.
Дверь со скрежетом отворилась, и каменный мешок осветила мерцающая свеча.
— Разговаривать запрещено. — Беззлобно сказал тюремщик, поставив свечу и ковш с водой на покатый стол у стены. — Кто тут из вас двоих Хайдар, сын Хасана, купец? Наверное, ты?
Незнакомец надел шляпу и поднялся с нар.
— Пойдешь со мной!.. Ну, а ты, парень, ложись–ка лучше спать. Утром принесу тебе покушать.
И дедушка остался один.
«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Хвала Ему, господу миров, милостивому, милосердному, царю в день суда!»
Медленно оплывает свеча. Фитиль горит тускло, коптит, страшные тени мечутся по стенам.
И опять Идрис Халил проклинает себя, свое упрямство и старших братьев, позволивших ему уехать из дома. И снова за спиной у него встает призрак смуглого арабского морехода, покровителя всех авантюристов и упрямцев, но дедушка, конечно же, не видит его, с закрытыми глазами он горячо молится. И уже несдерживаемые слезы отчаяния текут по его щекам.
О чем его молитва? Конечно же, о возвращении. О доме, куда закрыты все пути. О свече, чтобы она горела как можно дольше, потому что когда она погаснет — сердце его разорвется…
Крысы шныряют по полу, возятся у деревянной бадьи для помоев. От мешковины, набитой гнилой соломой, тянет прелой сыростью. А где–то за стеной — ровный прозрачный гул, изредка прерываемый тихими всплесками. Словно течет подземная река.
Свеча догорела. Но незнакомец в фетровой шляпе все же сдержал свое слово. Когда фитиль в залитой воском деревянной плошке, испустив, как последний вздох, облачко белого дыма, погас, дверь камеры вдруг распахнулась. На этот раз тюремщик пришел за Идрисом Халилом.
Долгий путь наверх. Такой же долгий, как и спуск под землю. И опять были коридоры, похожие на туннели, и решетчатые двери, которые закрывались у дедушки за спиной.
Чем дальше наверх — тем больше света на лестничных пролетах, тем легче воздух.
Бородатый тюремщик шел неспешно, шаркая стоптанными башмаками под монотонное звяканье тяжелой связки ключей, висящей у него на поясе. Всю дорогу он молчал и, лишь поднявшись по круговой лестнице и перепоручив Идриса Халила дежурному конвоиру, сказал в напутствие:
— Иди себе и не держи на меня зла!..
Сказал и стал медленно спускаться обратно, в свое безрадостное царство.
Дедушку выпустили только перед рассветом. Заспанный солдат проводил его до железных ворот и, не говоря ни слова, вытолкал в пустой переулок.
На Идрисе Халиле серый вязаный жилет поверх рубашки с засохшими пятнами крови.
Воздух пахнет снегом. Засунув озябшие руки в карманы брюк, Идрис Халил начинает идти. Вначале — медленно, оглядываясь назад, словно до конца и не поверив, что его действительно выпустили, затем, ускоряя шаг, все быстрее и быстрее.
Пронизывающий ветер гонит навстречу снежную поземку. Она забивается между камнями мостовой. В свете редких фонарей тускло блестят застывшие лужи.
Паутина незнакомых улиц — головокружительный лабиринт — будто продолжение тюремных коридоров.
Гаснут фонари. С наступающим утром холодные сумерки медленно отползают в узкие колодцы дворов, а в просветах между домами, в переулках, где на протянутых веревках сохнет белье, балконы–выступы начинают свой бесконечный полет. И вот уже с минаретов далекие и близкие голоса призывают к первой молитве. В морозном воздухе они звучат явственно и требовательно, перекрывая друг друга, несутся над крышами, над печными трубами всевозможных форм и размеров, над проливами, над обледеневшими куполами мечетей и базаров, над всем огромным городом. И голуби вторят им резким хлопаньем крыльев.
Пройдя несколько кварталов, Идрис Халил сбавил шаг: болели легкие, обожженные холодом.
На улицах появляются первые прохожие. Раньше всех муэдзины в теплых зимних абазах, которые возвращаются домой после азана. Потом молочники, угольщики на подводах, худые разносчики свежей выпечки с большими корзинами на плечах, полными свежего хлеба. А дедушка все продолжает идти, почти совершенно обессилев. И вот уже фабричные гудки, что несутся с окраин, и первый дымок, вьющийся над кофейнями, возвещают начало утра. Сонные приказчики отпирают лавки.
На ступенях у дома, спрятавшегося в самой глубине узкого тупика, его встретила лохматая дворняга. Часто моргая от летящих в глаза снежинок, она смотрела на запорошенную снегом улицу и на маленькую цирюльню напротив, где уже сидели первые посетители.
…Время от вечерней до утренней молитвы — одна ночь. В конце этой ночи — возвращение к точке исхода, к убогой мансарде на четвертом этаже ветхого деревянного дома. К разворошенной постели, на которой сейчас лежит Идрис Халил, укутавшись с головой в пестрое одеяло. Ему никак не согреться. Минуту назад он развел огонь из остатков угля, но даже пламя, теперь ровно гудящее в железной печи, не в силах помочь ему. У дедушки жар.
Смятые страницы рукописи со следами от солдатских сапог разбросаны по всему полу.
В лихорадочном сне, пронизанном светом и забытым теплом, Идрис Халил опять видит горы горячего хлеба: чуреки, белые сдобные хлебцы с изюмом, булки с орехами, творогом и маком. Видит самого себя, стоящим в фартуке за длинным прилавком: от запаха сдобы кружится и болит голова. Вот, прямо перед ним, на черном противне в глянцевых разводах патоки, слегка пригоревшей по краям, пышет жаром пахлава. Дедушка берет железную лопатку и аккуратно выкладывает ею несколько ромбиков на лист тонкой промасленной бумаги. Взвешивает их, а затем, упаковав в деревянную коробочку, закрывает крышкой, на которой размашисто написано: «Сладости Халила Хусейна».
— Пожалуйста, как вы и просили, полфунта с миндалем…
За стеклянной витриной горками лежит рахат–лукум всевозможных сортов: с орешками, фисташками, молочный, с мякотью кокоса, а еще вазочки с засахаренными фруктами…
Во сне Идрис Халил облизывает кровоточащие губы.
— Что вам угодно?…
Он проснулся, когда в печи догорели угли, и по молочно–серому сумраку, затопившему комнату, понял, что уже наступил вечер.
Потом он увидел их.
Они стояли, в темном углу мансарды с крыльями, сложенными за спиной, и медленно, словно трава в толще воды, покачивались из стороны в сторону на полусогнутых ногах с шишковатыми коленями. На полу, у их голых ступней, в лужицах талого снега лежали пух и комки грязи.
Идрис Халил узнал их не сразу. Люди–птицы. Падшие ангелы Харут и Марут, обреченные жить среди нас вечно. Они находят себе приют рядом с голубями на куполах мечетей и чердаках. Они переносят души умерших на седьмое небо. Так сказано в книгах. Так учили его в моллахане. Дома, туда, куда закрыты все дороги, их треугольные символы вплетают в рисунок ковра, потому что ангелы — священные птицы — единственные посредники между небом и землей.
Они встрепенулись, открыли глаза.
И зияющая бездна в их пустых глазницах — холодная, неподвижная, лишенная плотности и спектра, тьма, никогда не знавшая света, тьма, которую вообще невозможно осветить — волнами начала расходиться по комнате, покрывая все окружающие предметы налетом голубоватой изморози. Когда дыхание ее коснулось лица Идриса Халила, он почувствовал, как его бедное сердце вначале судорожно заколотилось, а потом вдруг замерло, скованное умиротворяющим холодом, и стало проваливаться куда–то в пустоту. Медленно, неотвратимо. Огромными крыльями, продолжая плавно покачиваться, совершенно заслонив тусклый свет в окне, ангелы склонились над ним.
Идрис Халил, почти бездыханный, упал на подушку.
Смерть?..
Но почему же он все–таки не умер тогда? — спрашиваю я. Тихо и незаметно, безо всяких сообщений в газетах, целиком занятых сводками с фронтов. Душа его выпорхнула бы изо рта вместе с последним выдохом, и люди–птицы понесли бы ее над заснеженными черепичными крышами домов, над кронами платанов, над круглой башней Галата, выше, в самое поднебесье, к вратами седьмого предела, где бы он стал в бесконечную очередь к волосяному мосту вместе с душами солдат и моряков, погибших во всех концах воюющего мира. Что изменилось в последний момент?
У меня нет подходящего объяснения, точнее, их сразу несколько, но ни одно из них мне не кажется исчерпывающим. Очевидно лишь то, что Случайность и Судьба, заключенные в самом охранном имени Идрис, слившись воедино, изменили простую последовательность событий.
Они обнаружили себя дробью шагов по скрипящей лестнице как раз в то самое мгновенье, когда трепетная душа Идриса–морехода уже была готова спорхнуть с его полуоткрытых губ.
Шаги замерли перед дверью в мансарду. Раздался короткий, но настойчивый стук, затем дверь открылась, и ангелы, по–птичьи встрепенувшись, стали быстро обращаться в тени, чтобы без остатка раствориться в полусумраке комнаты. И тотчас холод, сковавший его сердце, ослабел, отступил, кровь начала приливать к лицу, разгоняя остатки смертельной белизны. Жадно глотая воздух, дедушка почувствовал, как зрение и слух постепенно возвращаются к нему.
Над Константинополем продолжает падать снег.
Запахнувшись в светлое пальто, Хейдар Хасан (или, на турецкий манер, Хайдар Хасан) сидит на единственном стуле и молча курит. Он не один. Позади него, подпирая головой низкий потолок мансарды, стоит человек огромного роста с широким лицом, украшенным пышными пшеничными усами, кончики которых свисают до самого подбородка.
Идрис Халил пытается встать, но он так слаб, что едва может оторвать голову от подушки.
— Лежи, лежи! Не надо… — качает головой Хайдар Хасан.
Едва понимая смысл слов, обращенных к нему, но успокоенный уверенным тоном своего спасителя, дедушка закрывает воспаленные глаза, вновь погружаясь в лихорадочное оцепенение.
Еще с минуту гость продолжает задумчиво курить, стряхивая пепел на старый палас, а затем, как бы приняв окончательное решение, вынимает из мундштука тлеющий окурок и бросает его в остывающую топку печки.
— Осман! — кивает он своему спутнику, и великан шагнул к кровати, заставив половые доски с жалобным скрипом прогнуться под огромными башмаками. Наклонившись, он откинул в сторону влажное одеяло и ловким движением легко, словно ребенка, взял дедушку на руки.
Идрис Халил без сознания. Голова его безжизненно запрокинута назад, а душа пребывает рядом с огромной печью, в которой круглые чуреки покрываются румяной хрустящей корочкой.
3
Простая магия чисел.
Нет ничего удивительного в том, что горячечный сон Идриса Халила продлился сорок дней и сорок ночей. Сон, в котором белая мука, случайно просыпанная на влажную землю, неизбежно обращалась в Соломенный путь, ведущий на Восток, к спасительному свету, рожденному из огня в кирпичной печи.
Балансируя на смутно различимой грани между жизнью и смертью, дедушка почти не испытывал страданий, сопряженных с болезнью. В тяжелом забытье, бледный, с заострившимися скулами и обросший бородой, он лежал на высоких подушках, и волоокая гречанка — мадам Стамбулиа — едва успевала менять полотенца у него на лбу.
В густом свете керосиновой лампы лицо Идриса Халила похоже на маску. Лишь судорожно подергиваются веки, да иногда он вдруг приподнимается на локтях и обводит жарко натопленную комнату невидящим взглядом. Но вдовая мадам Стамбулиа, страдающая в свои неполных сорок три года острыми приступами бессонницы, к счастью, находится рядом. Она укладывает его обратно и поит горячим чаем из большой фарфоровой чашки с сине–белым рисунком. Душа Идриса–морехода, почти оторвавшись от измученного тела, продолжает пребывать рядом с пышущими жаром противнями и сдобными булками. Душа его — вдыхает аромат горячего хлеба, марципана и кардамона, а сахарная пудра, клубящаяся, словно туман, застилает глаза.
Мадам Стамбулиа обтирает лицо и руки Идриса Халила губкой, смоченной в виноградном уксусе. Прохладный уксус обжигает кожу.
— Вот так, вот так! Сейчас жар спадет…
Но жар не спадает. Уксус быстро испаряется с пылающего лба. Она поправляет ему подушку, приглушает свет лампы. Набухшая губка плавает в тарелке. В закрытые ставни стучит дождь.
На мадам Стамбулиа черное вдовье платье, черные чулки и черный платок. Она берет его за руку, закрывает глаза и, беззвучно шевеля губами, молится, и люди–птицы, незримо стоящие в изголовье дедушкиной постели, отступают.
Сон Идриса Халила все продолжается и продолжается, и кажется, что ему не будет конца. Пневмония смертельна. В эту эпоху крушения великих империй пенициллин еще не изобретен, и смерть от воспаления легких так же привычна, как железные дороги, автомобили и карманные часы.
Он очнулся, только когда вышли все сроки — на сорок первый день.
— Все дело в курином бульоне! Но курица не должна быть слишком жирной …
Его кормят с ложечки. На груди у него вышитое полотенце. Он сидит, облокотившись на подушку. От слабости кружится голова.
Мадам Стамбулиа подносит полную ложку к запекшимся губам:
— Кушай, кушай! Теперь уже быстро пойдешь на поправку. Бульон — первое дело! Накрошу еще немного хлеба… вот так! Не пролить…
Дедушка смущенно проводит рукою по жесткой бороде.
— Скоро придет доктор, Ялчин Ходжа Эфенди. Он тебя послушает. Ну–ка!..
Она открывает ставни, впервые за сорок дней, и бледное зимнее солнце заполняет комнату призрачной дымкой. Дедушка щурится, складывает перед глазами руки козырьком.
Раннее утро января 1915 года. За окном — море. По стремительной ряби скользят бесчисленные рыбацкие шаланды, а вдалеке, на самой линии горизонта, стеной стоят серые громады каперов и эсминцев с расчехленными орудиями. На набережной, прямо под окнами, продавец рыбы раскладывает свой товар на деревянном прилавке: черно–белая камбала, кефаль, розовая рыба–язык, скумбрия, отдельно — мидии. У обочины дежурят извозчики и чистильщики обуви. Темнокожая служанка в высоком красном тюрбане громко торгуется у тележки с овощами. В руках у нее объемная кошелка, из которой торчат пучки сельдерея.
Война почти не ощущается в этой части Вечного города — благословенный квартал Арнавуткей живет своей привычной жизнью. Здесь нет солдат, нет мешков с песком и пулеметов. О войне напоминают лишь военные корабли на рейде да приказы о мобилизации, расклеенные на витринах магазинов и афишных тумбах. Многоязыкие граждане Высокой Порты продолжают верить, что враг никогда не сможет ступить на улицы Константинополя.
Морской бриз перебирает широкие листья пальмы, растущей напротив.
— Где я?
— В доме Хайдара–эфенди…
Пока Идрис Халил разглядывает свое лицо в круглом зеркале, мадам Стамбулиа принесла чистое полотенце, медный тазик и душистое мыло. Дедушка пробует встать, но его ослабевшее тело все еще требует покоя. Он осторожно садится на край постели, свешивает ноги вниз. Теплый ворс ковра щекочет босые ступни.
Она льет из кувшина теплую воду в раскрытые дедушкины ладони, и капли воды, сверкнув на солнце, веером разлетаются в разные стороны…
Появляется доктор. Высокий, грузный, с тонкими усиками и холеными руками. На безымянном пальце — серебряный перстень с черным камнем. Он молча достает из саквояжа очки в круглой оправе и, тщательно протря стекла платком, сажает их себе на кончик носа. Лишь после этого обращается к дедушке:
— Ну–ка, подними рубашку!
Мадам Стамбулиа торопливо выходит из комнаты, тихо затворив за собой дверь.
— Дыши!
Доктор прикладывает к груди Идриса Халила холодный стетоскоп и слушает его хрипящие легкие.
— Дыши глубже!.. Глубже! Еще! — В голосе его явственные нотки нетерпения. — Достаточно!
Он выкладывает из саквояжа на стол несколько бумажных пакетиков с порошками и, объяснив, как их принимать, не прощаясь, уходит. После него в комнате остается запах дорогого табака и мятных капель. Дедушку клонит в сон. Он ложится и почти сразу засыпает.
Начинается выздоровление, почти такое же долгое и тяжелое, как и сама болезнь.
А бледное зимнее солнце продолжает свой путь.
4
В музыкальной шкатулке с видом на море, укутанный
жаром горящих поленьев, я задыхаюсь от звуков.
Арнавуткей — призрачный старомодный оазис разноцветных домов, отраженных в жемчужной воде Эгейского моря — затерялся где–то на окраине Мировой войны. Он также нереален, как и белый особняк Хайдара–эфенди, окруженный высокой чугунной оградой, заросшей жимолостью, который порой представляется мне просто дедушкиным вымыслом, некой метафорой рая из его недописанной поэмы…
Ничего удивительного в том, что Идрису Халилу было позволено остаться жить в доме своего спасителя и земляка.
Таинственный Хайдар–эфенди — то ли беглый преступник в романтическом стиле эпохи, то ли просто богатый купец, оказался человеком хотя и не расточительным, но и не скаредным. Так, за полтора года пребывания в его доме Идрис Халил, как и все остальные получавший еженедельное жалованье, успел обзавестись двумя костюмами из магазина готовой одежды, дюжиной рубашек, двумя парами башмаков и некоторыми книгами. При этом он регулярно откладывал часть денег на возвращение в Баку.
Дедушка был определен чем–то вроде управляющего с крайне ограниченными правами, потому что на самом деле всем в белом просторном доме из благородной средиземноморской сосны ведала энергичная мадам Стамбулиа. Она решала, где и какие именно продукты следует закупать, сколько денег тратить на керосин, уголь, сколько платить садовнику, кухарке, мальчишке–разносчику, какие газеты стоит выписывать, а какие нет, пора ли чинить черепицу на крыше, топить камин в гостиной, менять постельное белье. Одним словом, все хозяйство просторного дома в Арнавуткейе целиком управлялось ею одной, и должность дедушки оказалось сплошной синекурой, которая, в основном, сводилась к разным мелким поручениям и ведению записей в приходно–расходной книге под строгим контролем мадам Стамбулиа. Каждую пятницу она отправлялась со всеми счетами к хозяину и, после подробнейшего отчета, получала от него деньги на расходы и жалованье для прислуги.
Хайдар–эфенди жил довольно уединенно. Он не получал и не отправлял никаких писем, крайне редко принимал гостей, никогда ничего не рассказывал о своем прошлом, семье и родственниках, оставшихся в Эриваньской губернии, и большую часть времени в течение дня проводил в маленькой конторе на Гранд Базаре или разъезжая в сопровождении великана Османа по своим многочисленным лавкам, магазинам и кофейням, разбросанным в европейской части города.
Единственной известной слабостью Хайдара–эфенди были музыкальные грампластинки. Французские, итальянские, греческие, турецкие, две редкие записи знаменитого Сеида Мирбабаева, выпущенные еще до войны в Варшаве, цыганские романсы и даже арии из немецких опер. В серых бумажных конвертах они лежали в комоде, на котором стоял чудесный патефон с хорошо узнаваемой эмблемой фирмы «Пате».
Патефонные вечера проходили всегда одинаково. После ужина хозяин выбирал несколько пластинок по своему усмотрению, устраивался в кресле перед стенной печью, облицованной бело–голубыми изразцами, и играл с Османом в нарды. Играл он рассеянно, без азарта, но при этом всегда выигрывал. Кости, выскакивая из его цепких пальцев с длинными крючковатыми ногтями, словно заколдованные, всегда выпадали так, как ему было нужно, и он, почти не глядя, переставлял фишки по лакированному полю, все сильнее загоняя противника в угол.
Мадам Стамбулиа приносила кофе, сладости и мелко нарезанные фрукты. Иногда вместо кофе была боза.
В патефонные вечера Идрис Халил безумно скучает. Он просматривает газеты, читает или пытается следить за ходом игры. Но очень скоро яркая хрипотца патефона, льющаяся из блестящего медного раструба, сплетается с размеренным стуком игральных костей и отдаленным, почти неразличимым гулом прилива в некое подобие плотного покрывала, которое обволакивает его с ног до головы. Веки его постепенно тяжелеют — весь остаток вечера он проводит в безуспешной борьбе со сном, против которого бессилен даже отменный черный кофе с традиционным стаканом холодной воды.
Когда молчит ненавистный патефон, накрытый специальным чехлом, Идрис Халил сочиняет поэму. Работа продвигается медленно, тяжело, словно во время недавней болезни его поэтический дар ослабел, а вдохновение исчезло вовсе. Страницы пестрят вялыми правками, и среди унылого стихотворного сора выделяются лишь отдельные строфы.
Большая часть рукописи была утеряна во время обыска. Четыре законченные главы поэмы вместе с двумя десятками неопубликованных статей и переводов, конфискованные и подшитые к дедушкиному делу, навсегда исчезли среди тысяч подобных же дел в безумном хаосе имперских архивов.
Случайность и Судьба вновь переплетаются друг с другом.
Почему они не забрали всю рукопись целиком?
Брезгливое нежелание военного человека возиться с бумагами, на поверку оказавшимися всего лишь невразумительным поэтическим опусом без начала и конца, а не прокламациями или схемами морских коммуникаций, спасло остатки поэмы Идриса Халила.
…Дни слепо следуют друг за другом в бесконечной череде повторений, потому что здесь, в благословленном квартале Арнавуткей, время, похоже, теряет всю свою власть над людьми и событиями. И пока мой предок раздраженно грызет кончик химического карандаша в тщетной надежде обрести былую легкость, у самых ворот Константинополя, там, где в море висящей челюстью выдвигается Галлипольский полуостров, готовятся к высадке войска Союзников. Вавилонская орда, сотни тысяч человек со всех концов воюющего мира жаждут ворваться на улицы Города Царей.
Идрис Халил пишет:
Отходят воды. На мраморной крошке мертворожденные чинно лежат, словно товар в лавке на соседней улице: черные мидии, генеральские звезды, головастые рыбы и бурая зелень — погасший свет моря…Начинается отлив. Дедушка сидит на скамейке, прямо напротив дома, и долгим взглядом смотрит на море. Серое облако на горизонте — дым из пароходных труб. Канонады еще нет, и пленительную тишину нарушают лишь клокочущие звуки отходящих вод и протяжные крики чаек, следующих за рыбацкими шаландами. На дедушке новое пальто, не такое красивое, как прежнее, но зато более практичное. Он курит, зажав папиросу в кончиках длинных пальцев. Холодно. Вода у самой кромки постепенно мелеет, и сквозь ее светлеющую толщу различимы густые гирлянды водорослей и морские ежи, лежащие на мраморной крошке, смешанной с песком.
Идрис Халил думает о доме. Думает о том, как он едва не умер здесь, в надменном Городе Царей, окутанном легким флером грядущей катастрофы, о бездетной мадам Стамбулиа, и своей поэме, в которой нет любви и главной героини.
Мартовские дожди. По ночам его будит дробный стук капель в закрытые жалюзи на фоне призрачных гудков паровозов. Проснувшись далеко за полночь, весь охваченный странной чарующей тоской, что сродни любовному томлению, он понимает: на самом деле нет никаких паровозных гудков, а есть только шум дождя и это пугающее одиночество морехода в самой середине пути к недостижимому горизонту под негасимым сиянием звезд. Он торопливо накидывает на плечи одеяло, садится к столу, — слова и чувства переполняют его, — но, увы, быстрые строфы на кончике его пера на поверку оказываются бледными и безжизненными. И чем глубже в весну погружается Город Царей, чем гуще льют дожди, разрыхляя спящую землю в чудесном саду Хайдара–эфенди, тем сильнее становится дедушкино томление. Окутанный паутиной предрассудков, он, сам того не понимая, ищет героиню.
Сны его давно уже смешались, перепутались. Великое мучное царство противней и хлеба постепенно отступило куда–то в непроглядную темноту, уступив место скромным эротическим фантазиям, пока все еще безадресным и даже бесформенным, как подходящее тесто. В них безраздельно царила некая женщина–соблазнительница: то ли гурия из райских кущ, то ли огненный ифрит. Не произнося ни слова, она говорила с ним, касалась легкими пальцами его лица, улыбалась на разный манер — иногда зазывно, почти развратно, а иногда — кротко, как юная дева…
Но что бы ни снилось ему той весною, всегда, где–то там, на дальнем плане, присутствовали гудки уходящих в ночь паровозов.
Тягостный март сменился апрелем. Дождей с каждым днем становилось все больше, и теперь они шли утром, шли в обед, и фиолетовые сумерки тоже сопровождались дробным стуком дождя в черепичную крышу. На набережных пузырились огромные лужи, ручьи, устремляясь через весь город к морю, превращались в бурливые потоки, несущие жидкую грязь и мусор. Некоторые кварталы оказались подтопленными. Так продолжалось до середины апреля, когда однажды, на рассвете, Идрис Халил проснулся от неожиданно наступившей тишины. Не было ни привычного стука капель, ни напряженного шелеста воды, стекающего по водостоку, а сквозь просветы в деревянных жалюзи пробивался солнечный луч, аккуратно нарезанный на длинные полоски. Поднявшись с кровати, Идрис Халил подошел к окну, открыл жалюзи, и яично–желтое свечение удивительных цветов, каких он никогда прежде не видел, заставляет его затаить дыхание.
Огромные желтые цветы на ухоженных клумбах чудесного сада. Тюльпаны.
С того дня сидение дома превратилось в настоящую пытку. В надежде избавиться от охватившего его томления и скуки и желая хоть как–то отплатить своему благодетелю, Идрис Халил попросил хозяина поручить ему какое–нибудь дело. После короткого раздумья Хайдар–эфенди согласился.
Дело оказалось не слишком сложным, но довольно странным, если не сказать, подозрительным. Идрис Халил должен был ходить по разным адресам и встречаться с какими–то людьми, которые молча передавали ему деньги — довольно большие суммы — и также молча уходили, или скорее даже исчезали бесследно. Иногда это были небольшие гостиницы сомнительного толка, иногда шумные кофейни, а иногда настоящие притоны, где курили гашиш, торговали женщинами и контрабандой. Но где бы он ни появлялся, имя Хайдара–эфенди, которого, казалось, знали все отбросы гигантского города, служило ему охранной грамотой и пропуском.
Для романтического восточного поэта (в известном смысле — тавтология, потому что восточный поэт не может не быть романтическим) и сына законопослушного пекаря, пусть даже и с толикой авантюризма в крови, все это было настолько шокирующим, что Идрис Халил сразу же пожалел о тех днях, когда он мирно скучал под сенью благословленного квартала Арнавуткей, ничего не подозревая об истинных источниках процветания хозяина дома. Увы! Джин уже был выпущен из бутылки! Проклиная себя и свою несчастливую звезду, и тот злополучный час, когда поезд увез его с Сабунчинского вокзала, дедушка безропотно отправлялся по указанным ему адресам, принимал деньги и выписывал расписки.
Примерно 21 апреля в доме навсегда замолчал патефон. Случилось это в один из скучных музыкальных вечеров, когда Хайдар–эфенди, как обычно, играл с Османом в нарды, а дедушка дремал, спрятавшись за газетными страницами. В открытое окно гостиной неизвестными была брошена самодельная бомба. Упав на играющий патефон, адская машина скатилась на пол и, изрыгая едкий дым, с минуту бешено металась по ковру, но, по счастью, так и не взорвалась.
Неизвестные бомбометатели скрылись на быстрой пролетке.
Бомба безнадежно испортила не только чудесную шкатулку фирмы «Пате». Окончательно развеянными оказались и последние иллюзии Идриса Халила.
Сменяя друг друга, перед особняком круглосуточно стали дежурить вооруженные люди. Они тщательно обыскивали всех приходящих у витых железных ворот, не делая исключения даже для садовника и мальчишки–разносчика. Они были молчаливы, но выглядели вполне дружелюбно. Характерный акцент и их незамысловатые костюмы — широкие черные шальвары на манер галифе, короткие куртки и кепи, которые они почтительно снимали, завидев Хайдара–эфенди — выдавали в них жителей Центральной Анатолии. А потому более всего их занимали рыбацкие лодки, скользящие в глубине бухты. Сложив руки козырьком, они подолгу разглядывали их, завороженные сверкающей рябью и плавным дыханием моря.
Еще одним новшеством стали гости. Уединенный дом в Арнавуткейе неожиданно распахнул свои двери для множества людей самого странного вида. Они приходили с утра и порой засиживались до позднего вечера. Много ели, много курили, и почти все имели при себе оружие. Но, несмотря на это, окна, выходящие на улицу, по распоряжению хозяина теперь все время держали наглухо зашторенными.
— Все будет хорошо! Хайдар–эфенди обо всем позаботится! — говорит мадам, пересчитывая стопки постельного белья в стенном шкафу. Отодвинув край шторы, дедушка смотрит на улицу. Полдень. Улица непривычно безлюдна.
— Так уже было однажды! Года три или четыре назад… На свете столько завистников, столько злых людей!
Она перекладывает белье холщовыми мешочками с высушенными корками лимона, а Идрис Халил смотрит рассеянным взглядом на пустынную набережную и на серебрящееся море, и вдруг, совершенно неожиданно для себя, представляет скрытые от него белым шелковым платком волосы мадам Стамбулиа распущенными по ее обнаженным плечам. Видение это — настолько отчетливое, настолько явственное, что сердце Идриса Халила буквально замирает на какое–то бесконечно длинное мгновенье, у него начинает кружиться голова, и он едва не падает.
— …и цены растут с каждым днем. Все дорожает! Особенно керосин и масло. Бакалейщики припрятывают товар…
Она все говорит и говорит, а дедушка, целиком захваченный новым чувством, напоминающим одновременно горячечный озноб и сладостную истому, какая бывает, когда, разомлев от горячего пара, лежишь на теплой мраморной лежанке под темными сводами бани, пытается отогнать недозволенные мысли.
— …У брата нашего садовника покалечило сына. Ему оторвало ногу и три пальца на правой руке. А ведь совсем еще мальчик! Как ему теперь жить…и даже жениться не успел! Я же говорю, совсем еще ребенок! Однажды он приходил сюда помогать. Невзрачный такой, худенький — и вот такое несчастье! Хайдар–эфенди отослал его отцу денег, и еще оливковое масло, и свежей рыбы. Сердце у него доброе! Ну–ка, помоги мне!..
Она протягивает ему стопку белья.
Она стоит так близко, что сквозь тонкий аромат лимона и накрахмаленных наволочек он чувствует ее теплое дыхание.
— У тебя такое милое лицо! — вдруг тихо сказала мадам, подняв голову и взглянув на него смеющимися глазами. — Положи это, пожалуйста, на верхнюю полку. Мне не достать…
5
Потом Хайдар–эфенди неожиданно уехал.
Рано утром, когда над садом с желтыми цветами еще висела рассветная дымка, пронизанная острыми лучами восходящего солнца, просторный фаэтон увез его куда–то на запад. О причине его столь внезапного отъезда ничего не было сказано, но она была более чем очевидна: неизвестные, угрожающие хозяину дома, подобрались совсем уже близко — настолько близко, что теперь даже вооруженные люди у ворот вряд ли смогли бы его защитить.
И потянулись дни, поначалу полные страха и тревог.
По утрам их будило пугающее эхо артиллерийских залпов. Оно нарастало где–то в глубине вызолоченного горизонта, неслось над гладью моря и, достигнув берега, заставляло жалобно дребезжать оконные стекла. Канонада продолжалось до самого вечера и умолкала лишь с последними отблесками солнца, салютуя ему огненными зарницами — это флот Союзников, ведомый гигантским крейсером «Голиаф», обстреливал позиции на Галлипольском полуострове.
Несмотря на духоту, шторы по–прежнему держали плотно закрытыми, отчего было неуютно и сумрачно. В отсутствие хозяина все, кто остался в доме, а помимо Идриса Халила и мадам, это были кухарка, садовник да двое охранников, продолжающие дежурить у ворот, сами того не замечая, старались говорить вполголоса, словно где–то рядом был покойник.
Между тем на дворе уже стоял май, и короткие вечера стали наполняться тревожными ароматами ночных цветов: терпкими, требовательными, томительными. В звездном небе, оплетенном невидимыми нитями Судьбы, как в зеркале, отражался осажденный Константинополь.
Было сказано в Книге:
«Нет добра во многих из их тайных бесед…»
Сидели на просторной веранде, выходящей прямо в сад, к ухоженным клумбам с удивительными тюльпанами. Мадам вышивала, и цветные стежки, ряд за рядом плотно ложились на девственно–белое полотно, а дедушка вслух читал военные сводки из газет или современную беллетристику — что–нибудь из раннего Яшара Нури Гюнтекина. Иногда чтение по–настоящему захватывало его, позволяя на время почти забыть о присутствии мадам, но чаще, охваченный страстным волнением, он едва мог дочитать начатую фразу, совершенно потерявшись среди нагромождения букв, текущих справа налево.
Засиживались допоздна. Паузы тянулись бесконечно долго, но паузы эти были более осмысленными, чем редкие диалоги.
Отлив. Где–то за увитой жимолостью оградой чудесного сада, унося с собой все страхи, отступают сияющие воды. Восходящая полная луна серебрит трепетные листья олеандров вдоль дорожек, посыпанных гравием, и купол круглой беседки. Так свершается записанное, и Идрис–мореход, преодолев тысячи верст через пустые и призрачные земли и переплыв три моря, обретает нечто удивительное. Нечто такое, что останется с ним до конца его жизни и каким–то образом коснется и нас, его потомков!
Мотыльки, отбрасывая длинные тени, кружатся вокруг плафона лампы, а игла в тонких пальцах мадам продолжает тянуть за собой незримые нити дедушкиной судьбы, которая в самом центре воюющего мира явила ему свою бесконечную милость, одарив любовью под сенью цветущего сада…
Любовь, волоокая вдова в свои неполные тридцать девять, поэзия, клумбы с желтыми цветами, Мировая война, начало века, и летящие набережные, на которых торгуют калеными каштанами, — как все это далеко от Идриса Халила образца 1930 года, сидящего на табурете, положив на колени по–крестьянски натруженные руки (последняя фотография в семейном альбоме)!
Время к полуночи.
Она нагадала ему долгую жизнь, дальнюю дорогу и военный мундир. Но в кофейной гуще, почти такой же черной, как вдовьи платья, которые она носила, было не только это. Там был и затянутый туманами остров Пираллахы, ждущий его в совершенно другом море, не похожем на это. И штык, изуродовавший руку. И серебряная монета, и даже грядки фиолетовых баклажанов. Все это было записано кофейными крупинками на внутренних стенках фарфоровой чашки, до последней точки! Но только мадам была плохою гадалкой, и единственное, что ей удалось явственно разглядеть — это бесконечная дорога вслед за убегающим горизонтом да золотые офицерские нашивки.
Прогуливаясь вдоль кустов чайной розы, они молчали, но шорох теплого гравия под ногами был таким отчетливым и ярким, что у Идриса Халила почти кружилась голова. И невольно каждое его движение, каждый вдох и выдох наполнялись тайным смыслом витиеватого любовного послания.
Любовь, освященная чужим садом.
Конечно, это был странный роман! Слишком поэтичный, даже с учетом всех его обстоятельств, и одновременно — предсказуемый от начала и до конца! Роман, как паутиной, опутанный предрассудками и трусливой нерешительностью прилежного ученика моллаханы и вдовы–содержанки. Роман с затхлым душком предательства, венцом которого стали долгие поцелуи в круглой беседке и лишь одна ночь…
Грехопадение.
Они встретились в комнате Идриса Халила. Просветы в закрытых жалюзи светились молочно–голубыми полосами наступающего вечера. Стояла удивительная тишина: огромный пустой дом, обычно полный шорохов, хранил непроницаемое молчание.
А когда вечер за окнами незаметно сжался до бархатной темноты весенней ночи и на улицах зажглись редкие фонари, а молодой месяц, тонкий, словно полоска фольги, только проступил над черепичными крышами домов, покойное небо вдруг раскололось надвое, и через мгновение на горизонте в оранжевых брызгах зарниц встал огненный гриб. Вспенилось море, покатилось к берегам, чтобы выплеснуться на набережные. В доме захлопали ставни. Обнаженные и напуганные, они вскочили с кровати и прильнули к окнам.
Что произошло?
Дети Книги, каждый из них на свой лад помнит о пресловутых яблоках в чудесном саду. Грехопадение в рукотворном Эдеме — это Судьба, о которой все уже было сказано в подтеках кофейной гущи. А Случайность то, что именно 12 мая 1915 года «Голиаф», гигантский крейсер Британского Адмиралтейства, взлетел на воздух, торпедированный у Золотого Рога маленьким турецким ботом Муавинет–и–Миллие, незаметно подобравшимся к нему под покровом темноты.
Горизонт полыхал, расцвеченный фейерверком рвущихся снарядов, в гостиной троекратно били часы. Мадам сидела у окна, прикрыв ладонями мокрое от слез лицо.
Я смотрел сквозь увитую виноградом решетку на проезжающие мимо повозки. Лица солдат на ярком солнце казались восковыми масками. Не более. Они шли умирать, а в дивном саду всегда был вечер, и горели фонари…Они лежали без сна, растерянные и одинокие перед лицом надвигающегося возмездия. Огромный дом вновь наполнили ожившие шорохи, по саду заскользили быстрые тени, и бессмертная душа Идриса–морехода трепетала, охваченная противоречивыми чувствами.
Месяц — на Запад, звезды — на Восток! Клумбы с желтыми тюльпанами отражаются в небе. Там, на веранде, на низком столике осталось лежать забытое блюдечко с подсохшими разводами кофейной гущи.
Мадам вдруг встрепенулась, приподнялась на локтях и шепотом сказала:
— Он скоро будет здесь!..
Они стали торопливо одеваться.
Не прошло и получаса, как перед увитой жимолостью оградой затормозил автомобиль. С улицы послышались голоса, захлопали двери. Шаркая башмаками, кто–то быстро прошел по аллее сада.
…Роскошное черное авто: радужный свет уличного фонаря отражался в его длинных лакированных крыльях в форме набегающей волны, а от хромированной решетки тонкой струйкой поднималось облачко горячего пара.
Хайдар–эфенди сидел на переднем сидении, прижав окровавленную тряпицу к правому плечу. Его седые, коротко стриженые волосы слиплись на висках от пота.
— Вот видишь, женщина, стреляют не только на войне!
На бледном лице мадам Стамбулиа выступил стыдливый румянец:
— Мы так боялись за вас!..
И тот час тряпица под сжатыми пальцами Хайдара–эфенди, как бы обличая греховную ложь, потемнела, стала обильно сочиться кровью, он вздохнул, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла, мадам вскрикнула, но уже через мгновение, переборов приступ слабости, хозяин взял ее за руку и попытался подняться.
На помощь ему поспешил один из охранников.
Они медленно направились к дому, оставив Идриса–морехода, вырванного из спасительного сумрака вечернего сада, одиноко стоять посередине этой пустынной улицы, наполовину занесенной тополиным пухом…
— Садись–ка, парень, в машину! — окликнул его кто–то сзади. Осман. — Поедешь со мной!
…Все дальше и дальше, следуя отчетливым знакам Соломенного пути!
Справа — сияющая громада моря, слившегося с небесами, а слева — редкие фонари у подъездов спящих домов. Автомобиль мчится вдоль безлюдной набережной. Ветер, рвущийся в открытые окна — терпкий, влажный, пропитанный запахом рыбы и гниющих водорослей — бьет в лицо Идрису Халилу, мешая ему сосредоточиться на своих мыслях. Он увлекает его за собой в молчаливое путешествие к неведомой цели на все той же зыбкой грани между тьмой и светом.
Набережная оборвалась узкой полоской пляжа. Свет фар выхватил из темноты лежащие на песке рыбацкие шаланды и сети, гирляндами развешанные на шестах. Они свернули куда–то влево, в темный переулок, петляющий между сплошной стеной невысоких домов.
Продолжение подземного лабиринта.
Мечеть, базарная площадь в глубине неизвестного квартала. В просветах между крышами показалось море. Показалось на минуту — и вновь исчезло.
Вокруг все больше пустырей и покосившихся деревянных сараев, не обнесенных оградой. Конюшни. Проехали лесопилку, где под навесом у стены были сложены штабелем доски. Дорога то сужается, то расползается вширь. За обочиной слева уже потянулись распаханные наделы, оливковые плантации и одинокие крестьянские мазанки.
Далеко позади, в зеркале заднего обзора остались острые минареты, нацеленные в небо.
Деревенские усадьбы встречали их отчаянным лаем собак. А они все ехали и ехали, пока, наконец, дорога не завела их под высокие сосны на самой вершине холма, нависшего над морем.
Осман заглушил мотор.
Ошеломленный ночной гонкой, Идрис–мореход жадно вдыхает прохладный воздух, густо пахнущий хвоей, и еще морем, незримое присутствие которого угадывается по отдаленному гулу прибоя. Слегка пошатываясь, он выходит из машины, потягивается, делает несколько шагов по твердой земле, с удовольствием чувствуя, как под ногами хрустят сосновые иголки.
Тоненький месяц переместился справа налево.
Зачем они здесь?
— Что дальше, Осман?
Он обернулся к машине, и вдруг, парализованный мгновенным страхом, увидел два огромных силуэта, которые опускались медленно сверху, заслоняя крыльями звезды.
Парные ангелы! Неразлучные Харут и Марут! Божественные стервятники, сопровождающие души…
Бесшумно сложив крылья, они встали на крыше автомобиля. Замерли.
Бедный дедушка!
Одинокий мореход, изгнанный за предательство из рукотворного рая — не могу даже представить себе весь его страх и отчаяние в эту самую минуту! Вот он стоит, не мигая уставившись на жутких предвестников смерти, и думает о том, что, оказывается, единственной целью этой сумбурной ночной езды по разветвляющемуся лабиринту чужих улиц было возмездие за грех прелюбодейства, и здесь, на самом краю воюющего мира, среди парящих сосен, должно оборваться его удивительное путешествие, начатое со старого Сабунчинского вокзала. Внезапная любовь к мадам Стамбулиа да ворох листов недописанной поэмы — и то и другое, одинаково призрачное, нематериальное, наполовину составленное из снов и фантазий — вот и весь его багаж. А где–то там, в горькой дымке войны и тумана сгинули отчий дом, и братья, и пекарня, и шумный город, и его alter ego — вздорный Мухаммед Хади.
В тщетной надежде прогнать ужасное видение, Идрис–мореход закрывает глаза и трижды про себя произносит «Бисмиллах». Но парные ангелы не исчезают. Они все так же продолжают стоять на крыше автомобиля в ожидании добычи. Лишь с моря поднимается влажный бриз, проносится по кронам сосен, перебирая их, будто струны, и они оживают, наполняясь грустным поскрипыванием и свистом.
Дедушка достает из кармана коробку папирос, пытается закурить, но спички, одна за другой, ломаются и гаснут в его дрожащих пальцах. А когда рыжий уголек на кончике папиросы, наконец, разгорается, горький вкус табака, кажется, лишь усиливает страх, делая его еще более отчетливым.
Прозрачный свет молодого месяца заметно мутнеет, окурок, подхваченный порывом ветра, катится по земле. Время почти вышло, однако древнее правило: Мореход не может погибнуть ни в одном из своих путешествий — все еще живо!..
— Что ты стоишь?! Помоги!..
Харут и Марут встрепенулись на крыше автомобиля.
Он увидел в машине мужчину, лежащего под задним сидением.
— Надо похоронить его! — Сказал Осман, ухватив мертвеца за руки. — Там, в багажнике, две лопаты…
Они выволокли тело и уложили на землю, на теплые сосновые иглы. Начали копать. Земля была твердой, неподатливой, лопата то и дело натыкалась на узловатые корни и камни, но это было уже неважно, как и то, что ладони Идриса Халила очень скоро покрылись волдырями, а пот насквозь пропитал рубашку. Чем глубже они погружались в землю, пьянея от ее пряного запаха, тем гуще становился свист ветра в кронах сосен.
Под светом летних негасимых звезд кто был роднее мне, чем эти сосны? Сосны — сестра мои…Копали не меньше часа, пока глубина ямы не стала им по пояс.
— Кто он?
Ветер — жаркий, почти обжигающий, словно чье–то дыхание — остро пахнет горечью, пахнет дымом и пылью, напоминая Идрису Халилу о доме.
— А зачем тебе знать?…
В глазах великана сверкнули и погасли злобные огоньки:
— Он заслужил такую смерть!
Встав на колени, Осман ловко обыскал мертвеца. В кармане жилетки оказались кожаное портмоне, мундштук, да еще золотые часы на цепочке. Пересчитав деньги, он предложил Идрису Халилу одну треть, но тот суеверно отказался.
Тело опустили в яму: головой на восток.
— «…сказано ему: «Войди в рай!» Он сказал: «О, если бы мы люди знали, за что простил мне Господь мой…» — шепчет Идрис Халил, раскрыв перед собой ладони. Молитва должна облегчить долгий путь.
Пока они закидывали тело землей — Харут и Марут, расправив огромные крылья, взлетели и, покружившись над соснами, бесследно растворились в облаке пыли.
Они вернулись к машине.
— Еще есть время до рассвета! — сказал Осман, доставая из–под водительского сидения закупоренную бутыль с мутной белой жидкостью. — На!.. Ты первый!
— Что это?
— Анисовая водка!..
— Нельзя!
— Убивать людей — это грех!
— Что?…
— Я говорю, Аллах простит тебя! Пей, не бойся…
Идрис Халил взял бутыль. Бросив взгляд в сторону свежей могилы, он решительно вытянул затычку зубами и сделал большой глоток.
Они пили, пока в бутылке не осталось больше ни капли. И напившись без меры, Идрис–мореход плакал, размазывая слезы по грязному лицу. Ему опять виделись братья, горы горячего хлеба, отец, раскатывающий тесто на длинном столе. Легкая пыль роилась в свете фар, и падала хвоя, и в ознобе еще не наступившего утра он никак не мог согреться.
Между тем, ближе к горизонту уже тускнели звезды, и верхушки сосен стали проступать черными силуэтами на фоне фиолетового неба. Время к рассвету. Осман достал из кармана часы безымянного мертвеца:
— Пора!..
Отравленный горьким вином (пусть даже это и анисовая водка), Идрис Халил уверен, что умирает. Мир вокруг него балансирует на едва различимой грани между явью и сном, все сильнее кружится голова. Он опускается на землю и сжимает виски.
— Домой?.. Мы едем домой?..
Ответа не последовало.
Осман подогнал машину к самому обрыву. Не выключая фар, он вышел, уперся руками в переднюю стойку, и роскошный автомобиль, скрипнув рессорами, сорвался вниз, на мгновенье прорезав небо двумя бледными конусами света.
Те несколько секунд, пока длится чудесный полет и еще по инерции вращаются колеса, и размытые отражения звезд скользят по лакированным крыльям, над горизонтом вспыхивает тонкая оранжевая полоса. Рассвет!
6
Рана Хайдара–эфенди оказалась не слишком тяжелой. Пуля застряла в мягких тканях выше правого легкого, и в результате несложной операции в первый же вечер была извлечена доктором Ялчином Ходжой. Осталась лишь небольшая лихорадка да слабость, вызванная потерей крови. Однако, несмотря на это, хозяин пребывал в отличном расположении духа. Обычно молчаливый, теперь он был чрезмерно весел, много шутил и приглашал гостей, спешивших выразить ему свое уважение, троекратно поцеловав и приложив ко лбу его правую руку. Никого из них Идрис Халил прежде не видел.
Окна дома вновь были распахнуты настежь, занавеси отдернуты, и сквозняки, напоенные томными запахами моря и цветов, свободно носились по комнатам.
Когда гостей собиралось особенно много, стол накрывали на веранде. Ставили большой русский самовар, на углях жарили мясо, приглашали музыкантов.
…Многоязыкий город, город на берегу трех морей, со всеми его дворцами, мечетями, церквями, базарами, трущобами и казармами лениво плывет куда–то в густом летнем мареве, позабыв о войне и времени, отмеряемом капающей водой подземелий. А Идрис–мореход, сгорая от ревности, снова осыпает проклятиями самого себя, свое неудачное путешествие, сердобольного и преступного Хайдара–эфенди, сделавшего его пленником этого дивного сада с его соблазнами и райскими цветами и невольным соучастником человекоубийства. Проклинает он и войну. Проклинает закрытые дороги и волоокую мадам, лишившую его покоя — проклинает и, вместе с тем, настойчиво ищет с ней встречи. Но она избегает его.
Каждый день Идрис Халил часами бесцельно бродит по жарким улицам Арнавуткейа, безлюдным и тихим, яростно стаптывая каблуки почти новых туфель. А по ночам, ведомый лихорадочным светом летней луны, он босым ступает на волосяной мост, перекинутый через пропасть, кипящую яростным огнем. Видение это столь ужасно, что он просыпается с криками.
Сквозняки, гуляющие по дому, доносят до Идриса Халила запах высушенных корок лимона из маленьких мешочков меж стопок белья.
Но не только ревность отравляет его дни и ночи. Есть еще страх. Тот самый страх, который накатывает из мерцающей темноты, когда в скрипе половиц спящего дома угадываются чьи–то шаги. Не мертвец ли это, зарытый под сосной на вершине холма? Или может мстительный Осман? Недавние события сделали очевидным то, о чем Идрис Халил давно уже догадывался, но чему не хотел до конца верить: Хайдар–эфенди — ростовщик и преступник. И этот дом с видом на море из высоких окон, удобный и красивый, любовно обставленный дорогой мебелью и коврами, с нестареющей мадам, живущей под сенью дивного сада, — на самом деле ничто иное, как хитро устроенная ловушка. И чем больше думает об этом Идрис Халил, распаленный ревностью и страхом, тем ужаснее представляется ему образ хозяина и свое собственное положение.
В продолжение того сна с огненной пучиной: ровно на середине пути волосяной мост под ногами вдруг обрывается, словно перетянутая струна, и Идрис–мореход с криком летит вниз. Падает, падает, но, вместо обжигающего пламени, он оказывается стоящим перед Хайдаром–эфенди в обличии смеющегося Иблиса — непостижимого ледяного демона, запивающего печеное мясо анисовой водкой в тени пышных кустов бегоний.
Сон повторяется, и с каждым разом странное, отчасти фантастическое ощущение непостижимой тайной связи между Хайдаром–эфенди и этой страшной войной, словно зараза, стремительно расползающейся по всему миру, крепнет в нем и разрастается все сильнее.
Я спрашиваю себя: кем же в действительности был Хайдар–эфенди? Что связывало его с мадам Стамбулиа и темными притонами на окраине города? Вопросы больше риторические. Я не знаю, не могу знать. Я пересказываю лишь то, что предстает предо мной в моих пестрых видениях–снах, нашептанных мне шелестом сумрачного осеннего сада, замечу — совсем другого сада, чем тот, в котором пребывает страдающая душа Идриса Халила.
В конце концов, Хайдар–эфенди мог быть кем угодно! Беглым каторжником или святым, террористом или банальным лавочником, но в этой истории важно то, кем он стал для Идриса–морехода в его бесконечном путешествии в поисках света…
Рамбетико.
Вот он среди желтых цветов. Позабыв о не вполне еще зажившей ране, он танцует, раскинув руки в разные стороны. Танец киликийских пиратов: притопывает то одной ногой, то другой. Лицо его, раскрасневшееся от выпитой водки, каждой своей черточкой источает дьявольское самодовольство. В нем и вызов, и гордыня, и скрытая угроза. И те, кто собрались вокруг, обманутые и очарованные, продолжают смеяться и хлопать, потому что никто из них, даже мадам Стамбулиа, не может разглядеть его тайного образа.
Но только не Идрис Халил. Поэт и мореход, он проникает в истинную природу вещей, скрытую покрывалом обмана: желтые насмешливые глаза демона…
Утро.
Стол накрыт цветной скатертью: причудливое переплетение кобальтовых цветов на белом полотне отражается на серебряной поверхности кофейника.
— Сегодня хороший день!.. Что может быть лучше солнца? — Говорит Хайдар–эфенди, глядя в окно на изумрудно–синюю полоску моря, словно бы восходящую в небо. Не видно привычных рыбацких шаланд — у Золотого Рога стоят французские крейсеры, и сквозь роскошный шелест пальмовых листьев, едва слышное, доносится эхо далекой канонады.
— При свете и умирать, наверное, легче, а?!
— Храни вас Господь! — говорит мадам Стамбулиа, подливая ему в чашку свежего кофе.
— Да хранит вас Аллах! — тихо повторяет за нею Идрис Халил и, не отрывая глаз от густого рисунка скатерти, накрывает крышкой фарфоровую масленку, в которой оплывает кусок сливочного масла.
Наклонившись к Хайдару–эфенди, мадам Стамбулиа поправляет ему повязку на плече.
Июль.
Садовника мобилизовали в армию, и чудесный сад надолго остался без присмотра.
Под окнами оглушительно трещат цикады. Отодвинув край легкой занавеси, Идрис Халил пристально смотрит на горизонт, завешанный полупрозрачной дымкой, но вскоре от хаотического мельтешения бликов глаза начинают болеть, и он отводит взгляд. Черные полуденные тени, словно указательные стрелки, лежат на выбеленной солнцем мостовой. В них предчувствие нового пути, так же, как и в тайных гудках призрачных паровозов, которые будят его на рассвете. Скоро! Скоро этот странный клубок обстоятельств, опутавший его с ног до головы, распадется, как гнилые нити! Душа его, переполненная через край тревожными сомнениями, ревностью и страхом, постепенно вновь обретает утраченную легкость. А пока, пока медленно проходят дни этого лета. И знойные сиесты своей монотонной однообразностью притупляют чувство времени, и даже ужас перед возможным вторжением становится каким–то тягучим и вялым, как мигрень.
От азана до азана. Голубиные стаи взмывают с куполов мечетей в прозрачное небо. Заключенный в магическом кристалле времени, исчезнувший Город Царей переливается всеми оттенками золота.
С рукописью в кармане Идрис Халил спускается в сад. В маленькой беседке он раскладывает перед собой пожелтевшие листы поэмы, пытается сочинять, но что–то отчетливо мешает ему. Что? Капля чернил скатывается с кончика вечного пера и неряшливой кляксой расползается в углу страницы.
Вдруг, осененный внезапной догадкой, Идрис–мореход поднимает голову и с удивлением и страхом смотрит на изумрудные газоны, окаймленные пышными кружевами желтых тюльпанов. Чудо или наваждение? Вот уже две недели предоставленный самому себе, сад продолжает оставаться таким, каким он был раньше, непостижимым образом сопротивляясь беспощадному июльскому солнцу и запустению. Будто кто–то невидимый продолжает вносить гармонию в хаотическую геометрию цветочных клумб, газонов и дорожек, посыпанных гравием!
Бежать! Бежать из этого проклятого дома, где даже растения находятся в чьей–то тайной власти! По страницам рукописи пробегает мимолетный трепет и, подхваченные легким ветерком, они разлетаются по столу.
Поздно вечером, когда в небе все еще отцветали последние зарницы закатного солнца, Идрис Халил сидел в своей комнате, склонившись над довоенной картой Дорог Оттоманской Империи. Вглядываясь в их паутину, протянутую с Запада на Восток, он химическим карандашом отмечал провинции, где шли боевые действия, и посему проехать по которым не представлялось возможным. А внизу на веранде стоял самовар, мадам и Хайдар–эфенди по–семейному чинно беседовали за чаем, и проклятый сад смотрел в окна дедушкиной комнаты тысячью насмешливых глаз.
Известие о смерти садовника достигло дома Хайдара–эфенди только в середине августа. Он был убит разрывом снаряда во время штыковой атаки на позиции Союзников в районе Сувла Бей, что на Галлипольском полуострове. Хозяин отправил семье погибшего денег.
Через несколько дней Идрис Халил увидел в саду призрак.
Накрапывал теплый летний дождь. Призрак в гимнастерке, запачканной на локтях красной глиной, стоял у круглой беседки и, отрешенно улыбаясь, смотрел на полураскрывшиеся бутоны тюльпанов, которые со всех сторон тянулись к нему сквозь тонкую пелену утреннего тумана.
Оцепенев от ужаса, Идрис Халил почти не дышал.
Продолжалось это неизвестно как долго — время в сновидениях всегда условно — но как только в доме послышались голоса, призрак несчастного садовника бесследно растворился среди цветов.
С того самого раза он стал приходить каждую ночь. До рассвета беспокойно бродил по хрустящему гравию или сидел в беседке, уставившись на мотыльков, беспокойно кружащихся вокруг воскового света фонаря.
Мертвые — к мертвым.
— Недобрый знак! — говорит мадам Стамбулиа, отложив в сторону свое бесконечное вязанье. — С чего это он приходит именно к нам?! Господь, спаси и сохрани нас!
— Бедный парень!
— Ходит тут под окнами каждую ночь… пророчит смерть! Господь велик!.. — голос ее начинает дрожать. Достав платочек, она прижимает его к глазам.
Стучат часы. Хайдар–эфенди курит, вглядываясь в темноту за окнами, откуда доносится звук шаркающих шагов.
На следующий день, к обеду, Осман привел из мечети имама. В саду совершили жертвоприношение: зарезали белого ягненка. Мясо, как полагается, разделили на семь частей и раздали.
Больше призрак не приходил.
Мертвые — к мертвым. Души, отведав крови, обретают покой,
навеки исчезнув в глубине проклятого сада…
7
Мертвые — к мертвым, сновидения — к сновидениям! На восток от Эдема, за каменистыми холмами, спрятаны сверкающие воды голубого Евфрата…
Осень.
Листвы платанов уже коснулась царственная желтизна, и все больше ностальгической тишины в мимолетных сумерках. По дорогам, петляющим мимо опустевших полей, где выставлены золотые скирды пшеницы, к городу тянутся повозки. Груженые фруктами и виноградом, они проезжают одинокие хутора, отмеряя свой путь вереницей телеграфных столбов, чернеющих на фоне все еще яркого неба.
захват галлиполи тире чанакале провалился тчк сотни тысяч убитых и раненых тчк союзники начали эвакуироваться с полуострова тчк константинополь спасен тчк
Киноварная дымка Золотого Рога провожает отходящие транспорты с уцелевшими солдатами.
В светлом пиджаке, накинутом на плечи, Хайдар–эфенди неторопливо идет по набережной. Позади него Осман и коренастый охранник, вооруженный двумя пистолетами. На минуту они останавливаются у жаровни на треноге. Продавец каштанов хватает правую руку Хайдара–эфенди, троекратно целует ее и прикладывает ко лбу.
— Все ли здоровы дома? — спрашивает хозяин, принимая бумажный кулек с калеными каштанами.
— Слава Аллаху, ага!
— Есть ли известия от твоего сына Арифа? Где он сейчас?
— В Битлисе…
— Там спокойно?
— Где уж, ага! Русские взяли Эрзрум, будь они прокляты! Везде сейчас война!
— От судьбы не убежишь!..
— Аллах Велик!
Хайдар–эфенди кивает, похлопывает по плечу продавца каштанов и идет дальше. Там, где набережная заканчивается перекрестком двух пыльных дорог, у деревянного причала, где, покачиваясь на прибойных волнах, стоят рыбацкие лодки, с которых торгуют свежей рыбой, его ждет маленькая греческая таверна с красным вином из благодатной Смирны.
Вино подают в глиняных кувшинах — к нему овечий сыр, помидоры и черные маслины. Устроившись за столиком в углу, Хайдар–эфенди перебирает длинные четки. Из граненого раструба патефона, почти такого же, какой совсем недавно стоял в гостиной дома, льется чуть хрипящая музыка.
О чем поет далекий голос?
Des Menschen Thaten und Gedanken, wisst! Sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen. Die inn’re Welt, sein Mikrokosmus, ist Die tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen.Захмелев, Хайдар–эфенди начинает качать рукой в такт музыке, будто дирижирует невидимым оркестром, и, странным образом, этот строгий немецкий романс и чужая речь, резкая и непривычная, звучат как реквием по Вечному Городу, по мягким сумеркам, летящим над черепичными крышами и минаретами, и, вообще, по всему старому миру с его пыльными чудесами…
Хозяин возвращается лишь заполночь. Оглушенный собственным сердцебиением, Идрис–мореход наблюдает за тем, как мадам помогает Хайдару–эфенди подняться по ступеням, ведет его в дом, и ненависть, сложившись из ревности и страха, разрастается в нем, подобно ядовитому плющу.
За плотной пеленой листьев уже больше не видно света.
Закутавшись в темноту, как в покрывало, Идрис Халил неподвижно стоит у окна своей комнаты…
Так проходили дни той осени. Они отлетали, как ржавые листья на мокрые мостовые. В темных водах проливов, как и прежде, отражались белые шале, и зыбкие эти отражения так же призрачны, как и люди, о которых я то ли рассказываю, то ли вспоминаю.
(достаточно одного неправильного слова, и все тотчас рассыплется в прах, разлетится, как отражения дворцов во вспенившейся волне)…
С вершины башни Галата Харут и Марут глядят на Константинополь, постепенно погружающийся в дождливый сумрак. Свинцовое море перетекает в небо, и кажется, будто лодки, курсирующие между западным и восточным берегом, на самом деле плывут по воздуху.
Только люди–птицы знают будущее.
Наваждение.
Дыхание осени почти не коснулось чудесного сада. Облитый дождями, чуть тронутый у ограды медной проседью, он сохранил все краски лета, и каждое утро желтые цветы вспыхивали под сумрачным небом октября. Газоны, подстриженные невидимой рукой, все так же отливали изумрудным глянцем.
Никто в доме, кроме Идриса Халила, не замечает этой извращенной неестественности происходящего.
На рассвете, во время первого утреннего намаза, прижимаясь лбом к молитвенному коврику, раскатанному на полу комнаты, он просит своего непостижимого бога — бога странствий, о возвращении домой. Но дом, отделенный от него многими верстами пути, горами, морем и войной, кажется лишь продолжением сна, прерванного азаном.
В дни, когда многие теряют последнее, Хайдар–эфенди продолжает сказочно богатеть. Он покупает доходные дома, разоренные войной оливковые плантации и лавки на Гранд Базаре. Его магазины и склады ломятся от контрабандных товаров, и деньги текут к нему со всех сторон. А сам он, словно паук, сидящий в центре гигантской паутины, сплетенной за долгие годы, теперь довольно потирает руки и ухмыляется, проверяя длинные столбцы цифр в толстых канцелярских книгах.
— В конце этой войны у меня будет столько денег, чтобы больше никогда не думать о них! — Говорит Хайдар–эфенди, откинувшись на спинку кресла. В руках у него неизменные четки. Полированные бусинки быстро прокатываются под его ловкими пальцами с длинными желтыми ногтями. В гостиной уже затопили камин. Время галопом: на календаре второе декабря. С утра идет дождь со снегом, но по–прежнему тюльпаны, словно фонари, покачиваясь на ветру, продолжают пылать сквозь холодное серое марево за окнами.
Мистическая красота неувядающего сада становится все более пугающей.
Два сна, увиденных в один день — как знак Судьбы и Случая.
Первый приснился за час до рассвета.
Мадам Стамбулиа в каком–то полупрозрачном одеянии идет навстречу, неслышно и легко ступая по мокрой траве. Капли то ли дождя, то ли росы скатываются по ее голым икрам, сквозь прилипшую к телу мокрую ночную рубашку просвечивают темные соски. За спиной у нее — целое поле желтых тюльпанов. Она протягивает руку, касается его щеки:
— Уйдем отсюда! Мой любимый…
По телу Идриса Халила пробегает что–то похожее на электрический разряд, и тотчас тюльпаны превращаются в мерцающие огни, затопившие все вокруг до самого неба, а еще через мгновенье он вдруг с ужасом понимает, что это и не цветы вовсе, а глаза: насмешливые глаза Хайдара–эфенди.
Идрис–мореход проснулся от собственного крика.
…Нанизанные на нить яшмовые бусинки быстро текут по кругу, отмеряя замкнутое время зимнего дня.
Второй сон больше похож на галлюцинацию.
Идрис Халил сидит за столом, склонившись над газетой, и, разморенный жаром, идущим от печи, мерным стуком часов и мельтешением рыхлых хлопьев снега за окном, сквозь полудрему наблюдает за тем, как длинные тени, словно отслаиваясь от типографской краски, складываются между столбцами букв в геометрические узоры.
Между явью и сном.
Скучный пасмурный полдень в устланной коврами гостиной неузнаваемо преображается. Вначале меняется календарное число, и вместо 2 декабря возвращается 30 ноября 1915 года, затем полдень становится предрассветными сумерками, а потолок — светлеющим небом, в котором летит аэроплан…
Отчетливый гул мотора где–то внизу, над свинцовою ширью моря, заставляют сердце Идриса–морехода встрепенуться от восторга.
Легкий корпус аэроплана — биплан типа Невпорт — протяжно скрипит, напряженный ветром и скоростью. Звездная полусфера медленно обращается с востока на запад, и смешанное чувство бесконечного одиночества, собственной слабости и, одновременно, почти божественной силы захлестывает Идриса Халила, летящего навстречу восходящему солнцу. Холодный воздух, пахнущий горячим машинным маслом и морем, кажется самой плотью его сна, из которой рождаются образы, и их архетипы, и архетипы образов самих архетипов…
Зеркала мутнеют. Суть теряется где–то в их виртуальной глубине.
В разрывах облаков видны сигнальные огни громадного крейсера, севшего на мель у входа в пролив. Когда до корабля остается совсем немного, из–за темной полоски берега справа стремительно выплывает солнце, и ребристая поверхность моря на мгновенье вспыхивает ослепительным серебром.
…Старший лейтенант Али Риза — первый выпуск основанной четыре года назад в Константинополе школы военных летчиков — направляет аэроплан к правому борту, готовясь открыть огонь. Глазами Али Ризы Идрис–мореход видит бегущих по верхней палубе матросов, видит французский триколор, трепещущий на ветру, белесый дым беспорядочных ружейных выстрелов, видит офицера, следящего за полетом аэроплана в бинокль.
Накренившись набок, крейсер стоит, залитый лучами восходящего солнца. Строгая, почти божественная геометрия его палуб столь совершенна, столь удивительна, что пилот, изготовившийся к атаке, чувствует почти суеверный ужас. Когда пальцы на гашетке пулемета уже готовы сжаться, чтобы обрушить шквал смертельного огня на головы разбегающихся в панике матросов, второй пилот, лейтенант Орхан, пытаясь перекричать гул мотора, показывает в сторону береговой линии острова (это Леммнос):
— Смотри! Смотри!..
Подняв голову, Али Риза видит темный силуэт аэроплана, летящего прямо ему навстречу…
Сердце Идриса Халила сжимается, ему не хватает воздуха. А за окнами продолжают лететь хлопья снега.
…Они несутся друг к другу в сияющем небе с полосками плывущих облаков, рукотворные четверокрылые ангелы, готовые схлестнуться и уничтожить друг друга в жестоком поединке.
Задрав головы, французские моряки завороженно следят за их удивительными пируэтами. Им кажется, что бой длится лишь несколько минут. Но, как в той истории с пророком, опрокинувшим кувшин, мгновенье на земле оказывается вечностью там, в небе.
Пауза между вдохом и выдохом. Струйки пулеметного огня: один из аэропланов вдруг вспыхивает, словно факел, и, закручиваясь в штопоре, падает в море.
Захлебываясь ледяным ветром, Али Риза кричит от восторга, а в это самое время, глядя на обломки аэроплана, продолжающие гореть на приливной волне, Идрис Халил вдруг с щемящей тоской и болью понимает, что в этом сне он не только победитель — старший пилот Али Риза — но и погибший безымянный француз, душа которого быстро отлетает к последнему небу на крыльях людей–птиц.
8
История Идриса–морехода пробивается ко мне сквозь толщу времени и небытия, сквозь забвение и смерть. Пробивается обрывками его поэзии и моими бесформенными снами.
Накрывшись одеялом, я лежу на продавленном диване на маленькой веранде, смотрящей пустыми проемами в сумрак отцовского сада, и пытаюсь представить, как безумие, словно черное покрывало, опускается на моего деда.
Ветер.
Призраки мечутся по дому. Длинные страшные призраки середины декабря. Они разлетаются по стенам, проскальзывают мимолетными отражениями в зеркалах, прячутся под лестницей и в коридоре. Они повсюду. Дом Хайдара–эфенди захвачен призраками.
Сад за окнами весь почернел и набух от пронизывающего холода. Ветер, беснующийся в кронах его деревьев, рвет неувядающую листву, швыряет ее в закрытые ставни и оставляет светлые полосы придавленной травы на мокром газоне. А небо, разрываемое ослепительными зигзагами света, опускается все ниже, готовое в любую секунду опрокинуться на черепичную крышу дома.
Вот уже несколько дней, как все готово к бегству! Чемодан уложен. Во внутреннем кармане пиджака лежат отложенные деньги, паспорт и карта Дорог Оттоманской Империи. Осталось только переждать эту страшную бурю! Однако, шторм, начавшийся в пятницу сразу после второй молитвы, продолжается вот уже третий день, и дедушка, справедливо усматривая в этом перст своей удивительной Судьбы, терпеливо пережидает непогоду.
…Но, наверное, не только ветер удерживает его в доме Хайдара–эфенди. Почти без всякой надежды, он продолжает ежечасно думать о мадам Стамбулиа, о том, что должен непременно уговорить ее бежать с ним, ведь только тогда все произошедшее между ними обретает хоть какой–то смысл…
Над развороченными клумбами качается разбитый фонарь…
Какое сегодня число? На моем календаре (и календаре Идриса Халила): 12 декабря 1915 года! Вполне походящая дата, и часы в гостиной тоже бьют двенадцать раз! Полночь!
Ворочаясь без сна в своей постели, он продолжает обдумывать предстоящее путешествие, заново прочерчивая пунктирный маршрут на воображаемой карте. С последним ударом часов угасающий было в печи огонь на мгновение вдруг оживает, и, открыв глаза, Идрис Халил успевает разглядеть в языке пламени причудливый силуэт огненной саламандры.
Он приподнимается на локтях. Прислушивается. Сохрани Аллах, что это? За хаотическими шорохами деревянного дома Идрису–мореходу слышатся чьи–то неосторожные шаги. Огонь в печи быстро гаснет, и в наступившей темноте остается лишь рыжее свечение углей. Дотянувшись руками до стола, он шарит в поисках спичек, находит их. Все так же, на ощупь, снимает стеклянный колпак с лампы. Одно плохо, он забыл заправить ее с вечера керосином! Почти сухой фитиль долго не разгорается. Ну, вот, наконец–то, свет!
За стеной раздается тихий, будто захлебывающийся крик. Скорее даже, стон.
Благословлен Аллах, милостивый и всепрощающий!
Опять отчетливо скрипят половицы.
Торопливо натянув брюки поверх теплых подштанников, Идрис Халил вытаскивает из–под матраса небольшой сверток. Начинает разворачивать его, а я уже знаю, что это… Бельгийский револьвер. Знаю, потому что однажды нашел (или еще найду — все зависит от точки отсчета) его ржавый призрак среди железного хлама, наваленного кучей в подвале дедовского дома.
Сбоку от бойка по кругу выгравировано: Льеж. 1909 год. Завод Николя Пиппера.
Тем временем Идрис Халил выходит из комнаты.
Направо — лестница, ведущая на первый этаж. Дальше — дверь в гостиную. По левую сторону коридора — спальня хозяина и комната мадам, сразу за которой находится вход в кладовку. Свет лампы вырывает из мерцающего мрака часть беленой стены и полосатого паласа на полу. Неяркие разноцветные полосы теряются в протяженной темноте коридора, который кажется бесконечным. И ужас перед этой кажущейся бесконечностью и пугающим звуком шагов, прерываемых отрывистыми завываниями ветра, совершенно парализует его. Проходит некоторое время, заполненное паническим страхом, прежде чем, преодолевая невидимое сопротивление дома, он делает первый шаг.
Сонм ночных призраков. Они обступают его со всех сторон, но, даже чувствуя на лице их теплое дыхание, Идрис–мореход продолжает свой путь.
Что–то щекочет и колет его босые ступни. Он внимательно смотрит себе под ноги: почти слившись с пестрым паласом, на полу лежат опавшие листья! Откуда они?! Наваждение! Окно в самом конце коридора вдруг распахивается, по листве пробегает легкий трепет, а через секунду, подхваченная налетевшим порывом ветра, она вся разом взлетает вверх и обрушивается на Идриса Халила. Задыхаясь в этом лиственном урагане, он невольно приваливается к стене, беспомощно выставив перед собой руки. Лампа выскальзывает из его дрожащих пальцев, и в одно мгновенье листья, летящие ему в лицо, вмиг охватывает пламя…
«Благословлен Аллах, повелитель миров…» — успевает прошептать он одними губами, прежде чем погрузиться в огненный смерч. И сила, заключенная в словах Книги, рассеивает страшное видение: горящие листья исчезают. Идрис–мореход, живой и невредимый, оказывается стоящим с лампой в руках в самой середине темного коридора.
Осторожно ступая, он продолжает свой путь.
Конец еще одного путешествия — высокая дверь с бронзовой ручкой. Прежде чем толкнуть ее и следом за моим дедушкой войти в спальню Хайдара–эфенди, хочу сделать короткую паузу, чтобы перевести дух.
…Очень многое в жизни Идриса Халила определилось противоречием между поэтом и мореходом. В известном смысле, все произошедшее с ним, начиная с той самой минуты, когда он покинул родной город, было предопределено внутренним столкновением этих двух разных Идрисов. Один из них, без сомнения, был Судьбой, другой — Случаем. Почти божественный дуализм, рожденный самим временем и зафиксированный в не стираемых записях на лбу, ведет его по жизни, то делая решительным и сильным, то беззащитным перед апокалиптическими призраками, вроде тех, что привиделись ему в темном коридоре.
Но, пожалуй, довольно об этом!
Отворив дверь, он увидел Хайдара–эфенди лежащим на ковре с перерезанным горлом. И смятые простыни, сплошь заляпанные кровью. Увидел собственное отражение в зеркале на комоде и, конечно же, Харута и Марута, склонившихся над неподвижным телом.
Крови было много. Темный след тянулся от кровати до того места, где лежал Хайдар–эфенди, и завершался большой лужей, алой посередине и черной по краям. Лицо хозяина белело в зыбком свете лампы, словно гипсовая маска — воплощение ярости и боли. Было совершенно очевидно, что смерть его оказалась тяжелой и мучительной, потому что, переходя по шаткому мосту от сновидца к сновидению, он, по складу своей натуры, до последнего продолжал упорно бороться за жизнь.
Все еще стоя на пороге, Идрис Халил вдруг подумал о том, что ночной убийца, возможно, все еще в доме и даже, может быть, прячется в этой спальне. От одной этой мысли по спине у него побежали ледяные мурашки, и он, быстро подняв лампу, осмотрелся по сторонам. Никого. В правой руке у него револьвер с взведенным курком, но даже с ним дедушка бессилен перед мгновенной атакой сзади! Что–то тяжелое и твердое обрушилось ему на голову и, даже не успев вскрикнуть, он, как подкошенный, повалился на ковер.
Водяные знаки Судьбы, явственно проступившие на взмокшем лбу, продолжают вести его все дальше, к неведомым берегам. Случайность: не заправленная с вечера лампа просто погасла, упав в лужу крови. Но будь в ней хоть на толику больше керосина, ему бы не избежать смерти в кольце огня!
Быстрая тень метнулась по коридору, скользнула силуэтом в открывающемся окне и исчезла.
…Темнота. Долгая пауза под неумолкающий свист ветра. Она заканчивается лишь после того, как теплые руки мадам Стамбулиа приводят Идриса Халила в чувство.
— Слава богу, ты живой!..
Сквозь какой–то зыбкий туман он с волнением разглядывает ее черные локоны, выбившиеся из–под кружевного чепца:
— Ты…
Она поцеловала его в губы.
В гостиной пробили часы. Всего один раз. И все то же гулкое бронзовое эхо, прокатившись по дому, возвестило начало нового дня.
— У нас мало времени! — сказала мадам, вдруг встрепенувшись, и поднялась с колен. — Надо торопиться!
— Куда?
Мадам не ответила. Она подошла к кровати, одним ловким движением сдернула одеяло и накрыла им Хайдара–эфенди:
— Прими, Господь, его душу!..
— Куда мы должны торопиться?
— У него было много врагов! — сказала она, обернувшись и посмотрев на Идриса Халила долгим и, как бы, оценивающим взглядом, добавила:
— Рано или поздно это все равно должно было случиться! Теперь нам надо самим устраивать свою жизнь. Ты согласен?
Идрис Халил кивнул. Но, странное дело, то, о чем он так долго мечтал, сейчас, скорее, напугало его, чем обрадовало, и вся его недавняя решимость улетучилась, уступив место холодной пустоте внутри.
Он подобрал с ковра свой револьвер и поднялся. Немного кружилась голова.
— Помоги мне сдвинуть кровать! Здесь должен быть тайник…
В спрятанном под полом окованном сундучке оказалось много бумажных денег. Сверху лежали оттоманские лиры, перевязанные красными шелковыми лентами, под ними пестрые пачки иностранных валют. В самом низу стопками были уложены золотые червонцы. Целое состояние!
Быстро переложив все содержимое тайника в чистую наволочку, мадам завязала ее узлом, после чего велела Идрису Халилу вернуться к себе и подождать ее.
На сборы ушло около получаса.
Она появилась в дверях дедушкиной комнаты в коротком приталенном пальто с каракулевым воротником и в элегантных ботинках по европейской моде. Поверх шляпки с вуалью была повязана пуховая шаль.
— Пора! Ты знаешь, что надо делать! — сказала она, протягивая Идрису Халилу керосиновую лампу. — Я буду ждать тебя внизу, у задней двери!
Огненные циклы!
Каждый шаг, каждое движение Идриса Халила умножается невидимыми зеркалами вокруг! 12 декабря 1915 года он возжег костер, бесконечные отражения которого почти и через сто лет продолжают мерцать где–то в моих сновидениях.
Идрис–мореход разбил волшебную лампу.
Она разбилась об стену, будто взорвалась! Оглушительный хлопок, и чудесная сила, заключенная в жестяном цилиндре с отчеканенными на нем лепестками лавра, мгновенно растеклась по ковру бегущим пламенем! Как продолжение ужасного видения! Как записанное на лбу проклятье!
Черные клубы горького дыма стелились по полу, вспыхнула занавеска. Языки огня, оставляя за собой на светло–желтых обоях жирные пятна, с треском взлетели к карнизу, и вдруг наступила быстрая темнота — гигантская тень шатром накрыла комнату: это Харут и Марут медленно опустились прямо в середину огненного потока.
Между вдохом и выдохом.
Отражение зловещих ангелов в большом зеркале на дверце шкафа поплыло, исказилось. С треском лопнули оконные стекла. Захлебываясь дымом, Идрис Халил попятился назад, а затем, обернувшись, бросился бежать по коридору. Гудящий огонь тотчас потянулся за ним следом.
Беглецы вышли через заднюю калитку в переулок, оставив за собой заколдованный сад и деревянный дом, который на шквальном ветру уже полыхал как факел.
«…ангелы — они бьют их по лицу и по спинам: «Вкусите наказание пожара!»
Пылающие головешки с шипением сыпались на мокрый газон. К дому отовсюду бежали люди, кричали, бестолково суетились, мешая друг другу, а огонь продолжал рваться искрами в небо и, многократно отраженный в грохочущих волнах, выплескивался на набережную.
Кто–то тащил ведрами воду, кто–то пытался сбить пламя лопатами и песком. Появились пожарные с лестницами. Но все было тщетно. И вскоре сад, и особняк Хайдара–эфенди превратились в один огромный костер.
Боялись, что огонь может переброситься на соседние дома, но удивительным образом этого не случилось.
Тем временем на Идриса Халила и мадам Стамбулиа опускается спасительная темнота.
9
Темнота укрыла их настолько тщательно, что даже я, идущий, как привязанный, по пятам за Идрисом Халилом, вынужден довольствоваться лишь отголосками их странного романтического путешествия. Опустившись плотным занавесом, она прячет их следы, помогая им затеряться где–то в запутанных лабиринтах обезумевшей Эпохи.
Власти, как обычно, озабоченные гораздо более насущными проблемами, не стали слишком тщательно разбираться в обстоятельствах случившегося. Уже на следующий день в вечерних выпусках газет появились краткие сообщения об ужасном пожаре в одном из особняков Арнавуткейа, в котором, судя по всему, погибли все жильцы дома. Причину пожара приписали неосторожности.
Но беглецов все–таки разыскивали. Не полиция. Правая рука покойного Хайдара–эфенди — великан Осман, вскоре вернувшийся из Эдирне, куда он ездил с какими–то поручениями хозяина, назначил награду за их поимку.
До самого горизонта стелется дорожная пыль.
Вначале Константинополь с его нагромождением улиц, доживающий свои последние дни в качестве столицы великой Империи. Затем мятежная Смирна и маленькие белые городки на побережье, Бурса в окружение огромных сосен, пышущая жаром Александрия (Искендерун), Кония, затем резкий зигзаг к западной границе, сразу за которой начинается война.
И вновь Константинополь.
Пять месяцев.
Пять месяцев железнодорожных вагонов, разбитых дорог, фаэтонов, постоялых дворов, провинциальных караван–сараев, тихих рыбацких поселков и обезлюдевших городов. Пять месяцев любви и, увы, бесконечного страха.
Они скитались по осажденной Анатолии, все время чувствуя за спиной топот погони. Денег в саквояже было предостаточно, и деньги помогали им быстро передвигаться по полуострову с места на место, все время на шаг или два опережая своих преследователей. Многочисленные люди Хайдара–эфенди, ведомые Османом, искали их по всем портам, на всех вокзалах и станциях. И хотя с каждой неделей людей этих становилось чуть меньше, потому что большое паучье царство хозяина, легальное и нелегальное, уже было поделено и растащено, беглецам все равно не было покоя.
Осиротевший Осман ищет не деньги. Словно цепной пес, он продолжает идти по их следу, чтобы отомстить за честь хозяина.
Идрис Халил отпустил окладистую бородку. Мадам путешествовала под темной вуалью и зонтом.
В Синопе они заплатили контрабандистам, чтобы те доставили их морем до Трапезунда, занятого в то время русскими, и едва не были схвачены. Высокий иностранец, говорящий с отдаленным южным акцентом, и женщина–гречанка едва ли могут остаться незамеченными.
Две спокойные недели в греческой Смирне — в просторном доме среди лиловых смокв. Опять тихие вечера в маленьком саду под рокот весеннего моря. Мальчишка из бакалейной лавки приносил им молоко, свежий хлеб и фрукты.
Единственное напоминание о прошлом — беспокойный призрак Хайдара–эфенди, повсюду скитающийся вместе с ними. Чаще всего он являлся мадам.
Странная супружеская пара прибыла налегке, не считая саквояжа и, кажется, одного чемодана. Заплатили за месяц вперед, но через две недели второпях уехали из города, бросив в доме часть вещей.
И снова дороги: на Восток, на Запад, на Юг или Север. Но все они неизбежно ведут обратно, в Город Царей. Там их и застал май 1916 года.
Квартал тюльпанов Лалели. Тюльпанный рай. В те годы еще тихий и респектабельный район.
Их выследили. Случилось это в один из тех удивительных дней, когда по мостовым катился свалявшийся тополиный пух, и майское солнце, окутанное белесой дымкой, неподвижно стояло над черепичными крышами.
На ступенях дремала рыжая кошка. Точильщик ножей с грохотом катил свою тележку, пялясь на летящие над ним балконы, на одном из которых у горшков с цветами стоял Идрис Халил.
Судьба и Случай. Они вновь уберегли моего деда, чтобы он мог продолжить свои бесцельные странствия. И когда трое вооруженных мужчин ворвались в наемную квартиру на втором этаже, все пули, миновав Идриса Халила, попали в грудь мадам.
Мадам осталась лежать на пыльном паласе в луже крови, а он, спрыгнув в переулок, прихрамывая, бежал по мостовой, пока с небес на него опускалась темнота — еще более непроницаемая, чем та, которая помогла ему и мадам скрываться все это время.
Темнота сделала его невидимым на целых полтора года. Как и где он их прожил — я не знаю.
Сновидения Идриса–морехода хранят молчание.
P. S. Саквояжа в квартире не оказалось. Спрятанный в надежном месте, он не достался ни Осману, ни его подручным.
В 1997 году, в поисках удачи и заработка, я прожил более четырех месяцев в Стамбуле. И все это время дешевый отель на задворках Лалели был моим домом, так же, как и для многих других легальных, полулегальных (как я) и совершенно нелегальных эмигрантов со всего света.
Пораженный грандиозностью и ужасным величием этого города, я часами до изнеможения бродил по его улицам, нараспев повторяя про себя строфы из первой главы дедушкиной поэмы. И так же, как и он, я остро чувствовал свое одиночество, зажатый в пестрой толпе, текущей во всех направлениях сразу. В этом многоликом призраке исчезнувшего Города Царей я пытался разглядеть Константинополь образца 1915 года. Иногда это почти удавалось. И тогда мне грезилось, что, опьяненный чужими снами, я не просто разглядел, но вспомнил его (так я узнал, что особый дар удачливого пекаря — сферическое зрение, позволяющее видеть невидимое — хоть и в малой степени, передался и мне, его правнуку)!..
Но все–таки чаще имперский Константинополь, заслоненный республиканским Стамбулом, ускользал от меня. И тогда, обозленный, я напивался в маленьком баре напротив гостиницы (или в своем номере, что, было, в общем–то, гораздо дешевле).
Постоянной работы я так и не нашел и довольствовался тем, что несколько дней в неделю подрабатывал в качестве переводчика и гида многочисленных русских туристов.
Потом я вернулся домой.
Однако моя стамбульская эпопея оказалась не совсем безрезультатной. Потратив довольно много времени и часть скудного заработка на лавки букинистов, я натолкнулся на поэтический альманах, в котором были собраны стихотворения разных поэтов начала столетия. Бегло просматривая книги, разложенные, или, скорее, просто наваленные на прилавок, я вдруг словно по какому–то наитию взял одну из них и раскрыл наугад. Удача! На странице 112 был напечатан большой отрывок из поэмы Идриса Халила (в дошедшей до меня рукописи сохранились лишь начальные строчки этого отрывка).
Вместо имени автора значилось: «Melek–i–Nur, 1914 г. Подлинное имя неизвестно».
Melek–i–Nur — поэтический псевдоним моего деда.
В городе Царей, застряв между морями и временем, войной, любовью и своим одиночеством, я оставил за спиной горящее прошлое. Я умер на мокрой скамье, чтобы родиться из огня словно птица. Ангел света (Melek–i–Nur) даровал мне свое имя и силу. Melek–i–Nur — прощание Идриса Халила с Константинополем.Часть 2 MELEK–i–NUR
1
Сад сгорел.
Все остальное: война, волоокая мадам, поэзия и даже страшная смерть Хайдара–эфенди от рук неизвестного убийцы — все эти события в жизни Идриса Халила, в общем–то, второстепенные, побочные. По–настоящему имеет смысл лишь чудесный сад с его клумбами желтых цветов и аккуратными дорожками, посыпанными гравием, исчезающий в языках гудящего пламени…
Этот символ священного безумия, как путеводная звезда, будет вести Идриса Халила по волнам морей и однажды достанется нам по наследству. Тщательно вплетенный в паутину времени, упрятанный под нагромождением случайных происшествий, имен и дат, он является главным среди множества образов, сопровождающих историю моего деда и нашей семьи, потому что несет в себе смысл предопределения, доступный видению гадалок и сумасшедших. Он освещает путь от Идриса Халила к тому, кто бесконечно ткет паутину. К тому, чьи сны оказываются нашими днями. Я надеюсь, что, разгадав его тайный смысл, сумею найти то, что так страстно ищу для него и для нас: прощение и покой.
А пока, несмотря на все мои усилия, прошлое все больше дробится на фрагменты, распадается от каждого неудачно подобранного слова. Из общей картины выпадают целые эпизоды, оставляя после себя зияющие дыры. И чем настойчивее я стараюсь уловить суть происходившего, сохранив при этом последовательность изложения, тем хуже мне это удается. Образы–призраки, тесня и расталкивая друг друга, грозят в скором времени совершенно заслонить собой то главное, что заставило меня взяться за написание этой истории.
1918 год. Возвращение.
Как только темнота, наступившая после смерти мадам, рассеивается, я опять вижу Идриса Халила. Вижу его стоящим в толпе на перроне константинопольского вокзала Хайдарпаша. Закутанный в длинный шарф, в черном пальто с поднятым воротником, он едва узнаваем. Саквояж исчез. Вместо него новенький чемодан темно–коричневого цвета.
По путям в облаке горячего пара и дыма медленно двигается состав. Мужчина с висячими усами в железнодорожной форме звонит в бронзовый колокол, возвещая о прибытии поезда.
Идрис–мореход предъявляет билет и, поднявшись в вагон, садится на свое место у окна. Сердце его замирает от радостного предчувствия. Снова в пути! Согласно записям у него на лбу, которые не смыть ни водой, ни уксусом, не вывести каленым железом, не содрать вместе с кожей (увы, изменить написанное почти так же невозможно, как и прочитать его), он едет домой!
Поезд трогается, и прочерченный красным пунктиром извилистый маршрут начинает струиться по старой карте Оттоманской Империи. Но если раньше все дороги неизменно вели в Константинополь, то сейчас они тянутся домой, на Восток, прочь из Вечного города.
Первая крупная станция — Карахисар. Во время трехчасовой остановки Идрис Халил плотно пообедал в привокзальном ресторане, купил папирос и газету, из которой, к своему удивлению, узнал о прибытии в Константинополь делегации из Гянджи, надеющейся заручиться поддержкой правительства Талята–паши в создании независимой мусульманской республики на Кавказе.
За окном накрапывает дождь. Кажется, даже со снегом, но ветра нет. На перроне горят фонари.
Поезд двигается дальше.
Пунктирная линия на карте вновь оживает. Черные шпалы тянутся по унылым равнинам, сквозь озноб раннего утра и вечерние сумерки, мерцающие светом редкого жилья. День, ночь, день, ночь, встречные поезда.
Ему снятся хлебные корзины и легкая поступь мадам.
Где–то на рассвете из пелены тумана вдруг возникает Кония. Проезжая мимо текке, почти вплотную примыкающего к медресе Индже Минар, Идрис–мореход, как зачарованный, следит за призрачным полетом стаи голубей над просевшей крышей.
Едут удручающе медленно, с длинным остановками на безлюдных полустанках. Огни неизвестных поселков тонкими струйками тянутся вдоль дороги. Идрис Халил то засыпает, то просыпается под вялый стук колес.
Проводник разносит чай в маленьких стаканчиках, жалобно дребезжащих на металлическом подносе.
— Опять стоим?
— Это все из–за войны, эфенди–бей! Сам Аллах да покарает врагов наших! Не хватает угля, вот и приходится разводить пар обычными дровами. А какой от них прок!.. На дровах быстро не поедешь!
Длинный гудок. Состав, наконец, тронулся…
К вечеру третьего дня они прибыли в Улукишла. Последняя станция. Дальше поезд не шел.
Переночевав на постоялом дворе (9 лир 60 серебряных пиастров за ночлег и ужин), утром Идрис Халил на лошадях выехал в Сивас. Оттуда ему предстояло добраться до Сушехира, где в то время находилась ставка главнокомандующего Кавказским фронтом Вехиба–паши.
По дорогам в обоих направлениях двигаются подводы с беженцами. В жидких башмаках, напоминающих крестьянские чарыги, устало маршируют бесконечные колонны солдат. Отражаясь в рытвинах, заполненных неподвижной водой, по небу плывут облака.
Он видел, как у покатой стены низенького крестьянского дома расстреливали двух дезертиров. Грянули выстрелы, они упали ничком на землю и дергались в предсмертных конвульсиях, пока в сыром воздухе рассеивался пороховой дым.
Все ближе к Черному морю. Другим становится пейзаж. Теперь дорога вьется среди нагромождения лесистых холмов, а густой запах хвои слегка отдает сероводородом.
Ночью, прямо над головой, вращается звездное небо. По часовой стрелке: справа налево.
И вот уже провинциальный Гиресун, распятый на узкой террасе с вкраплениями изумрудно–зеленых полей. Внизу, в просветах между соснами — громадные черные валы с грохотом разбиваются о скалы. Все время идет дождь. Вокруг кипящих ручьев, стекающих вниз по холмам, из обнаженной красной глины торчат корни деревьев.
Не без труда Идрису Халилу удалось сесть на переполненную баржу, идущую по неспокойному морю через Тиреболу в Трапезунд, откуда всего несколько месяцев назад были выбиты русские.
Короткий переход вдоль извилистого берега, и вскоре они швартуются у города–призрака, наполовину разрушенного артиллерийскими снарядами. Их встречают своры тощих собак, беженцы в порту, вернувшиеся с запада, конные патрули. На мощеной площади перед крепостью сидят пленные со связанными за спиной руками. Сотни пленных. Среди них много черкесов и казаков.
Плавание до Батума — повторение кошмара пятилетней давности. Как и тогда, качка и смрад заставили Идриса–морехода, обессилено перегнувшись через ржавые поручни, блевать в натянутую, словно струна, иссиня–черную гладь моря, проклиная свои бесконечные странствия. Только одна мысль дает успокоение в долгие часы отчаяния, подкатывающего к горлу комком горечи — это путь домой. Путь на Восток, туда, где пробудившиеся мортиры возвестили о начале революции…
Границы между двумя Империями перемешались в неком тектоническом взрыве. Пунктирная линия пересекает по диагонали заштрихованное поле на карте и упирается в кружочек, рядом с которым висит крошечный якорь.
Батум.
Хаос, царившей в городе, был виден уже издалека. Набережная кишела людьми, над кварталами в глубине мандариновых садов клубился едкий дым пожарищ.
На фонарях вдоль набережной висели полураздетые люди. На каждом витом чугунном столбе по двое, а то и по трое сразу. Черные воды Черного моря отражали их распухшие лица, свернутые набок. Жадно кричали чайки, неподвижно парящие над зыбью. У огромных дымных костров, сложенных из скамеек, грелись солдаты. Голодные и брошенные, опьяненные тоскливым ужасом, они вешали своих офицеров, и это было необходимым жертвоприношением собственной униженности, варварству и пролитой крови на чужой, враждебной земле. В этом зрелище судного дня его главное действующее лицо — смерть, насильственная и унизительная, со всеми ее отвратительными подробностями — выглядела почти обыденно, и даже скучно.
С трудом протискиваясь сквозь шумную толпу солдат в серых шинелях, над которой вьется плотный влажный пар тысячи выдохов и вдохов, Идрис Халил изо всех сил сжимает ручку новенького чемодана.
Хозяин гостиницы, грек, передавая ему ключи от номера, шепотом спросил вначале по–русски, потом по–турецки:
— Если вы офицер, уважаемый, лучше вам здесь не оставаться! Страшные времена! Видели фонари в порту!?…
Но Идрис Халил спокоен за себя. Охранное имя, данное ему при рождении, защитит его от всех напастей! Подложив руки под голову, он словно бы плывет в плотных сумерках, затопивших грязную комнатку с железным рукомойником в углу у стены. С улицы доносятся смех и пьяная ругань. Дует в щели. Идрис–мореход думает о том, что с того самого дня, как он покинул Константинополь, его безумные ночные кошмары, в центре которых неизменно находится рыжий огонь, пожирающий все тот же сад, становятся все короче и бледнее. Теряя краски, выцветая, как старые фотографии, теперь они стали лишь отголосками прежних видений. Чем дальше он от Города Царей, чем глубже погружается в кровавую грязь конца света, тем, на удивление, спокойнее становится у него на душе. И хотя призраки покинутого им Константинополя все еще рядом с ним, — дни их сочтены. Вскоре они станут так же неузнаваемы, как и лицо блистательного Энвера–паши на открытке, лежащей среди бумаг на дне его чемодана.
…Это еще один образ в череде образов, застрявших в строчках дедушкиной жизни. В скромном наследстве, доставшемся мне от него, есть и эта открытка, датированная 1913 годом. На ней сын бедного железнодорожного служащего, ставший в 33 года генералом и, словно герой из сказки, женившийся на дочери султана, принцессе Неджие–ханум, смотрит сквозь время потускневшими глазами.
Идрис Халил пишет:
Мы дети, рожденные под стук колес уходящих в туман составов, проезжаем призрачные вокзалы, и принцессы машут нам вслед. Принцессы стареют и умирают. Но всегда остаются вокзалы…Он засыпает под неутихающий шум за окном. Холодно. В гостинице не топят. Он лежит на кровати, не сняв даже промокшие под дождем пальто и ботинки. В подкладке его пиджака зашиты деньги.
Идрис–мореход засыпает в радостном предчувствии новых снов…
2
Как только Идрис Халил переправляется через пограничную Куру, начинается какая–то путаница, в которой мне так и не удалось до конца разобраться. Таинственным образом пунктирная линия его маршрута вдруг расщепляется на две: одна продолжает тянуться дальше на восток, мимо отрогов Кавказского хребта, к столице, а другая резко отклоняется вниз, в сторону Елизаветполя — Гянджи. Два маршрута, а значит — два Идриса Халила, существующие параллельно друг другу! Один в Баку, другой в Елизаветполе — Гяндже! …
Что это, мистификация? Сбой, ошибка? Два Идриса Халила в двух разных вариантах Судьбы? Согласно здравому смыслу, только один из них может быть реален, второй — не иначе, как его поэтическое alter ego, воображаемый герой. Иначе: кто–то из них двоих сновидец, а кто–то сновидение. Но, даже зная это, хочу заметить, что разделить их, не нарушив при этом внутреннего механизма дедушкиной жизни — уже невозможно. Сросшись головами, как сиамские близнецы, они, каждый в свой черед, нашептывают мне свои истории. Один справа, другой слева (еще одни парные ангелы).
Тот, что справа:
весна 1918 года. Мятежный Елизаветполь только что вернул свое прежнее название — Гянджа (карта пестрит крестиками, обозначающими места сражений, и разноцветными стрелками, указывающими на передвижения войск).
Опускаясь откуда–то сверху, сквозь стремительно разлетающиеся облака, я вижу город среди холмов, покрытых тенистыми лесами. Все ближе его улицы, его старые кладбища, красильни и ткацкие фабрики, его базары и по–восточному неуютные площади. Стремительно тают остатки рассветных сумерек, на молодых листьях платанов вспыхивает медное солнце, и вот уже до меня доносится напряженный голос муэдзина, возвещающий о наступлении утра с минарета Синей мечети.
На плацу во дворе казармы выстраиваются солдаты. Шеренгами в два ряда. Придирчиво наблюдая за ними, проходит турецкий чавуш.
Неожиданно в воротах казармы я вижу Мухаммеда Хади.
Феникс.
По слухам, четыре года назад, совершенно больной и помешанный, он вернулся в Баку из Константинополя и попал в психиатрическую больницу, где умирал так долго и тяжело, что о нем все почти забыли. И вот вдруг возродившись, как священная птица из пепла, он эффектно выезжает на узкий плац, влажный от утренней росы, на снежно–белом жеребце, молодой, красивый в своей каракулевой папахе с красным верхом и новенькой форме со сверкающими на солнце пуговицами. Он пришпоривает коня — чудо состоялось! Никаких следов прежней болезни! Разве что чрезмерный блеск горячечных глаз…
Солдаты во дворе казармы — Первый Азербайджанский полк. Звание Хади — полковой имам. Поэт отрешенно улыбается одними тонкими губами, словно бы подкрашенными ретушью. Он — местная достопримечательность, его здесь знают все: и турецкие офицеры, и новобранцы, и даже члены Национального Комитета, заседающего каждый день на втором этаже унылого здания бывшего Просветительского Общества. Одетые в безликие пиджачные пары, они собираются в просторном кабинете, чтобы обсудить детали будущей декларации о независимости. Сегодня — снимок для хроники. Отцы–основатели первой Республики неподвижно смотрят в объектив камеры, ожидая ослепительной вспышки магния. Но фотограф под черным покрывалом почему–то медлит, и у одного из них — Хойского, он с правого края, от напряжения уже слезятся глаза. Лишь понимая всю важность происходящего, он продолжает стойко позировать для истории. Наконец, долгожданная вспышка — чудесное оптико–механическое устройство, придуманное Дагером, фиксирует время…
Здесь же, через стену, в двухэтажном особняке, примыкающем к зданию Просветительского Общества, находится Идрис Халил.
Офицеры, скрипя начищенными сапогами, ходят по вощеному паркету, залитому весенним солнцем. Сизый папиросный дым, расплываясь в потоках света из открытых настежь окон, поднимается к потолку. Аккуратным ровным почерком Идрис Халил переносит безликие имена из разрозненных переписных листов, стопкой стоящих перед ним, в толстую книгу в дерматиновом переплете. Али Гулу Мешади Хусейн оглы, рядовой… Вечное перо, слегка царапая бумагу, быстро бежит вдоль строчек, оставляя за собой сохнущие фиолетовые волны. С улицы, где выставлены столы, у которых идет запись новобранцев, доносится монотонный гул.
Идрис–мореход зачислен в тот же полк, в котором служит и Мухаммед Хади. Так судьбы двух поэтов вновь переплетаются между собой, словно просторной географии двух Империй недостаточно для них обоих.
Идрис Халил макает перо в стеклянную чернильницу и, не обращая внимания на суету вокруг, сосредоточенно продолжает работу. Десятки имен постепенно складываются в длинные столбцы без начала и конца. Мальчик в драной чухе приносит чай. Когда, обнеся всех, он подходит, наконец, к Идрису Халилу, за окном вдруг стремительно темнеет от набежавших с холмов быстрых туч. На вощеном паркете гаснут солнечные блики. А уже через минуту в небе над городом, над синим куполом мечети, прокатывается гром, словно фотографическая вспышка проскальзывает молния, и первые хаотические капли весеннего дождя начинают барабанить по крышам и по земле. Кто–то торопливо закрывает окна. Голоса в комнате становятся отчетливее. Дедушка откладывает перо в сторону и терпеливо ждет, пока высохнут чернила, чтобы перевернуть страницу…
Тот, что слева, Идрис–поэт, рассказывает мне о том, как весной все того же 1918 года он шел навстречу слякотному ветру, который тащил по тротуарам бумажный мусор и гнал серые облака пыли, то и дело наплывающие на холодное солнце.
Подняв воротник черного пальто из контрабандного бельгийского драпа, и глубоко надвинув на глаза фетровую шляпу, Идрис Халил торопливо проходит по безлюдной улице, параллельной проспекту Истиглалийат. Проходит мимо темных сырых переулков, мимо запертых подъездов доходных домов, взирающих на него глухими ставнями окон. В кожаном чемодане среди сменного белья, рубашек и запасной пары брюк, перевязанная шнурками от ботинок, лежит растрепанная рукопись поэмы.
Преодолев враждебное пространство в тысячи верст, Идрис–мореход почти вернулся к родным берегам. Здесь, на мостовой, усыпанной кучками конского навоза и сором, ползущим с тревожным шелестом ему навстречу — круг должен замкнуться.
Он входит в Старый Город через Большие Крепостные ворота.
Чувствуя, как быстро пульсирует кровь в висках, в затылке, как прыжками бьется сердце, Идрис Халил спешит к одноэтажному каменному дому, скрытому в узнаваемом лабиринте улиц. Узнаваемому в отличие от тех, из которых ему пришлось бежать…
Он нашел его разграбленным и опустевшим, с заколоченными накрест окнами. В разоренных комнатах не осталось даже мебели.
Идрис Халил растерянно стоит посередине мощеного дворика, не зная того, что вся семья (как и многие соседи) бежала от войны в персидский Энзели.
Сверху Баку словно холмик мокрого песка, нарезанный неумелой рукой на произвольные квадратики — призрачный, нереальный, раб и хозяин магической лампы, наполненной до краев самым чистым в мире керосином…
Гражданская война.
Идрис Халил, тот, что слева, рассказывает мне о пулеметах, установленных на крыше гостиницы «Метрополь», прямо напротив роскошного здания «Исмаиллийе». За мешками с песком прячутся солдаты. Он рассказывает и о разбитой мостовой, по которой семенят тощие собаки, и о веснушчатых английских гвардейцах, охраняющих подъезд «Дома с цепями», где расположена британская военная миссия.
На крыше — три женские фигуры, Парки, когда–то охранявшие сон набожного хозяина дома Гаджи Магомет Хусейна.
В бухте — черные от копоти военные корабли под красными флагами. Революционные моряки методично обстреливают мусульманский Чемберикенд из крупнокалиберных орудий. Темнота рвется от ослепительных вспышек выстрелов. Снаряды в белом пороховом дыму с пронзительным свистом пропарывают холодную ткань воздуха и разрываются на грязных улицах, вздымая в низкое небо тучи битого стекла, щебня и пыли.
Целые кварталы совершенно разрушены и сожжены. Среди обугленных руин лежат убитые.
В порту — неимоверная давка. Чайки суетливо кружатся над деревянными сходнями, и опять пароходы, множество пароходов в сплошной пелене горького дыма. Они отчаливают от пристани, один за другим, переполненные людьми, тюками, лошадьми, солдатами, ранеными.… А дым саваном опускается на город. В нем сажа и копоть горящих промыслов и уже вовсю пылающего чудесного здания «Исмаиллийе».
Прикрыв глаза ладонью, чтобы не ослепнуть, Идрис Халил стоит в самом центре безбрежного огненного моря. Это тот самый огонь из особняка Хайдара–эфенди, преследуя его по пятам через тысячи верст, горы и моря, через время и забвение, затопил все вокруг…
Кто начал эту огненную цепь?
Пока один из них в Елизаветполе — Гяндже под дробный шум дождя продолжает нанизывать на незримую нить безликие имена новобранцев, другой сиротливо ходит по опустевшим и разграбленным комнатам отцовского дома, сочиняя почти бессмысленные строфы второй части своей поэмы:
Я исходил тысячи крыш в поисках сада и не заметил, что
птицы, похожие на людей, ушли из моих снов.
Брадобрей, срезающий острой бритвой щетину с моих щек,
Не знает цену моему одиночеству. Солдаты проходят рядом.
Жизнь проходит рядом. Жизнь проходит.
…Идрис Халил трогает пальцами стены, холодные и влажные от сырости, и удивляется тому, что его совершенно не пугает этот нежилой и промерзший дом с темными провалами комнат.
3
И в Баку, и в Елизаветполе — Гяндже Идрису–мореходу 33 года.
Высокий, несколько похудевший, с тонким носом и внимательными глазами на скуластом лице, он чем–то похож на своего кумира Энвера–пашу. Он давно уже сбрил бороду, но, следуя новой республиканской моде, носит над верхней губой небольшие аккуратные усики, которые, впрочем, совсем не портят его. В Елизаветполе он бреется сам, а в Баку каждое утро отправляется к цирюльнику–мусульманину, старому приятелю отца.
Брадобрей, срезающий острой бритвой щетину с моих щек,
Не знает цену моему одиночеству…
Они разговаривают. Точнее, говорит один лишь цирюльник, не обращая внимания на сонное молчание Идриса Халила, сидящего с откинутой головой и вдыхающего тонкий запах мыльной пены, покрывающей его щеки.
Ветер. Над плоскими крышами Старого Города висит пыль. Тусклый свет, проникающий в полуподвальную цирюльню сквозь грязное окно, расплывается в зеркале над деревянным столиком, отчего отражение дедушкиного лица в зеркале кажется почти прозрачным.
Закрыв глаза, Идрис–мореход радуется пустоте, не заполненной снами. Пустоте совершенной, лишенной всякой формы, запаха и вкуса, пустоте, сродни той вечности, в которой пребывает скрытый от глаз непостижимый вселенский механизм. Видения, посещавшие Идриса Халила в Константинополе, совершенно оставили его теперь, и с той первой ночи, проведенной им под крышей разграбленного отцовского дома, он спит глубоко и спокойно.
— Ты, наверное, не знаешь, покойный отец твой, да смилуется над ним Аллах, всегда приходил ко мне по четвергам. Иногда один, иногда с твоим братом Мамедом Исрафилом.
Цирюльник в просторной рубахе навыпуск, подобрав округлое брюшко, склоняется над ним и ловко срезает намыленную щетину с дедушкиного подбородка.
— … помню, пришел, стал расспрашивать про дом, про дела. Как обычно. Поговорили немного, чай выпили, а потом я стал брить ему голову, и, когда брил, он вдруг убрал мою руку и говорит: «Смотри, Рахим! Видишь!». Думаю, может, поранил я его, а он: «Буквы видишь?». — Какие буквы? — спрашиваю я. — «Буквы! — он мне говорит, — ты разве не слышал, Рахим, что судьба каждого человека записана у него на лбу? Посмотри внимательнее, неужели не видишь?» — Я смотрел, смотрел, ничего не увидел…
Цирюльник вытирает лезвие о край полотенца, перекинутого через левую руку. В окно бьется ветер.
— А если бы и увидел, что проку? Я, как слепой ишак, вывеску над своей цирюльней прочитать не могу, не то, что божьи писания!
Мартовское небо наливается рубиновой краснотой, готовой в любую минуту пролиться дождем…
В отличие от своего двойника, Идрис Халил в Баку ведет тихий и уединенный образ жизни в городе, сотрясаемом артиллерийской канонадой.
Он нанял двух рабочих из персов. Вставили окна — ровным счетом семь. Все семь на восток. Заново побелили кухню. Комнаты вычистили от пыли, проветрили, выгребли мертвую копоть из печей и протапливали дом до тех пор, пока огонь окончательно не разогнал зловонную сырость. На рынке «Угольщиков» Идрис Халил купил кое–что из мебели, несколько ковров, одеяла, подушки, необходимую утварь, заплатив за все едва ли одну треть их довоенной стоимости.
Спрос на османские лиры, по мере продвижения армии Нури–паши из Гянджи в Баку, возрастает с каждым днем.
…Когда наступает вечер, и бриз вместе с запахом моря и дыма доносит с окраин эхо беспорядочной пальбы, Идрис–мореход плотно закрывает ставни всех семи окон, зажигает керосиновую лампу, чтобы дом, погруженный в размеренную тишину, покойно плыл сквозь ночь. Сидя за столом, он подолгу рассеянно следит за легким и причудливым мерцанием огня под стеклянным колпаком.
Ставни откроются лишь на рассвете, с первыми лучами солнца.
Ему некуда спешить. Часы на серебряной цепочке, почти точная копия тех, которые он когда–то продал в Константинополе, лежат теперь без движения где–то в кармане пиджака вместе со связкой ключей от новых замков и мелочью. Пять часов…
Пауза.
Выброшенный из потока времени, которое, согласно незыблемой формуле Платона, является подвижным образом вечности, оказавшись вне его смертельных стремнин, он обрел то особое сферическое зрение, без которого невозможно настоящее творчество. И пока его двойник в Гяндже все глубже погружается в монотонную рутину войны, дни и ночи Идриса Халила в Баку заполнены поэзией. Пять утра, вечера, ночи. Пять вечности. Такое однажды уже происходило с ним. Там, в Городе Царей, в убогой каморке с окном на крышу соседнего дома, когда его озябшая рука, свободная от любви и ненависти, одну за другой заполняла пустые страницы поэмы. Вот и теперь, сочиняя, он не замечает даже того, как ветреный март становится апрелем.
Кто же из них двоих подлинный? Кто, волей случая, сновидец, а кто, волею судьбы — сновидение?
Он почти закончил поэму. В ней есть Баку под рубиновым небом, и брадобрей, не умеющий читать, и дом в семь окон на восток. В ней есть самое главное — щемящее чувство человека, выброшенного на окраину событий и времени, позволяющее почти безошибочно идентифицировать автора с Идрисом Халилом — поэтом. Если это так, то он и есть подлинный мореход, не солдат, но поэт. Но как в таком случае быть с той исторической фотографией, снятой в Гяндже, где он стоит среди офицеров Первого Азербайджанского полка — второй в заднем ряду слева? И списками этого же полка, в котором значится его имя и звание? Не поэт, но солдат?
Головоломка!
Она будет продолжаться еще несколько месяцев, в течение которых солдат будет ранен в битве под Геокчаем, а поэт получит солнечный удар. Оба события произойдут в один и тот же день наступившего двойственного лета.
Идрис–поэт сочиняет в шелестящей тени старой смоковницы. Над ним, над растрепанными страницами рукописи — прозрачное небо, пронизанное нитями солнца. Колодец–двор, просвет среди нагромождения плоских крыш, залитых жидким стеклом знойного марева, которое волнами накатывает на город из солончаковых пустынь. И кажется, что чайки, парящие над бывшими губернаторскими купальнями и деревянной пристанью, где стоят баржи, будто чешуей покрытые отражениями сверкающей ряби, неподвижно застыли в раскаленном воздухе.
Идрис–поэт ведет вечным пером вдоль строки:
Слова, поглотив солнце, становятся золотом,
Солдатами, утонувшими в земле, моими снами.
Сплетаю слова, чтобы день стал равным ночи…
По часовой стрелке, справа налево.
Глянцевая капля крови незаметно скатывается с кончика его носа на страницу. Следом еще одна, и еще. В жару кровь быстро сворачивается, становясь похожей на пролитые чернила, и прямо посередине недоконченной строфы возникает неряшливый пунктир.
Дедушка резко поднимает отяжелевшую голову, зажимает ноздри пальцами, встает, с ужасом чувствуя, как у него темнеет в глазах.
…То ли кровь, то ли чернила. То ли сок так и не поспевших гранатов урожая лета 1918 года. Черная пунктирная линия многозначительно ползет по странице дедушкиной рукописи, указывая путь на запад, туда, где другой Идрис, Идрис–солдат, оглушенный взрывами снарядов, стоит в цветущих гранатовых садах вдоль пыльного серпантина дороги. Туда, где из дымящихся воронок веером летят комья горячей земли, где под сенью дрожащих деревьев солдаты, осыпанные розовыми лепестками, ждут своей очереди…
За спиной внезапно смолкает артиллерия. Сквозь призрачную муть в глазах он видит, как серые призраки с винтовками наперевес встают с земли и начинают бежать к траншеям. Оглушительная тишина взрывается ревом голосов и рвется, распоротая глухим стрекотом пулеметов, земля под ногами уже гудит от конского топота, справа, из–за стены деревьев, появляются всадники с шашками наголо.
…Захлебываясь в собственном крике, Идрис Халил поднимает своих солдат в атаку, бежит, спотыкаясь об торчащие корни. Острый запах горящей травы наполняет его легкие. На губах вкус соли и страха.
Навстречу им — беспорядочный ружейный огонь. Выставив перед собой табельный «наган», он стреляет, не целясь, в завесу желтой пыли. И тотчас из полузасыпанной взрывами траншеи прямо на него выскакивает огромного роста матрос в черном бушлате. Мгновенье! Острие штыка, нацеленное Идрису Халилу в грудь, проскользнув совсем рядом, успевает зацепить руку выше запястья. Ослепительная боль!
Потеряв равновесие, он падает на спину.
Когда матрос заносит над головой ружье для последнего смертельного удара, грохочущие звуки битвы вокруг Идриса Халила вдруг начинают угасать. Душа его, встрепенувшись, подкатывает к самому горлу, готовая вырваться на волю, и в наступившей темноте он отчетливо видит летящее прямо на него стальное лезвие…
Наверное, все тогда бы и закончилось! Но, как уже было сказано, в невидимом штрих–коде на лбу у Идриса–морехода сады Геокчая записаны лишь как эпизод, не более, впереди у него еще целая жизнь, в которой есть место моей бабушке и моему отцу. Когда от смерти его отделяет лишь быстротечная пауза между выдохом и вдохом, включается сложный передаточный механизм Судьбы и Случая, и матрос в черном бушлате, вскрикнув, падает, сраженный чьей–то пулей…
Из раны хлещет кровь. Она стекает на влажную землю, усеянную нежными завязями и лепестками. Идрис Халил поднимает глаза к серому небу, веки тяжелеют, и как только сознание его затуманивается, поэт и солдат на какое–то время вновь сливаются в единое целое, чтобы соединить кровь, пролитую в гранатовых садах, и ту, что пунктирной линией застыла на пожелтевшей странице рукописи.
На него нисходит лихорадка.
Так начинаются долгие дни и ночи, заслоненные не спадающим жаром, болью и жаждой. В ознобе, темном и страшном, один из них мечется на койке в грязном бараке, переоборудованном под госпиталь, другой — под крышей отцовского дома. А единая душа их в это время пребывает где–то в тонком эфире между небом и землей. Одна душа — два тела.
Все время, пока длится лихорадка под тихий шелест отлетающих календарных дней, наполненных влажной духотой и комариным звоном, разноцветные стрелки — красные, черные, зеленые, синие — продолжают расчерчивать карту страны. Армии наступают, армии отступают, у позабытых городов появляются крестики, обозначающие места сражений. Одна из стрелок ведет от персидского берега Каспия к Баку — это Старфорширдский полк высаживается в городе на излете лета, чтобы разогнать правительство красных комиссаров. Другая тянется от Баку на восток, обозначая крестный путь комиссаров к месту казни.
Их убили и спрятали в золотых песках. А всего через сорок дней (история этой страны странным образом сплошь пронизана магическими числами) британцы, отправившие комиссаров на смерть, проиграли битву за столицу.
Город освобожден.
…Так завершился путь от Гянджи до Баку. Долгий путь с запада на восток, обратно движению солнца. А с ним закончилась и головоломная путаница с двумя героями. В тот самый момент, когда победоносные солдаты маршируют по проспекту Истиглалийат, и люди, стоящие на балконах уцелевших домов, аплодируют и кричат от восторга, когда военный оркестр начинает играть османский марш, а среди турецких военных штандартов взлетает трехцветное знамя Республики, Идрис Халил, стоящий в толпе рядом с фонарным столбом, встречается взглядом со своим двойником, марширующим в ряду офицеров азербайджанского полка, и один из них исчезает…
4
На самой границе между летом и осенью. Зной все еще висит над улицами старого города, и в слепых глазах старух у мечети Биби — Эйбат по–прежнему отражается жаркое небо, пронизанное солнцем. Но в быстрых вечерних сумерках уже незримо присутствует образ ветреной осени.
В Баку возвращаются беженцы. Все дороги, ведущие в город, запружены ими. С севера и юга, востока и запада по Шемахинскому и Сальянскому трактам вереницей тянутся подводы. Окутанные белым паром, к вокзалу мчатся переполненные поезда, а пассажиры на палубах кораблей с волнением вглядываются в подернутые дымкой очертания города. Где–то среди тех, кто возвращается сюда морем из Персии и сходит на деревянную пристань «Товарищества Меркурий» — старший брат Идриса Халила — Мамед Исрафил с семьей и двумя женами их покойного отца.
Лейла–ханум и Зибейда–ханум.
Я вижу их сидящими рядышком на заднем сидении фаэтона с поднятым верхом. Обе закутаны в черные шелковые покрывала. Жены кондитера. Вдовы. Одна — как сдобная булка: белая, пышная, рыхлая, с родинкой над верхней губой, похожей на изюминку. Другая — мать Идриса Халила, Зибейда–ханум, полная ей противоположность, — своими сухонькими ручками и золотистой кожей, скорее, напоминает ванильный сухарик.
Фаэтон трогается, из–под высоких колес с красными спицами летит пыль. Вся дорога вдоль набережной все еще изрыта воронками от снарядов.
Они возвращаются домой. Все, кроме Хусейна Рзы — среднего брата Идриса Халила. Удачно женившись на дочери местного купца, он поселился в Тебризе и собирался приехать позже. Но дела все не отпускали его. Вначале он писал регулярно, раз в неделю, писал, что торговля процветает, что лавки его полны товаров, что супруга его, волей Аллаха, уже на сносях, потом все реже и реже, а когда границы закрылись, и вовсе перестал писать…
Каким он был? Хусейн Рза появился на сцене лишь однажды — в тот самый день, когда провожали Идриса–морехода в его первое путешествие, он стоял рядом с Мамедом Исрафилом на перроне вокзала и махал рукой вслед отъезжавшему поезду. Поезд уехал, и Хусейн Рза исчез, навсегда выпав из дедушкиной жизни и этой истории. Возможно, там, на юге, отделенный от нас пограничной рекой, в мутных водах которой водятся гигантские сомы, а на песчаных отмелях стоят пограничные вышки, он прожил счастливую и долгую жизнь лавочника, а, возможно, как и многие другие, сгинул в кровавом водовороте революции 1946 года.
…Медленный фаэтон сворачивает с набережной. Дорога его лежит в старый город, где среди нагромождения домов с плоскими крышами стоит один единственный с семью окнами на восток.
Улицы встречает их сонной тишиной полудня. Дробный цокот копыт эхом разносится по переулкам. В багажном отделении фаэтона несколько огромных чемоданов и два тюка, перевязанные веревками. Мамед Исрафил поправляет каракулевую папаху на своей гладко выбритой голове. За время пребывания в Персии он успел совершить паломничество в Мешхед, где молился на могиле одинокого Имама Рзы, и теперь с полным правом именуется — Мешади Мамед Исрафил.
Всю свою долгую жизнь Мешади Мамед Исрафил был предприимчивым, а самое главное, удачливым человеком. Почти таким же, как его отец. Уже через пять недель после возвращения его усилиями пекарня и кондитерские были восстановлены и даже расширены. В них снова пекли хлеб, печенье и чудесную бадам–бурму с миндалем и грецкими орехами. Семья вновь стала процветать. Однако, думается мне, что, помимо необычайной природной везучести Мамеда Исрафила, немалую роль в этом сыграли чудодейственная сила его паломничества к могиле святого и золотые червонцы из тайника Хайдара–эфенди, привезенные моим дедом из Константинополя.
Дождливый октябрь смыл с узких ступеней, крыш и стен старого города горькую гарь пожарищ, и она утекла прочь вместе с пенными потоками, бегущими вниз по переулкам, оставив после себя лишь черный налет на брусчатке.
В доме с окнами на восток опять стало светло и шумно. В стенных печах развели огонь. Трое дочерей и старший сын Мамеда Исрафила с криками носятся по комнатам, путаясь у всех под ногами. По вечерам маленькая и смуглая Зибейда–ханум пьет чай с засахаренными фруктами, из которых она более всего предпочитает персики, начиненные молотым орехом, а белокожая Лейла–ханум сидит на огромном сундуке в углу гостиной и перебирает янтарные четки. Одна их них все время молчит, другая говорит почти безостановочно.
И опять в пекарнях у больших печей и днем и ночью раскатывают тесто и бросают продолговатые лепешки на деревянный прилавок, посыпанный мукой. Из огня вынимаются длинные черные противни со сладостями, разносчики наполняют корзины со свежим хлебом, суетятся приказчики…
27 октября братья отправились в театр Маилова смотреть непобедимого Сани Сулеймана. Было по–осеннему зябко. На извозчике они доехали до синагоги, потому что маленькая площадь перед театром уже была запружена фаэтонами.
Пробираясь через толпу, они заметили знакомого, стоящего у тумбы, обклеенной афишами, на которых набычившийся Сани Сулейман, прозванный Блондином (Сары) за бобрик волос цвета спелой пшеницы, был изображен в схватке с огромным бенгальским тигром. Остановились поговорить. Было светло как днем от сияющего в витринах магазинов электричества. Разглядывая свое отражение в одной из них, Идрис Халил вдруг почувствовал приступ необычной слабости. Закружилась голова, а откуда–то из глубины памяти стал возвращаться тот памятный день, когда под марш военного оркестра один из двух Идрисов Халилов исчез безвозвратно. Тогда это произошло как бы само собой, почти не замеченным. Но теперь все было по–другому. То мгновенье, короткое, быстрое и неуловимое, когда взгляды сновидца и сновидения встретились, вернулось неким электрическим разрядом, пробежавшим по всему телу. В глазах у него стало темнеть, он глубоко вдохнул в легкие сырой, холодный воздух, и многолюдная улица поплыла мимо него, сквозь него, рядом с ним, и постепенно лица прохожих и зевак, витрины, залитый огнями фасад театра, встревоженные глаза Мамеда Исрафила, фаэтоны, — все вокруг слилось в одно сплошное пятно, и он потерял сознание.
Горячка. Сопровождаемая сильным жаром и головной болью, она свалила его на целых две недели.
Новые часы с боем. Бронзовый маятник плавно рассекает воздух, направо — часы, налево — минуты. Подвижное время истории по капле утекает вместе с газетными заголовками. И снова оно проходит мимо Идриса Халила. Мимо темной угловой комнаты с зарешеченным окном, где дедушка, укутавшись в пестрое одеяло, неподвижно смотрит в потолок. Но то, что на первый взгляд кажется болезнью, на самом деле — выздоровление. Его душе требуется покой, чтобы солдат и поэт, каждый со своим собственным опытом и чувствами, могли, наконец, слиться в ней в одно целое.
Поэт — направо, солдат — налево. Тик–так. Тик–так. Зибейда–ханум кладет ему на лоб полотенце, смоченное в виноградном уксусе, и в мягком сумраке комнаты невольно появляется призрак греческой девы. Она проводит бесплотной ладонью по его щекам, заросшим черной щетиной, и, наклонившись, что–то шепчет ему на ухо. Слов не разобрать. Шепот призраков — скорее, ломкий шелест опавшей листвы, чем связная речь…
В плоские крыши старого города стучит дождь. Зибейда–ханум, ставя на стол керосиновую лампу, локтем задевает стопку листов. Рукопись поэмы рассыпается по полу. В ее застывших строчках дом с окнами на восток продолжает одиноко плыть сквозь ночи гражданской войны, и брадобрей, не знающий цену одиночеству, рассказывает о невидимых чернилах, и в капле меда стынет тягучее оранжевое солнце, от которого темнеет в глазах.
В дедушкиной поэме нет ни слова об уродливом шраме выше запястья, полученном от удара штыком.
Мамед Исрафил приносит гранаты, завернутые в газету.
Темно–красные, почти коричневые гранаты выкладывают на подоконник. В ряд. В их глянцевой кожуре теряются блики осеннего неба.
— Какой сегодня день?
На обрывке газеты: «6 ноября 1918». Заголовок, набранный крупно, сообщает об учреждении Военного Министерства Республики.
Дом. Завершение первого путешествие Идриса–морехода. Предчувствие нового.
В железной печи гудит огонь. Прижавшись спиной к ковру на стене, Идрис Халил не спит. Он еще не вполне оправился от горячки, но в эти дни полузабытое томление, заставившее его однажды сесть в поезд, идущий до Батума, вновь прорастает в нем, словно диковинный цветок, с новой, необычайной силой. И теперь каждый раз, закрывая глаза, он вновь грезит жемчужной глубиной чужих небес и маленькими городами вдоль дороги, и огромными волнами, летящими на прибрежные скалы…
Ветер обрывает листья с платанов в губернаторском саду. В серых сумерках город покидают турецкие солдаты.
Как только Идрис Халил смог выходить из дома, он отправился в цирюльню. Но, странно, теперь бесконечные истории брадобрея почему–то только раздражали его, а уютный запах теплой мыльной пены казался резким и неприятным. Да и в отцовских пекарнях, где опять пекли хлеб — тот самый хлеб, который так часто снился ему в Константинополе — он лишь скучал, равнодушно наблюдая за суетой у огромных печей.
Как и пять лет назад, по ночам его звали в дорогу длинные гудки пароходов. Вернувшись под спасительную крышу дома, мореход, как это водится, быстро позабыл обо всех злоключениях своего первого путешествия…
В пестрых заголовках газет стремительно меняются даты и события.
12 декабря, ровно через четыре дня после открытия первой сессии парламента, Идриса Халила, так же, как и других солдат и офицеров, отличившихся под Геокчаем, вызвали в Министерство Обороны, и сам генерал Самедбек Мехмандаров вручил им памятные медали. Первые медали Республики. Кроме того, лейтенант Идрис Мирза Халилов был произведен в капитаны.
Новое назначение.
Вначале из темноты возникает стол, накрытый полотняной скатертью. Яркий свет лампы в ажурном плафоне.
Зибейда–ханум перекладывает жирную баранину с горохом из глиняного горшочка в фарфоровую миску и, полив бульоном, проворными пальцами крошит сверху хлеб.
— Как же теперь будет, сынок! Только поправился, только выздоровел!.. Как же теперь будет?..
Тихо всхлипывая, она размешивает хлеб ложкой, посыпает густую жидкость сухой мятой и базиликом и пододвигает миску Идрису Халилу. На фарфоре — мелкие оранжевые цветы, которые густо покрывают всю внешнюю часть миски до самых краев, окантованных золотистой полоской.
— Кто там будет за тобой смотреть?
Идрис Халил с удовольствием ест. Рядом с ним солонка и маленькая пиала, где в свежем гранатовом соке плавают кольца лука. Напротив, придерживая пальцами пенсне в тонкой металлической оправе, сидит Мамед Исрафил и просматривает газету. Макушка его гладко выбритой головы покрыта белым тесаттуром, привезенным из Персии. Зибейда–ханум утирает платочком глаза.
— Как же теперь все будет, сынок? Может быть, откажешься?
— На все воля Аллаха! Да оставь ты, наконец, его в покое! Сколько можно говорить об этом! — ворчит Мамед Исрафил. — Он на службе, он не может отказаться…
— На все воля Аллаха! — Это Лейла–ханум. Она проступает из зыбкой темноты в моем видении самой последней и оказывается сидящей по правую руку от Мамеда Исрафила. Но лица ее мне уже не разглядеть, только пальцы, лениво перебирающие продолговатые, похожие на ягоды кизила, костяшки янтарных четок. Молочно–белые полные пальцы, украшенные перстнями…
Вычленив из темноты призраки давно умерших людей и собрав их вместе за одним обеденным столом, я не могу удерживать их больше, чем на мгновенье. И вот уже свет лампы постепенно тускнеет, и они вновь уплывают в свое небытие…
5
Второе путешествие Идриса–морехода началось с того, что ранним утром 17 декабря 1918 года он вышел из дома и сел в фаэтон, ожидавший его у дверей. Фаэтон тронулся, Зибейда–ханум с порога выплеснула ему вслед ковшик чистой воды — на добрый путь. Вдохнув полной грудью терпкий морозный воздух, он обернулся, увидел теплый дым, вьющийся над крышей дома, свет за занавеской в одном из окон, глядящих на восток, и на мгновенье сердце его встрепенулось от щемящей тоски и тревоги. Но только лишь на мгновенье, потому что упираясь в тонкую линию горизонта, бесконечная дорога давно уже ждала его, манила, и весь охваченный радостным возбуждением, он вспомнил сказанное в Книге:
«Ты видишь корабли, рассекающие море…».
Над ними кружат голодные чайки, над ними и над пристанью. Их голоса, отрывистые и резкие, едва различимы в монотонном грохоте машин, сотрясающем палубу баржи. Скоро отчалят. Порывы ледяного ветра гонят клубы дыма из закопченной трубы в сторону набережной, где впритык друг к другу теснятся заполненные под самую крышу мешками с хлопком деревянные склады. Скучающий жандарм, подняв от холода воротник шинели, дымит самокруткой, наблюдая, как амбалы в грязных чухах разгружают подводу с какими–то ящиками. На крыльце конторы «Товарищество Меркурий», покрытом струпьями облупившейся белой краски, горит забытый с ночи фонарь, отбрасывающий жидкий свет на огромные буквы совершенно проржавевшей с правого края вывески.
Идрис Халил сидит на скамейке у правого борта, глубоко надвинув на лоб офицерскую папаху. В просветах между тюками всевозможных видов и размеров, собранных на палубе, он видит верхушку Девичьей Башни, плывущую высоко в небе над цокольными крышами складов, и неподвижные рыхлые тучи, готовые пролиться дождем, и чаек над пристанью.
На часах — половина девятого. Ожившие стрелки вновь показывают время.
Стараясь не обращать внимания на любопытные и, отчасти, боязливые взгляды пассажиров, исподволь разглядывающих его добротную шинель с капитанскими нашивками на рукаве, начищенные до тусклого блеска новые сапоги и кобуру на поясе, он достает из кармана папиросы и закуривает. Помимо вместительного чемодана, у него с собой еще плетеная корзина со снедью, заботливо собранной в дорогу Зибейдой–ханум.
Оглушительный гудок возвестил об отплытии. Только что подняли швартовые. Вода за кормой вспенилась, разрезаемая стальными лопастями винта, и, тяжело покачиваясь, баржа, на флагштоке которой трепещет новый трехцветный флаг, стала медленно отходить от пристани. Свинцово–зеленые волны за бортом покрылись тонкой каймой пены.
Чем дальше от них набережная, тем отчетливее из холодной дымки раннего декабрьского утра проступает город, заслоненный до этого крышами складов.
…Корабли рассекают море, корабли плывут к горизонту. Голодные чайки остаются за спиной, дом остается за спиной, и скулы сводит от холода и тревожного ожидания…
Путешествие на одинокий остров Пираллахы.
Уткнувшись носом в отворот шинели, остро пахнущий влажным драпом, Идрис Халил закрывает глаза, и там, в мерцающей темноте за пеленою век он тщетно пытается вообразить себе весь путь по пустынному морю до маленького острова.
Если следовать за ним по карте, то можно увидеть крошечный кораблик, ведомый пунктиром на северо–восток. В скобках указано расстояние от Баку до Пираллахы: 46 русских верст. Это значит — 27 английских морских миль или 7 персидских агачей. Иначе говоря, всего 50 привычных нам километров!
На выходе из бухты прямо перед ними где–то на зыбкой грани между небом и морем возникает другой остров, Наргин, с его старым маяком, пульсирующим на фоне сплошной стены серых туч.
Качка заметно усилилась. Баржа идет медленно, тяжело переваливаясь с боку на бок под боковыми ударами стремительных волн. Баку больше не виден. Затянутый туманом, он как–то незаметно исчез из поля зрения. Идрис Халил обернулся, но за спиной теперь была лишь ничем не ограниченная пустота да пунктирный шлейф пены…
Они огибают Наргин.
Мимо проходит матрос в измазанном мазутом бушлате. На правой щеке — глубокий застарелый рубец.
— Когда прибудем? — Приходится почти кричать.
Матрос:
— Если ветер не усилится, часов через пять… Видимость плохая…
— А если усилится?..
Матрос пожимает плечами и улыбается.
Идрис Халил долгим взглядом смотрит на море, покрытое белыми бугорками, и приступ тошноты и мучительного страха заставляет его снова закрыть глаза, отгородившись от происходящего спасительной темнотой. И постепенно, несмотря на холод, он засыпает, и в первом сне второго дедушкиного путешествия, как и раньше до этого, будто наваждение, появляются горячие утренние хлебцы, посыпанные маковыми зернами в больших плетеных корзинах, и черные длинные противни, на которых лежит нарезанная ромбиками пахлава, отливающая тусклым глянцем…
Первый сон с того дня, как он навсегда покинул Константинополь. Он означает начало чего–то нового в жизни Идриса Халила.
Сколько он спал — неизвестно. Идрис–мореход проснулся, разбуженный внезапно наступившей тишиной.
Молчат машины. Полный штиль. Они стоят, окруженные густым туманом. Туман настолько плотный, что за бортом не видно моря, и оно обозначено лишь мерным плеском воды. Сигнальные огни, зажженные на носу и на корме, превратились в тусклые желтые пятна, размытые по краям. Что–то одиноко и гулко скрежещет в пустых трюмах. Невидимые пассажиры тревожно молчат, притаившись между укутанными туманом тюками и баулами. Они молятся. Молятся тому, в чьей только воле в одно мгновенье рассеять проклятое марево или навсегда оставить их висеть между небом и землей, между прошлым и будущим, в белом облаке, до тех пор, пока не явятся ангелы с серебряными трубами, чтобы возвестить о конце времен…
Идрис–мореход достает часы и с удивлением обнаруживает, что стрелки их безжизненно стоят. Он подкручивает заводной механизм, трясет их, но все зря. Тонкие золотистые стрелки вновь показывают абстрактное время вечности…
А туман, изрыгаемый какой–то неведомой машиной, все продолжает прибывать. Клубясь, он ползет на баржу со всех сторон, забивается в пустоты, оседает на ржавых поручнях каплями воды. Идрис Халил чувствует, как его шинель постепенно набухает от влаги, тяжелеет. Достав папиросу, он долго не может зажечь отсыревшие спички.
…Как завершающий аккорд молитвы, обращенный к повелителю ветров и времени, раздается долгий призывный гудок из пароходной трубы. Но откликом ему — все тот же плеск воды и скрежет в пустых трюмах баржи. Потому что сказано: «по звезде они находят дорогу». По звезде, а не по звуку. И если нет ни звезды, ни знака, что укажет им путь?
(Идрис–мореход усмехается, презрительно опустив уголки губ под кончиками республиканских усиков. Он знает точно: Судьба и Случай оберегают его, и путь до острова, прочерченный невидимыми чернилами на его лбу, так или иначе, будет пройден до конца.)
Недокуренная папироса летит за борт: оранжевый уголек, будто падающая звезда, прочерчивает дугу в молочной пустоте и с шипением гаснет, коснувшись воды. Скатившись с кончика пера, строчка провисает в воздухе, так и оставшись недописанной:
На кораблях, рассекающих море, читая молитвы
Против холода и тревоги…
Строчка без всяких многоточий на полях рукописи. Всего несколько слов, записанных быстрым почерком, но за выцветшими чернилами таится тот самый первый день второго путешествия.
Три часа безвременья.
Они все стояли и стояли, подавая жалобные гудки, длинные паузы между которыми были заполнены оглушительной тишиной и холодом. И когда отчаяние стало уже невыносимым, их вдруг услышали. И тотчас легкий трепет, словно чье–то дыхание, пробежал по клубам тумана, по многолюдной палубе, и отчетливо запахло снегом, и вскоре с запада налетел ветер, и стал дуть им в спину, расчищая дорогу впереди. Белая пелена треснула, в просветах на горизонте показалось небо, черное и низкое. Спешно запустили машины.
— …волнуются…скоро доберемся…на все воля Аллаха!.. — доносится до дедушки обрывок разговора двух человек, сидящих возле огромного тюка.
— На все воля Аллаха! — шепотом повторил Идрис Халил, поплотнее запахиваясь в отсыревшую шинель.
Баржа, подгоняемая ветром, продолжает свой путь.
Они прибыли на Пираллахы уже в сумерках.
Тусклые огни поселка гроздьями спускались из темной глубины острова к самой пристани. Люди на палубе, уставшие от качки и холода, начали собираться, оживленно перекидывались словами, радуясь удачному завершению их путешествия. Сняв папаху, Идрис Халил стоял у борта и вглядывался в грязно–серые сумерки, сходящие с темнеющих небес, запруженных клочьями туч, и ветер обдувал его коротко стриженые волосы.
Пираллахы означает — Святыня Аллаха. Но в декабрьских сумерках 1918 года с палубы старой баржи остров, тогда еще не соединенный с сушей десятикилометровой насыпью, больше напоминал огромную могилу, увитую гирляндами ночных светлячков.
Они причалили уже почти в полной темноте.
На мокрой пристани, освещенной двумя фонарями, было много народу. Под деревянными сваями глухо клокотало море. Впереди, у деревянного барака в одно окно, стояли солдаты, вооруженные винтовками, дальше несколько важных господ в длинных шинелях. В ожидании, когда перекинут мостик, пассажиры стали протискиваться к выходу. На пристани появились таможенники с большими канцелярскими книгами в руках.
Как и следовало ожидать, Идриса–морехода пропустили вперед. Еще бы, это его встречали господа в длинных шинелях.
— С благополучным прибытием на Пираллахы, Идрис–бей! Мы уже, признаться, начали беспокоиться!
— По дороге был сильный туман. Часа три стояли, не меньше…
— Знаю, знаю! Но слава Аллаху, что все обошлось! Погода меняется так часто.
Идрис Халил соглашается.
— Позвольте представиться — начальник здешнего полицейского участка, майор Мамед Рза Калантаров. А эти господа — комендант острова, полковник, уважаемый Мир Махмуд Юсифзаде, и вот, пожалуйста, наш главный санитарный врач Мурсал Велибеков.
— Я из сеидов! — Многозначительно кивает полковник–комендант, и улыбка освещает его маленькое сморщенное личико, напоминающее печеное яблоко.
— Наш Мир Махмуд–бей — настоящий герой! Вместе с Самедбеком Мехмандаровым отличился еще в русско–японской кампании…
— Между прочим, имею серебряного «Георгия»! — Старичок распахивает шинель и демонстрирует Идрису Халилу орден, приколотый к нагрудному карману френча.
Они садятся в ожидающий их фаэтон. Трогаются. Медленно едут по темному бездорожью.
Калантаров и доктор подробно расспрашивают Идриса Халила о последних событиях в Баку, о парламентской сессии, о ценах на недвижимость, о военном призыве. А тем временем старик–полковник дремлет, глубоко надвинув на кукольный лоб огромную папаху.
Въезжают в поселок. В колеблющемся свете фонаря, прикрепленного к козлам, разбитая дорога вьется по узким улицам вдоль глухих стен, сложенных из известняковых камней. Идрис Халил достает из кармана папиросы и закуривает. Мучительно ноет правое запястье, изуродованное ударом штыка.
— Сыро тут…
— Что поделаешь! Здесь на острове всегда так!.. Зато летом бывает хорошо, прохладно.
Фаэтон подпрыгивает на ухабе. Дедушка пребольно ударяется локтем и роняет дымящуюся папиросу на пол.
— Эй, ты заснул там, что ли?
— Не досмотрел, ага–начальник!.. — Кричит возница с козлов.
Молодой доктор Велибеков наклоняется вперед:
— Я слышал, вы были ранены? Пуля?
— Штык… вот тут.
— А мне так и не довелось повоевать!..
Бесконечный каменный лабиринт вдруг резко обрывается огромными пустырями с редкими соснами, в просветах между которыми таится яркая темнота моря. Свистит ветер — словно полощется мокрый парус. Под колеса фаэтона, подпрыгивая, катятся сухие шишки.
Вскоре они подъезжают к небольшому особняку, стоящему чуть в стороне от дороги. Останавливаются. Тотчас, встрепенувшись, просыпается старичок–полковник и, прогоняя остатки сна, забавно потирает лицо кукольными ладошками.
— Приехали?
— Приехали! — Кивает Мамед Рза. — Пожалуйте в дом! Как говорится, ночной гость — от Аллаха!
Фаэтон въезжает во двор.
Ужинали с вином, и в тот вечер все трое гостей заночевали у Калантаровых.
Снег.
К полуночи ветер утих. Скованное холодом небо побелело и опустилось совсем низко. Через полчаса, выходя во двор по нужде, разгоряченный вином Идрис Халил увидел первые, густые и плотные хлопья летящего снега…
Как утром следующего дня утверждал денщик Мамеда Рзы Худаяр, сам родом из здешних мест, такого снегопада на Пираллахы не было, по крайней мере, лет восемнадцать–двадцать, со времен памятного землетрясения в Шемахе. Дома, стоящие в низине, ближе к пристани, завалило по самые окна, обрушились кровли сараев и больших складов у базара. Под тяжестью снега в нескольких местах оборвались телеграфные и электрические линии, промыслы, полицейское управление, больница и почтамт надолго остались без света. И хотя после обеда немного распогодилось, стало только хуже: ближе к вечеру ударил мороз, отчего все дороги на острове мгновенно обледенели — так что и вовсе не стало никакой возможности передвигаться по ним. По этой причине доктор, полковник и Идрис Халил были вынуждены задержаться у Калантаровых на целых три дня. Впрочем, судя по всему, гостеприимный майор Калантаров, много лет прослуживший на Северном Кавказе, и его супруга — полная белолицая осетинка — Лиза–ханум, были только рады этому обстоятельству. На второй день снежного плена, за обедом, на который подавали жареную на углях баранину и сладкий пилав, четверо дочерей Мамеда Рзы, нарядно одетые на европейский манер, были представлены гостям. Алия, Ругия, Лютфия, Ульвия: невысокие, смуглые, тоненькие, с крупными чувственными губами, унаследованными ими от отца, и материнским разрезом глаз, напоминающих совершенную форму миндаля.
— Мне для них ничего не жалко! Клянусь могилой отца! Они моя единственная отрада! — Говорит майор с гордостью. — Я два года подряд выписывал для них русскую учительницу из Баку!.. Хочу, чтобы были образованными! Чтобы разные языки знали!..
(У златоглазой Ругии над верхней губой черная родинка, как и положено восточным красавицам, хотя, пожалуй, она не самая привлекательная из четырех дочерей).
…Над крышей дома густо вьется дым. В углу двора, под навесом, чернеет распряженный фаэтон. Идрис–мореход стоит на каменных ступеньках крыльца и, задрав лицо к небу, ловит губами падающие снежинки. Доктор рассказывает ему о жизни в поселке, но он, очарованный хрупкой тишиной морозного утра, почти не слушает его. Снег падает и падает, медленно тает на губах, оставляя после себя пресный вкус талой воды.
Из–за каменной ограды видна свинцово–серая полоска моря. Море неподвижно и пустынно.
— …и вообще, это очень хорошо, что снег! Может, наконец, вода в колодцах очистится и заразы станет меньше.
— Какие колодцы? — рассеянно спрашивает Идрис Халил.
— Я же говорю, здесь вся вода отравлена! Особенно на той стороне острова. Вон там, выше промыслов… — Доктор неопределенно показывает куда–то на север. — Холодно, однако. Может быть, вернемся в дом? Сыграем партию в нарды?
Снег хрустит под ногами, словно гравий на дорожках чудесного сада.
От Калантаровых дедушка съехал лишь в четверг утром, 21 декабря, когда ледяная корка на дорогах размякла и превратилась в сплошную хлюпающую слякоть, перемешанную с конским навозом и песком.
…Для Идриса Халила была приготовлена квартира на втором этаже двухэтажного дома, стоящего в переулке сразу за базарной площадью. Комнаты хотя и были просторными, но довольно темными и, не считая самой необходимой обстановки, почти пустыми: стол, несколько венских стульев, кровать, умывальник, массивный платяной шкаф, пропахший сыростью и тленом, да уродливая железная печь–буржуйка с дымоходом в окно. К приезду Идриса Халила, к которому готовились за неделю, в квартире было жарко натоплено, на окнах повешены новые занавеси, стол застелен скатертью, а постель — свежим бельем.
У подъезда дома Идриса Халила и доктора Велибекова встречал сам хозяин. Вытянувшись по стойке смирно, насколько ему позволял кургузый жандармский мундир с широкой треугольной вставкой на спине, он широко улыбался. Несмотря на холод, его оплывшее лицо было покрыто капельками пота и черно, судя по всему, от чрезмерного полнокровия.
— Добро пожаловать, ага–начальник! Мамед Рафи всегда рад услужить вам!
Пожимая ему руку, Идрис Халил невольно про себя отметил, что в лице домохозяина (и, одновременно, старшего надзирателя Первой Особой Тюрьмы для Военнопленных) есть что–то невероятно жуткое.
— Проходите, проходите в дом! Чего на улице мерзнуть!
Они вошли в двустворчатую дверь с высоким порогом и оказались в темном патио, где находились службы и сарайчик. Отсюда каменные ступени без перил вели на открытую веранду второго этажа, густо увитую змеевидными ветвями облетевшего виноградника.
Поднимаясь наверх, Идрис Халил вдруг почувствовал, как сердце его болезненно сжалось, и чувство бескрайнего одиночества, одиночества морехода в самом начале неведомого пути захлестнуло его без остатка.
…Первая Особая Тюрьма для Военнопленных — вот конечная цель второго путешествия Идриса Халила! Указом заместителя Министра Обороны Самедбека Мехмандарова он назначен ее начальником. Так записано в сопроводительных бумагах, лежащих во внутреннем кармане его офицерской шинели.
Работа может быть и не самая почетная, но, учитывая обстоятельства, необходимая. Республика окружена врагами. Так странный симбиоз поэта и солдата породил тюремщика.
Короткое плаванье сквозь туман и безвременье, и из зимних сумерек рождается одинокий остров Пираллахы. Он будто спящий левиафан. Остров–рыба, остров–могила, остров–тюрьма…
6
На часах — вечность. Остров–левиафан дрейфует в ворохе мутной пены. Оттуда, где под черными пластами грозовых туч кружат божественные птицы Судьбы, поселок Пираллахы выглядит, как хаотическое нагромождение темных крыш в кольце по–зимнему голодных пустырей, еще прикрытых нестаявшим снегом.
История о рыбаке.
О ней рассказано в одном из снов Идриса Халила.
Ранним утром конца декабря, когда море, подернутое туманом на горизонте, было почти неподвижно, а в воздухе отчетливо пахло горьким печным дымом, несколько местных рыбаков вышли на лодках, чтобы собрать сети, расставленные с ночи недалеко от берега. Среди прочих некий Муртуз Али, вдовый, но еще крепкий старик, одиноко живущий в мазанке на самой окраине поселка. Улов у него в тот день был небольшой: среднего размера селедка, вобла, много мелкой рыбы, да обросшая ракушками бутыль темно–зеленого стекла.
— Клянусь Аллахом, я нашел что–то странное! — крикнул он рыбаку, стоящему в соседней лодке. — Запечатанная бутыль!
— Что в ней, Муртуз Али?
— Сейчас посмотрим! Может быть — моя удача!
Осторожно высвободив бутыль из сетей, он срезал ножом сургуч, покрывавший верхнюю часть горлышка, и не без труда вытянул плотно сидящую пробку. В то же мгновенье раздался странный звук, похожий на скрежет, затем что–то оглушительно хлопнуло, и взвившийся ввысь гигантский столп золотистого огня разорвал лодку несчастного Муртуза Али в мелкие щепы.
Очевидцы этого странного происшествия утверждали, что причиной взрыва, несомненно, явилась некая таинственная сила, заключенная в проклятой бутыли. Однако, судя по всему, лодка просто налетела на одну из плавучих морских мин, сброшенных в самом конце войны отступавшей британской армией. Так или иначе, но в поселке стали говорить, что Муртуза Али унес джин…
(Идрис–мореход улыбается во сне: его бесконечные странствия тоже часть этих волшебных историй)
Прогулка по острову.
Доктор — родной племянник Гаджи Сейфеддина, богатого бакинского домовладельца — изучал медицину в Казани и в Москве. Четыре недели назад состоялась его помолвка со старшей дочерью полицмейстера Алией–ханум. Он довольно упитан, круглолиц, во время осмотра больных надевает очки — скорее, для того, чтобы соответствовать привычному в глазах пациентов образу доктора, чем по причине действительно плохого зрения.
Сегодня на Велибекове диковинное широкое кепи, макинтош и альпинистские ботинки со шнуровкой на толстой подошве. Он оборачивается к Идрису Халилу:
— К сожалению, смотреть здесь особенно не на что! Я уже исходил этот остров вдоль и поперек…
В чуткой тишине над яйцеобразным куполом старой мечети слышно хлопанье крыльев невидимых голубей. Серая стая взмывает в небо, поворот, серое становится белым, летят над сросшимися стенами одноэтажных домов из пористого известняка, похожего на ссохшуюся губку. Сквозь пелену туч, пронизанных струйками печного дыма, прорывается широкая полоса золотистого света, вспыхивает на мгновенье в зарешеченных окнах и быстро гаснет. Холодно. На обочине дороги горками лежит нерастаявший снег. Пахнет навозом.
Их приветствует старик в тесаттуре, сидящий на скамейке у дверей мечети.
— Как твой внук? — спрашивает Велибеков.
— Все болеет, ага–доктор! Весь белый, как молоко! Не встает уже…
Над ящиком для пожертвований безжизненно висит черный флажок.
— Скажи сыну, пусть зайдет в больницу, я дам ему еще порошков.
— Благослови вас Аллах, ага–доктор!
Голуби возвращаются на купол. Через минуту над головой смыкаются серые зимние сумерки.
Они идут дальше.
— Что с его внуком? — Спрашивает Идрис–мореход, приглаживая ладонью топорщащиеся усики.
— Я, кажется, рассказывал. — Велибеков пожимает плечами. — Вода в колодцах плохая, солоноватая, а другой нет. Месяца два назад началась эпидемия. В поселке считают, что воду намеренно кто–то портит.
— Как это портит?
— Не знаю. Разное говорят… — Доктор поправляет кепи. — Вот это дом Мешади Керима. У него большая лавка на базарной площади. По здешним меркам — человек состоятельный, раньше часто ездил в Иран за тканями. Я осматривал его сына на прошлой неделе…
Над дверью дома прибита бронзовая подкова. Над подковой в камне вырезана восьмиконечная звезда и дата постройки — 1911 год.
Они сворачивают за угол и оказываются возле бани, рядом с которой стоит крошечная цирюльня, будто проросшая из земли, напротив — на грязном пустыре пасется несколько тощих овец под присмотром одноглазого подростка. Между тем небо опускается так низко, что глухие тупики почти тонут в темноте, и кончик папиросы Идриса Халила при каждой затяжке ярко вспыхивает оранжевым угольком.
Идут молча. Дорога то сужается, с трудом протискиваясь между нависающими домами с наглухо закрытыми ставнями, то расползается вширь на пустынных перекрестках, пронизанных трубным голосом ветра.
Минут через десять они выходят к мощеной камнем площади, в глубине которой находится дом полковника Юсифзаде. Просторный особняк без балконов, с портиком над парадным входом, у которого дежурит вооруженный винтовкой солдат. Все правое крыло дома покрыто копотью, как после пожара, по фасаду тянется глубокая трещина, а окна второго этажа наглухо заколочены досками. Сразу через площадь в лесах стоит недостроенное здание новой мечети. Под накрапывающим дождем несколько каменщиков в облаках белой пыли обтесывают глыбы известняка. При появлении Идриса Халила и доктора они прекращают работать и провожают их долгим взглядом.
По дороге медленно плетется арба, запряженная ишаком. Из ноздрей животного валит прозрачный пар.
Они пересекают площадь.
Их провели в гостиную и усадили за стол. Вскоре появился и хозяин дома.
Поверх форменной шинели на плечи полковника накинут клетчатый плед. Он накладывает себе в блюдечко варенья и сосредоточенно ест, запивая маленькими глотками чая. На столе, между вазочкой с домашним печеньем и самоваром, стопкой лежат свежие газеты, из–под которых высовывается кончик распечатанного конверта.
— Ты хорошо устроился? — спрашивает полковник, но вопрос его неожиданно провисает в воздухе. Идрис Халил молчит, и тикающие часы на стене отмеряют время его молчания. За окном еще один сад, уничтоженный огнем. Весь охваченный внутренним жаром, он вглядывается в бесконечные ряды обугленных стволов, в обвалившиеся террасы, занесенные песком пополам с сажей, в черные рытвины, обозначающие места цветочных клумб, и ему кажется, что это тот самый чудесный сад Хайдара–эфенди, преодолев пространство и время, сейчас насмешливо смотрит на него сквозь запотевшие оконные стекла.
Наваждение!
Сад был разбит девять лет назад по приказу тогдашнего коменданта острова. Садовник, местный житель Гаджибаба Мирзоев, имя которого удивительным образом сохранилось среди прочего сора истории, был несколько раз специально откомандирован за саженцами в школу садоводства в Мардакяны, а один раз даже в благоухающий розами персидский Шираз. На остров привезли много черной земли, и, в конце концов, стараниями и талантами Гаджибабы она проросла полусотней фруктовых деревьев, самшитом, лавром и яркими легустрами. Завели пару индийских павлинов да запустили двух осетров в круглый бассейн, живописно заросший по краям декоративным мхом.
Садовник умер зимой 1916 года от грудной жабы. Ровно через год, в революцию, солдаты, пьяные от виноградного вина (два николаевских пятачка за литр), учинили в пустующем особняке погром, разбили мебель, разграбили покои, а, уходя, подпалили сарай и конюшню. Огонь быстро охватил сад, который успел выгореть почти дотла, перекинулся на верхний этаж дома, но вскоре погас благодаря начавшемуся проливному дождю.
В то время, как священное пламя пожирало одну за другой симметричные аллеи сада, терпкий февральский ветер нес над островом крики умирающих павлинов. Сгорев ночью, они не возродились утром из пепла, подобно удивительным птицам Геродота. Но на запах жаркого к дому со всей округи сбежались стаи собак…
Как это уже случалось и раньше, из темноты вначале возникает голос:
— Пожалуйста, чуть–чуть вправо!.. Хорошо, очень хорошо!.. Сейчас все будет готово!
Иван Акопович Рустамян — «Личный фотограф его Величества Шаха Персидского», как значится на вывеске и на оборотной стороне всех фотографий, изготовленных в его мастерской, — несмотря на комплекцию и изрядный рост, ловко ныряет под черное покрывало, подняв над головой магниевую вспышку.
— Так–так, уважаемый! Один момент!
Свободной рукой он передвигает какие–то рычажки, подкручивает бронзовое колесико, и постепенно мутное пятно в квадратном окошечке, состоящее из хаотического смешения цветов, иллюминированных рассеянным светом двух ламп, превращается в перевернутое лицо Идриса Халила.
— Внимание!
Не вылезая из–под покрывала, Иван Акопович отводит назад громоздкую фотографическую машину.
Дедушка стоит, чуть развернувшись вправо, и немигающими глазами пристально смотрит в объектив (на самом деле, даже не подозревая о том, что сквозь купоросную зелень времени он в упор смотрит прямо на меня). Мундир, пристегнутая к поясу шашка, папаха, сапоги, старательно начищенные старшим надзирателем до густого зеркального блеска, светлая драпировка на заднем фоне. Парадный портрет Идриса Халила.
— Внимание! Сейчас появится птичка!
Хлопок, ослепительная вспышка магния, белое облачко дыма, крышка объектива закрывается, и образ дедушки переходит на фотографическую пластину. Сразу после этого начинает сгущаться привычная темнота. В ней исчезает Идрис Халил, и студия Рустамяна с богатым персидским ковром на полу, и трехногая немецкая машина — полированный ящик с черным хоботом, оканчивающимся выпуклым глазом, и сам почтенный фотомастер Иван Акопович, и его двухэтажный дом в переулке напротив больницы. Исчезают и два брата–близнеца Иса и Муса, арендующие здесь же первый этаж под мастерскую: один из них часовщик, другой — гравер. А вместе с ними исчезают и дедушкины серебряные часы, оставленные у них для ремонта (они лежат на подоконнике в деревянном ящичке)…
Но темнота длится лишь несколько мгновений, необходимых для смены декораций. И вот уже Идрис Халил сидит за столом в просторной комнате с решетками на окне, выходящем в тюремный двор, и, слюнявя палец, листает страницы толстой канцелярской книги. Перед ним стопка из нескольких папок, бронзовый чернильный набор, пепельница и, на случай отключения электричества, керосиновая лампа. На стуле возле железной печки, сложив на груди руки, дремлет старший надзиратель. И хотя глаза его закрыты, Идриса Халила не покидает чувство, что он лишь притворяется спящим. На необъятном поясе Мамеда Рафи висит связка ключей.
Идрис Халил снова и снова пытается сосредоточиться на выцветших столбцах цифр, сбивается, начинает сначала. Тщетно. Наконец, отложив в сторону книгу, он поворачивается к окну. Над бывшим казарменным плацем плывет темно–серое зимнее небо.
Почти шепотом:
— Мамед Рафи… Ты спишь?
Закрытые веки толстяка перестают подрагивать.
— Мамед Рафи!
Надзиратель проворно вскакивает со своего стула.
— Я здесь, начальник–бей!
— Поставь самовар.
— Слушаюсь, начальник–бей!
Громыхая сапогами, Мамед Рафи выходит из комнаты.
Остров–тюрьма.
Заведение, вверенное попечению Идриса Халила — особое. После закрытия лагеря для военнопленных на Наргине — это единственная секретная тюрьма республики, где содержатся «политические». Сейчас в наскоро перестроенном солдатском бараке, разделенном внутри занавесями на манер походных госпиталей, с окнами–бойницами на базарную площадь — их в общей сложности 27 человек, из которых большинство составляют активисты «Гуммет» и других левых партий, осужденные без суда и следствия. Официально они числятся либо пропавшими без вести, либо погибшими. Иначе говоря, их не существует, как не существует и самой тюрьмы, четырех надзирателей, Мамеда Рафи, десятка солдат, несущих посменную вахту, и молодого начальника — капитана национальной армии Идриса Халила, моего дедушки.
По краям базарной площади лежит талая грязь. У товарной лавки распряженная лошадь жует овес из мешка, натянутого на влажную морду. Тощий часовой в длиннополой шинели курит самокрутку и наблюдает за тем, как двое рабочих замешивают известь в железной бадье: вот уже вторая неделя, как по распоряжению Идриса Халила приводят в порядок соседние с главным бараком помещения, чтобы при необходимости можно было расселить заключенных по камерам.
Зыбкое небо над площадью отражается в черном зеркале огромной лужи прямо посередине безлюдных торговых рядов.
…Идрис Халил — студент, любовник, поэт и солдат. Идрис Халил — арестант и тюремщик. Продолжая свое бесцельное бегство, начатое им когда–то в Константинополе (а может быть, и раньше, например, в тот самый день, когда поезд впервые увез его с Сабунчинского вокзала в глубь дремлющей страны), он все время меняет личины и маски, прячется среди естественных фантомов, созданных временем на границе нескольких миров…
Иногда, окончательно запутавшись в перипетиях биографии моего деда, я впадаю в отчаяние, и тогда лишь старая фотография, снятая Иваном Акоповичем, оказывается единственной спасительной нитью, еще связывающей меня с прошлым и с Идрисом Халилом. Фотография и сны — вот мое спасение от беспамятства! Они хранят в себе свет и подвижный образ платоновской вечности, которое одно и есть время. И стоит мне только закрыть глаза — я вижу Идриса Халила, склонившегося в зимний день над канцелярской книгой, в которой выцветшие от времени фиолетовые чернила текут по страницам вначале в спотыкающемся ритме кириллицы, а затем вальсирующим арабским «алифбейсом». Заглянув через его плечо, я, хоть и с трудом, но могу разобрать: «…арестован по подозрению к причастности…». Идрис Халил захлопывает книгу и поворачивается к окну, к зимнему небу, разрезанному прутьями решетки. Сегодня 11 января 1919 года…
Появляется Мамед Рафи с кипящим самоваром. Ставит его на низкий столик у печи. Опять выходит из комнаты и возвращается уже с подносом, на котором стоят сахарница, блюдце с нарезанным лимоном и стакан в серебряном подстаканнике. Поверх кусков колотого сахара — в фольговой упаковке плитка немецкого шоколада — это из пожертвований «Товарищества Нобель и сыновья» военнопленным на Рождество. Помимо шоколада, Георг Карлович Бергер, управляющий обширными предприятиями «Товарищества» на острове, прислал еще три ящика мясных консервов, несколько мешков белой муки для тюремной пекарни, копченой рыбы и теплые одеяла. Знакомство Георга Карловича и Идриса Халила состоялось на праздничном ужине у Калантаровых по случаю Нового Года, где каждый из гостей получил в подарок образец рукоделья средней дочери Мамеда Рзы — Ругии–ханум. В дедушкином подарке изломанные линии орнаментального кубизма сплетаются в продолговатые бутоны чудесных цветов, составленные из красных, зеленых и синих квадратов, чередующихся с оранжевыми треугольниками.
— Начальник–бей! — Говорит Мамед Рафи, подставляя стакан под носик самовара. — Ночью к острову опять подходил баркас из Астрахани. Не иначе, как нефть грузили …
— С чего ты взял?
— В поселке говорят. В домах за артелью видели сигнальный костер на берегу…
— Ну и что? Может, это рыбаки…
Мамед Рафи отрицательно качает головой.
— А как красные могли проскочить патрульные суда?
— Кто их знает! Шайтан помогает им! — Желтые глаза старшего надзирателя превращаются в узкие щелочки. — Утром опять туман был, спаси нас Аллах!
7
Полдень. Стрелки серебряных часов, оставленных в мастерской братьев Исы и Мусы, стоят безжизненно и холодно. Над островом — шторм, и тощие кипарисы вдоль больничной ограды со скрипом гнутся до самой земли.
Просторный переулок сразу за больницей весь запружен людьми. В основном это жители соседних домов, но есть и промысловые рабочие с окраин поселка, и даже рыбаки в узнаваемых серых архалуках. У пыльной витрины, на которой бронзовой краской размашисто написано «Мастерская братьев Караевых», стоят в ряд несколько жандармов, подвода и полицейский фургон, запряженный ломовой лошадью.
Здесь, в переулке, напор ветра чуть слабее, но Идрису Халилу все равно приходится придерживать рукой офицерскую папаху. Подняв голову, он внимательно смотрит на прикрытые массивными ставнями окна над мастерской, но невольно взгляд его поднимается выше, к небу — темно–серому, почти черному, с заметным фиолетовым отливом, тяжело навалившемуся на крышу дома.
Знак беды!
— А ну! Дайте пройти! Чего стоите! — Зычным голосом для острастки кричит один из жандармов. — Шевелись!..
Пройдя сквозь расступающуюся толпу, Идрис Халил входит в подъезд и быстро поднимается по ступеням, покрытым ковровой дорожкой. На площадке второго этажа над полуприкрытой дверью горит электрическая лампочка в стеклянном абажуре.
Квартира–студия Ивана Акоповича. Чавуш проводит его из длинного коридора в гостиную.
— Вот видишь, дорогой мой друг, что творят! Собачьи дети! В центре поселка!.. Проходи! Проходи! — Говорит Мамед Рза Калантаров, встречая его на пороге.
Подходит доктор Велибеков. Пожав руку Идрису Халилу, он снимает очки и кладет их в нагрудный карман твидового пиджака.
— Ну, что там, Мурсал?
— Судя по первым признаком, смерть наступила часов шесть, а то и семь назад. То есть, на рассвете. Характер трупного окоченения ясно указывает…
— Ради Аллаха, доктор, избавь нас от этих подробностей! Просто скажи, можно его снимать или нет! Ты уже полчаса там с ним возишься! Чавуш!..
Иван Акопович со связанными за спиной руками висит на крюке люстры, прямо посередине темной гостиной, и высокие зеркала в богатых бронзовых рамах на стенах друг против друга бесконечно умножают его синее лицо с кляпом во рту. На вощеном паркете под ним — лужица.
— Так обычно случается, — начинает объяснять Велибеков, заметив взгляд Идриса Халила, — при асфиксии мышцы сфинктера и…
— Ну, я же просил тебя! — раздраженно окрикивает его Калантаров. Доктор обиженно поджимает губы и отходит в угол комнаты. Повозившись с щеколдой, он открывает ставни на окне: мерцающий свет, скользнув по зеркалам, теряется в глубине гостиной, среди кожаных диванов и пыльных ковров.
На столе — остатки ужина, недопитое вино, салфетка со следами жира, вчерашние газеты. В пепельнице несколько окурков и пробка от бутылки. Громыхая сапогами, в гостиную входят трое солдат, обмирают, перепуганные роящимися отражениями.
— Ну, что вы там стоите, дурни!? Давайте, снимайте его оттуда!
— Не приведи Аллах! — шепчет один из них, забираясь на стул, чтобы перерезать ножом веревку. Двое других держат висельника за ноги. Поминальным звоном дребезжат хрустальные подвески огромной люстры.
Ивана Акоповича вначале укладывают на пол, а затем, ухватив с двух сторон, выносят из комнаты. Хлопает дверь. Где–то в глубине квартиры настойчиво бьют часы. Два часа пополудни. За окном завывает ветер.
— А кто обнаружил тело? — Спрашивает Идрис Халил. На мгновение ему кажется, будто упругий и плотный паркет под ногами и весь дом, и даже сам остров качаются из стороны в сторону, как залитая мазутом палуба баржи.
— Тело?.. Домработница. Она приходит по утрам. Ее уже допрашивали. — Мамед Рза вскакивает с кожаного дивана и, брезгливо обойдя лужицу на полу, подходит к двери. — Да что толку! Все и без нее ясно! Куда уж яснее! Это часовщик Иса и его брат Муса, гравировщик! Пропали с ночи! Нигде их нет! Провалились в ад! Собачьи дети! Никогда они мне не нравились!.. Чавуш! Чавуш!
— Ага–начальник…
— Пусть ищут по всему острову! На пристани! У рыбаков!..
Тело не без труда спускают по лестнице, выносят из подъезда. Толпа расступается. Переложив Ивана Акоповича на подводу поверх дерюги, солдаты отходят в сторону. Коренастый жандарм достает из–за пазухи белую простыню, сложенную в несколько раз, разворачивает ее и пытается накрыть ею Ивана Акоповича, но в одно мгновенье ветер вырывает из рук тонкую материю и, подхватив, уносит прочь.
Надувшись парусом, простыня стремительно проносится над тюремным плацем, площадью, над дымными крышами и летит дальше, к свистящим соснам, сразу за которыми в просторном доме у зарешеченного окна сидит Ругия–ханум.
Она раскладывает на коленях куски разноцветной бязи, и в ее проворных пальцах неряшливые обрезки постепенно складываются в контуры причудливого геометрического сада, прошитого оранжевыми нитями.
— Оставь это, наконец! — Говорит старшая, Алия, рассматривая себя в зеркале. — Испортишь глаза! Мурсал–бей сказал, что долго напрягать зрение — вредно!
Ругия–ханум не отвечает, но внезапно на лицо ее ложится быстрая тень, и она, подняв голову, видит за окном белый парус, летящий по гребням темно–серых облаков.
Продолжается январский день. Пока доктор, Идрис Халил и майор Калантаров обедают в отдельном кабинете трактира «Бахар», залитого искрящимся электрическим светом (сегодня пилав с белой чечевицей и соленой каспийской рыбой), четверо солдат испуганно замирают, издали заслышав: «Иса — Муса, Иса — Муса». Так перекликаются птицы под накрапывающим дождем в холодной рощице на холме. Ветер стих. «Иса — Муса» — печально доносится из голых кустов чахлой ежевики. Глубокие следы сапог в мокрой глине заполняет вода с радужной пленкой мазута и отражающимся в ней кусками хрупкого неба.
Один из солдат снимает с плеча винтовку.
«Иса — Муса, Иса — Муса», — слышно сквозь монотонный стук капель. Это просто птицы. Притаившись среди скользких ветвей, они зовут по именам пророков, которые никогда не ходили по этим островам. Или это сами пророки, обратившись в птиц, окликают друг друга в бесприютном одиночестве чужого края: вечно ищут друг друга и не могут найти…
Солдат швыряет дымящийся окурок в черные кусты.
— Эй! — кричит он, приложив ладони к губам, и птицы замолкают. Со стороны моря к холму подползают клочья липкого тумана. — Эй, кто здесь? Выходи!..
Шелест дождя напоминает шепот.
— Агали, это просто птицы!
— Тех, что мы ищем, тоже, вроде как, зовут Иса и Муса…
— Пойдем, нечего тут стоять!
Куст в стороне от тропинки вдруг вспыхивает желто–синим огнем, и солдаты, оцепенев, смотрят на огненный шар, испускающий лепестки белого дыма, внутри которого обугливаются и трещат мокрые ветви ежевики. С шипением летят искры…
Так выглядит неопалимая купина.
Вся земля на острове пропитана нефтью.
Они бросаются бежать вниз по холму.
А в чахлой рощице продолжают перекликаться птицы–пророки: «Иса — Муса, Иса — Муса»…
8
Заканчивается январь 1919 года. Заканчивается утренними заморозками и чернильными дождями в обед, не мешающими, однако, призракам и контрабандистам с завидной регулярностью навещать остров.
Пираллахы в холодном свете Сатурна.
С разрешения Калантарова Идрис Халил разбирает обширный архив покойного фотографа. Все снимки и негативы в двух просторных ящиках тщательно пронумерованы и обернуты в тонкую папиросную бумагу с указанием даты, места и имени заказчика.
Трое детей в матросских костюмчиках. Лица напуганные, застывшие: Баку, 1911 год. Персидский консул в Тифлисе с именем, похожим на перезвон колокольчика — Низаммюльмюльк — бледный господин, с орденской лентой на груди. В тонких и длинных пальцах он сжимает ручку трости в форме львиной головы. А вот, не к ночи будут помянуты, Иса и Муса! Стоят на фоне портьеры. Иса справа, Муса слева. Или наоборот. Маленького роста, тщедушные, с крючковатыми птичьими носами, они внимательно смотрят на Идриса Халила сквозь фотографическую муть.
Во время тщательного обыска на первом этаже рустамяновского дома (Бондарная улица, 6), который братья–беглецы снимали под жилье и мастерскую, были найдены образцы листовок предосудительного содержания и тщательно замаскированный типографский станок, из чего со всей очевидностью следовало, что Иван Акопович, являвшийся тайным полицейским осведомителем, был убит ими по причине политической, чем какой–либо иной.
Гаснет электричество. Через минуту, шаркая башмаками, появляется Мамед Рафи с керосиновой лампой. За его спиной в дверном проеме — зияющая темнота тюремного коридора.
— Что там опять?
— Ветер и дождь, начальник–бей! Теперь это надолго.
— А который час?
Мамед Рафи ставит лампу на письменный стол, заваленный бумагами.
— Начало девятого уже.
Идрис Халил откладывает фотографию братьев в сторону и достает из ящика другую. На ней — пожилая женщина–мусульманка в келагаи сидит, положив руки на колени.
1 февраля.
— …все они — суть те лжепророки, о которых было предсказано еще в Книге. Аль Бухари особо указывает на это. И Муслим тоже. Названо точное число им — 27… — говорит, перебирая четки, главный ахунд мечети Гаджи Сефтар. Его глаза, многократно увеличенные толстыми линзами очков в круглой роговой оправе, напоминают огромных мотыльков.
— «И будет в моей умме 27 лжепророков…» — громко цитирует он вначале по–арабски, а затем в переводе на родной тюркский. Мужчины, сидящие на полу в просторной комнате с традиционным дымоходом в потолке, заткнутым толстым одеялом, с трудом улавливая суть сказанного, почтительно качают головами и громко произносят «салават».
— Вот вам один из признаков, явственно указывающих на приближение Часа! Подумайте об этом!..
Жарко. В топке огромной «буржуйки» гудит огонь. На подносах, приставленных друг к другу, чай, колотый сахар, сыр, шербет и поминальная халва. Отчетливо пахнет дымом.
— Любимая тема ахунда… — шепчет на ухо Идрису Халилу доктор Велибеков.
— …другим неоспоримым признаком, как известно, является трещина, расколовшая луну еще при жизни Пророка, слава ему и благословение! «Приблизился Час и раскололся месяц…».
Мотыльки за толстыми стеклами очков нервно взмахивают крыльями, словно пытаясь упорхнуть к рассеянному свету керосиновых ламп, висящих под потолком. Выдержав небольшую паузу, ахунд раскрывает руки ладонями вверх и начинает читать заупокойную по сыну купца Мешади Керима. Присутствующие немедленно следуют его примеру, и комната тотчас наполняется монотонным гулом. Идрис Халил молится вместе с остальными.
…К середине недели на острове заболело еще несколько детей. Среди них — сын Мамеда Рафи и младшая дочь майора — двенадцатилетняя Ульвия–ханум.
Гостеприимный дом Мамеда Рзы, укрытый от ветров стеною сосен, погрузился в непривычную тишину. На мебель натянули печальные чехлы, закрыли ставни, а в коридор выставили чемоданы, — уповая на помощь столичных врачей, Мамед Рза вместе с семьей собрался в Баку. Но поездка по разным причинам все откладывалась. Дела не отпускали его, он злился, Лиза–ханум нюхала соли и часто плакала. Временами девочке становилось лучше, и тогда казалось, что болезнь отступает. Однако проходило всего несколько дней, и Ульвия–ханум вновь оказывалась в постели с жаром и стеснением в груди.
Наконец, 3 марта патрульный катер «Каспиец» увез Калантаровых в Баку. А вечером того же дня молчунья Ругия–ханум, у которой были все шансы вскоре стать моей бабушкой, приснилась Идрису Халилу входящей в свадебном платье в его отцовский дом с окнами на восток.
…Полковник Мир Махмуд Юсифзаде, кукольный комендант острова, сморкается в огромный платок, забавно морщится, чихает, и кончик распухшего носа, явно великоватого для его детского личика, мгновенно краснеет.
— Будьте здоровы!..
— Спасибо, спасибо…
— Душа моя, ты непременно простудишься! Зайдите, наконец, в дом! — супруга полковника машет им из окна веранды.
Стараясь подавить раздражение, Идрис Халил бросает окурок на землю, покрытую жирной копотью.
— Не стоит торопиться с выводами, ты человек тут новый… Поверь мне, никакого красного подполья здесь нет и быть не может! Уж я‑то знаю! — Полковник чихает еще раз. — Холодно сегодня. Может, опять снег будет! Здесь в марте такое случается…
— Джаным!..
— Уже идем!
Полковник Мир Махмуд Юсифзаде, надвинув на лоб папаху, мелкими шажками идет к дверям веранды.
…В конце тюремного коридора стоит Мамед Рафи и наблюдает за тем, как идет раздача еды. Один из арестантов, загорелый до черноты пожилой тартальщик с промыслов, тащит тележку с огромным котлом. Солдат открывает раздаточное окошко первой камеры…
«…В связи с нехваткой средств, рацион заключенных опять пришлось урезать, из расчета…» — записывает Идрис Халил в засаленную канцелярскую книгу.
…В раздаточное окошко просовывается алюминиевая миска. Бывший тартальщик мешает половником в котле и выливает в миску порцию жидкого супа. Сверху два куска черного хлеба.
— Следующий!
Мамед Рафи проводит пухлой рукой по небритому лицу, зевает. Его клонит в сон. Вот уже почти целый месяц он каждую ночь дежурит у постели заболевшего сына.
…Мальчик умирает при свете волшебной лампы в маленькой каморке без окна, наблюдая сквозь ватную пелену лихорадки, как витиеватые тени, похожие на летящие слова из Книги, сплетаются и расплетаются на беленых известью стенах. Тени, тени, монотонный ритм молитвы, образы, рожденные волшебной лампой, и старший надзиратель Мамед Рафи в домашней рубахе, вытирающий испарину с его лица.
Доктор Велибеков берет мальчика за руку и, прижав два пальца к пульсирующей жилке на запястье, следит за стрелкой хронометра, стремительно бегущей по циферблату. Абстрактное время сердцебиения.
— Следует надеяться на лучшее…
«Смертность среди заболевших составляет почти сто процентов. И если в ближайшее время не будут приняты самые серьезные меры, болезнь может принять характер эпидемии и переброситься на другие провинции. Пираллахы незамедлительно нуждается в медикаментах, дополнительном количестве врачей и финансовой помощи. Местная больница…» — Из письма доктора Велибекова в Департамент здравоохранения Республики от 9 марта 1919 года.
«В убытке — те, которые убили своих детей по глупости…»
Через две недели — Новруз. Но приближение праздника почти не ощущается. Остров, дрейфующий в свинцовых водах, окутан плотной дымкой, прорезанной желтыми огоньками редких электрических лампочек. И с той высоты, с которой я смотрю на него — с высоты рыхлых дождевых облаков, с высоты, где парят парные люди–птицы — ясно видна полоска густого тумана, ползущего на манер гигантской змеи с севера на юг, через нефтяные вышки и цистерны «Товарищества» в сторону поселка.
Ночной арест (сон короткий, зыбкий, причудливо составленный из нескольких, быстро сменяющих друг друга эпизодов).
Эпизод первый: глазами Идриса–морехода я вижу старшего надзирателя, который тычет толстым пальцем в зарешеченное окно:
— Вон, тот! В длинном пальто!.. Идет, прихрамывая!..
— Ты сказал, его зовут Али?..
— Именно так, ага–начальник! Али Джебраилов. Старший сын Мирза Алекпера. Человек здесь известный, работал в конторе! При комиссарах был в совете рабочих…
Идрис Халил задумчиво разглядывает высокого мужчину в черном пальто, ковыляющего в цепи арестантов.
Влажный после дождя плац отливает красноватой медью.
— А не врет? Как он мог отсюда, из тюрьмы, узнать про человека из Баку?
Мамед Рафи разводит руками:
— Я же говорил, у них повсюду свои люди!..
— Ладно, ладно! Поставь–ка самовар!
Наступает пауза. Образ старшего надзирателя, и зарешеченное окно, и арестанты, идущие друг за другом сквозь солнечную дымку, бледнеют, выгорают, постепенно превращаясь в едва различимые тени. С шелестом отлетает календарный лист — дата: 14 марта. Из темноты проступают лица солдат, прикладами вышибающих дверь в длинном коридоре рабочего барака, потолок которого покрыт мутными пятнами плесени. Щеколда отлетает в сторону, дверь распахивается — солдаты врываются в комнату. Забившись в угол, отчаянно кричит женщина. Бритый наголо мужчина с наганом в руке вскакивает на подоконник, и молодой месяц за окном на мгновение оказывается висящим прямо у него над головой, наподобие сияющих рогов. В следующую секунду раздаются беспорядочные выстрелы. Мужчина падает. Между выдохом и вдохом.
Время — далеко заполночь. Пираллахы, погруженный в тревожную тишину, продолжает свои бесцельные скитания в свинцово–серых водах Каспия.
Склонившись над столом, Идрис Халил надрезает край письма канцелярским ножом, и в искрящемся свете электрической лампочки, окруженной радужной оболочкой разлитой в воздухе сырости, его тонкие пальцы с коротко стрижеными ногтями кажутся восковыми. Громыхая ключами, по коридору проходит кто–то из дежурных надзирателей.
На плечах у Идриса Халила, поверх шинели, сидит призрак смуглого морехода.
Письмо (плотный конверт, тщательно запечатанный, без указания имени отправителя и адресата), перехваченное благодаря наводке Али Джабраилова — ключ к подземному царству. Тонкие нити к братьям–невидимкам Исе и Мусе, могильным ангелам Инкиру и Минкиру, и к тому, кто, оставаясь все время не узнанным, сидит в самом центре зловещей паутины.
В середине марта наступает несколько погожих ясных дней без ветра, но с быстрыми грозами в обед. Море, неподвижное и тихое, лежит вокруг острова, сколько хватает глаз, будто темное зеркало. По утрам в маленьких двориках терпко пахнет землей, а сквозь запотевшие оконные стекла голые сучья деревьев, окутанные золотистой дымкой, кажутся почти прозрачными.
Все это время ночи и сны Идриса Халила перепутаны так, что за хаотическим нагромождением почти несвязных образов не разглядеть путеводных знаков. Ночи и сны его все больше напоминают пестрые сады, составляемые Ругией–ханум из обрезков цветных тканей.
Каждую ночь над печной трубой соседнего дома всходит колючая мартовская луна, свет которой вызывает вполне определенное томление и жажду.
Огненный четверг.
Накануне удалось бежать опасному преступнику Али Джабраилову. Воспользовавшись приставной лестницей, оставленной по недосмотру или умышленно кем–то из рабочих, он перемахнул через тюремную ограду и скрылся.
Свобода — плата за предательство. Однако в условленном месте (в дюнах, за руинами сгоревшего нефтяного амбара), где его ожидал старший надзиратель, Али Джабраилов так и не появился. По договоренности, Мамед Рафи должен был снабдить его документами, некоторой суммой денег и помочь бежать с острова.
…На Пираллахы опускаются сумерки. Время, когда море и остров сливаются с молочно–серым небом, и очертания прибрежных скал и поселка с его домами, громоздящимися друг на друга, теряют свою четкость. В комнату, в которой сидит Идрис Халил, медленно вползают длинные тени, и на листе писчей бумаги беспомощно провисает строчка письма: «Дорогой мой брат, Мамед Исрафил, хочу также сообщить тебе, что, наконец, как ты и советовал, я надумал жениться, и что имею на примете девушку из хорошей семьи, которая…».
Плотные сумерки пожирают минарет старой мечети, цистерны с мазутом, уродливые кипарисы вдоль дороги, ведущей к промыслам, и вскоре уже весь остров лишь темное пятно, застрявшее ровно посередине между небом и землей.
— Какой сегодня день?
— Вторник. Огненный четверг.
— Тогда почему они не начинают?..
Стоя у правого борта патрульного катера «Африка», два морских офицера смотрят в сторону острова. Холодный воздух пахнет мазутом и папиросным дымом. Один из офицеров, тот, что постарше, прикладывает к глазам бинокль, и в это самое время цепочка ярких огней, вспыхнув в самом сердце сгущающейся темноты, отражается в выпуклых стеклах бинокля.
— Кажется, началось!
— Праздник все–таки!..
Один за другим загораются деревянные шалаши, сложенные прямо на улицах. Языки рыжего пламени, взрываясь снопами искр, с треском устремляются ввысь.
Последний четверг перед весенним равноденствием. Костры на Пираллахы, как и повсюду в этой стране, похожей на атласах на парящую птицу с клювом, нацеленным на Восток, — возвещают приближение нового года по Заратуштре. Так было раньше, так будет и потом, когда, пришвартованный к берегу десятикилометровой дамбой, Пираллахы давно уже перестанет быть островом. Прошлое парадоксальным образом живет в будущем.
…Костры горели до самого рассвета. В Огненный Четверг 1919 года люди надеялись, что неведомая болезнь, убивающая детей, сгорит без остатка в священном пламени и с дымом унесется в мартовское небо. До самого рассвета терпящий бедствие остров в надежде на ответ с того берега, где в бухте–полумесяце вальяжно раскинулся огромный город, посылал отчаянные знаки о помощи. Но оттуда, из Баку, затопленного светом огромных витрин, не разглядеть было этих мерцающих на горизонте светлячков.
Столица: сегодня в ресторане «Эльбрус», что на Базарной улице, играет румынский оркестр и подают немецкий рейнвейн. А чуть дальше, в самом начале Ольгинской улицы, красавица–полячка, мадемуазель Соня, выкладывает на стеклянный прилавок магазина готовой одежды «Обон Марше» шелковые кашне самых разных цветов:
— Новейшие фасоны! Только что из Европы! Только посмотрите, какая мануфактура! Например, вот это…
Она легко накидывает на бычью шею мужчины в пальто с барашковым воротником мягкое синее кашне. Знакомое лицо. Человек с афиши? Сани Сулейман?
— Вам очень, очень идет!
Улыбнувшись, покупатель смущенно отводит взгляд от высокого бюста красавицы–мадемуазель.
С шелестом отлетают невидимые календарные листы и, подхваченные вечерним бризом, кружатся в воздухе, превращаясь то в разрозненные страницы дедушкиной поэмы, то в желтые листья константинопольских платанов.
Равноденствие.
Поздний вечер 20 марта.
Крупным планом — лицо мальчика, вырванное из темноты восковым светом керосиновой лампы. Он открывает тяжелые веки и глазами, подернутыми мутной пеленой цвета темного шафрана, отрешенно смотрит на тарелку с пилавом.
— Сегодня же праздник, сынок! Давай, покушай!..
В углу комнаты возится мышь.
Взяв с подоконника поднос, на котором горкой лежит пестрая мешанина из сладостей, сухофруктов и грецких орехов, Мамед Рафи садится на край постели.
— Сейчас и свечи зажжем! Видишь, всего пять — по одной на каждого! Твоя вот эта, красная…. Ну–ка!
Он чиркает спичкой, подносит ее к снежно–белому фитильку, который тотчас скрючивается, темнеет, чтобы через мгновенье вытянуться в стройный лепесток огня.
— Посмотри, сынок, сколько тут всего! Курага, фисташки, финики, а вот и твои любимые! — Мамед Рафи показывает на крашенные яйца с оттисками пятигранных листьев сельдерея. — Хочешь?
Мальчик облизывает сухие губы, протягивает руку, но тут глаза его, утомленные коптящим светом, смыкаются сами собой, и, откинувшись на влажную от пота подушку, он вновь погружается в забытье.
С тонкой верхушки свечи скатывается прозрачная капля стеарина.
— Сынок?.. Ты спишь?
Мамед Рафи опускает голову.
Наблюдая за тем, как медленно оплывают разноцветные свечи, купленные неделю назад в лавке перса Махмуда Насири, как на бледном лице мальчика, окруженном полупрозрачными тенями, выступают горячие капли испарины, как тяжело вздымается его грудь, он безотчетно думает о том, что когда на острове наступит полночь, и день неким таинственным образом сравняется с ночью, а свечи, расплывшись в сталактитовые озерца, догорят до конца — наступит неизбежная развязка. И чем сильнее он старается отогнать от себя эти страшные мысли, призывая на помощь сияющего бога, скрытого где–то в низком небе Книги, тем отчетливее представляется ему смерть мальчика на изломе удивительной полночи.
Свистящее дыхание ребенка отмеряет время — абстрактное время жизни и смерти. Вдох и выдох, минуты и часы. Мамед Рафи сидит, борется со сном.
Угли в печи постепенно выгорают в золу.
Тем временем обросший ракушками остров–левиафан незаметно пересекает тонкую линию, посверкивающую в лунном свете на ребристых водах Каспия, и со всеми своими жителями, домами, улицами вплывает в таинственную полночь равноденствия. В покинутом доме Калантаровых вдруг оживают большие напольные часы: резко оборачиваются зубчатые колеса, и бой гулким эхом прокатывается по комнатам с зачехленной мебелью. Перепуганный сторож, натянув на плечи теплую чуху, с берданкой и керосиновой лампой спешит проверить, что происходит в доме.
Все в руках Аллаха, повелителя миров, и в полночь, когда цветные свечки по краям подноса, наконец, догорели, догорели и погасли (так же, как и костры на улицах Пираллахы), мальчик был все еще жив. Ровно в половине первого Мамед Рафи сменил ему рубаху, взбил подушку и, устроившись на табурете, решил подремать до рассвета.
Проснулся он поздно, когда время первой утренней молитвы давно уже прошло, и, едва взглянув на безмятежное лицо сына, сразу понял, что мальчик умер. Мамед Рафи тяжело поднялся, — нарушив грустную тишину, резко скрипнул табурет, — постоял несколько минут, затем погладил сына по волосам, загасил лампу и быстро вышел из темной каморки в коридор.
В то же утро в Баку, в больнице Мусы Нагиева, скончалась и Ульвия–ханум. Душа ее отлетела легко, почти без боли (через ноздри), а тело осталось за белой ширмой в большой палате со сводчатым потолком. Русская медсестра погладила ее по волосам, закрыла ей глаза и перекрестила. За высокими окнами солнце золотило верхушки сосен.
…Пока люди–птицы, невидимые никому, кроме моего деда, несут легкие души к девятому небу, о телах заботятся те, кто должен этим заниматься.
Идрис Халил раздумывает, стоит ли ему побриться. Проводит ладонью по щекам. Щетина неприятно покалывает кожу. Глядя в зеркале на свое похудевшее лицо, он открывает рот, оттягивает пальцем вначале нижнюю, а затем верхнюю губу: желтый налет на зубах с черной каймой у самых десен. Это от папирос.
С нижнего этажа доносятся женские причитания и плач.
«Крым» — последнее пассажирское судно, идущее на остров. С ним возвращается майор Калантаров с семьей.
Правительство ввело карантин. Отныне всем жителям строжайше запрещено покидать остров без специального на то разрешения. Дабы усилить патрулирование акватории Пираллахы и пресечь любые попытки нарушения карантина, морской министр господин Ч. Ильдрым направил, в дополнение к уже имеющейся «Африке», два быстрых военных капера (подарок британцев).
…Сегодня дует южный ветер, и море до самого горизонта покрыто летящими белыми барашками. Солнце. Не слишком теплое, но яркое, сверкает на металлических поручнях. Редкие пассажиры, стоящие на палубе, заставленной ящиками и мешками, молча наблюдают за тем, как оборванные грузчики–амбалы разгружают на пристани большую подводу.
«Крым» везет медикаменты, почту, запас бакалеи, изрядное количество муки и даже складные походные кровати для местной больницы.
В путь! Уже запустили машины. Протяжный пароходный гудок возвестил об отплытии…
9
На горизонте — и днем и ночью — три полоски дыма. Это морские охотники — «Африка», «Ильдрым» и «Ингилаб» — несут свой дозор.
Письма.
«Брат мой, Мамед Исрафил, как ты и советовал, сочинение стихов я забросил окончательно, и теперь лишь горько сожалею о потерянном времени и тщетных надеждах…»
«…и как забыть мне тихие вечера в том саду? твое гаданье? Душа моя, ты обещала долгую дорогу и долгую жизнь — не знаю, проклятье ли это или щедрый дар — но твое гаданье спасло меня в том страшном бою…»
«Не сохранилось ни одной ее фотографии! Все осталось там, в Лалели. Как и она сама! А потому эти разрозненные стихи так бесценны! Только в них следы той женщины, которую я любил! Время — наихудший из докторов! При всем том, что разделяет нас, что встало между нами непреодолимой стеной, ты, странным образом, наверное, единственный человек, кто бы смог до конца понять то, о чем я говорю!..» (неотправленное письмо к Мухаммеду Хади)
«…а потому, не имея ни сил, ни решимости сделать это самому, уважаемый брат мой, Мамед Исрафил, высылаю тебе часть моих рукописей. Поступи с ними по своему усмотрению».
«Две ночи назад мне вновь снился Трапезунд, и тот рыбацкий домик, где мы прожили почти неделю. Ты сидела в черном платье и в черной шляпе с вуалью, а вокруг были зеленые холмы. И море было неподвижно, и только около самого берега лежала белая кайма. Что–то ушло от меня безвозвратно. Но что–то навсегда осталось со мной!»
«…она больше не кажется мне странной. В ее молчанье и в этой одержимости рукодельем есть нечто покойное, нечто, что притягивает меня».
«Ей 16 лет от роду, хорошо воспитана, дочь уважаемых родителей. Отец…»
Сквозь летящие строки, разбегающиеся по желтым листам писчей бумаги, проступают узнаваемые образы дома с окнами на Восток, жемчужных проливов, пыльных и безлюдных улиц богом забытых городов, где каждый шаг сопровождается гулким эхом. Здесь он встречает живых и мертвых. Иногда это мадам Стамбулиа, лицо которой все больше становится похожим на лицо Ругии–ханум, подозрительный Мамед Рафи, или братья–невидимки Иса и Муса, ведомые безымянным ключником из константинопольского каземата в самую глубину преисподней. А иногда это Хайдар–эфенди в огненном венке на манер двухмерных святых с православных икон.
Солнечные дни начала апреля безнадежно испорченны яростными ветрами. Они дуют с севера на юг, с востока на запад и наоборот, и остров с высоты птичьего полета выглядит как кусок старой губки, плавающий в ворохе пены. По дорогам клубятся столбы горькой пыли, клочья перистых облаков в мутном небе стремительно меняют свой цвет от бледно–розового до темно–серого.
После возвращения из Баку Калантаровых Идрис Халил несколько раз бывал у них, но Ругии–ханум не видел. В знак траура по умершей девочке и сыну Мамеда Рафи, он некоторое время не брился, и грубая щетина стала причиной образования досадной сыпи по всему подбородку. По этому случаю доктор Велибеков рекомендовал ему стрептоцид — универсальное лекарство эпохи.
В хаотическом сплетении света и тени прочь, на север, летит стая уток, ничего не ведая о строгих правилах карантина…
Происшествие.
В ночь на 17 апреля Идрису Халилу приснился почтенный Гаджи Сефтар. Ахунд, закутанный с головой в саван, стоял на минбаре поселковой мечети и, по одному загибая пальцы, перечислял признаки грядущего катаклизма, когда вдруг толстые стекла его очков покрылись густой паутиной трещин и в мгновенье распались на кусочки. Тотчас два огромных мотылька вспорхнули под купол, а ахунд так и остался стоять на кафедре безглазым призраком.
— Бисмиллах! — пробормотал Идрис Халил, присев на кровати. За окнами стояла непривычная тишина. Не было ни яростного завывания ветра, ни протяжного скрипа гнущихся до земли кипарисов. Над крышей соседнего дома рогами книзу висел молодой месяц, с отчетливо видимой трещиной прямо посередине.
— Бисмиллах! — повторил Идрис Халил, не отрывая глаз от перевернутого месяца, завесившего собою полокна.
Дурные вести не заставили себя ждать.
Утром, когда солнце только выплыло из неподвижного моря, до самого горизонта лежащего в черных пятнах мазута, торговцы свежей зеленью и овощами, вышедшие на большую базарную площадь, обнаружили у запертых дверей чайханы Мешади Худадата труп обезглавленного мужчины. Одетый в кожаный пиджак и грязные парусиновые брюки, из которых торчали голые ступни, он сидел прислонившись (или, скорее, кем–то прислоненный) к дверному косяку. Там, где должна была быть голова, над обрубком шеи с коркой запекшейся на ней крови — пустота.
К девяти часам на площади уже собралась изрядная толпа, состоящая преимущественно из мужчин и подростков. Появились полицейские. Чуть позже в коляске прибыл Мамед Рза Калантаров, а следом за ним и доктор.
В карманах мертвеца не оказалось ни документов, ни денег, а лишь сложенная пополам листовка вроде тех, чтобы были найдены в доме Ивана Акоповича, да серебряные часы с оторванной крышкой. Осмотрев тело, доктор сообщил, что голова, несомненно, была отделена от шеи большим ножом или топором, и что смерть наступила приблизительно часов шесть или семь назад.
Над площадью — ослепительное солнце, и все вокруг, включая несчастного мертвеца, окутано густой дымкой: убогие лавки, и повозки с мешками, и женщины в черных келагаи, стоящие чуть в отдалении.
Мамед Рза Калантаров свистящим шепотом спрашивает у стоящего навытяжку чавуша:
— Кто–нибудь уже опознал его?
— Ага–начальник, всех спросили! Говорят, не местный, раньше не видели. И в поселке, слава Аллаху, все живы и здоровы…
— Если не местный, откуда он здесь взялся, тупица!
— Не могу знать, ага–начальник!
— Пошли кого–нибудь за ахундом!
— Слушаюсь!
Отдав честь, чавуш торопливо уходит.
— Придется перевезти его пока в больницу. Гаджи Сефтар все равно не позволит хоронить на кладбище безголового. — говорит доктор, обернувшись к Идрису Халилу, который единственный на этой пыльной площади, запруженной людьми и повозками, узнает мертвеца (это, несомненно, Али Джебраил!).
Как и предполагал Велибеков, ахунд, вскоре появившийся на площади в окружении каких–то стариков, многократно возвещающих «субханаллах», наотрез отказался даже обсуждать какую–либо возможность похоронить обезглавленного покойника на местном кладбище, читать над ним молитву или обмыть его в мечети. А посему было решено временно перевезти неизвестного в поселковую больницу.
Его накрыли полотном и попытались уложить на подводу, но окоченевший мертвец ни в какую не желал разгибаться. В конце концов, его пришлось везти сидя, в сопровождении солдат, поддерживавших его с двух сторон.
…Душа, как известно, входит и выходит через рот. Иногда это просто облачко пара, а иногда — едва заметная капля влаги на губах…
История с обезглавленным имела продолжение. После некоторого пребывания в глубоком подвале больницы, служившем одновременно и моргом и складом, его захоронили без соблюдения каких–либо ритуалов на пустыре рядом с дамбой. В изголовье врыли просто обтесанный камень.
…Облака, люди, дни, корабли, солдаты, звезды, впаянные в Соломенный путь, дрейфующий Пираллахы — все это скрыто за опадающими страницами календаря! Так же, как и само время и тайные записи Судьбы! Через многие годы беспамятство даровало Али Джебраилу то, в чем отказал ему безумный ахунд. В середине 60‑ых годов по странному обычаю этого одинокого острова, измученного вечным ожиданием пророков и праведников, у одинокой могилы стали появляться старухи, собирающие подаяние, а еще через некоторое время она превратилась в чудодейственный Пир, помогающий страждущим избавиться от всевозможных болезней. Ветви оливкового дерева, живописно нависающего над покосившимся камнем, словно гирляндами, покрылись узелками из полосок цветного тряпья: так многочисленные паломники отмечают свое посещение удивительной могилы…
Маленькая деталь: часы с оторванной крышкой, найденные в кармане обезглавленного Али Джебраила — это те самые дедушкины часы, что пропали вместе с братьями–беглецами.
Все зеркала в доме Калантаровых завешаны простынями: одно, большое, в витой бронзовой раме — в прихожей, прямо напротив входной двери, другое — такое же, в гостиной. А, кроме того, зеркальный буфет в столовой, в спальне — немецкой работы трюмо, зеркало над умывальником, ручные зеркальца с длинными ручками… Удивительно, как их может быть много в одном доме! Ослепленные простынями, они смотрят в серое небытие, и комнаты, залитые рассеянным апрельским солнцем, без их внимательных глаз кажутся пустыми и безлюдными.
Ругия–ханум сидит на диване в темном муслиновом платье. Ее теплая смуглая кожа пахнет лавандовым мылом…
Пока не может быть и речи о свадьбе доктора Велибекова со старшей дочерью Мамеда Рзы. Траур будет продолжаться еще целый год. От Мамеда Рафи Идрис Халил узнает, что доктор, в поисках утешения, навещает некую бездетную вдову, с которой он заключил брак сийга сроком на шесть месяцев.
Ахунд говорит:
— Все точно! Вот вам, мусульмане, и все признаки! Оглянитесь по сторонам и увидите, если еще не ослепли совсем!..
Пятничная молитва. Мужчины, сидящие на коленях на пыльном ковре, испуганно внимают Гаджи Сефтару. Густая паутина морщин вокруг глаз, чудовищно увеличенных толстыми линзами, то сжимается, то расползается по всему восковому лицу ахунда. Он стоит на минбаре, воздев над головой руки (с большого пальца правой руки свешиваются яшмовые четки), и голос его эхом отражается от сырых стен мечети.
— Истину говорю, мусульмане! Сахибзаман в скором времени готовится явить нам свое сияющее лицо! Сказано, когда торговля распространится так, что женщины станут помогать своим мужьям продавать и покупать…
С началом весны безумие все сильнее окутывает сознание Гаджи Сефтара, глядящего на мир глазами–бабочками. И с каждым днем реальность острова становится для него все более призрачной, и с каждой произнесенной им проповедью ничем до того не примечательный ахунд маленькой мечети в убогом рабочем поселке все больше напоминает то ли пророка, то ли хитрого ересиарха, в словах которого подвижное время замирает, превращаясь в вечность.
Он говорит о приходе мессии — Сахибзамана, и неожиданно мистический миф о спасителе обретает особую живость для островитян, отрезанных от мира зловещим карантином. Для них, завороженно следящих за его руками, вскинутыми вверх, образ скрытого до наступления времен неведомого мессии становится образом ахунда Гаджи Сефтара.
Они ждут чуда и спасения.
В последнем письме Мамед Исрафил сообщает, что удача по–прежнему сопутствует ему, и он собирается расширить дело и открыть еще одну кондитерскую–пекарню рядом с Тагиевским Пассажем, и что жена его опять беременна, и что Зибейда–ханум тоскует и часто плачет…
В Идриса Халила стреляли в ночь со вторника на среду. Мягкая револьверная пуля разбила окно и, рикошетом отскочив от стены, застряла в створке бельевого шкафа. В чуткой тишине полуночи звук выстрела разбудил дворовых собак.
Как гласит семейное предание, его спасла упавшая ложка. Но кто поклянется?! Ведь сказано, что даже лист не упадет с дерева, не будь на то чьей–то воли!
Так или иначе, но без четверти двенадцать обычная посеребренная чайная ложечка еще довоенного производства соскользнула с края стола на пол. Идрис Халил, в это время рассеянно листавший немецкий путеводитель 1913 года «Города и Губернии Российской Империи», где на странице 249-ой были помещены оживленные цветной ретушью виды бакинской набережной и дебуровского особняка (принадлежащие если не кисти, то объективу покойного Ивана Акоповича), отложил толстую книгу в сторону и полез за ложкой под стол. С улицы раздался выстрел. Оконное стекло раскололось и посыпалось на подоконник, на котором лежал круглый поднос с сахарницей изумительного кобальтового цвета.
Наступила тишина — тревожная, короткая, словно бы сплетенная из прозрачных шорохов безлюдных улиц и несмолкающего гула моря. В разбитом окне, разлетаясь концентрическими кругами от полной луны, холодно пульсировали звезды.
Идрис Халил своим дыханием отмеряет время. Он закрывает глаза, и тотчас комната, освещенная светом волшебной лампы, и искрящиеся кусочки стекла, и звезды — исчезают, возвращенные в небытие.
Темнота длится всего лишь мгновенье, но время, как известно, в прошлом и будущем течет по–разному.
И вот уже Идрис Халил стоит у распахнутой створки бельевого шкафа, в которой застряла пуля. Ногтем выковыривая расплющенный кусочек свинца, он вдруг резко оборачивается, словно охваченный внезапной мыслью, и смотрит на свое отражение в маленьком зеркале на стене. Но вместо лица — лишь странное роение огненных светлячков.
Мамед Рафи ссыпает осколки стекла в железное ведро. Самого его не видно, только тень, словно гигантский паук, ползет по стене.
— Вас ведь Аллах спас, ага–начальник! Надо бы раздать милостыню…
— Подай–ка папиросы!
Ночь, волнами накатывающая из окна, остро пахнет весной: это земля острова уже сочится терпкими соками. Охваченная томлением, она с каждым днем становится все более рыхлой и теплой на ощупь, но в этом пробуждении пока больше смерти и тления, чем жизненной силы. Невидимые глазу семена трав неподвижно покоятся в своем гнилостном мраке, и длинные твердые корни смокв, переплетенные с телами мертвецов на окраине старого кладбища, еще не начали своего обычного подземного роения, мешающего могильным ангелам Инкиру и Минкиру вести бесконечные допросы…
Еще одни парные ангелы, как и те двое, что перекликаются в роще…
Скоро зацветет миндаль.
Идрис Халил садится на кровать. Болит голова.
10
Просто один из дней в самом конце апреля.
Из трепетной паутины света выплывает странный сад с его симметричными рядами обгоревших стволов и каменными дорожками, покрытыми жирной копотью. Единственное живое пятно — бурый мох, проросший сквозь трещины в кладке полузанесенного песком бассейна.
На край ограды садится дрозд.
Сад — причудливый призрак, застрявший в текучем безвременье между прошлым и будущим. Его черный остов, позолоченный утренним солнцем, отражается в мутных окнах веранды, на которой в кресле–качалке, закутавшись в плед, по обыкновению сидит кукольный полковник Мир Махмуд Юсифзаде.
Полковник дремлет. Убаюканный мерным поскрипыванием кресла и роением легкой пыли, пронизанной светом, он тихо плывет в блаженной пустоте своих старческих сновидений, забавно наморщив фарфоровое личико.
На невидимых часах одиннадцать пополудни.
— Просыпайся, джаным! Ты слышишь?.. Пора пить чай!
Полковник открывает глаза, откашливается и, стянув с головы вязаный берет, привычным движением приглаживает жидкие кудряшки на затылке.
— Ты идешь? Чай стынет!
Они садятся за стол в маленькой столовой на первом этаже, вплотную примыкающей к кухне. Здесь сумрачно и тихо. Приходящая кухарка, из местных, подает сливочное масло, молоко в крынке, овечий сыр и мед. Чаевничают молча, под будничный звон посуды. Над столом вьется парное дыхание кипящего самовара.
Закурив, полковник берет с подноса, на котором стопкой лежат газеты, самую верхнюю. Это «Азербайджан» (из–за карантина газеты теперь доставляют на остров с опозданием на несколько дней, но это неважно). Вся первая полоса посвящена подготовке большой трехсторонней конференции в Тифлисе и войне с Деникиным. Бегло просмотрев редакционную статью, он переворачивает страницу и среди рекламных объявлений в витиеватых рамочках находит сообщение о кончине старейшей жительницы столицы некой Фатьмы Кярбалаи, которой за месяц до смерти исполнилось 114 лет.
Теплый бриз колышет занавесь.
— Хорошее сегодня утро!
— Да, сразу видно, что весна…. Хочешь еще чаю?
Полковник качает головой. Где–то в глубине сгоревшего сада таятся длинные тени.
С самого утра маленькая площадь перед особняком непривычно пуста. Куда–то таинственным образом пропали каменщики и плотники, работавшие на строительстве мечети, а вместе с ними и водовоз Муса Рамазан — беженец из Эриваньской губернии — обычно дежуривший со своей подводой на углу, и солдат–охранник. За целый час нет ни одного прохожего. Только косые струи солнца, проливающиеся сквозь просветы в зарослях виноградников над каменными заборами, да жемчужное небо без единого облачка.
Покой. Апрельский полдень. Присутствие времени угадывается лишь по ленивому шелесту ветерка в кроне чахлого абрикосового дерева, стоящего прямо посередине площади. Над горизонтом, вкруговую опоясывающего остров — три полоски белесого дыма. Это «Африка», «Ильдрым» и «Ингилаб» несут свой дозор.
Но все может измениться в одночасье — как известно, пространство и время в сновидениях целиком зависят от воли сновидца…
Когда оставив в пепельнице дымящуюся папиросу полковник встает из–за стола и возвращается на веранду, на площади вдруг замирает божественный метроном: клейкие листья абрикоса безвольно провисают в томном воздухе.
Наступает короткое безвременье…
Потом три полоски дыма на горизонте, качнувшись, выгибаются вправо, и сразу же мягкий золотистый свет весеннего полудня, словно бы пропущенный сквозь жидкое стекло, приобретает неожиданную глубину и резкость, от чего тени на мостовой заметно удлиняются. Скрывая солнце, одно за другим захлопываются небеса — от первого до седьмого.…
Движение возвращает время. В порывах влажного северо–западного ветра трепещет крона абрикосового дерева.
Перед парадным входом губернаторского особняка в два ряда выстраиваются солдаты. Подъезжает фаэтон. Из него энергично выходит Идрис Халил. Следом — Мамед Рза Калантаров (все происходит чуть быстрее, чем должно быть, словно в старой кинохронике).
Крупный план: Идрис Халил стоит в самом центре моего сновидения, подпирая папахой стремительно темнеющее небо, вот–вот готовое пролиться на него быстрым дождем (возможно, это просто аберрация взгляда, вызванная исторической перспективой и наслоением придаточных предложений). В наэлектризованном воздухе для создания большего эффекта, словно магниевые вспышки фотоаппаратов, сверкают люминесцентные змеи–молнии, а где–то в глубине сцены, за безвкусным декорациями, изображающими плоские крыши уродливого поселка, уже грохочет жестяной гром. Все очень подробно, очень рельефно: его гладко выбритые щеки, обтягивающие высокие скулы, и отливающие медью кончики республиканских усиков, и выставленный вперед подбородок с небольшой ямочкой, и прозрачная тень от папахи, опустившаяся почти до середины лица.
Идрис Халил подходит к двери, оборачивается:
— А вы?
— Я лучше подожду здесь. — отвечает Калантаров, пряча глаза.
Сейчас пойдет дождь.
Долгое эхо почти нежилого дома. Оно катится по холлам и пустым комнатам особняка, большей частью совершенно заброшенных после злополучного пожара, в огне которого, среди прочего, сгорели и чудесные ковры с цветными геометрическими верблюдами, идущими по замкнутому кругу. Эхо то разрастается, бесконечно усиливая громыхание солдатских сапог, то почти затихает, уступая место тихому потрескиванию мебели и отрывистым голосам жандармов, доносящимся с улицы.
— Месмэ!?.. Закрой окна! Дождь! Месмэ!
По спинам мраморных слоников пробегает легкая тень. Шесть слоников стоят друг за другом на широкой каминной полке. Над ними — светлые прямоугольники. Следы от картин и фотографий. Чужих картин и чужих фотографий.
— Что там за шум в прихожей? — ослепительная вспышка молнии выбеливает комнату до самого потолка. — Аллах сохрани!
Быстро поднявшись, супруга полковника задергивает шторы на окнах. Раскат грома. Пианино у стены отзывается мелодичным стоном. Над круглым столом, покрытым снежно–белой скатертью, висит лампа в зеленом абажуре.
— Месмэ! Да ответь же!.. Куда запропастилась эта девка!?
Высокая дверь в столовую распахивается, и на пороге появляется Идрис Халил в сопровождении двух солдат и коротконогого полицейского чавуша.
За окнами веранды — безжизненный черный сад, разрываемый светом молний.
— Добрый день, Мир Махмуд–бей…
Полковник прикрывает лицо крошечными ладошками и чихает.
Когда через полчаса его выводили из дома, первые капли дождя уже ложились в теплую пыль на мостовой. Поднимаясь в фаэтон, арестованный комендант Юсифзаде едва не упал, зацепившись длинной полой полковничьей шинели за подножку.
В просветах между подвижными тучами вспыхивает и гаснет оранжевое солнце.
Обыск в доме продолжался около двух часов, но ничего сколько–нибудь примечательного найдено не было. Ни оружия (табельный револьвер и шашка не в счет), ни документов, ни даже писем. Только стопки старых газет на веранде, где любил сидеть полковник, да десяток книг на полках в гостиной. Искали в спальне, на кухне, обыскали подвал и сарай. По приказу Идриса Халила солдаты открыли некоторые из тех комнат на втором этаже дома, которые стояли заброшенными, и двери которых были заколочены крест- накрест потемневшими досками.
На этой групповой фотографии молодой Мир Махмуд Юсифзаде в чине лейтенанта стоит среди солдат N-ского полка по правую руку от легендарного Самедбека Мехмандарова. Идрис Халил переворачивает страницу фотоальбома. Еще два снимка. На одной полковник среди заснеженных елей, рядом с врытой в землю гаубицей. Подпись внизу: «Карпаты, 1915 год». На другой они с женой в студии Рустамяна.
Пасмурные сумерки, пронизанные косыми струями дождя, становятся плотнее, густеют, и вскоре в их чернильной толще без остатка исчезает и Идрис Халил, и альбом с фотографиями, и кресло–качалка на веранде, смотрящей окнами в печальный сад…
11
Метель.
Теплый северо–западный ветер разносит нежный пух с липких тополей по всему острову, и он летит, летит над чайханой Мешади Худадата, над торговыми рядами, над лавками, домами, над железными цистернами, над куполом мечети, во дворе которой сидит почтенный Гаджи Сефтар, прислушиваясь к гнетущей тишине в старой моллахане, куда больше не ходят дети, летит над белой больницей Мурсала Велибекова, и над тюрьмой, где узники отрешенно следят сквозь зарешеченные бойницы–окна за его полетом по безоблачному небу.
«…Милая моя, не проходит и дня, чтобы я не вспоминал о тебе! Особенно сейчас, когда весна наполняет мое сердце смутным томлением и тоской. За окнами апрель, и остров этот — будто тюрьма!»
Строчки ложатся на невидимый лист бумаги и постепенно растворяются в полупрозрачной толще сновидения, а в открытые окна летит тополиный пух, заметающий комнату, в которой беспокойно спит Идрис Халил.
«…мне уже и самому не понять: надзиратель я или заключенный!»
В нагрудном кармане его шинели, висящей в изголовье кровати, лежит конверт со сломанной сургучной печатью. Это секретный указ об аресте полковника Мир Махмуда Юсифзаде в связи с открывшимися обстоятельствами преступного заговора и назначении капитана Идриса Халилова новым комендантом острова, скрепленный подписью Министра Внутренних Дел господина Шейхзаманлы.
Тополиный пух оседает на крышах, балконах, на вывешенном для просушки белье, на лошадиных крупах, на одежде, на палубах военных катеров, стоящих на рейде, падает в нефтяные колодцы и пристает к чумазым лицам рабочих…
Будто кто–то распорол над островом гигантскую подушку.
— Никогда не видел такого! — говорит Мамед Рафи, качая головой. Бывший казарменный плац весь засыпан пухом. — Что за напасть?! Задыхаюсь по ночам!..
Бывший тартальщик толкает перед собой вечную деревянную тележку с закопченным суповым котлом. По тюремному коридору распространяется запах подгоревшей чечевичной похлебки.
— Никогда не видел такого! — повторяет старший надзиратель, усаживаясь на огромный табурет. — Поторопись! Суп совсем застынет!
— Никогда не видел такого! — говорит Мамед Рза Калантаров.
Траур продолжается, но на зеркалах больше нет черной материи. Мамед Рза протягивает Идрису Халилу коробку папирос:
— Как снег! Если оставить открытыми окна — к утру все комнаты будут в этом пухе!
Идрис Халил кивает. Закуривает.
— Останешься пообедать? Оставайся!.. Может быть, Мурсал тоже придет. Хотя в последнее время он редко заходит. Посидим, поговорим…
— Оглянитесь вокруг себя, мусульмане! Когда еще вы увидите такое? Когда еще явится вам чудо столь очевидное и ясное, что даже слепой может ощутить его, протянув лишь руку? Сохраните увиденное в своей памяти навсегда, потому что рассказать об этом вам все равно будет некому! У вас больше нет детей, их убила болезнь! Они стали этим пухом…
Пламенные проповеди ахунда с каждым днем становятся все более путаными и странными, точнее, почти безумными. Да и внешность Гаджи Сефтара за прошедшие недели разительно изменилась. Прежде довольно упитанный, теперь он сильно похудел, так что добротный теплый абаз собирается у него на спине широкими складками, а лицо с ввалившимися щеками все больше напоминает обтянутый кожей череп.
— Послушайте! Он уже среди нас, сияющий, великолепный!.. О его приходе возвестил нам один из четырех бессмертных… — Он проповедует, стоя в маленьком дворике мечети, а вокруг бушует тополиная метель.
— Посмотри, что со мной происходит! Ты видишь? Аллергия! Куда же я в таком виде пойду! — Лицо доктора Велибекова действительно сильно отекло, от чего глаза его превратились в узкие щелочки. Он сидит за столом в длинной ночной рубахе и выглядит несчастным. Перед ним дымящаяся тарелка мясного супа. — Все тело чешется! Никогда со мной такого не случалось! Это все от этих тополей!.. Может, все–таки, поешь со мной?
В большой канцелярской книге, где записаны все арестанты особой тюрьмы для военнопленных, полковник Юсифзаде указан как заключенный за номером 1/24–19. Первая цифра, в соответствии с новой классификацией, означает степень опасности, которую арестант представляет для Республики (всего таких степеней три), вторая — порядковый номер, последняя — год, в который был произведен арест.
Заключенный № 1/24–19 сидит отдельно от всех в маленькой, но светлой камере с высоким окном под самым потолком. Это, собственно говоря, даже и не камера, а одна из подсобных комнат бывшей казармы, теперь разделенная надвое стеной — сырая штукатурка никак не хочет сохнуть.
— Новая страна, новые тюрьмы… — Шепчет, ни к кому не обращаясь, полковник Юсифзаде. Он сидит, свесив вниз ноги со складной койки, принесенной специально для него из поселковой больницы. Койка удобная, с матрасом и даже простыней, застеленная дополнительным одеялом.
— Что он там делает? — Мамед Рафи вытирает лоб тыльной стороной ладони. Душно. Огромный табурет скрипит под его тяжестью. Один из надзирателей (имени его я не знаю) — светлоглазый курд откуда–то из западных провинций — разводит руками:
— Просто сидит, ага–начальник. Уже второй день так. Сидит и все. Я с утра за ним слежу, как вы велели — ничего. И когда еду приносишь — молчит, спрашиваешь — не отвечает, как будто у него язык отнялся. Я раз видел такое, не приведи Аллах…
— А зачем тебе с ним говорить? Тебе с ним разговаривать ни к чему! Ты своим делом занимайся! А если даже он сам начнет что спрашивать — не отвечай! Понял? Нельзя с ним разговаривать!.. Это он, собачий сын, с комиссарами заодно отравил все колодцы!
В глазах курда — бирюзовых, почти прозрачных, словно отлитых из стекла — страх и любопытство. Он поправляет связку ключей на поясе казенной униформы. Застиранная форма висит на нем мешком.
— Э-эх! Какие времена настали!..
— А как ты думал, братец! Война идет! Кругом враги…
Мамед Рафи тяжело поднимается с табурета и надевает на голову фуражку.
— Душно сегодня!
— Душно, ага–начальник!.. Я это… про башмаки хотел сказать. Эти уж совсем никуда не годятся! — безымянный надзиратель показывает на свои стоптанные ботинки. Правый — подвязан веревкой.
— Да что ж ты, братец, совсем обнаглел? И башмаков себе купить не можешь?
— Клянусь Аллахом! В доме пятеро ртов, и все требуют «давай, давай!»…
— Ладно! Иди, иди себе! На следующий месяц что–нибудь придумаем!..
Голос Мамеда Рафи, и шарканье шагов, и громыхание деревянной тележки с закопченным суповым котлом слабеют, понижаются до неразборчивого шипения грампластинки, а тюремный коридор начинает искажаться, будто плавится, и, подхваченный удивительной силой сновидения, я поднимаюсь вверх.
Самое сердце тополиного снегопада. Пух застилает глаза, забивается в ноздри, уши, рот, я начинаю задыхаться так страшно и так стремительно, как это может быть только во сне!
Пробуждение: вся та же подсобная комната со сводчатым потолком. Солнце, разрезанное прутьями решетки, растекается по полу неровными квадратами. Заключенный № 1/24–19 открывает глаза, зевает и, откинув одеяло, садится на койке. Несмотря на теплые кальсоны и вязаные носки на ногах, ему зябко.
— Чтоб вас!.. — бормочет полковник, с отвращением разглядывая бадью в углу камеры, на краю которой, изогнувшись полумесяцем, сидит крошечная ящерица.
Кто–то идет по коридору. Но это не привычное шарканье разбитых ботинок безымянного курда, и не тяжелая поступь Мамеда Рафи. Шаги торопливые, скользящие. Замирают у дверей камеры. Через мгновенье с тихим скрежетом приподнимается железное веко глазка. Кто это? Полковник щурится, вытягивает шею, смотрит, и вдруг на его фарфоровом личике появляется странная блуждающая улыбка, будто ему каким–то образом удалось разглядеть и узнать того, кто стоит сейчас там за дверью!
Тыльной стороной ладони Идрис Халил вытирает горячую испарину со лба.
— Эй! — окликает его полковник. — Не прячься!.. Я узнал тебя!
Постояв с минуту, он разворачивается и быстро уходит прочь по коридору.
Возвращаются старые стихи.
«…принцессы машут нам вслед…»
По обочинам дороги, ведущей от поселка к промыслам, в пыльной траве, окропленной редкими маками, прячутся ужи. Будто диковинные сахарные головы, рядами стоят кусты чертополоха, облепленные паутиной и ошметками змеиной кожи. Едет арба. Лошадь рыжая, с белым пятном на шее. Из–под копыт, расправив веер алых крылышек, выскакивают кузнечики. Май. Он причудливо перетасовал дедушкины сны — новые и старые, — и теперь в них мертвая мадам Стамбулиа и живая Ругия–ханум окончательно слились в одно целое, как почти утраченное прошлое и желаемое будущее. Двуликая женщина — одним лицом на запад, другим на восток — эротичная химера, нашептанная Идрису Халилу ночными призраками, касается его бесплотными пальцами, обнимает, и он, плавясь, будто воск, в ее объятьях, которые длятся едва ли мгновенье, просыпается в жарком поту, чувствуя на лице явственный отпечаток ее губ. И после, охваченный лихорадочным жаром, он долго лежит в душной темноте, боясь пошевелиться.
Голос безымянного надзирателя:
— Посмотри, ага–бей, сегодня, когда из дома выходил, нашел! Прямо на воротах было приклеено!..
— Что там у тебя еще? — Мамед Рафи зевает во весь рот, потягивается. — Клянусь аллахом, день только начался!
— Листовка…
Сумрачный коридор с его покатыми стенами, белеными известью, заслоняют кричащие типографские буквы, пропечатанные на тонком листе папиросной бумаги, по которым, запинаясь, ползет указательный палец полуграмотного Мамед Рафи.
— Вот ведь, сучье отродье!.. — высморкавшись на пол, говорит он, дочитав до конца лишь первые строчку. — Вот ведь!..
— Что там, ага–начальник?
— А что там может быть?! И так все понятно!
28 мая. День Независимости. Нарядные полки маршируют по проспекту Истиглалийат: от здания Городской Думы вниз, мимо все еще лежащего в руинах «Исмаиллие» к двойным крепостным воротам. Впереди — кавалерия. Следом — солдатики под трепещущим триколором. Люди стоят вдоль всего проспекта — не протиснуться — аплодируют. На длинных балконах бывшей женской гимназии, где теперь заседает парламент, чинно выстроились в два ряда депутаты и члены нового правительства. Солнце, отраженное от медных труб сводного духового оркестра, разлетается брызгами огненно–рыжего золота. Музыка. Кажется, это национальный гимн, слова к которому сочинил Ахмед Джавад (еще один заблудившийся поэт эпохи). Торжественный звон литавр, оттененный дробным цокотом копыт и приветственными криками, поднимается вверх и разлетается над обгорелыми башенками «Исмаиллие».
Среди тех, кто толпится у крепостных ворот, мелькает лицо Мамеда Исрафила. Вот он машет рукой, улыбается — рослый, с высоким лбом, вечно удачливый: к празднику во всех кондитерских Мамеда Исрафила появились новые пирожные — «Республика». Пекарь из пекарей.
На другой стороне улицы — фотограф с трехногой камерой, нацеленной на конного офицера. Под ногами, прямо перед штативом, на пыльных булыжниках мостовой лежат кучки навоза. Фотограф на секунду снимает крышку объектива, ослепительный свет магниевой вспышки, белый дымок, и гарцующий всадник под черной папахой становится частью призрачной истории целого народа — народа такого же многоликого и пестрого, как и восторженная толпа, что стоит на заднем фоне. Где–то здесь должен быть и одинокий Мухаммед Хади. Безумец. Тощий и совершенно неприметный без своего офицерского мундира. Узнать его теперь можно лишь по длинным строчкам тяжеловесных стихов, наподобие золотистой чалмы окутавших его голову — жить ему осталось совсем немного.
Три всадника революции. Три покоренные стихии: земля, огонь и вода (именно в такой последовательности). Мальчишки, облепившие фонарные столбы, приветствуют открытое авто, в котором едет сам главнокомандующий армией, славный герой Самедбек Мехмандаров (земля), рядом другой генерал — «бог артиллерии» Али Ага Шихлинский (огонь). Третий человек в машине — его превосходительство Чингиз Ильдрым, Морской Министр (вода).
Двое первых счастливо переживут всех поэтов и саму Республику.
«Да здравствует Республика! Да здравствует Республика!» — голоса прорываются сквозь медный марш оркестра. Только в эти дни, сейчас, для большинства, наконец, становится очевидным смысл происходящего: рождение новой нации. Огромный младенец, помазанный чудотворным мазутом, отчаянно кричит — тысячеликий, тысячеглазый, тысячерукий. А повивальные бабки — три генерала, едущие в открытом авто — причмокивают губами:
— Бэх, бэх, бэх! Вы только посмотрите на него! Какой крупный мальчик! Какой голосистый! Живи сто лет!
Но в исступленной радости этого весеннего дня каждый из них знает, что младенец не проживет слишком долго: при родах пуповина, будто удавка, несколько раз обвилась вокруг его хрупкой шеи. Асфиксия. Даже если выживет — будет полудурком. Повивальные бабки никогда не ошибаются.
На острове праздник отметили скромно. На фонарных столбах вокруг базарной площади вывесили национальные флаги, «Товарищество» выплатило небольшую премию рабочим промыслов, а в местной газете было напечатано обращение нового премьера ко всем жителям Республики.
Во время пятничной молитвы ахунд Гаджи Сефтар, ожидающий Сахибзамана со дня на день, возвестил о том, что половинки расколовшейся луны вскоре уже упадут на землю, вызвав небывалое землетрясение и потоп. Ахунд проповедовал, перегнувшись отощавшим телом через высокий минбар, обтянутый темно–зеленым бархатом, и, по свидетельству очевидцев, жар, исходивший от его лица, был настолько силен, что его ощущали старики, сидевшие на коленях в первых рядах.
В душных фиолетовых сумерках над островом всходит полная луна цвета слоновой кости, и ребристые воды вспыхивают дрожащим маслянистым светом. На мостике сторожевого корабля (это все та же «Африка») коренастый человек в черном бушлате выпускает кольцами дым из округленных губ. Майская истома, разлитая в воздухе, в котором смешались запахи табака, моря и одиноких ночных цветов, оставляющих на языке терпкий, горько–сладкий привкус, заставляет его сердце учащенно биться в предчувствии чего–то необычного, чего–то желанного…
На Юг, на Запад, на Восток.
Доктор подкручивает фитиль керосиновый лампы. Огонек желтеет, вянет и, наконец, гаснет совсем. В наступившей темноте, еще хранящей в себе теплый образ света, Велибеков торопливо раздевается и, нащупав изголовье кровати, ложится рядом с женщиной, которая ждет его, задрав ночную рубашку до талии.
На невидимых часах — почти полночь. Стрелка стремится к вершине циферблата. Почтенный Гаджи Сефтар у открытого окна своего дома, не обращая внимания на назойливый комариный звон, внимательно разглядывает сквозь очки огромный диск луны, висящий над минаретом мечети, словно гигантский гонг. Ослепленный своим безумием и горячечным дыханием майской ночи, он ищет следы трещины, но, вместо этого, в переплетении лунных жил ему видятся явственные очертания благообразного мужского лица с окладистой бородой…
Часть 3 В САДАХ
1
Кончился праздник. На фонарных столбах остались висеть трехцветные флаги. Судя по перекидному календарю и серебристым косякам сельди, плывущим в открытое море, остров уже пересек невидимый меридиан, сразу за которым начинается лето. Лето 1919 года (о, эти проклятые зеркальные цифры).
Морские ванны.
— Ух! Холодная! — визгливо кричит доктор, стоя по колено в воде в черном купальном костюме, плотно обтягивающем его грудь и жирные ляжки.
— Может, искупаешься?
— Нет, нет!..
— Ну, как знаешь! — доктор шумно хлопает себя по животу и, поправив на голове резиновую шапочку, осторожно идет по отмели вперед.
Закат долгий и мучительный, будто агония. Солнце, разрезанное пополам линией горизонта, продолжает исходить светом, от чего маленькая бухта, прикрытая по обеим сторонам скалами, густо окрашена в цвет меди. Откуда–то из глубины острова явственно тянет запахом гари. Сидя на полотенце, расстеленном на песке, Идрис Халил рассеянно следит за тем, как Велибеков, зажав ноздри рукой, шумно ныряет.
Болит голова.
Отфыркиваясь, доктор выпрыгивает из воды и машет исчезающему солнцу. На востоке, там, где сгущается фиолетовая тьма, уже явственно проступают знаки зодиака.
Возвращаются они уже в полной темноте. Прямо перед ними Соломенный путь, рыбьим скелетом протянутый над черными крышами поселка. Одиночество. Идрис Халил проводит ладонью по лицу, сверху вниз, одиночество морехода под мерцающими звездами.
Шторм начался сразу после полуночи.
Все ночь напролет яростный южный ветер гнал к берегам острова армии прозрачнотелых медуз, от которых море светилось на много верст вокруг, и в его обжигающем дыхании был жар раскаленных песков с противоположного берега Каспия. Он надламывал тощие кипарисы, рвал ставни на окнах, стеклянные плафоны уличных фонарей, не выдержав его напора, один за другим разлетались на мелкие осколки, а огромные волны с шипением перекатывались через палубы сторожевых кораблей, прячущихся на рейде. Те несколько часов, что продолжался шторм, отчаянно выли собаки, ослепленные страхом и горячей пылью, которая совершенно завесила остров.
Ветер сорвал и унес в море все трехцветные флаги.
Когда утром следующего дня шторм, наконец, утих и взошло солнце, которое, по предположениям безумного ахунда, всю ночь напролет в кромешной тьме запертой комнаты читавшего по памяти суры из Книги, могло уже и не взойти, оливковая роща на выезде из поселка затрещала от невыносимого жара, а редкая трава по обочинам дороги, еще сохранявшая свой изумрудный цвет, почти сразу выгорела до бурой черноты.
…Идрис Халил собирает вещи. Вещей немного. Одежда — пара старых костюмов, рубашки, белье, отдельно — книги, среди них поэтический альманах, поля которого испещрены фиолетовыми пометками, письма, опасная бритва, помазок, мыльница, ящик фотографий из дома Рустамяна, одеяло, пожалуй, что и все. Получается один туго набитый саквояж и небольшой тюк.
На узкую улочку, выбеленную солнцем, медленно выезжает фаэтон с откинутым верхом. Проехав до ее середины, он останавливается у дверей дома. Идрис–мореход выглядывает в окно. Пора! Сердце его учащенно бьется — это призрачные гудки пароходов и поездов вновь доносятся до него сквозь жаркое марево, плывущее над соседними крышами, и хотя он точно и знает, что время для нового путешествия еще не настало, душа его трепещет от радости.
Мамед Рафи спускает вниз вещи.
После прохладного полусумрака дома рукотворная геометрия пустынной улицы, звенящей от полуденного жара, с ее назойливым контрастом узких прямоугольных теней и безграничного света, кажется почти сном. Идрис Халил невольно щурится.
На углу у фонарного столба стоит старик с длинными четками в руках. При появлении Идриса Халила он снимает шапку и кивает.
— Доброго пути, ага–бей!
— Спасибо, Гасым!
Идрис–мореход подходит к нему, чувствуя сквозь толстую подошву сапог раскаленные камни мостовой, протягивает бумажную купюру — свежеотпечатанный рубль Республики, ровно вполовину меньший по размеру, чем николаевский, но почти такой же по оформлению.
Старик благодарит его и прячет деньги в шапку.
…И опять — узкие серые дороги поселка Пираллахы образца 1919 зеркального года — крутые повороты, колдобины, мертвый песок вдоль каменных стен. И горькая пыль, поднимаемая копытами лошади, повисает в неподвижном зное. Редкие прохожие с темными разводами пота на рубахах, пропуская повозку, смотрят ей вслед долгим внимательным взглядом.
Идрис Халил — победитель красных драконов. Идрис Халил — новый комендант Пираллахы.
(Он платком смахивает испарину с лица, елозит на кожаном сидении, раздраженный обжигающим потом, который градом катится под отутюженным френчем по груди и спине).
— Говорить с вами не велено!
— Ну, подожди! Подожди, солдат!
Маленький полковник хватает безымянного надзирателя за рукав заношенного френча, заглядывает ему в глаза:
— Это же просто письмо! Две–три строчки…
Надзиратель со страхом отталкивает полковника и пятится к двери.
— Я из сеидов, солдат, не бери грех на душу!.. На, вот, возьми это… — бывший комендант стягивает с мизинца резной серебряный перстень с нефритом. — Никто ведь не узнает! Клянусь тебе! Посмотри только, какой красивый! Из Мешхеда!..
В камере стоит невыносимая духота, но, несмотря на это, леденящий холод обжигает пальцы безымянного надзирателя, протянутые за кольцом, лежащим на раскрытой ладошке полковника, заставляя его испуганно убрать руку.
— Бери, ну, бери же! Не бойся! Дарю от чистого сердца! Все равно мне он больше не понадобится.
В коридоре слышны тяжелые шаги Мамеда Рафи.
— Ты ведь передашь письмо?!
— Можешь быть уверен, ага–начальник. — торопливо шепчет надзиратель, пряча перстень и листок бумаги за пазуху. — Обязательно передам! Только ты уж тоже, не обмани! Я человек бедный, читать не умею — чтобы ничего такого в письме не было! А не то ведь несдобровать мне… а дети пропадут… четверо у меня…
Согласно секретному циркуляру, Мир Махмуда Юсифзаде вскоре должны перевезти в Баку для допросов.
В саду.
Отсюда дом и веранда выглядят еще более мрачно и запущенно. Из глубокой трещины под окнами второго этажа, заколоченными крест — накрест досками, торчат пучки какой–то бурой растительности. Облицовка из белого известняка, обожженная в огне пожара, приобрела характерный коричнево–оранжевый оттенок, от чего кажется, что все правое крыло дома густо покрыто ржавчиной. Ближе к краю, там, где огонь был, видимо, сильнее всего, часть крыши прогорела и обвалилась, обнажив закопченые балки. Повсюду жирная копоть и пыль.
Идрис Халил доходит до обломков ротонды в глубине сада рядом с бассейном, где когда–то жили осетры, останавливается, замечает уродливого богомола, сидящего на разбитой голове каменного льва, выставив перед собой колючие клешни. И вдруг всей душою почувствовав отторгающую враждебность этого полумертвого дома, где каждая вещь напоминает о его прежних владельцах и о трагическом пожаре, и этого сада, где невозможно укрыться от огромного солнца, заслонившего собой все небо, с отчаянием думает о том, что переезд сюда был ошибкой, и что, вместе с тем, в этих зловещих развалинах есть нечто такое, что притягивает и манит его, нечто важное, скрытое до времени, но отчетливо несущее на себе водяные знаки Судьбы и Случая.
Он швыряет окурок папиросы в бассейн, занесенный черным мусором и, развернувшись, быстрым шагом идет обратно к веранде, у которой, щурясь на солнце, стоит солдат с широким скуластым лицом. Это денщик. Зовут его Балагусейн и, насколько мне известно, он приходится дальней родней Мамеду Рафи.
Дом.
При полковнике Юсифзаде из восьми спален, четырех холлов, двух больших гостиных, кабинета и множества подсобных помещений обитаемыми, собственно говоря, были только две спальни и столовая на первом этаже с примыкающей к ней просторной кухней (да еще та самая веранда, ведущая в сад). Двери во все прочие комнаты были либо заперты, либо заколочены, и за последний год, или даже больше, не открывались вовсе. Отсюда и этот запах, острый, терпкий запах застоявшейся сырости и пыли. Им пропитаны стены, обои, мебель, тяжелые бархатные шторы, и кажется, что даже еда, приготовленная здесь, отвратительно пахнет пенициллиновой плесенью. Особенно явственно он ощущается ночью, когда Идрис Халил, громко щелкнув черным эбонитовым выключателем на стене, гасит свет и, скинув халат, ложится под одеяло, с отвращением чувствуя, как сырые простыни липнут к телу.
Дом полон звуков. Будто некий музыкальный инструмент, он не умолкает ни на минуту: ни при свете дня, ни при горячечном мерцании звезд. Каждое движение, каждый шаг в глубину полутемных коридоров и даже каждое произнесенное слово вызывает ответную, быстро нарастающую волну отзвуков. Звучат натянутые, как струны, балки, разбегающийся елочкой паркет, мебель, звучат пружины в пыльных диванах, обтянутых потрескавшейся кожей, сами стены нежилых комнат второго этажа. И в этом сложном переплетении звуков Идрис Халил с щемящей ностальгией и страхом угадывает призрак того, другого дома, где по вечерам играл патефон, горели лампы, и игральные кости, подпрыгивая, катились по деревянной доске для нардов…
«Дорогой наш брат Идрис Халил! Спешу поделиться с тобой радостной вестью и сообщить, что неделю назад Гюльбегим с помощью Аллаха благополучно разрешилась от бремени здоровым мальчиком…». Далее в письме сообщается, что торговля процветает как никогда (и это, несмотря на инфляцию и войну!), все здоровы и молят Всевышнего о том же для Идриса–морехода, продолжающего свое бесцельное путешествие к самым границам подлунного мира.
В честь рождения сына Мамед Исрафил велел зарезать трех бычков, мясо которых раздали нищим, а также пожертвовал деньги на строительство новой школы. Справились в Книге. На удачу выпало имя мудрого пророка, повелевавшего джинами. Сказано так:
«А Сулейману — ветер, когда он, дуя, устремляется по его повелению в землю…»
Младенца так и нарекли: Сулейман (Малый) ибн Мамед Исрафил (или по тюркской традиции оглы).
Идрис Халил равнодушно откладывает письмо в сторону.
— Вот, смотри сам! Побелили заново стены, выкинули ненужный хлам, но здесь еще много что надо сделать! Хочешь еще чаю?
Доктор Велибеков кивает и, выплюнув в кулак косточку, берет с тарелки еще один абрикос. Идрис Халил подставляет чашку под дымящуюся струю кипятка из носика самовара.
— Конечно, дом этот слишком большой для одного человека…
— Большой и запущенный! Хозяйку сюда надо…
— И этот сад…
Уродливые головешки трещат от жары. Воздух, оплывающий за окнами веранды словно жидкое стекло, пахнет гарью. У пустого бассейна стоит призрак женщины в веселом муслиновом платье. Лица не разглядеть.
Гаджи Сефтар во дворике мечети. Полдень. Стрелки невидимых часов устанавливают солнце прямо посередине совершенно прозрачного неба. Ахунд сидит в густой тени под навесом, опираясь локтями на колени, и наблюдает за тем, как огненно–рыжие муравьи суетливо тащат по земле труп маленькой ящерицы. Ящерица лежит на боку, выставив перед собой одеревеневшие лапки и задрав белую крокодилью челюсть. Тишина. Тишина в прохладном полумраке под приземистым куполом мечети. Тишина в моллахане. Тишина на полуденной улице. Дома смотрят закрытыми ставнями. Тишина над плоскими крышами Пираллахы. Тишина царит в леске, где среди пыльной листвы прячутся Иса и Муса, и на опустевших промыслах шведского «Товарищества» — цистерны полны невывезенной нефтью. Тишина на палубах сторожевых кораблей — не слышно даже плеска воды, и в удушающем зловонии казармы–тюрьмы, и на опустевшей базарной площади.
Гаджи Сефтар поправляет на носу очки. Глаза–бабочки, тревожно встрепенувшись, хлопают крыльями, а затем вновь успокаиваются, распластавшись на безглазом лице ахунда. Он вытягивает тощую руку из широкого рукава абаза и, взяв мертвую ящерицу двумя пальцами поперек тела, кладет ее на сухую ладонь левой руки. Муравьи бегут по пальцам, запястью, но Гаджи Сефтар не обращает на них внимания. На мгновенье он сжимает руку, а когда раскрывает ее, мертвая ящерица на его ладони вдруг оказывается живой. Некоторое время она оцепенело смотрит на солнце изумрудными глазами, потом соскальзывает в просвет между пальцами и быстро убегает вдоль стены ограды…
Ахунд Гаджи Сефтар, умеющий оживлять мертвых ящериц, улыбается, обнажая желтые зубы. В пустом дворике мечети никто не увидел явленного им чуда. И никто на священном острове Пираллахы, погруженном в полуденную сиесту, не увидел этого. И только где–то на окраине моих снов сохранился образ безумного ахунда с ожившей ящерицей на раскрытой ладони.
В то время, как остров задыхался в головокружительном мареве, вызывающем приступы удушья и головные боли на манер мигрени, чудеса продолжали будоражить его зыбкую реальность, смущая своей очевидной бессмысленностью. Память о них в моих снах. Все прочее, неважное, сохранила история.
До завершения траура в доме Калантаровых осталось еще почти восемь месяцев.
Идрис Халил закрывает напряженные глаза и узнает в призраке у бассейна Ругию–ханум.
2
— Начинайте уже!
Неожиданно зычный голос Балагусейна заставляет двух солдат в гимнастерках, почерневших насквозь от пота, торопливо загасить самокрутки и заняться ручным насосом, установленным над колодцем. Хороший германский насос, напоминающий небольшую судовую помпу. На верхней крышке полустертая надпись — что–то вроде «…undapp». Солдатики стоят друг против друга и по очереди давят на концы карусельного рычага. Насос с легким свистом приходит в движение, и вскоре из алюминиевого наконечника брандспойта, который держит обеими руками Балагусейн, начинает рывками бить широкая струя прохладной колодезной воды.
Поливают сад: обгорелые головешки, выложенную камнем тропинку, ведущую к бассейну, сам бассейн, ограду. Пенные ручьи, промывая в горячем песке зигзагообразные канавки, расползаются в разные стороны.
— Давай, давай! Налегай!..
…Копоть, пластами отслаиваясь от стен, уносится черной водой. Балагусейн в засученных до колен форменных галифе подтягивает за собой брандспойт и двигается вдоль аллеи. С веранды дома за всем происходящим рассеянно наблюдает Идрис Халил.
Из секретной депеши:
«Согласно полученной информации пассажирское судно «Гянджа», являющееся собственностью фабриканта Гаджи Амираслана Гулы оглы Меликова, 31 мая 1919 года вышло из г. Энзели и направилось в Баку, имея на борту сорок пассажиров, девять членов команды и груз, включающий в себя…». Там же, среди бумаг на рабочем столе, где лежит секретная депеша, находится и желтый конверт с указом, подписанным самим министром внутренних дел о производстве сержанта полицейской службы Мамеда Рафи Гара оглы в лейтенанты за особые заслуги перед Республикой…
Судно считается пропавшим без вести и, скорее всего, затонувшим где–то на половине пути от Энзели до Баку уже почти целый месяц назад.
29 июня.
Когда сверкая яростными зарницами невероятно расплывшийся багровый диск солнца, исполосованный фиолетовыми линиями, наполовину опустился в море, на горизонте вдруг возник гигантский силуэт корабля. С востока на запад. Силуэт был рыхлый, нечеткий, будто набросок углем. Крошась и ломаясь по краям, он медленно скользил над угасающей в темной воде полоской света, уткнувшись одинокой трубой в небо с проступающими на нем звездами.
Три быстрых морских охотника: «Африка», «Ильдрым» и «Ингилаб» — бросились за ним вслед, но как только верхушка солнца погасла в шипящих водах, силуэт корабля распался на бесформенные части, которые вскоре поглотила наступившая темнота.
— Что же это было?
— А кто его знает?! Привиделось, наверное! В море всякое случается… — пожилой матрос смачно плюет за борт в невидимые волны.
Следующим утром «Гянджу» обнаружили севшей на мель в версте от острова.
Деревянная баржа зарылась носом в светлую полоску песка, протянувшуюся в море от гряды невысоких скал. Никаких видимых повреждений. Мерная зыбь лениво закручивается в пенные кольца, бегущие по нарастающей через всю отмель, чтобы, войдя в глубокие воды, расплыться в них без остатка. Прозрачные блики трепещут под обнажившейся ватерлинией в переливающихся пятнах мазута с плотными наростами колючих мидий. Прикрыв глаза от слепящего солнца, моряки, стоящие на железной палубе «Ильдрыма» с зачехленной носовой пушкой, наблюдают за крикливой стаей чаек…
— Эй, там, на «Гяндже»! Есть кто–нибудь живой? — кричит с мостика в жестяной рупор офицер. — Отвечайте!
Корабль–призрак хранит молчание. Лишь протяжно гудят в такт бегущим по отмели волнам его переполненные трюмы.
Над мощеной дорогой, ведущей в поселок от пристани, висят остатки утренней дымки, сплошь пронизанной тонкими лучами света. Жандармы и солдаты оттесняют людей к длинному деревянному бараку под плоской крышей, пропуская фаэтон с Идрисом Халилом, майором Калантаровым, доктором и управляющим нефтяными промыслами Георгом Карловичем Бергером. Коляска остановилась у здании таможни.
Несмотря на внушительную толпу, стоит необыкновенная тишина — плотная, густая, напряженная. Тишина, которую не в силах нарушить ни монотонный плеск воды о деревянные сваи, ни отрывистый хохот чаек, ни длинные свистки сторожевых катеров.
У входа в бухту черный силуэт баржи, стоящей против солнца, да три полоски дыма.
Прозрачный знак грядущей катастрофы.
— Возьми! — Калантаров передает Идрису Халилу тяжелый полевой бинокль. — Это точно «Гянджа». Вон, надпись над якорем!..
Идрис Халил почти не удивился, заметив, как сверху, из глубины сияющих небес к судну широкими кругами медленно спускаются уродливые люди–птицы.
От берега до баржи никак не меньше версты, но воздух сегодня удивительно чист и прозрачен. Воздух сегодня будто заключен в трехмерный кристалл, в котором в мельчайших подробностях отражается и остров, и море, и корабль–призрак, заваленный мертвыми телами, обугленными солнцем и сыпным тифом (если не ошибаюсь, в депеше, полученной Идрисом Халилом, речь идет именно о нем).
— Древние называли его дымной болезнью. — шепотом говорит Велибеков, обернувшись к Георгу Карловичу.
— Кого?
— Тиф, конечно! — достав очки из нагрудного кармана пиджака, он со вкусом поясняет: — По–гречески typhos означает дым. То есть, туманящий разум!..
— А они точно все мертвы? — высокий лоб Георга Карловича покрывается испариной. — Мы… это не опасно стоять здесь?
— Дорогой Георг Карлович…
Над сорока девятью покойниками, вповалку лежащими на деревянных досках палубы, словно нимб, висит золотистое покрывало неподвижного дыма.
Когда гигантские тени от расправленных крыльев целиком накрывают собой корабль, испуганные чайки с пронзительными криками разлетаются в разные стороны. Опустив бинокль, Идрис Халил пытается по лицам майора и доктора, стоящих справа от него, определить, видят ли они то же самое, что видит он.
Теплый бриз доносит горько–сладкое зловоние разлагающихся тел, расклеванных морскими птицами.
На пристани царит молчанье. Тишина снизошла на весь остров Пираллахы, словно естественное безмолвие сорока девяти дымных мертвецов заразило всех вокруг и запечатало уста невидимой печатью. Молчание и тишина царят и в моей полуяви–полусне. Я сижу, уставившись на неподвижное отражение луны в темном квадрате бассейна. В мокрой траве, залитой светом фонаря, прыгают лягушки.
…Пристань — сверху, под небольшим углом, позволяющим видеть баржу на дальнем плане. Идрис Халил, он без привычной фуражки, наклоняет голову и что–то шепчет на ухо невысокому крепкому мужчине с выпирающим животом, одетому в форму жандармского офицера. Это майор Калантаров. Тот несколько раз кивает, озабочено вытирая ладонью раскрасневшиеся лицо и шею, а затем, обернувшись, подзывает к себе кого–то из цепочки солдат, стоящих у него за спиной.
…В конторе таможни, состоящей из двух узких комнат, беленых известью, оказалось неожиданно прохладно и сумрачно, но остро пахло прелой сыростью, пылью и застоявшимся табачным дымом. Высокие окна с решетками открыли настежь. Сели вдоль длинного стола лицом к морю (справа налево): майор, доктор Велибеков, Идрис Халил, Георг Карлович и двое невзрачных полицейских офицеров. На последний оставшийся стул в самом углу, где в темно–зеленых разводах плесени сваленные в кучу лежали огромные папки с бумагами, присел Мамед Рафи — лейтенантские звезды, приколотые прямо на безобразные черные погоны тюремного надзирателя, сверкнули в стеклянном кувшине с шербетом.
Совещались недолго. Почти сразу же было решено послать в артель за лодками. Продолжая разглядывать баржу, черным силуэтом висящую на фоне кобальтового моря, расцвеченного искрящимися брызгами жидкого золота, Идрис Халил почти все время молчал.
Пауза.
Солнце движется вслед за стрелками пропавших дедушкиных часов. Абстрактное время вечности. Время прожитое, но не исчерпанное до конца. Время Идриса Халила, ставшее и моим временем тоже: принимая те или иные обличия, оно возвращается, как навязчивая мелодия.
Стрелки перемещаются слева направо, солнце — с востока на запад, тень от здания таможни все удлиняется и удлиняется, постепенно сползая с деревянного причала в море. Раскалившийся воздух плавится, превращаясь в жидкое марево, в котором постепенно тают линия горизонта и очертания сторожевых катеров, стоящих на рейде.
— Сколько мы еще тут будем ждать? Где лодки?
Майор расстегивает воротник френча. Его лицо усеяно крупными каплями пота. Выловив из стакана кусок льда, он прикладывает его ко лбу:
— Мамед Рафи, узнай, что там, наконец! И, ради Аллаха, отправь кого–нибудь принести еще воды! Не надо шербета, просто воды…
— Какая невыносимая вонь! — вздыхает Георг Карлович.
В комнату, громыхая сапогами, входит молодой чавуш и, отдав честь, докладывает, что прибыли подводы с сырой нефтью.
— Сколько там всего?…
Растянувшись цепочкой по узкой дороге, арбы, груженые железными бочками, проезжают сквозь молча расступающуюся толпу. При выезде на пристань две из них сцепляются колесами. Растаскивая их, жандармы долго и бестолково суетятся и мешают друг другу. Веснушчатый солдат, посланный в ресторацию «Бахар» за водой, оказывается зажатым в самом центре молчаливого столпотворения. Пытаясь протиснуться вперед, он роняет под ноги большой кусок льда, завернутый в газету, и тот, расколовшись на сверкающие кристаллы с налипшими на них обрывками мокрой бумаги, разлетается во все стороны по деревянному настилу. Кто–то из жандармов, чертыхаясь, падает на спину. Лед хрустит под ногами. Подобравшись сзади к веснушчатому солдату, Мамед Рафи дает ему затрещину и, схватив за шиворот, выталкивает к дороге.
Толпа не расходится. Небольшими группами подходят женщины, завернутые до пят в черные покрывала. Они собираются чуть в отдалении за невысоким холмиком, поросшим голубыми колючками. Кажется, что весь поселок уже здесь, но, несмотря на это, удивительное дымное безмолвие, предписанное жутким этикетом смерти, остается почти ненарушенным.
Подойдя к зарешеченному окну, Калантаров вполголоса отдает распоряжение все тому же чавушу:
— Вели выгружать бочки, только чтобы аккуратно мне!..
— Слушаюсь, ага–бей! Прямо сюда?
— А куда же еще!
Георг Карлович снимает с головы белое кепи и протирает платком коротко стриженые волосы.
Над «Гянджой» сияет золотисто–черный нимб.
Ожидаемые лодки прибыли лишь к половине второго, когда катера в зыбком мареве на горизонте растворились уже почти без остатка, а удушающее зловоние от разложившихся тел стало густым и отчетливым. Шесть небольших рыбацких шаланд. Более часа ушло на то, чтобы загрузить их бочками с нефтью.
Наконец, маленькая флотилия двинулась в сторону баржи. Лодки шли тяжело, с натугой, будто преодолевая невидимое сопротивление раскаленного воздуха и с трудом прорезая неровными полосами пены сверкающую гладь моря. Вязкие струи воды свисали с медленных весел, как сталактиты.
Идрис Халил встал у окна.
Шаланды подошли к «Гяндже» со стороны кормы. На высоком солнце лоснились голые спины солдат, раздетых по пояс. Лица были обвязаны полосками бязи. Смрад. Харут и Марут, сидевшие прямо посередине грязной палубы, заваленной обезображенными телами, задрав птичьи головы, глядели в небо пустыми глазницами.
— Чего они тянут?! — шепотом спрашивает Георг Карлович.
— Сейчас уже, скоро!
Тишина, подчеркнутая тихим шелестом волн, лениво бегущих через отмель, становится много глубже, и от того еще более мучительнее.
Началось. Стряхнув оцепенение, солдаты принялись поливать баржу нефтью. Ее зачерпывают ведрами из железных бочек и с размаху окатывают деревянные борта судна.
Испуганно хохочут чайки.
…Заложив руки за спину, ахунд, умеющий оживлять мертвых ящериц, в одиночестве бродит по опустевшим улицам Пираллахы.
Он выглядит почти как призрак в своем нарядном абазе, ставшем непомерно огромным для его отощавшего тела. Вот он медленно пересекает базарную площадь, и горячая пыль катится за ним следом, и издали может показаться, что ахунд идет не касаясь земли ногами — просто плывет по раскаленному воздуху мимо магазинов и купеческих лавок, запертых на амбарные замки, мимо полосатой будки у тюремных ворот, в которой, прислонившись к стене, дремлет часовой, уронив голову на грудь.
На самом деле часовой мертв. Для него, как и для сорока девяти покойников, Час уже наступил, и теперь души их, уцепившись друг за друга, длинной вереницей сиротливо витают над глубокими водами…
Баржа, с правого борта облитая нефтью, будто шоколадной глазурью, тускло переливается в лучах солнца.
Грянул сигнальный выстрел. Оглушительный, резкий — над капитанским мостиком «Африки» взвилась белая струйка порохового дыма. Георг Карлович приподнялся со своего места, чтобы лучше разглядеть происходящее за окном.
В баржу полетели горящие факелы. «Гянджа» вспыхнула. Ребристые языки дымного пламени, фиолетовые у основания, струйками побежали по настилу палубы, и почти тотчас черное клубящееся облако заволокло корабль, совершенно скрыв его от взоров безмолвной толпы.
…Я вижу отражение горящей «Гянджи» в глазах Идриса Халила и думаю о том, что бесконечным огненным лабиринтам, в которых он плутает, лабиринтам, состоящим из сгоревшего, поджигаемого, горящего, лабиринтам, где в переходах земля под ногами устлана лепестками холодного пепла, а стены покрыты жирной копотью, этим смертельным лабиринтам трагических пожарищ — никогда не будет конца. И о том, что жалкие потуги моего деда смыть следы огня с каменных тропинок в саду комендантского дома — нелепая затея. Потому что этот сад, как и другой, оставшийся в благословленном Арнавуткейе, лишь одно из звеньев замкнутой цепи пылающих Знаков, которая не может быть разорвана даже со смертью Идриса Халила, потому что остается еще мой отец, и я, и другие, неразрывно связанные с ним, а значит, и с этими Знаками.
…Столп огня прорвался сквозь плотную стену дыма, и в одно мгновенье баржа перестала быть просто черным облаком, а превратилось в огромный костер, картинно полыхающий на фоне почти бирюзового неба. Золотистые искры, прочерчивая сверкающие траектории, летели в разные стороны и с шипением сыпались в воду.
Где–то в самом сердце огня сидят неопалимые Харут и Марут.
Гаджи Сефтар опускается на колени прямо в горячую пыль и прижимает ухо к земле.
— Сегодня будет ветер. Скоро уже!..
Вокруг острова — полный штиль. Море покойно и прекрасно до самого горизонта. До самых небес. В глубоких лагунах у подножья скал, обросших колониями крошечных мидий, неподвижно висят стаи креветок…
По рукам солдата в полосатой будке ползают мухи.
…Стена густого дыма вдруг легко качнулась куда–то в сторону, прогнулась, и через мгновенье распалась на несколько частей, в просветах между которыми стала видна охваченная огнем палуба. Зловонные клубы быстро потянулись к острову, при виде чего оцепеневшая толпа на пристани ожила, задвигалась, засуетилась. Безмолвие было нарушено. Началась давка. Расталкивая друг друга, люди бросились к дороге. Дрогнула цепочка солдат. Пытаясь расчистить для начальства путь к пролеткам, кричал какой–то унтер–офицер.
Вода под деревянными сваями стремительно темнеет, приходит в движение и, словно бы закипая, глухо клокочет.
Море в белых бурнусах.
Бухту заволакивает дымом. Будто черный саван, он наползает с моря, диковинным цветком распускается над людьми, в панике бегущих к поселку.
Горящая баржа накренилась набок.
— Гони, давай! — кричит Калантаров, последним забираясь в фаэтон. Коляска трогается. Вокруг кружится горький пепел.
— Напасть какая–то! — бормочет Георг Карлович, оттирая лицо от сажи. — То одно, то другое…
Доктор пожимает плечами:
— Кто же мог знать, что поднимется ветер!
— Гони! Что ты плетешься!
Сумерки.
Мертвого часового уложили на арбу поверх копны соломы, накрывают куском старой мешковины. В мутном свете масляного фонаря лицо его, раздувшееся от укусов насекомых и почерневшее, почти неузнаваемо. Из груди торчит рукоятка кинжала. Мамед Рафи поднимает повыше фонарь:
— Давай, прямо в больницу! Доктор там скажет, что делать дальше…
Двое солдат взбираются на подводу.
— Аллах в помощь! Поезжайте!
Через несколько минут после того, как скрипучая арба с покойником пересекает базарную площадь и исчезает в фиолетовом лабиринте улиц, из ворот тюрьмы появляется один из младших надзирателей с ведром воды и ворохом тряпья подмышкой. Опустившись на колени, он начинает смывать кровь со стен будки, весь пол которой завален листовками.
— Вот ведь, сучье отродье, не угомонятся же никак… — говорит Мамед Рафи почти без злости, разглядывая тонкие желтоватые листы размером с книжную страницу (in folio), которые недвусмысленно подписаны: «Красные Братья».
3
И опять Балагусейн в штанах, засученных до колен, стоит рядом с каменным львом и поливает землю из брандспойта, а двое солдат, загоревшие почти до цвета бронзы, работают у ручного насоса. Освежающие брызги холодной воды веером летят вокруг, смягчая раскаленный воздух.
За четыре июльские недели в мертвом саду многое изменилось. Обгоревшие стволы срублены и собраны в углу двора под жестяным навесом, пни большей частью выкорчеваны, а очищенная от мусора земля тщательно вскопана. Для реставрации бассейна завезли известняковые блоки, которые аккуратно сложили тут же рядом. Ротонду решили не восстанавливать. Если смотреть из дома, полуразрушенные колонны с остатками обвалившегося купола, живописно стоящие прямо посередине сада в окружении каменных львов, теперь по сути последнее, что напоминает о пожаре.
Осенью наступит время саженцев. После недолгих колебаний Идрис Халил остановил свой выбор на привычном гранате, оливах, белом винограде, абрикосе, ложном эвкалипте, чудесно помогающем против комаров, и кипарисах, — последние предполагается рассадить вокруг бассейна и вдоль всей южной стены, откуда падает слишком много солнца. Клумбы же с ромашками должны быть заново разбиты на прежнем месте, то есть, прямо перед верандой.
Четыре июльские недели 1919 года, да еще, пожалуй, первая половина августа — самое покойное время для Пираллахы за последние несколько лет. Стоит усыпляющий зной. Дни протекают одинаково, и временами кажется, что это, собственно говоря, один и тот же нескончаемый день. На рассвете солнце медленно всплывает из золотистого тумана, клубящегося над горизонтом, стремительно поднимается над неподвижными силуэтами сторожевых кораблей, и почти сразу же песок, не успевший остыть за короткие ночные часы, раскаляется до сверкающей белизны, а воздух становился плотным и колючим. После полудня мало кто решается выходить из дома. Лавки на площади стоят запертыми, кривые улочки пустеют. Даже неуловимые братья, подчиняясь незыблемому ритму сиесты, обращаются в птиц и прячутся на время в пыльных кронах олив в рощице на выезде из поселка.
В отличие от быстрых восходов, закаты невыносимо долгие и тяжелые, будто агония. Горячие всполохи света продолжают разрывать лиловые сумерки еще долго после того, как солнце исчезает за гранью неподвижных вод. Лишь к началу одиннадцатого гаснут последние зарницы, и на Пираллахы опускается спасительная темнота, которая, однако, не приносит облегчения ни людям, ни животным.
Полночь. Гаснут лампы под матерчатыми абажурами. Гаснут фонари и масляные плошки. Поселок погружается в душный сон без сновидений. Сон–забвение, которое стирает всякие воспоминания о прожитом дне: единственное средство от страха на убогом острове, продолжающем потерянно дрейфовать где–то на зыбкой грани между реальностью и вымыслом.
…В звенящей тишине ночной патруль шагает через базарную площадь, и горячая пыль, поднятая сапогами солдат, медленно оседает на плафонах фонарей, вокруг которых, отбрасывая гигантские тени, кружатся мотыльки.
Солдаты входят в привычный лабиринт темных улиц. Сопровождаемые дробным эхом, они идут мимо печального дома Мешади Керима, мимо пустыря у старой бани, сворачивают на дорогу, спускающуюся к дюнам, где одинокий бактриан, отфыркиваясь, пьет соленую воду лениво набегающих волн, пронизанных сиянием звезд. И пусть не вводят вас в заблуждение их открытые глаза. Они спят. Точно так же, как и все вокруг.
Божественное Забвение даровано на острове всем. Это что–то вроде пропуска на Пираллахы с его чудотворными могилами неизвестных праведников и неугомонными призраками. Без него здесь не выжить. Но, будучи единственным спасением от безумия, Забвение это в то же время есть и хитро расставленная ловушка, вроде тех сетей, что местные рыбаки ставят вдоль южного берега на сельдь или воблу. Оно постепенно лишает воли, создавая иллюзию неподвижности времени, и, однажды попав сюда, ты навсегда выпадаешь из скользящей цепи причин и следствий, чтобы, подобно растениям и камням, не ведающим истории, обрести почти вечную жизнь. Так, например, случилось с молодым доктором Велибековым, забывшимся в объятиях молчаливой вдовы. Я видел его глазами Идриса Халила в 1919 году. Я встречал его в 1997, во время своего двухнедельного пребывания на Пираллахы (тогда еще Артеме).
Поющие сирены прячутся где–то в вязкой перспективе волнистых дюн.
Формально доктор Велибеков образца 1997 года — другой человек. Внук Мурсала Велибекова, он был (а может быть, и есть до сих пор) штатным хирургом местной поликлиники. Лысеющий сорокалетний мужчина с гладко выбритым щеками и толстыми мавританскими губами. Я запомнил его сидящим на скамейке перед подъездом пятиэтажного дома в ветреный летний день. Было много света, трепетало чахлое деревце, и мокрое белье сушилось на протянутых веревках. Он сидел, опираясь локтями об колени, молчал, на его волосатых запястьях блестели капли пота, а красная рубашка с закатанными рукавами была единственным ярким пятном в этом пыльном и страшном дворе. Страшном — потому что во всем: и в этом полощущемся на ветру белье, и желто–синих колючках вдоль разбитого асфальта, и бумажном соре, с шелестом ползущем по земле, остро ощущалось бесконечное безвременье, тягучее и стойкое, безвременье, равное вечности.
Удивительное свойство острова: рождение и смерть здесь лишь смена формы, и, в этом смысле, хирург Велибеков не генетическое продолжение Мурсала Велибекова, а, парадоксальным образом, он сам. Вопрос лишь в том, как среди всеобщего забвения удалось Идрису Халилу не раствориться без остатка в монотонной жизни Пираллахы? Как уберег он себя от завораживающего слух сладкоголосого пения невидимых сирен, живущих на безлюдных пляжах магического острова? Как сохранил он способность видеть сны — эту хрупкую связь между прошлым и будущим — тогда как все вокруг спят?
Загадка Идриса–морехода, неразрешимая и простая одновременно. Неразрешимая, потому что через пространства и годы она несет в себе смысл тайного послания, но простая, потому что по логике жанра Мореход не может сгинуть бесследно в одном из своих странствий, а, ведомый Судьбой и Случаем, должен обязательно когда–нибудь вернуться к родным берегам и рассказать об увиденном.
Пока кружатся мотыльки, отбрасывая тени на темные фасады домов, короткая ночь, невыносимо душная и влажная, вся пронизанная усталым звоном комаров, движется к концу. Звезды вдоль небесного хребта, ясно указывающего путь дивному острову, все жители которого, включая ночной дозор, погружены в забытье, похожее то ли на обморок, то ли на смерть, начинают постепенно тускнеть. Это остров Спящих. Это остров Забвения — лишь Идрис–мореход, выброшенный на одинокий берег, продолжает бесконечно плутать в гигантских лабиринтах снов.
В одном из них он находит себя стоящим среди пышных клумб с неувядающими желтыми цветами и видит призрак печального садовника, когда–то погибшего на Галлипольском полуострове. Безмолвный садовник гладит полураскрытые бутоны.
По отчетливо хрустящему гравию дедушка идет к нему навстречу, но, как это бывает, садовник не становится ближе ни на шаг. Где–то в глубине сада мелькает муслиновое платье мадам и слышится ее голос, и Идрис Халил вдруг оказывается стоящим перед домом, и тут же парализующий страх сжимает его грудь, потому что он уже знает то, что увидит в следующее мгновенье.
…Вначале по легкой занавеси пробегает дуновение то ли ветра, то ли дыхания, потом в черном проеме окна полускрытое зыбким туманом появляется мертвое лицо Хайдара–эфенди. Его насмешливые глаза хранят в себе тяжелую прозрачную мглу глубокой воды, и, опечатанный молчанием, он неподвижно смотрит на дедушку из своего небытия.
Идрис Халил пытается бежать, но изумрудный газон накрепко оплел его ноги. Он пытается крикнуть, но горький ком, подкативший к горлу, душит его. И когда уже кажется, что сердце вот–вот разорвется от ужаса и отчаяния, спасительное пламя обрушивается откуда–то с небес и мгновенно охватывает весь дом до самой крыши.
Море огня. Все вокруг горит: клумбы с цветами, беседка, дорожка, посыпанная цветным гравием, призрак садовника, лицо Хайдара–эфенди, и только сам Идрис Халил, словно неопалимая купина, стоит невредимый в центре огненного цикла.
Сквозь густые клубы дыма смутно проглядывают силуэты бегущих людей. Это солдаты. Они бегут куда–то в темноту, завесившую ряды гранатовых деревьев. Сотни солдат. Тишина взрывается голодным свистом летящих снарядов.
Слова, поглотив солнце, становятся золотом…
Кто–то касается его плеча. Обернувшись, он видит женщину в муслиновом платье — Ругия–ханум или мадам Стамбулиа? Двуликая звезда его сновидческих лабиринтов. Он пытается что–то сказать, но она прикладывает палец к губам:
— Тс–с–с! Прислушайся!
И Идрис Халил просыпается.
С начала июля это происходит почти каждую ночь. Всегда в одно и то же время: между половиной второго и тремя. Он открывает воспаленные глаза, и луна цвета слоновой кости, смотрящая прямо на него сквозь москитные сетки, натянутые на окна, мгновенно обжигает его своим горячечным светом (на сетках висят ящерицы, изогнувшись полумесяцем, они словно парят в воздухе).
Постепенно за монотонным звоном комаров и ленивым поскрипыванием старой мебели начинает явственно проступать характерный шорох крадущихся шагов. Где–то там, прямо над головой, на втором этаже огромного дома. Наступает тишина, он облизывает сухие губы. Идрис Халил все еще надеется, что звук этот больше не повторится, и что это только плод его воображения или просто продолжение сна, но после короткой напряженной паузы на фоне пульсирующей в висках крови кто–то опять начинает ходить по мертвому дому…
Шаги тихие, медленные, легкие, с длинными интервалами, но, несмотря на это, чуткое эхо пустующих комнат, которое не в силах погасить даже толстые стены, разносит их по всему дому.
Иногда они слышны на лестнице. Кто–то, едва слышно шаркая по каменным ступеням, торопливо поднимается наверх. Постепенно сбавляя темп, шаги переходят в коридор второго этажа и семенят по дубовому паркету, почти совершенно незатронутому ни пожаром, ни сыростью. Минуты через две–три они замирают где–то посередине — щелкает пружина дверной ручки — следует протяжный скрип открывающейся двери, ведущей, очевидно, в одну из комнат, после чего ненадолго наступает тишина.
Несколько раз, пожалуй, раза три или четыре, Идрису–мореходу казалось, что слышны шаги сразу двух человек. Шаги очень похожие, почти идентичные, словно они принадлежат двум одинаковым по комплекции людям, которые крадутся, явно стараясь попасть в такт движений друг друга, чтобы не создавать лишнего шума.
Хождение заканчивается лишь перед самым рассветом, сразу после того, как сытые ящерицы, соскользнув с москитных сеток, исчезают в трещинах каменной облицовки, а быстро светлеющее небо приобретает тот непередаваемый густой молочно–синий цвет раннего утра, который может быть только в этой части света.
Шаги исчезают где–то в глубине дома.
2 июля 1919 зеркального года. Балагусейн спросонья трет глаза и пытается понять, о чем его спрашивают.
— Ага–начальник…
— Слышал или нет?!
— Что слышал, ага–начальник?…
На денщике застиранные подштанники, пузырящиеся на коленях.
— Быстро одевайся! Ты мне нужен…
Хлопнув дверью, Идрис Халил выходит из каморки Балагусейна, затопленной рассветными сумерками.
Все утро они тщательно осматривают второй этаж, одну за другой открывая комнаты, кроме тех, где двери заколочены перекрещенными досками, и хотя ничего обнаружить не удается, по крайней мере, ничего определенного, Идрис–мореход теперь точно знает: в доме кто–то есть. Кто–то посторонний, кто–то невидимый, кто–то — мертвый или живой, — кто умеет искусно заметать свои следы. Он понимает это, как только с характерным скрипом открывается высокая дверь в большую гостиную, откуда начался пожар…
В куске оплавленного зеркала на закопченной стене, вспыхнув, тотчас гаснет отражение–призрак: образ гостиной почти двухлетней давности, где на дорогих коврах, устилающих пол, стояли изящные оттоманки с разбросанными по ним бархатными подушками–муттаккя, а в арочных нишах были выставлены персидские кальяны и фарфоровые вазоны.
— Ага–начальник, и здесь никого…
Балагусейн проходит в глубину залы. К обгорелым останкам буфета, инкрустированного перламутром:
— Никого!
Никого. Но безошибочным чутьем поэта и морехода Идрис Халил чувствует то, что остается недоступным пониманию скуластого денщика, что–то неуловимое, разлитое в самом прогорклом воздухе комнаты.
Знаки присутствия. Знаки, скрытые за неприметными образами вещей, по которым можно определить, что ночные визитеры не только были здесь, но, возможно, все еще здесь, или же прячутся где–то совсем рядом. И чем больше среди копоти и мусора Идрис Халил находит эти тайные знаки, тем сильнее его захлестывает тревожное чувство, будто кто–то сквозь щели в обнажившемся скелете стенной дранки или из зияющих дыр на потолке, через которые на паркет узкими конусами подвижной пыли проливается солнце, напряженно следит за каждым его шагом, и этот неуловимый кто–то, хитрый, быстрый и таинственный, полон ненависти и нескрываемой угрозы.
Искаженное страхом лицо Идриса Халила отражается в лохмотьях амальгамы за оплавленным стеклом зеркала. Он кивает самому себе.
Остров неумолимо движется вслед за солнцем. Пожелтевшие календарные листы падают в темноту.
Доктор Велибеков прикладывает ухо к стетоскопу и озабоченно прислушивается к свистящим хрипам в груди. Перед ним за белой ширмой, втянув в себя живот, стоит обнаженный по пояс Идрис Халил. Каждый раз, когда прохладный металл касается его горячечной кожи, он невольно морщится и вздрагивает, чувствуя, как волна болезненного озноба стремительно опускается от выпирающих ребер к самому низу живота.
— А это давно у тебя? — спрашивает доктор, ткнув пальцем в россыпь крошечных пунцовых точек на левой стороне груди. Идрис Халил пожимает плечами.
Несмотря на тень от растущих под окнами тополей, в приемном покое душно. Как знак утомительного безветрия, неподвижно висит занавесь. Пахнет мятными каплями. Пахнет карболкой. Велибеков в белом халате, зашнурованном на спине, перемещает железную трубку справа налево, цокает языком и все больше хмурится.
— Ну, что там?
Велибеков выпрямляется.
— Я еще не закончил!
За прошедшие месяцы он заметно поправился, и теперь поверх кожаного ремешка, подпоясывающего халат, широкой складкой выступает брюшко. Лицо приобрело благообразную округлость, а остренькая бородка, появившаяся в последнее время, добавила ему располагающего шарма.
…«Доктор должен быть полным и цветущим — так он вызывает к себе больше доверия своих пациентов».
Отложив, наконец, стетоскоп в сторону, Велибеков начинает методично простукивать твердыми пальцами дедушкину грудь.
— Ты плохо спишь?
Лицо Идриса Халила грубо искажено явственной тенью бессонницы. Он кивает.
— Последние недели…
Доктор снимает очки с кончика носа. Шумно вздыхает и выходит из–за ширмы:
— Можешь одеваться…
Перекинув полотенце через плечо, Велибеков подходит к чугунному рукомойнику в углу. Неровная струйка воды, теплой и солоноватой, шумно стекает в эмалированный таз.
Надевая рубашку, Идрис Халил прикрыл на мгновенье воспаленные бессонницей глаза, и тотчас на фоне иссиня–черного неба, рельефно проступая сквозь легкую дымку лихорадки, поплыли изогнутые подковами силуэты голодных ящериц, и слепящая лунная дорожка поползла по полу неровным конусом, прорезанным вдоль угловатыми тенями от мебели.
Опять шаги! Над головой скрипят половицы! Кто–то продвигается в глубину дома. Но Идрису Халилу хочется спать. Усталость сильнее страха, тем более, что таинственные ночные визитеры стали уже почти такими же привычными, как упрямое неверие в бесхитростных глазах Балагусейна. Идрис–мореход пытается забыться, не слышать шагов, не думать о них, и на какое–то мгновенье это почти удается ему, однако, как только блаженный покой начинает нисходить на него и изнуряющее напряжение оставляет его грудь, измученную и больную, из пестрой мешанины цветных пятен перед глазами вновь возникает предостерегающий образ двуликой женщины в муслиновом платье…
Где–то наверху медленно и ровно открывается дверь. Потом наступает резкая тишина, густо насыщенная монотонным комариным звоном и шепчущим шелестом едва обозначенного ночного бриза — всего несколько секунд, семь ударов сердца — но Идрис Халил успевает задремать и вновь проснуться, разбуженный шумом шагов уже в коридоре, а затем и на ступенях лестницы. Неизвестный спускается вниз. Крадущиеся шаги становится все ближе и отчетливее, и вот уже они звучат в широком холле первого этажа — кто–то идет, ступая легкими ногами по скрипящим половицам. Идрис Халил весь сжимается, горячий пот выступает у него на лице, стекает по шее, оставляя за собой липкие и прохладные полосы.
Неизвестный останавливается у самой двери. Следует еще одна долгая пауза в бешеном ритме сердцебиения. Абстрактное время страха. Кто–то там за дверью стоит, почти не скрывая своего присутствия, и жадными ноздрями вдыхает запах дедушкиного отчаяния и усталости, которым насквозь пропитаны влажные от пота простыни и подушка, под которой лежит заряженный наган.
Идрис Халил открывает глаза и оказывается за белой ширмой в приемном покое больницы.
— … тебе, дорогой мой друг, требуется хороший отдых и лечение. Думаю, следует съездить в Баку, повидаться с родственниками, побыть дома…
— Что, очень плохо?…
— Дело серьезное…
Идрис Халил застегивает пуговицы рубашки и заправляет ее в галифе. Чиркает спичка, по комнате расползается табачный дым. На столе перед доктором — бронзовая пепельница в форме морской раковины и химический карандаш. Запах табака и мятных капель рождает странный симбиоз — скорее, странный, чем неприятный.
Идрис–мореход выходит из–за ширмы. Меланхолично покачивается белая занавесь. За окном солнце вызолотило железную ограду, и верхушки чахлых кипарисов, и всю пыльную мостовую, оставив лишь узкие клинья теплой тени вдоль стен домов на противоположной стороне улицы.
— Затронуто правое легкое. — говорит Велибеков по–русски. — Если не уедешь — умрешь!
…На самом излете ночи, когда до царственного восхода остается совсем немного, таинственный визитер продолжает стоять под самой дверью, и тишина, нарушаемая лишь гулким биением сердца, кажется такой плотной, такой долгой и тяжелой, что, захлебываясь ее горечью, Идрис Халил начинает мучительно кашлять. И тотчас тускло поблескивающая ручка английского замка медленно поворачивается по часовой стрелке, почти до упора, и Идрис–мореход, обожженный легочной болью, тянется за пистолетом под подушкой.
Сказано:
«Уходи же отсюда! Ведь ты — побиваемый камнями!»
Ручка двери, щелкнув, возвращается в прежнее положение, резко скрипит половица — ночной визитер, кто бы он ни был — живой или мертвый, быстро уходит прочь по темному коридору.
Обессиленный Идрис–мореход откидывается на подушку.
4
Жарко.
Из Тифлиса поездом приезжает профессор Разумовский, которому суждено стать первым ректором первого университета первой Республики.
Его встречают на Сабунчинском вокзале, играет оркестр. Невольно оглядываясь на объектив стрекочущей камеры, чиновники из Министерства образования по очереди жмут ему руку. Профессор улыбается, поправляет на носу круглые очки в металлической оправе, что–то беззвучно говорит, и в этот момент хроника обрывается, а призраки старого вокзала, исчезнувшего еще в 1928 году, и всех этих людей, давно уже покойных и позабытых, становятся достоянием темноты, которая только одна и есть вечность.
…На высоких окнах–бойницах тюрьмы острова Пираллахы висят арестанты. Вцепившись руками в ржавые решетки, они висят почти неподвижно, порой, по несколько часов кряду. Лишь когда надзиратели разносят питьевую воду, окна стремительно пустеют, а в самих камерах начинается вялая толкотня, иногда переходящая в настоящую потасовку за право первому напиться теплой солоноватой воды.
С июля по август в тюрьме умерли трое. С тяжелой дизентерией слег и арестант № 1/24–19, которого так и не успели переправить в Баку.
Обезвоженное тело героя русско–японской войны — и без того маленькое и легкое — за три долгих дня высохло так, что сквозь прозрачную стариковскую кожу отчетливо проступали нитевидные переплетения сосудов. Три долгих дня полковник неподвижно лежал на спине на запачканных простынях, уставившись отрешенным взглядом в потолок. В камере было много мух, стояло удушающее зловоние, и доктор, навещавший его, был вынужден затыкать ноздри платком, пропитанным мятными каплями. Учитывая состояние больного, Велибеков подал прошение о переводе бывшего коменданта в больницу. Прошение удовлетворили, и 16 августа все тот же безымянный надзиратель вынес на руках арестанта № 1/24–19, уложил его на заднее сидение фаэтона и, в сопровождении двух солдат, отправил в поселковую больницу.
Пустая палата, что–то вроде бокса. Темно и прохладно. В воздухе витает неистребимый запах карболки. Идрис–мореход наклоняется к койке, откидывает марлевый полог, зацепленный за крючок на потолке, и вглядывается в почерневшее лицо Мир Махмуда Юсифзаде.
— Полковник, ты меня слышишь?…
Молчание. Заключенный № 1/24–19 не отвечает. Остатки его старческих сил утекли прочь вместе с дизентерийными нечистотами.
Идрис Халил наклоняется еще ниже, к самому уху полковника:
— Полковник?
И снова ответом молчание. Солнце в самом зените. Невидимый хронометр отмеряет путь до линии горизонта. На ветру полощутся паруса. Смуглые моряки натягивают канаты. Стоя на коленях среди полосатых тюков с тканями, он молится, обратив встревоженное лицо на Восток, молится за благополучное возвращение из этого смертельно опасного плавания к крайнему пределу земли…
За стеной шаркающие шаги санитара. Хлопает дверь.
Так и не дождавшись ответа, Идрис–мореход выходит из палаты. В затхлом воздухе длинного коридора, как это обычно случается в вещих снах, прямо перед ним парят бинты, простыни и марлевые повязки, некоторые из них пропитаны алой кровью. Они парят, извиваясь, словно змеи, и вдруг, стремительно рванувшись куда–то под потолок, обращаются в стаю красно–белых птиц. Что означают эти птицы? Пожалуй, что ничего.
На улице его ждет пролетка с Балагусейном на козлах.
— Кровь во сне — это к болезни! Сохрани Аллах! — говорит крошечная Зибейда–ханум, протирая костяшками пальцев припухшие от слез глаза.
— Раздай милостыню.
— Так и сделаю! Сердце сжимается, может, что с Идрисом неладное?
— Брось накликивать, Аллах сохранит его!
— Про плохое не вспомнишь, добра не увидишь!
Лейла–ханум не отвечает, но, откинув край тонкого льняного одеяла, садится на постели.
— Как он теперь? — спрашивает Мамед Рафи, отпивая чай из глубокого блюдца. Его красная от напряжения лысина усыпана крупными каплями пота.
— Все так же, ага! По ночам — не спит, а утром глаза красные и кашляет. Вчера видел на подушке кровь, ага…
Забросив в рот кусок сахара, Мамед Рафи делает еще один глоток.
— А ты сам–то точно ничего не слышишь?
Балагусейн качает головой:
— Совсем ничего, ага! Тихо кругом, ни единого звука! Да и кто там может быть! Я же сам забил все двери досками! Каждый день проверяю! По ночам тоже…
— Врешь, наверное! — глаза бывшего старшего надзирателя сужаются в узкие щелочки
— Ты же меня знаешь, ага, как можно? Клянусь могилой Имама Хусейна! Клянусь могилой отца!..
Мамед Рафи задумчиво опускает голову, отчего выпирают складками все три его подбородка.
— А доктор ходит к нему?
— Ходит. Трубкой грудь слушает.
«…а по звезде они находят дорогу».
Сказано, по звезде (или по звездам), а никак не по обманчивому свету керосиновых ламп. Но, как только яростное солнце проваливается в непостижимую бездну за горизонтом, жители острова–левиафана, с упрямством обреченных, собираются вокруг своих чудесных коптящих светильников и загадывают будущее.
— Не думайте, что кто–то заступится за вас, когда придет время! Все мы рождаемся в этот мир одинокими, как восьмиугольная могила в Кербале! Взгляните в зеркало, кого вы там увидите, кроме самих себя и Инкира — Минкира, ведущих счет вашим делам! — говорит Гаджи Сефтар, обращаясь к своему отражению в маленьком круглом зеркале на голой стене. Глаза его, безумные, но кристально чистые, без характерной мути, будто испуганные мотыльки, трепещут в призрачном зазеркальном мире. Он разводит руки в стороны, и широкие рукава абаза свисают, как крылья.
С конца августа болезнь почтенного ахунда стала обнаруживать себя все более явно и отчетливо. Он уходил из дома очень рано, сразу после первого азана, и бродил до темноты по всему острову, шепча под нос свои жуткие пророчества, в которых галопом мчались красные всадники, и розовые планеты, наливаясь таинственной силой, срывались со своих орбит, чтобы упасть в кипящее море, а неведомые народы приступом брали врата небесные. Словно паутиной, весь опутанный этими видениями, он забывал о пище, перестал узнавать людей и порой забредал так далеко, что в сгущающихся сумерках его приходилось искать часами.
Несколько стариков неотступно ходили за ним следом.
В конце концов, многочисленная родня ахунда, напуганная его состоянием, решила запереть его дома. И вот уже с неделю почтенный Гаджи Сефтар, умеющий оживлять мертвых ящериц, сидит один в большой прохладной комнате, на двухстворчатых дверях которой висит амбарный замок. Как это ни странно, но заключение свое он переносит спокойно, почти стоически, без жалоб. Его, словно ребенка, одевают, кормят и несколько раз в день выводят во двор по нужде.
В мечети Гаджи Сефтара заменяет молодой Кярбалаи Мирза–ага, про которого знающие люди говорят, что в шариате он разбирается довольно хорошо и толкует Книгу ничуть не хуже своего предшественника.
В комнате, устланной пыльными паласами, Гаджи Сефтар стоит перед зеркалом на стене. Он взмахивает руками и вдруг, плавно оторвавшись от пола, начинает подниматься вверх, очень медленно, к самому потолку; кожаные тапочки с загнутыми носами соскальзывают с его босых ног на пол, вначале один, потом другой, и легкий звук их падения вносит едва заметный диссонанс в стройную гармонию чудесного парения. Когда, наконец, увенчанная вышитым тесаттуром лысая макушка ахунда упирается в потолок, на лице его высвечивается радостная улыбка.
Стараниями работящего Балагусейна в саду прижились первые деревца. Само появление их среди этих горьких песков, цепко хранящих воспоминания о яростной силе огня — подобно чуду. Пока это еще только нежные саженцы, аккуратно привязанные к колышкам — тоненькие, с черными узелками, едва живые, несмотря на заботливо разрыхленную вокруг них влажную землю, щедро удобренную куриным пометом. Они стоят в несколько рядов, почти точно повторяя волнующую симметрию сгоревших аллей.
Но в эти последние погожие дни лета не только стройные саженцы радуют глаз — круглый бассейн, отмытый от копоти и очищенный от мусора, заполнен водой почти до самых краев. Незамутненная вода, пронизанная мягким светом, причудливо хранит в себе отражение летящего неба с белыми закорючками неподвижных облаков и каменного дна, где из железных ящиков, засаженных корнями кувшинок, вверх тянутся скользкие бурые стебли, свернутые на концах трубочками. Им понадобилось всего двенадцать дней, чтобы дотянуться до самого верха, и тогда верхушки их развернулись круглыми листьями, окаймленными мутными пузырьками.
2 сентября над Пираллахы разразился шторм. Капризные и шумные ветра, не приносящие ни облегчения от духоты, ни покоя, дули почти целую неделю, взбивали в бурую пену маслянистые воды вкруг острова и завешивали пылью выжженные солнцем дороги. С севера на юг, с востока на запад — вслед за обезумевшим столбиком ртути в барометре, стоящем на подоконнике в приемной доктора Велибекова.
В один из этих дней, когда точно — не известно, скончался полковник. Его крошечное тело, вконец истощенное дизентерией, схоронили на местном кладбище, а Кярбалаи Мирза–ага в присутствии всего нескольких человек (среди которых был и Идрис Халил) прочитал над ним «ясин».
«…и у кого тяжелы будут его весы — те счастливые».
Вытянув перед собой короткие руки ладонями кверху, молодой ахунд читал по памяти, скороговоркой. Яростный ветер рвал слова с его губ, по земле летели ошметки жухлой травы и мусор, над сосенкой у каменной ограды висела рыхлая воронка пыли, а душа Мир Махмуда Юсифзаде, облегченная заупокойной молитвой, переходила по волосяному мосту навстречу сияющей темноте, которая, как сказано, и есть вечность…
Стоя у могилы полковника, Идрис Халил думает о саде.
Солнце сентября — не такое яростное и колючее, как солнце июля, все еще стоит довольно высоко, но лето кончилось. Ветреные дни чередуются с долгими штилями. На базарной площади в ряд стоят плетеные корзины с белым виноградом, овощами, гранатами и золотистыми местными смоквами, прикрытыми сверху свежими листьями. В садах собирают маслины.
Часы, дни, недели: время, текучее, однообразное, отмеряется быстрыми дождями и бирюзовыми пятнами отмелей в покойные дни. Один за другим осыпаются желтеющие календарные листы, и скорая осень 1919 года неумолимо опускается с небес на дрейфующий остров.
Стынет воздух, бесконечные пески вокруг поселка теряют свое ослепительное кварцевое сияние, а в долгие, по–особому грустные сумерки с моря начинает наползать призрачный туман.
Сырость.
Идрис–мореход мучается кашлем. Схватив чашку, стоящую в изголовье на тумбочке, расплескивая воду, он делает несколько жадных глотков. За окном, в темном саду — дождь. Капли барабанят в подоконник, в комнате явственно пахнет мокрой землей. Идрис Халил встает, закрывает ставни и, завернувшись в одеяло, усаживается в глубокое кресло.
С каждым днем все сильнее болит грудь, сжимаемая невидимыми тисками. Но легкая, будто перо, душа морехода в его глазах, а не в груди! Подняв разгоряченное лицо, Идрис Халил взглядом ощупывает темноту.
В назойливом стуке капель — перестук паровозных колес.
Порошки бессильны помочь.
Доктор пожимает плечами:
— Болезнь быстро прогрессирует. Я же говорил тебе — надо ехать в Баку…
Велибеков сидит, откинувшись на высокую спинку стула. Помешивает ложечкой чай в граненом стакане. Бронзовая стрелка ртутного барометра застряла на «пасмурно». Стоит серый неподвижный вечер, с длинными тенями, перерезающими безлюдный переулок сразу в нескольких местах. Тикают часы.
С необъяснимым внутренним раздражением Идрис Халил смотрит в располневшее лицо Велибекова: щеки заметно раздались вширь, округлились и порозовели. Это все от жирной осенней рыбы. А еще от дичи. С недавних пор, едва ли ни каждый день, доктор отправляется с ружьем на северную косу, где в камыши прибывают все новые и новые стаи уток и кашкалдаков. Он завел себе высокие кожаные сапоги и сумку на ремне для подстреленной дичи.
Этой осенью на острове много перелетных птиц.
Забвение. Оно пожирает бедного доктора изнутри. Охота да обильная еда, да еще подшивка старых журналов, среди которых несколько выпусков русского «Сатирикона» — помогают ему не помнить о том, что эпидемия неизвестной болезни еще не закончилась, что его стремительно начатая карьера, по всем признакам, безнадежно застопорилась, и он теперь надолго застрял в этом зловещем захолустье, что молчаливая вдова, с которой он живет уже больше года браком сийга, кажется, беременна, а в доме Калантаровых продолжается траур, срок которого выйдет лишь в конце марта.
— Ты, случайно, не знаешь, где можно достать приличную собаку?
— Собаку?!
— Охотничью собаку! — оживляется Велибеков. — За любые деньги купил бы! Я уже и дяде писал, в Баку…
— И что он?
— Ничего. Даже не ответил…
5
И снова в дорогу.
Если календарь сновидений не врет (а такое иногда случается), Идрис–мореход покинул остров 5 октября. Рано утром фаэтон отвез его к причалу, где под парами уже стоял один из сторожевых катеров.
Дальний план: над почерневшим настилом маленькой пристани — огромное серое небо с редкими разрывами в сплошной пелене неподвижных туч. Из пароходной трубы валит дым. Четверо мужчин молча курят, стоя лицом к морю. Короткая пауза заканчивается, когда один из них бросает папиросу себе под ноги и, пожав руки трем остальным, начинает быстро подниматься по перекинутым сходням на палубу катера.
И снова гудок разрывает вязкую тишину, возвещая отплытие. И снова гребные винты с шипением вспенивают воду, и сердце Идриса–морехода невольно сжимается — то ли от восторга, то ли от страха.
Провожая взглядом отчаливающее судно, Велибеков говорит:
— Он уже не вернется!
Мамед Рафи тихо:
— Почему вы так говорите, доктор–бей?
— Сырость убьет его меньше, чем за полгода, вот почему! — раздраженно отвечает Велибеков и достает из кармана часы. — Пойдемте, что ли?
Майор Калантаров кивает.
Они молча направляются к пролетке. По дороге, поравнявшись со зданием таможенной конторы, Мамед Рафи оборачивается и смотрит долгим прощальным взглядом на катер, который, окутанный черным дымом, быстро уходит в сторону горизонта. За кормой, над белой бороздой пены с криками кружатся чайки. Они отрывисто хохочут, предвещая неизбежную беду.
Катер увез Идриса–морехода в Баку, а Пираллахы, открытый всем ветрам, надолго погрузился в тяжелые осенние туманы, в которых грозные призраки, согласно предположениям безумного ахунда, возвещали конец времен.
У серых камней застыли свинцовые воды октября.
В Книге сказано: «Наступление часа — как мгновение ока или еще ближе».
Наступление часа — лишь поэтическая мистерия. А Мореход продолжает двигаться к крайнему пределу подлунного мира, к той едва различимой грани между небом и морем, где меркнут краски и стоит неподвижная темнота — зыбкая, страшная, почти прозрачная — темнота, в которой теснятся первичные архетипы. Вот быстрый катер под трепещущим триколором на флагштоке приближается вплотную к самой линии горизонта — на палубе, подняв воротник кителя, стоит Идрис–мореход, — а в следующее мгновенье он бесследно исчезает вместе со своим чемоданом, наганом, папахой, больной грудью и пожелтевшей от переездов и времени рукописью недописанной поэмы. Темнота поглотила море и небо. Темнота, повиснув, как долгая пауза, скрыла от меня большую часть этого сна–путешествия. Я закрываю глаза и, изо всех сил напрягая зрение, вглядываюсь в ровную, будто бы летящую пустоту, но все, что мне удается увидеть сквозь нее — это несколько бессвязных образов–эпизодов, разрозненных и невнятных…
За стеной, завешанной толстым ковром — заливается плачем сын Мамеда Исрафила. Плачет, плачет, тихий женский голос пытается успокоить его:
— Ш–ш–ш! Душа моя! Спи!
Но разбуженный ребенок никак не хочет униматься. Поскрипывает деревянная колыбелька.
— Спи, мой ягненочек!..
Прикрыв рот сухой ладонью, Идрис Халил встает с постели и идет к подоконнику, где на подносе среди выставленных рядами бумажных кулечков с порошками стоит высокая склянка. Схватив ее, он торопливо, захлебываясь горечью, делает большой глоток. Струйка коричневатой жидкости неряшливо протекает по его подбородку (несмотря на болезнь, лицо его по–прежнему гладко выбрито, а щеточки усов топорщатся все так же молодцевато).
— …Спи, как в розовом саду,
Я на страже постою…
Через мгновенье боль в груди слабеет. Подождав еще с минуту, Идрис–мореход прикручивает фитиль керосиновой лампы, прикрытой зеленым абажуром, и возвращается в кровать. Скрип качающейся колыбельки становится тише.
Окна на восток завешаны темнотой — сияющей, словно отполированная поверхность лунного камня.
Стараясь не шуметь, он ложится, но, как только голова его касается подушки, легкие вдруг сотрясаются новым приступом кашля. За стеной, перебивая материнскую колыбельную, еще громче начинает плакать ребенок. Идрис Халил прячет голову под подушку.
Невидимый хронометр методично накручивает время: первое октября, пятое, одиннадцатое, двадцать девятое. И в каждом обороте стрелок — бесконечные волны озноба и боль.
Лицо Зибейды–ханум, выглянув из темноты, вновь растворяется в ней без остатка:
— Ешь, ешь, сынок! Тебе надо хорошо кушать…
Кровь во сне — к болезни.
Просторная кухня. С самого утра моросящий дождь. В плетеной корзине лежит что–то, завернутое в промокшую от крови газету. Мясо? Мамед Исрафил достает сверток и бросает его на кухонный стол, разворачивает — действительно, мясо, странного, почти черного цвета с мелкими костями. Газета бесшумно рвется, липнет к пальцам. Мамед Исрафил двумя руками сгребает со стола теплые сочащиеся куски и перекладывает их в железную миску, которую подносит ему Зибейда–ханум. Миска переходит из рук в руки, оказывается в раковине, под струей воды. На лице Зибейды–ханум нескрываемое отвращение, кровь утекает вместе с водой…
Я знаю что это. Ежовое мясо. Первое лекарство при чахотке.
— Грех ведь, наверное!.. Надо бы ахунда спросить!.. Хоть по правилам резали?
— У цыган купил. — Усталый голос Мамеда Исрафила из глубины кухни. Самого его не видно.
— Аллах простит нам этот грех, сынок!.. — всхлипывает Зибейда–ханум.
«Это — сад, который дадим Мы в наследие…»
11 ноября на перекидном календаре — на фоне немецкой линогравюры, изображающей Бакинскую набережную со стороны губернаторских купален. Цифра «11» набрана жирным петитом.
За белоснежной ширмой прячется кушетка, обтянутая темной кожей, и узкий книжный шкап. Идрис Халил проходит за ширму, садится и начинает медленно раздеваться. Вначале жилет, затем рубашка, снизу вязаная нательная фуфайка из верблюжьей шерсти — стягивая ее через голову, он вдруг замечает стоящий на шкапу патефон.
Раструб, будто раковина гигантской морской улитки.
Зибейда–ханум растирает зелень в сухоньких ладошках и высыпает ее в фарфоровую миску.
Сулейман — самый младший в семье, несостоявшийся завоеватель вселенной, волосы цвета спелой пшеницы вьются по плечам — тянет ручки к Идрису Халилу, но тот качает головой и отворачивается.
Идрис–мореход и огненные циклы.
Огонь полыхает в большой кирпичной печи, на внутренних стенках которой налеплены длинные хлебцы. Огонь гудит ровно, размеренно, будто дышит. Идрис Халил сидит в уголке на табурете и, глубоко вдыхая пряный хлебный дух, не отрываясь, смотрит на языки пламени. Вокруг, в длиннополых белых фартуках, суетятся пекари. Работают быстро, на манер конвейера. Готовые хлебцы достают деревянными лопатами и раскладывают на полках вдоль стены, на их место в печь тотчас закладывают новые. В воздухе витает мучная пыль.
Завороженный магическим мерцанием желто–синих язычков пламени над железной горелкой, Идрис Халил закрывает глаза, но и в пестрой темноте за опущенными веками продолжается огненная мистерия.
Горящее кольцо, как на цирковых афишах с прыгающим сквозь него львом. Только кольцо не висит в воздухе, а лежит на невидимой земле — это и есть огненный цикл.
Раскатывая тесто, они учили меня искать дорогу по звездам…
Он подходит к кольцу, почти не чувствуя ни страха, ни волнения, а лишь только свое блаженное одиночество — одиночество морехода на самой окраине мира. Только огонь может одолеть то, что не видно глазу. И вот он лежит перед ним, бегущий по кругу — знак летящей бесконечности — притягивает, будто магнитом, манит, — в нем суть всех горящих садов, сквозь которые неопаленной прошла душа Идриса Халила. Осталось сделать только последний шаг! Стиснув зубы, он вступает в середину круга, и в тоже мгновенье тлеющий огонь вдруг оживает, поднимается сплошной стеной, и, окруженный им со всех сторон, Идрис Халил вспыхивает, будто облитый керосином. Корчась в волнах безумной боли, для которой не существует ни слов, ни сравнений, он кричит, что есть сил, кричит, не видя того, что его пылающие руки обращаются в крылья, и тут внезапно боль исчезает и наступает удивительная легкость…
Случайное сновидение у хлебной печи, чтобы осуществилась предначертанная судьба…
Идрис Халил упал с табурета и, если бы не мешки с мукой, наверняка, разбил бы себе голову.
Над плоскими крышами старого города полыхают стремительные молнии. Они разрывают черное полотнище неба, и в ослепительном люминесцентном свете отражения стоящих на рейде торговых судов проскальзывают по темному зеркалу моря.
— Он принимал только то, что я прописывал? — спрашивает незнакомый мне доктор. Исчезает.
Старый цирюльник намыливает ему щеки, кряхтит. От него приторно пахнет розовой водой и луком.
— Похудел ты, Идрис–бей! Одно лицо осталось…
— Грудью болел…
— Слышал я об этом, говорили, плох ты совсем!
За грязным окошком, едва возвышающимся над мостовой, вниз по улице стекают пенные ручьи, и шелест дождя сливается со скребущим звуком бритвы.
— Как видишь!
— Все от Аллаха!
Из–за лоскутной занавеси, висящей над входом в подсобную комнату, появляется мальчик лет двенадцати, бритый наголо. В руках у него маленький поднос с двумя стаканчиками чая и свежее полотенце, перекинутое через плечо.
Брадобрей, в который уже раз, рассказывает о Мешхеде.
И вновь над Идрисом Халилом смыкается темнота. Смыкается, будто разверстые воды над крошечной цирюльней и брадобреем, над его младшим сыном с подносом в руках, и очень долгое время я не вижу ничего, кроме этой темноты, где–то в глубинах которой едва различимо слышен то ли дождь, то ли бумажный трепет летящих календарных листов.
А вот и завершение этого сумбурного сна: целая шеренга сахарных голов, одна, две, три, в ярких бумажных обертках, каждая перевязана красной лентой. Они стоят на комоде. Рядом — серебряная сахарница с белыми конфетами ногул. Большая комната, устланная коврами, маленькие столики. Лицо Идриса Халила, рядом — улыбающееся — Мамеда Исрафила, потом еще каких–то людей, которых я не знаю. Появляется расшитое золотой нитью красное покрывало и белое полотнище: не то саван, не то простыня. С улицы слышны беспорядочные ружейные выстрелы, крики — пожалуй, что радостные, и где–то над всем этим — музыка. Все.
6
Катер выныривает из–за горизонта и на всех парах мчится назад, к затянутому туманами острову Пираллахы.
Все тот же сторожевой катер, все те же жадные чайки за кормой, свинцово–серое море, почти слившееся с небесами, и поначалу даже может показаться, что отплытие и возвращение — это один и тот же эпизод через короткую паузу, в котором изменился лишь вектор движения. На самом деле между отплытием и возвращением — три долгих месяца, долгих или, наверное, почти бесконечных для Идриса Халила, застрявшего где–то на половине дороги между жизнью и смертью.
Идрис–мореход возвращается на Пираллахы не один. Когда катер причаливает к деревянной пристани и рыжий Балагусейн торопливо поднимается по сходням, чтобы принять дедушкин багаж — два огромных чемодана и несколько тюков с одеждой и постельным бельем — на подмостках впервые появляется моя бабушка. Не та, которая могла, но так и не стала ею — Ругия–ханум, а моя действительная бабушка.
На фотографии ничего необычного: белокожая молодая женщина с правильными чертами лица, с несколько тонкими губами, в строгом европейском платье, застегнутом под самое горло, на манер тех подчеркнуто пуританских униформ, что носили курсистки из мусульманской гимназии Тагиева. Волнистые волосы собраны на затылке в клубок. Судя по фотографии, ей чуть больше двадцати, и, как дочь Пророка, ее зовут Фатима.
Она стала женой Идриса Халила пожалуй что в самом конце декабря 1919 года. Ее отец и дядя со стороны матери были давними друзьями и партнерами Мамеда Исрафила по кондитерской торговле, имели свои бакалеи, мастерские по починке фаэтонов и еще что–то. Жили они ниже базара Угольщиков.
Я не застал Фатимы–ханум. Мы разминулись с ней буквально на месяц. Она умерла в январе 1965 года, я родился в феврале — в чернильный дождь. Говорят, что в последние недели перед смертью любимым ее занятием было гладить раздувшийся живот моей матери и тихо разговаривать со мной, пребывающим тогда еще в теплом водяном безмолвии чрева.
Я почти уверен, что это именно она нашептала мне мои первые сновидения.
А в тот день, 6 января 1920 года, Фатима–ханум стояла на покачивающейся палубе сторожевого катера рядом со своим мужем, и волосы ее были убраны под шелковый келагаи. И море, простирающееся вокруг, было неподвижно в ожидании дождя, и далеко на горизонте в закрученных спиралью тучах уже скользили молнии, и хохот чаек постепенно превратился в протяжный испуганный крик.
Три человека на пристани словно никуда и не уходили: доктор, майор Калантаров, Мамед Рафи в новенькой шинели. С небольшими отличиями повторяется черно–белая, почти немая сцена трехмесячной давности: после короткого приветствия мужчины молча курят на фоне темнеющего неба.
За таможней дежурят два фаэтона.
Когда Балагусейн трогает, первые капли ледяного дождя начинают барабанить по поднятому верху пролетки. Бабушка сидит, смущенно уставившись на кончики своих лаковых полуботинок.
Сквозь молочную дымку тумана, завесившую переулки, фаэтон едет на восток мимо изъеденных солью и мазутом печальных пустырей, мимо закрытых лавок, старой мечети, вонзившей единственный минарет в ватное небо, жадно впитывающее вьющийся над крышами печной дым. Изредка разбухшую дорогу перерезает тусклый свет фонарей.
Собаки.
Они бегут за фаэтоном, бесстрашные и безумные от голода. Десяток крупных поджарых псов. Чувствуя их безмолвное присутствие, лошадь испуганно фыркает.
— Ну, шевелись же! Аллах тебе в помощь! — подгоняет ее Балагусейн.
Фатима–ханум ежится. Она устала и замерзла — промозглая сырость пробирает до самого сердца. Дедушка наклоняется к ней:
— Потерпи, джаным, скоро уже приедем!
— Темно здесь как–то…
Наконец, тяжело поскрипывая рессорами, фаэтон выкатывается на мощеную площадь.
— Ну, ну!
Справа — темная громада недостроенной мечети.
— Слава Аллаху! Кажется, добрались!
— С благополучным возвращением, ага–начальник! — кричит Балагусейн
Не выходя из фаэтона, бабушка испуганно глядит на заколоченные окна второго этажа, проступающие сквозь пелену неподвижного тумана.
— Я же тебе рассказывал, джаным, здесь был пожар! — улыбаясь, говорит Идрис Халил, взяв ее за руку. — Балагусейн, где ты там застрял, посвети!
…За окнами веранды прячется сад. Сад — заросший нежной изумрудной травой — чудо под трепетным небом священного острова.
Сад мой — счастье мое, как уберечь тебя?
Молодые деревца, облепленные клочьями липкого тумана, вздрагивают в порывах ветра…
Сказано:
«Даруй нам в ближней жизни добро и в последней добро и защити нас от наказания огня!»
Фатима–ханум была купеческой дочерью, унаследовавшей от своих родителей великий дар заставлять вещи выглядеть много лучше, чем они есть на самом деле.
Утром первого дня, сразу после того, как тюки и чемоданы были распакованы, а вещи разложены по бельевым шкафам и комодам, а от ночных страхов не осталось и следа, она обошла все комнаты первого этажа, заглянула в подвал, в заросшие плесенью чуланы, осмотрела кухню и ванную с позеленевшими бронзовыми кранами в форме львиных голов. Дел было много, но бабушка, человек невероятно энергичный, казалось, была этому только рада.
В помощь ей наняли трех женщин из поселка.
Начали со спален. Пока Балагусейн грел воду в чугунном чане во дворе, они подметали, мыли, скребли, стирали, прочищали, переставляли, проветривали, выставляли на солнце (редкое январское солнце, холодное и низкое), натирали воском паркет, выгребали мусор, снимали паутину, выбивали паласы и ковры и мыли окна — на одно только это пошло немыслимое количество ветоши и щелока. Потом наступил черед гостиной и коридора.
…Фатима–ханум на старой фотографии, Фатима–ханум в призрачной ткани моих сновидений — я вижу ее стоящей посередине большой пустой комнаты с навощеным паркетом. На окнах новые бархатные шторы, привезенные из Баку. Она отодвигает одну из них и смотрит в сад, уснувший под тонким слоем зернистой поземки. Мы разминулись на месяц, но, нашептывая мне, еще не рожденному, свои истории, она начала бесконечную цепь моих снов. И потому, отделенный громоздким небытием от нее и от этого дома, в одной из комнат которого она стоит, прильнув к окну, я странным образом могу чувствовать и переживать ее радость при виде первого снега и понимать тайный смысл ее яростного похода против запустения. Шаг за шагом отвоевывая жизненное пространство у сырого и темного хаоса полужилого особняка, бабушка неосознанно бросала вызов тому каждодневному изматывающему страху и, одновременно, бесшабашному забвению, в котором пребывали поселок и остров, и вся Первая Республика, доживающая свои последние дни…
Солнце, сверкнув, гаснет на платиновой крышке исчезнувших часов. Идрис Халил переворачивает страницу какой–то книги и, попыхивая папиросой, продолжает читать дальше.
Так история одной жизни становится историей вечности.
7
В этот последний день зимы 1920 года ждем наступления Часа.
Сгорбившись на низком табурете, Балагусейн начищает ваксой дедушкины сапоги. Зевает. Раннее утро. Его рыжая макушка, покачивающаяся в такт движениям щетки, да отсветы пламени, гудящего в печи — единственные цветные пятна в трепетном полусумраке, затопившем просторную кухню. За окном по темной воде круглого бассейна сиротливо мечутся листья кувшинок.
Напрягаемый ветром огромный дом полон скрипов и шорохов. Воют печные трубы. Балагусейн поднимает глаза к потолку, замирает. С деревянных перекрытий сыплется пыль. Неужто наверху и вправду кто–то там ходит!
— Сохрани нас Аллах! — вздыхает он и вновь принимается за работу. Взмах щеткой — жирная вакса расползается в глянцевую полоску на голенище сапога.
— Сохрани нас Аллах! — говорит Фатима–ханум, расчесывая волосы редким гребнем. Волосы — черные, почти как воронье крыло, волнистые, густые (позже, в других моих снах, они станут пепельно–серыми и тонкими). — Какой ветер! Опять повсюду будет пыль!
— Мы же на острове! — Идрис Халил проводит ладонью по лицу, прогоняя остатки сна, потом откидывает толстое шерстяное одеяло и разглядывает Фатиму–ханум в зеркале. На ней длинная ночная рубашка, отороченная вышивкой.
Что стало с Ругией–ханум? Не знаю. Она исчезла из дедушкиных снов, а значит, и из моих тоже.
Несмотря на базарный день, большинство лавок на площади сегодня закрыты. Пусто и в чайхане Мешади Худадата. Ветер.
— Осторожно здесь, отец, не оступись!
Гаджи Сефтара выводят из дверей дома и ведут по безлюдной улице в баню, которая находится тут же рядом, за углом.
С утра в бане Мешади Рагима никого нет: позже начнутся женские часы.
Навстречу плетется арба с большими корзинами угля. Издали заметив ахунда, угольщик, придерживая папаху против ветра, почтительно здоровается.
Вначале с него снимают очки (темные мотыльки сразу исчезают, и одухотворенный лик повелителя времени превращается в обычное, ничем не примечательное лицо стареющего мужчины), затем шерстяной абаз. Размотав длинный пояс–кушак, стаскивают с ног башмаки, потом шальвары, через голову стягивают рубаху — и почтенный Гаджи Сефтар остается в одних просторных подштанниках до колен. В течение всей процедуры раздевания он молчит, укрывшись за плотной пеленой разфокусированной мути, завесившей его беспомощные глаза.
В главном зале, в клубах горячего пара, насыщенного запахом хны и цветочного мыла, Гаджи Сефтара укладывают на каменную лежанку поверх расстеленной простыни, окатывают водой и начинают энергично тереть рукавицей его худые плечи и впалый живот.
Закрыв глаза, Гаджи Сефтар плывет по волнам благоухающего пара, улыбается. Он ждет приближение Часа.
Банщик выдавливает из полотняного мешочка, наполненного мыльной водой, пышную пену и равномерно распределяет ее по наголо обритому черепу ахунда: все начнется, когда из земли появится свет — яркий, ослепительный, но не обжигающий, и будет он такой силы, что, появившись в Хиджазе, окрасит кончики рыжих усов английских солдат, стоящих в Басре и Кербале, в цвет лилового шелка (в прежние времена Гаджи Сефтар непременно упомянул бы «верхушки верблюжьих горбов»)…
Когда после бани и двух стаканчиков крепкого чая с мятой на плечи ахунду, одетому во все свежее, повязали теплую шаль и повели домой (справа под руку его держит старший сын, слева — племянник жены) — на обочины уже ложился снег, а залитые водой берега острова покрывались искрящимися кристаллами синего льда.
В том самом кресле, где когда–то любил сидеть полковник, сейчас сидит Идрис Халил и в каком–то странном оцепенении наблюдает, как причудливая изморозь расползается по оконным стеклам.
Ветер стих. Стоит удивительная тишина. Снег валит густыми пушистыми хлопьями. Он падает и падает, засыпая переулки, крыши, дюны, моллахану, могилу обезглавленного, огромные цистерны «Товарищества», засыпает тюремный плац и базарную площадь. И с высоты третьих небес, где обычно парят люди–птицы, поселок выглядит, как хаотическое скопление аккуратных белых квадратов с проталинами вокруг дымящих печных труб.
Дети, выжившие после эпидемии, сидят на широких подоконниках и с восторгом следят, как в клубящейся метели постепенно исчезают привычные очертания улиц и соседних домов, в одном из которых доктор Велибеков ест пилав с сушеной рыбой, смягченной на пару. Ест с удовольствием, не отрываясь. Отправив в рот ложку пряного риса с мелкой чечевицей, он отщипывает от рыбы небольшой кусочек и, тщательно выбрав из него кости, жадно хватает его лоснящимися губами. У окна на венском стуле сидит вдова, вышивает. На пальце серебряный наперсток.
Стоя босыми ногами на старом коврике, Мамед Рафи совершает намаз. На плечах у него — Инкир и Минкир. Один на правом, другой — на левом.
На Пираллахы опускаются ранние сумерки. В домах зажигают лампы: теплые пятна маслянистого света выплескиваются в заснеженные улочки, привнося цвет в черно–белую панораму зимнего острова. Лампы, наполненные до краев почти бесплатным керосином — это, пожалуй, главное и единственное достижение пресловутого карантина.
Перед полосатыми полицейскими будками, почтамтом и на базарной площади, где в некоторых лавках, открывшимися с утра, еще идет торговля, выставлены жаровни с углями. У одной из них стоит Мирза Джалил, составитель писем, греет над огнем посиневшие от холода пальцы. Лицо желтое, усталое, будто бы изношенное. Он вдруг поднимает голову и настороженно смотрит в глубину пустого переулка (смотрит прямо на меня). Между нами — время. Между нами — пропасть. Между нами небытие, огромное и непостижимое. Но он, словно почувствовав мое молчаливое присутствие, продолжает, что есть сил, вглядываться в молочную темноту, заслоненную летящими хлопьями.
Еще мгновенье, и Мирза Джалил исчезает, а сновидение уже летит дальше по своему причудливому маршруту, выписывая головокружительные зигзаги.
Срывая голоса, на окраинах поселка отчаянно воют собаки. Но жители святого острова, оглушенные тишиной падающего снега, остаются глухи к их профетическому вою. Время на излете. Время: зубчатые колесики в дедушкиных часах перемалывают его в прах. Задрав морды, покрытые голубым инеем, в стойлах тревожно ржут кони. И в застывшей рощице на холме испуганно окликают друг друга Иса и Муса.
Среди тех, кто безошибочно чувствует приближение Часа, первый, как и прежде — Гаджи Сефтар. Он лежит на ковре, сложив на груди руки, и остекленевшие мотыльки неподвижно сидят на его лице, широко раскрыв крылья.
В тот вечер все небо было усыпано звездами. Безбрежные звездные поля по всей полусфере от горизонта до горизонта, с запада на восток и с юга на север. И это было удивительно, потому что валил густой снег, но над головой не было ни единого облачка. И холодное мерцающее сияние пронизывало темноту, и Соломенный путь, словно хребет летящей рыбы, отражался в стынущих заводях.
Взошел молодой месяц — кончики серебряных рогов, повернувшись против часовой стрелки, смотрят вниз.
Пока Фатима–ханум разбирает постель, Идрис Халил пытается угадать под складками ее ночной рубашки растущий живот. Бабушка уже беременна первым из шестерых своих мертворожденных сыновей — все они, напуганные странными изломами времени, родятся до срока. Выживет лишь седьмой. Мой отец. Банальная арифметика магических чисел.
— Что так воют собаки! Дурной знак! — Она стоит спиной ко мне, волосы распущены по плечам, на ногах толстые вязаные чулки.
— Собаки? А что им еще делать в такой холод!.. Гаси свет!
Она щелкает выключателем, и в комнате наступает темнота. Отсветы огня, просачиваясь сквозь круглые отверстия в заслонке печи, мечутся по деревянному полу. За окном серебрится заснеженный сад.
В последний вечер зимы 1920 года Идрису Халилу в последний раз явился странный призрак в муслиновом платье — но если раньше, объединяя в себе черты Ругии–ханум и покойной мадам, он был как бы двуликим, то теперь он еще приобрел характерные бабушкины губы и даже ее походку…
Призрачная женщина, единая в трех лицах.
Она появилась, держа перед собой медный таз, почти до краев наполненный водой.
— Что это? — спрашивает Идрис Халил, пытаясь скрыть смущение. Женщина молча ставит таз у его ног.
Неподвижная вода без искажений отражает лицо дедушки с молодцеватой щеточкой усиков под тонкими крыльями носа и приземистый минарет старой мечети, справа от которого в окружении бесчисленных звезд рогами вниз висит молодой месяц. Наклонившись вперед, он недоуменно рассматривает свое отражение, как вдруг по воде начинают расходиться круги, вначале медленно, с паузами, потом быстрее и чаще…
— Да что же это? — вопрос повисает в воздухе, трехликий призрак прикладывает к губам указательный палец. В его прекрасных глазах тревога и любовь.
…Идрис Халил проснулся в тот самый момент, когда потолочная лепнина покрылась паутиной трещин, а вокруг кровати уже с грохотом стали падать куски штукатурки…
Вращаются все девять небес: от первого до последнего. Оглушительно бьют все часы сразу, на острове Пираллахы дрожат заснеженные сосны.
В кромешной тьме он мечется по комнате, пытаясь найти Фатиму–ханум.
— Где ты?.. Где ты?.. Я не вижу тебя!..
Со скрежетом распахнулась заслонка печной топки, повисла на одной петле, на ковер, освещая багряно–красными отблесками ползущие по стенам трещины, посыпались угли.
Из запертых конюшен несется безумное ржанье лошадей.
Прикрыв голову руками, бабушка стоит на коленях в углу спальни.
Трещины добрались до подоконников, лопнули стекла. Через мгновенье в столовой стала опрокидываться мебель.
Толчки сотрясают гибнущий особняк. Спальня охвачена огнем, едкий дым стелется по полу. Выскакивая из своих гнезд, под ногами прыгают паркетные доски. Они пробираются по коридору к столовой, чтобы оттуда выбраться в сад, но на половине пути Идрис Халил вдруг понимает, что пройти через застекленную веранду им вряд ли удастся. Время вышло. Он хватает Фатиму–ханум за косы и тащит ее в противоположную сторону, к парадной двери.
Это и спасло их. Успев сделать лишь несколько шагов, они услышали, как у них за спиной обрушилась часть стены.
Спасительная заснеженная площадь. На затоптанную дорогу падают хлопья пепла. Отовсюду бегут кричащие люди.
Дедушка с бабушкой оказались босыми на снегу. Он — в шерстяных кальсонах, она — в накрахмаленной ночной рубашке с повязанной поверх шалью. Из разбитых окон особняка валит дым. Не обращая внимания на стынущие ноги, Идрис–мореход в оцепенении смотрит, как насмешливый и яростный огонь вырывается из глубоких трещин в фасаде.
Но комендантский особняк избежал злой участи сгореть во второй раз: последовала еще одна серия толчков, земля тяжело закачалась, и под аккомпанемент завывающей от ужаса толпы, разваливаясь на части, дом стал грузно оседать вниз. Через несколько минут от него осталась лишь уродливая груда дымящихся камней, из которых торчали переломанные ребра потолочных перекрытий, да плотное облако едкой пыли…
Только безумный Гаджи Сефтар знает, что будет дальше.
Вначале они увидят свет, такой яркий, что он, пожалуй, действительно мог бы осветить верхушки верблюжьих горбов, если и не в Басре, то в караван–сараях на окраине Баку, уж точно! Свет родится из моря. Слепящий, бешеный, но, как и было предсказано — холодный. И кто–то закричит: «Смотрите! Смотрите!». А кто–то запричитает: «Вай Аллах!». Кто–то упадет на колени и заплачет от страха, начнет молиться, прижимая лицо к замерзшей земле. Женщины будут рвать на себе волосы, но многие просто оцепенеют, как мухи в меду.
И они увидели свет.
— Смотрите! Смотрите!
— Ой Аллах!
Вокруг вдруг стало светло, словно днем, и свет был такой силы и такой удивительной яркости, будто одновременно вспыхнуло сразу несколько солнц. И, выталкиваемый на поверхность чьей–то непререкаемой волей, свет стал подниматься все выше и выше над кипящим морем, меняясь от белого к яркому желтому с текучими вкраплениями оранжевого по краям. Весь остров начала гудеть и сотрясаться, и от криков закладывало уши. Гигантский конус света, изрыгаемый из глубин моря, превратился в огненный фонтан, который, достигнув высоты в несколько десятков метров, распался на шипящие ручьи.
…Нарастает дребезжание зарешеченных окон. Нары, прикрепленные к стенам железными скобами, скрежещут и, сорвавшись, падают. Вспышка света, сопровождаемая почти животным воем заключенных, выбеливает узкие камеры до самых темных углов. Вой прокатывается по тюремному плацу, где сгрудились дежурные надзиратели и солдаты.
Было очень холодно. Происходящее всего лишь в нескольких саженях от крутого берега слепило, но не согревало, и это было удивительно для тех, кто не верил в предсказание.
Идрис Халил сказал:
— Это, кажется, вулкан.
И не ошибся.
Три сторожевых катера, три морских пса салютуют в небо кольцами дыма.
Иногда сны возвращаются, и тогда они становятся чем–то вроде путеводной нити, тем самым Соломенным путем, что ведет в прошлое. Как это ни странно, но шумное извержение грязевого вулкана у берегов Пираллахы было первым моим сном об Идрисе Халиле, а образ морехода, увидевшего ранним утром 1913 года Город Царей, — последним и, пожалуй что, самым ярким. В нем тайна. Однако все эти люди на площади под небом, усеянным звездами, кристаллическое сверкание снега и черные руины комендантского особняка, так и не ставшего домом для Идриса Халила, мокрое от слез лицо Фатимы–ханум, клокотание раскаленной грязевой жижи, потоками стекающей в море, многоликий призрак и этот свет — стоят в самом начале моего приватного путешествия в прошлое…
Никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть событий этого дня. Все свидетели произошедшего, включая Идриса Халила и мою бабушку, умерли. Об этом ничего не сказано в столичной прессе: в государственном архиве в подшивках от 27 февраля по 2 марта 1920 года нет никаких упоминаний о вулкане или о землетрясении. Не существует уже и самого вулканического острова — он давно исчез под толщей воды! Единственное свидетельство — мои сны.
К утру заметно потеплело. Снег стал сходить, постепенно превращаясь в хлюпающее серое месиво. Медное солнце золотило поникшие верхушки деревьев, смерзшиеся дюны и печальные проталины, в которых отражалось бесцветное небо. Не считая рухнувшего особняка, в поселке значительно пострадало лишь несколько старых домов — главным образом те, которые стояли ближе всех к морю. Два десятка человек получили легкие увечья, случился один пожар, который, к счастью, удалось быстро погасить. На промыслах прорвало цистерну, и разлившаяся сырая нефть затопила дорогу, ведущую к конторе «Товарищества».
Были и погибшие: трое. Один из них — несчастный Балагусейн, которого извлекли из–под камней вместе с холщовым мешком и знакомым чемоданчиком. В мешке лежали небогатые пожитки денщика, в чемоданчике — столовое серебро, золотые рубли из приданого моей бабушки и почти все ее украшения.
Балагусейн погиб в каких–нибудь двух шагах от спасительной двери веранды. Кажется, он умер сразу.
Двух других погибших раскопали лишь утром третьего дня. Придавленные огромной балкой, они сидели друг подле друга, неестественно вывернув головы: один — направо, другой — налево. Как позже установил доктор, у обоих оказались сломанными шейные позвонки. Два тщедушных человечка с совершенно одинаковыми лицами, искаженными не то улыбкой, не то оскалом. Их опознали сразу — неуловимые братья–печатники с охранными именами пророков: Иса и Муса. Деревянная балка лишила их жизни и невидимости, а заодно раскрыла тайну их неуловимости: пока красных подпольщиков искали по всему острову — они благополучно прятались на чердаке комендантского особняка.
Там же были найдены вопиющие доказательства преступной деятельности Исы и Мусы: разбитый типографский станок особой конструкции — компактный и почти бесшумный, целая стопка готовых листовок, английские винтовки, обмотанные промасленной тканью, и патроны к ним.
…Северный ветер разносит легкие листы папиросной бумаги. Они с шелестом взлетают вверх, будто пытаясь упорхнуть прочь из этих гиблых руин, кружатся над пожарищем, липнут к обугленным стенам.
Братьев–близнецов похоронили за государственный счет. Было куплено несколько аршинов тагиевской бязи, заплачено могильщикам. Ясин скороговоркой прочитал Кярбалаи Мирза–ага. Когда могилы Исы и Мусы стали закидывать комьями влажной земли, молодой ахунд тихо сказал:
— Закапывайте поглубже! Не жалейте земли! Не то, упаси Аллах, и они станут ходить в тумане…
Накрапывал дождь.
В изголовье могил врыли по деревянному столбику с нацарапанными датами смерти. Справа — Иса, слева — Муса. Или наоборот. Их почти невозможно было различить при жизни, а после смерти они вообще будто стали единым целым.
На острове говорят: «Старый ахунд спрятался в Книге».
Почтенный Гаджи Сефтар, забытый домочадцами во время землетрясения, бесследно исчез из запертой комнаты.
Когда затихли первые толчки, старший сын вернулся за ним в дом. Но в запертой комнате с наглухо закрытыми ставнями и пыльными паласами он обнаружил лишь Книгу, раскрытую на первой странице (с конца, конечно), да войлочные остроносые тапочки. Книга лежала на деревянной подставке в форме латинской «х». Ошалело оглядевшись по сторонам, он бросился искать отца по всему дому, но, конечно же, нигде его не нашел. Тогда, прихватив Книгу, он выбежал на улицу.
Наверное, потому и стали говорить, что старый ахунд не иначе, как спрятался в Книге.
Случай и Судьба уберегли рукопись поэмы: помимо серебряной посуды и украшений, вороватый Балагусейн захватил с собой и замкнутую на ключ лакированную шкатулку, очевидно, посчитав, что в ней находится нечто ценное. Но единственной ценностью в ней была рукопись, стопкой лежавшая поверх старых писем и фотографий.
Грязевый остров заслоняет собой закатывающееся солнце. Зловещий знак — темно–коричневый конус возвышается на несколько метров над мутной водой. Вокруг, в серой пене, брюхом кверху плавают мертвые рыбы и раздувшиеся тела морских котиков. В небе кричат чайки. Волны постепенно размывают края грязевого острова, и с каждым днем он все больше оседает вниз, неотвратимо возвращаясь в пучину, изрыгнувшую его в минуту ярости. Все возвращается на круги своя. Бедный Гаджи Сефтар, спрятавшийся в Книге, так и не смог понять, что никакого Часа не будет. Что все Время на самом деле давно уже вышло, и впереди остается только лишь бесконечность повторных рождений и карнавальная реинкарнация. Знаки, щедро разбросанные вокруг невпопад и без всякой связи со временем и пространством, не говорят больше уже ни о чем, а лишь смущают бедные умы. Нынешние Знаки — это более предмет поэзии, нежели теологии…
8
Красный полет.
Оказывается, путешествовать можно не только морем, но и воздухом. Натянув на голову кожаный шлем, авиатор Семен Монастырев приветственно машет невидимым зрителям. Вот–вот взревет мотор, завертится пропеллер, и под крыльями «Фармана» волнами начнет ходить молодой ковыль.
Путнику должно быть в пути.
За окнами — свет. Солнце. Черный тополь на углу стоит облепленный пухом. В пустом переулке вокруг яблочек конского навоза шумно возятся воробьи. А над домом (знакомый уже дом Мамеда Рафи за базарной площадью), будто замысловатый росчерк — единственное белое облачко. Стоит неподвижно.
Быстро окунув кончик стального пера в пузырек с чернилами, Идрис Халил записывает вверху страницы: «В лодках…». Но буквы почему–то выцветают прямо у него на глазах, словно и не были писаны вовсе. Он удивленно поднимает голову, пробует перо пальцем, потом, отбросив его в сторону, резко встает и начинает ходить по комнате, по чередующимся прямоугольникам света и тени, в которых невольно проступает искусственная геометрия сна.
— Куда это подевался Мамед Рафи? Должен был ведь самовар принести!
На кровати, подобрав под себя ноги, сидит Фатима–ханум.
Облачко над домом — будто росчерк — выцветает вслед за чернилами (от «лодок» уже остался лишь бледный призрак). Отсюда не видать, но над сверкающей гладью моря давно уже нет и трех полосок дыма. Исчезли. Сгинули.
По переулку, поднимая пыль, проходит отара овец, чабан зычным голосом погоняет животных. Идрис Халил подходит к окну, отодвигает легкую занавесь. Отара растянулась на полулицы. На плоской крыше соседнего дома сидит кошка. Рыжая. Ветерок доносит из садов томный запах сладости, но сердце морехода, напуганное очевидной враждебностью этого апрельского утра, сжимается тревогой и страхом.
«В лодках…» — а что дальше? Как заканчивается строфа?
Тревога и страх в звучащих числах календаря: 27 апреля 1920 года.
— Что–нибудь случилось? — Спрашивает Фатима–ханум.
— Что это за звук?…
— Где? — отложив в сторону вязанье, она тяжело приподнимается на кровати, заглядывает в окно. — Как будто ничего… Овцы проходят…
— Нет, не это! Прислушайся!
По лицу бабушки пробегает тень. Она переводит взгляд на Идриса Халила.
— Вот! Как будто жужжанье! Неужели не слышишь?
Идрис Халил откидывает занавесь и, перегнувшись через широкий подоконник, высовывается в окно. У дверей дома с четками в руках стоит Мамед Рафи. Задрав голову, он смотрит в небо.
— Мамед Рафи, что ты там делаешь?
— Ага–начальник!..
Словно бы доносящееся отовсюду сразу назойливое жужжание постепенно нарастает, становится явственнее.
— Аллах сохрани нас от новой напасти!.. — говорит Фатима–ханум. — Куда ты идешь?
— Посмотрю, что там происходит. — отпрянув от окна, Идрис Халил выходит из комнаты, застегивая на ходу рубаху.
Он сбегает по каменным ступеням, бросает быстрый взгляд на толстые щупальца виноградника, ползущего по внутренней стене дома, на свежую поросль травы — какую–то удивительно нежную, почти прозрачную, будто морские водоросли, — и, пригнув голову, проходя через низкую дверь, выбирается на залитую солнцем улицу.
— Мамед Рафи!
Бывший старший надзиратель оборачивается, хочет что–то сказать, но гигантская крылатая тень вдруг накрывает их обоих с головой. Как волна, она прокатывается над ними, над клубящейся пылью, поднятой овцами, над черным тополем на углу, но вместо ожидаемого безмолвия темных вод вибрирующий воздух вокруг наполняется механическим треском, и распахнутые настежь окна дребезжат, словно вот–вот разлетятся на куски. Идрис–мореход невольно пригибается, обхватив голову руками.
Растопырив уродливые крылья, поскрипывая легким деревянным корпусом, «этажерка» описывает в небе широкий круг. «Фарман — 30» с двумя человеками на борту. Они глядят вниз, на пыльную базарную площадь.
— Аэроплан?! — кричит Идрис Халил. — Это аэроплан!
Посланник девятого неба.
Авиатор — командир боевого звена 11-ой Красной Армии Семен Монастырев. А единственный пассажир, лицо которого расплылось в широкой крестьянской улыбке, — ни кто иной, как член Революционного Военного Совета Сергей Миронович Киров. Ветер полощет красную ленту, прикрепленную к лацкану его кожаной куртки. Они вылетели из Астрахани вот уже почти как месяц. Летели через Святой крест, Пятигорск, Грозный, Петровск (Махачкалу) и Дербент.
— Чей это аэроплан?… Они, что, уже здесь?…
Еще нет. Небесные странники обогнали части наступающей Красной Армии почти на 60 верст.
«Фарман» заканчивает вираж, опускается совсем низко к плоским крышам и, проплыв над чайханой Мешади Худадата, берет курс на Баку. В небе, над головой Идриса Халила, остаются клубы голубого дыма и широкая улыбка Сергея Мироновича.
По старой шемахинской дороге под кумачовыми знаменами идут солдаты.
…На изъеденной волнами верхушке грязевого острова сидят взъерошенные чайки. Все остальное поглотило море. Все остальное поглотило время, оставив мне лишь сны об ушедших из жизни людях и исчезнувших городах. Среди прочих образов — мятежный безумец Мухаммед Хади со своими неуклюжими виршами. Он умер еще в марте, но Идрис Халил, следивший за победоносным полетом аэроплана, пока не знает об этом, а, узнав, странное дело, будет искренне оплакивать его. Или, может, скорее, будет оплакивать самого себя, свое время и свое одиночество, что причудливо, как в зеркале, отразилось в судьбе его оппонента? Тайна.
Неисповедимы пути поэтов и мореходов. Звезды и тайные писания ведут их над огненными пропастями, ведут по бесконечным долинам, залитым неподвижной водой. Ведут к самой окраине мира.
Края грязевого конуса с шипением сползают в воду, напуганные чайки с криками взмывают вверх.
Последние строчки поэмы:
В лодках есть место только для нас двоих и вечного бегства… На этом рукопись обрывается. Время возвращаться домой.И вновь, как было сказано в самом начале:
«Ты видишь корабли, рассекающие море…».
Идрис Халил и жилистый мужчина в стеганой куртке, надетой поверх тельняшки, налегают на весла. На носу лодки спиной к удаляющемуся острову сидит Фатима–ханум с двумя чемоданами. Голову ее покрывает черный келагаи. Весло тяжело вырывается из воды, взмах, прочерченная невидимая дуга, пустынные дюны, где в густых фиолетовых сумерках скрывается громадная фигура старшего надзирателя, на мгновенье становятся ближе и удаляются вновь. Идрис–мореход чувствует, как его бицепсы наливаются горячей кровью, и постепенно среди этой печали, среди этой скорби полуночного бегства давно позабытое предчувствие нового путешествия, легкое, радостное и, одновременно, чуть тревожное, просыпается в нем, крепнет, и грустная темень, в которой навсегда исчезает Пираллахы с его удивительными могилами, и Мамед Рафи, утирающий рукавом рубахи мокрые глаза — становятся светом. Свет выходит из моря. Лодка скользит, покачиваясь на зыби, летят холодные брызги, оставляющие на губах вкус соли и йода.
— Подожди! — вдруг кричит Идрис Халил проводнику. — Подожди! Я кое–что забыл…
Фатима–ханум встревожено оборачивается:
— Что случилось, джаным?
Идрис–мореход опускает весло и начинает лихорадочно шарить по карманам.
— Сейчас, сейчас!..
Проводник, чья работа оплачена вперед золотыми рублями из бабушкиного приданого, неодобрительно молчит.
— Вот! — он, наконец, находит то, что искал, — серебряная монета.
На весеннем небе проступают россыпи звезд. Мириады. И Млечный путь, известный в здешних широтах, как Соломенный, благословляет последнее путешествие Идриса–морехода своим сиянием. Будто позвоночник неведомой рыбы. Дедушка подбрасывает монету, она падает за борт и, сверкнув, тонет в ласковых водах.
— Может быть, еще вернемся! — говорит Идрис Халил, улыбаясь царственной безмятежности звездных полей.
И это все.
Часть 4 ДОМОЙ
1
Судьба и Случай подарили Идрису Халилу еще целых десять лет жизни.
Вот они плывут в полном мраке, ведомые безошибочным чутьем провожатого в стеганой куртке и сияющими знаками, заполонившими собой все небо. Скрипят уключины, глухо плещет невидимая вода, загребаемая веслами, — лодка скользит среди отраженного света бесконечных звезд, то ли плывет, то ли летит, и у бабушки, которая сидит, обхватив руками живот, слегка кружится голова от терпкого запаха моря и монотонного раскачивания. Так, должно быть, выглядит вечность!
От воды тянет холодом. Кутаясь в шаль, Фатима–ханум трижды, как учили в детстве, произносит: «Бисмиллах». Призраки отступают.
Огни дивного острова постепенно тают. Пираллахы, теперь уже навсегда ставший частью сновидений, восходит в небо. Скоро его и вовсе не станет видно. Где–то именно здесь, на неопределенной середине короткого перехода между двумя берегами наступит мгновенье, когда мореход и поэт таинственным образом исчезнут, и останется только Идрис Халил — сын удачливого пекаря, разбогатевшего в годы нефтяного бума, бывший офицер, неинтересный и скучный, Идрис Халил с его последней фотографии. Мореход и Поэт, словно Инкир и Минкир, слетят с его плеч, чтобы, погрузившись в забвение, он смог бы спокойно прожить отмеренные ему еще десять лет. Они упорхнут почти незаметно, просто унесутся прочь вместе с налетевшим бризом, и в темноте тотчас затихнет зовущее эхо паровозных гудков, а Идрису Халилу останутся пустота и покой.
Здесь конечная точка его странствий.
В садах, среди печальных деревьев, покрытых накипью белопенных цветов, беспокойно мечутся тени.
Утро третьего дня. Дорога до Баку. Пыльная, разбитая, слева — море, справа — старые оливковые рощи, в которых едва слышно шелестит рассветный ветер. Солнце, выплывая из–за горизонта, окрашивает верхушки холмов, поросших молодой травой, в огненно–красный цвет. Обряженный в старомодную пиджачную пару (едва ли не ту самую, в которой семь лет назад с перрона старого вокзала он отправился в свое первое странствие), Идрис Халил молча идет рядом с арбой.
…Невидимые никем, счастливо избежав столкновения с конными патрулями, красными солдатами, погромными отрядами чекистов, они пройдут весь этот мучительный и тряский путь от маленького поселка на Зыхе до бараков Черного Города, и дальше, через бульвар к воротам крепости. В апрельский полдень будут долго стучаться в ворота отцовского дома, прежде чем Мамед Исрафил откроет им дверь и торопливо пропустит их во двор…
2
Следующая остановка — это октябрь 1920 года (полгода, прожитых тихо и незаметно под сенью дома с окнами на восток). Вся семья перебирается в рабочий пригород Баку, поселок мыловаров Сабунчи.
— Подальше от глаз! — говорит Мамед Исрафил, завязывая веревкой горловину мешка, набитого всевозможным домашним скарбом. — Подальше отсюда! Пусть теперь сами пекут хлеб!..
Сидя на гигантском тюке с одеялами, тихо всхлипывает крошечная Зибейда–хинум, трет глаза платком. На пальце у нее золотое кольцо с бирюзой. Закрыты все дороги: на Запад, на Восток, на Юг. Чтобы избежать злой участи попасть в списки Чрезвычайной Комиссии, Мамед Исрафил добровольно отписал всю недвижимость, включая кондитерские и пекарни, в собственность недавно созданного Управления Коммунального Хозяйства (иначе — Коммухоз).
— Пусть теперь сами пекут хлеб! Мы больше не пекари!..
Сабунчи.
Дом был сухой и темный, окруженный глухим каменным забором. Во всех трех комнатах по углам прятались стенные ниши, а скрипучие полы были по–крестьянски устланы простыми домоткаными паласами. Во дворе, не считая нескольких кустов жесткого крыжовника да виноградника, — только хорошо унавоженная земля. Прежний хозяин держал овец, и загон на полдвора все еще весь утыкан следами их острых копыт.
Сразу по приезду, когда вещи еще не были разобраны и лежали сваленными в одну кучу посередине прихожей, у бабушки случился выкидыш, причину которого тогда приписали волнению и хлопотам. Ребенок так и не открыл глаз.
Практичный Мамед Исрафил, никогда не занимавшийся крестьянским трудом, решил выращивать овощи. Спрятавшись на тихой окраине, семья переждала долгую осень, и следом — сырую зиму, когда день за днем флюрисцентные молнии буквально выворачивали низкое небо наизнанку, а в самом начале весны во дворе появились первые грядки. Удача не изменила Мамеду Исрафилу и на этот раз: долгие годы вся семья жила за счет баклажанов (особой, почти круглой формы со светло–фиолетовой кожицей), помидоров, белого и черного базилика, стручкового перца, чеснока и тмина. Овощи возили на местный базар, редко — в город, на Кубинку, и продавали или обменивали на продукты.
…Два брата перекапывают землю, подготавливая участки под рассаду. Работают молча, не отрывая глаз от желтовато–серой земли, пронизанной черными жилами. Голая спина Идриса Халила, покрывшаяся устойчивым шоколадным загаром, блестит от пота. Он оттягивает назад широкую кепку и переводит дух. От земли поднимается пар, густо пахнущий навозом. Справа, в просторной тени, падающей от пристроенного к дому сарайчика, стоят большие бутыли зеленого стекла с мутным винным уксусом. Там же — старая подвода. Старший сын Мамеда Исрафила — ему не то шесть, не то семь — несет металлический ковш с водой. Так выглядит их жизнь день за днем. Великое Забвение, сродни тому, в котором пребывает остров Пираллахы, ощущается здесь в каждой мелочи, в каждой подробности размеренного быта. Оно во взглядах и в непривычных мозолях на руках, оно в бесцветных черных келагаи, в том, как по–особому молчит Зибейда–ханум, выбивая огромные подушки, выставленные на солнце. Оно в сером постельном белье и в строгих платьях моей бабушки, на дне кастрюль с неизменными овощами и редким мясом, в солоноватой колодезной воде, в раннем пробуждении и воскресных базарах, в старых фотографиях, убранных до срока в комод. Оно и в неожиданных предметах прежнего, другого быта, то и дело возникающих то тут то там, как болезненное напоминание о прошлой жизни: разливая постный суп из темной чечевицы с яйцом по алюминиевым мискам, Фатима–ханум пользуется красивым серебряным половником, а среди пестрых лоскутных наволочек нет–нет да попадется несколько шелковых…
Разрозненные номера журналов с дедушкиными публикациями, спрятанные от глаз в маленьком чуланчике под лестницей, постепенно сырели, страницы слипались, превращаясь в сплошную клейкую массу. Нарядные выходные костюмы — грубо переделанные и перешитые — один за другим перекочевывали из шкафов в прихожую.
В эти самые первые годы их добровольного изгнания Забвения было так много, что семья буквально захлебывалась в его сонных потоках. Исключением стала лишь Лейла–ханум — единственная, кто брезгливо так и не приняла нового уклада жизни. Полная и белая, с удивительно красивыми руками, унизанными золотыми перстнями, она часами сидела перед зарешеченным окном, выходящим в темный закуток у сарая, и думала о чем–то своем, ничуть не интересуясь ни рассадой, ни ценами на мыло, ни перешиванием старой одежды. Так, сидя у окна, она и умерла 6 июля 1926 года, в день, когда между Баку и Сабунчами пустили первую электричку.
Но настоящим символом, живым воплощением Забвения стали пауки. Они появились как–то разом, в один день — сотни проворных черно–серых существ — и в одночасье весь дом оказался буквально обвешан их легкими сетями. В короткие периоды между беременностями Фатима–ханум пыталась решительно бороться с ними, используя для этого весь известный арсенал средств — от мокрой тряпки до борной кислоты, но паучьих гнезд на беленых известью потолках и стенах все равно не становилось меньше, потому что на самом деле пауки не были причиной, а лишь случайным следствием того болезненного оцепенения, в которое погрузилась семья.
…Дети продолжали рождаться не в срок, словно торопливое бабушкино лоно никак не могло смириться с длительным ожиданием. Завернув крошечные тела в чистые тряпицы, их уносили, чтобы похоронить в дальнем углу двора — одного подле другого. Каждый год. Не помогали ни заговоры, ни аптечные лекарства, ни молитвы. Дети все равно не просыпались, и так, ни разу и не вздохнув, быстро переплывали из тьмы вечных архетипов в покойную тьму небытия, отравленные, как и все вокруг, проклятым Забвением.
Идрис Халил бережно опускает сверток в теплую землю в тайной надежде, что он прорастет невиданным овощем: тщетная надежда.
Когда влажная духота, наполненная шорохами виноградных листьев и комариным звоном, не дает уснуть, а сладкий аромат ночных цветов вызывает смутное томление, Мамед Исрафил забирается на крышу дома и, устроившись на расстеленном коврике, начинает водить смычком по струнам кяманчи. В небе — горячечный свет полной луны, на крыше — вокруг стеклянного колпака керосиновой лампы — пляшут мотыльки, вроде тех, что прятались за толстыми стеклами очков Гаджи Сефтара.
Так проходят годы, слившись в нечто единое, монотонное, цельное. Годы, похожие на один и тот же день.
Задрав голову, Идрис Халил смотрит в небо. Мерцающий Соломенный путь что–то смутно напоминает ему, но ему уже не вспомнить, не пробраться сквозь толщу времени и потерь. Множество звезд — искусная вышивка на темном бархате, и самая яркая среди них — Сириус. Звезда Мореходов.
3
23 августа 1930 года Идрису Халилу в последний раз явились ангелы. Случилось это ранним утром. Он увидел их сквозь марлевый полог в густом золоте солнца, заливающем часть веранды, увидел, но, пожалуй что, не узнал. Не смог узнать.
Они стояли, сложив огромные крылья, медленно покачиваясь из стороны в сторону, и смотрели на него пустыми глазницами, источающими невыносимый холод безграничных и бесприютных небес — парные Харут и Марут, Инкир и Минкир, последнее напоминание о двуединой дедушкиной сути.
Он испугался, закрыл глаза и не открывал их так долго, как только мог — то есть целую вечность, пока в кухне, примыкающей к веранде, не послышались спасительные женские голоса, еще сонные, тихие. Хлопнула дверь, водружая чайник на плиту, Зибейда–ханум уронила металлический ковшик.
Откинув москитный полог, Идрис Халил поднялся с постели, быстро оделся. У рукомойника, намыливая руки коричневатым крошащимся обмылком, он, как и полагается, рассказал подробности страшного видения льющейся воде. Рассказал торопливым шепотом, почти устыдившись своего недавнего страха. А потом привычная утренняя суета в доме совершенно вытеснила воспоминания о людях–птицах. Осталась лишь неприятная свербящая точка где–то в глубине груди.
Надо было собираться в город, чтобы сбыть овощи, собранные еще с вечера.
Полчаса в переполненном и тряском вагоне электрички до Баку.
На старой площади угольщиков, среди шумной, грязной, нищей базарной толкотни Идрис Халил до полудня торгует баклажанами, стручковым перцем и зеленью. Жара. Среди рядов снуют мальчишки с ведрами в руках, продают кружками воду. Солнце в зените. Корзины Идриса Халила пустеют. На перепутанных листах старой рукописи вянут чернильные строчки.
Принцессы стареют и умирают. Но всегда остаются вокзалы.
Всегда остаются вокзалы. Остаются летящие вокзалы, и летящие сквозь летящие вокзалы поезда. Остаются завешанные туманами полустанки, остаются острова и сады…
В начале второго он уже в Сабунчах: переходит через железнодорожные рельсы. В руках у него пустые корзины, плетеные из виноградной лозы.
В жухлой траве устало стрекочут кузнечики. На выбеленном солнцем перроне новенькой станции стоит русский милиционер в нарядном белом кителе. Знойное марево, в глубине которого расплываются стремительно бегущие рельсы, пахнет горячим машинным маслом и металлом. Ветерок треплет край плаката: улыбчивый усатый нефтяник и крупнотелая крестьянка на фоне красного кумача.
Шаркая разбитыми башмаками, Идрис Халил сбегает по насыпи к пыльным тутовникам, сразу за которыми виднеется желтая полоска дороги. Его светлая рубаха потемнела от пота на спине и груди. Он останавливается, переводит дыхание, начинает шарить по карманам в поисках папирос, но потом, передумав, идет дальше.
Солнце на Запад — вслед за стрелками на циферблате часов. Туда, где изломанная линия горизонта теряется среди нагромождения нефтяных вышек.
В ожидании попутной машины, он опускается на корточки под душной сенью тутовников. Закуривает. Вокруг падают перезревшие плоды, разбиваются об землю, брызгая сладким соком. Знойная тишина вся пронизана звуками их падений, шепчущим шорохом листьев и гудением высоковольтных проводов над головой. Идриса Халила тянет в сон.
Дома Зибейда–ханум ловко снимает ножом кожицу с помидора.
— Пора уже ставить воду на огонь!..
— Его еще до сих пор нет.
— Сейчас уже, наверное, придет!
— Посолить воду?..
— Посиди где–нибудь, я сама сделаю!
На подносе сохнут полоски лапши. Фатима–ханум, держась за поясницу, осторожно опускается на стул, прабабушка украдкой бросает взгляд на ее огромный живот, тихо вздыхает.
…Когда вдалеке нарастает прерывистый гул мотора, Идрис Халил торопливо поднимается на ноги и, отряхивая штаны, выходит на дорогу. В облаке горькой пыли едет «полуторка».
Почему так сжимается сердце? Наверное, от жары!
Он добрался до дому как раз, когда в чугунке закипела вода.
Обедали, как обычно летом, на веранде.
Зибейда–ханум разливала по глубоким фарфоровым мискам суп из домашней лапши с белой чечевицей и помидорами: вначале — Мамеду Исрафилу (вот он сидит по правую руку, стриженый наголо, в черной сорочке апаш). Потом Идрису Халилу — он слева (обмакивает пучок сельдерея в солонку и отправляет его в рот). Далее — жены. Замыкали семейный круг, или, скорее, овал (по форме стола) четверо старших детей Мамед Исрафила.
…Идрис Халил, густо поперчив еду, крошит в миску хлеб и, зачерпнув с края, отправляет в рот первую ложку. Тогда–то все и происходит! В прозрачном небе на мгновенье вспыхивает и гаснет розовая звезда, а по ровным грядкам баклажанов, привязанных к тонким колышкам, пробегает внезапно налетевший веселый ветерок, откуда–то несущий позабытые дурманящие запахи желтых цветов, чужого моря, старых кофеен (а еще разноцветных специй, эвкалипта, рыб, каленых каштанов), и наступает оглушительная тишина, от которой у Идриса Халила начинает звенеть в ушах, и щемящее чувство невосполнимой утраты вдруг сжимает его сердце стальными клешнями, и душа его, свернувшись в плотный комочек горечи, подкатывает к самому горлу и рвется наружу. Он пытается глубоко вдохнуть, чтобы как–то ослабить боль, но вместе с потоком воздуха заглатывает тоненькую полоску лапши, нарезанную проворными руками Зибейды–ханум. Хлоп — и все, в следующее мгновенье, почернев лицом, он уже умер, распластавшись на прохладном полу.
Судьба и Случай. Последняя строчка, выведенная невидимыми чернилами у него на лбу, провисает в воздухе…
«И вошел он в свой сад…»
В застывших глазах Идриса Халила отражаются люди–птицы, несущие на своих огромных крыльях его бессмертную душу.
Через сорок дней после смерти дедушки Фатима–ханум благополучно разрешилась от бремени моим отцом. Младенца назвали Мирза Халил или, как было записано в метрике, — Халил Идрис оглы. Простая рокировка имен, позволившая передать по наследству охранное имя моего деда.
Годом позже умерла Зибейда–ханум. Ей было не много лет. Сколько — не знаю. Забвение стерло все точные даты и цифры. Время сохранилось только в сновидениях.
Ее похоронили рядом с сыном.
4
Жить становилось все тяжелее. Доходов от маленького огорода не хватало. Мамед Исрафил поступил работать железнодорожным рабочим на узловую станцию в Кешля. Присматривать за грядками остался его старший сын Али Аббас, которому к тому времени исполнилось уже лет 15 или 16.
Время.
Как–то раз, сидя с папиросой в зубах на скамейке перед домом, Мамед Исрафил увидел обрывок газеты, принесенный откуда–то ветром. Он поднял его с земли и, среди бесконечного словоблудия, вычитал короткое сообщение об аресте и расстреле несчастного Ахмеда Джавада. Что–то шевельнулось в его уснувшей памяти — он бережно сложил этот обрывок газеты и в тот же вечер закопал его во дворе, под кустом жесткого крыжовника. И в этом было столько же безумия, сколько и символического смысла: похоронив еще одного поэта, Мамед Исрафил, наверное, как бы хотел окончательно похоронить само Время.
Но потом началась Большая война, и Время снова грубо ворвалось в жизнь нашей семьи.
Али Аббаса забрали на фронт. Он был среди тех, кто попал в страшные придонские степи. В марте 1942 года, на «огненный вторник», пришла «похоронка». В доме завесили зеркала, сварили поминальную халву, и Мамед Исрафил сам, надев на нос очки, прочитал из Книги заупокойную. Однако прошло чуть больше месяца, и Мамеда Исрафила неожиданно увезли с работы прямо в отделение НКВД, где от него потребовали, чтобы он в письменной форме официально отрекся от сына, потому как выяснилось — Али Аббас вовсе не умер, а сдался в плен и добровольно перешел на службу к немцам. Мамед Исрафил написал и подписал все, что от него хотели, а, вернувшись домой, велел убрать подальше от греха фотографию сына с комода.
Со станции его уволили.
Прошло еще полгода. Одним ненастным октябрьским вечером у дома остановилась большая черная машина. Из нее вышли два офицера. Мамед Исрафил, решив, что они приехали за ним, стал торопливо прощаться с женой и детьми. Но, как оказалось к счастью, напрасно. Они приехали не за ним, а просто привезли еще одну «похоронку» на Али Аббаса. Оказывается, произошла досадная ошибка. Али Аббас не умер в 1942 году, не был в плену, но зато погиб сейчас где–то в мясорубке под Сталинградом все в тех же страшных придонских степях.
Фотографию вернули на прежнее место на комоде, а Мамед Исрафил еще раз прочитал ясин.
К тому времени, когда закончилась война, моему отцу исполнилось 15 лет. Настал его черед присматривать за круглыми баклажанами и перцем в маленьком огороде. Теплыми вечерами Мамед Исрафил, лишившийся обоих старших сыновей (Сулейман, не ставший ни великим мудрецом, ни великим полководцем, умер много раньше), на плоской крыше дома учил его играть на кяманче. Кяманча звучала довольно уверенно, но в музыке не было ни начала, ни конца, а только почти космическая пустота. Не рожденный мореходом, отец все–таки иногда смотрел в небо — смотрел или смотрелся, как в зеркало.
Летом 1950 года нежданно вернулся Али Аббас, еще раз восставший из мертвых. По Соломенному свету звезд он нашел дорогу домой. Вернулся не один: рядом с ним была невысокая шатенка с кожей почти бронзового цвета. Она была итальянкой.
Али Аббас торжествующе улыбается, демонстрируя всем вставные титановые зубы.
В действительности, он и не думал погибать ни в первый, ни во второй раз. Но в плен все же попал — к итальянцам. Батрачил на какой–то ферме в Равенне, бежал, оказался у партизан и, кажется, даже был награжден.
Что он делал и где был целых четыре года после окончания войны — не знаю. Может быть, сидел в лагере.
Жена Али Аббаса готовила лазанью с белым сыром и зеленью, а еще пела по вечерам итальянские песни и, несмотря на тонкую талию и забавный птичий акцент, удивительно хорошо умела рожать детей. Делала она это так умело, что тихий дом вскоре заполнился огромным количеством галдящей, дерущейся и вопящей детворы, унаследовавшей смуглую кожу матери, жизнестойкость отца и предприимчивость их деда — Мамеда Исрафила.
Али Аббас поступил работать в железнодорожное депо. До конца жизни водил пригородные электрички.
В 1958 году мой отец — долговязый, с тонкими щетинистыми усиками наподобие тех, что когда–то носил Идрис Халил — сидит с кяманчой в руках на фоне тяжелой бархатной портьеры. Фотография с первого республиканского фестиваля молодежи и студентов. Есть и еще одна, на которой он изображен в составе восточного трио.
Старая кяманча Мамеда Исрафила стала его судьбой.
Женился он уже будучи довольно известным музыкантом. На свадебном снимке 1964 года отец, щеголяя модными бакенбардами и расклешенными брюками с низкой талией, в которую заправлена снежно–белая рубашка, держит под руку маму, увенчанную шляпкой с вуалью.
Поворот колеса, и вот из темноты появляюсь я. Но если раньше для меня это было началом всего, то теперь я отчетливо понимаю, что это лишь эпизод одной истории, в которой переплетены смерть Идриса Халила от домашней лапши, его стихи, завешанный туманами остров Пираллахы, мадам, томно бредущая по желтым цветам, вокзал Хайдарпаша, гидроплан над заливами, бабочки безумного ахунда, моя мать в уродливой белой шляпке, бадам–бурма, старший надзиратель Мамед Рафи, сиреневые круглые баклажаны — все, что было однажды вычленено из темноты небытия, неважно как, кем и когда, останется со мной и не может быть возвращено обратно. Так же, как и мое рождение. И я сам…
Всходит месяц, и, как когда–то в одном из моих снов, смотрит посеребренными рогами вниз. До полуночи осталось всего ничего. Кто–то раскатывает деревянной скалкой «колесо судьбы». Лица его не видно. Только натруженные руки с крепкими пальцами, обсыпанными мукой…
Я родился уже в Баку. В Железнодорожной больнице. Поначалу родители снимали комнату в крепости, потом получили маленькую квартиру в пятиэтажном доме. Убогая квартира, как продолжение великого Забвения. Временное жилье, о котором нечего вспомнить и сказать, кроме того, что оно было. Там прошло мое детство.
Целая четверть века, заполненная унылой суетой и заботами, неприметные дни, все, как один. И если спросят:
— Что же вы делали эти двадцать пять лет?
Я скажу:
— Просто жили.
И это будет правдой.
Сон без сновидений.
Артрит. Пальцы отца стали скрючиваться, словно горящие спички. С каждым годом — все больше и больше. Однажды он больше не смог извлечь из старой кяманчи Мамеда Исрафила никакой музыки. Тогда он зачехлил инструмент, убрал его в шкаф и снова достал лишь в тот день, когда все мы сели в голубой «Москвич» и поехали смотреть дом, купленный им на самой окраине Абшерона.
Это был заброшенный дачный дом под широкой тенью умирающего тутовника, сплошь укутанного паутиной. В комнатах, устланных ветхим голубым линолеумом с продольными трещинами, лежала хрустящая пыль, валялись старые газеты, а в сырых спинках диванов прятались полупрозрачные сороконожки.
Все это было похоже на безумие. По сути дела, это и было безумием.
Вызолоченное солнцем небо отражается в цветущей воде квадратного бассейна.
Отец потратил все свои сбережения. Все, что было. Он продал украшения матери, а заодно и свой «Москвич». Лишь малая часть вырученных денег пошла на косметический ремонт и обустройство самого дома. Все остальное было истрачено на то, чтобы за пять мучительных лет превратить мертвые пески в цветущий сад.
Безумие и чудо — рука об руку. Сады — сожженные — и не взращенные моим дедом, сады, потерянные навсегда, сады чужие и свои, сады обретенные, райские сады камфорных деревьев, неувядающие сады, безлюдные сады, сады до самого горизонта, сады с молочными реками, гранатовые сады, вздрагивающие при звуке выстрелов, сады Константинополя и Шираза, сады губернаторские и висячие, фиговые сады, сады незрячих, обещанные сады, сады, сады…
Самосвалы везли землю, и их было ровно сорок, груженых доверха черным перегноем. Выкорчевывались камни, и место их занимали диковинные саженцы, которые постепенно выстраивались в строй, аллея за аллеей. И, ползая от рассвета до заката на коленях, отец искореженными артритом пальцами сеял неведомые мне семена, чтобы они проросли изумрудным газоном или волшебными россыпями герани, или ложным эвкалиптом, или чайными розами, или совершенно фантастичными желтыми цветами, похожими на гиацинты. Пять лет!
Когда на абрикосовых деревьях появились первые плоды, в сад прилетели дрозды. Просыпаясь на рассвете, мы слышали их щебетанье. И тогда же мы вдруг с удивлением и восторгом обнаружили, что, несмотря на небывалый зной, от которого к вечеру небо приобретало цвет печеного яблока, в нашем саду всегда царила прохлада, и огромные бабочки кружились вокруг молочно–белых ромашек с желтой сердцевиной.
Отец привез с собой кяманчу. Она и была первым семенем, которое он посадил в землю в первый день первого месяца нашего переезда. Он похоронил ее так же естественно и просто, как когда–то Мамед Исрафил — обрывок газеты с официальным сообщением о расстреле Ахмеда Джавада, а мой дед — своих мертворожденных детей. Рано утром, когда все еще спали, он опустил кяманчу в узкую теплую могилу в самой глубине двора и закопал вместе со всеми своими лауреатскими дипломами, грамотами, фотографиями, пластинками. Так, следуя неписаной традиции семьи, отец решил похоронить Время…
Пора заканчивать. В шелестящей листве мелькают светлячки. Где–то высоко, среди скопления звезд, вращается невидимое глазу колесо. Тихий ленивый шелест листвы — шелест отлетающих страниц календаря. В дымке вокруг фонаря кружатся мотыльки, отбрасывая на кусты жимолости трепещущие тени.
Когда–то я думал, что сад, посаженный отцом, — это продолжение безумного Забвения, в котором утонула наша семья еще за много лет до моего рождения. Но только после того, как я увидел Идриса Халила среди пылающих в огне желтых кустов, я понял, что ошибался. Измученный артритом отец, почти точно повторяя максиму незабвенного вольтеровского Кандида, оказался первым среди нас, кто на самом деле проснулся и ощупью вернулся к главному пути. За каменными стенами нашего сада шла война, рождалась еще одна Республика, над бывшей Думой, выстроенной Гославским, вновь появились старые трехцветные флаги, но скрюченные пальцы моего отца продолжали невозмутимо поглаживать тонкие стволы посаженных им деревьев…
Колесо Судьбы и Случая совершило полный оборот. Мы все вернулись к началу пути. Осталось сделать последний шаг.
В 1997 году, после моего возвращения из Стамбула, мы продали городскую квартиру и выстроили пекарню. Не очень большую, но удивительно напоминающую ту, в которой Идрис Халил вместе с братьями месил тесто и выпекал длинные хлебцы с маком. Это и был последний шаг к тем путеводным Знакам, которые слишком поздно разглядел Идрис–мореход.
Все произошло как–то само собой, словно по давно задуманному плану. И в тот самый первый вечер, когда, стоя среди мешков муки, я наблюдал, как двое мужчин из поселка забрасывали деревянными лопатами первые пробные лепешки в печь, я вдруг почувствовал невероятную усталость и, вместе с тем, ни с чем не сравнимую легкость.
Так, должно быть, чувствовал себя Идрис Халил под негасимым светом звезд Соломенного пути, плывущий в непроницаемую тьму будущего.





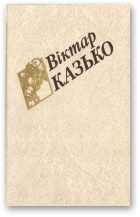



Комментарии к книге «Идрис-Мореход», Таир Али
Всего 0 комментариев