Олег Губанов Личное оружие
Повести
Личное оружие
I
Два пистолетных выстрела пробили тишину теплой августовской ночи над городской окраиной Двуречья. Затравленно тявкнули вблизи две-три всполошенные собаки, и прокатился от двора к двору брех, чем дальше, тем смелей, громче…
Шестидесятый год — еще только под сорок бывшим фронтовикам, и ухо их, безошибочно определив знакомый командирский бой ТТ, конечно же насторожилось.
Однако прозвучавшие выстрелы на этот раз не покушались на безопасность города. И кто больше всех от них струхнул, так это сам стрелявший — девятнадцатилетний новобранец милиции, младший лейтенант Орешин. Он сильно испугался второго выстрела, случайного. Первый был холостой. Это однокашники Орешина по недавней учебе в речном училище Орлов и Клёмин уговорили его показать в действии личное оружие. А у него был с собой холостой патрон, доставшийся от предшественника на должности участкового уполномоченного старшего лейтенанта Еськина…
Пошли глухим проулком в сторону железнодорожного переезда. Холостой патрон в казенник ствола Николай Орешин дослал еще на квартире Орлова, но перед выстрелом забыл вынуть боевую обойму — пистолет автоматически перезарядился. В темноте же, ощупью торопясь поставить его на предохранитель, он от волнения пережал пальцем на спуск и не удержал боек. Тут и произошел неожиданный второй выстрел — пуля ударила в дорогу где-то между стоящими напротив Орешина приятелями, так ничего и не понявшими. А он чуть не умер от разрыва сердца. И умер бы, наверное, раздайся чей-нибудь вскрик-стон. Пронесло.
«Дурак стреляет, а судьба пули носит!» — говорил Николаю старший лейтенант Еськин, предостерегая от применения оружия в многолюдных местах, как в городском парке, например.
«Мог ранить, искалечить, убить!» — еще раз содрогнулся Николай Орешин от представленной беды. Хорошо, что ночь, темень, — липкий пот стекал из-под козырька форменной фуражки, а по телу под гимнастеркой пробегал, как рябь по воде, нервный озноб. Ему уже казалось, что выстрелы давно услышаны дежурными в горотделе милиции и несется теперь сюда, за город, патрульный мотоцикл.
«Даже уйти с территории своего служебного участка не догадался! — клял себя мысленно Орешин. — И опять этот Орлов! Клёмин, по обыкновению, будто и не настаивал — стреляй не стреляй, мол, твое дело, если боишься…»
— Ну что, довольны?! Чуть вас не подстрелил, да и вообще, знаете, чем все это для меня пахнет?
— Тухлым яичком, чем же еще! — засмеялся Клёмин.
— Вот-вот! Кто-нибудь из здешних жителей завтра накатает заявление о стрельбе, и выпрут меня!..
— И правильно сделают! — воскликнул Орлов. — Я б, знаешь, даже помог! Ты механик, вот и механничай, не суйся не в свое дело. Чего доброго, ты и к нам с Игорем скоро станешь придираться, штрафовать — с тебя станется!
— Я-то утречком на свою Ангару отбуду, а вот ты, Степан, поберегись! — засмеялся Клёмин. — Напьешься, тебя опять на танцы в парк потянет, а он возьмет тебя под белы рученьки — и в вытрезвиловку!
— А пусть только попробует!
— Один женился, другой не мог отказаться от комсомольской путевки в милицию! Не, братцы, с вами каши не сваришь. А так бы сейчас втроем поехали на Ангару!..
— Не хнычь. И не утечет твоя Ангара, если у меня еще немного поживешь, — сказал Клёмину Степан Орлов. — Софочка моя эту неделю в ночную смену работает, дочку мамаша наблюдает…
— Хорошо бы пожить здесь еще, да надо ехать… Вам хорошо рассуждать — все пристроились, приступили к исполнению, так сказать. Один я пока неприкаянный! Эх, братва, пошли хоть напьемся напоследок — у меня в чемодане припасено! А утром, к семи, на вокзал проводите.
— Но мне нельзя! — запротестовал Николай Орешин. — И с оружием я не останусь. В семь утра мне нужно быть уже на своем участке!
— Как хочешь, дело твое! Нам больше достанется, — с явным сожалением в голосе, впрочем, сказал Клёмин. — Не поминай лихом!
— Нет, ты погляди, Клёма, каков фрукт! — хохотнул Орлов. — С нами ему уже нельзя!
— А что, обязательно напиваться, в здравом уме проститься нельзя, что ли? — не выдержал Николай. — Да и не навек же расходимся!
— Навек, видно. Пошли, Клёма, с ним как с человеком, а он милиционер милиционером!
II
Валька Гнилой совсем уже было пристроился ломануть запор на двери продовольственного киоска, как бабахнули выстрелы почти рядом, у железнодорожного переезда. Стрельба не то чтоб напугала Гнилого, но остановила его руки с ломиком, уже вложенным в дужку хлипкого замка с «контрольной».
Чутко послушав ночь, он снял ломик и, не спеша, немного отошел от киоска по улице, сел на скамейке возле какого-то дома, кинув железку себе под ноги. Сразу же за забором в глубине темного двора предупреждающе заворчала собака, но лаять не стала, из чего Гнилой машинально заключил, что это был серьезный пес, связываться с таким вообще не стоит.
Говорят, что собака — друг человека. Друг только для одного человека, прибавил бы от себя Гнилой. Друг хозяина своего, будь то охотник или мужик-куркуль, посадивший ее на цепь возле своего добра и бросающий хорошие кости. Есть, правда, еще и другие собаки — бездомные бродяги, они по-волчьи сбиваются в стан возле пустырей и помоек, по-заячьи трусят от одного вида приближающегося человека. Бродячие собаки не дружат, не постоят друг за друга, заискивающая сторожкая покорность за подачку может обернуться в них наглостью и звериной злостью…
Одним словом, на безродного, бездомного человека по кличке Гнилой, живущего сейчас под чужим именем Валентина Стофарандова, с прошлым, темным как эта августовская ночь, нашло тоскливое состояние раздумчивости — занятие для него самое ненавистное и мучительное.
Гнилой — вор широкого профиля с вкрадчиво-интеллигентскими повадками карманника. Невысокий, сутулый, худощавый мужчина за тридцать лет, с лицом несколько удлиненным, лошадиным, бледным, с яркими пятнами румянца на щеках — свидетельство безнадежно запущенного туберкулеза легких. Кашляет он иногда мучительно долго, бывает уже — с кровью. Глаза у Гнилого навыкате, как говорят, лупастые, полуприкрытые веками, всегда избегающие прямого взгляда. Под подбородком на горле — комковатый лилово-багровый шрам от ножа…
В Двуречье Гнилой заехал, потому что сзади было уже горячо, пятки припекало — еле ушел. Нужно было уйти «на дно», переждать, ну и если пойдет масть, как говорится…
Пока он в новом городе не разжился, потому что, во-первых, приехал без помощников (разругались в дороге), во-вторых, здесь свои вор южных дел мастера — сосвежа наследить, всполошить уголовку нельзя, неэтично и опасно от тех же коллег, среди которых оказались и давние знакомцы. Но прижиться можно: изучи местные условия, так сказать, познакомься с кем следует, предъяви авторитет (есть кому засвидетельствовать), отдарись, коль надо, — и пожинай плоды на отмежеванной тебе ниве. Там и помощницы подъедут к Вальке, никуда они не денутся. Эти две шмары, между собой родные сестрицы, несмотря на сумасбродность и некоторую истеричность, еще недавно были очень преданны ему, одинаково страстно его обожали и без всяких там ревнивых штучек уступали одна другой, когда он пожелает. Встретить их следовало хорошо, тем более, что отношения уже не прежние.
Вот и приглядел Валька Стофарандов этот богатенький продовольственный киоск от железнодорожного ОРСа — здесь сразу можно взять все для хорошего ужина: вино, шоколад, сыр, копчености и даже фрукты.
Вообще-то с киоском теперь он сам мог бы и не возиться. Время в Двуречье не было пустым: сам того не предполагая, он обзавелся, кажется, новым помощником, чуть ли не рабом, пожалуй готовым пойти на все, чтоб поскорей выплатить Вальке энную сумму «долга». Долга-то на самом деле не существовало! В этом вся штука. Просто Гнилой «купил» одного паренька на том, что сообщил ему о якобы грозящей беде его матери: проиграна, мол, в карты преступным миром, ее должны убить, но можно откупиться… О, Гнилой мастак на всяческие уловки, особенно когда зол, он здорово насчет их соображает.
А получилось так. На улице его внимание привлекла одна женщина, следя за ней, он оказался в переполненном хлебном магазине. Тут ожидали привоз свежего хлеба. Женщина разыскала в очереди какого-то юнца, переговорила с ним, хотела дать денег из носового платка за пазухой, но передумала, осталась в очереди, вернув сверток на прежнее место. Гнилой стал «притираться» к намеченной жертве.
Нет, он совсем не тешил себя иллюзией, что скромно одетая, примерно его лет женщина, наверное, простая работница, могла бы иметь при себе тыщи. Разве что для поддержания своей «профессиональной» формы задумал он кражу. Да еще потому, что женщина была больно уж хороша собой, ладная — вот именно таких он особенно любил «наказывать», считая и так их непозволительными богачами. А стариков всяких и невзрачных особ Гнилой сторожился, словно они грозили несчастьем.
Такие его причуды, естественно, вызывали недоумение и недовольство напарников. Действительно, не глянулась продавщица в магазине — он отказывается от намеченной кражи, несмотря на все благополучие наводки! И хоть ты ему что. Уведет свою шайку-лейку в другое место. Психом его за это считали, придурком. Но командовал он — и мог себе позволить. Короче говоря, через очень малое время платок-кошелек из-за пазухи, женщины перекочевал в карман Гнилого. Он мог бы погордиться тогда чистотой проделанной операции, жаль только, что не перед кем было. Ну, а вознаграждение… Старое письмо, паспорт и… трешка денег! Зло берет, конечно, но чего не бывает? Однако неизвестно еще зачем (вопреки своему правилу подальше уходить от места кражи) он вернулся в магазин и что увидел?
Дурная баба, лишившись своих трех рублей… упала в обмороке! Тут к ней из очереди бросились кто с водой, кто с утешениями. Сволочи! Больше того, шестнадцатилетний поди лось, мальчишка принародно распустил нюни — смотреть противно и слушать тошно: «Мамочка, мамуля, маменька! Не умирай, пожалуйста, родненькая моя!..»
Очередь тоже носами захлюпала — всеобщее горе: трешку стянули, на которую разве что кружку пива выцедишь по жаре!
У! Была б у него тогда с собой «пушка» — всадил бы в бабу пулю поглубже, чтоб оплакивали не зри. И сыночка ее заодно б, на одну пулю нанизать обоих, ведь патронов у него всего четыре осталась, нет лишней для маменькиного сынка.
Он видел в жизни больное — разрыдался?! Не ломали ему мужики ребер на базарах и в подъездах, не выбивали зубы за мое почтение сокамерники в тюрьмах или паханы-хозяева разные, брюхо не протыкали ему пером-ножичком в теплой компании жиганов, горло не перехватывали как куренку!..
Шестерки несчастные, крохоборы, из-за рубля ведро слез своих не пожалеют и всей своей крови, только попадись им, отмутузят так, что век на больничку воровать станешь!..
Он долго жил какой-то будто отстраненной, не своей жизнью, бессознательной, принудительной, когда во исполнение чужой сильной воли воровал, грабил, подличал, попадался, сидел, убегал, но всегда раболепно возвращался к последнему своему хозяину. Их много было у Гнилого, хозяев, паханов разных воровских наклонностей, из-за чего, может, ни одно преступное занятие он так и не смог освоить до конца безупречно, хотя к карманным кражам, например, имел давно особый интерес и несомненные способности.
Его, прыщеватого пройду-мальца, более удачливые и сильные урки отнимали у менее удачливых и ослабевших, его продавали даже и проигрывали в карты. Все было. Теперь он не тот, да и времена иные, хоть и он тоже миновал свой пик бездумной рисковой отваги, дерзости, снискавшей ему некоторую даже устрашающую славу, когда многие за счастье почитали покровительство Гнилого, спешили назваться его корешами. Он не открещивался, только криво усмехался, по-куриному смежив веки, и никто толком не знал тогда, о чем он думает. И никто на свете никогда не знал думок Вальки Стофарандова, Петра Кузнецова, Ильи Рязанского…
По дорожке, накатанной для него другими, он так и проскочил поворот, когда можно было еще затеять какую-то другую жизнь. А может, он не узнал своего поворота, не почувствовал, а никто, конечно, не подсказал умело и в срок. Вот и делается временами теперь Гнилой лютым, страстно желая всему человечеству непокоя своего и нездоровья, чтоб ни чистой радости никому, ни чистой любви, ни слез, даже облегчающих, ничего! Он сам в такие мгновения задыхался от слез бешеного бессилия и темной ненависти, от зависти, от страха и смертной тоски. А если под рукой тогда оказывалась какая-нибудь из тех двух сестриц или другая шалава, он находил способ причинить немедленную боль, вызвать страх, слезы, отчаяние — это его немного успокаивало. Пусть хоть так почувствуют его на этом свете, пусть хоть поэтому разок вспомнят, когда он свое доживет, исчезнет!..
Короче говоря, Гнилой увязался тогда следом за этой женщиной с сыном, проследил, где живут, уже зная, что какую-нибудь «козу» да подстроит он этому милому семейству. Вот и подстроил, правильно рассчитав сильную любовь юнца к своей матери, а также его некоторую осведомленность и страх перед неведомым преступным миром, ведь парень уже и сам поигрывал в карты, бакланил с дружками-приятелями по городу.
Сделал все Валька Стофарандов тщательно, хитро и убедительно. Хоть малец, видно, растрепался товарищам и они увязались за ним выследить Гнилого, «прижучить» — не на того напали! Он ушел, а потом ловко передал через третьи руки записочку в нечаянном месте: «А завтра ты ко мне ментов приведешь, фрайер дешевый? Смотри!..» Конечно, мальчишка поверил, что мать его ждут нешуточные беды, что имеет он дело с настоящей шайкой, да и как не поверишь, если где-то в городе тебе невзначай записку кто-то вручит, в кино вдруг шепнут о назначенной встрече или об отмене ее?! Он, наверное, думал уже, что весь город ополчился на них с матерью, стерегут за каждым углом с ножиком — чуть ли не следом за матерью ходить стал по дому, сам вызываясь то за водой к колонке, то в магазин за хлебом, даже днем во дворе спуская с цепи злую собаку, специально раздобытую через дружков. Он поди сам не свой от счастья был, когда Валька предложил ему «откупить» жизнь матери и назначил пятьдесят тыщ. Где он возьмет деньги? Вообще-то он мог бы ему посоветовать, но не спешил, боясь переиграть, перестараться, — никуда он от него не денется, рано или поздно потянется за чужим рублем.
От души хохотал Гнилой, когда малец в оплату оговоренной суммы принес чуть больше сотни рублями и даже мелочью — Беликовой старый загнал на барахолке, да еще приятели собрали ему всю наличность.
— Я, может, больше в школу не пойду и устроюсь на лесозавод подсобным — там по четыреста рублей платят, знаю! — Гордо заявил он Гнилому.
— Давай посчитаем, — кивнул тот, — если ты даже все до копейки будешь приносить мне с работы, то потребуется около двенадцати лет! Да я и не проживу столько! Меня свои же порешат — пулю плюнут в брюхо или перышком подрежут… — В доказательство такого исхода он тут же вынул обойму, отщелкнул один патрон и поставил на стол перед парнем, потом достал и положил рядом внушительный финач. — Вот и выбирай тут! — вздохнул он и, чтоб до смерти не запугать сомлевшего уже от страха «крестника», все убрал и ободрил: — Ничего, раз уж я сам взял на себя этот грех — согласился предложить выкуп — значит, тоже виноват, ничего не поделаешь. Знаешь, я, наверное, уплачу за тебя пока, а ты уж только со мной дело будешь иметь. Ну, я все узнаю и тебе сообщу… Эх, связался я с тобой на свою головушку!
А в душе Гнилой ликовал, наслаждался, что «месть» его удалась, что он сам еще ничего, хитер и внушает страх, — пусть знают, грозился он неведомо кому, пусть опасаются, я вам не хала-бала!
Злые мысли и теперь шпыняли душу Гнилого, отчего и приступы кашля делались чаще и мучительней. Даже собака за спиной зачуяла его злобу — насторожилась, опять взрыкнула. Он машинально тронул за поясом свой пистолет — с каким наслаждением всадил бы он сейчас пулю в этого понятливого, откормленного, сильного, видно, пса, послушал бы его перепуганный визг, предсмертные хрипы! Но… патроны, патроны…
Спешащий стук каблучков от железнодорожного переезда переключил его внимание.
«Должно быть, молодая бабенка со свидания чешет, — гадал он, — стать у киоска в тени, выждать, заступить дорогу, приказать молчать, а то и пристукнуть для верности по башке, для сговорчивости, для податливости, увлечь под тополя вон там…»
Так привычно проиграв режиссуру задуманного преступления, Валька, однако, не тронулся с места — не встал со скамейки, не пошел к киоску в засаду.
Каблучки стучали все торопливей и слышней, вон и платьице засерело у киоска, ближе, ближе…
— Ой, мамочка!!! Здравствуйте! Извините, я так напугалась! У своего дома, надо же! — шарахнулась прохожая, поздно заметив сидящего на скамейке Гнилого, убыстрила шаги и скоро, где-то через два-три дома дальше, стукнула щеколда калитки, раздался радостный лай собаки.
В ушах Гнилого все еще дрожал испуганный вскрик молодой девушки, от него вдруг только сейчас и проснулось в нем настоящее звериное желание, злость на себя, на свою лень какую-то сегодня: киоск не тронул, эту вот лакомую пампушечку!..
Он встал, шарахнул ломиком по забору так, что пес за ним прямо зашелся лаем, в злобе удушая сам себя натяжкой цепи. Всполошились и другие собаки по улице, так что он шел прочь, облаиваемый почти у каждого дома. Думал: «А собачатины мне надо бы уже добыть себе — кашель, может, уймется немного».
III
По периметру внутреннего двора городского отдела милиции располагались гаражи дежурных автомашин и мотоциклов, дом для задержанных, скрытый вторым высоченным забором под колючей проволокой по верху, вольеры розыскных собак. Посредине двора стояло одноэтажное деревянное здание, где размещалась хозчасть, дежурка проводников служебных собак, а три комнатки с противоположного входа служили гостиницей для командированных сотрудников. В одной жил Николай Орешин. Кровать, тумбочка, два стула, одно окно с зелеными саржевыми шторами…
Вернувшись далеко за полночь, Николай первым делом разулся — наломал ноги в тесноватых сапогах, не зажигая света, отдернул штору на окошке так, чтобы свет электрических лампочек от вольеров ложился на тумбочку. Разобрал и почистил пистолет, положил кобуру под матрас в головах, сел на кровать, сдернул с плеч гимнастерку и привалился спиной к прохладной, недавно побеленной стене. Сморился…
Колька совсем сомлел от духоты на чердаке дома. Захлопнул учебник, сунул его под брючный ремень, чтоб не мешал пробираться к выходу через частые перекрестья досок и брусьев, подпирающих ветхую крышу. Старательно переступал все, пригибался, боясь задеть что-то и повредить крышу — в дождь тогда и вовсе не хватит банок под течи в потолке.
Взмок он, пока выбрался к вольному воздуху, устало вздохнул, утер пот со лба, уперся руками в серую рогатину старой расшатанной лестницы и прищурился, привыкая к разлитому вокруг ярко-белому июльскому зною, прикидывая заодно: «Чем дальше заняться?»
Все сверстники сейчас на покосах копны сена в стога лошадьми сгоняют, лучший друг, Вовка Поскотин, до начала занятий в школе уехал в Хабаровск, там у него тетя в парке культуры и отдыха контролером — катайся на карусели сколько хочешь, ешь мороженое, купайся в Амуре, ведь парк расположен как раз на его высоком берегу. Ну а здесь, в селе, только бездельная малышня купается и бурую черемуху теребит на амурской протоке Молочной, где сейчас устроен летний лагерь доярок. И десятилетней сестры Томы сейчас нет: она с матерью на совхозном поле огурцы собирает, работает, потому что послевоенные годы еще трудные, каждому работнику рады, хоть и десятилетнему. Кольке четырнадцать, но на работу ему нельзя, он готовится к вступительным экзаменам в речное училище в далеком отсюда городе Двуречье. На чемодане, можно сказать, сидит, хотя никакого чемодана у Кольки, понятно, нет еще. Да и в доме его нет. Был фибровый отцовский, так он давно покоробился, а петли, замочек и металлические уголки облупились, поржавели и, наконец, у этого чемодана крышка начисто отвалилась. Стоит теперь эдакая коробка под кроватью — в нее мать складывает первые помидоры со своего огорода, чтоб дозревали.
— В темноте они быстрей, — говорит Кольке мать. — Вот соберем полнехонький чемодан, продадим на базаре в Хабаровске, и будет тебе копейка на билет к учению.
А вчера Томка с совхозного поля унесла два больших бурелых помидора, положила в чемодан и рада.
— Глянь, мои уже почти до краев достали!
— Твои! — фыркнул Колька. — Раз твои, так взяла бы и съела, а то будет тут со всего света натаскивать.
— Молчи знай, много ты понимаешь! — прикрикнула сестра и деловито отряхнула косынку, в которой те два помидора были завернуты.
«Вот лучина длинная!» — удивился Колька смелости сестры и даже растерялся немножко, поняв вдруг, что по-прежнему огрызнуться или легонько шлепнуть для порядка сестру уж будто нельзя — работница! Да и ссориться с ней ему невыгодно: перед отъездом в Двуречье надо бы письмо передать однокласснице, работающей поди сейчас на одном поле с Томкой…
Спрыгнув с лестницы, он пошел к дому, положил учебник под крыльцо. Вышел на улицу, ведущую к железнодорожному вокзалу. Он не имел цели прощаться с деревней, но так невольно получилось сегодня. Посмотрев в сторону станции, вспомнил, как совсем недавно в вагоне-клубе его место в кинозале оказалось как раз позади Зои Борисовой. Весь сеанс он тогда смотрел не на экран, а на подсвеченные кинолучом милые косички впереди, ловил волнующий шепот Зои с подружками…
Когда в село приезжала кинопередвижка, в маленький кособокий от ветхости клуб набивалось столько народа, что не продохнуть, да еще мужики и парни дымят махоркой в потолок. Приходят в клуб со своими скамейками и табуретками, окна занавешивают принесенными одеялами, экран — простыня. Мальчишки располагаются прямо на полу и ждут не дождутся, когда же киномеханик закончит продавать билеты в дверях и выйдет заводить свой движок, начнет кино!?
В вагоне-клубе все не так. Билеты здесь продают в окошечке с надписью «касса», кино показывают через другие похожие окошечки и не по частям, а непрерывно. В зале ряды кресел с откидными сиденьями под номерами, всюду чисто, от стенок незнакомо пахнет приклеенным тисненым линкрустом. И говорить громко здесь боязно, а Зоя беспечно смеялась с девчонками до начала кино, свободно обращалась к кому-то на соседних рядах. Чувствовал Колька такое стеснение и восторг, будто попал он ненароком в неведомый Зоин мир — как-то таинственно здесь и хорошо!
Теперь у Кольки дома лежит прощальное письмо Зое…
А как все, тоже таинственно, трепетно и хорошо, начиналось у них! Он получал нечаянные будто записки от нее, находя их то в тетрадке, то в сумке с учебниками, то в кармане пальто. Писал сам длинные и высокопарные послания, сгорая от сладкого стыда за все там свои «люблю» и «целую», подчеркнутые дважды для заметности.
Классная отличница Ольга Башарова как-то наедине огорошила Кольку чуть ли не до слез:
— Зачем ты, Коля, Борисовой пишешь, унижаешься?! Ты, может, и от души, а она твои письма читает вслух всем подружкам, и они… хохочут! Да и не только тебе они сообща письма сочиняют — вот! — заключила Башарова с честным негодованием в голосе, а Колька озверел.
— Врешь, зубрилка! Зачем подслушиваешь, зачем сочиняешь? Не твоего это ума дело, поняла? Лупоглазка белобрысая!.. — так с маху обидел Колька Башарову, убежал с последних уроков к самому Амуру за пять километров. Сидел на высоком берегу перед мутной, сорной весенней рекой на своей матерчатой сумке с книжками и уже не плакал, а во весь голос на ветер сочинял отповедное письмо Зое Борисовой…
Плыли по Амуру частые еще желтые льдины. Порывистый весенний ветер подгонял их, кружил на стрежне и веял на Кольку бельевым запахом омытых дождями парусов…
Ничего. Скоро кончится школа, он поступит в речное училище, там ему выдадут настоящую флотскую форму, будет он… Лучше бы, конечно, не дожидаться — позарез бывают иногда нужны человеку немедленные перемены!
Колька вздохнул и решил пойти на Молочную искупаться, ведь не сегодня завтра принесет почтальон вызов в училище, и не останется времени наведаться во все знакомые места, а когда еще доведется?
В перелесках редко и грустно куковали кукушки, верно сильно постаревшие уже к наступающей осени. Знойно стрекотали кузнечики в пыльной горячей траве. Наезженная подводами проселочная дорога колола босые ноги, и он пошел обочиной по обтоптанному подорожнику, покрытому толстым слоем серой пыли. Иногда Колька забегал подальше в траву и гибким прутиком сшибал серебристые папахи одуванчиков, рассеивая их летучие семена.
Колька загадывал кукушкам: через сколько примерно дней ему уезжать? Получалось, что совсем скоро. Хорошо бы хоть после воскресенья, может, на станцию опять прикатят вагон-клуб, и он снова увидится там с Зоей, а то и сам насмелится передать ей письмо. Но тогда его следует переписать. Он так напишет: «Я уезжаю, но все думы оставляю здесь с тобой!» Или так: «…уезжаю, но оставляю здесь свою душу!».
Уедет Колька Орешин, а в какой-то миг выпорхнет его душа и останется в деревне, дома, в родимых местах. Она выпорхнет уже в воскресенье в вагоне-клубе, или когда кондуктор засвистит паровозу трогаться в далекий город, или еще до кондуктора, когда мать скажет: «Присядем, сынок, на дорожку…»
Орешин очнулся и некоторое время не шевелясь так и сидел, привалившись к стене. Приглушенно тикал будильник в тумбочке, частыми порывами продирался ночной ветерок в кроне тополя… Кажется, он слышал даже частый стукоток своего собственного сердца, разволнованного нечаянным сном. Тоска по дому стеснила грудь, захотелось увидеться со старым другом Вовкой Поскотиным, а то и с Зоей. Они теперь студенты пединститута в Хабаровске.
Когда-то Николай с Вовкой одни и те же книжки читали, одни и те же карикатуры из «Крокодила» срисовывали, соревнуясь в точности копий, учились игре на гармонике, рыбачили на одном и том же месте, работали в совхозе на прополке, на сенокосе, на уборке овощей. Лишь свое чувство к Зое Борисовой он скрывал от друга, и кто бы знал, как нелегко было это сделать! А вот в речном училище перед Орловым и Клёминым он однажды раскрылся со своими думами и крепко пожалел — столько пошлых советов они ему надавали, что душа еще долго корежилась в огне стыда и злости на свою неосмотрительность.
Степан Орлов и Игорь Клёмин были парни городские, разбитные, бойкие. С первых дней знакомства они взяли над Николаем Орешиным своеобразное шефство: учили танцевать, умению подойти и познакомиться с девушкой, вести разговор. Орлов специально познакомил его с одной из квартирующих в родительском доме студенток лесотехникума — Галей Остапенко. С двумя ее подружками, Верой и Соней, дружили сами «учителя». Почти все четыре года учебы в училище продолжалась дружба Николая с Галей. Это будто злило приятелей Орешина — сами-то они имели множество других знакомств с девушками. Степан, правда, старался и Соню не забывать время от времени. А позже выяснилось, что он боялся и медлил поступить так, как обещал девушке, но все равно ему пришлось жениться на Соне. Она вынуждена была прийти к начальнику училища, и…
В день свадьбы особенно было заметно, как зол и недоволен происходящим Степан Орлов. Соня же выглядела вполне спокойной и радостной.
«А что? — рассуждала Галя Остапенко наедине с Николаем. — Правильно поступила подруга, теперь ей и родить не страшно: отец записан — и никуда не отвертится — жить не захочет, так алименты платить заставят голубчика!»
«Вот оно что! — разом прозрел Николай Орешин, все недоумевавший, как Степан согласился жениться на Соне без любви, зачем было устраивать свадьбу и все это притворство. — Сделка тут, оказывается, и больше ничего. Одну сторону такое удовлетворяет, другой стороне просто некуда деваться».
Но и злорадные нотки в голосе Гали Остапенко тоже не понравились Николаю. Он ничего ей не сказал, правда, а Степана пожалел от души.
Отношения с Галей в дальнейшем как-то скомкались; она от Орловых съехала на новую квартиру, где он уже не был ни разу, а затем сами собой прекратились, тем более, девушка уже окончила техникум — она шла выше курсом — стала работать. Они вообще перестали даже видеться.
А Степана Орлова женитьба, кажется, совсем не переменила: он и домой после занятий не опешил, как другие женатики, и коллективные походы в кино и вечера в соседних учебных заведениях не пропускал, по-прежнему из-за девушек ввязываясь в разные истории и вовлекая в них Николая с Игорем Клёминым.
Однажды он открылся Николаю вообще с неожиданной стороны. Жена его родила девочку, и они вдвоем пошли проведать Соню в родильном доме. Через дежурную передали гостинцы, ждали записку. А тут приехала на двух такси очень шумная, возбужденная компания забирать новоявленную мамашу с ребенком. Поздравления, поцелуи, цветы, шампанское на ходу!.. Уехали. На одном из стульев оставили дамскую сумочку. Степан подошел, открыл, показал Николаю пачку сторублевок и полсоток, пожалел:
— Если б мы не ждали записку, то были б эти все деньги наши, а так придется взять только на шампанское… — С этими словами он отделил несколько бумажек, остальные втиснул в сумочку, кинув ее на место. Вскоре вернулось одно такси, влетела взволнованная женщина, схватила со стула свою сумочку, заглянула в нее мельком и с облегчением улыбнулась:
— Слава богу! Чуть все свои документы не потеряла, раззява!
Николай тогда не знал, куда глаза девать, куда руки спрятать от ожидания, что их тут же уличат в краже денег, назовут воришками и все такое.
«Сдрейфил, Орешек? — спросил позже Степан. — Сдрейфил, я и так видел. Кишка тонка у тебя на рисковые дела. Эта баба, видно, счета своим деньгам не знает, можно было бы и больше — не воровство это, а дележка!»
Орлов остался в Двуречье по семейным обстоятельствам, работать пошел турбинистом на городскую электростанцию. Игорь уедет утром — кончился отпуск после учебы.
Поступив в милицию, Николай ожидал новых товарищей, думал, что с новым делом придут к нему сами собой сильные человеческие качества. И вот сегодня эти выстрелы, неловкое прощание с Игорем, воспоминание всего, что было у него связано с ними…
Вдруг он представил Игоря Клёмина рядом со Степаном в тот день в роддоме: он тоже, наверное, не препятствовал бы Орлову, но не молчал бы растерянно, как Николай, и изрек бы нечто вроде своего непременного «как хочешь!». А ведь здесь тоже своя позиция и, может, характер. Выходит, в жизни всем следует быть кем-то определенно, узнаваемо. И бесхарактерность, наверное, узнается, но…
Нет, недоволен сегодня собой Николай Орешин. Очень недоволен. И тут его осенило начать новую жизнь. А чего ждать? Еще раньше надо было! Решено: отныне он станет продумывать каждый свой шаг, взвешивать каждое слово, что нравится — перенимать, что противно — отвергать решительно и бесповоротно. Словом — впереди новая жизнь!
IV
Суббота. Танцевальная площадка городского парка так переполнена, что кажется, вот-вот где-нибудь лопнет ее высокая реечная ограда. Еще танцплощадка кажется гигантской грудной клеткой, где дыхание сперло от неубывающей летней духоты, от неумолчного людского гомона, от жаркого блеска труб духового оркестра.
Лишь один человек подчеркнуто не подчинялся сейчас ни всеобщему оживлению, ни музыке, ни челночным пригласительным течениям молодежи перед каждым новым танцем — это был Николай Орешин. Он неторопливо и по возможности размеренно шагал по периметру танцевальной площадки, и взгляд его был то прям и радушен, то строг и озабочен, как у хозяина веселья, музыки и лета. И люди расступались перед молодым младшим лейтенантам, парни торопливо гасили папироски или прятали их за спину, разгоняя дым перед собой, девушки на мгновение умолкали, провожали долгими взглядами и вдруг взрывались смехом или таинственно шептались.
На Николае Орешине видавшая виды хлопчатая темно-синяя гимнастерка под новой портупеей, начищенные до глянца хромовые сапоги «гармошкой», серебряные погоны. Форменную фуражку он пес в руке, утирая со лба обильный пот скомканным носовым платочком.
Жарко. И еще тесноваты сапоги. Он их выменял у старшего лейтенанта Еськина на свои грубоватые яловые. Гимнастерку и шаровары тот отдал за ненадобностью. Иначе долго бы пришлось Орешину ходить по принятому от Еськина участку в штатской одежде и вместе со служебным удостоверением, отпечатанным пока на обыкновенном листке бумаги, предъявлять и паспорт недоверчивым гражданам (на его временном удостоверении нет фотографии).
Полученные отрезы на пошив форменной одежды он сдал в ателье, но там много заказов, потому что в милиции сейчас вводится новая форма: темно-синий костюм «под галстук» вместо глухого кителя, черная шинель вместо синей, с красной окантовкой бортов, лацканов, клапанов карманов и хлястиков.
Выйдя с танцплощадки, Николай Орешин пошел в пикет, где у телефона он оставил дежурить бывшего бригадмильца, а теперь командира добровольной народной дружины соседнего с парком электроаппаратного завода. Это был кузнец Иван Осипович Потапкин — здоровяк-мужчина сорока пяти лет, с косматыми рыжими бровями, с крупной, совершенно лысой головой. Потапкин и всю войну прошел кузнецом в рембате артиллерийского полка, ни разу не был ранен, а вот в мирное время, в схватках с преступниками — дважды. Этот человек так проникся участием в борьбе за правопорядок, что нередко сам приходил в отдел милиции выпрашивать задания, а по вечерам увязывался за Еськиным и его стажером Орешиным патрулировать на участке, в воскресные дни — в гор-парке. По месту жительства Потапкина избрали председателем уличного комитета.
Николай Орешин знал, что в горотделе считают Потапкина законченным чудаком, непроходимым законником, везде и всюду замечающим «непорядок», вечно кого-то подозревающим. И хоть подозрения бывшего бригадмильца частенько подтверждались, снисходительное отношение к этому человеку не исчезло, ведь трудней всего бывает понять профессионалу широкое бескорыстие и неугомонность дилетанта.
В пикете кроме Потапкина Орешин застал еще четверых мужчин, повязывающих друг другу на руки полоски красного сатина.
— Товарищ младший лейтенант, а я все же дозвонился до автобазы — прислали вот людей на дежурство! — весело сообщил Потапкин, кивнув на невеселых парней и одного седого мужчину, одетых явно не по-выходному, в чистую, но простенькую одежду.
— Только из рейса вернулись, а нас диспетчер сюда завернул — пожалуйста! — сказал один из молодых шоферов.
— Раз так, то какая же вам сейчас служба? — пожал плечами Николай Орешин. — Идите по домам, отдыхайте. Добровольная дружина — силком да приказом нельзя!
Шофера переглянулись, но пожилой решительно сказал:
— Нет, мы подежурим, раз пришли. Добровольство добровольством, но дело это и общественное, я так понимаю! Нравится не нравится, а надо — и весь сказ!
— Что ж, запишите тогда всех в журнал, Иван Осипович, проинструктируйте, — сказал Потапкину Николай и услышал потом, что фамилия пожилого шофера Колесов, а все молодые товарищи зовут его просто Касьянычем. Понравился он Орешину прямотой и ясностью рассуждений — такой человек, наверное, в любом положении свое место сразу определит.
С дружинниками Николай прошелся по самым отдаленным аллеям парка — кого мимоходом приструнили, двум подвыпившим мужчинам посоветовали направиться домой. На одной из лавочек в затемненном месте дружинникам показались подозрительными три паренька. У всех троих в карманах оказалось необычное оружие — велосипедные цепи с бечевками для надевания, на запястье! Николай Орешин непроизвольно даже плечами передернул, вспомнив, как однажды его огрели такой цепью (не дал закурить!), когда он возвращался в училище, проводив после танцев Галю Остапенко.
— На кого приготовили? — спросил он мальчишек.
— Да так… мы просто…
Самый высокий из юнцов, похоже, собирается дать стрекача — вон как зыркает по сторонам из-под кепочки! Его-то Орешин и наметил для «поучительного» удара, подошел ближе, поигрывая цепью в руке.
— А если человека ударить, больно ему будет?
— Не зна!..
— Испробуй! — Орешин вполсилы быстро опоясал парнишку пониже спины. Получилось, видать, больно: тот ойкнул, ухватился руками за больное место. Два его приятеля тут же, как по команде, сиганули в кустарник — только их и видели! За них Николай хотел еще раз ударить оставшегося, но руку перехватил Касьяныч.
— Довольно, лейтенант, стыдись! А ты виляй отсюда, паренек, да не носи впредь всякую дребедень по карманам.
Отбежав на почтительное расстояние, подросток остановился и зло крикнул:
— Ну, мильтон, попадешься — не обрадуешься!
— Беги, беги, герой! — усмехнулся Николай. — Беги, а то вот добавлю! — потряс он цепью и сделал вид, что собирается догнать. Потом обратился к дружинникам: — Видите? Черта с два он послушает ваши резоны, Касьяныч!
— Ну и это негоже — бить, — возразил шофер. — Привели бы в пикет, узнали фамилию, где живет, учится…
— Ничего, так даже наглядней! Меня тоже раз было ужгли такой штуковиной, так почище скипидару! За пять минут прибежал к своему училищу, когда обычно и за полчаса не добирался.
— И все равно неправильно! — не сдавался Колесов. — Это самосуд. Откуда мы знаем, может, это совсем и неплохие хлопчики, с первого раза бы все поняли? А тут попали под вашу горячую руку — нехорошо!
«Вот дает старина — на обе лопатки меня припечатал!» — нервически как-то хохотнул про себя Николай Орешин, никак не сообразив еще, признать ли свою промашку тут же перед дружинниками или… Он оглянулся на отставших чуть сзади молодых шоферов, оживленно беседующих о чем-то своем, — похоже, они и думать давно забыли о происшедшем.
— Может, вы и правы, товарищ Колесов, но если каждый милиционер вместо решительных личных действий начнет размышлять и обращаться за поддержкой, то мало чего мы добьемся.
— А кто говорит?! На то и власть, чтоб ею пользоваться. Нарушил — оштрафуй, преступил — задержи, отдай под суд. Но коли есть возможность не рубить сплеча, так и не руби, будь великодушным и мудрым от власти своей справедливой!
— Конечно, конечно… — смутился совсем Николай, в душе почти восхищаясь Колесовым: «Шпарит как по-писаному, на все у него ответ готов! Адвокат, а не шофер».
Однако, несмотря на согласие с крепко сколоченными доводами Касьяныча, продолжать патрулирование с дружинниками Орешину не захотелось, и он скоро отделился от них под благовидным предлогом. Вернулся к танцплощадке, поговорил с контролерами, прошел за ограду. Оркестр как раз заиграл вальс. И тут же к Николаю подлетела красивая, раскрасневшаяся, видно, от танцев девушка, задорно выпалила:
— А я вас приглашаю на дамский вальс, товарищ милиционер!
— Да я же на службе! — вскинул глаза Орешин и тут только узнал в девушке Галю Остапенко.
— Даме отказывать — невежливо! — улыбнулась она, краснея еще больше. И он принял ее руки к танцу. Скоро, однако, почувствовал, что опять допустил промашку: на танцплощадке среди танцующих возникло к ним двоим какое-то ложно-любезное внимание, организовался специально свободный кружок, и всюду он замечал улыбочки, перешептывания, смешки…
— Галя, пойдем лучше отсюда, поговорим как следует? — шепнул он, и скоро они были на аллее.
— А я смотрю и глазам своим не верю: ты или не ты? Вообще-то мне Соня говорила… Мы с ней мастерами на лесозаводе. Так как же ты поменял форму?
— Обыкновенно. Вызвали в горком комсомола, направили на три года.
— Женился?
— А разве Соня тебе не говорила?!
— Да ты что о самом деле?!
— Нет, нет, ведь я знал, что ты бы это не одобрила — вон как сразу в лице переменилась, а?
— Ну тебя, скажешь тоже!.. А я здесь недалеко квартиру снимаю. Хозяйка уехала к родне, так позволяю себе иногда на танцы выбраться… А ты ездил домой, виделся со своей Зоей Борисовой?
— И дома не был и не виделся. Я же и отпуск весь, потратил на медицинскую комиссию, на стажировку… Теперь уж когда новый заработаю.
— Счастливая эта Зоя — знать не знает, что ее столько лет преданно любят! Черствая, наверное, раз не чувствует.
— Галя, не будь злюкой, ты же ее не знаешь!
— Да уж, съездить бы посмотреть!
— Ну вот, будем теперь на ходу колкости друг другу говорить?
— Вообще, действительно… Давай сядем на скамейку, а то мне все кажется, что встреча наша короткая, надо успеть многое сказать, а слова подворачиваются не те.
— Галя, но я ведь на работе! Скоро закрытие парка, нужно проводить людей, обойти все тут… Вон и дружинники мои никак меня разыскивают. Давай договоримся о встрече в другое время.
— А сегодня ты меня не проводишь? Я бы подождала…
— Но это хорошо, если к полночи освобожусь, и то, если ничего не случится!
— Я подожду.
Они договорились встретиться на выходе из парка, и Николай поспешил навстречу дружинникам.
— Товарищ младший лейтенант, а мы опять того хлопца задержали, которого вы цепью! В пикете он. Касьяныч послал за вами, говорит, что подозрительно: возле киоска с дружками ошивался.
«Ну вот, еще один бдительный в пару Потапкину отыскался — Колесов!» — весело подумал Орешин.
Касьяныч встретил его возле пикета, торопливо, заговорщицким голосам рассказал:
— Возле тира киосочек — мороженое, конфеты, шампанское… Идем мы, значит, а киоскерша как раз закрывать стала свою лавочку: деревянный щит на окошко поставила, с замками колдует. Вижу: ваш крестник напротив на лавочке сидит и глаз от продавщицы не отрывает! Подозрение на меня нашло, тем более, дружки тоже поодаль крутятся. Задержали его одного, потому как другие опять в бега ударились. Мои ребята хотели Догнать, да зачем — лови атамана, мол, и все откроется. Иван Осипович, который за старшего у вас в пикете, знает хлопчика, на одной улице с ним живет.
— Хорошо, большое спасибо вам, сейчас разберемся…
Что-то строго выговаривая, Потапкин прохаживался взад-вперед перед долговязым подростком, понуро сидящим на стуле. Одет он был в простенький хлопчатобумажный костюм, на ногах синие кеды, какая-то жиганская кепочка на голове, состоящая вся из клинышков, сшитых в острые уголки, — на велосипедную звездочку очень похожа.
— Вот познакомьтесь, младший лейтенант, — Ленька Дятел! — веселым голосом сообщил Потапкин, указав на задержанного. — А по-граждански, на миру, значит, зовется он Леонидом Андреевичем Дятловым. С нашей Кузнечной улицы! Ученик восьмого класса, хоть ему, огольцу, давно минуло полных осьмнадцать годков! — Любил Иван Осипович использовать в разговоре простецкое словечко.
— Ну а тех двоих бегунов как звать? — опросил Дятлова Николай и посоветовал. — А ты поднялся бы на ноги, Леонид, — отсидишь ненароком, и так, видать, к бегу-то резвости у тебя маловато, не то что у приятелей. И скинь свою кепулю.
«Кепуля» Николаю явно подвернулась как бы в тон Потапкину.
Дятлов поднялся со стула, скомкал в руках свою шевиотовую кепочку, но глаз от земли так и не поднял. Вопроса о приятелях он будто и вообще не слышал. Орешин повторил.
— Не зна!.. Так… В парке увиделись.
— Ясно. Предать боишься? Понимаю: тут же все твои враги! Дружинники — враги, сосед Иван Осипович, я — твой участковый…
— Ну да, а то я своего участкового не знаю! — Во взгляде Дятлова мелькнуло насмешливое недоверие. — У нас старший лейтенант дядя Ваяя Еськин!
— Не раз, видать, попадало от него — вот и запомнил! — засмеялся Потапкин.
— Мне не попадало, но я старшего лейтенанта тоже хорошо запомнил — обстоятельный человек! — отозвался тут же шофер Колесов. — Так где ж он теперь?
— На пенсию вышел, — ответил Николай и, повернувшись опять к Дятлову, укоризненно сказал: — Вот так знакомство у нас с тобой получается — грозишься, а?!
— Вы первые начали — нечего было драться!
— За это извини, не стерпел, понимаешь, ведь мне самому однажды пришлось на себе испытать это оружие — больно тоже было, уж поверь.
— Это не оружие — нет такой статьи!
— Ого, мы и законы знаем! Ну что ж, полезно будет пообщаться… — Про себя Николай уже решил, что с Ленькой Дятловым ему лучше всего разговаривать наедине — дружинников он тут же отправил наблюдать за порядком на выходе из парка. Потапкина, поблагодарив за службу, отпустил домой. Последнее было самым трудным: такая ясная досада появилась на лице Ивана Осиповича, такая неподдельная обида, что неловко было на него смотреть. У двери он помедлил, еще раз с надеждой предложил свою помощь:
— Разрешите, я во дворе погожу, пока побеседуете, а там доставлю Леонида прямо к его дому? Чтоб он больше нигде…
— Ничего, ничего, Иван Осипович, сам дотопает, без провожатых. Вас ведь тоже дома ждут дочери, внучата — отдыхайте, большое спасибо. Не в последний раз поработали сегодня, правда?..
Честно говоря, если б Николай сегодня не обещал проводить Галю Остапенко, то на уходе Потапкина он бы так не настаивал — и любом случае устеречь спокойствие ночного города вдвоем с надежным помощником легче. Да еще если с охотой на добрые дела, без спешки. Ведь как и Потапкин не опешит в свое, как он называет, бабье царство, так и Николай Орешин не торопится в комнатенку с видом на собачьи вольеры во дворе горотдела милиции, где ему валяться в одиночестве без сна на кровати, комкать, душить подушку в ожидании забвения от грустных думок. Наверное, и давний бригадмилец, не старый еще человек, полный сил и здоровой энергии, не может в немудреном быту смирить себя и целиком растратить. Жену Потапкин похоронил давно. Две дочери родили двух внучек. А зятья… Одного, пьяницу и дебошира, он сам помог выставить за порог. Второго склонил явиться в милицию с повинной в растрате, когда тот испугался и готов был удариться, в бега. Николай помнит разговор Потапкина о его дочерях с бывшим участковым Иваном Михайловичем Еськиным.
«Главное — для их счастья я ноль без палочки! — жаловался он. — Старшая получит из тюрьмы письмо от мужа — песни орет на весь дом! А то обе ни с того ни с сего заревут белугами. Смотришь на дурех и куда пропасть — не знаешь. А утешитель из меня и вовсе никакой!..»
После ухода Потапкина Николай немного помолчал, подыскивая слова к началу разговора с Дятловым, разглядывал его в упор. Ленька чувствовал на себе взгляд, непроизвольно хмурился, переминался то одной, то другой ногой в кедах приглаживая песок на полу пикета. Здесь когда-то был павильон, где торговали пивом и напитками, — пластиковые стены прямо на земле, брезентовый тент.
— Ну так что, Леонид, ты у киоска забыл? Зачем вообще в парке?
— Так…
— Ты не такай давай. Или вообще разговаривать со мной не хочешь?
— Почему? Хочу…
— Хочешь? Интересно! Ну говори, а я поддержу разговор.
— О чем?
— Да-а! Сказка про белого бычка у нас с тобой получается… Тогда расскажи хоть, кто у тебя отец, мать, где работают?
— Отца нет, погиб еще в войну под бомбежкой на паровозе — машинистом был. Мама работает обмотчицей на электроаппаратном заводе.
— Там, где и Потапкин работает?
— Он кузнец, а мама катушки какие-то наматывает тонким проводом…
— Братья-сестры есть?
— Один я.
— Тебе семнадцать лет? Почему только в восьмом классе?
— Шестнадцать. Год пропустил, мама болела. Моя мама очень сильно болела! — как-то даже воскликнул Ленька, и голос его вдруг сломался, задрожал, а глаза заблестели. — Отпустите меня, дяденька!
— Ну-у, такой!.. — Орешин хотел сказать «такой здоровый, а по мамочке рыдаешь!», но вдруг у самого что-то в душе отозвалось, дрогнуло, грустно заныло от дважды произнесенного Ленькой слова «мама». И как произнесенного! Нежно, с тревогой и болью.
— Ладно, Леня, ты иди, я тебя отпускаю, только ребят своих мне назови. Я запишу всех себе для знакомства, и дело с концом. Договорились?
— И ничего не договорились! Сказал: ничего не знаю! Чего пытаете?! Не буду больше говорить, хоть убейте! Не знаю никого! Не видел!!
Орешин с растерянностью смотрел на вызверившегося парня и боялся, чтоб с ним тут же истерики не было — явился он весь, задрожал, побелел, кулаки сжаты!.. Просто невозможно было узнать прежнего мальчишку, тихо рассказывающего о себе, волнующегося при одном воспоминании о своей матери.
— Ну как хочешь, дело твое! — быстро выпалил огорошенный Николай знакомую тираду своего уехавшего на Ангару товарища, Игоря Клёмина, почти со злостью в себе отмечая, что так и не начал еще новой жизни, продолжая обидные промахи, пользуясь чужими словами… — Иди, иди уж, герой! Раскричался — пытают его тут, понимаешь! Хочешь знать, так я и без твоей помощи всех скоро узнаю — плохо думаешь о милиции.
— Ну и узнавайте!
Ленька Дятлов то ли вздохнул, то ли передернулся, нахлобучил кепку на самые глаза и, еле выдавив из себя «до свидания», пошел к двери, оставляя на песке пикета четкие, елочкой следы кедов.
«Вот псих попался! — вздохнул Николай и тут же вспомнил об ожидающей его Гале Остапенко. — Теперь эта будет нервы трепать, обиженную из себя строить… Новая жизнь со старыми дырками!»
Галя ожидала в условленном месте. Жила она, оказалось, всего в трех кварталах от парка, недалеко от железнодорожного переезда, где недавно он затеял эту несчастную стрельбу… Слышала ли она?
— Глухой райончик. Как тут у вас, тихо? — спросил он.
— Да ничего будто… Побаиваюсь, правда, когда в ночную смену или со второй поздно возвращаюсь. Темно!
— И ведь не заставишь никак людей вывесить лампочки над номерными знаками домов — есть же постановление!
— А у нас горит лампочка — видишь, какие мы с хозяйкой дисциплинированные?!
Домик с призывно освещенным номером «13» стоял в глубине усадьбы за садом. Сад начинался прямо от калитки по обе стороны дощатого тротуарчика. При каждом шаге о колени терлись крупные головки ромашек, еще какие-то цветы, пахнувшие густо, сложно, напоминая вольное солнечное луговое лето, особенно милое в наступающей осени и посреди обтоптанной и закрытой асфальтом городской земли.
— Значит, и ты тоже на моем участке живешь? Если б и сегодня не встретились, я все равно бы узнал, когда пришел бы с проверкой паспортного режима.
— Тоже? А кто еще, если не секрет?
— Степан Орлов с Соней, еще кое-кто тебе незнакомый, как, например, бывший здешний участковый, бывший бригадмилец…
«Степан — бывший друг, — так еще уточнил он про себя. — А Галя, кем ее считать теперь?»
Конечно, она ему нравилась, не без волнующих чувств он целовал ее тогда, напрочь забывая о существовании на земле Зои Борисовой. Мысли возвращались к ней после, наедине, будто в туманности открывалась опять главная яркая звездочка, мучила его раскаянием, тоской и надеждой.
Дом охранял большущий пес Тарзан. Он даже голоса не подал, подбежав к Гале лишь у крыльца, а она вполне с серьезным видом тут же «представила» ему Николая:
— Вот, Тарзанушка, — это наш новый участковый, представитель власти, так что ты запомни наперед и не проштрафься!
Пес подошел к Орешину, внимательно «попробовал» воздух и не спеша отошел в тень за веранду, погромыхивая цепью.
— Вот телок-то! — невольно воскликнул Николай, вздохнув свободней после ухода собаки. — Зарегистрированный?
— Конечно! — засмеялась Галя. — А ты прямо нигде не забываешь про свои служебные дела! Зарегистрированный, зарегистрированный. Зайдешь в дом? Посмотришь, какая у меня везде чистота, порядок, а хочешь, я угощу тебя собственным печеньем — я умею стряпать вкусные вещи, ты еще не знаешь! Это у Орловых нас на квартире трое было — к печи ходу не давали…
— Спасибо за предложенное угощенье, но мне совсем не хочется есть, ты извини, Галя. Давай лучше на крыльце тут посидим, ночь вон уже и кончается…
— Да… Зря мы долго по улицам бродили — лучше б сразу сюда пришли. Мы с Соней иногда и чаевничали прямо на крыльце! Может, принести чего-нибудь?
— Да не беспокойся, я действительно сыт. Расскажи лучше, как там Соня поживает?
— А что Соня? Не будут они со Степаном жить — он вообще-то был хамом, хамом и останется! Ты еще не знаешь, наверное, но когда мы у него жили, так он умудрялся нам всем троим головы морочить. И так это у него ловко сходило! Когда других нет — он к одной с ласковыми словечками, потом к другой! Хоть и противно, а терпишь, бывало, ведь хозяйский сынок. Все стараешься в шуточки обратить, — ведь куда пойдешь квартиру искать в разгар учебы? А Софья, дурочка, попалась… Пьет он, бегает на танцы — я его и в парке видела… Представляешь, опять в гости напрашивается! «Иди ты подальше от меня», — сразу отрезала. Прохвост, каких поискать! Ну его!.. Ты-то хоть вспоминал про меня? Быстро мы как-то потерялись… Может, зря я тебе сегодня показалась?
— Ну! Фантазерка ты, и больше ничего! Я ж говорил, что и сам бы все равно когда-нибудь узнал, где ты живешь.
— Это случайно. А сам ведь не искал…
— Но мы же встретились так или иначе, и я рад, что как прежде сидим и говорим вот!
— Не как прежде, не как прежде! — возразила девушка уже со слезами в голосе, и у него, как недавно при неожиданных слезах Леньки Дятлова, в душе что-то жалостливо дрогнуло. Он легонько встряхнул Галю за плечи:
— Только не плачь, прошу тебя!.
Она вдруг прильнула к его груди и затихла, будто выслушивала его растерянное сердце — он даже дыхание придержал…
V
Работа участкового уполномоченного милиции на неделю вперед по часам и минутам расписана в книжке, называемой план-дневник. Паспортный стол, уголовный розыск, отдел дознания, служба ГАИ, детская комната, прокуратура, депутаты, руководители предприятий и учреждений, все граждане — каждый имеет к участковому просьбы, жалобы, поручения, указания, наставления. Все надо учесть, исполнить.
Так что обычный приход в какой-то дом — для участкового непростое дело: не забыть ни об одном решении и постановлении городской власти, проверить паспортный режим, беседуя с хозяевами, выяснить для себя человеческие и гражданские качества каждого, запомнить житейскую позицию, отношение к соседям, к воспитанию детей и, наконец, отношение к самому приходу в дом участкового. Может получиться так, что, побывав в доме один раз, расписавшись в домовой книге, ты навсегда потеряешь охоту прийти сюда еще, зная, что тут не помогут, утаят даже общеизвестные свидетельские факты, ни плохого, ни хорошего не скажут о самом знакомом человеке.
Передавая участок, старший лейтенант Еськин провел Орешина по предприятиям, магазинам, разом познакомил со всеми уличными комитетами, собрав их в конторе горзеленхоза, где была так называемая резиденция участкового — небольшой кабинет с телефоном и одним столом, с диванчиком для посетителей. С уличными комитетами вообще-то встретились прямо на улице, в прилегающем к конторе скверике, потому что в помещении всем мест не нашлось бы. Ну кого мог запомнить Орешин? Одного Потапкина, пожалуй, он и знал, ведь он с ним частенько по участку патрулировал, в парке. До заступления Николая на должность они с Еськиным прошли из дома в дом только три-четыре улицы, а их на участке за двадцать, да еще переулки!
Начальник патрульной службы майор Бородаев в заключение еженедельных занятий участковых неизменно говорил: «Помните: милиция — войско по охране общества от преступных посягательств. Закон — компас поведения работника милиции. Милиционер — образец гражданского служения Родине!»
И насколько замирала душа Николая Орешина перед такими словами, как «закон», «Родина», настолько мучилась она сомнениями — соответствует ли он, Орешин, «образцу». Самоуничижение терзало его, кажется, еще больше после того, как он побывал у Ивана Михайловича Еськина и рассказал о случае с Ленькой Дятловым. Рассказывая о Леньке, он почему-то надеялся на «прощение», ведь, по словам Потапкина, от Ивана Михайловича мальчишке в свое время тоже попадало. И верно, Еськин сначала с улыбкой отмахнулся:
— Ничего, я многих парней за уши таскал, привыкают, как к батьке родному! Зато от тюрьмы отбил не одного… Но! — Тут старый участковый нахмурился, встал, похоже, что разволновался. — Ты, Николай, не так все понимаешь! Не все должно, что можно. Власть — это не игрушки, это оружие. Тут можно, и себя покалечить и людей поранить. Я, конечно, помимо всего прочего и в отцы Леньке гожусь. А ты молодой, сам недалеко от его возраста ушел. И если б парнишка не боялся твоей власти, то вряд бы сдержался, когда ты его ударил! Ленька мать шибко любит, особенно после того, как она переболела и чуть не умерла от воспаления легких и всяких там осложнений. Шибко любит, а на улице это считается слабостью. Вот он дома ласковый, а с ребятами другой, обиды долго помнит. Извиниться тебе бы перед ним надо.
— Так я сразу извинился!
— Ничего, еще раз по-хорошему — это не помешает. Может, он и не простил пока, раз ушел так, с психом.
— Эх, ничего, видно, из меня не получится! Я вон и товарищу своему не помешал в краже… — Николай рассказал об Орлове, как все случилось в роддоме.
— Да это же хорошо, Коля! — улыбнулся Иван Михайлович. — Значит, ты здоров, потому что самый первый признак здоровья — это когда совесть болит! Людям прощать умей, а себе никогда. Власть над собой иметь — себя уважать. Власть на авторитете стоит.
И вот шел теперь участковый Орешин замириться с юным Ленькой Дятловым, с человеком сложнейшим, с множеством разных тайн. Конечно, без тайны нет человека. Тайны — это как семечки в яблоке, только яблоку и необходимые. В тайнах сокрыты как бы две параллельные жизни человека — та, что была, да нелепо и стыдно вышла; и та, что могла быть или еще будет, где все так счастливо и чудесно представляется, тебя поддерживает и придает силы. Терять стыдные тайны радостно, но минувшей ночью в своей комнатке Николай Орешин оплакал совсем иную тайну души, давно согревавшую его надеждой на счастье, и вот теперь ничего не осталось, кроме боли на сердце: он получил письмо от сестры, Томы, что Зоя Борисова вышла замуж за Вовку Поскотина…
На двери дома Дятловых издали был виден замок. Свирепого вида собака забесновалась от невозможности ухватить Орешина за калиткой. Чтоб не терять времени даром, Николай решил пройти хоть одну сторону улицы с проверкой паспортного режима — это у него было намечено в дневнике на завтра.
В усадьбе следующего дома царила сама бесхозяйственность: грязь как из какой-то квашни выпирала из-под ворот, над номерным знаком нет освещения, собака не привязана — Николай сунулся в ворота, но вынужден был отступить и дожидаться, пока вышедшая хозяйка привязывала пса. И еще успокаивала:
— Вы не думайте, он не кусается! Возле людей привык, вот и кидается приласкаться…
Сдержанно поздоровавшись, Орешин не стал делать немедленные выговоры за непорядок. Прошел в дом, попросил принести домовую книгу. Лет сорока пяти мужчина, уже седеющий, с серым, нездоровым лицом примостился за кухонным столом, не спуская с рук малыша, разгоревшимися глазенками оглядывающего блестящие пряжки и погоны на участковом. Все паспорта были в порядке, в домовой книге старший лейтенант Еськин расписался два года назад.
— А что, с тех пор у вас и не бывал Иван Михайлович? — спросил Николай.
— Почему так? — в свою очередь удивился хозяин. — Сто разов приходил по всяким надобностям. Мы с ним, бывало, и покурим, и поговорим… Значит, на пенсию, ушел? Ну да, у вас же четверть века отслужить требуется, а годы не важны.
Орешин поинтересовался, знают ли хозяева своего депутата и уличный комитет. Глава семейства отвечал один, жена помалкивала, сложив руки на переднике, стояла у печи.
— За депутата голосовали, как не знать. А Потапкина и рады бы не видеть, так сам не отвяжется!
— Такой неприятный вам Потапкин?
— Почему это?! Вообще я говорю, что мужик он такой, что любит покрикивать, в чужой двор как в свой зайдет, найдет все ходы-выходы.
— Но вы же сами его выбирали! Другого могли.
— Выбирали. А больше некого выбирать, как его. Никто ж так не сумеет, как он, а поиначе выходит, что никак нельзя, ничего не получается!
— А если выбрали, то надо подчиняться, — твердо сказал Орешин. — Ведь наверняка он требовал, чтоб вы осветили номерной знак на доме, порядок во дворе навели, собака опять же злая, а не на цепи!.. Придется мне оштрафовать вас, вернее, составлю вот протокол, передам на административную комиссию.
— Во, и Потапкин про то же: составим, передадим, оштрафуем! А никто не спросит, как я недужу, сколь времени со мной баба нянчится, ведь я фронтовик, раненый, инвалид первой группы, на работу никакого права не имею, а тут родниковый ключ в огороде пробился и знай в грязь все во дворе переводит! Наказание, ей-богу, хоть; с места съезжай!
— Заявите в землеустроительный отдел, там есть специалисты.
— Это заявили. Они приехали, посмотрели, да не испугали воду, чтоб назад ушла в землю, — грязит!
— Хорошо, но как быть с лампочкой? Вот понадобится вам врачей позвать, а они дом не найдут ночью, а найдут, так их собака не впустит!
— А свет, что ж, надо сделать, вот оклемаюсь, тихонько и сделаю. Собаку женка привязует, да ведь бабий узел известно какой — развязался, шалава…
— У вас же взрослый сын прописан, женатый! Что ж не поможет по дому?
— Что сын, что сын?! Нет его никогда, экспедитором на ликерном заводе работает, по северам все мотается, ему не до нас. Как заявится, так ничего не допросишься, а возьмется в стену гвоздь вколотить, так обязательно погнет — сам еще кривой всегда. От «вредности» производства, говорит. Ниче, младшой, все исправим-сделаем, дай только срок. Пойми, если жизнь така, то ни до чего руки не доходят, право слово! Война, будь она не к ночи помянута…
— Ну а с соседями дружно живете?
— Это у ней спрашивайте, ведь у нас в соседях одни бабы, почитай, — кивнул на жену хозяин, поднялся, поморщившись. — Пойду хоть прилягу — опять лихоманка кажду косточку простреливает!
В отсутствие мужа женщина разговорилась:
— Ленька за мамку шибко трясется, прямо припадочный сделается, коль кто че скажет! Правду сказать, Дятлиха немного чудит: ее недавно в магазине обокрали на трешку, так она обмерла там. Никогда с ней таких делов не приключалось раньше! Опять же, подкинули во двор ее тот паспорт — она опять перепужалась так, что Ленька ко мне прибегал. Улыбается, говорит, что ничего с собой поделать не может — слабость делается, и все. Потом, правда, поведала о письме: с паспортом письмо у ней было от Ивана Осиповича — боялась, как бы Ленька не прознал.
Потапкин был бы ей хорошей опорой. В своем доме он, конечно, не очень сейчас заметный с работой, но понять мужика можно: нет жены. Она после войны застудила голову и умерла. Дочерей выдал, а у них жизня не клеится — соломенные вдовицы. Это при живых мужьях-то! Бес им рот раздирает, а бесенята вино заливают, мужикам тем!.. У каждого своя беда, — утирает слезу собеседница Орешина. — В России нет поди человека без того. Мой вернулся, я возрадовалась, что живой, а скоко слез пролила на его охи? Чисто из родника того мои слезоньки, али родник от них пробился — льются и льются…
Так и не составил никакого протокола в этом доме Николай Орешин — такое у него было чувство, будто пришел он сюда по следу войны слишком рано и спрашивает не то, что хотелось бы людям с открытыми еще, болящими ранами. Да и сам он забудет ли когда о погибшем отце? Как ни скора жизнь, а такое горе, как война, не один век наперед успевает задеть!
И осталась у Кольки Орешина одна мать, любил он ее не меньше Леньки Дятлова.
Только, правда, вида никогда не показывал, может, никто на свете и не знал о его бесконечной, нежной любви. Любое жизненное затруднение мать объясняла просто:
«Ничего, ребяты мои, люди живут, и мы как-нибудь проживем».
Несчастливым был отъезд Кольки из дома: когда в городе они продавали те помидоры, на вокзале у них украли деньги и ведро с купленными домой сайками и пирожками. Мать тогда отвернулась за билетами к кассе, а он зазевался по сторонам.
Пассажиры со всех сторон сочувствовали, грозясь воришкам всяческими карами, а мать Кольки смущенно улыбалась:
— Да это сорванец какой-нибудь ухитрился! Бог с ним, знать, тоже не от хорошей жизни за нашими рублями потянулся, за хлебом. Как-нибудь и мы проживем.
Собираясь домой на каникулы, Колька всегда с особенным удовольствием расходовал до копейки свою скромную курсантскую стипендию на подарки матери и сестре. А с какой гордостью он однажды привез домой и выложил перед матерью на стол молоток, зубило и щипцы, собственноручно скованные и обработанные в мастерских училища во время производственной практики!
— В хозяйстве пригодится, — небрежно проронил он, а мать приложила к лицу какую-то из его блестящих железок и… заплакала, но все равно по-своему — не горько, а светло, тихо улыбаясь…
VI
После обеда Николай Орешин отдыхал в своем кабинете. Спать не хотелось, и он пролистывал конспекты со служебных занятий. Одну страницу перечитал еще и еще, отбросил тетрадку и огорошенно пробормотал: «Ну вот же черным по белому давно записано то, что недавно мне растолковывал Еськин!»
Николай даже припомнил, что майор Бородаев из «Философского словаря» продиктовал эту цитату: «Власть — одна из основных функций социальной организации общества, авторитетная сила, обладающая реальной возможностью управлять действиями людей, согласовывая противоречивые индивидуальные или групповые интересы, подчинять их единой воле с помощью убеждения или принуждения».
Авторитетная сила. Он послушал об этом, записал и… А про силу не забыл и к Леньке Дятлову скоренько ее применил! Про авторитет забыл. А если б не было Еськина? Выходит, слова майора на занятиях не вошли глубоко в сознание, потому что Бородаев пока для Орешина не столь авторитетен, как Иван Михайлович? Вот и для Леньки Дятлова Орешин пока нуль без палочки, тогда как бывшего своего участкового он величает полным титулом: «У нас старший лейтенант дядя Ваня Еськин!»
Дальнейшие размышления Орешина прервал зашедший к нему оперативник Гриша Мухачев, двадцатипятилетний молодой человек завидного роста и спортивного телосложения, порывистый, отчаянный, как в этом убедился Николай. С Мухачевым ему довелось задерживать хулигана, полоснувшего ножом жену и кого-то из соседей. Это было в доме недалеко от парка, за ними прибежала в пикет дочь самого «злодея», как называют всех нарушителей в милиции Двуречья.
Невзрачный пьянющий мужичишка, завидя милиционеров, с бранью понесся навстречу с огромным кухонным ножом, как с саблей.
— Именем закона — брось нож, стрелять буду! — хладнокровно предупредил Мухачев и дважды выстрелил вверх. Но хулигана и это не остановило. Когда до него осталось не больше пяти шагов, в ноги ему ударил третий выстрел. Вот так с ними, хануриками, надо! — сказал потом Николаю Мухачев. — Очухается и еще спасибо скажет, что не в башку его дурную целил! Или ты думаешь, что мне надо было приемом выбить у него нож, скрутить?.. Дудки! Тогда на каждого злодея придется по милиционеру тратить. Всегда неизвестно, чем может схватка окончиться. А вдруг верзила попадет, бугай такенный или вообще ловкач какой-нибудь? Сам закувыркаешься! Пусть-ка знают закон: я за щитом, но и с мечом…
По территориальному расположению своего участка Орешин был подчинен группе из трех оперативников: недавнему выпускнику милицейской школы дознавателю Аношину, Мухачеву и Желтухину. Последний — старший. И по возрасту тоже — ему за тридцать, он в звании старшего лейтенанта, но в форменной одежде Николай еще ни разу Желтухина не видел и даже не мог его в ней представить — какой-то он был весь насквозь гражданский в своем неизменном, несколько мешковатом костюме светло-коричневого цвета, с лицом открытым, добродушным, с постоянной улыбкой.
А еще Желтухин носил коричневый берет с хвостиком, такие Николай видел у художников, тогда как все работники уголовного розыска щеголяли в широких шляпах. В такой новенькой шляпе, несмотря на теплынь, был сейчас и зашедший к Орешину Гриша Мухачев.
— Чем занимаемся, товарищ молодой участковый? Законы заучиваем? — спросил Мухачев, заглядывая в тетрадку Орешина. — Брось зубрить. У знатока законов есть только два пути: становиться судьей или… преступником. Наше дело ловить вторых и приводить их к первым. Пусть упражняются в познаниях. Живи, юноша, как велит сердце твое, не боясь никаких предостережений, в сознание каждого человека с рождения заложено, что можно ему, а что нельзя. Врет тот, кто говорит «не знал». Есть, кстати, возможность убедиться в правоте моих слов: сидит там в дежурке один карманный воришка — пойдем с ним побеседуем, спросишь его, знает ли он, какое наказание полагается за кражу, хорошо это или плохо — воровать? Пойдем? Нет, я вполне серьезно. Пошли. Надо же тебе знать в лицо потенциальных преступников на своем участке. Этот пока еще не попался нам с поличным, но когда-нибудь все равно попадется. Я вызвал его повесткой. А повод такой: из паспортного отдела нам передали заявление некой гражданки Дятловой о краже у нее в хлебном магазине паспорта и денег. Естественно, коль речь идет о краже…
Это был молодой еще сравнительно парень, в кепке, сшитой из шевиотовых клинышков «звездочкой», как у Леньки Дятлова, в хромовых сапогах-бутылочках до колен, называемых лопарями, уголок белого платочка виднелся в кармашке черного просторного пиджака. Держался парень застенчиво, предупредительно, вежливо. Еще перед входом в кабинет Мухачева он смахнул с головы кепку, обнаружив несколько удлиненную, молоткообразную голову, поправил рукой реденький чубчик «английской польки». У предложенного стула он стоял до тех пор, пока не уселись за столом Мухачев с Орешиным.
— Полюбуйся, лейтенант, какой воспитанный молодой человек! — усмехнулся Николаю оперативник. — Не смотри, что зелен, у него почти десятилетка за плечами! Наших закрытых курсов — зэка сокращенно. Еще, заметь, если б не амнистии, то цены бы ему не было! Так, Слоненок?.. Кстати, — повернулся Мухачев опять к Орешину, — хочешь узнать, почему его Слоненком кличут, злодея? Рука у него гибкая и ловкая, как хобот. Правая или левая рука-то, не дай соврать, Лешка?
— Гражданин начальник, ну зачем вы так шутите, ведь я на производство устроился, женился, с прошлым покончено!
— Покончено?! На производстве работаешь?.. Граждане, граждане! Спешите посмотреть рабочего Слоненка! — совсем развеселился Мухачев. Николаю Орешину даже неудобно стало за поникшего головой симпатичного парня. — Ты брось мне тут арапа заправлять! — повысил голос оперативник. — Знаю, как ты работаешь. Рассказать?.. Рано встаешь, чтоб угадать на час пик, автобусах в трех чистишь карманы, трижды по кольцу проезжая проходную своей сапожной артели, а то и вовсе… По три выходных себе устраиваешь в неделю! Вот и в прошлую пятницу утром часиков в десять где шатался, на работе тебя не было? В хлебном магазине ты был на Лесной.
— Не верите! — вздохнул Слоненок. — Я, конечно, не помню за ту пятницу, может, у меня зубы опять болели — у жены вон хоть спросите!
— И опять врешь! Нашел мне алиби — жена! Да она все скажет, что ты наказал! Наглеешь, Слоненок, наглеешь. По-твоему: не пойманный не вор? Вор ты — и останешься вором, бесчестным человеком, на Руси ведь ворами нарекли и тех, кто врет, ловчит, подличает, против честных людей живет. И другое страшно: куда ты паспорта обворованных граждан деваешь, шпионам продаешь?
— Да вы что, гражданин начальник?! — отшатнулся даже на стуле Слоненок. — Неужели я не понимаю, неужели ж я буду врагу, так сказать… — он совсем смешался, поняв, что невольно выдал свою причастность к пропаже паспортов, а следовательно…
— Вот и договорились, — усмехнулся Мухачев, победно поглядывая на Орешина. — Воруешь, Слоненок, еще как воруешь! А понимаешь ты все, это верно. Все знаешь. Вот скажи, участковый твой интересуется, сколько по кодексу судьи дадут за кражу сотни рублей, сколько за трешку? Не стесняйся, давай поясни.
— Кому как, — вздохнул Слоненок, скосившись на Орешина. — Мне бы дали поближе к десяти… Хоть за трешку, хоть за скоко.
— Знает, видишь, злодей, все знает! И ворует! — пристукнул ладонью по столу Мухачев. — А может, ты недопонимаешь все еще? Чего? Скажи — объясним, а ты воровать бросишь. Ну что за профессия — вор?! Сын у тебя вырастет, а ему скажут… Ну сколько ты в автобусе украдешь за день? Погоди, погоди, не ерзай — ты сначала меня послушай, а потом врать начнешь! — опять прихлопнул ладонью Мухачев готовые сорваться с языка протесты Слоненка, уже не находившего удобного места на стуле.
— Пусть сотню с мелочью наскребешь по карманам едущих на работу, да и то вряд ли, ведь ты боишься большие деньги сразу брать у кого-то одного — заявит! Рублики, мелочишко… А потом годы в тюрьме. Где ж выгода, ради чего все? Да работай ты слесарем, по тыще в месяц получай с честью — и без всякого риска! Или в сапожной твоей мало платят?
— Ничего платят, напарник и больше тыщи, бывает, получит… Не ворую я, гражданин начальник! На пушку берете, путаете. Конечно, если судимый был, так все…
— Дурак ты, дураком и останешься, сам себя в жизни обсчитываешь! В общем, я ничего слышать не хочу, но чтоб хоть паспорт женщине вернул. Мало что без хлеба осталась, так еще и штраф ей платить теперь? Верни паспорт, если не хочешь больших неприятностей.
— Не брал я никакой тройки в хлебном магазине, не знаю никакого паспорта, хоть дома обыщите все! Да что я, один во всем городе? За всех мне отвечать? Тут вон понаехали разные!..
— Кто приехал, когда? Говори, раз заикнулся!
— Да я же точно не знаю! Вот Гнилой какой-то… Это кличка. Издалека к нам будто, спец большой…
— Как выглядит, где живет, с кем приехал? Выкладывай, Лешка, злодейская твоя душа, ведь каждый день стану вызывать и трясти, пока не вытрясу всей правды!
Слоненок довольно подробно описал внешность «чужака» и будто бы искренне развел руками: ничего, мол, больше не знаю.
— Хоть и знает, ничего больше не сказал бы, — заключил Мухачев, когда они с Орешиным вдвоем остались. — И так больно подозрительно, что он проговорился. Осторожный! Тут одно из двух: или кому-то из местной шпаны этот Гнилой поперек горла и его решили засветить и сдать нам, или Слоненок сам отчаялся на такое, чтоб отвести от себя нежелательные разговоры. А может, и нет никакого Гнилого — наврал Лешка, пустышку подкинул: разбирайтесь, мол, пока, а я пойду… У ворья, ты примечай, Николай, себе, очень сильное самолюбие, и они впадают почти в ужас, если им приходится отвечать не за себя. А этот гастролер, похоже, натуральный спец — выудить узелок из-за пазухи женщины! Слоненок и не рискнул бы и не смог поди.
— Так чего же тогда ты на него так нажимал?
— Потому и нажимал, чтоб не чувствовал себя в безопасности, чтоб оглядывался, чтоб шапку на себе щупал: не горит ли? Попадется, никуда не денется. Вся трудность поимки карманника состоит в том, что его буквально за руку поймать надо, и не иначе, как при свидетелях. Ох-хо-хо! Тут еще кое-кого тоже надо за руку… Никаких рук не хватает! Есть у меня один план, поможешь? Надо бы вечером погулять по улицам. Понимаешь, какая-то группа парней взялась за грабежи — требуют только деньги. Вот бы и подкараулить. Ты притворишься пьяным, а я по другой стороне улицы тихонечко за тобой наготове… Чуть что — именем закона! И дело в шляпе. Ну как?
— Но у меня в плане на сегодня записано…
— Слушай, первоначальная задача милиции — борьба с преступностью! У него, видите, записано по домам ходить, беседы проводить! Потом это, когда всех злодеев выловим! А сейчас запишешь, что работал с уголовным розыском, никто тебе и слова не скажет.
— Конечно, я согласен, раз надо, просто я не знаю, как в таких случаях отчитываться перед Бородаевым, например, — смущенно пояснил Орешин.
— Между прочим, по службе ты и нам подчиняешься, уголовному розыску. Ну ладно, детали обговорим. Одеться надо по-гражданке.
— У меня есть только морская форма после училища.
— И рубашки какой-нибудь нет?
— Нет пока…
— Ладно, я что-нибудь принесу, — сказал Мухачев, с сомнением оглядывая щуплого на вид Николая. — Нам с тобой хоть бы одного зацарапать! — помечтал он и тут же предупредил: — Смотри Желтухину пока ничего не говори, если встретится, он сейчас поехал по одному делу… Пока занимайся своим, а часиков в одиннадцать я зайду к тебе, будь дома!
Тенниска Мухачева выглядела на Николае почти полномерной рубашкой. Еще тот вручил ему габардиновый плащ и фонарик, пояснив:
— Держи фонарик наготове под плащом, перекинутым через руку, как только нападут, свети им в лицо, ослепляй, а тут и я подоспею!..
Битых два часа ходил Николай по пустынным уже улицам города, охрипшим голосом распевая то «Подмосковные вечера», то песенку из кинофильма «Дело было в Пенькове». Редкие парочки и одинокие прохожие заблаговременно переходили на другую сторону, где встречались с молчаливым огромным Мухачевым.
Никто и не думал нападать на Орешина, никто его не урезонивал даже, лишь собаки во дворах частного сектора с удовольствием облаивали позднего гуляку.
Сошлись с Мухачевым в конце улицы в очередной раз.
— Еще ходить будем? Я уже устал и охрип.
— Да, видно, толку мало. А утром надо будет на работу явиться, ведь Желтухин ничего не знает и может не одобрить наш свободный поиск… Давай расходиться. Обидно, конечно. Хотелось бы раскрыть и доказать…
Что хотелось доказать Мухачеву и кому доказать, он не успел сообщить: вдруг где-то впереди раздался пронзительный женский визг, топот ног, треск ломаемого забора или чего-то деревянного!..
— Они! Быстро!!
Николай еле поспевал за длинноногим оперативником. Он чуть не наступил с разгону на тихонько плачущую на земле женщину, хотел расспросить ее, но Мухачев рявкнул над ухом:
— Потом! Вперед! Свет!!
В свете прыгающего лучика фонаря на перекрестке разбегались в разные стороны темные фигуры четырех-пяти человек. Мухачев выстрелил вверх раз и другой, понесся куда-то вправо, крича «Стой!» и «Именем закона!». Николай высветил фонариком рубашку одного из убегавших, рванулся следом. Впереди преследуемого, кажется, бежал еще кто-то, низко пригнувшись. Ближний беглец прихрамывал, в руке у него была какая-то палка. Николай догонял. Молчали, только шумное дыхание слышалось да топот ботинок.
— Стой, гад, все равно догоню! — выкрикнул вдруг впереди бегущий тому, кто явно удалялся еще дальше по улице. Тут и Орешин сообразил повторить «Стой!». Николай уже каялся, что потерял товарища и тот не может ему помочь. Между тем, от окрика беглец перед Орешиным остановился, резко обернулся и кинулся навстречу, занося над собой обломок штакетины.
— А-а, гады! Получай!
Удар легкой сухой палки пришелся Николаю по боку, по плащу в руке, который он так и не догадался бросить, чтоб не мешал на бегу. В следующий миг они уже барахтались на земле. Противник Николая был явно слабее, сильно возбужден и не готов к схватке — он, кажется, даже плакал, рычал и бешено колотил руками во что придется. Фонарик давно потух.
— Прекратите сопротивление, вы задержаны именем закона… Я — работник милиции! — оказавшись наверху, тоже задыхаясь от суматошной борьбы, приказал Орешин противнику.
— Милиция?! — переспросил он, обмякнув в руках Николая, и огорошил: — Так не меня надо задерживать! На нас напали! Убили Наташку, наверное! Эх, не дали догнать хоть одного!..
Мухачев опять где-то недалеко выстрелил. Когда они вдвоем подоспели к нему, он стоял у темного проема проходного двора и стрелял вверх…
— А, ты задержал одного?! Дай погляжу субчика!
— Погоди, это потерпевший! Так получилось…
— А-а… — разочарованно протянул Мухачев. — Мой в этот двор забежал, кажется, — темень такая! Я его совсем было за пиджак ухватил, так он разделся тут же, как змея выскользнул и был таков! Акробат, черт его дери!
Потерпевший поднял с земли пиджак и сказал, что это его одежда.
— С меня сдернули, когда я сказал, что денег нет. А у Наташки сорвали с плеча фотоаппарат. Пойдемте к ней быстро!..
Вскоре прибыло два дежурных наряда милиции на мотоциклах, вместе с Орешиным они обшарили двор, объехали все вокруг — никого. Девушку с вывихнутой ногой отправили в больницу, а парня — в горотдел для опроса.
На старшего оперативного уполномоченного Желтухина Мухачев с Орешиным боялись глянуть, хотя внешне на его лице не было видно никаких признаков гнева, наоборот, улыбка из рассеянной стала определенной — иронической.
— Ну что, Мухачев, нашел себе частную лавочку: захотел — пошел ловить преступников, не захотел — не пошел? Никого не предупредил, не поставил в известность дежурную службу, да еще молодого товарища к анархизму приучаешь, ставишь под удар? А вдруг преступники были б вооружены? Эх, казаки-разбойники! Вот почему ты, Григорий, не стрелял в преступника, а раздевать его на бегу принялся? Да потому, что не знал ты, простой шалопай это, уличный задира, или грабитель, ведь вы мимо девушки как слоны протопали, не узнав, что случилось, наконец! Да, отделались злодеи легким испугом — ищи теперь свищи… Ладно, Григорий, иди пиши рапорт и вали себе домой до утра!.. А вы, Орешин, останьтесь, — попросил Желтухин. — Хочу поближе познакомиться, давно собираюсь, да за делами нашими!.. Живете в гостинице во дворе?
— Да, в первой комнате.
— Как зовут?
— Николай Орешин.
— А по батюшке?
— Трофимович.
— Сколько лет?
— Девятнадцать.
— Плохо выглядишь — щупло. Спортом не занимаешься, что ли? Откуда к нам пришел?
— После речного училища горком комсомола направил. В училище занимался легкой атлетикой.
— Легкой? Но у нас тут, сам видишь, атлетика тяжелая! На кого учился, родители где?
— Отец с войны не пришел, мать с сестрой живут в селе под Хабаровском. Получил диплом механика паровых машин.
— Ясно. В нашем городе один, стало быть. Участок Еськина принял?
— Да.
— Ну и как показалась наша работа? Если можешь, честно ответь, пожалуйста.
— Но я всего второй месяц и многого просто не знаю!
— А знать-то хочешь?
— Конечно!
— И на том спасибо, как говорится. Ясно, что одного желания мало, но уясни хорошенько: и я на пальцах мало что тебе открою в нашем деле. Сам примечай, учись у кого возможно, хоть и у Мухачева — неплохой он парень, болеет за работу, но иной раз голый энтузиазм заменяет ему необходимую оперативнику осмотрительность, дальновидность, общую связность и строгую плановость действий. Его направлять — самому черту рога посшибает, но как сам что удумает!.. Что ж, Мухачев, как и ты, специального образования не имеет, призван. Сейчас повсюду лучший свой народ комсомол к нам направляет, чтоб помочь милиции. Ведь еще где-то пока есть работники, для которых «держать и не пущать» — весь стиль борьбы с правонарушителями! Меняются времена. И новых людей, мы поняли наконец, надо не ждать из какого-то неведомого будущего, а воспитывать в настоящем. И тебе тоже в участковых не долго быть, я думаю, — оперативника к делу по-настоящему наставить ох как не просто! Подучим, может, и на курсы при школе милиции пошлем, хоть и некогда зубрежкой заниматься, очень некогда. Закон надо сразу и навек принять, шагнуть, так сказать, на его сторону, и все, остальное сердце само подскажет. Конечно, от незнания закона возможны промашки. Возьми это: закон дает тебе оружие. Для чего? Если знаешь суть закона, то ясна должна быть и роль оружия в твоих руках — защита других от явных посягательств преступников на закон. Все проще простого. Кстати, у тебя на участке недавно ночью кто-то стрелял, не знаешь кто?
Николай Орешин почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо.
— А что, было заявление?
— Сигнал был. Оперативные данные. Если будешь у нас работать, узнаешь, что это такое.
— Это я стрелял! — непослушными губами вымолвил Николай. — Хотел холостым только, да сдвоило…
— Обойму не вынул? — Желтухин покачал головой: — То-то и оно! Чуть товарищей своих не ранил, судьбу бы себе обрезал… В таких случаях надо быть крепким: дружба дружбой, а служба службой, как говорят.
— Да уж я столько передумал, пережил, — признался Николай, внутренне очень удивленный, что оперативнику известно, похоже, что он был в ту ночь вместе с Клёминым и Орловым.
Еще одна мучительная тайна оставила его душу. Хорошо, что это случилось при Желтухине, другой бы дал ход проступку, и кто может предположить дальнейшее!..
VII
Гнилой, в первый же день в Двуречье повстречав Слоненка, пожил у него в доме, потом тот свел его на квартиру к своей теще, объявив для людей дальним родственником, приехавшим на время отпуска. Но пока Валька Стофарандов «брал на крючок» Леньку Дятлова, «водил» его и «прижимал», тот, в свою очередь, как показалось Вальке, выследил его по «отпускному» адресу. Тогда Гнилой стал ночевать в двух местах поочередно или разом — вроде бы устроится у Слоненка, а поздним вечером вдруг встанет и уйдет к его родственнице или наоборот. Благо, что в одном месте под жилье ему была отведена всегда открытая летняя кухня, а в другом, у Слоненка, в любой момент можно было незаметно прошмыгнуть на чердак. Там соорудить ему лежку он попросил жену Слоненка Дашу — в тот вечер особенно не захотелось видеть ее кислую (при его появлении в доме) трескающуюся от жира физиономию. Он заботился об одном: чтоб никакой системы нельзя было увидеть постороннему в его переменах мест ночевок. Вот и все. А кто там и что о нем думает — наплевать.
О вызове Слоненка в милицию Гнилой знал, в тот день пришел попозже, долго осматриваясь и прислушиваясь по-звериному.
— Зачем вызывали?
— Да! — отмахнулся Слоненок, старательно пряча глаза. — Телегу катят. Кто-то будто щипанул в хлебном магазине паспорт с трешкой. Кум (оперработник) буром попер: верни, мол, хоть паспорт. Развелось крохоборов, а ты отвечай тут за всех их, пакостников!
— Ша, сучонок!! Или мне показалось, что кто-то хотел вякнуть? — как не хотелось, но сорвался Гнилой на открытом презрении к таким, кто запродался однажды страху за свою шкуру и всю жизнь потом паскудил нашим и вашим. — Не можешь — не воруй, завяжи, если у тебя получится, хоть лапы себе отруби, стань мужиком (работягой), но не шатайся, не понтуй и не суди никого, кроме себя, знай свое место. А то еще мурло задирают, в позу становятся!
Все беды людей (таких, как Гнилой, разумеется) и происходят от подобных сучат — они и продадут и купят, хоть никогда уже не разбогатеют и не очистятся. И раз уж выпал случай, Валька Стофарандов решил сказать Слоненку все:
— Мое появление тебе не в масть — ты же понтуешься тут среди своих, работягой числишься и щиплешь пятаки по автобусам в прибавку к зарплате! Но ведь ты, вошь, и живой-то, пока я теплый. Хроманешь (наследишь, выдашь) — безносую обнимешь вместо своей жирной Дашки. Вот и соображай. Все!
Слоненок был бледен и дрожал от загривка до пят. Расстались они во взаимной ненависти друг к другу. Но ночевать Валька остался здесь, уже чувствуя свою безопасность.
Трудные времена. Кто против тебя, уже не сочтешь, а кто за тобой — тем более… Бывают мгновения, когда Гнилой понимает вдруг, что все люди вокруг ему вообще не нужны, а уж он им и подавно. Снились сны, где бродил он по безлюдным городам, ел и пил что хотел, взяв пищу запросто в открытых магазинах. И оглядывался, оглядывался с такой сиротской тоской, жалостью к себе и болью, что во рту пересыхало и не было воздуха!.. Что это было? Зачем? Непонятно. Наяву — только привычная тупая злость. Может, лучше, чтоб люди не сами собой исчезли, как во сне, а чтоб ты их сам… всех? Раз тебя одного они все никак уничтожить не могут, оставляют мучиться, страдать, болеть, думать и ненавидеть! Где только патронов столько возьмешь? Четыре их всех у него, только четыре…
VIII
Орешина впервые назначили в наряд на суточное дежурство по городу. От уголовного розыска дежурил Мухачев. После той злополучной ночи «свободного поиска» они не виделись, и Николай обрадовался случаю целые сутки быть вместе.
Среди участковых тоже были молодые товарищи, посланцы обкомов и райкомов, но Орешин пока не нашел общего языка ни с одним, да и виделись они раз в неделю на служебных занятиях или на месячных отчетах перед инспекторами и майором Бородаевым.
Особенно поговорить с Мухачевым, конечно, и теперь не удалось: в дежурную комнату со всех уголков города поступали сообщения, заявления, сигналы. Две «линейки» и одна легковушка от ГАИ были почти постоянно в «разгоне» с кем-то из дежурных. Заступили утром, а вот уже и кончается суматошный воскресный день с его неумеренным порой весельем. Только из горпарка сегодня дружинники сопроводили в отдел больше десятка злодеев. Это и понятно: дежурили электроаппаратчики под руководством Ивана Осиповича Потапкина!
Ответственный дежурный, пожилой старший лейтенант, разобравшись с очередным задержанным из парка, вздохнул:
— Ох уж эти дружинники! Да половину доставленных сюда людей им бы по домам из пикета отправить, а то и вовсе не задерживать, лишними придирками не портить отдыхающим воскресного настроения!
По телефону Орешин посоветовал это Потапкину, заодно дал приметы похищенного у девушки фотоаппарата «Киев», возможно, с оборванным ремешком и с тремя семерками в конце заводского номера.
— Зря доверяете дружинникам такую оперативную информацию! — заметил, Николаю дежурный. — Теперь они откроют настоящую охоту за фотоаппаратами, приведут десятки «подозрительных» лиц — поползут по городу слухи, что у нас на улицах грабят, отбирают фотоаппараты!
— Ну и что? Паника будет? Дудки! Не те теперь люди, — вмешался в разговор Мухачев. — Это пусть грабители боятся. Вот мы с Николаем той ночью… патрулировали, в общем, когда фотоаппарат этот… Короче, с девушкой Наташей был парень. И он не побоялся четверых, бросился в погоню! Я что хочу сказать? Не доверять дружинникам мы просто не имеем права.
— А Потапкин?! — волновался Орешин. — Вы же знаете, что это опытный, честный, боевой человек!
— Знаем, знаем Потапкина, отлично знаем! — улыбнулись тут и дежурный и находящиеся в комнате милиционеры.
— И нет здесь ничего смешного! — обиделся Орешин.
— И между прочим, Потапкин в свое личное время успевает больше, чем некоторые в служебное! — поддержал его Мухачев и тут же обернулся к милиционеру, получавшему оружие Перед уходом на пост: — Вот вы, сержант Гурко, когда напишете рапорт о происшествии у гастронома? Там же не разобраться, а вы рядом были!..
Сержант замялся, стал как-то оправдываться — Николай Орешин этого уже не слышал, привлеченный вдруг разговором дежурного с кем-то по телефону. Старший лейтенант, записывая, вслух повторил знакомые имена: Орлов Степан, Остапенко Галина…
— А в чем тут дело? — поинтересовался Николай.
— Некий Орлов дебоширит на квартире знакомой девушки, убил собаку хозяев дома, не уходит… Поезжайте с лейтенантом Мухачевым, да долго не задерживайте машину.
Уже в машине Николай объяснил Мухачеву:
— Едем задерживать Степку Орлова, моего однокашника по речному училищу, а Галя… Вот дела — подальше б от таких!
— Ничего, в одной стране живем, все знакомы! Орлов, говоришь? — переспросил Григорий. — Где-то я уже… Нет, не вспомню. Поехали.
Галя встречала милицию на улице возле дома. Не смотря на теплый вечер, она куталась в наброшенный на плечи платок. Узнав Николая, расплакалась, рассказала случившееся.
— Пришел пьяный, прямо во дворе стал руки распускать. Тарзан зарычал, так он накинулся на бедную собаку — ударил поленом! Спит теперь на диване… Господи! Меня же хозяйка сгонит теперь с квартиры, и куда деваться от такого позора, ведь было еще светло, и соседи могли видеть, как я тут воевала!..
Мухачев уже поднимался в дом. Когда в комнату зашли Галя с Николаем, разбуженный Степан Орлов сидел на диване и таращился на высоченного милиционера перед собой. Узнал Орешина, осклабился:
— Ну, что я говорил?! С друзьями легче воевать! На выручку примчался, ухажер? Пардон, пардон, я уступаю вам это ложе!..
— Встать!! — резко встряхнул Степана за ворот Мухачев. — Выходи строиться!
— Сейчас я, сейчас! — переменился разом Орлов. — Я ведь зашел просто… Разве нельзя приходить в гости?
Оперативник не тратил больше слов — увел его к машине, оставил под надзором шофера-милиционера, вернулся.
— Надо посмотреть вашего Тарзана.
Пес был мертв.
Ответственный дежурный сам принял от Гали заявление, опросил Орлова и отправил в вытрезвитель.
— Что ему будет? — спросил Николай.
— Знакомец, жалко? Ну на первый раз, думаю, судья сочтет его мелким хулиганом или оштрафует. Мне Мухачев сказал, что вы учились с этим парнем. Что ж, у нас ведь нет специальных законов для знакомых и для незнакомых. Нарушил — отвечай!
— Да нет! Я просто спросить, — смешался Орешин, вышел из дежурки к поджидавшей его Гале.
— Как же Степан к тебе попал?
— Да мы в парке раньше встречались, я сказала, где живу, и вот… Такая неприятность! Прямо глаза не знаешь куда девать! Вот же как бывает: один нахамит, а всем неудобно…
— Ничего, подумает на досуге, ему полезно, прыткий больно всегда был, мало попадало.
— Но Соня! Что я ей завтра на заводе скажу? А вдруг его на пятнадцать суток? Мы во вторую смену, придется утром сбегать, ведь она ночь не будет спать. Вот наглец-то, господи, мучает ее ни за что ни про что!
— Знаешь, Галя, ты не ходи к Соне одна. Подожди меня, я в девять утра сменюсь с дежурства, и вместе сходим.
— Да тут я сама, тебе же отдохнуть надо будет! Лучше б так когда пришел… Я все ждала, ждала… Сегодня вот и в парке была специально, а ты, оказывается, вот где — дежуришь!
— Я обязательно приду, ты не обижайся, просто пока совершенно некогда, да и вторая половина моего рабочего дня с семи вечера до полуночи — сама понимаешь…
Из дежурки вышел Мухачев:
— Прощайтесь, друзья, нас город зовет!..
Был очередной выезд в беспокойное место.
—. Я все-таки вспомнил Орлова! — сообщил он Николаю уже далеко за полночь, когда на «линейке» объезжали неохраняемые магазины и киоски, осматривали запоры на дверях, окна. — Это он прислал записку о твоей стрельбе у переезда — чуть, мол, товарищи не пострадали, накажите, предупредите, зачем таких берут в милицию!
Свое имя попросил утаить. Хорошо, что дежурный сразу передал Желтухину — его зона, сообразил. Вот так, дорогой, таких друзей за это бы в музей! А хочешь, еще одну поговорку скажу? Сам придумал: бывший друг хуже врагов двух! — значительно, с назиданием произнес Григорий Мухачев и тут же продолжил совсем серьезно: — И еще о врагах. Слоненка помнишь?.. Вор-вор, а на правду-то раскошелился! Числится такой злодей — Гнилой. Махровый рецидивист, одних фамилий в присланной нам ориентировке десяток, наверное: Валентин Стофарандов, Петр Кузнецов, Илья Рязанский и прочие, и прочие. Вор в законе. Разыскивается только в нашем крае уже тремя городами за кражи в магазинах, за попытку нападения на сберкассу. В последнем случае отстреливался из пистолета ТТ, ранил двух милиционеров! Вот с таким бы схлестнуться один на один! Мы по своей линии поиска раскручиваем, и ты смотри в оба, мало ли что. Жалко, что фотография столетняя. Приметы подробные, но по таким только на пляжах искать, да и то если с рулеткой в руках! Напишут же крючкотворы! Рост стоя столько-то сантиметров, рост сидя, расстояние между глаз, число зубов, татуировки на груди и на спине… Тьфу! Между прочим, в последнем деле с Гнилым были две женщины-рецидивистки, карманницы, но про них и вовсе изложено все «по непроверенным данным». В общем, думаю, скоро и всех участковых подробно проинструктируют. Так что о друзьях не жалей, а врагов крепко запоминай.
IX
Утром, чуть свет, сторож городского парка позвонил, что взломан один из киосков.
— Ну вот! Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь… И какого черта тогда мы всю ночь замки проверяли? — сокрушался Григорий Мухачев. — Попомнишь, Николай, надежурили мы с тобой висячку, нераскрываемое преступление, потому что наверняка украдено на гроши, а бегать будем, высунувши языки, все полгода, пока не наткнемся на каких-нибудь хитроумных шпингалетов, искателей детективных приключений. Ох эти дилетанты! Работали поди в резиновых перчатках, в масках — начитаются книжек!..
Желтухина вызывать не стали, подняли только своего дознавателя Аношина. А пока тот составлял протокол осмотра места происшествия, привезли киоскершу. Оказалось, что украдено не так уж и мало: четыреста рублей от несданной выручки, причем одной мелочью рублей тридцать; конфеты дорогие, шампанское, шоколад — все оставшееся в недавно распакованном ящике; сигареты… Точно все определит ревизия.
Отлили гипсовый слепок со следа обуви возможного взломщика. Это был след подошвы кедов малого, детского размера — таких отпечатков, ясных на влажном от ночной сырости песке, вокруг киоска было множество.
Орешин тут же припомнил похожий, в елочку, след кедов Леньки Дятлова в пикете, но искать там сейчас что-нибудь для сравнения со слепком было поздно: столько дней прошло, да и находящийся обычно в пикете сторож всякий раз к утру разметает песок внутри и снаружи. Но подозрение крепло, ведь, кажется, дружинник Колесов именно возле обворованного киоска в тот субботний вечер задержал Леньку.
Забрав с собой гипсовый слепок, Орешин с Мухачевым на дежурной машине поехали к Дятлову — его адрес был записан у Николая в блокноте.
Ленькину мать, миловидную женщину лет тридцати пяти, ранний визит милиции перепугал до смерти — голубые глаза ее будто даже посерели, похолодели, когда спросили про Леньку. Она стала уверять, что сын у нее постоянно на глазах, надолго никуда не отлучается из дома, в последнее время особенно, даже ночевать с товарищами на сеновале перестал, лишь вчера попросился к ним, но скоро вернулся домой, сказав, что разругался с мальчишками и будет спать дома. Еще не разбудив Леньку, они попросили принести его кеды и сличили подошвы со слепком — не совпал только размер, а сам рисунок был точь-в-точь.
Мухачев цепко ухватился за предположение Орешина насчет Леньки и его товарищей, шепнул Николаю, пока Ленька одевался в своей комнате:
— На стреме, видно, стоял, где-нибудь поодаль. Следов там много, надо было получше присмотреться, выделить разные и запечатлеть. Промашка получилась! И другое: ты заметил, как он переменился в лице, когда нас увидел? Не ожидал, голубчик, что мы так скоренько заявимся!
— Ну приедь и ко мне в такую рань милиция, я тоже бы переменился в лице, хоть ни сном ни духом… — сказал Орешин, сильно надеясь, что Дятлов все же к краже киоска не причастен.
Ленькина мать, между тем, продолжала страстно защищать сына: он у нее рос без отца, не балованный, хоть и бывает вспыльчивым, замкнутый, но честный, чужого никогда на улице не поднимет. Свою защиту она адресовала непосредственно Мухачеву, называя его Григорием Васильевичем. Тут же сообщила, что неожиданно нашелся ее паспорт, украденный в хлебном магазине, — кто-то подкинул прямо во двор, завернув в газету.
Мухачев с недоумением посмотрел на Орешина.
В те минуты, пока Ленька собирался, он успокоился, видать, осмелел.
— Куда это меня, за что?
— Поехали к твоим приятелям, с которыми ты ночью сегодня разругался. Где это? — сеновал или как его, покажешь, — сказал Мухачев. Но Ленька неожиданно сел прямо на пол и заявил:
— Никуда я не поеду! Нет никакого сеновала, и ничего я показывать не буду! Вы хотите, чтоб меня предателем посчитали? Нет!!
— Ну-ну-ну, Леонид! Зря упрямишься, по-хорошему тебе говорю, — убеждал Мухачев. — Ты сам прикинь: стали бы мы за пустяком машину гонять в такую рань, мать твою беспокоить? Так что придется подчиниться, никуда не денешься…
— Да я сама вам покажу! — метнулась мать Леньки. — Господи, да чего ж это они натворили-то? Признайся, сынок, хороший мой, не упрямься!
— Ма-ма! — прямо надрывным каким-то басом вскрикнул Ленька. — Не смей, я тебя прошу, — предостерег он. — Им надо, пусть сами и ищут. Они били меня недавно в парке, а ты хочешь!..
— Били? О господи, за что же?
— А ни за что!
— Но будь честным, Леонид! — смутился Орешин. — Ты и сам виноват!
— Ну и что? Пусть виноват, но бить у вас права нет!
— Стоп, стоп, стоп! — вмешался опять оперативник. — Так дело не пойдет — вы какие-то препирательства здесь устроили! Ближе к делу. Встань, Леня, не то я тебя сейчас на руках вынесу к машине, а там как хочешь…
В общем, мать Леньки показала ту сараюшку, где раньше ночевал с мальчишками ее сын. Там на чердаке, на сеновале, и взяли их прямо тепленьких со сна, с конфетами и шоколадом, запрятанными в сено, с шампанским и сигаретами. Одна бутылка была уже выпита, а денег не было ни копейки. Оба застигнутые врасплох воришки в один голос уверяли, что никаких денег в киоске не видели, не искали, взяли что лежало поближе, а Ленька в краже не участвовал, ушел домой, отчаявшись отговорить их от этого дела.
— Ладно, разберемся, — пообещал Мухачев. В присутствии двух соседок он составил протокол изъятия похищенного. — А деньги киоскерша забыла, видать, вам оставить, ребята! — весело заключил он, заставив самих злодеев нести к машине объемистый рюкзак с вином и сладостями. Леньку из машины пока высадили, но обязали быть с матерью к десяти часам в горотделе.
— Похоже, что мы реабилитировались, раскрутили кражу-то? — подмигнул Николаю Мухачев, когда они сдали Аношину подростков и все у них изъятое. — Все думаю о найденном паспорте Дятловой. Неужели Слоненок так повысил квалификацию, что умудрился выудить из-за пазухи?! Очень не похоже на него. Что-то тут не так. Ладно, будем перетакивать!
В свою комнату Николай вернулся уже где-то перед обедом, спал прямо на ходу, но подумал, что не мешало бы еще сходить к Гале. Она ведь не знает, что Степана народный судья не арестовал на пятнадцать суток, а оштрафовал на двести рублей, — они могут встретиться в его доме, и неизвестно, что из этого получится…
«Эх, Степка, Степка! В роддоме ты погиб тогда на моих глазах, а я, дурак, растерялся, — вздохнул Николай. — Вот и злишься, что я видел, мстишь, тебе больно. А мне нет?..»
Еще ни на что не решившись, он стоял посредине комнаты, когда пришел милиционер с вызовом к дознавателю Аношину. У последнего в кабинете была целая группа знакомцев: Иван Осипович Потапкин, Ленька Дятлов с матерью.
Лицо Дятловой немного припухло от слез, веки покраснели, но как она была красива сейчас, эта женщина! Наверное, кощунственно говорить, что и в горе человек бывает красив. Но ведь радость и горе одинаково заставляют нас забыть о сдержанности, о притворстве — какие есть предстаем, добрые и злые, доверчивые, равнодушные, черствые, приятные, неприятные… Какие есть.
Нет, внешне Дятлова и отдаленно не была похожа на мать Николая Орешина, но она так же умела сразу и плакать и ободрять, мудро и застенчиво, смущенно улыбаясь.
— Ну, а на что способен человек ради другого, да когда этот другой — женщина с голубыми глазами, находящаяся рядом и нуждающаяся в поддержке, — тут уж надо было смотреть на Потапкина, слушать его. В новой тенниске, густо загорелый, крепко скованный Иван Осипович прямо раскрылился перед Аношиным, вдохновенно ораторствуя в пользу Леньки и делая это как заправский адвокат, удивительно красивым языком!
— Тот не поймет, кто не был молод! — закруглял он очередную фразу, когда Аношин устало вскинул руки:
— Я понимаю, Иван Осипович, я вас хорошо понимаю… Ваше поручительство мы учтем, большое спасибо. Теперь нам с участковым надо уточнить некоторые детали… Попрошу всех подождать в коридоре.
— Слушай, а тебе как этот малец? — озабоченно спросил Аношин Николая, когда другие вышли из кабинета. — Что-то все как сговорились — хотят доказать мне, какой он хороший, примерный! Даже сами воришки!..
— Чем плохо, если все за тебя?
— Может, это и не плохо, но ведь пацан, ты посмотри хорошенько, не радуется, похоже, лестным словам в свой; адрес! Замкнут, сам себе на уме… Такие, знаешь, обычно умеют хранить тайны и преподносить сюрпризы.
— А вдруг просто страдает человек, что мать огорчил? Любит он ее очень. Вот и Еськин о парнишке неплохого мнения…
— И Еськин сюда же?! Ну и ну… Ладно, зови сюда всех. Впрочем, постой, чуть не упустил! Концы не сходятся: киоскерша слезно уверяет, что выручка у ней пропала, тогда как пацаны отрицают кражу денег. Вы там с Мухачевым хорошо все осмотрели, на сеновале-то?
— Да смотрели…
— Надо бы понаблюдать в дальнейшем — вдруг объявятся у них деньги, мало ли что: в бега куда-нибудь собрались — в Африку или в Рио-де-Жанейро! Я, например, в детстве убегал из дома только в Африку. Так что ты учти это, ладно? Ну зови.
В окно из кабинета Аношина Орешин потом наблюдал, как с крыльца горотдела спускались все трое: Ленька, мать его и Потапкин в новой соломенной шляпе. Он, жестикулируя левой рукой, правой придерживал за плечо парнишку, а тот шагал, сосредоточенно глядя себе под ноги.
«А что, с таким отцом, как Потапкин, Ленька бы не очень-то забаловался!» — подумалось Николаю, и тут он ощутил давнюю-давнюю, но все же живучую тоску по отцу…
— Ты обедал уже? — спросил Аношин, с хрустом потягиваясь за столом. — Пошли в столовку, а то одному не хочется.
— Вот так бы скоренько раскрывались все преступления! — по пути в столовую говорил он. — Молодец — сразу сориентировался, людей на участке знаешь.
— Да случайность это, какая тут моя заслуга! — отмахнулся Николай.
— Случай — начало любого следствия, — подытожил Аношин. — Кстати, могу тебе сообщить по секрету, что наш Сан Саныч Желтухин на тебя уже глаз положил, так что скоро, может быть…
— Но как же это «может быть», если на своем участке я и десятой части жителей еще не знаю?! — удивился Орешин.
— Да это ничего, — успокоил Аношин. — Всех честных граждан нам знать и не обязательно, важно то, что их большинство, с ними пусть знакомятся другие — корреспонденты там газет разных, радио, писатели. А вот всех прочих нам знать следует как братьев родных!
Когда Николай наконец уснул, то являлись ему во сне чередой то Ленька Дятлов, то мать его со счастливым Потапкиным, а потом вдруг каким-то образом рядом с Иваном Осиповичем оказалась мать самого Николая, и она стала объяснять, что Потапкин — это и есть родной отец Николая, потерявший с войны их адрес, ведь когда-то они жили в Двуречье, а затем переехали. Мало того, сам Ленька Дятлов, по словам матери, брат Николая!
«А как же наша Тома? — недоумевал он. — Где вы ее оставили?» — «Тома будет жить теперь у Гали Остапенко, потому что ей одной теперь страшно без Тарзана, убитого Степаном! Бедная девушка», — пожалела мать со смущенной улыбкой.
X
Ленька Дятлов в эту же ночь помогал Гнилому добывать из облюбованного им киоска от железнодорожного ОРСа хорошее вино, фрукты и шоколад. Опять этот проклятый шоколад!
После первой в своей жизни кражи, когда на сеновале с мальчишками из бутылки по кругу давились в кромешной темноте теплым, шибающим в нос шампанским, он никак не мог проглотить этот невиданный им доселе шоколад — сначала тоненький, а потом разбухший во рту, — приторный, нагазированный вином, превратившийся в неподвластную зубам пенную кашицу. И совсем не показался Леньке вкусным и желанным этот изысканный продукт, его хотелось тут же выплюнуть ко всем чертям и прополоскать рот, а липкие руки оттереть как от какой-нибудь гадости! Кошмарным видением грезился ему шоколад весь остаток ночи, будто кто-то бесцеремонно, насильно пичкал и пичкал Леньку, впихивая в рот жесткие пластинки так часто, что жестяно шумящие обертки засыпали его уже, наверное, до колен…
А утром — милиция! Нет, он сначала даже обрадовался, что так скоро все откроется и… отстанет от него навсегда. Он никак не мог понять, почему дал уговорить себя на кражу. Но пацаны выдержали характер: выгородили его на следствии, упорно открещивались от кражи денег. Отдали их Леньке. Он сидел перед следователем как на горячих углях, пока слушал заступничество матери, а особенно Ивана Осиповича Потапкина. Ей-богу, ему просто какого-то мгновения не хватило, чтоб тут же прервать кузнеца и во всем признаться!. Вот бы посмотреть тогда на этого оратора — смехота!.. Только присутствие матери удержало его от этого. А потом было уже все равно как во сне. Дождался часа, отнес деньги Петру Кузнецову (так ему представился Гнилой).
— Ты что, попрошайничал на перекрестках? — удивился Кузнецов. — А может, воду на вокзале продавал?.. Я помню, в Хабаровске мальчишки так делали: пять копеек — стакан воды, десять копеек — напиться досыта. В начале пятидесятых это было, сейчас не знаю.
— Ничего я не продавал. Вы посчитайте, всех — четыреста одиннадцать рублей!
— Да? Так много! С января будущего года эта груда рублей превратится в четыре новеньких червонца — сорок один рубль, десять копеек! Всего-то… Так где ж ты разжился, выкладывай?
— А вам не все равно? Считайте, и все. Я тоже посчитаю, чтоб у нас сошлось…
— Не доверяешь? Правильно делаешь. Иной раз, бывает, и сам себя надуешь за милую душу. Не приходилось?
— Нет. Так вы берете деньги или не берете?
— Леня, ты делаешь мне интересно, как говорят мои друзья — одесситы! Во-первых, я предупреждал, перестань звать меня так, будто я здесь с тобой не один. Что это за «вы»? Мы с тобой деловые люди. Петр я, Петька, Петруха! Во-вторых, я возьму деньги только тогда, когда скажешь, откуда они у тебя. Усек?
— Я их украл! Подходит?
— Мальчик шутит?
— Я их украл, украл! Понимаете, Петруха? Сколько можно говорить?! Взломали с пацанами киоск в парке, взяли — вот и все. Нет, не все. На следующее утро нас забрала милиция, все признались, но про меня промолчали. И про деньги отказались…
— Да ты что, щенок, и на меня уголовку навести хочешь?! — вскочил Кузнецов, метнулся было к двери летней кухни, хватаясь за карман, но закашлялся у притолоки, через минуту успокоился, вернулся на место.
— Нервы ни к черту! — скрипнул зубами, утерся носовым платком, спросил обычным, тихим голосом: — Ко мне пришел задами, через дырку в заборе?
— Конечно!
— Ну вот что. Деньги эти ты забирай. Подельники твои все равно рано или поздно расколются — придется вернуть эту мелочевку. Посадить они вас не посадят, потому как несовершеннолетка. В первый раз. Ты расскажи-ка все подробно… — Ленька рассказал, ответил как мог на все вопросы Кузнецова. Тот помолчал, в упор разглядывая юношу, решился:
— Раз такие дела, открываю карты! Ты знаешь, кто я?
— ???
— И не ломай голову, все равно не узнаешь больше нужного. Слишком любопытных живыми я уже не встречал давно. Главное: я взялся тебе помочь. Есть и причины, и их много — тебе их, опять же, знать без надобности. Лучше просто — допустить, что я на этом деле могу тоже подработать. Паспорт мать нашла?
— Да! Это вы, ты?!
— Нет. Это те, кто принял наши с тобой условия — пятьдесят тыщ! Все карты сданы, и горе тому, кто начнет фуфлыжничать, мошенничать то есть. А что на банке, ты знаешь… Я тебя спрашиваю: играешь? Последний раз спрашиваю.
— А что же мне делать?! Но как же?! Я ведь!..
— Ша! Слушай сюда, и все будет в лучшем виде. От себя всех отшей, без меня никуда. Деньги отдай, пусть сами отнесут, а про тебя молчат. Скажи, что тебе больше не нужна никакая помощь, все объяснилось — ничего нет.
— Не поверят.
— Скажи так, чтоб поверили. Просто пошли их всех к… Полайся с ними, чтоб отстали. Дальше. Нам надо сделать первый хороший взнос, ставку. Наша первая рука. Играл когда-нибудь в очко?
— Приходилось…
— Тем более. Спрашивается: а где мы возьмем водяные знаки, деньги? Ты знаешь, как и где наскрести столько можно?
— Не знаю, но… А где их возьмешь-то, да еще много?
— Ну, вообще, много — это в банке. Нас туда не пропустят вдвоем, потому что не унесем все. Придется довольствоваться тем, где поменьше. Есть такое спокойное место.
— Красть?!
— Взять то, что можем. К чему такие некрасивые слова? Я беру, и, как видишь, со мной ничего не сделалось.
«Да уж, не сделалось! — подумал Ленька. — Вон как испугался милиции! Ворюга, значит, ты, Петруха, дальше некуда. И я вот с тобой… А, хоть и с чертом теперь, не все равно!..»
Из дома Ленька ночью выскользнул через окно, так же, незаметно для матери, надеясь и вернуться.
С киоском было покончено быстро. Когда взяли все, что хотел Кузнецов, он тут же остервенело набросился бить и крушить ломиком оставшееся.
Уворованное принесли в какой-то незнакомый Леньке дом, куда Кузнецов вел специально, наверное, кружным, запутанным путем. Возвращались тоже петляя, только другими улицами.
— Ну вот и все дело, ни одна собака ничего не узнает! Боялся? — спросил Кузнецов.
— Да так…
«Противно просто!» — хотел сказать Ленька, но не сказал: не все ли равно этому жигану, кто что думает или чувствует!
— Ты, Ленька, обрисуй-ка мне своего нового участкового. Ловко он вас замел — тихарем ему скоро быть в уголовке. Как он выглядит?
«Привязался, гад!» — злился про себя Ленька.
— Молодой такой, чуть выше меня, младший лейтенант. — Нечего больше говорить Леньке, не рассказывать же, как задержал в парке, как цепью ударил, хотя сейчас его можно и не только цепью!
— В форме ходит всегда! — заключил он свой рассказ. Вдруг почему-то подумалось с тоской: «Скорей бы школа!» Казалось, что окажись сейчас он в своем классе, среди нормальных мальчишек и девчонок — легче будет что-то решить, разобраться…
— Ты что, человека запомнить не можешь? — удивился между тем Кузнецов. — И это все твои приметы?! «Молодой, в форме ходит!» Да все легавые в одинаковой форме ходят, только морды у них разные!
— А вот и не одинаковая форма, у него — особенная! — вспылил Ленька и пояснил: — Гимнастерку он носит с ремнем вот так!.. Галифе. А другие в кителях или при галстуках. Теперь никто в городе, наверное, гимнастерку не носит — это поди дяди Вани, нашего старого участкового форма, он на пенсию ушел…
— Нашел мне тоже дядю Ваню — мусора! — зло сплюнул Кузнецов. — Перешмалять бы всех их на свете! Скоты!.. — закашлявшись, с задышкой, ненавистно прошипел он и тут же тронул рукой что-то у себя на поясе.
«Пистолет, не иначе», — подумал Ленька, и вот тут ему пришла мысль, что когда-нибудь этот псих и самого Леньку может прирезать или пристрелить — что ему стоит?!
«Надо раздобыть себе нож! — решил он и от этого решения немножко спокойнее себя почувствовал. — Пацаны помогут достать хороший нож… не сами, так у них есть в городе хват-ребята…»
Да, в тот раз, когда они собрались выследить Кузнецова, с ними, троими, было еще трое каких-то незнакомых Леньке парней вполне бесшабашного вида. Какие-то дела с ними были у его приятелей — они все шушукались о чем-то, спорили, смеялись, говорили намеками… Ленька давно замечал, что ребята с его улицы относятся к нему не совсем доверчиво, хотя в остальном вполне дружелюбны и держатся на равных, вот и беду его они восприняли участливо, пошли даже на преступление, а несколько раз давали ему неизвестно откуда бравшиеся у них деньги, и немалые — он отказывался как мог. А сейчас Ленька вдруг задумался: а что, если желание собрать ему «выкуп» за мать стало для ребят просто прикрытием их других преступных дел?
Вот и на кражу в парке они добрую неделю обламывали его, почище Кузнецова приводя разные доводы в пользу легкости этого дела. Дал уговорить себя, посчитав, что ради такого можно и…
«Что пацаны? — думает Ленька. — Пацаны — ладно… Это взрослые больно много о себе воображают! Один считает, что меня надо сразу цепью охаживать, другой — хвалить в глаза, защищать!..»
XI
На место происшествия приехали старший оперуполномоченный Желтухин, Аношин, старшина, проводник с овчаркой и участковый Орешин.
С первого взгляда всем стало ясно, что розыскной собаке здесь делать нечего: вокруг киоска рассыпана махорка из порванных тут же пачек, до десятка бутылок коньяка пролито на землю.
— За пять лет существования этого киоска его семь раз обворовывали, — сказал Желтухин. — Окраина, глухое местечко…
Проводника со служебной собакой отправили назад в отдел, приступили к осмотру места происшествия. Достав из следственной сумки графитовый порошок и тальк, Аношин мягкой кисточкой обмахнул пустые коньячные бутылки, сообщил, что преступник, вероятно, работал в резиновых перчатках — нет никаких следов.
— Что-то новенькое! — усмехнулся Желтухин. — Либо это был прожженный злодей, либо наоборот — новичок, но тщательно проинструктированный.
— И очень злой на нас или на все на свете вообще, — заметил Аношин. — Прямо какой-то псих ненормальный — вы только посмотрите, сколько всего перепоганил!
Действительно, внутри киоск представлял печальное зрелище: вспороты и рассыпаны мешки с сахаром, крупой, все это перемешано с растоптанными конфетами, рассыпанными сигаретами, яблоки из ящиков вывалены на пол, колбасы раскиданы где попало, вино и водка лужами стояли под ящиками — бутылки, похоже, чем-то методично били прямо в ящиках…
— Неужели это приятели Дятлова выместили злость за быструю поимку? — предположил Аношин.
— Да что они вам — совсем уж злодеи? — не согласился Николай Орешин. — Один раз оступились, так будем все на них валить!
— Все не будем, а вот с выручкой в парковом киоске не ясно: украли они деньги или нет? — сказал Желтухин. — Я все же верю продавщице. Надо тебе, Аношин, хорошенько помозговать, чтоб до конца выяснить. Останется лазейка — сами понимаете, добра не жди. Ну, а кто здесь насвинячил — найдем! Пойдем, Николай, опрашивать ближайших жителей, ведь кто-то же должен хоть что-нибудь заметить, опять же собаки тут в каждом дворе…
Дом, где жила Галя Остапенко, остался без внимания Желтухина — стоял подальше. Но Николай Орешин чувствовал себя как-то неудобно, ведь он до сих пор так и не выполнил свое обещание навестить девушку…
После обеда были очередные служебные занятия. Майор Бородаев вынес благодарность участковому Орешину за толковую помощь уголовному розыску. Тут же он призвал всех быть ближе к подросткам, держать постоянную связь с детской комнатой и общественностью.
— Помните, — говорил Бородаев, — прошло время, когда мы всячески засекречивали свою работу. Только опираясь на широкие народные массы, мы сможем создать преступникам самую нетерпимую обстановку! Заметьте парадокс: наш узкий профессионализм розыска способствовал повышению профессионализма преступников, когда вся борьба с ними превращалась подчас в дуэль, в единоборство. И злодей, как мы говорим, запоминал, что его «посадил» лейтенант Орешин, например, — вот и держал зло на этого лейтенанта, старался при случае досадить ему, перехитрить и так далее. И так всюду: постовой оштрафовал за переход улицы в неположенном месте — это злой, нехороший милиционер, придира. Правила и закон в таком случае, сами понимаете, остаются в стороне, сами по себе. С этим нельзя мириться. Правонарушитель должен постоянно чувствовать противодействие общества, сопротивление, осуждение всякого правонарушения, непримиримость нашей морали и закона, должен знать о неотвратимости наказания…
После занятий оставалось три часа свободного времени до вечерней работы на участке, и Николай решил поехать к Гале, очистить свою совесть…
Валька Гнилой и сам сразу не сообразил, почему он стал «пасти» этого молоденького младшего лейтенанта милиции в хлопчатобумажной гимнастерке и в таких же галифе. Одно — приворожила его весомо оттопыренная кобура — там, верно, две полнехонькие обоймы так нужных ему патронов!.. Другое — похоже, что ему встретился как раз тот участковый шкета Леньки, который поймал его за кражу в парке и ему сам Гнилой пророчил скорое продвижение в «тихари».
В автобусе Гнилому пришла шальная мысль: залепить карманную кражонку прямо в присутствии «пол-лейтенанта»! Пусть потом разбирается — это ему не с огольцами!
Потом настроение как-то переменилось. Он стал наблюдать: смазливый, лет восемнадцать-девятнадцать всего, здоровый, еще не знает никаких болячек, ни одной тревожной мысли в башке — в самый раз подкинуть такому что-нибудь, чтоб от слез опух, вызверился, сломался!..
Из автобуса милиционер потопал к железнодорожному переезду, повернул… Уж не к тому ли киоску он направился? А, пусть, даже интересно: если навели уже порядочек, подмарафетили все — он купит себе бутылку лимонада…
Участковый протопал мимо киоска, который, когда и Гнилой поравнялся с ним, оказался закрытым. «Подсчитывают убытки», — ухмыльнулся он, перешел на другую сторону под тополя — отсюда лучше видно, и если что, то просто зашел за ствол дерева — и нет тебя…
Участковый толкнулся в калитку дома под номером 13, зашел. Живет, что ли, здесь?! Вот дела…
Он уже хотел податься восвояси, но милиционер вдруг вышел не один — с девчонкой, оба смеялись. Что-то знакомое в ее голосе почудилось Гнилому, присмотрелся и неожиданно почувствовал почти то же дикое желание, что испытал не так давно при нечаянной, встрече с припоздавшей прохожей. Точно, это была она! И если мысленно представить себя на скамейке (кажется, сидел он вон на той, зеленой), то вошла девчонка как раз в тринадцатый дом. Ясно. Так вот где ты живешь, пампушечка!
Остается выяснить, что за дела у тебя с этим мильтошкой? Невеста, жена, просто знакомая?.. Посмотрим, куда это вы навострились, голубки, я на вашем месте в доме нашел бы местечко — все такое пышное, живое, молодое — оно же чего-то требует, черт побери!.. Да, это не тот товар, как любая из двух его потасканных марух — хоть Милка, хоть Инесса, сестрички-истерички. Так и не приехали, да теперь едва ли и приедут. Если не замела уголовка, то присосались к каким-нибудь удачливым фрайерам — это у них не заржавеет. А он как дурак для них ксивы новые добывает по чужим карманам, рискует погореть с этими паспортами синим пламенем! Да, в этом городе нельзя задерживаться: Слоненок злобу затаил, да и Ленькой Гнилой не доволен — с таким долго дурочку не поваляешь, окрысится и укусит как-нибудь, звереныш. Ну еще на одно дело пойдет без писка, а там… Тухлый номер. Это сначала ему казалось, что пацан сомлеет от страха за мать, будет в рот глядеть, подхватывать и исполнять все приказания. Нет, человек — такая штучка, что ему каждый день надо по горю подкидывать, чтоб не забывал, чтоб не думал ни о чем больше, не копал!
Впереди опять громко засмеялись, и это вконец разозлило Гнилого: «Ну погодите и вы у меня, голубки, я вам посмеюсь!»
Они стояли у проходной завода, когда Галя сказала, прощаясь с Николаем:
— Какой-то странный дядечка прошел вон по той стороне улицы… Взгляд у него… страшный!
— Где? Вон тот, сутулый? Дался он тебе!.. Так договорились: встречаемся утром, у меня завтра выходной по графику, так что уже ничто не помешает.
— Опять обещаешь?
— Но я же говорю, что выходной, законный!
— Все равно… Я тогда ждала, ждала, наревелась всласть… А тут еще неожиданно хозяйка вернулась из отпуска, за Тарзана столько выслушала от нее, так прямо не знаю, съехать, что ли?..
— Потерпи немного, что-нибудь придумаем.
«А что здесь, собственно, думать? — спрашивал он себя потом в своей комнате. — Она, наверное, ответит «да», я… Ведь почему-то ей одной доверил я свою сокровенную тайну про Зою Борисову, даже мать о том ничего не знала, лучший друг Вовка не знал! Степан с Игорем не в счет — им рассказал все по глупости. Игорь уехал, со Степаном все кончено и даже с его Соней, раз она приняла во всем сторону мужа и саму Галю обвинила в происшедшем. Той даже пришлось перейти в другую рабочую смену. А были такие задушевные подружки! Все проверяется временем и жизнью. Все. Наверное, и любовь не к каждому приходит вдруг. Если ты нравишься ей, почему не постараться честно ответить взаимностью? Зачем заставлять страдать, ведь ему самому так знакомо это чувство! А пример женитьбы Степана Орлова? Так то же Степан, а не ты сам, и Галя — это не Соня, девушка столько лет надеется и никогда не попыталась заполучить тебя любой ценой…
А где им жить, может посоветовать Иван Михайлович Еськин, а то и с помощью Потапкина подыскать квартиру прямо на своем служебном участке.
XII
Заслыша условный свист, Ленька забросил топор в дровяник, вышел за калитку.
— Ты Дятел? — спросил незнакомый малец.
— Ну и что дальше?
— Иди к штабу, там тебя ждут поговорить.
— Кто?
— Свои, сказано…
В горзеленхозовском скверике на траве валялись Бык и Киса (Быков и Котов, сверстники почти, правда, из другой школы, у них в друзьях полно вовсе незнакомых Леньке мальчишек).
— К тебе на днях приходил участковый? — было их первым вопросом.
— Нет, а что?
— У нас уже был. Выспрашивает: где спим, что едим, когда ложимся? У матерей пытают, не замечают ли у нас какие-нибудь деньги, поздно ли пришли вчера, позавчера и раньше. Похоже, что за нами теперь слежка. Не верят все же про деньги… А к тебе, значит, не приходили? Хорошо. Насчет тебя они поверили. Знаешь, Ленька, выручи теперь нас: деньги нужны во как! Продай на барахолке в воскресенье один фотоаппарат?
— Какой еще?
— Клевый фотик, дорогой, наверное! Но ты проси рублей двести пятьдесят, а за двести отдай.
— Чей фотик?
— Да так, одних… Темный, в общем. Но мы с тобой рядом там будем, и если кто прицепится, то бросай и рви когти — мы помешаем догнать тебя.
Ленька помолчал, соображая, как же поступить. Чертов этот киоск в парке! И зачем только он тогда согласился?! Теперь вот каждый может предлагать что вздумается… С другой стороны, если с пацанами по-хорошему, то они достанут ему нож. Ведь достали же они ему ружье с пятью патронами, заряженными крупной дробью. Это ружье он по частям перенес и спрятал в дровянике, так что в нужный момент он сможет быстро изготовиться к защите. Но ружье всюду с собой не понесешь. Нужен нож. Рядом с этим чахоточным (вечно кашляет и харкается!) Кузнецовым чем дальше, тем опасней быть без личного оружия, так сказать.
— Знаете что, пацаны, заберите вы лучше те деньги, что из киоска, — хоть сейчас принесу, раз вам так нужны!
Бык с Кисой переглянулись.
— А ты не уплатил еще? Чего ждешь? Нам не веришь?
— А то, может, отнести их в милицию? — рассуждал, будто не слыша вопросов, Ленька. — Отнести и все рассказать — не расстреляют же! Вон вас…
— Чокнутый?! Опять все сначала: допросы-расспросы, как да почему? Еще неизвестно, что будет, ведь говорят, будто чем больше группа, тем строже. Так можно и в колонию попасть! Тут и так уже… Ты брось темнить лучше, Дятел, а то помогаем ему от души, а он лапки кверху!
— Не надо мне больше помогать, пацаны. Я сам. Это мое личное дело в конце концов, зачем из-за этого вам еще в тюрьму идти? Вообще мы порядочные дураки, что затеялись с тем киоском! — вздохнул Ленька. — Теперь уж ничего не изменишь. Так что я сам теперь. Только мне нож надо бы срочно достать, финку какую-нибудь.
— А на кой, если у тебя ружье есть? Садани как следует, если полезет! — шмыгнул носом рыжеволосый Киса.
— Нет, нож надо…
— А гранату не надо? — засмеялись оба приятеля.
— Вам хорошо скалиться!
— Ты давно видел этого своего урку? Хоть бы как-нибудь показал нам, мы б сказали кое-кому тоже — есть, знаешь, какие парни! — Совсем по-кошачьи облизнул свои заеды в уголках губ Киса и прижмурился от восхищения.
— Бросьте! — отмахнулся Ленька. — Он хитрый, у него побольше, наверное, таких. Эх, ничего вы не знаете, так вам все просто! Говорите лучше: достанете нож?
— Это проще простого! Только… Вообще ладно, — решил Бык, как старший, — с фотиком как-нибудь потом. Волоки сюда те деньги, раз тебе не нужны. Зачем тогда шли на дело? Поделим поровну, ведь все равно платить присудят больше, чем попользовались. Ты знаешь, сколько ревизия насчитала? Шестьсот дукатов с хвостиком! А мы только одну бутылку выпили, одну разбили по дороге, шоколад по паре плиток на брата… Жулье!
— Но мне никакой доли не надо, не возьму, как хотите! — запротестовал Ленька.
— Так не честно! А вообще смотри. Приходи тогда в воскресенье на толкучку, нас найдешь — и будет тебе нож… Слушай, Ленька, а не лучше ли про твоего бандюгу участковому рассказать? Он будто ничего, младший лейтенант этот! Милиция все же, она быстро бы накрыла — пистолет р-раз — он бы и лапки кверху! — сказал Киса.
— У Кузнецова тоже есть поди пистолет — он мне обойму с патронами показал как-то. И ножик такенный! Да и поздно уже, кажется… — вздохнул Ленька. — Не стоит. Только разозлишь, а потом хуже будет.
— Конечно, дяде Ване Еськину лучше бы сказать — он опытный и смелый, — рассуждал Быков. — А то давай мы с Кисой вдвоем сходим, будто ты ничего и не знаешь, а мы сами решили?
— Нет. Я же сказал, что поздно! — совсем уже неуговорчиво отрезал Ленька и поднялся. — Я сам. Вы про нож не позабудьте.
Мать Леньки работала на электроаппаратном заводе обмотчицей индукционных катушек. До того часа, когда Леньке идти встречать ее с работы, было еще далеко.
Наверное, опять Потапкин за ними увяжется от самой проходной. Леньке не то что неприятен этот человек, но досадно иногда бывает за мать: он, Ленька, ради нее идет на всякие кражи, еще неизвестно на что пойдет, а она с Потапкиным разговаривает какие-то пустые разговоры, улыбается… Конечно, она ничего не знает, и Ленька не может ей сказать, но все равно досадно.
Интересно, как бы сам Потапкин поступил на Ленькином месте? Про него слышно, будто, будучи бригадмильцем, он переловил много всяких бандитов, был ранен и ни разу не побоялся, не струсил. Правда, что Леньке-то с того? Поймал много, да вот не всех — Кузнецова слабо поймать хоть кому!
Такой страх иногда чувствовал Ленька рядом с Кузнецовым, что прямо хоть беги. Он способен на все. «Слишком любопытных я давно не видел живыми!» — частенько повторял он. Ясно: сначала пристрелит, а потом уж думать будет — вон как метнулся к двери и сразу за карман!
С дровами опять возиться Леньке не хотелось. Что дрова, если в жизни все так перекрутилось, хоть плачь. И ему действительно хотелось плакать от растерянности, от неумения ничего надежного придумать, от того, что вынужден скрывать свои переживания. Он завидовал сейчас и Быкову и Котову: все ясно впереди, все чисто позади, можно теперь и всякие глупости советовать!
А Ленька той ночью чуть не умер от страха, когда в жуткой тишине темного киоска рядом вдруг раздался звонкий удар, звякнуло стекло — это Кузнецов ни с того ни с сего принялся крушить ломиком бутылки в ящиках, протыкать мешки, коробки! Прямо бешеным сделался, бормотал что-то бессвязное, жутко ругался, закашливаясь…
Полторы тысячи записал Кузнецов после этой ночи на счет Ленькиного долга. А унесли они всего несколько бутылок коньяка, сыр, шоколад, конфет немного, пяток кругов колбасы. Если действительно он взял Ленькин долг на себя и хочет, как говорил, на этом тоже заработать, то почему так барски ведет себя, денег не жалеет? Попортил он в киоске всего, конечно, на большую сумму, но кто ж за это ему платить будет?! Непонятно поведение Кузнецова, подозрительно, и потому еще страшней Леньке за жизнь матери. Назначили пятьдесят тыщ, а за какой-то миг Кузнецов ломиком нагрохал бутылок с вином на добрую половину! Что тогда вообще стоит им человеческая жизнь?! А что еще теперь задумает этот чахоточный, куда позовет Леньку, что делать заставит?
Страшно было парнишке, больно и тяжело, тоскливо, ничего на ум не шло, потому что у страха глаза велики, да ничего не видят.
XIII
В воскресенье по пути на вещевой рынок (барахолкой, толкучкой называли еще это место двуреченцы) Мухачев рассказал Николаю Орешину:
— В областном управлении было большое оперативное совещание, в перерыве ко мне подошел майор, начальник отдела ОУР по особо тяжким преступлениям — поговорили о том о сем. А Желтухин сразу надулся, решив, что меня теперь от него заберут. Чудные старики! Кто виноват, если они подчиняют себя привычкам? Разве в том все дело, чтобы я его устраивал, чтобы он меня устраивал, чтобы мы друг друга устраивали?! А представь работенку у этого майора — это тебе не киоски караулить, не за Слоненком по барахолке гоняться, как сегодня вот предстоит!
Кстати, надо искать Гнилого. Помнишь, как описал его Слоненок? По присланным-то приметам, я говорил, только с рулеткой…
— Лет тридцать, выше среднего роста, сутулый, шрам под подбородком, — перечислил приметы Николай.
— Лупоглазый, веки тяжелые, будто прикрытые, много зубов из желтого металла, — прибавил Мухачев. — Вообще похоже, что этот человек не выдумка Слоненка — понимаешь, на совещании выяснилось, что многие карманные кражи подходят под одну опытную руку. Учти еще, что не каждый потерпевший заявляет. Например, если пропадет небольшая сумма, то и не идут в милицию. И даже не из-за суммы, а потому, что не очень-то верят в то, что мы поймаем и изобличим вора. Так что… Сегодня на рынке будет много оперативных, работников других зон, а также из областного управления, ребята-дружинники из специального оперативного отряда при нашем уголовном розыске — эти будут, понятно, без повязок на руке. Смотри в оба. Слоненка ты видел, приметы Гнилого запомнил… Не забывай про тот фотоаппарат «Киев», где три семерки в номере. Если что, не стесняйся поднять шум, свисток у тебя имеется?
— Имеется.
— Наш пикет будет в кабинете директора рынка — там телефон. Всех задержанных доставляй туда — будем фильтровать. Конечно, по-хорошему и тебе надо бы в гражданское сегодня одетыми, да ладно, может, так и лучше, что всем видно присутствие милиции, не мешкая будут обращаться. Только ходить нам с тобой поврозь придется, сам понимаешь…
Народу на рынке было до неправдоподобного много — прямо море голов, невозможно было пройти, чтоб кого-нибудь не задеть, в глазах рябило от разноцветья вещей на прилавках и в руках продавцов, в сплошной гул сливались приятельские беседы и споры торгующихся, прихваливающих свой товар.
Ветхое деревянное зданьице администрации рынка притулилось к забору недалеко от центрального входа. За столом у телефона сидел Александр Александрович Желтухин, а на стуле у окна какой-то странный дед в немыслимо затрапезной фуражке, натянутой на глаза, в странной рабочей спецовке. «Подозрительный дед», — сразу отметил Орешин, и ему бросилось в глаза, что руки у деда совсем еще молодые, крепкие, нетерпеливо потирающие ладонь о ладонь, и сидел он как-то лихо — забросив ногу на ногу, покачивая коричневой, хорошо начищенной туфлей. Дремучая борода с усами заметно контрастировала со смуглой и неморщинистой кожей лица.
При появлении Орешина и Мухачева дед отвернулся к окну, руки спрятал под мышки.
— Кстати появились! — воскликнул Желтухин. — У меня как раз все в разгоне. Ленька Дятлов какой-то фотоаппарат продает — надо бы проверить. Задержите пацана, он… Да вот дедушка вам покажет, где он стоит сейчас, — кивнул Желтухин в сторону незнакомого гражданина и усмехнулся, поглядывая на Орешина с Мухачевым как-то особенно.
Дед быстро шагал впереди, решительно раздвигая сильными плечами толпу, молодые милиционеры еле поспевали за ним.
— Так ты и не узнал? Это же твой Потапкин сыщика изображает! — шепнул Орешину Мухачев. — Наш Сан Саныч тоже иногда пользуется таким приемом. Ты подольше вида не показывай, что узнал, пусть думает…
— Отсюда его уже видно, сынки, дальше уж сами, — сказал между тем приостановившийся ряженый Потапкин.
Ленька стоял у самого забора с фотоаппаратом в руке, оборванный ремешок на чехле болтался до самой земли. Пока Орешин пробирался в толпе, Дятлова заслонил какой-то мужчина — видно, они быстро договорились, потому что Ленька уже прятал в карман деньги.
— Гражданин, гражданин! — подоспел Орешин. — Погодите минутку!
Ленька еще с фотоаппаратом в руке попытался улизнуть, но Мухачев с другой стороны крепко взял его за плечо:
— Пошли, Дятлов, пошли, дорогой, не трепыхайся! Давай следом покупателя! — крикнул Мухачев Орешину и исчез в толпе, где-то уже далеко покрикивая скороговоркой: — Посторонитесь, граждане, осторожней, посторонитесь, дайте дорогу!..
— Гражданин, — повернулся Орешин к мужчине, передавшему Леньке деньги, но так и не успевшему забрать свою покупку. — Пройдемте, — предложил он и тут же осекся от неожиданности: на него глядели холодные настороженные глаза, будто со сна только что прикрытые набрякшими веками; шею незнакомца до подбородка закрывал высокий ворот белоснежного свитера, а из кармашка черного с отливом бостонового пиджака выглядывал платочек.
«Платочек как у Слоненка! Гнилой!» — промелькнула мысль.
— Да никуда я не пойду, ничего я не покупал! — процедил сквозь зубы из желтого металла незнакомец, делая незаметные попытки отодвинуться в толпу, но тут невесть откуда на его пути возник бородатый Потапкин.
— Тебя же просют, милок, милицию уважать след!
— Деньги свои заберетё и все! — с появлением бывшего бригадмильца обретая спокойствие и уверенность, сказал Орешин.
— Какие деньги?! — удивленно и затравленно озирался незнакомец, стараясь обойти мешающего старика. — Никаких денег не знаю! Ошибочка вышла, гражданин начальник! Ошибочка, дедуля!
— Там разберутся, вы уж идите, раз просют.
— Гражданин, я…
От удара коленом в живот Потапкин охнул, переломился вперед, толпа вокруг ахнула и расступилась — незнакомец побежал! Орешин — за ним. В первый момент он почти нагнал беглеца, но тот юркнул в сторону и потерялся, как растворился. Может, перешел на обычный шаг, а то и остановился где-нибудь у прилавка, изображая покупателя. Вытянувшись, на цыпочках, Орешин до онемения шеи крутил головой во все стороны, но безрезультатно.
«Упустил, упустил, упустил!» — билась одна досадная мысль.
— Не догнали, Николай Трофимович? — спросил подошедший Потапкин, уже не подделываясь под старика, хоть теперь он, сморщенный от еще не прошедшей боли, согнувшийся и державшийся за живот, больше походил на деда, только вот борода у него совсем отклеилась, висела ниже крепкого бритого подбородка. — Эх, язви его душу! Мне надо бы сразу его брать приемом!
А фотоаппарат у Леньки Дятлова был именно тот, разыскиваемый «Киев» с тремя семерками в номере. Так сказал Мухачев в пикете. Еще он сказал Николаю, что дружинники из оперативного отряда почти с поличным задержали на карманной краже Слоненка и теперь Желтухин разбирается с ним в горотделе.
— Хороший улов сегодня! Но почему ты не привел покупателя, вот ведь денежки его — двести рублей, или такой богач?
— Убежал он. Гнилой это был, вот кто! — вырвалось у Николая.
— Кто, кто? Да ты что?!
— Все приметы сходятся, — вздохнул Орешин. — Саданул под дых нашего э-э… дедушку — и был таков! Народу много… — скомкал он разговор, заметив заинтересованную настороженность Дятлова. — А что же Леня рассказывает?
— Ничего он не рассказывает, твой Леня! — отмахнулся оперативник. — Талдычит одно: дал продать какой-то мужик, сам был рядом, а потом куда-то делся… Сказки все это. — Мухачев подошел к окну, долго смотрел, сказал Орешину: — Дай ему почитать объяснительную — с его слов накатал, пусть подписывает, а я сейчас вернусь…
— Ну что ты, Леонид, все в какие-то истории впутываешься?! — в сердцах, сердито спросил Дятлова Орешин, еще не унявший свою досаду за побег Гнилого. — Мать бы хоть пожалел, ведь на этот раз дело куда серьезнее — грабеж за этим фотоаппаратом!
Как ни расстроен был сейчас сам участковый, он, однако, заметил, как при его последних словах Ленька вздрогнул, вскинулся, в глазах его промелькнуло недоумение, растерянность, боль.
—. Что, не знал? Знай теперь! Как видишь, я перед тобой с открытыми картами. И жаль мне, честно, будет, если придется…
— А! Делайте что хотите! Мне дали, я продавал, — насупился Дятлов, отвернулся.
Подошел Мухачев.
— Ну что тут у вас, подписал? Ничего больше не желаешь прибавить, Ленька? Смотри!.. Ну иди, и чтоб духу твоего больше не было на барахолке, делать тебе здесь нечего! Топай. До правды мы все равно докопаемся, так что смотри не пожалей…
— Ты думаешь, что он скрывает что-то? — спросил Николай у Мухачева, когда Дятлов ушел.
— Скоро узнаем — я попросил проследить за ним дружинников, из тех, что Слоненка выследили. Мне показалось, что огольцы какие-то все у пикета вьются, не Леньку ли нашего дожидаются? Как же ты упустил Гнилого? Надо было прямо зубами его держать! Ну ничего, ты не тушуйся, с кем не бывает. Теперь-то мы хоть знаем, что он существует. Обрисуй-ка мне его, а то приметы приметами, а в городе сто раз мимо пройдешь и не заметишь.
— Точно! — воскликнул Орешин. — Я ведь видел уже его у лесозавода! Провожал Галю (мы к ней выезжали в дежурство — еще собаку ее хозяйки убил поленом Орлов, помнишь?), а она показывает мне на сутулого такого прохожего и говорит, что тот очень жутко посмотрел на нее. Точно, это был он, я хоть и сбоку, но крепко запомнил по фигуре. Вкрадчивый такой шаг, осторожный, а походка вихляющая, развинченная…
— У лесозавода? Может, живет он там? Надо участкового тех мест предупредить, пусть сделает сплошную проверку паспортного режима.
— Да, все успокоиться не могу — внутри прямо трясется… Как он это ловко: Потапкину — на! И был таков! И стрелять никак нельзя — народу уйма кругом! — сокрушался Орешин.
— Может, надо было вверх — народ бы отхлынул, и он в коридоре б оказался. А тут и мы! Что теперь рассуждать… — махнул рукой Мухачев.
— Пойти еще побродить по рынку?
— Нет, теперь уж айда вдвоем — ты у нас человек ценный, видел Гнилого в лицо!
А вечером от Мухачева в горотделе Орешин узнал, что Дятлов все-таки был задержан дружинниками на автобусной остановке у рынка, когда его нагнали и стали о чем-то оживленно расспрашивать четверо подростков — двое из них оказались причастными к грабежу, о чем признались после запирательств, выдали сообщников. Дятлов опять оказался причастным косвенным образом. И еще: при обыске в доме Слоненка нашли пустые бутылки из-под коньяка той марки, что был похищен из железнодорожного киоска, а также обертки от шоколада «Дорожный». Слоненок запирается, конечно…
— Четвертый раз он попадается только на карманных кражах, взламывать киоск, может, сам и не пойдет, но знает что-то определенно, — рассуждал Мухачев. — И вообще, не многовато ли он знает, наш Леха? О киоске знает, о Гнилом знает, к находке паспорта Дятловой тоже имеет явно прямое отношение… Ничего, посмотрим, кто скорей будет знать больше! Ты бы посмотрел на жену Слоненка — вот умора! И так глуповатая, а тут совсем дурочкой прикинулась: «Можа, кто принес нам эти бутылки?» — «А кто бывает у вас обычно?», — спрашиваем. «Так никто! Могут и через плетень кинуть по злобе!»
Встретив Галю у завода после вечерней смены, Николай спросил:
— А ты не встречала больше того мужчину, который, помнишь, так посмотрел на тебя, что тебе жутко сделалось? Ну еще сутулый такой, развинченный, лупоглазый, с золотыми зубами впереди?..
— Я помню. Нет, не встречала. А ты встречал, если заметил и глаза и зубы, — кто он?
— Понимаешь, я пока ничего не могу сказать, этого человека мы ищем. Давай договоримся: если повстречаешь, тут же позвони в уголовный розыск Мухачеву, мы с ним приезжали тогда за Степаном, помнишь?
— Значит, я тоже стану у вас работать? Может, мне уж и на завод больше не ходить, зарплату начислите! — засмеялась Галя.
— Ну зарплату нам с тобой хоть бы эту одну, положим, сполна отработать! — вздохнул он.
— Одну? С тобой? Ты не мог бы яснее говорить?
— Пожалуйста! Просто я подумал, что пора мне сделать тебе предложение…
XIV
— Ну, а вам, ребята, мое особое спасибо за службу! — сказал Желтухин Мухачеву и Орешину, когда закончилось зональное совещание участковых и оперативных работников. — Грабежи раскрыты, в нескольких карманных кражах признался Слоненок, есть зацепки по орсовскому киоску. Но, сами понимаете, главное сейчас для нас — задержать опасного рецидивиста Гнилого — Валентина Стофарандова, Петра Кузнецова, Илью Рязанского — каким там еще чертом он теперь назвался! Закоренелый, махровый враг, в любую минуту готовый пустить в ход оружие. После встречи с Орешиным на рынке он станет трижды осторожней. Да и Слоненок что-то нервничает при одном упоминании Гнилого… Ладно, этим вопросом мы вплотную занимаемся. А вы, Орешин, слушайте, смотрите, докладывайте все мало-мальски стоящее внимания уголовного розыска.
— А что будет с Дятловым, Александр Александрович? — спросил Николай.
— Ну, брат, ты беспокоишься о нем совсем как близкий родственник! Пока известно одно: продавал фотоаппарат, не зная, откуда он взялся у малознакомых ребят, с которыми свел его один из приятелей — Котов. И вообще тут так. Попрошу пока Дятлова не тревожить ни посещениями на дому, ни вызовами к нам. Им занимается один человек — открываются очень любопытные обстоятельства. Пока это оперативный секрет. Ясно?
— Не дедушка ли этот секрет? — засмеялся Мухачев. — Сыщик тоже: приклеил бороду и усы, думает, что его никто не узнает!
— Ничего смешного! — оборвал молодого оперативника Желтухин. — Если б не Потапкин, то и Дятлова с фотоаппаратом вам не удалось бы задержать. Здесь лучше подумать надо. Например, зачем Гнилой подошел к Леньке, зачем стал покупать аппарат? Я вот, знаете, что подумал сейчас? Гнилой подходит к Дятлову, они о чем-то беседуют… Это же ненормально, братцы мои! Фигурально говоря, цель всей работы милиции в том и состоит, чтоб никогда не дать отпетому преступнику успеть хоть и мимолетно повлиять на наших подростков, на нашу молодежь! Мгновение может принести беду, и нам опять придется иметь дело с новым Гнилым. К слову сказать, почему-то именно с отпетыми преступниками больше глянется иметь дело нашему Григорию, — с грустинкой в голосе кивнул Желтухин в сторону Мухачева и пояснил Орешину: — Да, уходит он в областное управление. Понравился майору. А что ж: хваткий, горластый, косая сажень в плечах, к пистолету руки липнут!
— Сан Саныч! — умоляюще произнес Мухачев. — Я что, сам напросился?
— Сам не сам, но согласие свое сразу выразил. Иди, конечно, я и сам бы не против куда-нибудь деться от всяческих тут дел, но… — вздохнул Желтухин. — Только не зазнавайся там, пожалуйста, нас не забывай. И знаете, пойдем ко мне, ребята? — неожиданно пригласил он. — А что? Пойдем ко мне на базу, домой то есть, посидим хоть разок все вместе за столом, поговорим… Знаете, почему я говорю «на базу»? Жена у меня продавец, так вот однажды мне ее нужно было найти, прихожу — объявленьице на двери: «Ушла на базу». Я знаю ее базу, пошел, но и там не застал, вернулся домой, а она там. «Это и есть твоя база? — говорю. — Теперь тоже буду писать на двери в кабинете такие объявления!» Так и прижилось: звоню, что на базу вернусь во столько-то…
База Александра Александровича Желтухина состояла из большой многокомнатной квартиры в каменном доме старой постройки, в которой жили жена Клара Викторовна, симпатичная, улыбчивая женщина, пятиклассница Аленка с карими, как у отца, глазами, шестилетний Виталик, умеющий читать и считать до ста, живой, непоседливый мальчик, большой любимой бабушки Марии Яковлевны, библиотечного работника и, конечно, главной сказочницы во всем доме. С появлением в доме гостей все домочадцы будто получили незаметно от Марии Яковлевны какие-то приятные поручения по встрече гостей — сделалось празднично, оживленно, весело. В очень короткий срок, и тоже незаметно между знакомствами и общими разговорами, когда Николаю, например, казалось, что никто не отлучается на кухню, — появился ужин, вернее, Мария Яковлевна вдруг повела всех к столу в соседней комнате.
— Вот шеф — такая у него база, что позавидуешь! — сказал Мухачев, когда они с Николаем прощались у автобусной остановки. — Как женюсь, мать свою позову жить у нас, детей будет много… Нет, честное слово, пригласи вот сейчас меня майор — ни за что бы не согласился!
XV
Вот когда ясно почувствовал Гнилой: жареным пахнет для него в Двуречье. Переполошилась и здесь уголовка, ищут его — дураку понятно, — вон ведь как загорелись глазки у лейтенантишки на барахолке! И Слоненок засыпался, дома у него был обыск — Валька чуть сам вторично в лапы милиции не угодил: под вечер вознамерился навестить кореша (чтоб ему околеть!) через лаз со стороны огорода, а по двору милиция тычется, Дашка с ними препирается. Когда уехали, он побеседовал с ней и даже ночевать остался на своем старом месте, на чердаке. Пока со Слоненком расчухаются, самое надежное место!
Дашка за ночевку сразу сотню рублей содрала: «Я теперь женщина одинокая, с дитем, мне чего-то жрать надо!» Наверное, вдвое больше запросила бы, согласись он с ней в доме побыть ночь, — знает он таких оборотистых профур, пока платишь — хозяин, перестал — никто. Слоненок для Дашки теперь никто, бессребреник. Вытянуть же у ней хоть рубль назад можно лишь тогда, когда взамен протянешь трешку. Нет, она не выдаст (да уголовка и не платит никому!), но вот Слоненок… Везде опасно. Хорошо, что нашлась крыша понадежней — контора зеленхоза: сторожа нет, сотрудники приходят к девяти. Спит Гнилой прямо в кабинете, на двери которого табличка, что «участковый уполномоченный принимает граждан в первый и последний четверг каждого месяца от 20 до 21 часу 30 минут».
Тревожно спит Валька: брех городских собак, писк потревоженных чем-то птах в садике у конторы — все его будит, и тогда наступают ненавистные минуты раздумий. Куда ехать дальше? Что делать? Неужели конец?! Ведь ничего хорошего еще в жизни и не было — так, грязь, кровь, злость… Неужели никогда не будет? Даже известный ему отрезок жизни Слоненка кажется подобием настоящего счастья: была у него Дашка, сопливый пацаненок, заботы по дому, из-за которых он вечно ругался с Дашкой, увиливал. Сам покой в обилии таких простых мелочей, какие можно делать, а можно не делать, но они есть всегда, как только проснешься. Зато нет того, от чего не уснуть.
Или вот несколько дней ходил Гнилой за подружкой чуть не сцапавшего его на барахолке участкового — хороша, как ни посмотри! Он выслеживал таких и брал свое силой, а почему б с какой-нибудь не по-хорошему? Неужели нет для него ни одной на всем свете? Тогда к чертовой матери всех и все! Но как несправедливо он слаб и немощен сейчас и почти что безоружен… С пацаном Ленькой и то не знает, как поступить. Увидев его на толкучке, Валька не на шутку разозлился:
— Ты опять меня не слушаешь, кореш? Чей хлам?
— Да пацаны!.. — промямлил Ленька.
— Что им надо за эту железку?
— Двести…
— На, возьми деньги, отдай, и чтоб я!.. — договорить Гнилому уже не пришлось — появились те двое.
Конечно, нет худа без добра: хоть знает теперь наверняка, что его здесь ищут. Но удержит ли страх за мать этого щенка на сей раз, неизвестно. Вот и думай, как поступить: оставишь — совсем бояться перестанет, кокнешь — патрон себе дороже. Конечно, можно просто придушить гаденыша, маменькина сынка — эдак оплести пальцами его гусиное горлышко, тихонечко нажать… Хрястнут поди и порвутся молодые косточки, как зубья у пластмассовой расчески! Так явно представил все это Гнилой, что больно стало рукам, намертво стиснувшим одна другую.
Еще бы и Слоненка таким же способом, без кровищи, прибрать к чертям собачьим. Пробраться бы как-нибудь в саму тюрьму — вот бы в штаны наделал, гад, ведь ясно, что уже успел продаться, заложить его. Как же! Тут он был в авторитете, никто ничего не знал, воровал, и то по великим праздникам, пригрелся под Дашкиной горой сала, тварь! А тут я заявился, понял его политику, подначивал, вот он и попер на рожон. Удивительно, если б Слоненок не влип в воскресенье на барахолке — в эти дни всегда тихарей полно. Кого сейчас он в тюрьме проклинает? Меня, кого же еще. Да еще Дашку свою ко мне приклеит!.. Нет, надо делать ноги отсель, и чем скорей, тем лучше. Вот только патроны, патроны — где ж их пригреть?! За каждый палец готов отдать — руби!
И опять мысль Гнилого возвратилась к Леньке Дятлову. А не дурит ли его и этот шкет, может, подсадной он от уголовки, ведь побывал же там?! Даже жарко сделалось Вальке от такой догадки. Он снова вспомнил происшедшее: только подошел — тут тебе и милиция! Случайно? Черта с два! Ну погоди!
Сплетенные пальцы Гнилого опять хрустнули, взбаламученная темная злоба перехватила дыхание, задавила кашлем…
XVI
Как слепой и безумный, Ленька Дятлов метался в своем сумрачном, пыльном дровянике, ударяясь то грудью, то головой о поленницы, глотая безудержные слезы. Казалось, что сердце распухло от горя так, что рвало тело, выгибало ребра, нечем было дышать. Шею будто еще сдавливали змеино-холодные, липкие пальцы Кузнецова, шипящего в лицо злорадные угрозы: «Я понял: поэтому вы живете, что сдаете нас всех в расход. Одного за другим уничтожаете? — брызгал Гнилой в лицо Леньки слюной. — Актив, повязочники, менты! Врешь! Моей кровью отравишься! Сознавайся, сдать меня на толкучке хотел, следишь за мной, копаешь, прощенье зарабатываешь».
Ничего не может Ответить Ленька, потому что пальцы Гнилого сдавили горло, ужас парализовал язык. Потом Гнилой его бьет как попало, а устав, пинает, перешагивает и уходит.
Страх за то, что мать может вернуться домой, а Кузнецов ее… Ленька поднялся и побежал домой.
Жить не хотелось. Панически стыдно было ощущать себя все еще трясущимся, движущимся, дышащим.
Скулил, время от времени тихонько подвывая, как по покойнику, пес Дружок, царапался лапой в дверь сарая к Леньке, не понимая, что тревожным своим сочувствием он сейчас только усиливает и обостряет безысходную тоску впервые в жизни своей беспощадно избитого, униженного, растоптанного мальчишки.
Ясно Леньке: не от страха он жив и не для того, чтоб терпеть этот страх дальше, как терпел с первого дня появления Кузнецова. Страх кончился, перейдя в немыслимые страдания от стыда, отчаяния, бессилия. Но и этим чувствам не суждено быть вечными — уже накапливалась в каждой клеточке мозга, пружиня мышцы, злость — всепобеждающая, целительная, приказывающая!
Ленька думал: «Кузнецов ненавидит всех. Кто для меня все? Мать, соседи, Киса с Быком, ребята из моего класса, Иван Осипович Потапкин, участковый… Не задумываясь, Кузнецов может убить любого, каждого, и это тем более реально, что никто не знает, не подозревает, не ждет!»
Ленькина злость могла бы еще перерасти в какое-то более здравое человеческое решение, но для этого нужно было время. А у него этого времени не было. Была злость к Кузнецову и были минуты, чтоб успеть свою злость донести туда, где она утолится.
XVII
Григория Мухачева перевели в областное управление. Готовился приказ о назначении Орешина оперативным уполномоченным отдела уголовного розыска с последующей стажировкой по новой должности. Предстояло ехать в Хабаровск. Это уже само по себе казалось Николаю счастливым подарком судьбы: он увидится с матерью, с Зоей… И как это он раньше не мог догадаться, что без этих встреч ему просто невозможно ничего решить в отношениях с Галей?!
На повышение Орешина рекомендовал Желтухин. Майор Бородаев дал молодому участковому хорошую характеристику, но выразил неудовольствие таким скорым его переводом:
— Не успеешь мало-мальски обучить человека делу, как заберут!
А Николаю наедине майор посоветовал прямо:
— Основательней надо быть, молодой человек, куда спешите? Не познав одного, браться за другое дело — хорошо ли? Так не делается…
Однако все уже было сделано и ничего нельзя изменить. Уже завтра утром Николаю предстоит выйти на работу двумя часами позже, чем положено участковому. И сегодня он мог бы не идти на участок, но тогда осталось бы в планшете нерассмотренное заявление, и как раз вечером час приема граждан в конторе зеленхоза. С кем-то удастся попрощаться, сообщить о переменах. Эта весть, конечно, быстро разнесется среди жителей. В любом случае так будет, ему казалось, честней и лучше, просто человечней, чем оставить людей вообще в неведении, куда подевался их участковый.
Да и так не усидеть бы Николаю сегодня одному в комнате до полуночи, когда нужно идти встречать Галю у завода. Но говорить ли ей о предстоящей поездке в Хабаровск?
— Ну и хорошо, что переводят! — ободрил Иван Михайлович Еськин. — Ты, главное, не робей. В угро, ясно, работы против нашей больше, но ты же молодой, грамотный — справишься! В молодые годы, известно, человек и ломается легче и выпрямляется быстрей, да еще если хороший пример перед ним будет. Желтухин умеет учить, он зря на крик не сорвется, слушайся его хорошенько. Ну, а про то, создавать тебе свою семью сейчас или погодить, — про это, брат ты мой, у народа советов не спрашивают. Работа жизни не помеха, лишь бы счастье было, а его вот и хорошая овчарка не расчует, тут сам как-нибудь…
По дороге в зеленхоз к часу приема граждан он встретил Потапкина — тот искренне огорчился известию об уходе участкового на новую должность:
— Ну как же так, а, Николай Трофимович?! А я как раз собирался посоветоваться с вами насчет лучшей организации дежурств дружинников в парке! Мысли появились тут, знаете… Тоже одно подозреньице покоя все не давало, но я сегодня с утра позвонил Александру Александровичу — прямо камень с души скинул.
— Иван Осипович! — засмеялся Николай. — Да разве я в преступники перехожу, что мне уже и доверить ничего нельзя?!
— Что вы, как можно такое подумать?! Оно, конечно, вы по одной части все идете, но бывает так, что-пока сам все не проверишь…
На прием в контору пришли только два человека, специально вызванные Орешиным для объяснений по имеющемуся заявлению, да сам заявитель. Дело быстро кончилось примирением сторон и устными предупреждениями.
Неожиданно позвонил Желтухин — он ни разу не звонил Орешину по этому телефону.
— Много у тебя сегодня на приеме? Расскажи потихоньку расположение твоего кабинета в конторе горзеленхоза…
— В общем, так, — сказал Желтухин, когда Николай, очень удивленный, описал ему требуемое. — Есть данные, что твой знакомец Гнилой ночует… там, где ты сейчас сидишь! Теперь слушай внимательно. Перед закрытием своей конторы убедись, чтоб никого из посетителей близко не было. Замкнешь и ключ оставишь…
«Вот вам и Потапкин! — удовлетворенно думал Орешин. — Самого Гнилого выследил!» Вообще-то, как сказал Желтухин, первыми заметили подозрительного мужчину, выскользнувшего утром в окно конторы зеленхоза, мальчишки Котов и Быков, приятели Леньки Дятлова. Они накануне уговорились пойти на рыбалку и встретилась в своем «штабе». По пути на речку им попался Потапкин, они ему рассказали…
— Зайди к Потапкину, — приказал Орешину Желтухин, — и хоть к кровати привяжи, но пусть к ночи и носа из дома не высовывает! Это мой приказ, сидеть дома до утра! Ты тоже своими делами сегодня занимайся подальше от зеленхоза. Все.
«Серьезное дело намечается!» — вывел из всего разговора с Желтухиным Николай. А в душе даже погордился, что завтра уже может участвовать в засадах, в задержаниях, обысках — во всем том, что называл Желтухин недавно в разговоре «формалистикой», в пристрастии к чему, кстати, укорял Мухачева. Разве легко сразу вытравить в молодом человеке романтическую окраску всего того, что делают другие, симпатичные тебе люди, и делают умело, красиво, мужественно? Как хочется быть таким же, как просто это кажется!
Ивана Осиповича Потапкина дома Николай уже не застал. Две дочери его, сильно похожие на отца, пышущие здоровьем златовласки, Ольга Ивановна и Зоя Ивановна, обе в одинаковых ситцевых мокрых передниках, раскрасневшиеся от постирушки после купания своих ребят, развешивали платья-рубашонки на просторной веранде.
— А папаня, часом, снарядились бородой и по секретному заданию ушли, — обыденным тоном сообщили они Орешину. — Теперь скоро не будут…
«Вот чудак человек, а его-то, старого, какая романтика из дому гонит на ночь глядя, уставшего на заводе у своей кузни, одного, безоружного, — кого он теперь выслеживает, нарывается на опасность?»
Потом ходил Николай Орешин по темным улочкам своего участка, проверяя службу сторожей магазинов и дежурство дружинников при небольших предприятиях, в городском парке присматривался к редкой толпе прогуливающихся граждан и сидящим на скамейках по аллеям стариков, наслаждающихся остатним теплом уходящего лета, слушающих «Амурские волны» и «Рио-Риту». Он надеялся встретить тут Потапкина, как и на рынке, в обличье «дедушки». Не встретил, однако у Николая не проходило ощущение, что тот где-то рядом и в любой момент их пути могут пересечься.
В половине двенадцатого, позвонив дежурному и не получив никаких срочных заданий, он отправился к лесозаводу встречать Галю. Он боролся с собой, со своим непроходящим чувством к Зое Борисовой, старался прошлую дружескую привязанность к Гале, нарушенную размолвкой, опять воскресить, усилить до любви. Спешил быть логичным и честным. Язык скажет все, что подскажет сердце. Но, выходит, сердце-то не захотело почему-то, чтоб прежде предложения о замужестве было объяснение в любви! Не захотело… Чувство — вольное дело, и закон тут прям: есть — есть, нет — нет! Ну, а в нетерпеливом ожидании счастья и любви кто не путался, кто не торопился?
Обыкновенно Галя много предполагала, фантазировала насчет их будущей жизни, практичности ее тут обнаруживалось столько, хоть отбавляй. Вот и сегодня она деловито восприняла сообщение о наметившихся переменах у него по службе.
— Конечно, и оклад у тебя теперь будет повыше — это кстати. Могу тоже похвалиться определенно: меня ведь прочат в начальники смены — тоже прибавка. Как видишь, я не отстаю! Это к нам новый главный инженер пришел, молодой приятный мужчина. Не для ревности скажу, что мне он, кажется, симпатизирует: останавливается частенько, разговор затевает… Вот недавно намекнул на повышение. У нас теперь вообще большие перестановки — новая метла, как говорится. Это Соня, дурочка, она так и застрянет в мастерах, представь себе: пошла в декретный отпуск! Настоящая дурочка, я ей так и сказала. Ну зачем ей второй ребенок, если Степан к ней так относится? Я б на ее месте давно его выгнала! Не старуха еще, не уродина какая-нибудь — в жизни еще такой человек может встретиться!.. А форму свою ты теперь сдашь?
— Ну зачем? На днях я новую получу в ателье — сшили наконец.
— Это хорошо. Ты домой в форме приходи, ладно? Хозяйку мою это прямо гипнотизирует! Как только она поняла, что ты ухаживаешь за мной, — ни нотаций, ни буркотни, ключи от дома вернула, добренькой сделалась, прямо ужас! Представь, слышала даже, что грозилась пожаловаться на кого-то тебе через меня! Между прочим, предлагает в будущем занимать у ней те две дальние смежные комнатки… Что-то я говорю, говорю, а тебе, может, не интересно? А помнишь, ты говорил о том глазастом дядечке? Я видела его в городе два раза уже. Обернусь — идет следом и так смотрит, так смотрит! Прямо красный весь от волнения сделается, когда я остановлюсь и сама на него как гляну-гляну!
— Что ж ты мне сразу не сказала? Позвонила бы хоть, как я просил?
— А ты просил позвонить? Наверное, я подумала, что это не всерьез…
— Ну вот! Когда ты его видела в последний раз, в каком районе, как он был одет?
— Ты меня допрашиваешь? Но я не обязана следить за каждым, кому вздумается на меня посмотреть! Пусть смотрят, жалко, что ли.
— Галя! Ну разве о том речь? Куда он направился, тот сутулый, ты не заметила? Пойми: это важно.
— Не знаю, я говорю же, что не следила! И не сутулый он, одет прилично — скорей всего, что вы не того ищете. Вон одна моя приятельница рассказывала, что ее мужа ни за что милиция задержала, а потом в вытрезвителе ему деньги не все вернули…
— Дурочка!
— Как? Кто это дурочка?
— Твоя приятельница, кто же еще?! Вытрезвление тоже денег стоит.
— Ну, знаешь! Ты защищать защищай честь мундира, как говорится, но людей не оскорбляй. Будто святые там все у вас собрались, все честные!
— Все, кого я знаю! А ты вот никого, кроме меня, не знаешь и, повторяя такое за другими, меня первого и задеваешь.
— Вот сам и есть дурачок! Кто тебя-то имел в виду? Ну и обижайся себе на здоровье. О милиции можно еще и не такое услышать. Доказывать обратное я, кстати, не могу, потому что я не знаю ни работы твоей, ни товарищей твоих. Вот!
— Тут твоя правда, не стану возражать. Просто я возомнил, что мои убеждения — и твои тоже!
— Конечно! Я ничего от него не скрываю, стараюсь все-все высказать, а он или отмалчивается, или допрашивает про каких-то злодеев!.. Убеждения! Ты что, на самом деле убежден: если тебе дали личное оружие, то теперь всюду на тебя нападать собираются и даже за теми следят, с кем ты знаком?
— При чем тут оружие? Оно такое же мое, как и твое, оно каждого, кто нуждается в защите своего достоинства и права, — просто носить это оружие доверено мне. А раз оно находится у меня, значит, на мне и лежит ответственность за жизнь и безопасность всех людей. И кто-то боится, понятно, кто-то следит…
XVIII
За ними и вправду следили сейчас из ночи, по крайней мере, две пары глаз.
Изучив давно маршрут Орешина с девушкой от лесозавода, Валька Гнилой задумал засаду, чтоб разоружить молодого милиционера и, отсидевшись в конторе горзеленхоза до начала движения пригородных автобусов, оставить город. Пусть живет пацан Ленька, урок страха не пройдет у него скоро, не забудется. Пусть непорочной девой остается Пампушечка — рок пощадил. Ощущая самого себя теперь тем Роком, Гнилой даже почувствовал в какой-то момент возвышающее покровительственное настроение по отношению к пощаженной. И подумалось тут же, что с Ленькой он зря поди переусердствовал, если хорошо разобраться… Но разбираться ему не хотелось, да и времени не было.
Как он сказал, этот мальчишка в милицейской форме, проходя только что мимо? «…Оружие, оно такое же мое, как и твое, оно каждого, кто нуждается в защите». Точно сказано! Как никто другой сейчас нуждается Валька в оружии. Это же только легко говорить, что терять больше нечего. Жизнь! Какая б она ни была, за свою он и десяток других не пожалеет! И пусть не вздумает сопротивляться этот скрипящий хромачами, затянутый в портупею, молодчик. У него-то в башке наверняка мнятся все десять собственных жизней, какие он может обещать налево и направо, подвергать риску по пустякам, — Гнилой все их порешит одним махом, если что. Для него все угрозы — прямые. И так вот чудятся какие-то взгляды из ночи, даже мурашки иной раз пробегают по коже, будто стоит он у последней стены под прицелом… Нервы. Деревья в саду безглазые, даже звезд на небе ни одной… Все будет просто: он выйдет, подойдет к милиционеру вплотную, сунет ему в живот ствол и заберет у него пистолет с запасной обоймой. Потом пристукнет, чтоб не помешал уйти…
Однако чем ближе был скрип сапог возвращавшегося с провожания участкового, тем меньше решимости оставалось у Гнилого, чтоб покинуть удобную засаду, выйти… Вот уже тот проходит мимо, оправляя гимнастерку, что-то грустное насвистывая. И в этот миг какая-то внушительная и совсем будто реальная сила возникает между закоренелым преступником и молодым милиционером — она притискивает, прижимает к месту одного, сковывает ему руки-ноги, защищает другого, сопровождает…
С промежутком в несколько секунд два торопливых пистолетных выстрела резко прозвучали сзади Николая Орешина — одна пуля свистнула у его головы, другая цокнулась о камень на дороге впереди, выбив искру, срикошетила — взвизгнула, зажужжала!
Он присел, неуклюже развернулся по направлению к стрелявшему, на руках сполз боком в придорожный кювет, как в окопчик, достал оружие и привел к бою.
— Товарищ участковый, Николай Трофимович! — услышал вдруг жаркий шепот почти рядом, от тополей возле дома. — Идите сюда, за дерево, у меня есть фонарик!
«А вот и Потапкин! Пересеклись пути — все правильно!» — пронеслось в уме Орешина — и пришло спокойствие.
Дальнейшие слова Ивана Осиповича его уже почти не удивили.
— От третьего дома стреляет — это тот, что от нас на барахолке утек. Он жил тут! Но чуток раньше туда и Ленька Дятлов прошмыгнул через дырку в заборе! Вот думаю: не с ружьем ли? Я сосчитал, что в руках у него была палка… И как не остановил?!
В этот момент раздался ружейный выстрел — и человеческий вопль прорезал ночь, два раза ударил пистолет!
— Леня!! — закричал Потапкин, бросаясь вперед. Орешин еле догнал его, вырвал фонарик, приказал:
— Держитесь забора, Потапкин!.. Стой! Прекратите стрельбу, Гнилой! Именем закона!
Мостопоезд (Дневник Михаила Макарова)
I
О себе рассказывать не берусь, лучше воспользуюсь известным предложением: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты». А поскольку друзей у меня, можно сказать, еще нет ни одного, приведу отдельные чужие мысли и выводы, что более или менее занимали меня до моих настоящих восемнадцати с половиною лет. Итак, друзья-мысли:
Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей.
Смысл жизни есть, его надо искать!
Смотри в корень!
Ходьба — это ряд падений вперед, предупреждаемых вовремя поставленной опорой ноги.
Если перейдешь меру, то самое приятное станет самым неприятным.
Смертность среди холостяков выше, чем среди семейных мужчин.
Люди все такие же, как я, — пегие; не такие хорошие, как я хочу, и не такие плохие, как мне кажутся те, что меня обидели или на которых я сержусь.
Я знаю только то, что я ничего не знаю.
II
Была ссора. Склонный действовать наперед размышлений, я в тот поворотный для меня осенний вечер вступился за неправого, но слабого — крепко получил по шее за двоих, еще через день меня вытурили из строительного техникума, куда и так еле взяли кандидатом в первокурсники.
Почему-то в жизни человек охотней пользуется заимствованными качествами других людей и от этого страдает. От неумелого пользования чужим.
«Будь же самим собой, — говорят человеку, — будь самим собой, и не будет никаких историй: умный, ты никогда не пострадаешь от глупого шага, честный — от лжи, осторожный — от безрассудства, сильный — от слабости… Будь самим собой!»
Легко говорить. По-моему, люди и учат не тому, что сами исповедуют, иначе на земле не повторялись бы подвиги, не было бы дружного противостояния в мыслях и устремлениях. Я так думаю: герои, гении и вообще все хорошие люди на земле только потому не переводятся, что мы с детства заселяем ими свою душу, сживаемся так, что их глазами начинаем смотреть на мир, а повезет, выдастся момент — кто-то сумеет и повторить в чем-то свой идеал. Тогда вокруг говорят: «Вот какой герой, а мы и не подозревали!» Подозревали, подозревали, чего уж. И сами бы так хотели, но проворонили или не сумели зажать как следует свои природные слабости. Вот и будь тут самим собой! Я, например, хотел бы быть одновременно Добрыней Никитичем, Валерием Чкаловым, Василием Теркиным (конечно, по гражданке, в мирное время), Владимиром Маяковским (но чтоб к написанному им больше не приписывать стихов), Арсеньевым еще хорошо бы или Шмидтом, Альбертом Швейцером (мать моя, учительница литературы, в свое время познакомила нас с таким народом, что прямо стыдно за себя делалось!) — спасать людей, неважно где, неважно каких. Хотеть — это быть, говорят. Ой ли! Например, на небо Чкалова мне открыт только пассажирский путь, до Теркина — нет живого, смекалистого ума, природного юмора — мне бы все прежде сто раз обдумать, а то как вякнешь что-нибудь — и каешься потом. Или взять эдакую государственную, державную мощь Маяковского, сознающего себя и гением и болящим куском человеческого сердца!.. Разве плохо соединять в себе такие качества? Очень хотелось бы.
III
Решил так: домой возвращаться не стану, попробую устроиться на работу. Только не здесь, поскольку где не повезло один раз, может не повезти и второй. Суеверие? Скорей, причина без колебаний покинуть этот городишко.
От всех капиталов осталось 10 рублей — это даже больше нужного на билет домой. Вот и отъеду от него в другую сторону, рублей на пять. На вокзале выбрал Белогорск. Благозвучное название, наверное, белокаменные строения там и все такое, а когда выпадет снег, то город превращается в невидимку… Прекрасно. Билет — шесть рублей, так что хватило денег отремонтировать свои покалеченные очки. Это надо: у меня минус семь диоптрий.
Белогорск оказался заурядным деревянным городком, сереньким, с множеством типовых двухэтажных домов, сбежавшихся к новенькому, действительно белокаменному вокзалу. Недавно еще все это было узловой железнодорожной станцией. Почти нет промышленных предприятий, а в тех, где я побывал, не было рабочих общежитий.
Три небольших кинотеатра, один ресторан, одна деревянная гостиница у вокзала, колхозный рынок. Городок освещал засевший в железнодорожных тупиках среди угольных и шлаковых куч энергопоезд. Сюда меня тоже не взяли: требовались специалисты — котельщики, турбинисты, электрики, слесари…
В гостиницу тоже еле устроился, потому что паспорт мой выписан, а значит, никакой я не гость — проходимец скорей.
Меня поселили в шестиместный номер на втором этаже, из окна был виден железнодорожный вокзал, перрон, проходящие поезда… Приходили мысли о доме, тревожил вопрос, сколько же я смогу продержаться на оставшуюся мелочь, если поиски работы затянутся. Небо хмурилось к дождю, хотелось есть. Пошел на вокзал и там в буфете купил четыре булочки и три стакана чаю.
Когда вернулся в номер, он гудел: четверо молодых мужчин играли в карты. Пригласили и меня:
— Садись, испытай счастье!
Играли в двадцать одно. Я сразу отказался, прилег на свою кровать. Заснуть под весь этот шум-гам было невозможно. Опять стали одолевать невеселые мысли. У меня даже на автобус теперь не было в этом чужом городе, на конверт, чтоб написать матери.
Поздним вечером пришел еще один жилец, мужчина лет тридцати, кряжистый, со смуглым заветренным лицом, в светлом дорогом костюме, пробитом темными крапинками начинавшегося дождя. На лице его играла уверенная, чуточку снисходительная улыбка.
— Привет честной компании! — громко сказал он и с облегчением сел на кровать рядом с моей, сладко потянулся:
— Ухайдокался, аж ноги гудят! Полежать немного…
Минут через пять он встрепенулся, сел, посмотрел на часы, воскликнул:
— Ого, дело к ночи! Эй, мужички, кончайте бурить, будем спать. Приготовиться к отбою! Кто не успеет, тот в темноте будет шебаршиться, — провозгласил он уверенно, несколько даже властно.
Игроки — ноль внимания на такое обращение, потом засмеялись, стали наперебой советовать:
— Ложись, ложись, земляк!
— Только зубами к стенке!
— Скисни до утра!..
— А то вот разыграем на туза, кому тебя в постельку укладывать! — посмеивался банкомет, тасуя колоду карт. Но мой сосед был уже рядом с ним, выхватил карты, поднял за ножку стоящий между коек табурет, который использовали вместо стола игроки, пожурил:
— Ай, нехорошо может получиться, ведь икнуть мама не успеет, а тебя уж нет… А такое хорошее место — сюда люди не фуфлыжничать, а спать приходят — крыша. Поэтому — все, отбой через три минуты! — Он поставил табурет и не спеша стал разбирать свою постель.
Я совсем не боялся, что четверо подпитых парней тут же набросятся на него одного — я сам был еще ни жив ни мертв, как и те четверо, наверное, подавленный, парализованный этим негромким монологом, будто даже доверительным, а оттого еще более зловещим. Так и было: ошарашенные парни обвяли, пряча глаза, враз засуетились, отыскивая свои кепки, папиросы, спички, долго расходились в узком проходе. Двое, оказалось, жили не в нашем номере, от дверей они буркнули остающимся товарищам:
— Пока. Утром стукнете, если раньше проснетесь…
А мой сосед уже разделся, нырнул под одеяло, как-то по-мальчишечьи пофыркивая от удовольствия. Еще сказал:
— Морской закон: кто последний ложится, тот и свет тушит!
Свет потушил я.
«Лихо же он развел эту компанию, — думал я, засыпая. — Отчаянный дядька, даже страшный…»
Снились мне, наверное, все самые вкусные вещи, что хоть когда-то в жизни довелось отведать. От разгоревшегося нестерпимого чувства голода я и проснулся утром, а проснувшись, не хотел открывать глаза и смотреть на белый свет, который ничего, кроме голода, мне сегодня не сулит. Оказывается, существо человеческое самой паникерской породы, ведь будь сейчас у меня деньги, я уж точно думал бы не только о том, чем набить брюхо! Наверное, те, кто сразу поддаются подобным желаниям, очень схожи с животными и способны выклянчить, украсть или отобрать еду у другого… Занятно. Значит, вчера я был сыт и глуп. Что ж, голодному умному хоть и не легче, да лучше…
IV
Паду ли я, стрелой пронзенный, Иль мимо пролетит она, Все благо бдения и сна Приходит час определенный!..Пропев это за певцом по радио, мой сосед с хрустом пересчитал боками все пружины на своей койке и обратился ко мне довольно бесцеремонно:
— Эй, ты спешишь куда-нибудь сегодня, парень?
— Нет, а что? — нелюбезно буркнул я, но он будто не заметил моего тона и продолжал в том же духе, с барственными нотками:
— Три угла у меня, то есть три чемодана, подсоби в аэропорт доставить, не обижу. Тебя, кстати, как звать?
— Михаилом, — выдавил я.
И пока душа моя подыскивала фразу, не роняющую достоинства, голодное брюхо, прослыша в возможном заработке, уже завладело устами:
— Вообще-то можно… Не знал, что здесь и аэропорт!..
— Ну и ладненько. Мне нужно к двенадцати, так что есть время перекусить, такси разыскать в этом деревенском городе… Зови меня Львом.
Тут я невольно рассмеялся.
— Ты чего? — уставился на меня Лев.
— Вспомнил, как вчера вы рыкнули на этих-то!..
— А! Псы вонючие, только скопом брехать умеют, — презрительно скривился он. — Посмотрели б они на моих волков в бригаде — полсотни гавриков один чище другого, а вот где они у меня все! — сжал он сухой, но сильный, видать, кулак и продолжал: — Еще говорят, что насильно мил не будешь. Враки! Еще как будешь, потому что иной человек от своей зловредности не в состоянии бывает понять, где хорошо для него, где плохо — буром прет всюду, телегу на всех катит. А стоит ему немного рога-то обломать — все, он другой, потому что страх изведал, думать начнет, слушать других. Страх — это первейший ум в человеке, без него ты не жилец на свете. Любить жизнь — бояться ее. Ты можешь мне не верить, Миша, ведь ты еще совсем молокосос, не обижайся, только когда-нибудь вспомнишь Леву Сенокосова и скажешь, что он правильно говорил.
— Но как получается: вас боятся все, а вы нет? Я так понял?
— Нет не так. Перед страхом все равны, побаиваюсь и я тоже. Ты боксеров на ринге видел, конечно. Выходят двое, ничего друг о друге не знают или знают о числе боев и о числе побед. Оба боятся, начинают искать слабинку, и кто первый найдет, тот и победит. Вот так и у меня вчера, например: пришел, увидел, победил! Я знал: один робковат, живет со мной три дня здесь, второй новичок в номере, два пришлых — они едва ли станут вмешиваться. Мог и ошибиться, ясно. Вот так, Миша-Михаил, понял?
— Все равно сомнительно: любить и бояться…
— Сомнительно? А у тебя мать, например, есть? Есть. И ты ее не боишься, конечно?
— Ну а что ж ее бояться?!
— Врешь ты все. Вот тебе не больше восемнадцати, а шлындаешь уже по чужим городам, не зная, что в них аэропорты есть, по гостиницам ночуешь — не натворил ли чего, а матери боишься признаться?
Да, в проницательности моему новому знакомому трудно было отказать, но и признаваться безоговорочно в некоторой его правоте у меня почему-то не было никакого желания.
— Ничего я не натворил, — возразил я Сенокосову. — Просто хочу найти работу и начать жить по своему разумению. Да, мать не знает, но не потому, что я боюсь сказать, а не желаю ее раньше времени волновать, ведь похвастать пока нечем: я и работу не нашел даже!
— Работу? Считай, что ты ее уже имеешь, на ловца и зверь бежит, как говорится! — воскликнул Лев Сенокосов. — Мне нужны самостоятельные, надежные ребятишки, надоели бичи безродные, которые зимой еще кое-как работают, но к теплу разбегаются как тараканы! Между прочим, за несколько дней отпуска я уже сагитировал здесь четверых: двух парней и двух женщин — встретитесь там! Контора наша — мостопоезд-69, мы от нее в трех шагах, так что если согласен, то пошли — и по одному моему слову все будет оформлено в лучшем виде: железнодорожный билет до места, командировочные. Мы строим мелкие мосты по железной дороге, живем по-колесному, на маленьких разъездах и просто в чистом поле, бывает. Раз в год положен билет в любую из четырех частей света. Вот я навещу своих стариков и двину в Крым! Ну как, подходит тебе такое?
Да мне ничего другого не оставалось, как порадоваться от души привалившей удаче! Лев Сенокосов еще больше поднялся в моих глазах, когда мы с ним пришли в контору мостопоезда, и там, как он и говорил; под его поручительство меня тут же с радостью приняли бетонщиком второго разряда, выписали железнодорожный билет, командировочное удостоверение. Через какой-то час уже я провожал своего бригадира в аэропорт, с удовлетворением трогая в кармане бесценные свидетельства моей принадлежности к рабочему классу, а также деньги — четыре рубля с мелочью — первые в моей жизни командировочные.
— Возьми вот и от меня десятку еще, — предложил вдруг мне Лев в аэропорту при расставании, а когда я возмутился, полагая, что он оплачивает мою помощь в переноске его чемоданов, засмеялся: — Взаймы даю, взаймы! Я ведь знаю, что на первых порах тебе туго с питанием придется. Не прозевай день аванса, это будет двадцать второго числа, через неделю как раз. Тебя в ведомости не будет еще, но ты подойди к кассиру, и пусть он выпишет внеплановый. За меня там Гамов Лешка, и если что, пусть подтвердит что ты работаешь, покажет табель выходов — сам знает небось. Да, и скажи ему от меня, что я уже здорово поиздержался, так что пусть ждет моей телеграммы и с переводом денег не тянет. Запомнишь? Ну давай. Не будь теленком, помни наш разговор о боксерах. Например, у нас есть такой Комаров Тимоха — как пьяный, так на всякого с кулаками лезет, и если его не ударит никто, ни за что спать не ляжет, такая натура. Ну, от всего на свете не остережешь, сам поглядывай и примечай…
V
Итак, я еду в определенное место за конкретным делом — работать, искать смысл жизни.
«Любить жизнь — бояться ее» — вот что понял для себя Лев Сенокосов, взрослый мужик, человек не из робкого десятка, личность для меня хоть пока еще неясная, противоречивая, но оригинальная — это уже бесспорно. Хотя многое в рассуждениях Левы шито белыми нитками, как говорится.
«Страх — ум человека». Вряд ли он сам серьезно верит такому парадоксу, но ведь зачем-то отстаивает его, доказывает, зачем-то надо было ему вдруг вызвать чувство страха у компании беспечных картежников, и он выдает себя за блатного урку, говорит жаргонные словечки, даже интонацию воссоздал какую-то жуткую.
А со мной потом разговаривал обычным человеческим языком, делал обычные человеческие вещи, радовался, что нашел себе нового рабочего в бригаду, наставлял его на первые дни… Да, не так прост человек бывает — и это тоже неспроста.
Сижу в полнехоньком перед закрытием вагоне-ресторане, решив поужинать по-человечески — с борщом, с горячим чаем. Некоторым образом это мне представляется прощанием со всем домашним прошлым. Правда, официантка на меня сейчас ноль внимания. Подсчитывает что-то усталая, замотанная Снегурочка в крахмальной кружевной короне, лет тридцати пяти, наверное. Сотни людей сегодня накормила, а вообще поди тысячи тысяч! Напасешься ли на всех хлебосольства, приветливости, терпения? А ведь надо, никуда не денешься, раз такая работа. Вот уверен: позабудет про усталость, обиды привередливых посетителей, все на свете — оживет, засияет, помолодеет, окажись теперь на моем месте за столом ее сын или дочь. Лучшую котлету принесет, эти черствые куски еще обеденного хлеба на тарелке заменит свежими… Трагедия. Только вот мать, свою я не представляю и на этой работе равнодушной, свыкшейся, с избирательными эмоциями. Мне от нее в школе не было поблажек. Мы сразу договорились: не пищать! «Не разнеживайся очень-то, — предупреждала она, — жить вдвоем мы будем не вечно».
Если плотнее прижаться лицом к окну, загородив свет, то видно облитые жирным светом луны раздетые деревья с лежащими у подножия черными тенями; как два замерзших ручейка, поблескивают рельсы соседнего пути…
Все дальше и дальше я от дома, где знают меня и любят не за что-то, а просто… Кажется, такое счастье человеку задаром, а он бежит от него, глупец, стесняется, чванится: раз ему столько всего сразу в жизни полагается, то уж сам-то он стоит, конечно, много больше!
Пока я так философствовал, ко мне за стол присела девушка и, чуть ко мне наклонившись, как-то по-свойски, тихо спросила:
— Заказ у тебя еще не взяли, паренек?
— Нет, — почему-то смутился я.
— Ну и хорошо. Будь добр, закажи для меня вина… Ну будто мы с тобой знакомы, вместе ужинаем. Я потом верну деньги. Понимаешь, мне неудобно заказывать такое…
И вот стол уж накрыт, я заказал себе все то, что выбрала для себя Люда, моя нечаянная знакомая, а она, видно, знала толк в ресторанской кухне: сборная солянка, бифштекс с яйцом на картофеле «фри», ассорти рыбное…
Еды вдоволь, все аппетитно выглядит, вкусно парит, но я понимаю, что есть мне почти ничего не придется: стеснение напало такое, хоть встань и уйди. Ухватился за бутылку портвейна, наливаю ей и себе, для видимости ковыряюсь вилкой, ложкой…
Люда же ест с завидным аппетитом и тщательно. Вдруг остановилась и уставилась на меня:
— А ты, Миша, что-то ленив на еду, зато к вину охоч!
— Недавно обедал…
— А я голодна, да и неизвестно, когда и где еще поесть придется, так что лучше впрок, — пояснила она и продолжила свой ужин с прежним усердием.
— А может, ты меня стесняешься? — догадалась вдруг она. — Ну ясно же! Зря. Ешь без уклону, пей без поклону, как говорится. Совсем молодой ты, погляжу… Ну не красней, не красней! Берись-ка покрепче за ложку, хлеб не забывай… — Она и вовсе оставила свои судки и стала потчевать меня с такой бесхитростной материнской заботливостью, что у меня и взаправду исчезла всякая скованность.
Я был просто счастлив, что хватило денег расплатиться за стол, хотя в кармане осталась мелочь почти без серебра.
Что-то даже не могу восстановить разговор наш с Людой при переходе в свои вагоны. За это время она умудрилась вернуть мне половину уплаченного за ужин, а я все ловил паузу отказаться от этих денег. Не получилось. Помню ее последние слова:
— Ну вот я и дома! Спасибо, Миша, за ужин, счастливой тебе дороги.
— Счастливо…
Мгновенье потолкавшись в купе, я вынужден был топать в свой вагон дальше, досадуя: ничего о девушке конкретного не узнал, да и мямлил такое, что, конечно, не могло ни заинтересовать ее, ни хотя бы задержать внимание. Это явно ненормально, ведь люди — не вода в реке, что обтекает тебя, не задерживаясь. Может, единожды на свете выпало повстречаться, а праздника нет…
VI
Проводник разбудил, я быстренько собрался и вышел в тамбур, в душе очень сожалея об оставляемом тепле, о легком и определенном положении пассажира, о Люде, что успела присниться.
Сожаления о тепле были самыми насущными: в стекла билась настоящая пурга — в зиму приехали!
Спрыгнув с высокой подножки вагона в снежную круговерть, я по щиколотки утонул в свежем снегу. Впереди желтоглазо светились окошки станции, ударил колокол, и поезд дернулся, заскрипел, покатил от меня.
Через несколько шагов я нагнал укутанную в платок женщину, шедшую тоже к станции.
— Извините, скажите, пожалуйста…
— Миша?! И ты здесь сошел? Вот хорошо-то!
Это была Люда. Через минуту выяснилось, что направлялась она все в тот же мостопоезд, в бригаду Льва Сенокосова, но устроилась на работу без протеже бригадира, самостоятельно, что живет она в Белогорске, там у нее мать.
Отряхнувшись от снега, мы вошли в так называемый зал ожидания. Это была комнатка четыре на пять шагов, с вертикальной колоннообразной печью, обитой крашеным железом, с бачком питьевой воды на табуретке, с кружкой на нем, прикованной цепью. Два деревянных дивана стояло у стен, высокие спинки их были украшены выжженными рисунками цветов с большими буквами «МПС» посредине.
Зашел железнодорожник в занесенной снегом одежде, с фонарем.
— Кто такие будете?
Мы рассказали. Он еще раз оценивающе оглядел нас и, на что-то решившись видно, сказал:
— Ладно, пошли со мной, я устрою вас переночевать, а завтра найдете свой мостопоезд, а то при пурге, да ничего не зная тут, вы только зря проплутаете остаток ночи…
По соседству со станцией стоял дом типовой железнодорожной постройки. Поднялись по низенькому крылечку в темные сенцы, вошли в какую-то прихожую с тремя дверями. Отомкнув одну, дежурный пропустил нас с Людой в небольшую комнату, где у противоположных стен стояли две металлические кровати с ватными матрасами и байковыми одеялами, подушки были без наволочек. У окна стояли стол и два табурета. Больше в комнате ничего не было.
— Здесь три дня жили двое ваших из мостобанды, как у нас называют, — пояснил дежурный. — Тоже муж с женой, но не ужились что-то, разошлись по общежитиям, а за кроватями так и не приходят. Так что заложитесь на крючок и отдыхайте себе спокойненько до утра.
VII
А снег продолжался и утром, даже, казалось, усилился. Впрочем, я был без очков, и белое мельтешение в окне, возможно, преувеличил.
Я лежал на спине, в грудь мне тепло дышала спящая Людмила, рука моя немного занемела под ее головой, но я и думать не хотел освободиться от этой бесценной для меня сейчас тяжести.
Вот так поворотики у жизни — скрипят тормоза! Я оплошал, так она сама подвела куда нужно. А припомнить все предшествующие события, так ни одно не обойдется без «если»: если б не отчислили из техникума, не попал бы в Белогорск, не помог бы Сенокосову… Но этого не может быть! Так искренне я мог бы воскликнуть еще несколько часов назад. Отныне поостерегусь. Жизнь — самая реальнейшая фантастика!
Люда более осторожна в оценках.
— Ах, оставь, Миша, восторги! — улыбнулась она мне как ребенку. — Не усложняй, не выдумывай и не обязывайся. Настоящее скоро станет былым, и кто знает… Что казалось чудесным, может обернуться досадным, горячее — теплым. Время — еще тот холодильник! Я испытала — побывала замужем…
— Ну и что?! Есть любовь с первого взгляда, и вот я предлагаю тебе стать моей женой!
— Современно, но не своевременно, ты не находишь? А потом, мне кажется, ты говоришь то, что тут же приходит тебе в голову. Рискуешь сам себя надуть, заморочить. Конечно, твой возраст…
— О! всего на год старше, а поучает, как старуха Изергиль!
— Ми-ша! Женщина живет, бывает, и день за год и год за день, так что я много-много старше. И не спорь, пожалуйста. А потом, не хочу я снова замуж. Давай поменьше говорить на подобные темы, не заставляй меня раскаиваться…
Пусть она и права с высоты своего житейского опыта насчет старшинства и осторожности — мне это не резон. Я тысячу раз готов твердить, что люблю, готов на все, чтоб уже не расставаться. Мне кажется, что полюбил я Люду еще за ужином в ресторане за ее простое обращение, полюбил ее улыбку, когда на щеках появляются милые ямочки, манеру морщить носик и прищуривать глаза…
Мне решительно не хотелось разуверять себя в искренности чувств, молчать о них, сдерживаться, не мечтать и не строить планов.
Валил снег. Мягкий, пушистый, легкий, он под нашими шагами разлетался пухом, цеплялся за одежду.
По наставлениям дежурного мы шли в отряд мостостроителей. Сразу за поселком увидели их одинаковые приземистые бараки со столбиками дыма. Возле самого первого, обшитого толем на рейках по самую трубу, с обрезком шпалы воевал топором какой-то чумовой тип неопределенного возраста, косматый, без головного убора, небритый, в телогрейке прямо на голое тело. Мы спросили начальство отряда.
— Чего надо? Новенькие, што ль?
— Да.
— Я мастер тут. Пошли — запишу…
Мы с Людой успели обменяться скептическими взглядами за спиной «начальства», пока мастер, вонзив топор в чурку, умывал руки снегом.
Прошли за ним в порядком замусоренный коридор, оканчивающийся разбитым окном, через которое намело уже изрядный сугроб под стенкой. Оказались в крохотной, подслеповатой, неопрятной кухне. Пахло сырым дымом растапливаемой печи.
— Постойте, — прохрипел мастер и скрылся в проеме, занавешенном захватанной простыней, которой и сейчас он привычно вытер свои мокрые красные руки. Послышалась его буркотня с кем-то, препирательства.
— Тише, там новенькие пришли.
— Новенькие? А бабы есть? Сейчас встану…
— Лежи, баб захотелось!.. Смотри, как бы Нинка твоя не заявилась.
— Плевать! Я бригадир или нет, в конце-то концов? Тоже имею право принять или не принять на работу.
— Будет права качать, успеешь. Скажи лучше: взять у Нинки червонец на поправку здоровья, ведь все равно к ней сейчас вести этих?..
— Валяй. Только не вякни, что я тут!
— А то она сама не знает…
Мастер вышел к нам уже кое-как причесанный, одетый в мятую чистую рубашку, с толстой амбарной книгой в руке.
Взмахом руки он отодвинул грязные стаканы на столе, куски хлеба, огрызки колбасы, присел, потребовал наши документы и стал списывать с них в книгу что-то ему одному понятное, потому что ручка плохо слушалась дрожащих рук и из-под нее выходили строчки-шнурочки.
Он не вернул нам направления и паспорта — оставил их в книге.
— Останутся для прописки в милиции. Подождите на дворе, пока я тут оденусь, пойдем к табельщице.
— Ну и порядочки, видно, тут! — вздохнула Люда на улице, запрокидывая голову и ртом пытаясь поймать летящие снежинки.
С табельщицей мастер пошептался, вымученно и заискивающе поулыбался, получил от нее денежную бумажку и ушел, от порога еще раз окинув нас прежним хмурым взглядом.
Назвавшейся Ниной Петровной женщине было лет под тридцать, она была завитой яркой брюнеткой. Худощавая, с порывистыми движениями, курила папиросы «Север». Она долго искала в столе какой-то «учетник», расспрашивала нас (больше Люду) о причинах приезда в «эту дыру».
В комнате было тепло, уютно, из-за занавески — тоже простыня, только чистая, выглаженная — слышалось детское лепетание. По радио говорили о нефтяниках Тюмени, о строительстве БАМа, об уборке сои в Приморье, о вспашке зяби и севе озимых…
Наконец обозначив нас в своих бумагах и велев расписаться, Нина Петровна выдала тут же белое постельное белье, полотенца, потом из кладовой на улице добавила по комплекту спецовки, болотные сапоги, ватники и, перехватив у Люды чемодан, повела к следующему дому «на жительство».
— Ну и порядочки тут у вас! — покачала головой Нина Петровна, вводя меня в прокуренное помещение со смятыми, неубранными постелями, на которых как кому заблагорассудится сидели прямо в грязных спецовках разновозрастные мужчины, человек восемь, курили, сплевывая на пол, ругались и играли в карты.
В ответ на слова табельщицы послышались совсем неожиданные для меня реплики, а брань в присутствии женщины, казалось, стала звучать упоительней.
— Нинка! Выручай, роднуля, червонцем до аванса, а то меня тут сделали как последнего фрайера!
— Нинок, прикупи картишку — я верю в легкую женскую руку!
— Ты! — взревел вдруг один из играющих на своего соседа. — Подглядываешь? Я же тебе рыло сворочу! — пригрозил он и тут же, не откладывая угрозы, звучно влепил пощечину любопытствующему. Ударенный лишь головой мотнул, оправдываясь, но на него уже никто не обращал внимания — все смотрели на Нину Петровну, и она удивила меня больше всех. Нимало не смутившись такой сальной атмосферой приема, она вынула из кошелька и подала просившему денег десятку, прильнула к плечу другого субъекта, с таинственным, заговорщицким видом показавшего ей свои карты, и знающе посоветовала: «Берем еще!» Сама же протянула руку за картой к банкиру и, едва взглянув на нее, радостно провозгласила: «Очко! Конфеты с тебя, Бочонок!»
— Гадом буду! — поклялся выигравший. — Погоди, попробуй-ка еще разок, на счастье?
— Хватит, счастье нельзя испытывать, а то оно соберет шмотки и уберется к другому, — сказала весело табельщица.
— Как от Кустова нашего женка ушла! — заметил кто-то, и поднялся хохот.
Один обратился ко мне:
— Эй, новенький, как тебя там, профессор в очках, подсаживайся к нам, покажи свою руку!
— Не играй с ними, Макаров, — мягко предупредила меня Нина Петровна. — Этих бичей никогда не переиграешь. Ложись и отдыхай с дороги-то. Снег сегодня кончится поди, а завтра и на работу…
Легко было сказать: ложись и отдыхай! Правда, сосед мой по кровати ничком придавил подушку и как ни в чем не бывало пускал себе безгрешные пузыри, лежа поверх одеяла в уляпанном грязью полукомбинезоне, не размотав даже портянок.
Гвалт и ругань не умолкали ни на секунду. На меня уже опять не обращали внимания. А мне вспоминалась комната рядом с квартирой железнодорожника Павлова, где мы были вдвоем с Людой. Я почувствовал, как жгучая тоска по ней сжимает сердце, будто неведомо когда мы расстались и неизвестно когда увидимся снова, хотя я знал, что находится девушка всего через две стены, в комнате напротив.
Вдруг кто-то присел у моих ног, я открыл глаза и увидел белобрысого парнишку примерно моих лет. Редкие зубы, пронырливые глаза с покрасневшими веками. Очень смахивает на какого-то грызуна — постоянно шмыгает носом.
— Простыл тут, — пояснил он последнее обстоятельство. — А ты откуда приехал?
— Из Белогорска, конечно.
— Лев завербовал?
— А тебя тоже?
— Я уж неделю тут. Ничего, работать можно. А можно и не работать. Тоже ничего! — хихикнул он и предложил звать себя Игорьком Шмелевым.
— А Игорешей можно?
— Зови как хочешь! Я простой… Надолго сюда? Я до армии, до весны, — все какие-то деньги, может, будут с собой!
— Да зачем в армии деньги?
— Мало ли! С деньгами-то лучше.
— Слышь, Горь, — придумал я тут же прозвище знакомцу, созвучное слову «хорь», — с тобой должны были какие-то молодожены приехать, мне Лев говорил.
— Кустовы? Да они уже перегавкались и разбежались в разные стороны, по общежитиям. Колька живет в том доме, где мастер Рогов. Галка — тут, за стенкой.
«Где и Люда», — отметил я.
— Они жили за линией возле станции в одной пустующей квартире, но Галка стала пить вино, материться — связалась тут с некоторыми шохами. Колька стал ругать ее, ну и ей не понравилось…
— Постой, так они у Павлова жили, у дежурного по станции?
— Не знаю! У вокзала сразу. Я только раз у них был, когда помогал туда кровати таскать.
От Шмелева я узнал, что здесь существует как бы две бригады рабочих, подчиненных одному бригадиру: наша — в бараках и кадровая, состоящая из семейных рабочих, проживающих по квартирам в поселке лесозаготовителей. На одном из разъездов копают котлованы под фундамент будущего моста рядышком со старым — под один «бык» — одна бригада, под другой — вторая. Несмотря на разделение объектов, работают в две смены. На работу возит мотовоз, возвращаться приходится затемно, всякий раз в разное время, потому что для пробега мотовоза нужно окно в общем железнодорожном движении. Питаются здесь кто как может, но есть в поселке магазин, столовая при станции и для лесозаготовителей — там готовят лучше и блюда дешевле, но, по словам Шмелева, ходить в ту столовую небезопасно.
— Вражда из-за баб, — пояснил мне Горь, и тут же глазки его замаслились: — А у тебя уже было с ними что-нибудь?..
— Было. Меня, видишь, родили!
Ну да! Не хочешь рассказать… Тут, конечно, больше старые бабенции, а так бы не мешало с какой покрутить — всегда б пожрать было… А можно и тут на печке варить. Я, правда, не умею. Если хочешь, так давай вдвоем: с аванса купим продуктов.
— Поживем — увидим.
— Ты вообще меня придерживайся, — наклонившись, прямо в лицо мне выдохнул Шмелев, и я почувствовал неприятный запах. — Тут все какие-то бешеные, можно нарваться запросто на неприятности, лучше ни с кем не связываться.
— Хорошо-хорошо, мне Лев уже говорил. Ты знаешь, вызови-ка мне лучше из женской комнаты Люду Рожкову — мы с ней приехали, давно знакомы.
VIII
— Люда, пошли в поселок, посмотрим, где магазин, столовая, позавтракаем заодно?
— Да меня женщины уж накормили — у них там с утра крышки на плите гремят! Чистенько, цветы на окнах — мне нравится!
— Да? — уныло переспросил я. — А мне хотелось тебе предложить перейти к Павлову в ту комнату… Я узнал, кто там жил, кстати, где-то в вашей комнате теперь живет Кустова Галя — вот с ней бы поговорить…
— Ну что ты, Миша, все выдумываешь? Ничего не надо, мы же и так рядом. Какой же ты, право! — Она удивленно, будто впервые, оглядела меня.
— Но я скучаю уже по тебе, хочу с тобой разговаривать, видеть всегда — что тут такого?!
— Ей-богу, мы с тобой поссоримся, вот увидишь! Не опережай события. Не все так просто, как ты хочешь, дай же и мне во всем самой разобраться!..
А в моей комнате до вечера произошло бессчетное количество ссор и Одна настоящая драка, разнимать которую вызвали мастера Рогова и бригадира Гамова, о котором мне говорил еще Лев Сенокосов. Мастер к бригадир для пресечения драки (пользовались теми же ругательствами, что и сами дерущиеся, теми же средствами: они разогнали забияк по кроватям, а кого отправили вон, по своим домам. Мне показалось, что и Гамов и Рогов сами были изрядно навеселе.
— Их все тут боятся, — шептал мне восхищенный Игорь Шмелев. — Что не так — по шее! Молодцы.
«Черт возьми, — думал я, — вот, значит, откуда у Сенокосова все эти выводы о страхе как о первейшем уме в человеке! Мало того, и его преемники здесь тех же убеждений».
IX
Ночью все так же, не переставая, шел снег, завывал ветер. Зато утро выдалось тишайшее, с легким морозцем, солнечное, блескучее — на сугробы больно было глянуть.
Но ехать на открытой платформе мотовоза было довольно холодно: встречный леденящий ветерок пробирал до костей и через ватник, то и дело приходилось хвататься за уши — пощипывало! Кепочка моя явно не соответствовала сезону, и я в ней выглядел, наверное, длинношеим, несуразным птенцом среди рабочих в шапках-ушанках и работниц в теплых платках, усевшихся на платформе тесно друг к дружке спиной по направлению движения. Я же пристроился боком, и приходилось все время защищать левое ухо рукой в новой, негнущейся брезентовой рукавице.
Люда, повязанная большим шерстяным платком по самые глаза, уж несколько раз жестами предлагала прилечь к ней на колени, спрятаться от ветра. Я бодро отводил глаза в сторону, выражая одновременно и презрение к испытанию холодом и обиду за ее какое-то вдруг недоверчивое отношение ко мне, что она высказала во вчерашнем разговоре.
На мое счастье, дорога скоро кончилась. Остановились мы перед каким-то невзрачным разворошенным мостиком, почти среди чистого поля. Лишь впереди за поворотом виднелся семафор, блокпост; дальше — три — пять заснеженных домиков. Слева, оправа — заснеженная долина между невысокими сопками, поросшая негустым смешанным леском. У моста — припорошенные груды земли, доски, ящики, металлические бочки, прицепной компрессор, несколько других механизмов неизвестного мне назначения, подъемный кран «Пионер» с трубчатой стрелой, а позади всего этого стоял большой дощатый сарай.
Одним из первых я спрыгнул с мотовоза, прихватил три лопаты и скатился с насыпи следом за Тимохой Комаровым (это он вчера дрых весь день пьяный по соседству с моей кроватью.)
— Айда места у печки занимать потеплее! — обернувшись ко мне, крикнул Тимоха, и я побежал за ним, не сообразив, кто бы это нам печку растопил во время снегопада. В какой-то момент спина Тимохи вильнула в сторону, на груду земли у крана, а я в тот же самый миг куда-то рухнул, ртом и носом загребая снег. Клацнулся очками о рукоятки лопат, но, инстинктивно успев все же придержать их рукой, не потерял!..
Вытаскивали меня веревкой — и веселились. А я дрожал от снега за шиворотом. Оказалось, провалился я в заснеженный котлован для фундамента нового моста, что подводился под старый, отслуживший положенный срок.
Люда подошла ко мне, спросила участливо:
— Не ушибся, цыпленок?
— Почему это я цыпленок?
— Просто. Так выглядишь сейчас — съежился, в очках…
Я обиделся. И не подходил к ней до самого обеда, пока мы выбирали из котлована снег. За работой я согрелся. Потом и печь натопили как следует, этим занимался Тимоха. Он числился мотористом и электриком — запустил свою ЖЭСку, походную мотоэлектростанцию, дал ток для работы крана «Пионер» — это было пока все, что от него требовалось. Мы нагружали снегом бадью, сделанную из обрезанной большой бочки, Гамов у крана вирал ее и потом, налегая грудью на противовес стрелы, поворачивал ее так, что бадья со снегом оказывалась по другую сторону выброшенной ранее из котлована земли, — там женщины бадью переворачивали, снег отбрасывали еще дальше.
Когда я отогревался у натопленной печи, подошел Гамов и говорит:
— Надо заготовить черенков для лопат и кирок, сходите-ка Макаров и ты, Тимоха, нарубите десятка три-четыре. Пока просушим, ошкурим…
Тимоха вышел из бытовки в инструменталку, которая находилась здесь же, в сарае, за топорами. Я вспомнил порученное мне Львом Сенокосовым предупреждение Гамову о возможной его телеграмме о деньгах. Гамов внимательно посмотрел на меня, опросил:
— Откуда ты Льва знаешь?.
— Познакомились в Белогорске.
— Капитально?
— Жили в гостинице, он устроил меня сюда, я проводил его в аэропорт…
— Ясно, потом как-нибудь еще потолкуем.
Тимоха шел к березняку, загодя угрожающе поигрывая топором, а подойдя к первым березкам, остервенело набросился на них, стал крушить налево и направо. Я кричу:
— Тимофей! Ну зачем ты губишь столько берез?!
Он остановился, с недоумением глянул на меня, спросил:
— Ты что, малость тронутый! Я же черенки заготавливаю. А ты все стаскивай к бытовке — там обрубим как надо. Запомни: у строителя ни в чем не бывает отходов! Сучья и вершинки сожжем в печке.
Нарубили мы много, десятка четыре стволов — я столько раз мотался с ними до бытовки по глубокому снегу, что вытоптал и вымел настоящую дорогу.
На обед в бытовку сошлись все, расположились на нарах вокруг раскаленной буржуйки. Как-то ненароком мы с Людмилой рядышком оказались, съели мой хлеб с колбасой, ее отварную картошку, в литровой стеклянной банке, рыбные консервы, выпили бутылку кипяченого молока. После обеда подремывали, положа под головы ватники. Кто-то дымил махрой, кто-то рассказывал анекдоты, иные давно храпели. Тяжелый дух стоял от подсыхающих портянок вокруг печки, чьи-то болотники уже подгорели — потянуло жженой резиной. А вообще здесь было столько разных запахов, что и не понять, что и откуда пахнет, — погнутые ведра из-под тавота, бензина, масла, тросы, шланги, веревки, бесчисленное множество железяк было напихано под нары всюду, даже глыба гудрона валялась у двери.
Пришел мотовоз с платформой бутового камня. Мастер Рогов, опухший до синевы, небритый, поцарапанный, приказал нам «выгребаться», потому что железнодорожники дали полчаса на выгрузку.
Нехотя вышли из тепла на холодный ветер, обсыпали платформу с камнем, сбрасывали его прямо под откос за нашим котлованом. Работали почти молча, торопились, камни беспрерывно клацали друг о друга внизу. Рогов торопил, то и дело поглядывал на часы.
По соседнему пути проходили грузовые и пассажирские поезда, но мне уж неохота было оборачиваться к ним, провожать взглядом. Поезд рядом — обыкновенное дело. Зато сегодня с утра бессчетное множество раз я оставлял работу в котловане, когда вдруг над головой прокатывался очередной состав, сотрясая почву под ногами, осыпая ее со стен ямы, посевая на спину щебенку, песок, взметая между шпалами снежный прах.
— Привыкнешь! — орал мне в лицо Колька Кустов, щуплый паренек с красивым румяным лицом, в роскошной беличьей шапке. — Я попервости от всякого поезда вообще убегал на другой край котлована, — смеялся он и пояснял серьезно: — Нервы, видать, не выдерживали…
При чем тут нервы? Просто одно дело, когда над твоей головой летит птица или самолет, а другое — поезд!
— Люда, не поднимай крупные камни, оставляй мне, ведь я как-никак мужчина, — шепчу ей, когда, нагнувшись, мы оказываемся лицом к лицу. Но она смотрит на меня с гневным прищуром, нарочито быстро швыряет подальше несколько самых увесистых булыжин, что ей на глаза попались. С победным, неприступным видом на четвереньках карабкается по буту подальше от меня — туда, где работают Гамов, Комаров Тимоха и еще несколько незнакомых мне мужиков. За щелчками сбрасываемых камней я все равно улавливаю ее оживленный говор, смех, кажется, что и камни полетели гуще с той стороны платформы…
Супруги Кустовы, между прочим, сегодня и ехали на мотовозе, и работали, и обедали, стараясь держаться друг от друга подальше. Когда двое очень стараются сохранять дистанцию и показать отчужденность, это сразу всем заметно, вызывает смешки, пересуды.
Несколько раз Галя Кустова с преувеличенной громкостью выругалась. Кажется, из-за этого они с Николаем и поссорились. Ей-богу, я парня готов понять: очень это дико, когда из уст молоденькой, симпатичной девушки вдруг вырывается нецензурщина. Без внутреннего ожесточения, без определенной моральной расхристанности, у Гали брань звучит особенно цинично, нелепо, стыдно. Она сразу и привлекательность свою теряет, и женскую загадочность, вообще весь тот хороший резерв, который мы предполагаем и домысливаем в незнакомом человеке, когда он молчит. Бравада это, конечно, и больше ничего, но и бравировать с таким для себя ущербом стоит ли, как она не понимает-то!..
X
Прошла неделя. Впервые в жизни работа перебрала меня всего по косточкам с головы до пят. Я свое тело так и чувствовал — состоящее из ноющих, саднящих, разламывающихся от тупой боли суставов, мышц и жил. Я не успевал выспаться, набраться к утру сил, мозоли на руках были сплошь, а то и по второму-третьему разу возникали на месте лопнувших и кровоточащих. Взять горстью купленные на базарчике семечки я не мог, а ложку за ужином держал только большим и указательным пальцами. Утром в черенок лопаты я впивался скрипя зубами и с таким же трудом отпускал его во время обеда или в конце работы.
Чему я научился? Швырять лопатой грунт за спину чуть ли не на трехметровую высоту, подкидывать его вперед метров на семь для последующей перекидки к бадье, научился попадать кувалдой по клину при удалении встретившейся в котловане скалы, катать тачку с землей и камнями по хлипким, узеньким доскам, орудовать киркой и ломом, ходить с носилками.
Что узнал? Табельщица Нина Петровна сейчас сожительница нашего нынешнего бригадира Гамова, но ребенок у нее будто от Сенокосова!
Игорь Шмелев — кучка нелепых, совершенно необъяснимых для его лет наклонностей, которых он, подозреваю, нахватался, как собака блох, от соседства тут с некоторыми совершенно определенными личностями. После получения аванса мы с ним в складчину купили продукты — сахар, масло, консервы, чай, взяли на пристанционном базарчике ведро картошки. На первый совместный ужин припасли бутылку вина. С нее все и пошло, наверное. Утром мой Горь наотрез отказался вставать на работу. Кроме него в комнате остался и Бочонок (тот, для кого Нина Петровна в день моего приезда прикупила карту), это он Шмелеву накануне вечером налил почти полный стакан водки. Предлагал и мне, но я отказался и ушел спать, предоставив Игорю уже на пару с Бочонком доканчивать ужин и убирать посуду. Вообще же наутро на мотовозе отсутствовала почти треть бригады и сам Гамов — слышно, что он вчера дебоширил дома. Ладно, думаю, пусть Горю зарплаты будет меньше, не нянькой же к нему я нанялся.
Когда вернулись с работы, я нашел Шмелева опять пьяным в дым, а из наших продуктов исчезло сливочное масло, сахар, консервы. Бочонок пояснил мне, что Горь продал все старушкам на базаре, деньги обратил в вино. Мне такая «кооперация» без надобности.
— Ну, и что ты думаешь? — спросил я на следующий день Шмелева.
— Ты извини, но как-то так получилось…
— Тебя что, мать уронила в детстве, у тебя провалы совести, а может, ты алкаш?
— Скажешь тоже! Ей-богу, просто ничего не соображал.
— Не соображал бы, так на деньги за сахар купил бы ведро соли, скажем, а не вино. Соображал, значит.
— Не, ну серьезно…
— Ладно. Что есть, то доедим вместе, а там — извини уж. И больше со мной не затоваривай ни о чем. Ты мне не интересен…
Интересное заключение: оказывается, просто наличие денег резко меняет иных людей, обнажает их пороки, обесценивает все ими раньше сказанное.
Помню, в день выплаты аванса нас с работы привезли ровно в пять часов вечера. Переоделись, у кого было во что переодеться, почистили свою робу, у кого не было сменки, пошли в большую пустовавшую комнату в доме, где жили Гамов с Ниной Петровной. Там уже, из той второй бригады женатики в приличных костюмах скучковались вокруг своего звеньевого, седовласого, широкоплечего мужика, фамилия его была Виноградов. А рабочие называли его попросту Кузя.
Началось профсоюзно-производственное собрание. Приехавший представитель администрации открыл собрание, потом выступили Гамов, Нина Петровна. Государственный план, рабочая честь, дисциплина, спаянность коллектива, воодушевление, трудовой энтузиазм… Честно говоря, мне делалось как-то неуютно, оттого что такие слова говорятся Гамовым, что-то похожее я чувствовал, когда Галя Кустова пачкала свои губы ругательствами. И воспринимались-то эти речи с прилежным вниманием, оказывается, только теми из наших бригадников, кому они, как говорится, были до лампочки, — Кузины мужички в это время переглядывались, сдерживали улыбки, звеньевому приходилось шикать на них.
Я получил сорок рублей, из них десять тотчас же в сторонке забрал у меня Гамов.
— Для Сенокосова, — кратко пояснил он. Потом выяснилось, что столько же он брал и у всех остальных членов нашей бригады.
Люда с получением аванса в тот же вечер отпросилась у Рогова на четверо суток и уехала в Белогорск.
«Сына навестить ей надо же!» — пояснила мне Галя Кустова. Вот это да! У нее имеется сын, она уехала, даже не предупредив меня…
XI
Прочел свой дневник до сегодняшнего дня. Детство все это: многозначительные фразы о любви, о смысле жизни. Слышал звон, да не знаешь, где он. Разве ж я чего-то ищу, какой-то смысл? Живу как выпало, не трепыхаясь, почти равно отношусь и к тем, кто нравится, и к тем, кто не нравится, сам, кажется, определенных чувств ни у кого не вызывая. Рассказать о себе нечего, да и если б что захотелось, то здесь это невозможно, не подходит по тематике, как говорится. Тут весело и бойко порой такую правду-подноготницу выкладывают во всеуслышанье, что в уме не укладывается и любой здравый, кажется, лучше бы скрывал это и помалкивал, чтобы себя не умалять.
В нашей комнате, например, в завзятые рассказчики суется Бочонок. А рассказы его — оплошная гадость! Взял в жены вдову с деньгами, помог их профукать, целый год мороча женщине голову, что ищет работу «на всю жизнь». Родился ребенок — разбежались. Завербовался на Дальний Восток, попал на строительство порта. В месяц работал не больше недели. У магазинов сшибал копейки на курево и хлеб, иногда удавалось добыть и на вино, но чаще — только на одеколон. В общежитии была кухня, где готовили еду, занимались этим, конечно, преимущественно девушки. Так вот Бочонок подстерегал время, когда на кухне никого не было, и уносил в свою комнату одну-две кастрюли с полуготовой едой, которую потом доваривал на своей электроплитке. Ни разу не попался. Убежать со стройки пришлось из-за другого: дознались будто, что он, пользуясь столпотворением у касс в дни выдачи зарплаты, получал деньги за других.
Забрался со страху в какую-то глухую рыбацкую деревушку и там опять присосался к одной простоватой женщине, наплел ей историю, что сам моряк, отстал от своего парохода, оказался без документов, а судно, мол, ушло в загранплавание неизвестно на какое время. Жил не тужил, выезжая во Владивосток «развеяться», снабженный своей обожательницей деньгами, отварной курицей, приодетый на дорогу. Говорил, что едет в контору, чтоб отметиться и разузнать о документах. Возвращался обычно гол как сокол, но с новой историей о краже вещей на пляже или с чем-нибудь подобным. Визит участкового милиции нарушил идиллию — пришлось подаваться дальше. С какого-то пункта дал матери в деревню телеграмму, и та прислала денег на «первое» время…
До сих пор от престарелой матери приходят Бочонку посылки с домашними тушенками, копчениями, в конвертах с письмами он первым делом находит пятерку-десятку. Присылает мать к зиме ему всегда варежки, шарфы, свитера собственной вязки — все это он распродает и обращает в водку.
— Ничего мне не надо! — бахвалится Бочонок. — Настоящий мужчина всегда должен быть немножко пьян, голоден, зол и настороже.
Бог с ним, с этим Бочонком, а вот про Тимоху Комарова я постепенно узнал, что у него в обшарпанном дерматиновом чемодане полно справок, удостоверений в том, что он техник-строитель, сварщик, электрик, шофер и так далее.
Женившись в двадцать пять лет, он решил заработать на кооперативную квартиру. Стал бродить по деревням с бригадами строителей-шабашников, строил коровники, свинокомплексы, жилые дома. Знавал большие деньги, но на себе экономил каждый рубль, отсылая все жене, однако узнал вдруг… Приучился пить, во хмелю стал проявлять такое буйство, что скоро и среди шабашников его стали избегать как чумового. Плюнул. Спохватился вернуться к нормальной работе на нормальной стройке, да оказалось, что нет уже обычной терпимости ни к самому рабочему процессу, плановому, долговременному, ни к людям обычным. Поехал…
Кстати, это Тимоха поджучил Кольку Кустова поссориться с женой. Ненависть к женщинам у Комарова прямо-таки патологическая. По его словам, все бабы — дряни, сволочи и наипервейшие враги мужчин. А самые лютые враги те, которым удается «ухватить тебя не за что иное прочее, а за душу».
Можно только догадываться, как сильно любил когда-то Тимоха Комаров!
Напьется и ходит пристает к каждому: «Давай я тебе морду начищу за все хорошее и на два года вперед?» — и тут же от слов норовит перейти к делу, а когда сам схлопочет по физиономии, то идет к своей кровати, ложится, плачет, грозится и проклинает все на свете.
— Я конченый, — как-то сказал он мне. — Еще чуть-чуть — и все. Про таких и поговорка есть: если к сорока годам не богат, не здоров и не умен — не бывать таковым!
— Бросил бы пить, так все и образуется, — посоветовал я.
— Да это бы можно, да куда деть душу, черепок с мыслями, ненависть? Ты не возьмешь себе, советчик? Куда уж, вон как слюни-то распустил перед первой попавшейся бабой! А я тебе говорю: змея она, как все, не смотри, что красиво извивается, боись, как ужалит и к другому уползет. Я их всех насквозь вижу, всем башку бы оторвал, а вы сюсюкаете, пресмыкаетесь, гордости не имеете. Пользоваться пользуйся, но к душе своей не подпускай и на пушечный выстрел! Всю жизнь испоганит, всю кровь отравит.
Тяжелый случай. Я не знаю, как мне тут быть с Тимохой, что ему говорить, а только понимаю, что согласиться, отмолчаться или сделать дурашливый вид — это все равно, что предательство совершить по отношению к Тимохе, к Люде, к себе да и ко многим еще, наверное.
И еще я думаю, что Лев Сенокосов сильно преувеличивал, когда пудрил мне мозги насчет любви и страха у людей, называл бригадников своих «волками, оторви да брось». По сути, ничего страшного нет в таких людях, как Бочонок, Комаров и другие: рассказывая о себе со всем откровением, они, наоборот, предстают беззащитными, достойными сожаления, а может, своей же правдой себя жалят, мучат, ища опасения в покаяниях, как сказал бы какой-нибудь поп. По-моему, страшнее другие, те, что о себе дурного не скажут, но заносчивы, презрительны и бесцеремонны. Это Рогов, Гамов и сам Сенокосов. Их что-то должно объединять, роднить и поддерживать, таких людей. Недаром выясняется, что, кроме этой троицы, в нашей части бригады никто больше года не работает. Кажется, еще Нина Петровна два года здесь да Тимофей Комаров. А вообще когда-то начинала смену мостов на этой дистанции пути бригада Кузи — Кузьмы Федоровича Виноградова. Однажды будто произошел несчастный случай — бригадира срочно заменили, им стал Сенокосов. Когда я начинаю расспрашивать о нем, люди вдруг наглухо замыкаются, у них такой недовольный вид, будто я покушаюсь на что-то их личное, интимное или неприятное для памяти.
XII
Подпочвенные воды постоянно помаленьку просачивались в наш котлован и к соседям, конечно. Для сбора воды мы копали глубокие приямки, и утром перед началом работы Тимоха Комаров раскруткой тяжелого литого маховика запускал старинный громоздкий дизельный насос «Одижанец». Но углубились мы еще на пару метров, и приток воды увеличился так, что никакие приямки не спасали и насос крутился с утра до утра. Работать теперь приходилось в болотных сапогах, по колено в воде, осторожно вылавливая грунт лопатами, сцеживая воду, прежде чем выкинуть его из котлована. Мокрые рукавицу дубели на морозе, телогрейки становились колом, лица наши вечно были в густых разводьях грязи и пота.
Рогов злился, что работа у нас шла медленно. Мы и сами немало сконфузились, когда вдруг выявилось, что отстаем от виноградовского звена на добрые две недели. Однажды пришли, а в соседнем котловане поблескивает готовый ледяной каток — значит, накануне там не работали уже, воду не откачивали. Зато у нас почти сухо (Тимофей те дни и ночевал в бытовке), насос качает воду из приямка, устроенного на доброй четверти всей площади котлована. И открылась глазам вся наша работа — ужас: стенки «пузом», углы завалены, дно как в струпьях — в уступах и ямах, и копать еще не перекапать!
Целый день отбойными молотками мы выпрямлялись по отвесам, расширялись, выравнивались. Потом пошла работа на победу. Правда, соблюдать прежний роскошный приямок было некогда — опять хлюпались в воде по всей площади котлована, но уже не спотыкались и не оступались в ямы, и, кажется, сквозь мутную воду каждому виделась близкая желанная «отметка»!
И вот настал день, когда мастер Рогов с утра стал соваться с длинной рейкой в котлован, понужал:
— Скорей, мать вашу так! Это вам не водку жрать! На сегодня я вызвал представителя дорнадзора: сдадим котлован — приступим к бетонированию.
А работа почему-то не убыстрялась, мне показалось, что даже замедлилась. Наверное, и сам Рогов заметил, плюнул на нас сверху, обложил трехэтажным матом, выгнал из котлована всех, кроме меня, Бочонка, Кустова и Гамова. Последнему приказал кратко:
— Темни, раз работать не научился. Сорок кривых, а не бригада! Я не намерен перед приемщиком краснеть. И смотри, чтоб было в ажуре, не то башку сверну!.
Смысл действий, предписанных Роговым Гамову, дошел до нас, когда тот приказал нам в разных местах котлована копать приямки. Бочонок заметил: «Сунут рейку в приямок — вот и вся сдача, ведь не полезет же в воду представитель, чтоб точно проверить действительную отметку».
Приямок получался около метра глубиной — столько грунта нам еще надо было вынуть в котловане до бетонирования. Мы с Кустовым копали прямо под железнодорожным полотном — это первое место, куда сунет рейку представитель.
— Филькин мост у нас получается, — буркнул Колька себе под нос.
— А может, сказать? Ведь это не шуточки — поезда?!
— Кому ты скажешь? Рогову или Гамову? А может, этим бичам? Думаешь, охота им лишний метр ковырять?
Чтоб не терять в воде приямки, Гамов надоумил нас сделать поплавки на якорьках из больших гаек — там щепочка, там сухой лист или веточка плавает будто, кто придаст значение?
Приехал на мотовозе представитель. Длиннющей рулеткой обмерил весь котлован, вручил рейку Кольке Кустову, тот слез в яму и поставил ее в воду.
— Да у вас еще восемьдесят семь сантиметров копать до отметки, что голову морочите, понимаешь! — вскричал вдруг он, выхватил рейку из рук Кольки, мелом жирно очертил намокший конец и стал тыкать им в разных местах котлована, так ни разу и не попав в наши приямки. Затея провалилась. Рогов был багрово зол, волком смотрел на Гамова, а тот в свою очередь испепелял глазами Кустова.
— Промазал как-то… — мямлил Колька, пожимая плечами. — Промазал, черт его знает!
— Смелый у тебя товарищ, больно ж ему будет! — сказал мне потом Тимоха у бытовки, прибавил: — Поостереги парнишку, пусть сегодня ни с кем не огрызается и вечером никуда из дома не выходит…
Мое предупреждение Кольке не помогло: ночью прямо в комнате его избили так, что пришлось отправить в больницу.
Гамов с Роговым весь следующий день люто пьянствовали, на месте работ не показывались, только вечером пришли, вызвали Комарова.
— Спрашивали, много ли выкопали сегодня, завтра до обеда велено шабашить, — пояснил он хмуро, вернувшись. Рано завалился спать.
А я опять побрел к вечеру на станцию встречать поезд из Белогорска. Кажется, Люда уже никогда не вернется: ее нет уж вторую неделю. На всякий случай я в уме шлифовал все то, что решил сказать ей — пусть и в последний раз.
XIII
Никаких речей мне не потребовалось: Люда сошла с поезда, поддерживаемая под руку Львом Сенокосовым. Он мне обрадовался, вручил свой огромный и тяжелый чемодан.
— Вот сейчас придем и обмоем мое возвращение — у меня есть кое-что вкусное и горькое, — доверительно сказал он, наклонившись ко мне, и я почувствовал крепкий запах спиртного.
— Не придумывай, Лев, ведь поздно уже, а утром на работу, — заметила Люда и с усмешкой прибавила: — Да и нельзя детей спаивать — это наказуемо!
— Работа не Алитет, в горы не уйдет, — засмеялся Сенокосов. — А этот ребенок, как ты называешь, совсем уже не боится мамы, я спрашивал. Верно, Мишаня? Ну, акклиматизировался тут, как тебе показалось? Все живы-здоровы?
— Нет не все! — резко ответил я и рассказал про злополучные приямки, про Кольку Кустова.
— Дуролом этот Гамов, — вздохнул Сенокосов, — не мог сам, что ли, замеры сделать, положился на сосунка?! Ладно, разберемся, а то он мне так всю бригаду разгонит, гад! Я, понимаешь, всюду людей ищу, с отпуском не считаюсь, а он на готовеньком не может как надо… Видишь, Люда, ни на кого нельзя положиться! Бараны, они и есть бараны.
Чемодан Сенокосова тяжел, неудобен, я все время отстаю от Люды, не могу сосредоточиться.
— Лев, ты, в чемодан булыжников, что ли, напихал? Все руки он мне оборвал уже! На, и сам пронеси немного…
— Слабак, так и скажи! Если мраморную статуэтку «Три грации» считаешь булыжником, то что ты смыслишь в красоте?! Жутко люблю красивые вещи, которые со смыслом! Вот купил одну настоящую грузинскую чеканку, а была бы возможность, я бы столько всего накупил!.. Эх, как будет у меня свой дом, Людочка, я обязательно отделю одну комнату и заставлю ее разными художествами, чтобы было где посидеть, полюбоваться, подумать. Позавидуешь людям с талантом, особенно, если у тебя самого в бригаде сорок кривых!
— А сам-то прямой, конечно? — буркнул я. Злость поднималась во мне на благодушного от самоуверенности Сенокосова, на его панибратское отношение к Люде, а кроме того, меня терзали вопросы: где и как они встретились, на чем уже сговорились?
— Обиделся за кривых? — уточнил с усмешкой Лев. — Успокойся, присутствующих здесь это не касается, хотя бы потому, что я пока хорошо вас не знаю. Но… очень уже интересуюсь! — многозначительно прибавил он, склонив голову к Люде, на что та удивленно хмыкнула и сказала будто разом за себя и за меня:
— Даже так? Очень тронуты, премного вам благодарны!
— Люда, ну а как там дома, Сережка здоров? — спросил вдруг я таким отчаянно-обыденным тоном, будто сто лет знаю ее дом, мать, сына. Очень уж мне хотелось отрезвить Сенокосова в его явных попытках подбить клин к девушке.
— Сережка? — переспросила она. — Он ничего, только скучает сильно, много капризничает — устает с ним мама!..
— Да-а… Вот видишь, все-таки придется тебе его сюда забрать, — поощренный ее поддержкой, осмелел я. — Можно снять квартиру хоть у того же Павлова, найти старушку…
— Не знаю, не знаю…
Сенокосов, кажется, что-то усек для себя — поскучнел он как-то, даже остановился закурить. Мы не стали задерживаться из-за него.
— Миша, откуда же ты узнал, что у меня есть Сережка? — опросила она меня все еще удивленно.
— Если честно, то угадал просто, но если угадал действительно, то потому, наверное, что много думал. Ты вот обо мне не думала, признайся? Где этого-то хахаля подцепила?
— Ну, знаешь! Ты становишься невыносимым. Я не обязана отчитываться перед тобой, понял?! И чего только ты возомнил-то себе, господи, горе мое?! Прекрати все это, не подталкивай меня на глупости. Слышишь? Или тебе охота, чтобы я вовсе отсюда уехала? В самую пору: душа-то все еще в Белогорске… Эх, сама я во всем виновата!
XIV
Подготовкой к бетонированию руководил уже сам Сенокосов, Гамов с его приездом на работе пока не появлялся.
— Пусть он наряды закрывает на зарплату, посмотрю, что вы тут наработали, — обронил как-то Лев. Но кое-кто уже видел Гамова с фингалами на физиономии, а кто-то знал будто бы доподлинно, что бригадир ему наподдавал, чтоб не обижал впредь Нину Петровну.
— Вот кто истинный покровитель женщин, не то что некоторые! — ехидно заметил я при Тимохе.
— Какой покровитель, кого покровитель? — презрительно скривился тот. — Покровитель этого жулика в юбке? Да просто Нинка в их шайке-лейке пока важней Гамова, за нее можно и дружку любезному по шее накостылять. Да он и не обидится даже, ведь сегодня бьются, а завтра миловаться будут — из одного кошелька достают на водку и на курорты. Посмотришь, скоро на юг потянется кто-то следующий — Рогов или эта вертихвостка…
— Ну, Тимофей, ты прямо!.. — опешил я от такой беспощадной единой характеристики людям, о каждом из которых у меня давно сложилось свое определенное и далеко не однозначное мнение, в истинности его мне просто невозможно было вот так просто засомневаться. Неужто я вовсе без глаз, глух к ложному, ничего не смыслю в людях?
— Говори, да не заговаривайся! — отмахнулся я от Тимохи Комарова после некоторого замешательства. — Тебя послушать, так нет на свете порядочных людей. Вот что конкретно ты имеешь против Нины Петровны, в чем она, по-твоему, это самое?..
— Сам ты это самое! Младенец очарованный! И отстань от меня, не знаю я никакой Нины Петровны, никого не знаю и знать не хочу! — заявил вдруг Комаров мне со злостью, сплюнул в сторону и пошел заводить свою электростанцию.
«Наверное, как-нибудь он проштрафился по пьянке перед табельщицей, и она, днем и ночью готовая ссудить деньгами любого нашего пьяницу (Игорь Шмелев наодалживался у ней рублей на шестьдесят — хватит ли зарплаты расплатиться, ведь пьет и прогуливает, хорек несчастный, пожелтел весь!), не заняла ему денег на опохмелку, вот и бесится трезвый, зло затаил», — подумал я о Тимофее Комарове.
Наш мотовоз, используя любое окно в графике железнодорожного движения, тягал нам лесоматериалы, щебень, цемент в мешках, арматуру, песок, бетономешалки, тачки, вибраторы. Нарасхват был Тимоха Комаров: с ним мы вязали арматуру, сколачивали опалубку, пробрасывали шланги от насоса к болотцу воды, выкачанной из наших же котлованов, — теперь она была нужна для замеса бетона…
Один раз я попал на погрузку песка на платформу в тупике станции. Бригадир «зафрахтовал» на день бортовой грузовик у лесозаготовителей, и с него мы лопатами перебрасывали песок на платформу. А брали песок на какой-то Песчанке у старого заброшенного кладбища. И правда, иногда попадались в песке полуистлевшие куски дерева, тряпок, а однажды кому-то на лопату из бурта вывалилась почти целиком желтоватая высохшая кисть несомненно человеческой руки! Мы тут и остолбенели… Подскочил Сенокосов — он как раз приехал поторопить нас с погрузкой платформы.
— Что там у вас? А, кости… Костей, что ли, не видели? Работайте, работайте! — С этими словами он взял и зашвырнул нашу жуткую находку подальше под откос, в измазученный снег, в чахлый кустарник. — Что они там на Песчанке офонарели, черт бы их побрал, — выругался он.
— Как хочешь, бригадир, — хмуро сказал шофер, — но я к своему начальству сейчас поеду и скажу, что такой песок возить отказываюсь!
— Да ты что, чудак человек? Мы же не первый мост построили на этом песке, и ничего такого не было, нам и разрешение поссовет давал! Поедем с тобой на место и разберемся, может…
Платформу мы в этот день все же догрузили, но потом прошел слух, что Сенокосова и Рогова участковый милиции привел в поселковый Совет. Там настрого запретили дальнейший забор песка и обязали срочно взять и перезахоронить в новых гробах открывшиеся при обвале останки. Семь человек добровольцев взял на это дело Сенокосов.
Не знаю, случайно или нет, но когда для бетонирования бригаду разбили на три смены, никто из тех семи могильщиков-добровольцев в мою смену не попал. И без Сенокосова мы работали — Комаров Тимофей управлял у нас всем: руководил укладкой арматуры и надстройкой опалубки. Всюду успевал, подбодрял, торопил, даже шутить, оказывается, он умел как Следует! И это была работа, за которой все на свете можно было забыть — лихорадочная, но слаженная, тяжелая, но веселая — настоящая! Даже отпетые лодыри все разом будто проснулись, встрепенулись, вскинулись успеть нечто важное для себя, главное, необходимое. Пока не было поездов, мы пробрасывали по железнодорожному полотну дощатые дорожки для тачек и бегом подвозили к урчащим бетономешалкам цемент, песок, щебень. Заслыша рожок опереди или сзади от какой-нибудь из выставленных сигнальщиц, скоренько разбирали тачечную дорогу, с нетерпением пережидали составы, мчались наперегонки к котловану кто с мешком цемента в охапке, кто с тачкой, а то и все вереницей — с арматурой, досками для опалубки или с бутом.
Перепачканные в цементе, бетоне, мокрые, уставшие за день так, что все трусилось внутри, мы с сожалением, однако, уступали свои места приехавшей смене, бухались на скамьи и прямо на пол в натопленном вагончике-калужанке, который возил теперь мотовоз, чтоб не морозить нас на открытой платформе, молча приходили в себя, подремывали. Но женщины наши, уставшие, конечно, больше всего, однако всегда тонко чувствовавшие общее благодатное настроение, вдруг тихонько заводили:
Пока я ходить умею, Пока дышать я умею…Теплая волна поднималась в груди от гордых и простых слов, которые, может, стыдно еще каждому бы сказать вслух, но пропеть со всеми радостно, потому что это право честно заработано сегодня сообща и в общем деле.
Без песни мы — просто работяги, волею разных судеб заброшенные в морозную глушь. С песней мы — бригада, люди общей дороги, одной цели сейчас, одной заботы.
Немного простуженно и оттого застенчиво поет Люда, сильным молодым голосом выручает ее Галка Кустова. Непривычно молчаливый теперь и заметно побледневший от больничного затворничества Колька лежит с закрытыми глазами на колене у жены, и она тихонечко перебирает пальцами его волосы. Я ему завидую сейчас: на год-полтора всего старше, а как бетон становится, твердеет у него характер.
Вот и Галка — тоже, оказывается, ему не так просто досталась: когда я был у него в больнице, Николай рассказывал, что родители обеих сторон восстали против их брака, тогда они тайком подали заявление в загс, сговорились уехать. Конечно, инициатива была больше его, она очень боялась своего отца, сильно тосковала по дому и от хандры той, наверное, стала своевольничать тут — вино пить, сквернословить. Теперь это быстро прошло, как и не было, потому что не от сердечного чувства пришло все, а скорей от смутного желания какого-нибудь бунта после долгой покорности. По себе знаю такие мгновения, когда заносит тебя как оглашенного, безбожно врешь кому-нибудь в глаза про себя, пыжишься и сам почти веришь, что именно тот ты, а не этот — маменькин сынок, школьный умник, книжный праведник. Откуда бы тебе и знать, что в жизни правду иначе никак не скажешь, если за нее тут же не постоишь, не потратишься. А коль нет к этому постоянной готовности — все, один конфуз получается, поза, притворство, никакими поздними словами не затулишь эту прореху…
Еще Николай в больнице был, когда Галка попросила меня помочь перенести его вещи из роговского дома в ту комнатушку по соседству с дежурным по станции Павловым.
Там все так и стояло: кровати со скатанными матрасами, стол, табуреты.
— Ну вот и все, — облегченно сказала Галка, поставив свой узел на стол. — Найду известки, побелю, вымою, на окна сошью занавески, купим со временем телик, самовар электрический —:будут к нам приходить те, кто действительно… Мишаня, я замечаю, что ты к Рожковой Люде не равнодушен, правда? — спросила вдруг она и, не дожидаясь моего ответа, вздохнула: — Зря… Она замуж хочет, чтобы надежно в жизни приткнуться наконец, успокоить мать, взять сына. На бригадира будто бы уже глаз положила…
Я это знал: они со Львом несколько раз ходили в леспромхозовский клуб, еще там куда-то — не следил. Со мной она стала обращаться как-то торопливо-снисходительно. Я иногда ловил на себе ее будто извиняющийся быстрый взгляд. По мне она была и так всегда хороша, статна, красива, но по ряду почти неуловимых перемен во внешности ее, по этому затуманенному, мечтательному взгляду, обращенному внутрь себя, я угадывал теперь совсем особенный, прямо говоря, брачный магнетизм. Права Галка Кустова: не на тебя все это наводится, увы, сам-друг Мишаня Макаров!
— Плюнь, — посоветовал мне Тимоха Комаров. — Я же тебя предупреждал, помнишь? Не твоя это женщина, твоя так бы не поступила.
Тимофея в последнее время не узнать: затянулась его трезвость, хмурая рассудительность появилась вперемешку с дурашливой веселостью, он купил себе простенький костюм, рубашку, после работы теперь всегда растапливает печку в комнате, греет в ведре воду, тщательно моется по пояс, одевается в обновку, читает какие-то толстые строительные справочники, рассматривает архитектурные альбомы — в библиотеку при клубе записался, сам что-то черкает в тетрадках карандашом по линейке. Подойдешь к нему, он застенчиво прячет все. — В институт, что ли, дернуть на заочное? — обронил он мне как-то. — Я ведь, знаешь, мечтал когда-то проектировать красивые дворцы, фонтаны, города… Была мечта. Да почему, собственно, была? Вот захотелось же опять. Эх, и горазд же человек кресты ставить на том и на этом, на прошлое посмотришь — сплошное кладбище! И пока ты так сам себя хоронишь заживо, утаптываешь, другие беспардонные люди себе на удовольствие лепят какие-нибудь дома-пеналы, смело Дерутся даже за то, в чем смыслят не больше, чем баран в библии. Одно время к нам долго мастера не могли подобрать, — продолжал Тимофей. — Вот тогда наш Лева ко мне со всяким пустяком бежал: как наряд закрыть, чертеж прочесть, бетон нуждой марки сделать, в арматуре разобраться. Сам-то он, оказывается, заурядный плотник, скорей вовсе баклушечник, потому что работал больше на лесопилках, на лесоповале здесь был. Словом, у пьяного кулаки дерево рубят, а у трезвого и топор не берет! Что он быстро освоил, наперед всего, так это очки втирать, начальство дурачить и деньгу прикарманивать. Я тогда шибко злой на все был, мне наплевать было на его делишки, через вино с ним мы даже друзьями сделались — водой не разлить. А другие помалкивают, потому как люди сюда подбираются в основном поиздержавшиеся в жизни, с разворошенными принципами, утратившие надежду на работу как на судьбу-кормилицу, как на мир тот честной, где люди дружатся, строятся. И сам не лучше, но очень не люблю многих тут, бичей по натуре, потому и по пьянке тянет кулак приложить к их мордам. Лупцевал как-то твоего Шмелева. Что ж ты, говорю, так рано изоврался, дружбы не понимаешь, совести? Как с гуся вода! Все ж зря ты его не поберег — годки ж, один народ, как говорится. Вот Колька Кустов — этот другой, за себя постоит, и пусть не от какой-то там большой принципиальности он устроил подвох Гамову с мерной рейкой, пусть от упрямства, но и хорошее упрямство — уже достоинство. А били его, думаю, Гамов, Рогов и Бочонок. Больше некому. Бочонок в ту ночь заявился в дымину пьян. Не переводятся у Левы подручные, есть с кем жулить и страх нагонять, но погоди вот!..
XV
Подошло время зарплаты. Как и в день аванса нас привезли с работы пораньше. Опять с кассиром приехал тот же представитель администрации мостопоезда. Устроили собрание.
Представитель хвалил нас за скорое окончание бетонных работ и (я чуть не упал со скамейки!) за образцовую дисциплину труда! Больше того, после сказанного, он вручил Сенокосову переходящий вымпел и конверт с премией, и не только ему, но и всем его подручным — Рогову, Гамову и Нине Петровне. Правда, выдали премию и Виноградову — тут уж и я похлопал, не жалея ладошек. В торопливых ответных выступлениях Рогов и Сенокосов заверили, что и впредь…
Оказывается, у нас в бригаде за прошедший квартал и до сих пор не было ни одного прогула! Не знаю, как за весь квартал и как с прогулами у Виноградова, но гадом буду, если совру, что, например, Бочонок с Игорем Шмелевым за прошедший месяц нагуляли вдвоем не менее двадцати дней!
Дальше больше: Игорь получил зарплату одинаковую с моей, подозрительно равно и тоже немало получили и другие известные мне прогульщики-забулдыги, тогда как Бочонок ни шиша не получил, только в ведомости расписался. Правда, он и не унывал, тут же притиснулся к Люде Рожковой:
— Займи, любезная, полсотни на пропитание из тех деньжат, что тебе причислены за красивые глазки, ведь ты четыре дня не работала, а содержание осталось, верно?
Рогов услышал это и тут же ткнул Бочонка кулаком в бок.
— Что-то не в милостях наш Бочонок у правящей верхушки, — заметил мне Тимофей Комаров. — Вон и на выпивку даже не подкинули нынче! Странно… Выходит, что Кустова Кольку он не бил?
— Но ты что-нибудь понимаешь в этой бухгалтерии с зарплатой? Игорь получает…
Позднее мне Комаров объяснил:
— А нечего тут понимать. Нинка в табеле всем подряд восьмерки поставила, а потом привезенную кассиром ведомость переписала по-своему учету и по рекомендациям Рогова — Гамова — Сенокосова: этому дать, этому выделить, а этому — фигу! Разница, сам прикинь, пойдет в общий кошель.
— Но это же воровство!
— Конечно! Иди и заяви — может, их посадят…
— И ты все эти годы знал и молчал?! Ну, Тимофей, ну ты просто, я не знаю!..
— Замолкни, дитя! Во-первых, они не так уж давно этим промышлять стали, во-вторых, я узнал не сразу, а в-третьих, чтоб ты знал, за такие дела не вдруг придут и арестуют. Тут нужны доказательства, нужны свидетели. Есть у тебя свидетели? Бочонок расписался за полторы сотни, а ничего не получил, и что, думаешь, он станет свидетельствовать против Нинки? Дудки! Да он у нее сегодня же возьмет сколько надо. Да и вообще, те тоже покуражатся над ним да что-нибудь подбросят. Прикинь другое: ни Рогов, ни Гамов, ни сам Лев сейчас никому не выговаривают за пьянки и прогулы. Нинка в любой час готова каждому ханыге выдать любую сумму на пропой. Это же им выгодно: чем больше прогулов, тем больше денег у них осядет, чем больше человек пьет, тем равнодушней он ко всему. А работу мы тянем и меньшим числом, да и приписать в нарядах того-сего не составляет труда. Короче, куда следует сообщено все, да, видно, дело еще до нас не дошло…
— И все же мне кажется, что встать бы сегодня на собрании да сказать — это честнее! Они, понимаешь, тихонечко жулят, их за руку так же тихонечко возьмут… Не так бы!
— Глупо, глупей не придумаешь! Представитель в лучшем случае затормозил бы выдачу зарплаты и поехал в контору советоваться. А тем временем ни тебя здесь не нашли бы, может, ни Льва со товарищи. Намылились бы! Только ты их и видел. Если не убегут вообще, то поедут замять это дело, найдут пути — деньжата-то есть! Может, представителя… Плохо ты жулье знаешь, оно ни перед чем не остановится, оно знает, что закон неотвратим, но исполнение его не вдруг происходит. Всё они знают лучше нас с тобой.
На душе стало муторно от такого разговора с Тимофеем.
Кое-где от общежитий по гулкому морозному вечеру слышались уже неестественно оживленные голоса, песни, спор, кто-то рядился опять бежать в магазин «за пойлом»…
— Опять сегодня не уснешь! — вздохнул я.
— Уснем. Я их, алкашей, вон из комнаты вымету — пусть идут в одной компании хлебать! — заявил Комаров.
— А ведь мне срочно надо Сенокосова увидеть! — остановился я.
— Чего еще?
— Десятку у него в Белогорске брал, надо вернуть.
— Так завтра и отдашь! Сегодня вечер вообще керосином пахнет, не стоит тебе лишний раз шарахаться, ведь только за Людку из простого угодничества тебе могут сопатку начистить.
— Ну, знаешь! Не напугал.
— Может случиться так, что испугаться не успеешь, действительно…
— А мне надо отдать ему долг теперь же! Хочу навсегда выяснить с ним все отношения: это вот вам за добро, а это…
— Хочешь все по полочкам разложить, честным быть до мелочи, но с кем, ты, прикинь-ка?!
— С кем? А с собой! Чего это я буду подлаживаться под чью-то ложь? Не-ет, извините, сами путайтесь как хотите, а у меня должно быть все на учете!
— Пацан ты и есть пацан! — отмахнулся Тимофей. — Городишь какую-то чушь. Теория это все. А в жизни ходьба — это ряд падений вперед, предупреждаемых вовремя поставленной опорой ноги!
— Это я и сам знаю, у меня даже записано!
— Да? Ну топай тогда, топай! Ему добра желаешь…
Короче, вернулся я в тот дом, где жила табельщица с Гамовым, Сенокосов, где в красном уголке сегодня было собрание и после него выдавали зарплату или как там ее теперь называть.
Табельщица с Гамовым за одним столом оделяли деньгами последних трех работниц: она что-то им растолковывала, тыкала ручкой в ведомость, щелкала костяшками на счетах, а Гамов, слюнявя палец, отсчитывал деньги на три стопки.
Не было, видно, Сенокосова и дома — я долго стучал в дверь, пока не догадался выйти на улицу и убедиться, что нет света в его окне.
«Ладно, утром отдам», — решил я, двинувшись к своему дому, но тут же чуть не сбил — с ног спешащего навстречу Бочонка. В обеих руках его что-то солидно звякнуло, тренькнуло от нашего столкновения.
— Кого тут черт!!. — отпрянул он и поднял в руках на свет от окошек две авоськи, набитые бутылками с пивом, водкой и вином, — Ничего будто не разбилось… — успокоенно сказал он и тут разглядел меня. — А, это ты, Макарка? Людку поди ищешь? Тю-тю твоя красавица! Утрись теперь. Была ваша, стала наша! Скажи спасибо, если на свадьбу позовет. Свидетелем! Ха-ха-ха!..
«Уже на свадьбу сговорились?!» — екнуло у меня сердце. Стало тоскливо, пусто, скрип снега под ногами звучал в самой выстуженной душе. Навернулись невольные безудержные слезы…
XVI
В комнате, кроме нас с Тимофеем, сегодня никто не ночевал, зато за обеими стенами чуть не до утра топали, пели, что-то бросали на пол, двигали туда-сюда кровати или столы. И через коридор от женской комнаты долго слышался визг, смех, разговоры.
Не заявился никто из наших жильцов и утром собираться на работу, вообще добрая половина бригады к мотовозу не пришла, а у большинства пришедших глаза лихорадочно поблескивали, от них разило перегаром или новым хмелем, лица были помяты, поцарапаны так, будто они всю ночь продирались сквозь какие-то дебри.
Не пришла сегодня и Люда.
Свежевыбритый Сенокосов благоухал одеколоном, выглядел как огурчик в своей новенькой робе болотного цвета, в такой же телогрейке.
— Сегодня на шабаш до обеда сделаем уборку, подмарафетим свой мост, подготовим оборудование для переброски на другой объект! — сказал, улыбаясь, он. С нами в вагон не сел, а поехал в кабине мотовоза.
Что-то уж больно тщательно выбирал я момент вернуть ему долговую десятку, да так и не сделал это перед отъездом. Подчеркивать при всех свою задолженность бригадиру мне казалось излишним, и потому я решил на месте как-нибудь отозвать его в сторонку. Оказалось, что он сам искал такой возможности.
— Мишаня, мне бы с тобой поговорить надо серьезно. Нравишься ты мне, но, пойми, брат, в жизни все так иногда перепутывается, что невольно…
— Я должен тебе, Лев, — на вот забери свою десятку.
— Что? Какой долг, что за счеты?! — воскликнул он с досадой, вскидывая вверх руки от моих денег. — Я тебя выручил, ты меня когда-нибудь… Все же мы люди.
— Не все, — буркнул я. — Не все мы люди! — повторил погромче и потверже, стараясь глядеть ему прямо в глаза.
— Так. Значит, ты не можешь простить, — отметил он. — Нет, я отлично понимаю тебя, но что же делать, если мы с Людой решили пожениться?.. Давай, слышишь, эту несчастную свою десятку, а то она, вижу, руки тебе сожгла совсем!
— Это не несчастная десятка, а честно заработанная.
— А я разве что сказал? Что-то ты совсем уж!.. Слушай, давай вот приедем, пойдем ко мне и поговорим по-мужски не спеша и здраво, не будем наскоряк здесь обиды высказывать. Идет? Люда, поверь, тоже переживает, что надо вот с тобой объясниться…
— Это она тебе поручила?
— И она, конечно… Да ты сам разберись: она старше, имеет ребенка.
— Я знаю. Я же не торгую ее у тебя, чего всполошился-то? Такой солидный мужчина, при доходной должности — известное дело, за кого же ей замуж идти тут, если не за тебя?!
— Подкусываешь, Мишаня! — вздохнул Сенокосов. — Давай все же отложим наш разговор, как я сказал. Ты хороший парнишка, мне не хочется с тобой ссориться, поверь. — Он повернулся уходить — спокойный, полный достоинства и терпения, в меру опечаленный моей непокладистостью. Пожалуй, только последнее я мог предположить неискренним в нем, показушным, а все другое — этот непоколебимый вид сильного, честного, порядочного человека был так ему привычен, что, казалась, лиши его сейчас этой маски, то предстанет человек, мимо которого и без внимания не пройдешь, и узнать его не узнаешь. Но как доцарапаться до него истинного, сделать хоть на миг его таким, каков он есть на самом деле? Побить? Не осилю, он отшвырнет меня как котенка в снег и уйдет. Сказать всю правду в глаза про его махинации с зарплатами? Но я же по Белогорску помню, по гостинице, его нахрапистость, цинизм — он высмеет меня, пристращает или изобьет тут же, объяснив это для других как сведение счетов моих же к нему из-за Люды. Чем же его пронять? Или, может, в его понятии уже нет таких слов, как «воровство», «ложь», «двурушничество»? Конечно, раз он придумал теорию о страхе людей перед силой и жизнью, то наверняка у него есть что-то и на этот счет. А Рогов, Гамов, табельщица (не могу теперь имени ее произнести!) — как они-то уговорились со своей совестью? Неужели так просто себя оправдать, обмануть, обвести, заставить видеть черное белым? А Люда, она тоже будет искать теперь для себя «теорию»? Первая, конечно, будет та, что она «не знала».
Стоп! А почему, собственно, она не знает, какой же я человек после этого буду, если допущу?!
Работа сегодня у нас шла через пень-колоду, то там, то здесь Сенокосов сам затевал с женщинами зубоскальство, и вокруг тотчас же собирались другие рабочие, рассаживались, втягивались в балагурство, а то и костер разводили из отщепов опалубных досок. Словом, что бы ни делать, лишь бы ничего не делать.
Мне вспоминались горячие дни бетонирования, даже вчера еще мы работали почти в прежнем ритме: сделав одно, каждый тут же сам находил себе другое дело, подключаясь к товарищам, перекуры были общими и недолгими, стоило кому-то одному встать и взяться за инструмент, как поднимались с отдыха все и принимались согласно за дело.
Интересная работа, неинтересная — работая день за днем, месяцы, годы, десятилетия — всю жизнь, человек не должен бы шарахаться между этими оценками. Даже наоборот, второстепенную работу хочется всегда закончить побыстрей, чтоб перейти к основной. Помню, как однажды Галке Кустовой, когда она стояла сигнальщицей на пути поближе к блокпосту, сделалось дурно, ее затошнило, она почти сознание потеряла, успев дунуть в свой рожок, чем всех нас обычным образом переполошила, и мы кинулись разбирать доски покатника на путях, отшвыривали подальше на безопасное расстояние инструмент, скоренько зачищали габарит путей от просыпанного с тачек щебня и песка. Потом все выяснилось. Галку свели в бытовку, там женщины принялись хлопотать вокруг нее кто с соленым огурцом, кто с хвостом селедки… А меня Тимофей Комаров выслал временно на Галкино место, облачив в ярко-оранжевую жилетку поверх ватника, объяснил, что я должен следить за семафорами-светофорами и предупреждать о поездах. Ничего не делать — так я считал. А руки мои еще не разжались от рукояток тачки, шапка, снятая с головы, парила на морозе, я оглядывался назад, пытаясь определить, какой по счету замес бетона выкручивает уже Тимофей на своей бетономешалке, по беличьей шапке узнавал Кольку Кустова среди снующих с тачками людей — хрупкому, малосильному пареньку, ему всех трудней управляться с растопыренными рукоятками тачки, норовившей все покрениться, скатиться с хлипких дюймовок, где-то уже треснувших, с коростами присохшего бетона. Меня нет, значит, Кольке выпадет больше ходок с тачкой. Да и Горю несчастному теперь не легче — как пожульканный лимон сделался с пьянками. Моя вина с ним, больше ничья. Определить отношение к человеку всегда не мешает, но не затем, чтоб отмести его от себя. Надо попытаться расположить его к себе, изменить, подтянуть до человеческого уровня, а там пусть сам глядит… А я отмел. И Бочонок им занялся. Теперь путь к Шмелеву мне сто верст — и все лесом…
Работая сегодня, я лихорадочно обдумывал свои дальнейшие поступки по отношению к Сенокосову. Что поступки сегодня будут — это решено, просто надо было разобраться в их очередности. Оказать все Люде, потом с ней пойти к нему — пусть признается! Нет… Присутствие Люды создаст не ту атмосферу: будет некоторое притворство, нужно будет подбирать слова и выражения, Лев, конечно, будет скользить, выкручиваться, тогда как наедине… Да и что он, в конце концов, может со мной сделать? За правду да еще торговаться мне, что ли!..
— О чем это вы с Левой — так мило беседовали недавно? — опросил меня Комаров Тимофей. — Отдал долг?
— Отдал. Наметили, что отдам сегодня все остальное с глазу на глаз.
— Дошутишься, выбьет он тебе этот глаз — вот что я тебе скажу, Мишка!
— А Люда, ты про нее забыл? Ты хочешь, чтоб она вышла замуж за этого делягу, а потом каялась бы всю жизнь, что не знала, каков он? Скажи, этого ты хочешь?
— Вон ты про что! Ну давай, слышишь, я сам с ней поговорю?
— Нет. Это мое дело — принципиальное!
— Ну смотри. Если она по правде в него втюрилась, то выболтает, спугнет, всех раньше времени.
— С каких это пор ложь и преступление стали тщательно оберегаемой тайной, Тимофей? И потом, я не верю, она такая умная девушка…
— Все мы умные, кто сперва, а кто после.
— Лучше позже, чем никогда!
— Давай-давай, сыпь пословицы! Они, между прочим, впервые были кем-то созданы тоже на горьком опыте, недаром и про пословицу говорят, что она цыганским, то есть задним, умом живет. Это подымок от былых пожаров в судьбах людских, понял?
— Ничего, что сгорит, то не сгниет! — засмеялся я, от ясности принятого решения ощущая в себе необыкновенный прилив вдохновения. — А то получается, что по правде тужим, кривдой живем.
— Правда, кривда! Я читал в старом словаре, так правда там объясняется как истина на деле, а не на словах, истина во благе — правосудие, например. Вот это нам сейчас больше всего подходит. Надо не спешить, чтоб не помешать.
— Ничего, нет правды глупой, своевременной или несвоевременной тоже нет, иначе, что это за правда такая, если выжидает, когда ей объявиться?!
— И все же ты там с Левой посматривай! Примитивный он человек, скорей топор к себе потянет, чем попытается ответное слово поискать. Скажешь мне, как пойдешь к нему.
— Вот еще!
— Я сказал! — посуровел вдруг Тимофей, но тут же отвел глаза, прибавил тихо: — Надо же мне знать, где ты есть, потому что душа будет не на месте… Хватит нам и того, что Кустова чуть инвалидом не сделали. А потом, я же больший свидетель, чем ты, и если чего… Понял, да?
— Понял, понял.
XVII
Люда опять уехала в Белогорск, теперь уже за матерью и за сыном — так мне сказали в ее комнате.
Значит, дела у ней с Сенокосовым самые неотложные, знакомиться будут, жениться!
Тем лучше. По крайней мере, сейчас у меня руки развязаны, как говорится. Обидно только, что мне она по-человечески не могла сама все сказать, честно и прямо, разве бы не понял?
Ну конечно же Лев и думать не думал утром, приглашая меня к себе на разговор, что я решусь-таки, осмелюсь явиться перед его светлые очи! Пили и закусывали они вчетвером в квартире табельщицы, когда, торкнувшись в запертую дверь его комнаты, я заслышал из коридора среди прочих нужный мне голос и нарисовался в дверях на виду у всей честной компании.
— Лев, можно тебя?
— Ты?! Ну проходи, присаживайся! — с шутовским радушием пригласил он к столу и даже согнал Гамова с табуретки возле себя, тогда как табельщица с мастером Роговым недоуменно переглядывались: еще, мол, этого нам здесь не хватало! Ясно, что я лишним был в их разговорах, нежелательным. И Лев это знал, он разыгрывал спектакль, предполагая наперед что я откажусь. Он многое умеет наперед рассчитывать и угадывать — меня это еще в Белогорске злило, когда он угадал, что я побаиваюсь сказать матери об отчислении из техникума.
И вот теперь из упрямства я взял и пошел к столу. Сел. От вина наотрез отказался, но взял из тарелочки одну конфету наугад. «Черноморочка» — прочел машинально.
— Ты больше, больше бери, не стесняйся, у меня конфет теперь завались — специально в вагон-ресторан заказывал!
«Любимые конфеты Люды, — отметил я. — И про это он уже знает!..»
— Молодец, Макаров, что вина не пьешь, — похвалила меня табельщица, закуривая папиросу, и тут же обернулась ко всем: — А что бы вам, отцы-командиры, не повысить разряд парнишке? Старательный, трезвый, самостоятельный, не прогуливает…
— Но у нас все такие — собственными ушами на собрании слышал! — не удержался тут я, чем сильно испортил, видно, настроение присутствующим.
— А ты бы хотел, чтоб премии всех лишили из-за нескольких бичей? — спросил меня хмуро Сенокосов. — Для них же стараешься, а они!.. С Тимохиных слов ты, наверное, песенку-то поёшь, а, Мишаня?
— И я говорил же вам, Нина Петровна, что не надо их жалеть, из этого только нежелательные разговоры получатся, — укоризненным, начальственным тоном изрек в свою очередь Рогов.
— Да мне что, только ведь жалко действительно, что люди от неразумности своей голодают, в затрапезной робе ходят, в чем на работе, в том и дома. Поймите женщину наконец — всем добра хочется…
«Но себе больше всех!» — мысленно ответил я.
— Эх, да что говорить! Неблагодарны стали людишки, очень неблагодарны! — вздохнул Сенокосов, с укоризною покачивая головой и пялясь на меня оловянными хмельными глазами.
За дурака меня держали, а я боялся, что потрачу на этих «зайцев» весь свой порох, заготовленный пока на одного Сенокосова. Между тем тот продолжал:
— Ты бы своим умом жить начинал, Мишаня, что за друг тебе Тимоха, кто он есть на самом деле? Бич! Правда, в работе пока не подводит, не буду зря говорить. Да ладно, не о том нам с тобой надо покалякать. Пошли ко мне?
— Идем…
— Только ты извини меня за кавардак — все никак руки не доходят, — разливался он, впуская меня в комнату. Но я там увидел только то, что из открытой тумбочки у кровати глядел на меня темными глазницами настоящий череп! Изжелта-восковой, со сжатыми навек зубами…
У меня были заготовлены какие-то первые слова, но сейчас все перепуталось, мне даже воздуха вдруг стало не хватать рядом с Сенокосовым.
— Тебя, Лев, не женить надо, а повесить — за это!! — крикнул я, указав на тумбочку. — Рассусоливаешь о заботах, о любви и жалости к людям, а сам черепа коллекционируешь?
Он опешил и растерялся от моей тирады, тут же подбежал к тумбочке, быстро захлопнул дверцу, вернулся ко мне, лицо его было потно и красно.
— Да это не настоящий, это… это я купил на западе, когда был в отпуске! Из-под полы, правда, один грузин продал — это из гипса, кажется, четвертную целую содрал, шельма! А ты думал?! Нет, это конечно из гипса или из чего-то еще такого…
— Врешь ты все! Это ты взял на здешнем кладбище, когда делали перезахоронения.
— Ну ты, слушай, брось это! Кто ты есть, прокурор?
— А будет тебе и прокурор! Вот сейчас возьмешь этот череп и пойдешь со мной в поселок к участковому, там заодно расскажешь и про то, как вы тут целой шайкой денежки получаете не за мертвые, так за пьяные души, которые сами же развращаете и на прогулы толкаете сознательно и методично!
— Да?! Пойду?! С тобой?! А ты это видел, сопля паршивая? — поднес он кукиш к моему носу. Лицо его уже было почти неузнаваемо — перекошено, багрово, отвратительно. — Убью, падла! Удушу, только пикни еще, будет и твой череп здесь в тумбочке рядышком стоять — сварю, мозги вышибу об угол и олифой покрою! Усек, мразь? Нет? На вот тебе пока авансом!
Я не чувствовал его удара, но больно ушибся спиной о кровать, ногами задел тумбочку, и череп из нее выкатился ко мне. Во рту было солоно, липко, все занемело, в голове будто вата натолкана, потухающим уже сознанием я равнодушно отметил, что подбегающий ко мне Сенокосов ударит сапогом в лицо, — к нему в помощь, в отворившуюся вдруг дверь, спешило еще множество ног… Всё.
Больше я ничего не помню. В больнице потом Тимофей досказал дальнейшее. Оказывается, Лев успел еще пнуть меня в лицо, а тут его скрутили участковый, работник ОБХСС из Белогорска, Тимоха. Работники милиции к нему пришли как к заявителю в тот момент, когда я сидел за столом у табельщицы, а он изнывал в нашей комнате от тревоги за меня и готовился уже пойти на выручку. Как раз успели. И за кощунство при перезахоронении Льву отдельно от других, его делишек наказание причитается.
Всех четверых арестовали. Приезжало из головного отряда предприятия много начальства, было бурное собрание. Бригадиром одни захотели Виноградова, другие — Тимофея Комарова. Назначили Комарова, потому что Виноградов сразу отказался в его пользу, немало рассмешив всех клятвенным обещанием работать с женой своей (она у него в звене) вдвое лучше прежнего, если его не поставят бригадиром.
«Мы рядышком работать обвыклись, и если не так — я уйду вон!» — пригрозила сама Виноградова.
А Люда, забрав свои вещи, уехала насовсем. Оказалось, к ней муж вернулся. Оставила мне письмо, но его пока не отдает мне Тимофей.
«Поправишься совсем — отдам, погорюешь еще, успеется, — отмахнулся он и посоветовал: — Ты лучше матери своей правду напиши, конспиратор!»
Пришлось. Я ведь сообщил, что из техникума направили в один глухой район помочь в строительстве животноводческого комплекса, работа наша затягивается, но я, как она меня, дескать, и учила, не пищу!..
Как-то сорвалось с языка:
— А ты, Тимофей, сам-то как теперь, твердо?
— Ну не подлец-человек?! До самой что ни есть болячки ему надо обязательно пальчиком дотронуться! Но ладно, все ж благодаря вам, пацанам, во мне произошла работа: муть отошла, что-то выровнялось, углубилось до самой отметки. Все. Забетонировано…
А дневник свой я продолжать, наверное, не буду. Главная причина — кончилась моя зеленая тетрадка, начинать какую-то другую не чувствую запала. Да и замучился я таиться от всех, уходя делать записи то на почту, то на станцию, то к прилавку магазина. Работа мысли беспрерывна, и ухватить обрывки — невелика заслуга поди. Вот мост — он есть, по нему можно пойти или поехать, вперед или назад, его можно погладить рукой по холодным шероховатым «быкам». Столько-то тонн грунта замешено крепким бетоном. Сколько же миллионов мыслей надо и испытаний, чтоб перестроить человека? Наверное, ошибочно мы оцениваем: кем он стал? А кем не стал, хотя мог стать, а опустил руки? Меня вот тоже дневник удерживал на некой отметке. Он, может, и отработал свое как настоящий строительный материал. А что? Говорил же мне когда-то Тимофей, что у строителей не бывает отходов. Хорошо бы!
Рассказы
Шаг к людям
I
На одной далекой от Владивостока электростанции случилась авария. К счастью, все обошлось без человеческих жертв. Это спасибо современной автоматизации, оставляющей все меньшему числу людей все меньшую степень непосредственного риска. Зато если уж происходит разладка самих автоматических систем, то малому числу людей бывает просто невозможно разобраться во всех последствиях — здесь тогда, как говорится, и сам черт ногу сломит.
Вот и теперь в главном ремонтном предприятии командировали к месту аварии всех, кто оказался под рукой: электриков, прибористов, электросварщиков, слесарей.
Шеф-инженер котельного цеха Ватагин только что вернулся из длительной командировки. Он наконец-то получил заветный ордер на квартиру и был полон ожидания радостных хлопот по устройству своей личной жизни, нарушенной уже больше года разрывом с женой, переходом на командировочную работу. А ему давно под сорок — довольно с него мятых рубашек и костюмов, обедов всухомятку, гостиниц с их инвентарным уютом, с бесцеремонными уборщицами по утрам.
Предложение новой командировки вместо отпуска Ватагина разозлило:
— А мои личные аварии кого-нибудь беспокоят? Нет. Отлично! Так дайте же самому разобраться, пока не поздно, черт подери!..
Больше всего Ватагина взвинчивало то, что отпуск «задробил» начальник цеха Землянский, институтский однокашник и бывший друг, в угоду собственной жене не порвавший до сих пор приятельские отношения с Нонной Потаповной Ватагиной.
— Успокойся, Паша, успокойся. Не надо так, — советовал Землянский. — Мы же пошли тебе навстречу в вопросе с квартирой, а, думаешь, это было так просто? Пойди навстречу и ты — надо! Ну что тебе отпуск сейчас? Ни то ни се, ни лето, ни осень, жарко еще бывает — теплое пиво, потные женщины — бр-брр! — пытался шутить Землянский. — Зато зимой!.. А хочешь, так я тебе хоть в Крым путевку достану к концу командировки? К тому ж нынче год со днем, как говорят, високосный — на все время хватит: и поработать еще и отдохнуть. Правильно я говорю? — миролюбиво улыбаясь, заглядывал в глаза Ватагину начальник цеха.
— Начальство всегда говорит правильно — это его драгоценное свойство! — серьезно сказал Ватагин, поняв для себя, что, видно, нешуточные дела там, на месте аварии, отвертеться на сей раз от командировки не удастся, да и не из тех он — если надо, так надо…
II
Работать приходилось без выходных и порой без обеда. Всех ремонтников распределили на три смены, придав в помощь местных слесарей. И авария была ликвидирована даже раньше всех осторожных прогнозов. Глаза боятся, а руки делают!
Еще раз как следует покрутившись в привычных делах, видя скорую пользу от своих стараний и опыта, Павел Захарович Ватагин уже засомневался, переходить ли в техотдел, как задумал по плану коренной перестройки своей жизни с получением квартиры.
По заведенному обычаю прописываться-выписываться в командировках, он дал прощальный ужин в местном ресторанчике для товарищей, обретенных здесь в колготных буднях. Поведал им свои сомнения насчет «канторской» работы. Но поддержки не нашел: как сговорились, все дружно принялись ругать свою беспокойную работу, какой они и врагам бы не пожелали, грозились тоже выбрать время и плюнуть на все, избавиться, переменить, устроиться, выбросить из квартир день и ночь звенящие телефоны…
Ничего они не переменят, не выбросят — они же не смогут жить иначе. И Ватагину понятна их неуклюжая хитрость, идущая больше от стеснительности перед громкими признаниями и от некоторого суеверия — чтоб «не сглазить» судьбу. Таковы, наверное, все профессионалы. Это дилетантам и новичкам ничего не стоит заявить: я люблю эту работу, я счастлив ею, я доволен. С той же легкостью завтра они могут заявить обратное.
Сдав номер придирчивой нелюбезной дежурной, оплатив счета, он не опешил тут же покинуть гостиницу: потоптался в фойе, покурил у окна перед запутанной геометрией веток уже полуголого, осеннего скверика. Человеку всегда жаль покидать место, где он пробыл хоть день, провел какую-то частичку своей жизни, пусть даже голое время сна. И чем старше ты, тем неохотнее и дальше расстаешься с каждым таким невозвратимым мгновением.
Возле летного поля местного аэродрома над жесткой и пыльной травой летали целые эскадрильи крапчатых осенних стрекоз, в остекленевшем холодеющем небе проплывали серебристые паутинки…
И все-таки согревало душу то, что по приезде он пойдет не в общежитие, а в собственную квартиру, пусть пока с единственной раскладушкой в ней да чемоданом, перенесенным из камеры хранения. У него будет все что нужно: диван и мягкие кресла, удобные светильники, книги, он сам научится готовить себе и вкусные борщи, и домашний плов, а сырники перед отъездом у него получились уже лучше, чем он употреблял некогда из рук Нонны Потаповны, вечно спешащей, бурчащей, упрекающей то за чрезмерный аппетит, то за отсутствие такового.
В кои годы возникшее нетерпеливое желание скорейшего возвращения домой приободряло его, возвышало в собственных глазах, и он даже стал выглядывать симпатичных женщин среди многоликого пассажирского собрания в залах ожидания аэропорта. В такое благовремение он не прочь бы и поговорить доверительно с какой-нибудь умницей, скрасив беседу бокалом хорошего вина. Только где уж тут! Ресторана нет, столовая закрыта на переучет, и оставалась единственная возможность в свою очередь перекусить на краешке мокрого одноногого мраморного столика в буфете.
От нечего делать Ватагин прочел, кажется, все рекламные плакаты, надписи, объявления. Удивился, что и отсюда можно поговорить по телефону-автомату с любым абонентом во Владивостоке. «О точном времени вылета или об отсрочке его вы можете заблаговременно предупредить своих родных и близких!» Такое чудо — телефон: будучи за тыщи верст, говорить друг другу на ухо все, что душа пожелает!
Однако после того как два человека однажды так много высказали в лицо друг другу, то вряд ли найдется теперь что-то негромкое, чтобы на ухо…
Ватагин вспомнил, каких усилий, правд и неправд стоила ему в свое время установка квартирного телефона, не служебного, трехзначного, а городского — этого сиреневого (под интерьер) чуда, звенящего, правда, чаще всего некстати и по пустякам. Действительно, позвонит жена из своей парикмахерской, чтоб зашел в детсад, в булочную; вечером начинает названивать Землянская или другие парикмахеры (на работе еще не все переговорили!). Он высмеивал жену за пустые разговоры по телефону, и сам, бывая тогда в редких и недлительных командировках, никогда не звонил домой.
«А что бы не позвонить сейчас? — подумалось ему. — Сказать о… ну вообще…» Не позвонил. И только поздним вечером, уже во Владивостокском аэропорту телефоны в нижнем зале просто остановили его, а правая рука сама нащупала в кармане двушку.
— Алле, квартира. Говорите.
— Мне бы Нонну Потаповну Ватагину, — сказал он, зная уже, что это она и есть.
— Говорите, я вся — внимание!
— Ах это ты?! Надо же, не узнал. Богатой будешь, однофамилица! Здравствуй.
— Кто же это? Ватагин?! Бог мой, каким это образом я удостоилась?
— Обыкновенным образом. Я прилетел из командировки, еще в порту, вдруг захотелось… Может, я не вовремя?
— Ну отчего же! Сейчас ты вне конкурса — жених с квартирой! Правда, у меня сейчас друзья, но, надеюсь, они простят мою отлучку, ведь это верные друзья, заметь…
«Землянские опять у тебя», — отметил Ватагин.
— Как сын, здоров?
— Нормально, он у соседей с их мальчишками, пока мы тут ужинаем… А ты как?
— Я нормально. Приятного аппетита, надеюсь, я не испортил?
— Ах, какие мы щепетильные! Кстати, ты почему на развод не подаешь? Платить тебе все равно придется, учти, не я зачинщица!
— Ладно, ладно! Заплачу. Некогда — все в разъездах, в разъездах…
— Скажи лучше, что ты в бегах! Мужчина, называется! Убежать, уехать, скрыться, отмолчаться… Вот голову ломаю: что сегодня-то позвонил? Водочки принял поди для храбрости? Пей, впрочем, не мое теперь это дело…
«Ну вот, сколько неудовольствий отвесили тебе на две копейки! — усмехнулся Ватагин. — Не на ухо, а по уху! Черт дернул потревожить это «чудо».
Он еще посидел немного в зале ожидания, потом поужинал в ресторане и уже за полночь подходил к своему новому дому, который не казался теперь почему-то таким уж надежным убежищем от былого перед будущим. Однако и этому простому пути не суждено было обычно окончиться — таков выпал день!
От темной холобудки автобусной остановки отделилось вдруг несколько худощавых фигурок, и ломкий юношеский басок требовательно произнес:
— А ну, дядя, выдай-ка нам закурить!
— Нынче год защиты ребенка, и я не желал бы отравлять вас, ребята, — начал он беспечно, во его оборвали:
— Неправильно себя ведете с детьми, папаша. Их желания — закон, вынь да положь!
— Я бы охотно конфет вам дал, но нет с собой, вот какие дела…
— Сердишь ты нас, мужик, придется маленько наказать. Даю пас!!
Он и сообразить ничего не успел, как его сильно толкнули сзади, спереди, сбили с ног и стали пинать со всех четырех сторон, нанося удары с веселыми возгласами и с возрастающим азартом. Неизвестно, чем бы все дело кончилось, но тут внезапно раздался автомобильный сигнал, блеснул яркий луч света, заскрипели тормоза.
«Атас!» — выкрикнуло разом несколько голосов, нападавшие оставили Ватагина, и только дробный топот ног сыпанул в разные стороны!
Он с трудом сел, сплюнул солоноватую вязкую слюну, обалдело потряс головой. Тут же по всему телу прошлась боль — он осторожно ощупал голову: за ухом к затылку волосы слиплись, но в основном, кажется, с головой было в порядке… Кто это избавил его от худшего?
Метрах в семи стоял «Запорожец», дверца распахнута, а водитель впопыхах никак не мог выбраться из кабины. И движения человека были странными: руками он как бы выставлял свои ноги на дорогу, потом, опираясь на трость, грузно приседая как-то при каждом шаге, двинулся, наконец, к Ватагину.
— Что тут у вас приключилось? — с тяжелой одышкой спросил он. — Сами подниметесь?
— Попробую, — рывком вскочил Ватагин на свои противно дрожащие ноги. Боль в боку, в спине, в груди пронзила так, будто все части тела напрочь отторгались.
«Ничего, что болит, то живо!» — через силу усмехнулся он и ответил на первый вопрос к себе:
— Разговор с молодежью у меня тут не получился: я не дал им папирос, так мне дали прикурить со всем своим удовольствием!
— Вот поганцы! Смотрите: у них уж и драться руками не принято — пинают! — возмутился незнакомец. — У вас кровь, пойдемте в машину — там есть аптечка.
Потоптавшись на месте и неуклюже развернувшись к машине, он пошел первым, и Павел Захарович Ватагин вблизи услышал характерный, с воздушным посапыванием кожаный скрип протеза.
«Так он без ноги! — догадался он. — Отчаянный дядечка!»
А тот, усевшись на свое водительское место, зажег свет в салоне, осмотрел лицо Ватагина и сочувственно покачал головой:
— Эх, как они вас взаправду! Может, в больницу отвезти?
Ватагин тоже разглядел себя в зеркальце: ссадины, распухший нос…
— Ничего, обойдется, до свадьбы заживет, как говорится! Только тут, за ухом, кожу поди снесли — саднит. Промыть бы холодной водичкой…
— Тогда поедем ко мне — тут рядышком, — решил заступник Павла Захаровича и тронул машину.
— Удобно ли ночью людей беспокоить?
— А некого беспокоить, я один теперь во всей квартире — соседку только что отвез в аэропорт — в отпуск полетела. А меня — Захаром Ивановичем зовите.
— Большое спасибо, Захар Иванович, что выручили!
— Не стоит благодарности — шаг к людям не тяжел.
— Но у вас что-то с ногой, я заметил? Извините за такой вопрос, я не из праздного любопытства…
— С ногой? — удивленно переспросил Захар Иванович, глянув себе под ноги, потом как-то застенчиво улыбнулся — Ну да, вы же не знаете… Нет у меня ног-то — одна бутафория!
— Обеих?! — непроизвольно вырвалось у Ватагина. — Это как же?
— Да вот так. Война. Мина накрыла в сорок втором. С восемнадцати лет на подставных. Правда, теперь становится так же трудно, как и в молодости, когда привыкал к протезам, — неуклюжесть, устаю быстро, культю до крови натираю, бывает… Старость она и крепкую привычку расстроит.
III
Захар Иванович занимал самую маленькую комнатенку в трехкомнатной квартире. Стояла металлическая кровать, застеленная зеленым байковым одеялом, старый книжный шкаф, холодильник «Кузбасс»; на столе у кровати чего только нет: кипа газет, журналов, солонка, вода в графине, аптечные пузырьки, таблетки, круглое зеркальце на подставке, электробритва, шахматные часы, а шахматы на доске расставлены в боевой позиции. На вбитых прямо в стену гвоздях висят плащ, пальто, костюм. На стуле горкой белье, полотенца. Еще один стул был занят все теми же газетами и журналами.
— Совсем просто живете, — не унимался Ватагин, подобную скромность в убранстве жилья ему давно не приходилось видеть, ведь и в гостиницах теперь полированная мебель, ковровые дорожки, радиолы и телефоны.
— Необходимое у меня есть, а ненужное зачем же? Займитесь-ка собой поскорей — вон полотенце чистое берите, только из прачечной, ванная прямо, аптечку из машины я с собой прихватил…
— А что, машина так и будет у подъезда ночевать, не рискованно? Лучше бы в гараж, я полагаю, он у вас где-то недалеко?
— Нигде его у меня нет, — отмахнулся Захар Иванович. — Пусть стоит, ничего. Так даже мобильней: вышел, сел и поехал. Не без того, конечно, мальчишки бензин, бывает, сольют для своих мопедов, кто-то колесо попортит… Лишь однажды угнали, да и то бросили в соседнем городке — видать, доехать домой не на чем было. А так ничего, стоит…
— Все равно это не дело, машина для вас — ноги, в райсовете должны бы посодействовать с гаражом. Наверное, вы не обращаетесь?
— Обратился как-то, да потом гипертония, раз да другой — не до того!
Когда Ватагин закончил обрабатывать свои раны и ссадины, время перевалило за два ночи. А он все медлил уходить, испытывая такое чувство, будто предстояло оставить здесь человека, нуждающегося в срочной помощи, вот только конкретный характер ее он пока не может определить…
Захар Иванович сам вдруг выручил:
— Время позднее, оставайтесь-ка вы у меня до утра во избежание новых недоразумений, если, конечно, дома не переполошите близких своим отсутствием.
— Остаюсь! — с облегчением согласился Ватагин. — Дом у меня будто и не дом — жилплощадь под замком, а сам я только из аэропорта, возвратился из командировки.
— Вот беда: угостить ужином не могу, потому что ничего съестного в доме не держу, целиком на столовском довольствии. Может, чаю согреть?
— Я сыт, в порту плотно заправился, так что ради меня не надо беспокоиться.
— Тогда готовьте себе постель: раскладушка стоит в чулане, матрас я покажу…
Голова у Ватагина гудела, тело ныло-стонало, и он долго ворочался, в постели, пока нашел терпимое положение. Слышал, как Захар Иванович в темноте справлялся с застежками протезов, как отставил их с легким стуком за спинку кровати, потом ощупью искал по столу какие-то лекарства, пил их, лег и так устало и безысходно вздохнул, будто вовсе не ждал никакого облегчения от предстоящей ночи.
— Нездоровится, Захар Иванович, лекарства пьете?
— Да так, обычно. Вы-то как, может, зря я послушал вас и не свез в больницу, ведь без медицинской помощи и заживает дольше — буду вот теперь переживать!
— Да что вы, заживет как на собаке, да и время нынче невпроворот — високосный год, год со днем!
— Да-а, високосный… Небывалая солнечная активность, и для нас, гипертоников, — тяжелые времена. Вот ведь как мы задействованы в солнечной системе — не отвертишься, вместе нужно переживать ее неблагоприятные циклы!
— Захар Иванович, но у вас же нет телефона?! А если в аптеку или врача вызвать? Вам же в первую очередь поставить обязаны!
— Поставят, не пришел черед, ведь я не один.
— Лучше пересчитать тех, кому телефон совершенно без надобности, но у кого он есть! — выпалил Ватагин и покраснел, вспомнив телефон в квартире бывшей жены и то ловкачество, с каким он его установил. — Не спите еще, Захар Иванович? У меня что-то и сон пропал…
— Да я частенько полуночничаю то над книгой, то над партией в заочном шахматном турнире. Играю. С уходом на пенсию время в сутках не убавилось, а дел — увы…
— Так вы еще и работали?
— А как же, преподавал историю в школе. Тридцать лет учительствовал. История — совершенно необходимая людям наука, абсолютно точная!
— Точная?! Но там все былое, свершившееся — ни убавить, ни прибавить.
— Потому и точная. Не историку это необычно, конечно. А еще так говорят: как судьба положит, такова и жизнь человека. Нет. Наша судьба — история, в ней все наши судьбы связаны, сцеплены: ваша — за мою, моя — за вашу… А на фронте — подавно, что там!
— А война? Как думаете, Захар Иванович, возможна ядерная война в наше время?
— Древние говорили: когда забывают прошедшую войну, тогда начинается новая. Мы все помним — в этом наша сила, это и противников наших удерживает. Умнеет весь мир, само время за нас — кто удержит время? История точно предсказала уже, что будет с теми, кто посмеет…
IV
Ватагину снится война. Ночь, красная от зарева пожарищ в соседнем селе. Гул, гром, грохот. Плач детей, невидимых в призрачной торопливой колонне беженцев, шепот взрослых, оглядывающихся назад, — шаги, шаги по холодной осенней пыли поселка.
И вот уже его бьют и топчут враги, бьют и топчут, а он ничего не может сделать, только кричит: «Па-а-па!!» Он его зовет, потому что знает, что отец давно уже на этой войне, значит, ан где-то рядом, его надо только позвать!
— Тяжело опали, беспокойно, — сказал ему утром Захар Иванович, — вскакивали, стонали, метались, кого-то звали всё.
— Воевал, — с трудом разлепил он распухшие губы. — Воевал и вот что, оказывается, навоевал! — ужаснулся он своему отражению в зеркале.
Завтракать они пошли в столовую, куда всегда ходит Захар Иванович. За дорогу раза четыре останавливались из-за его усталости, но и сам Ватагин, кажется, нуждался сейчас в отдыхе не меньше.
«И так три раза каждый день?!» — сочувственно представлял он себе нелегкую дорогу Захара Ивановича к столовой.
— Что же не на машине, ведь легче?
— Ходить надо, что легче, то не лучше. А вдруг машина сломается? Ходить надо.
У раздаточного прилавка в столовой было много народу, и Ватагин простоял в очереди добрые сорок минут. Он усадил Захара Ивановича на свободное место за столиком, но видел, что тот давно уж поднялся, уступив место завтракающим.
— И вы всегда стоите в очереди? — спросил Ватагин.
— Как все, а чего тут?!
— Вы потакаете равнодушию, вот что, уж извините меня, Захар Иванович. Так дело не пойдет! — поднялся он из-за стола, отставив свой чай. — Посидите, я сейчас…
— Павел Захарович, но мне решительно не нравится, как вы ставите эти вопросы! Неужто вам охота со мной повздорить?!
— С вами? Ни за что! А вот кое с кем… Я быстро, не волнуйтесь.
Завстоловой, женщина лет тридцати, симпатичная, при первых же словах Ватагина о пустующей половине обеденного зала — там вечерний ресторан, об очереди к месту за столом одернула свой шикарный халатик, и полные щеки ее готовы были лопнуть, зардевшись от административного негодования:
— Гражданин! Это служебное помещение, выйдите вон и проспитесь сначала, а потом приходите с претензиями! Много вас, указчиков! Официанток ему подавай! Самообслуживание у нас.
Ватагин улыбнулся, сел напротив заведующей за стол, подвинул к себе телефон, смахнул с него невидимые пылинки, укоризненно вздохнул:
— Как нелюбезно встречаете тех, кого, можно сказать, собственноручно вспоили и вскормили! Вы коммунист?
— Да-а, — растерялась заведующая и села на свое место.
— Вот и хорошо, значит, мы договоримся, тем более, кажется, мы с вами люди почти одного поколения…
— Извините, Павел Захарович, я на вас так накричала! — опять покраснела заведующая.
— Да пустяки, Ольга Николаевна, я ведь понимаю: лицо разукрашено как у рядового дебошира. Кстати, могло быть и хуже, если бы не спас меня вчера все тот же Захар Иванович, фронтовик, которому мы вот, в свою очередь, не можем помочь в разных малостях, ничего нам не стоящих.
— Знаете, я примечала его, но все как-то… Пойдемте хоть познакомите меня.
Но Захара Ивановича в столовой уже не было, не видно было его и на дороге от столовой.
«Обиделся все же на меня, гордый человек!» — подумал с теплотой Ватагин и решил, что не пойдет сейчас же разубеждать или убеждать бывшего фронтовика, — прежде всего надо делать то, что сделать нужно было давно не ему, Ватагину, так кому-то другому…
При оформлении отпуска он рассказал Землянскому о своем знакомстве с инвалидом войны, больным и одиноким человеком, начальник тут же пригласил парторга и комсорга — решили, что металлический разборный гараж можно соорудить тут же на предприятии из отходов металла на комсомольском субботнике.
Потом Ватагин пошел к главному инженеру городской телефонной сети. Оказалось, что монтерский участок уже запланировал установку телефона Захару Ивановичу, но задержка была из-за отсутствия телефонных аппаратов.
Инженер, рассердясь, видно, что при постороннем гражданине выявляются такие мелкие неувязки, тут же устроил «разгон», приказал срочно получить нужный аппарат, в течение двух часов его установить и доложить.
Подождав день-другой, пока подживут самые заметные на лице ссадины, Ватагин купил небольшой торт, фрукты и решил пойти к Захару Ивановичу отметить начало своего отпуска. От путевки на курорт он отказался, решив тоже помочь комсомольцам в строительстве гаража. А потом еще ему пришла в голову мысль, что они бы смогли с Захаром Ивановичем куда-то поехать по краю, на его автомашине, — пусть ненадолго и недалеко, с золотой приморской осенью и неделю побыть наедине — мечта!
Прежде чем идти, ан решил позвонить Захару Ивановичу по номеру, взятому у монтеров в присутствии главного инженера, — никто не ответил. Тогда по пути он заглянул в столовую, полагая, что застанет Захара Ивановича там — было как раз обеденное время. Зашел он очень кстати — Ольга Николаевна встретила его тревожной вестью:
— В больницу на «скорой» отвезли Захара Ивановича! Еще вчера наши девушки понесли ему ужин и нашли в таком состоянии… Я сегодня ездила в больницу, но меня не пустили в палату, только попросили привезти смену белья, электробритву, носовые платки. Вот дали ключ от квартиры. Вы знаете, наверное, что где лежит там? В магазине бы все купила, да размера не знаю…
«Лучше б эти дни я с ним побыл!» — укорил себя Ватагин, и ему начало казаться, что и заболел Захар Иванович из-за него, может, расстроился в то утро, как он пошел жаловаться к заведующей.
Под окном стоял «Запорожец», в квартире ничего почти не изменилось с уходом отсюда Ватагина, только пахло какими-то лекарствами да на столе стоял уже вишневый телефонный аппарат.
— Бедненький, как тяжело ему одному здесь! — всхлипнула вдруг Ольга Николаевна. — Дедушка у меня тяжело умирал от фронтовых ран…
Ватагин взял в квартире только электробритву, все остальное было решено кутить.
— А что же с машиной?
— Не знаю, спрошу у самого Захара Ивановича. Да и не вечна же болезнь, этот человек и не такое вынес!
— А возраст! — напомнила Ольга Николаевна. — Да и врачи в больнице меня просто напугали: кто вы ему, не возьмете ли на себя скорбные обязанности в случае чего, ведь человек совсем одинок на свете…
— Да что такое на самом-то деле?! Не успел человек заболеть, как его уже хоронят! Я верю в хорошее — и все, мы с ним еще туристами, понимаете! А то застращали.
Но врачи не стращали — они говорили то, что вполне знали: еще недавно они боролись с его болезнью, используя всевозможные методы и лекарства, но этот новый приступ не дал организму окрепнуть, собраться с силами, ослабить пресыщенность лекарственными препаратами — их применение теперь не давало желаемого эффекта.
V
Захар Иванович лежал в отдельной палате. Он был бледен до синевы, многочисленные прожилки выступили на коже, оброс он жесткой седой щетиной.
— Не ждал вас, Павел, скучал, признаюсь, и рад… Это все вы, конечно, — телефон, обеды из столовой? Мне неудобно было, право слово! Правда, телефон очень пригодился, если бы не было, то и не знаю…
— Ладно, ладно, Захар Иванович, всякие разговоры в сторону, я вас сейчас побрею. Все обойдется, а выглядеть надо молодцом! Вы столько перенесли, так хорошо прожили, ничего…
— Эх, бывает, Павел, что вся прожитая жизнь со всеми ее счастливыми днями не радует человека так, как радует один еще непрожитый денек впереди!
Чтоб скрыть свое волнение, Ватагин стал готовиться к бритью. Шнура от электробритвы, оказалось, не хватало от розетки до кровати. Захар Иванович сел на кровати, и весь он, такой широкоплечий, с крупной шевелюристой седой толовой, казался выросшим прямо из постели, потому что простыня не обнаруживала никакого продолжения тела — это было как-то неправдоподобно и жутковато…
— Ну что ж, мне придется посадить вас на стул поближе к окну, раз не хватает шнура, — сказал ан Захару Ивановичу. — Возьмите меня за шею.
Чтоб не стеснять больного, он повязал на шее простыню, почти всего до пола укрыв его. Брил тщательно, но быстро, потому что чувствовал по учащенному дыханию Захара Ивановича, что сидеть ему тяжело. И на виске его часто-часто пульсировала синяя жилка, и белки глаз были красны от выступивших воспаленных сосудов.
Когда он вышел к Ольге Николаевне за едой для больного, она бросилась с расспросами:
— Ну как он себя чувствует, ему лучше?
— Лучше немного… Я немножко еще побуду с ним, а может, и вы?
— Нет, я там обязательно разревусь и расстрою человека, — отказалась она, уже и сейчас готовая к слезам. — Я подожду вас, Павел. Скажите, пусть заказывает что хочется, мы все сделаем! Привет от меня передайте.
— За привет спасибо, — сказал Захар Иванович, — а продуктов никаких не носите — я решительно отказываюсь, мне больничного хватает с избытком! Да и легче мне как-то сделалось. Хорошо, когда не один! Лишь для себя и жить бы давно не стоило… У меня просьба к вам, Павел: в кармане плаща в моей комнате лежат ключи от машины — сведите ее на городскую стоянку, а деньги в тужурке с орденскими колодками. Сто рублей от последней пенсии. Я даже в Москву не успел отправить, двадцать рублей. Отошлите, воли не затруднит… Запишите адрес: Москва, Фонд мира, счет…
Он говорил, уже тяжело управляя языком, потом сам же попросил позвать врача — болезнь, видно, подступила опять.
Захар Иванович умер той же ночью. В столовую к Ольге Ватагин пришел совсем потерянный, еле сдерживаясь от слез.
Гражданская панихида прошла в фойе школы, где Захар Иванович проучительствовал тридцать лет. Для сопровождения гроба был выделен отряд пионеров. Школа дала в газету некролог. Поминальный обед был в столовой. Для пионеров отдельно накрыли столы со сладостями и напитками. Старые учителя вспоминали все о Захаре Ивановиче, а Ватагин всей душой впитывал каждое слово о нем, будто нужно было ему хорошенько запомнить, чтоб передать в точности кому-то более родному для бывшего фронтовика, кто непременно объявится, найдется, погорюет сильнее и безутешнее.
Потом он сдал в горсобес автомобиль, пенсионное удостоверение, отнес в райком партбилет. В школу забрали боевые награды и фотографии, решив основать музей боевой славы.
Подоспевшая из отпуска соседка забрала холодильник, шкаф с книгами по истории и философии, сказав, что все это Захар Иванович обещал ей за уход, за уборку в квартире. Она вообще забрала ключи от квартиры, надеясь расширить свою жилплощадь.
Павел Захарович Ватагин оставил себе на память одну из последних фотографий Захара Ивановича да собрал все открытки с записями очередных ходов партнеров по заочному шахматному турниру. Не один вечер потом он отвечал корреспондентам Захара Ивановича из Хабаровска, Киева, Одессы, Москвы, из многих других городов. За каждой открыткой виделись почему-то тоже одинокие старики, инвалиды войны — он очень тщательно подбирал слова, чтоб не причинить никому ненужной боли.
(Все последующие дни он не находил себе места. Завтракал и обедал только в столовой у Ольги. Еще до зимы они несколько раз вдвоем ездили на кладбище, посадили елочку, взятую в пришкольном питомнике, поправили могилку.
Жизнь продолжалась по воле характеров и судеб, исторически сцепленных одна с другой, как говорил Захар Иванович. Они теперь это видели ясно, близко, потому что внезапно осиротевшие, будто пододвинулись, сделали шаг к людям, ну и, конечно, друг к другу.
Обеспечивающий безопасность
После рыбацкой путины Валентин Тарасов привыкал к земле. Она, казалось, зыбится у него под ногами, и он припечатывал шаги всей тяжестью тела, будто преодолевал подъемное движение палубы. Чтобы пересечь дорогу, пристраивался к другим пешеходам, близкий звонок трамвая ввергал его прямо-таки в паническую растерянность. Яркоцветный летний поток людей навстречу воспринимался празднично, но безлично, как череда блескучих на солнце волн. Он никого не смог бы узнать сейчас, но его, однако, узнавали: в ГУМе вот невесть с какой стороны вдруг вывернулся однокашник по мореходке Костя Серков, обхватил за плечи:
— А-а! Попался мне наконец, Валей. Вот тебя-то я и ищу!
— Стоп-стоп, не трещи над ухом, оглушил совсем! Чудило, да как же ты мог меня искать, если не знаешь, что я всего второй день как из морей?
— Знаю-знаю, я только от твоей матери. Слушай, а чего это ты в женскую очередь к парфюмерии затесался? Подарочек зазнобе? Я ее знаю?
— Не фантазируй, не напрягайся, — улыбнулся Валентин. — Просто мне тут нужно купить зубную пасту. На два дома живем, сам знаешь…
— Да, зубную пасту, и только?! Тогда купи вот эту! — сунул Серков в руки Валентина ярко разрисованный тюбик.
— Узнаю молодца за обычай! — рассмеялся тот. — Если что заиметь, то только самое красивое!
На улице хорошенько рассмотрев свою покупку, он увидел, что это мятная паста, а он такую не любил.
— Дарю! — сунул тюбик в карман Серкову. — Сам выбрал, сам и пользуйся. Теперь в гастроном? Только сразу предупреждаю: бутылок с красивыми наклейками, тем более заграничных вин, не предлагать — знаю тебя! Горькое, да свое.
— Ну и зря, между прочим, — не согласился Серков. — Красивое внешнее оформление сразу и тонус нужный придаст, это ведь у нас только так: наперекосяк ляпнут зеленую наклейку да еще застращают надписью, что «минздрав предупреждает…» Брр!
— Правда — лучшая из реклам! — смеется Валентин Тарасов. — А что ты хочешь? Еще бы и чертей нарисовать, какие могут причудиться после. А ты тут, случайно, не пристрастился?
— Случайно нет. Как все, принимаю ее, мамочку, когда житуха тещей вдруг обернется.
— А что, с тещей отношения плохи?
— Ну ты совсем как моя Томка, до слов липучий! Лады у меня с тещей, лады. Просто говорят так люди, слышал, вот и перенял — красиво! Но не о том речь. У меня к тебе дело, собственно, Валентин: айда со мной в море на завтра за трепангами? Времени у тебя, надеюсь, не занимать теперь, а я отгул взял. Понимаешь, как услышал по радио о приходе твоего плавзавода, так сразу и скумекал: вот кто мне поможет! Ты не позабыл еще наши походы к мысу Виноградному?
Как забудешь! Он был у Кости «обеспечивающим безопасность», страхующим, как положено правилами спортивной подводной охоты. И еще потому, что сам нырять с маской так и не научился. Нырять он нырял, вернее, да глаза его почему-то намертво сразу же зажмуривались. Все знают, как ныряют малыши: растопыренными пальцами они зажимают нос и уши, чтоб вода не попала. У него таким же образом зажимались и глаза. Так ни разу и не увидел красот подводного мира, которые, по словам Кости, — сказка! Не дано так не дано, он особенно и не переживает, по его мнению, как раз сказки и не должна бы касаться известная поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Правда, что касается моря, тут все равно сказка: хоть смотри, хоть не смотри на него, а слов не наберешь сказать о нем все.
Бывало, Костина жена Тамара допытывалась:
— Белое море белым названо из-за льдов, желтое — из-за наносов лёсса, Красное — за цветенье водорослей. А Тихий океан какую особенность имеет, какой цвет в нем преобладает?
— Он цвета морской волны, — отвечал Валентин, беспомощно разводя руками.
— Понимаю: ты шутишь, — кивала головой Тамара и приступала опять: — Но если серьезно, чем отличается?
— Вообще океан — всемирное море. Тихий океан — он белый зимой, синий весной, изумрудный под солнцем, золотой под луной, как багульник на закате, в непогоду черный, как бездна, как ад, преисподняя, тартарары!
— Стихия? — уточнила Тамара.
— Стихия. Одна из четырех. Древние их так считали: земля, вода, воздух и огонь. Сами по себе нам неподвластные.
— Это очень печально. Печально, что не научившись еще по-настоящему отличать холм от холма, речку от речки, море от моря; не умея управлять своим голубым космическим кораблем Земля, мы уже посильны его уничтожить! — подытожила тогда Тамара, и от такого ее неожиданного итога действительно появилась на сердце большая тревога и печаль.
Родители Кости живут в пригороде, на берегу Уссурийского залива. Во время отпуска они брали лодку и уходили к мысу Виноградному, где была уютная бухточка с песчаным берегом, а за каменистой грядой перед ней облюбовали поля морские гребешки и трепанги. Валентин с Костей сами разузнали некоторые таинства приготовления настоящей скоблянки. Домашние Кости всегда открещивались от такого деликатеса (говорили, лишь отец мог бы составить им в этом компанию, но его дома не было — уехал в трехгодичную, командировку в одну из социалистических стран, он был инженер-энергетик), и ребятам все приходилось делать самим. А дел с трепангами хватало: только отваривать их следовало в трех разных водах и не менее как по двадцать минут в каждой. В обязанности Валентина входила чистка и первый отвар трепангов прямо на берегу после лова, чтоб дома было меньше хлопот.
Захваченные процессом охоты и сохранности добычи, они тогда, конечно же, мало внимания обращали на поэтические красоты окружающего мира. Зато во время путины Валентин Тарасов не однажды переживал те вечерние минуты на берегу моря.
Подергиваются белесым пеплом угли костра. Костя уже спит в палатке. И море, вздыхая на неудобства, устраивается-ворочается среди камней, шуршит мертвым ракушечником на берегу. А звезды в небе мерцают искорками далеких неведомых жизней. Огоньки поселка на противоположном берегу смешиваются со звездами, кажутся обжитой окраиной вселенной. Зажмуришься — все миры соединяются в один большущий город, который и обойти-то весь жизни не хватит, но чтоб полюбить и не разлюбить, достаточно знать эту приземленную окраину, где рожден твой друг, где живет Мария Филипповна, на твою мать похожая женщина, где есть ни на одну другую не похожая девушка, Костина сестра Лариса… Знать, не зря и теперь сердце екнуло от воспоминания ее имени, надеясь ли еще на что-то или сожалея о былой несмелости? Быстро летит время! Быстро, хоть в море иногда казалось, что оно толчется на одном месте, никуда не деваясь, как волны в море.
— Ты что, Валей, замечтался? — тормошил Костя. — Отвечай: ты поддерживаешь мне компанию или нет? Если честно, то больше ни с кем Томка меня не отпустит.
— Проштрафился?
— Да так, но мелочам… — отмахнулся Серков. — Ты сам ведь знаешь, какая она может быть нудная! Не торопись жениться, друг, от горького своего опыта тебе советую, желанием свадьбы горят лишь юнцы да старики. Первые — чтоб открыть счет победам, вторые — чтоб закрыть этот счет достойно по соображениям престижа.
— О! Циником стал, Серков?
— А ты все зажмуренный бродишь, в розовых туманах?
— Да не надо! Неужели не противно двурушничать так вот? Ведь при Тамаре ты такого никогда не скажешь.
— Ясное дело! Зачем лишний раз ее драконить? Пусть спокойненько думает себе то, что думает.
— Пожалел? Гадкая это жалость-то, не находишь?
— Не нахожу. Ведь она любит меня — чего же мне ее любовью, пренебрегать, многие ли нас любят на этом свете?
— Смотрите! — удивился Валентин. — Такие афоризмы выдаешь! Время даром не теряешь, смотрю!
— Жизнь научит, — скромно сказал Серков и вернулся к первому разговору: — Так идем к Томке отпрашиваться? Скажи ей, что, мол, захотелось, соскучился, развеяться надо, привыкнуть к земному… Лишь бы только следом не увязалась, а то мы, честно сказать, давненько у моих предков не были.
— Там, дома, все живы-здоровы? — спросил Валентин, больше всего сейчас желая услышать что-нибудь о Ларисе.
— Все, — коротко ответил Костя.
— Отец приехал?
— Нет, он в декабре вернется, пишет.
«Все-таки здорово переменился за прошедший год наш Серков, — подумал Валентин о товарище. — Томкой жену зовет, а давно ли Томочкой и Томиком называл? Эти «усталые» суждения о жизни… Несется время, навылет несется сквозь нас, что-то унося и оставляя в душе. Чтоб узнать, изменился ли ты, надо, увидеть, что изменились другие. А как изменилась Лариса?»
Это было чудо, как он увидел ее впервые. Той зимой он приехал из училища навестить больного Костю (прислал письмо, что простудился). Шел с электрички. Утро было тихое, морозное на восходе солнца. Опушенные инеем деревья стояли как в цвету. Искристо горела прошлогодняя трава, торчащая из снега ломкими былинками и перепутанными петельками. Издали четко был слышен вторящий его шагам резкий подрезной скрип сапожек шедшей навстречу девушки. После привычного уже городского многозвучья деревенскому парнишке одинокие встречные шаги прозвучали вдруг каким-то зимним откровением, напомнили о доме, о еще близком, но невозвратимом уже детстве. Он слушал, думал о своем. А кто там прохожий — неважно-мало ли их всюду! Но за несколько шагов до встречи с девушкой в воздухе вдруг произошло какое-то неуловимое движение, он вспыхнул, засиял, будто пронзенный мириадами мелких серебряных игл, — это взошло солнце, и ветерок сдул иней с веток. Девушка шла, и все вокруг нее искрилось, горело. Она уходила и уносила с собой это сияние…
Когда потом, вечером, он за руку знакомился с Ларисой в доме Кости, опять ему примерещилось то сказочное сияние вокруг девушки. При каждой новой встрече с нею потом у него так и не пропадало ожидание повторения чуда.
Тамара Серкова очень обрадовалась приходу Валентина, принялась разглядывать его с восклицаниями:
— Не пойму, ты что, совсем другой стал? Возмужал, да?
— Постарел, — смущенно улыбнулся он, внутренне подготавливая себя к необычной манере Тамары устанавливать ясность своих предположений с помощью собеседника.
— Постарел? Нет, это я постарела, — вздохнула она и сделала рукой такое движение, будто отогнала от лица что-то ей лишь видимое, назойливое. — Ведь правда я стала совсем скучная старуха?
— Неправда, — твердо ответил он, — ты осталась такая, как и была.
Когда-то ему даже страшной представлялась разительная красота Тамары, идеальная до неправдоподобности, когда восхищенных глаз невозможно отвести, а тебе неудобно, стыдно за это, будто поступаешь неприлично, жадно. Конечно, для него она и теперь такая же, но ведь и смотрел он на нее по-прежнему украдкой, робел, если встречался взглядом с ее глазами.
— Тебя встречали, наверное, вот было радости, да? — продолжала Тамара. — Сколько ж тебя не было?
— Семь месяцев.
— Семь месяцев! — воскликнул Костя. — Семь месяцев! А тут на семь минут только из дома отлучишься, как тебя уже упрекают! Вот брошу свой паром (после училища он сразу женился и стал работать в портофлоте помощником механика) и уйду на настоящее судно!
— Ну, что я говорю! — воскликнула теперь Тамара. — Видишь, Валя, он теперь ждет не дождется, чтоб убежать от меня подальше! Ах, мужчины, мужчины! Как скоро вы из рыцарей превращаетесь в царей, делаете что хотите…
— Поплачься, поплачься! — поморщился Костя. — Что ни день — одна у тебя молитва.
— Одна, а зачем мне больше?! Я же всегда за нас с тобой молюсь, за наше согласие — мне большего и не надо! Вот ты все о себе да о себе — от жадности это, думаю, от узости интересов в жизни.
— Ах, брось, пожалуйста! Кому это интересно? Завела пластинку. Давай-ка лучше водки на стол, без нее, видно, нам не разобраться сегодня. Водки. А вино, что Валентин купил, я в баре поставлю до лучших времен.
Понемногу осматриваясь в квартире, Валентин сразу приметил выставленные за стеклом секретера разновеликие винные бутылки с красочными этикетками, удивился их обилию и тому, что в общем скромном убранстве комнаты, кажется, ничего больше не прибавилось за это время, пока он не был: те же полумягкие стулья с выпадающими сиденьями, если стул резко двинуть или наклонить, небольшой простенький ковер — подарок Тамаре ко дню свадьбы от заводской комсомолии, радиола, продавленный уже диван со сморщившейся матерчатой обивкой, на стене все та же полиграфическая копия «Неизвестной» Крамского — это первое приобретение в доме самого Кости.
Хоть разговор за столом свернул на нейтральные темы и даже сопровождался общим смехом при отдельных воспоминаниях о недавних днях беззаботного студенчества, у гостя никак не проходило гнетущее чувство неблагополучия. За разговорами пряталось откровение, было такое впечатление, что, на время замирившись, супруги отбывали «контрольную» вахту. Это было не по правилам, потому что если уж говорить, то надо до чего-то договариваться, а если не договариваться, то зачем и говорить?!
Тамара не возражала против предстоящей охоты Валентина с Костей. Обрадованный Костя тут же принес снаряжение, стал осматривать его, собирать в рюкзак.
— А у вас ведь одна маска! — заметила Тамара.
— А Валею не надо, ведь он нырять не умеет! — засмеялся Костя.
— Как это не умеет?!
— Обыкновенно! Боится, что ли, зажмуривается так, что веки и ножом поди не расцепить, как створки раковины гребешка морского! Так что обеспечивает мою безопасность.
— Вот даже как?! Но ты-то, Костик, у нас нигде не зажмуришься, не отвернешься — во все глаза живешь, смотри да смотри за тобой!
— Опять, да? Ну хоть бы повод какой-нибудь был, черт подери!
— Повод? Эка невидаль! Я, между прочим, некоторым образом инженер по технике безопасности на заводе и знаю такой постулат: то, что может случиться, рано или поздно случится непременно…
Приехали они поздней электричкой. Мария Филипповна не знала, куда усадить гостей.
— А Лару, значит, не видели? — переспрашивала она Костю. — Забегалась поди по своим институтским делам и забыла о моем наказе навестить вас, прознать, не случилось ли чего, раз так долго не заявляетесь. Слава богу, что он услышал-таки мою молитву!
— И здесь молитва! — усмехнулся Костя. — Да при чем твой бог, маманя, это Вальке вон спасибо скажи, что помог мне выбраться, а без него меня Томка бы и не отпустила. Скоро и по нужде не спросясь не выйдешь! Уйду вот на рыбалку, чтоб сразу месяцев на десять, на год — получу потом одной кучкой тыщи три — и мама не журись! Чем плохо?
— Глаза разбежались! — покачала головой Мария Филипповна. — Не зарься на многое, сынок, лучше то сберегай, что есть. Ты один приехал, она одна без тебя как-то тоже… Есть же у вас общие выходные? А то внучека бы привезли — осень на носу, а дитя ни клубнички вдосталь не попробовало, ни малины опять же!
— Да мы покупаем!
— Ага, теперь все богатеями стали, можно спину не нагибать за ягодкой, с прилавка взять: уже и помытую, так? — выговаривала Мария Филипповна, занимаясь приготовлением ужина.
А тут и Лариса пришла.
— То-то, братец ненаглядный, сам заявился?! Чует кошка, чье сало съела!
Костя с досадой шепнул Валентину на ухо:
— Томка уже успела ей что-то нашептать про меня.
Видно приметив, что с появлением сестры в лице товарища что-то изменилось, Костя и сам повнимательней посмотрел на Ларису.
— Ну вот еще, сидят и смотрят! — вспыхнула девушка и поспешила в свою комнату.
— Так вы завтра за трепангами? — спросила издали. — И чего в них хорошего? Вот бы корюшки сейчас!
— Кореша тебе надо бы, а не корюшки! — грубовато скаламбурил Костя и, нимало не смутившись, крикнул матери на кухню: — Маманя, а что это Лариска наша замуж не выходит? Не берут? Так давай вот за Валентина сосватаем! Возьмешь мою сеструху? — напрямую спросил он товарища, и похоже было, что, создав атмосферу неловкости, он таким образом удовлетворил какие-то свои желания, иначе зачем бы?
— А ты не хами, братуха! — в тон Косте ответила Лариса. — Не хами, а то заработаешь!
— И то, — отозвалась и Мария Филипповна. — Век не неделя: все будет, да не теперя!
За ужином выпили вина. Спать им с Костей постелили, как и в прежние времена, на веранде, на тех же двух стареньких кушетках. Проснуться загадали на рассвете: пока доберутся до лодочной станции, оснастят и запустят мотор, пересекут бухту — там и ясный день грянет.
Заметно охмелевший Костя уснул раньше, чем подушки коснулся, Валентину же не спалось, и он вышел на крыльцо покурить.
В теплой августовской ночи, казалось, совсем близко прокатывались электрички. Лепетали тополевые листья. Луна в призрачно движущихся облаках была как иллюминатор неведомого корабля, скитальца вселенной. На душе Валентина Тарасова было то покойно и умиротворенно, хоть засыпай, то делалось беспокойно, суетливо, и тогда впору было торопиться куда-то, что-то делать. Он долго ждал встречи с землей, загадал много увидеть и успеть, теперь же временами казалось, что он преступно медлит, упускает многое, о чем будет жалеть в море…
Из дома вышла Лариса с пустым тазиком, с полотенцем, перекинутым через плечо, прошла к летней кухне, и оттуда послышался тугой звон водяной, струи из крана о дно таза. Поставив воду у крыльца, девушка присела на ступеньке, спросила Валентина:
— Зачем куришь, Валя? Травишь себя, а разве простой воздух не слаще?
— Привычка, — смутился он, потушил сигарету.
— При-выч-ка… — по слогам повторила Лариса. — Но что это такое — привычка? Чувство, качество, правило, закон?
«Ну совсем как Тамара допытывается!» — удивился он и хотел все свести к шутке:
— Привычка и есть привычка! Как говорится, по привычке живешь, а отвыкнешь — помрешь.
— Скорей уж от такой привычки помрешь, ведь никотин — яд, — пояснила Лариса и продолжила: — По привычке лгут, по привычке ловчат и хамят… Наш Костя по привычке собирает винные бутылки с красивыми этикетками, вино выпивает, заменяет на чай или подкрашенную воду, тщательно закупоривает, придает видимость цельности и непочатости. Зачем?! Привычка — это притворство. Притворство, когда человек почему-то не хочет быть самим собой, скрывается, подражает или когда вообще ничего приличного кроме привычки, за душой не осталось. Так горько подчас видеть, как молодые лоботрясы в темных подъездах часами бесцельно щиплют гитару, здоровенные парни до беспомощного и невообразимо дикого состояния доводят себя вином, а кто-то ежедневно после работы валяется у телевизора, равнодушно просматривая и передачу о способах посолки грибов, и репортаж из оккупированной Гренады! И разве не стыдно, если ты сам, твое поведение — причина боли других, причина слез? Прихожу сегодня к Тамаре, она плачет, — уже несколько тише и оттого горше продолжает Лариса, — Костя грубит, Костя такой и сякой. А как он показал себя сегодня?! Почему переменился, в чем дело?
— Да вы просто все здорово преувеличиваете! — воскликнул Валентин, чтоб утешить Ларису. — Костя ваш брат, Тамарин муж — вот вам и хочется, чтоб он непременно был лучше других, необычней, привлекательней во всем.
— Да что там лучше, был бы хоть обычным человеком! Он же и улыбнуться без каверзы не может, насмешничает или насмехается! Вот думаю: в море страшно, тоскливо бывает — много ли там плохих людей-то? Думаю, что не много, потому что им там не климат, им там трудно. Верно?
— Не знаю, мне в море тоже трудно, — улыбнулся Валентин. — Условно все это: плохой, хороший. По-моему, нет плохих людей, а есть те, которых мы плохо еще знаем.
Потом он долго лежал с открытыми глазами, смотрел на кружок луны, искаженный решетчатым окном веранды. Все еще казалось, что кушетка под ним покачивается и луна покачивается, веточки дерева из сада прощально машут и постукивают в стекло…
«Как чутки ко всему тревожному женщины! — удивлялся он. — Мы, мужчины, первыми встретим, конечно, любую беду, готовы к тому, но разве заранее так все переживаем?.. А Костя действительно что-то зарвался, надо бы поговорить, вдруг у него — мужское благодушие и самоуверенность: меня любят, значит, простят, потерпят. Вперед посмотреть не хочет, задуматься, поставить себя на место той же Тамары, ведь она и уйти от него может, поскольку поступки и характер любой красивой женщины непредсказуемы, когда испытывается ее терпение, достоинство. Неужели Костя не помнит, сколько бессонных часов доставила ему Тамара в свое время, если он вдруг скажет что-то не то, опоздает на свидание, не успеет первым пригласить на танец… Или жизнь — это такая неведомая штука, что крушит и переделывает характеры так, что со старыми мерками уже завтра ни к кому не подходи?»
Около семи утра их разбудила Мария Филипповна:
— Подымайтесь, горе-охотнички! Все ваши трепанги давно разбежались по морю.
— А-а! Куда они денутся. Лежат как огурцы на грядках, только собирай! — позевывая, говорил Костя. — Еще лучше: вода на солнышке прогреется…
— Тогда уж подождать, когда она закипит, вода-то! — засмеялась проходившая по веранде Лариса.
— А тебе что за печаль? — рассердился Костя. — Вот и подождем!
— У меня не печаль, а предложение, — остановилась она. — Возьмите меня с собой? Я сегодня свободная.
— Дудки! — отрезал сразу Костя. — Укачаешься — возись с тобой, да и это… без плавок мы, в трусах! Верно? — неуклюже подмигнул он Валентину. Лариса отвернулась и ушла.
— У тебя с утра желчь отливается, что ли? — спросил Валентин по дороге к лодочной стоянке. — Зачем ты с Ларисой так, разве она помешала б? Да и вообще я хочу сказать…
— Не надо с утра заводить серьезные разговоры — голова и так пухнет! — оборвал Костя. — Тебе, может, Лариса и не помешала бы, а мне… Да, я ведь и забыл, что ты не знаешь еще, куда мы направляемся-то по правде!
— Как это куда?!
— Вот именно. Посмотри на меня хорошенько: в зубах папироса, в башке муть голубая от вина — какой к черту из меня сегодня ныряльщик? Так, горе одно! Вспомни, как я готовился к сезону: курить бросал, дыхалку тренировал, по утрам бегал-прыгал… Полторы минуты мог находиться под водой! А теперь я через двадцать секунд улягусь на дне вместе с трепангами.
— Действительно… но тогда зачем мы, куда?
— На пикник мы, Валей, званы — вот куда и вот зачем. Прекрасные дамы нас дожидаются у Черного камня, очи черные проглядели с самой зари!
— Да ты что, Костя? Ты это брось!
— Ничего, ничего, не смертельно! Извини, конечно, что на правах друга спекульнул тобой маленько, но не открутиться бы мне от Томки без тебя, вот какое дело… Свидание-то уже было назначено. Там и тебе найдется, ты не кисни!
— Но это чушь собачья, я не хочу!
— И не хоти на здоровье, кто же заставляет! Только ты меня-то не выдай, не возвращайся домой. Мужики мы или не мужики, наконец? Что хочет женщина, то хочет бог!
— Какая женщина, какая женщина?! Тамара этого хочет? Ох, допрыгаешься ты, Костя, попомнишь меня!
— Да не усложняй, юноша! Любовь — штука эпизодическая, в ней мало новизны, зато случаются новости. Человеческая привычка…
— Ну вот что, Серков, давай не будем препираться зря, — отмахнулся Валентин. — Отвези меня на мыс Виноградный и катись потом, куда тянут тебя твои привычки. В таких делах я тебе не помощник. Если к вечеру меня сам не заберешь, то я вернусь как-нибудь с рыбаками, а дома скажу… нет, дома ты сам ври — это тоже, видать, сделалось твоей привычкой.
— Ну что ты на Виноградном один делать будешь?
— Кончен разговор!
Молча спустили на воду лодку. Костя долго возился с мотором, он чихал, останавливался. Валентин в душе молил, чтоб мотор вовсе не завелся, и тогда, может, Костя отказался бы от поездки, они вернулись бы домой. Но Костя не отступил — мотор завелся. Они вышли в залив, повернули к мысу на противоположном берегу. По пути мотор опять стал барахлить, два раза внезапно остановился, и тогда Костя дергал заводной шнур до седьмого пота. Они старались не смотреть друг на друга.
Удивительно! У тебя есть все, чтоб достичь взаимопонимания с другим человеком: речь, разум, сформированное общественным сознанием понятие о добром и злом, просто опыт жизни, наконец, право дружбы. И у него тоже все это есть, но вы не понимаете друг друга — он уйдет к тем, кто, возможно, разделит его убеждения, а ты ищешь утешения в неживой и неразумной природе, что существует независимо от твоего сознания, не отражается в нем как самый дорогой и все разумеющий собеседник или родная мать, которая одним своим молчаливым присутствием поддержит, ободрит.
На берегу Костя выбросил вслед Валентину рюкзак со снаряжением и провизией, топор.
— Вот и кукуй здесь один полдня, каюсь, что вообще связался с таким психом!
— Я все думаю: почему ты все-таки не откажешься от своего намерения? А может, ты не хочешь отступиться из упрямства, в отместку? Тогда объясни, неужели наша былая дружба уже ничего не стоит, если ты вот так можешь ее переступить?
— Да пошел ты, психолог выискался, елки зеленые! — процедил Костя и веслом оттолкнул от себя берег вместе с Валентином.
Солнце поднялось уже высоко. Тарасов посмотрел на него во все глаза, не желая прижмуриваться, но скоро нажег себе слезы. На душе кошки скребли. Думалось: «Как-то не так нужно было с Костей разговаривать — потише, без зла, наверное, не так все просто и ладно у него с Тамарой, а я накинулся судить, будто они просто обязаны жить так, как я себе это представляю или когда-то представлял, будто они меня обидели сложностью и непонятностью своих взаимоотношений. Ну и обидели, так за кого же тогда я заступаюсь, за себя или за них?..»
Чтоб перебить мысли, он собрал сухой плавник и развел костер. Дневной костер не так красив, как ночной: дым его, лишенный солнечным теплом прямой подъемной силы, не находил себе места — стлался во все стороны, прижимался к земле, лез в глаза. Он утирал слезы, с грустью осматривал этот берег и тот, где остались Мария Филипповна, так похожая на мать, Лариса… Он будто прощался, не надеясь уже, что все останется по-прежнему. Даже обыкновенное былое не сохранишь, где, кажется, ничего такого тебе никем еще и обещано-то не было! А удержать невозможно, и не потому, что этого никто не желает, а потому, что думает об этом сейчас только он один, а все о другом: Тамара о Косте, тот — о свидании с какой-то новой красавицей, Мария Филипповна — о своих детях и о муже в далекой чужой стороне, Лариса…
Он надел ласты, взял маску, обмакнул ее в воду, чтоб она не запотевала на глубине, так ему когда-то объяснил Костя, приладил загубник дыхательной трубки. Оглядываясь, стал пятиться в море, чтоб при броске не угодить толовой на один из торчащих на прибрежье камней.
В один из таких оглядов он остановился — к мысу шла лодка Кости. Шла на веслах, при каждом взмахе в море осыпались с них искристые капли. Но чудом это ему не казалось. Он отвернулся и пошел к берегу.
Один за всех
I
Остаток ночи после свадебного пиршества в столовой молодые проспали в своей комнате… под столом, не раздеваясь. Собственно, спал там, где свалил его хмель, Станислав, а Октябрина Найденова, отныне Киреевой нареченная, кое-как перекатила мужа на матрас с подушкой, взятые с кровати, легла рядышком и проплакала до зари.
От радости плакала, от счастья, неожиданно как-то свалившегося ей в руки, — владей. Верилось и не верилось еще. В свои двадцать шесть лет она уже имела одну попытку к замужеству — не приняли его родители в свою семью безродную — детдомовку, без приданого — приличного, да и вообще рабочую мебельной фабрики, а не инженера или артистку какую-нибудь.
Так или почти так все было сказано. Она понимала: такие вот люди попались, не повезло. Им мало отцами-матерями быть, мало просторных квартир, машин и ковров, мало собственных сыновей — им бы еще чего-нибудь выручить за выращенного ими ребенка: хоть именитую родню бы, например, со связями, или, на худой конец, просто невестку со звездой во лбу, чтоб не стыдно показывать… Но и она им тогда показала — запомнят! Не заботилась о благозвучности выражений, сказала, — что думала. До сих пор видит их испуганные, вытянутые лица. Подумали поди, что перед ними уж некая Сонька Золотая Ручка, способная зло-весело и прирезать их тут же, не сходя с тысячерублевого ковра на полу, среди сверкающей мебели (ее работы!), полок, изнемогающих под грузом книг, хрусталя и керамики. А она еще на прощанье тарарахнула тонким фужером о стол, мысленно приговаривая: «Вот вам за обманутое мое заглазное обожание, за готовность трепетную когда-то назвать вас папой и мамой, вот вам за зависть мою детскую к одному вашему существованию на земле, за слезы мои тайные, за все, за все!»
Такие тогда получились смотрины. Она давилась слезами, а жених, нагнав ее во дворе, задыхался от смеха.
— Плюнь на дураков моих старых — форс держат когда надо И не надо, а ведь сами-то работяги работягами: он шахтер, а она повариха в детсаде… А ты деваха смелая, мне нравится! Они теперь поди капли считают друг другу в рюмочку, трясутся, ведь никто никогда им такого не говорил! Я почему молчу? Сберкнижка-то моя пока у них, сказали, не отдадут, пока не женюсь. Потерпим, а потом укатим куда глаза глядят — только они нас и видели!..
— Нет! — разом отрезала Октябрина толстощекому недоростку в туфлях на высоких каблуках, в польском вельветовом костюме, с золотым зубом во рту. — Нет! С расчетливым предателем и рядом быть не хочу. Пожалуй, я много лишнего наговорила твоим родителям. Им на тебя, неблагодарного, глаза бы открыть, да черт с тобой, разбирайтесь-ка тут сами!
За шестнадцать лет в детском доме она научилась не унывать. Теперь пришло и другое: нечего спешить и суетиться, только душу терзать обманками, сильное и нетерпеливое желание счастья скорей к несчастью приведет.
Станислав пришел шофером-экспедитором «а мебельную фабрику. Как-то в обеденный перерыв девчата из четвертого цеха подрядили его привезти Октябрине из магазина кровать и стол — она из общежития переходила в освободившуюся комнатушку в деревянном доме. Так они познакомились, и Станислав с того дня уже не сходил с дороги к ее новому жилью.
Пуганая ворона куста боится. Только подушка знает, сколько слез она выплакала, заранее боясь того дня, когда он позовет ее к себе знакомить с родителями. А он только и сказал: «Я тебя очень люблю, выходи за меня, и будем родню заводить, а то надоело одному на свете за тридцать-то лет!» Никого у него тоже не было…
А утро занималось тихое, ясное. Птицы наперебой обсуждали свои дела, взлетали, садились, и тогда вздрагивали и раскачивались веточки молодого тополя, заглядывавшего в комнату Октябрины на треть ее единственного окошка.
Станислав разжарился от сна в одежде, посапывал, на лбу его выступила испарина. Поджатые ноги упирались в печку, занимающую почти четверть всей квартирной площади, так что и вытянуться во весь свой длиннющий рост было здесь, пожалуй, негде.
Она поднялась на локте, осторожно убрала со лба Станислава прилипшие волосы — какие они мягкие были и нежные! Очень мягким и добрым человеком должен быть обладатель таких волос — есть такая примета, она слышала от пожилых женщин. Не в силах сдерживать более прилива заботливой нежности и любви, она припала губами к плечу Станислава, и на белом полотне его измятой рубашки затемнели следы, ее невольных слез. Он проснулся вдруг, повернулся на бок, они оказались лицом друг к другу;
— Ты плачешь? Я обидел тебя? — Да где это мы с тобой?!.
— Лежи, лежи, — она его мягко удержала. — Мы дома. Лежи, а то ударишься головой о стол, и будет у тебя шишка. Скажут, что я тебе поставила!
— Так мы под столом?! О боги!
— Тише, тише! — засмеялась она, закрывая пальцами рот Станислава. — Соседи услышат, ведь этот дом такая старая деревяшка!.. Опьянел ты вчера, и пока я отвернулась разобрать постель, ты сполз со стула и улегся на полу. Это все дружки-шоферы постарались споить — рюмка за рюмкой, рюмка за рюмкой! Удивляюсь, как вы все еще за столом в столовой не попадали?! Особенно усердствовали те «два Василия», как ты их зовешь, рыжий и русый — они что, братья?
— Названые, в работе побратались, много дорог по свету исколесили. О, эти ребята крепкие на вино! Это я его редко лью… Как нехорошо вышло: в такой день! Кому расскажешь, так засмеют, что под столом проспал свою первую брачную ночь!
— А зачем рассказывать кому-то? Никому ничего не надо рассказывать, потому что это наше, верно?
—. И тебе нравится такой муж? — он обнял ее, притянул к себе на грудь, горячо прошептал на ухо: — Пусть вчера было для людей, а сегодня — для нас, правда?
Она не противилась его нетерпеливым рукам, но первородный девичий стыд каким-то гипнотическим страхом смежил веки, сковал, закаменил тело, она сказала еле слышно:
— Слава! Светло ведь! Пожалуйста, потерпи, ведь подумай, что навек мы с тобой вместе, навсегда… родненький мой! — с запинкой от непривычных последних слов произнесла она, и опять ее глаза переполнили слезы.
Он быстро нашел ее губы и коротко, благодарно поцеловал.
— А интересно, сколько же времени теперь? Солнце высоко — часов восемь поди?
— Наверное, — тихо согласилась она. — У меня нет часов, на работу встаю по радио, а вчера отключила, ведь нынче воскресенье. Включить?
— Не надо. У тебя нет часов, у меня нет часов — значит, времени у нас целая уйма! Интересно, придет ли сегодня кто из наших?
— Придут, я всех приглашала! А уж Василии твои — непременно будут, сами ведь переносили сюда оставшееся вино, яблоки. Женщины в столовой вообще хотели все, что осталось, мне вручить, но я отказалась. Не нищие, правда?
— О, уже да! — засмеялся он. — У меня на книжке еще целых полтора рубля! Но когда соединяются пролетарии, то держись, брат!..
Создан наш мир на славу, За годы сделаны дела столетий. Счастье берем по праву, И жарко любим, и поем как дети!— Ты прекрасно поешь! — восхищенно произнесла она. — Твоей песне как-то сразу веришь: такой большой, сильный, хороший… А вообще вчера много пели, правда? А как встали все за столами и завели эту: «Эх, будьте здоровы, живите богато!..» Я плакала, право слово, — так поверилось, что у нас с тобой дом, настоящие гости!
— Ты и сейчас плачешь, Рина! Ну?!
— Да так это я, так!.. От радости. Дай хоть поплакать вволю о своем, ты понимаешь меня?
— Понимаю. У нас девчонкам в детдоме трудней было, я их звал сестренками, и они так радовались! Пока маленькие были, — а потом!.. Да, нам немного попроще, Октябрина… Кстати, все опросить тебя хотел: кто это назвал тебя Октябриной? Ни у кого больше нет девушки с таким именем!
— Нашли меня в октябре в детском уголке ГУМа — так говорила мне одна старая нянечка в детдоме. Ходила я в тот магазин, видела уголок — бассейн там есть с пластмассовыми рыбками, коняшки всякие. Покупатели оставляют здесь своих детей, чтоб руки не занимали, — она замолчала. — Тебе вот сказала про детский уголок в магазине, а ведь никому другому никогда не сказала бы ни за что на свете. На этот случай у меня заготовлена специальная история с мамой-космонавтом и папой-летчиком — наивно, конечно, может, даже кощунственно, да что в детстве не придумаешь? Хоть и обмануть, да покрасивей хочется…
Станислав взял ладонь Октябрины, прижался к ней щекой.
— Ты права. Я тоже привирал по этой части, хотя мне-то это вроде бы и ни к чему. Мать моя целых десять лет после окончания войны ждала отца — и дождалась-таки! Но меньше чем через год его убили: стал поперек каким-то хулиганам. Матери было уже сорок лет, и она умерла, рожая меня, преждевременно. Одна была в своем новом горе, может быть, еще и из-за этого. Конечно, я не помню, как выкарабкался, где побывал. Шесть лет мне было, когда я оказался в темной детдомовской прачечной, заполненной клубами горячего пара. Тут кинулась ко мне и стала обнимать, обливая слезами, какая-то женщина. Оказалось — тетя Вера, младшая сестра матери, фронтовичка, инвалид по зрению — пуля задела глазной нерв. Долго разыскивала меня тетя Вера, да случай помог — подруга, работавшая прачкой у нас, рассказала ей обо мне.
С этого дня жизнь моя переменилась: тетя Вера забрала меня к себе в общежитие инвалидной артели — «Индустрия», изготовлявшей простенькие трикотажные вещи. Общежитие было женским, и каких только несчастных там не было: без ног, без руки, полуслепые, немые…
Спали мы с тетей Верой на одной кровати, а потом мне отделили простыней уголок, поставили дощатый топчан, тумбочку — я стал первоклассником, ходил в школу за два квартала от общежития, и если меня по занятости не провожала и не встречала тетя Вера, то встречал кто-то другой. Все интересовались моими школьными делами, помогали в учении, баловали подарками. Хорошо я жил там, среди внимания и любви.
Иногда вечерами тетя Вера — брала гитару и пела песни — военных лет и старинные романсы, а женщины подхватывали напев и плакали, и плясали, бывало.
Тетя Вера была во всем общежитии самой заметной и красивой женщиной — высокая, статная, с густыми русыми волосами, убранными над лбом валиком. К ней приходил знакомый речник в черном форменном костюме, с сияющим «крабом» на фуражке. Бравый, красивый тоже, здоровый — он представлялся мне совсем из иного мира, из того, что стремительно и весело проходит мимо серых заборов «Индустрии», не зная застенчивости, боли, беды. Мне казалось тогда, что приход тетиного знакомого болезненно отражался на всех молодых женщинах, глянуть на иных я даже сам стеснялся, боясь причинить невольным состраданием или жалостью лишнюю боль. Мне казалось принужденным, показным всеобщее веселое оживление, переполох, когда речник приносил вина и затевался ужин из того, «у кого что нашлось»… Я ошибался.
Я, конечно, слышал по ночам, как кто-то плачет, стонет, проклинает, зовет… Был свидетелем порой жутких ссор со взаимными оскорблениями. Но все равно с годами я только убедился, что нет на свете людей добрей и надежней, заботливей и мягче, чем те женщины, которые жили с нами в том общежитии. Их заботливость была бескорыстной, доброта — от сердца. А любовь тети Веры — разве не от самого сердца была она, если за все шесть лет жизни со мной она не могла даже ясно увидеть моего лица, потому что всегда различала знакомых людей лишь по голосам, ходила по городу по памяти, сторонясь расплывчатых силуэтов встречных, а утюжила трикотаж после крашения и сворачивала его в так называемые штуки, едва различая контуры полотна и больше на ощупь!
Ее убило разрядом молнии через электрическую розетку — утюг подключала. До сих пор вижу ее посиневшее мокрое лицо, волосы, разметавшиеся по грязи, безжизненно раскинутые руки, когда тетю Веру во дворе прикапывали землей, — дождь шел, а ее пытались оживить, искусственное дыхание делали…
Ну а в детдоме потом меня все два года до поступления в ФЗО хоть один раз да навестила каждая, наверное, из тех трех десятков женщин, что стали мне почти родными. Иногда и меня отпускали к ним, и я их навещал, уже переселившихся в большой деревянный дом с отдельными квартирами. Позже артель построила каменный дом с газопроводом и со всеми удобствами. Многие из моих опекунов завели семьи, имели детей, кого-то не стало уж, а кто-то прибавился. Такая жизнь.
От тети Веры мне осталась ее фронтовая награда — медаль «За отвагу», она и теперь у меня. Никогда я не видел, чтобы она надевала медаль, и даже ничего не знал о ее существовании… Ну вот, Рина, я и расстроил тебя своим рассказом — ты опять плачешь! — спохватился Станислав.
— Как ты меня назвал, Риной? Так же зовет меня почему-то подружка моя, пятилетняя Люся. Надо же?! Мы ночуем с ней, когда приболеет, бывает, и ее не принимают в детсад, а матери надо на ночное дежурство в гостиницу. Тоже несчастливая девочка — отца не знает… Так скажи, Слава, что же ты мог присочинить в этой своей истории, рассказывая ее другим?
— Что? Я выдавал тетю Веру за свою мать…
— Милый, но это почти правда!
— Правда? В том-то и дело, что тетя Вера никогда не была сестрой моей матери. Та прачка в детдоме повинилась мне, узнав о смерти тети Веры. Она и сама, оказывается, взяла на воспитание двух ребят… Моя фамилия сошлась с той, которую разыскивала тетя Вера.
— А может, прачка как раз и угадала? — Киреев — это тебе не Иванов и Сидоров, такие фамилии не очень-то часты, думаю. Не надо, слышишь, пусть сердце верит — и все. Вот мне ты теперь будешь за всех, за всех — на свете за мать и отца, за брата. Один за всех, что должны были быть у меня в жизни — и не были. Я люблю тебя сильно-сильно! И ничего бы не делать, даже не говорить, а просто лежать рядышком, обняв тебя, хоть сто лет, хоть тыщу!..
— Тыщу лет? И, все под столом?! У меня же ноги совсем занемели, согнутые!
— Ага! Значит — подъем! Знаешь, я есть хочу — очень! Правда. Я вчера встала из-за стола голодной: официантки так быстро меняли блюда, я ничего толком не попробовала, а потом ведь и обжорой прослыть не хотелось. Да и ты все исчезал, исчезал с друзьями… Сидела я кукла куклой, и было мне, как говорится, не до жиру, быть бы живу.
— Бедненькая моя! Ударь меня хорошенько, остолопа такого! Вот уж я задам своим братцам Василиям, пусть только заявятся!
— Вообще, Славик, мне кажется, что эти ребята немножко нагленькие, а?
— Чур! Рина, давай сразу договоримся: не будем начинать свою жизнь с плохих слов о других. Зачем, верно? Все пришли, все желали нам добра и счастья, все пели и веселились — молодцы! Вон Соня, твоя подружка, как плясала — огонь!
— Ага, а признайся, сколько раз за вечер ты поцеловал ее? Я все-е видела, все!
— Так это же от радости, только как твою свидетельницу! Не ревнуй, пожалуйста. Люди говорят, что если мы справляемся-таки с несчастьями, посланными нам судьбой, то от тех, что сами себе делаем, нет никакого спасения!
— Я знаю, я понарошке — так удивительно!.. Впрочем, как у нас с завтраком? Ведь придут опять гости… Давай хоть картошки сварим и наедимся!
— А с чего начнем это мероприятие?
— Сначала переоденься, потому что без дров нам тут не обойтись…
II
Позавтракать одним Станиславу и Октябрине, конечно, не удалось. Возвращаясь из кладовой с дровами, они встретили соседку тетю Машу, она тоже была вчера на свадебном торжестве вместе со своим сыном Геннадием. Он на гармошке играл плясовые, а хорошенько подзакусив, разошелся и аккомпанировал уже почти всем песням, что затевались за столом, и даже довольно сносно исполнил некогда популярного «Мишку», правда постоянно сбиваясь на какой-то цыганский надрыв.
Заметив в руках Станислава охапку дров, тетя Маша всплеснула руками:
— Боже праведный, милые мои детки! Вы не печь ли топить наладились посередь лета?! Мы же все в доме помрем от духоты! Неси-ка, Октябрина, свои кастрюли в сенцы, мы керогаз быстренько заведем. Гена, Генка! Поди сюда поживей!
Потом к кухонным хлопотам тети Маши присоединились другие соседи: одна предложила малосольных огурчиков, другая — свежих помидоров, словом, собралась компания, и надо было думать, как разместить всех в маленькой комнатке.
Обошлись и здесь: гости потянулись со своими стульями-табуретами, со своей посудой и даже со своим хлебом. Только разместились, как пришли свидетельница Соня и свидетели жениха — два Василия, внешне разные: один Василий был высокий и рыжий, другой — пониже и русоволосый. Потеснились и для них.
На колени к Октябрине тут же влезла малышка Люся, дочка тети Маши, затеребила:
— Рина, дай ушко — я что-то скажу… Зачем ты себе такого большого мужа нашла? Сама подумай, куда мы его девать будем, когда я опять к тебе спать приду, если заболею, ведь комната и так маленькая, а?!
— А мы его под кроватью спрячем, — еле сдерживая смех, прошептала Октябрина, поглядывая на Станислава. — Или под столом! — прибавила она уже погромче. — Как ты, Слава, смотришь на это, если мы тебе под столом стелить будем — Люся вот беспокоится…
Все смеялись над тревогой девочки, но веселей всех смеялись сами молодые.
Скоро зазвучала гармошка Геннадия, начались песни, тосты. Потом у кого-то стало уже вино расплескиваться в закуски, с вилок что-то соскальзывало на пол. Пустившийся плясать «Барыню» русоволосый Василий угодил ногой в помидор и треснулся об угол печки, рассек себе губу — стали унимать кровь.
Тетя Маша каялась в коридоре перед какой-то соседкой, плакала… Гости засобирались расходиться. Тогда Станислав встал с кровати, где они сидели с Октябриной, Соней и Люсей, обратился ко всем:
— Товарищи, большое спасибо всем, что пришли еще раз поздравить нас, милости просим всегда в гости, надеюсь, что всегда будем жить в мире и согласии!
Разбирали свои стулья, говорили прощальные слова, обещали в другое удобное время зайти за своими тарелками, вилками, рюмками. Соня вызвалась проводить до автобуса порядком захмелевших Василиев.
— Пойду-ка я сам вас провожать, други мои ненаглядные, — поглядев на ершащихся друзей, сказал Станислав.
— И я с тобой, — сразу же откликнулась Октябрина.
— Эх, чудики вы все! — хмыкнул русоволосый Василий, обнял своего товарища за плечи, толкнул дверь и загорланил:
Мишка, Мишка, где твоя улыбка, Полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, — То, что ты уходишь от меня!..Вспухшая губа мешала певцу в произношении слов, и у него выходило как-то не по-русски:
Мышка, Мышка, гдэ тфоя улыфка…III
А это утро Станислав встретил уже с открытыми глазами. Он лежал на спине и вслушивался в ровное дыхание жены, в шорох тополиных листьев за окном под порывами сердитого утреннего ветерка. Над крашеным железным хребтом крыши соседнего дома клубились сизо-серые тучи, обещавшие дождь.
«Кажется, у Октябрины есть плащ — коричневый такой, с поясом», — вспомнил он и тут же отметил, что у самого из вещей почти ничего нет — мало заботился об этом. Сильный дождь в подъезде переждешь, под карнизами домов прошмыгнешь, а то и ринешься напрямик впробеги — только брызги от тебя в разные стороны! Мороз или дождь — разве заботило это? Удивляла непохожесть дней, неповторимость жизненных мгновений! Еще вчера и Октябрина представлялась другом. — пусть волнующим, необычным, но другом, все понимающим, необходимым. А вот она уже жена, и чувства к ней иные — слов сразу и не отыщешь. Счастье? Счастье ли это в окончательном смысле? Кто-то многоопытный может скептически усмехнуться: «Любовь — это еще не все!» Но и всезнающие вздохнут с завистью: блажен, кто верует!..
Он чувствовал себя счастливо, счастье не умещалось в сердце, звало к неясному подвигу, а больше всего — к нежности, ведь она была рядом…
Станислав повернулся к Октябрине, поправил простыню на ее плече и, увидев временами пробегающие по лицу непроизвольные хмурые тени, стал вполдыхания осторожно дуть на лоб жены, чтобы изгнать тревожные ее сновидения, — откуда-то он знал про этот способ.
Октябрина проснулась и с улыбкой повторила сказанное ему, наверное, десяток раз:
— Как я счастлива, Слава, как я счастлива! Спасибо тебе, родной, родненький мой, дорогой! — Она неистово целовала его и плакала. Он и сам сейчас был близок к благодарным слезам.
— Век бы тебя не отпускала! — говорила она. — И никуда б не ходить: ни на фабрику, хоть и за отпуском, ни на люди, хоть и с тобой, потому что на тебя будут смотреть другие женщины! Я плохая, я эгоистка, да?
— Глупенькая моя! Неужели ты хочешь попасть в рабство любви? Зачем? Пусть любовь наша будет нашим товарищем, нашей сестрой, нашей мудрой матерью. И не любоваться нам на нее надо, а заботиться, чтоб жила и крепла. И не держать взаперти, а чтоб ходила всюду: с тобой на фабрику, со мной — в поездку. Люди увидят и улыбнутся, и себе захотят того же…
Ему надо было пораньше в свой гараж, и она осталась одна. Взяла зеркальце с тумбочки, поднесла к лицу. Сразу было ясно, что никакой косметикой ей не восстановить уж прежнего облика: не забелишь эту темноту под глазами, припухлость губ, даже побаливающих от поцелуев, а глаза!.. Она совсем другая!
— Рина, ты дома еще? — послышался за дверью голосок Люси.
— Да, да! Заходи, подружка, заходи. Ты опять не пошла в садик, заболела?
— Нет, мы просто решили подольше поспать, ведь маме не на работу сегодня. А я в окошко подкараулила, как муж твой ушел, и пришла… Ох и большущий он, и как только тебе не страшно? Я бы немножечко боялась. Вот со мной в паре ходит Андрей-воробей — он мне вот так, по шейку, и я за него всегда заступаюсь!
— И за меня заступаться будешь?
— Буду. Мама говорит, я боевая. Ты только мне в стенку — тук-тук! Я тут и прибегу.
— Вот и договорились! Яблока хочешь? Бери вон на тарелке которое на тебя смотрит — они все мытые…
Потом она смотрела, как Люся осторожно надкусывает яблоко, старается не торопиться и не казаться жадной — не выдержала, подхватила ребенка на руки, прижала к груди и ощутила, как сердце сладко-сладко заныло, будто родное почувствовало.
— Ах, девонька моя, знала б ты, как я люблю тебя сейчас!
— И я тебя люблю, — серьезно кивнула девочка и попросила. — Тогда расскажи сказку?
— А мне на работу надо за отпуском — вот когда сказок-то будет! Как там погода во дворе? Будто к дождю хмурилось.
Нет, дождь так и не пошел. Утренний ветерок окреп, поднялся выше и разогнал все серые тучи. Глянуло солнце — распогодилось.
За утром — день, за ночью — утро
Он никогда не думал о количестве написанных страниц в каждом своем письме к Жанне, не вел счета письмам, и вот все они возвратились к нему разом, склеенные уголками в подборках за недели, месяцы, за два с лишним года. Стопа исписанной бумаги превышала взятые в библиотеке оба тома романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир»! Только в отличие от него эпилог в «романе» Виталия Дикушина был не в двух частях, а, как говорится, в двух словах: «Прости, но я выхожу замуж за одного хорошего человека». Это «прости» он получил от Жанны, когда до увольнения в запас оставались считанные дни. Возвращенные письма мать привезла Виталию позднее, когда он сообщил домой свой новый адрес в Приморье. Поступить здесь на строительство новой тепловой электростанции уговорил его однополчанин Гена Чупров, уроженец здешних — мест. Дружбу с ним жизнь будто специально ниспослала Виталию для поддержки в выпавшей ему первой сердечной утрате.
Рыжеволосый крепыш, словоохотливый, бойкий, Гена Чупров был увлеченным человеком: трубач полкового оркестра, ударник в самодеятельном инструментальном ансамбле, ротный запевала о голосом чистым, мужественным, пробирающим до мурашек.
Не находящийся в центре такого всеобщего внимания и интереса, оглушенный внезапно свалившейся на него бедой, Виталий пришел как-то к Чупрову в «музыкалку» проверить у себя… слух. Чупров предложил ему повторить за собой на барабане все усложняющиеся ритмы, найти на клавиатуре баяна однажды прозвучавший звук, потом сказал: «Слух у тебя есть, но какой-то он… не пойму. Скорей всего, ты сейчас чем-то расстроен, солдат, признавайся?!»
Удивленный проницательностью Чупрова и сразу к нему расположенный, Виталий рассказал о письме Жанны, пояснил, что пришел не разыскивать и развивать свои музыкальные способности, а проверить, что у него есть, а чего нету, чем он смог вызвать к себе нелюбовь — это ведь тоже надо суметь!
— Брось! — посоветовал Чупров. — Не это важно. Насколько я понимаю, любят вообще ни за что: глянул — влюбился!
— А что важно?
— Важно — не озвереть, если на тебя не так глянули. Вперед и с песней, как говорится! «Жизнь — это трагедия. Ура!» — сказал Бетховен.
Виталий Дикушин рано почувствовал свою непохожесть на всех знакомых мальчишек, своих сверстников. Ему не хватало простой непосредственности, умения следовать без размышления внутреннему влечению. Например, он не мог из чувства внезапной злости наговорить дерзостей, тем более полезть в драку за причиненную обиду, а если оказывался ненароком в потасовке и получал случайную оплеуху, то начисто терял дар речи, убегал куда-нибудь и в уединении долго размышлял над происшедшим, пытаясь наперед определить в таких случаях свое должное поведение. Но больше того, как заслонять одного из драчунов собой, ничего не мог придумать. Когда соседскому Вовке Поленову забияка Ленька Перцев пробил голову битой во время игры в лапту, Виталий провожал пострадавшего домой и был уверен, что Леньке отныне не поздоровится: Вовка сильный и если захочет, то зашвырнет на груду старых борон за деревенской кузней, а то переедет своим мопедом, как грозился сам по пути домой, где встретила его бабушка, прибавившая от себя «идолу Леньке» новые нешуточные угрозы. Так что судьба Леньки Перцева в мыслях Виталия тогда не стоила и ломаного гроша, оставалось лишь пожалеть его по-человечески. Он и во сне уже видел его то извивающимся на ржавых зубьях борон, то под колесами мопеда Вовки…
Однако на следующий день опять играли в лапту, и Вовка Поленов с перевязанной головой дурачился в одной компании с Ленькой, «нарываясь», чтоб стоящий на подаче Виталий запустил бы в них мячом и промазал. Вот и это, что в играх мальчишек больше привлекают не сами правила, а возможность незаметно или заметно их нарушать, Виталий тоже не мог понять, ведь из-за нарушения правил и происходили все ссоры и недоразумения.
В школе, правда, и сам Виталий не мог удержаться, чтоб не вставить своих слов в непреложно строгий текст какого-нибудь диктанта. Если читалось «шел дождик», он обязательно вписывал свои эпитеты, считал, что есть разные дожди: моросящие, сеящиеся, слепые, булькающие, как из ведра, проливные, косые и так далее. Так и про людей нельзя говорить безлично, даже в сказках обязательно скажут: «Жил-был бедный человек, злая мачеха, добрый молодец, красна девица…»
Кстати, о красных девицах. Первое письмо чуть ли не на всю ученическую тетрадку он написал Жанне в девятом классе. Она захотела от него писем еще и еще. Их встречи и прогулки показались бы странными любому: ходят — и час и два молчат, а при расставании она говорит: «Мне пора. Значит, завтра в школе ты передашь мне письмо. Побольше напиши, ладно?..»
И он писал все то, чего не мог сказать лично, блистая в своих писаниях красноречием, остроумием, нежностью и лаской. И вот — дописался…
Устроились они с Чупровым на стройке бетонщиками, но работа была разной: землю рыли, арматуру вязали, плотничали, световые проемы в корпусах остекливали, окрашивали серебрином опоры ЛЭП и устанавливали их на фундаменты собственного изготовления. А для житья Виталию подыскали комнату в доме одинокой старушки Аграфены Тихоновны. Сюда уж мать наехала сразу, отец тогда не смог навестить — приболел.
Мать плакала, что Виталий расстроил все домашние приготовления к его встрече, огорчив отца тем, что отбился от дома, она нехорошо поминала ту, которая как змея…
«Не надо, мама, не смей так, — запретил Виталий. — Давай сразу договоримся, что ни при мне, ни без меня ты не будешь больше проклинать Жанну. Пусть будет счастлива, ведь я сам того же хотел. Разве оборотни мы, а не люди?!»
Мать уехала несколько успокоенная, веря, что молодые печали недолгие, а дом родной отовсюду видать хоть днем, хоть ночью. И близка к истине была она в последнем: мысленно опять и опять бывал Виталий в родной Борисовке, в школе, в клубе, в заветных местах у озера, в ближайшем лесочке — всюду, где успел он ступить со своей любовью. Те ли слова он сказал тогда, все ли написал?..
Возвращенные письма он не перечитывал, но и не уничтожал. Просто часто перебирал с чувством прошлого детского недоумения и растерянности перед «нарушением правил». Жанна вышла замуж за Вовку Поленова — об этом сказала мать. Вовка знал об его отношениях с Жанной, в глаза высмеивал молчаливость их встреч, советовал быть смелей, свободней, проще…
Взять на «ура» свое горе, как советовал Чупров, Виталию никак не удавалось, и порой мучительная безысходность так припирала к стенке, хоть плачь. Он осунулся и почернел от запертого внутри огня. Даже Аграфена Тихоновна заметила (мать Виталия уж конечно поделилась с нею своими опасениями!), что сидеть ему вечера за книжками в своей комнате не следовало б.
— Чего в старики записался? У нас и ребяты и девчаты хорошие есть — пошел бы поводился за песнями-то, хоть пример с Чупрова своего взял бы — всегда в клубе, всегда веселый…
Гена Чупров действительно редко бывал в гостях у Виталия, вечно занятый в своем оркестре подготовками к нескончаемым концертам, смотрам, конкурсам. На работе же не та обстановка, чтобы заниматься душеспасительными беседами — так, разве что спросить и ответить… Тяжело было Виталию, не оставляла его мысль — а как же другие люди переносят подобное?
— Как, Гена? — спросил он Чупрова.
— Как-нибудь да переносят, — ответил тот. — Как сам перенесу, так поделюсь опытом. Но ты же Толстого читаешь — классики все знают. Или возьми стихи — они же все об этом самом! А еще, если хочешь, приходи к нам в самодеятельность — найдем дело, вот и забудешь свою болячку. Возьми морскую раковину: если попадает внутрь песчинка и вызывает боль, то она выделяет драгоценные соки и обволакивает ими песчинку — создает жемчужину. Творчество — это жемчужина. Поищи-ка себя здесь.
Так к Виталию пришло спасение, и в этом весь человек: десятеро наверх тянут, когда один вниз столкнет. Стал он читать стихи, а потом решился вдруг и сам их писать. И после писем к Жанне, после мучительной поры молчания новое занятие стало для него и сладкой мукой и чистой радостью. Даже Чупрову не все показывал из написанного и долго мучился, если тот находил какие-то изъяны в стихах.
«Это нужно только мне, — убеждал он себя. — В чужих руках сердечные струны только рвутся».
Они спорили с Геной на эту тему:
— У тебя же стихи — письма к Жанне, и ничего больше, но есть же вокруг и другие люди, рядом с болью есть радость, с несчастьем — счастье, есть жизнь, земля, солнце! Пока ты не вылезешь из потемок своих личных жалоб, ты не творец, а нытик.
— Да не хочу я! — защищался Виталий. — Это пусть поэты.!. Я для себя, и никому это не надо.
— Кулак ты, и замашки у тебя кулацкие: «Я, себя, себе!» Написал столько стихов, а зачем? Копить? Копить и снова писать. Не понимаю… Поехал бы в редакцию, посоветовался — в этом твое спасение, так и знай.
Такие споры лишали Виталия покоя, он часами лежал на кровати в смятении. Что делать? С одной стороны… С другой стороны… Может быть, прав товарищ, а может быть, не прав.
Так и не выдержав разлада в союзе рук, души и ума, он собрал все свои тетрадки со стихами, подшил их в одну толстую, взял в будний день отгул на работе и поехал в редакцию городской газеты.
— Вот. Мой приятель… Словом, вы посмотрите, скажите… там есть адрес, Извините, я спешу. До свидания! — с такими сбивчивыми словами он оставил у замредактора свою рукопись и в смятении, как из парной, выскочил вон, задыхаясь от горячего смущения.
Все последующие дни Виталий жил будто в горячке, работал как заведенный. Ждал: вот за ним приедут (он и рабочий адрес оставил в редакции!), что-то будет. На ум ничего больше не шло.
— Уж не заболел ли ты, часом? — встревожилась Аграфена Тихоновна, положив свою легкую сухую ладонь на его лоб. — Нет, не горишь будто… А может, на работе стряслось что? Ты не боись, скажи, а то замолчишься и не заметишь, как думки дурным попортишь. Человеку на то и язык даден: на подмогу призывать, а как же! Нельзя!..
Чем могла ему помочь добрая старушка, на какую подмогу ее призвать?
Проходили дни — и ничего не случалось, острота ожидания убывала. А тут и главная работа подоспела: на стройучастке приступили к заливке фундамента первой турбины. Не один месяц потратили строители на углубление котлована, на устройство сложнейшей опалубки, установку арматуры и всяческих коробушек для создания в фундаменте пустотных ходов и карманов. Бетонирование следовало вести непрерывно почти трое суток. Со всех сторон опалубку обступили дизель-электрические краны и бадью за бадьей они подавали бетон самой прочной марки, а внутри утробно гудели вибраторы, разгоняя бетон по всем закоулкам, уплотняя его так, что в пазы между досками опалубки сочилось бетонное молочко.
Обед привозили в термосах, раздавали прямо с грузовиков, откинув борта, и бетонщики, сварщики, арматурщики, плотники, крановщики и шоферы обедали круговой очередью, подменяясь на рабочих местах. Все были белыми от высыхающего бетона — от сапог до касок. Все были оживленны, необычайно дружественны. Гадали: чьей смене достанется уложить в опалубку последний куб бетона?
Передав горячий вибратор в руки Гены Чупрова, Виталий крутился на верху опалубки до тех пор, пока кто-нибудь из мастеров не прогонял его домой. Когда в сумерках вспыхивали вокруг опалубки многочисленные прожекторы, стройка делалась необыкновенной, величественной. Сами собой приходили на ум Виталию стихотворные строчки — он бормотал их на работе, по пути домой, записывал, а потом, как-то легко перешагнув через свою былую скрытность, показывал написанное Чупрову, иногда прямо с нетерпением разыскивал его то в клубе на репетиции, то прямо на стройке.
Гена Чупров одобрительно кивал головой:
— Молоток, солдат, а я что тебе говорил?! О чем не поплачешь, про то не споешь. Любовь — слово широкое! Кое-что из твоих стихов я забираю для нашего будущего концерта ко Дню строителя. Согласен?
Виталий и на это согласился после недолгих колебаний.
— Вот и будь таким, — обрадовался Чупров. — Кто-то правильно сказал, что искусство — это увидеть, прочувствовать, высказать! Будет тебе и радость за муки, и пот черновой работы. По себе знаю, как ждешь концерта, как радуешься после него…
Письмо из редакции принесла Виталию Аграфена Тихоновна.
— Казенное никак? Тебе? — встревоженно разглядывала она необычных размеров конверт с типографским оттиском адреса газеты. — Натворил что, сознавайся?
— Натворил, вот именно что натворил, — еле переводя дух от подступившего волнения, сказал он. — Поглядим вот: петь или плакать пришел мне указ?
Он не угадал: в редакциях прямота не в правилах — его просто вызывали для беседы «по поводу рукописи».
— Не плачешь? — заглянула в лицо Виталию старушка. — Ну и хорошо, значит. Пойду и я по хозяйству…
Виталий тут же хотел бежать к Чупрову, но тот сам появился возбужденный:
— Ну, солдат, поздравляю! И… не вели казнить, вели миловать — вот! — С этими славами он положил перед Виталием номер городской газеты. — Читай свой стих на четвертой странице. Понимаешь, корреспондентка тут несколько дней кружила по стройке, расспрашивала о работе, обо всем — я ей возьми и скажи про тебя, показал стихи, которые взял для концерта, а она их…
Ничего почти не слыша, кроме гулкого стука своего сердца, непослушными руками Виталий пролистнул газету и увидел свое имя над двенадцатью ровными строками стихотворения. Он писал почерком, сильно наклонным влево, а тут все буквы стояли смирно, шеренгами, отрядиками, колонной, как бойцы на смотре. Знакомые, наизусть памятные слова теперь таили в себе и сдержанную торжественности и непоколебимость внушали то магическое чувство общности, монолитности и силы, что пробирает тебя всего до мурашек…
— Ну что ты так разволновался?! — встревожился Гена Чупров. — Очнись… Уж не реветь ли ты собрался? Ну-ну, смотри веселей, солдат, — вот так!.. Мне, конечно, надо было тебя предупредить, подготовить, но я побоялся, что ты рассердишься, все заберешь из редакции. Извини. Ну и пойду я, пожалуй, а то мне вот-вот ехать на конкурс.
А через несколько дней потный, растерянный, совершенно уничтоженный сознанием собственной бездарности, Виталий Дикушин сидел в кабинете замредактора перед расшитыми тетрадками своих стихов, испещренными пометками, замечаниями и просто «забитыми» крест-накрест. Беседа длилась уже больше часа.
— На первый раз, пожалуй, достаточно, — заключил наконец замредактора. — Работы здесь тебе открывается, Виталий, непочатый край!
— Что тут работать — ничего не осталось…
— Не осталось, ты говоришь?! Здесь — да, но здесь, в сердце? Очень даже многое осталось там — это же всюду чувствуется по верным строкам, по образам. Простое неумение обращаться со словом, организовать в строку свою внутреннюю речь мешает тебе. Надо серьезней отнестись к делу. Гете говорил, что познавая себя, человек находит пути к познанию чужих душ. К ты уже сумел в том стихотворении, что мы опубликовали, выразить коллективную радость от труда строителя. Поверь, скоро у тебя появится много хороших стихов, и придет это только через неослабный и постоянный труд, придет верно, как приходит за утром день, за ночью — утро.
Прошел скорый августовский дождик. Он уже кое-где посбивал с деревьев ослабевшие и только еще начинающие желтеть листья. Лужицы на асфальте старчески морщились под легким ветерком, пахнущим зрелыми плодами, цветами и грибной прелью…
Виталий сел в автобусе, положив свою рукопись в газете на колени.
«Ничего. От Жанны даже больше бумаг возвратилось», — про себя усмехнулся он и почувствовал, как при одном упоминании имени девушки сердце будто обдуло сырым и прохладным ветром.
Как заскорузлый дубовый лист будет, наверное, его чувство крепко держаться за сердце и трепетать при дуновении воспоминаний еще не одну зиму.
Контакт
В мастерской моей хаос: на полу, на стенах, на столе, на табуретах — этюды, более или менее законченные наброски морского пейзажа, выполненные маслом, акварелью, темперой. Везде море: в дождь, в снег, под радугой, под луной, штормовое, тихое, во время отлива, прилива, утром, днем, вечером, с высокого берега, с отмели, вблизи, издали.
Каждый этюд с протокольной честностью запечатлел какое-то одно мгновенное состояние стихии, но ни один из них целиком не записался в картину — каждый отдал ей лишь немногое, иногда один-два мазка.
Главное море на полотне можно сразу узнать, но нельзя пойти и посмотреть в жизни, хотя есть точное состояние погоды, время дня, подлинные ориентиры на берегу. Созданное из реальных деталей, по реальному образцу, из света и тени, из чувства и мысли, оно, это море, сразу и весь Тихий океан и некий фантастический Солярис. И еще: в него впадает остановленная дамбой, поросшая осокой и кувшинками река моего детства Акимушка. Море такое, каким узнала бы его моя рано умершая мать, никогда в жизни не видевшая морской волны, оно доброе, мудрое, сдержанное, щедрое и бесконечно могучее, как все хорошие люди, каких я встречал на земле; оно даже единственный солнечный лучик не забирает себе, а преумножает его, усиливает, напоминает о празднике, как новогодняя елка, пусть даже с единственной зажженной свечой…
Моей кистью писала память, надежда, все доброе и простое, что нажито в душе, что откликается на три слова: «Голубые дороги Родины». Так названа предстоящая выставка маринистов. К ней я и писал картину. За год, конечно, мудрено создать шедевр, но и за всю жизнь ничего не создашь, если не будешь пытаться выразить себя во всем, чего касаешься кистью. Другое дело — как получилось. Пока холст в мастерской, этого никто не знает. Не знаю и я. Мучительное, блаженное неведение! Не будь его, навряд ли появились бы на свет великие творения человечества, потому что гению так же скучно творить заведомый шедевр, как и посредственности заведомую посредственность.
Творчество — это не холодные, рассудочные прикидки результатов, хотя художник — обыкновеннейший из смертных, но лишь до тех пор, пока его не коснется вдохновение, — тогда он кажется «странным, если не сказать больше. А когда тобой повелевает один разум, ты чувствуешь себя уже лишенным способности творить чудеса и годишься только на обыденное: закрыть краски, помыть кисти, взглянув на погоду, надеть плащ, купить по пути буханку хлеба домой да десяток общих тетрадей для дочери…
Мне надо бы действительно навести порядок в мастерской, прибрать отработанные этюды, посмотреть ранее отставленные работы, определиться… Но… не могу, руки не поднимаются нарушить хоть что-то в той атмосфере, которая окружала меня все это время работы. Кроме того, у меня ведь до сих пор так и нет определенного ощущения, что холст закончен, нет удовлетворения, нет даже элементарной человеческой усталости, что следует за всякой проделанной работой. Какой уж день я все маячу с кистью перед картиной, порой так и не решаясь даже коснуться ее, а порой доходя до такого умопомрачения, что кажется, хвачу шпателем по полотну снизу вверх, спущу море полосами на пол и начну все заново!
Побороть последнее желание стоит стольких сил, что ладони вспотевают и поджилки затрусятся, — тогда лучше присесть или уйти куда подальше от греха…
Надо показать кому-то картину, иначе изведусь или наделаю глупостей. И жена уж заметила, что мой характер начинает портиться.
Они долго смотрели на полотно — два молодых художника, мои приятели. Я знаю; придя ко мне, они заранее были полны искреннего желания удивиться, обрадоваться моей новой работе, во всяком случае, не сговаривались огорчать меня перед самым днем заседания выставочного комитета. Так вышло. Но они вовсю старались еще ободрить меня:
— Ничего, конечно, несколько не с руки, правда… А зато ют эти две акварели — они почти готовы, да их и в таком нервном виде (еще лучше!). можно смело в выставкой. Здорово, аж холодком пробирает, ей-богу!
Хорошие ребята. Кистью владеют не без понятия, даже школа чувствуется в иных работах, а не дошло… Что ж, грех и обижаться — молодые торопыги, законченные максималисты. Им все или ничего. Нет, с пользой для самодисциплины так можно думать, конечно, но творить в таких узких рамках невозможно.
Свойство молодости: веровать, что ты все можешь. Научившись дышать, мы уже не отделяем вдоха от выдоха, научившись ходить, не смотрим, куда придется подошва сапога. Стереотип становится модулем сознания, даже чувств. Если кисло — морщимся, некрасиво, непривычно — морщимся; незнакомо — обходим, выжидаем. Стереотип. По-латыни — «стереос плюс типос» — твердый отпечаток. Только не может он быть у всех одинаковой твердости, надо же надеяться! И сам себя мастером не назовешь, как ни крути. Кто-то правильно оказал: признание мастерства всегда было уделом других мастеров. Точка.
Выставком — десять художников, десять несхожих мастеров.
Разговор краткий, мастерский.
— Представляйте работу, Василь Васильевич.
Это значит, что мне надо из ряда приставленных лицом к стене полотен взять свою картину. Обратить ее к выставкому, поставив на специальное место.
— Спасибо, — говорит председатель, но для меня это еще безвкусный пряник. Что будет дальше?
Дальше молчок, молчание, продолжительное молчание…
А ты стоишь ни жив ни мертв. Стоишь здесь или бежишь куда-то по земле, по воде или по небу — хоть бы дальше! В груди жжет, сердце обмирает, губы сохнут, коленки подгибаются, а спина невольно сутулится, будто готовится принять тяжесть последующих слов. Ведь будут же слова, черт побери, скажет же хоть одно кто-нибудь из десяти-то человек! Сжатые кулаки полны пота…
Наконец председатель спохватывается:
— Однако, товарищи, у кого есть предложения?!
И опять молчок. Глаза в стол, лишь некоторые еще тайком зыркают на полотно, но губы у всех сжаты.
— Ясно: предложений нет, — заключает со вздохом председатель и, большой любитель академических истин, говорит мне:
— А ведь келейная живопись, Василь Васильевич, келейная, вы посмотрите-ка хорошенько!.. Надеюсь, вы меня понимаете.
Как он сам-то не понимает, что в данном случае его молчание было бы более этичным, если не выглядело бы настоящей гуманностью?! Эх…
Домой с «зарубленной» картиной обратный путь в сто лет. Стыдно и тошно. Если б кто меня задел сейчас, отреагировал бы, кажется, самым хулиганским образом. Самое это мучительное — сдерживать в себе хоть радость, хоть беду. Природа предусмотрела слезные железы, но, господи, мы же давно возвысились над инстинктами, и только разве во сне еще увидишь себя плачущим ребенком. А потом удивляемся: откуда берутся такие слезливые старики?..
Рама кажется тяжелой и нелепо большой. Подозреваешь, что пассажиры автобуса все знают, все видят через плотную оберточную бумагу, насмешливо переглядываются и говорят намеками.
Шевельнулось позднее раскаяние: не лучше ли было послушать совета молодых коллег и принести на выставном еще и те две акварели? Они, может, прошли бы на выставку, и вез бы я сейчас только часть непринятой работы. Часть, а не все. Есть разница?
Э, брось, приятель, ты же знаешь, что искусство на части не делится. Есть — так есть, а нет — так нет!
У своего же подъезда меня облаял соседский пес Урал. Не узнал меня сегодня, такого пришибленного.
У нас жильцы в доме — сплошные любители живой природы: собака, пять-шесть котов и кошек, а вон в, дверь, что рядом с моей, стучит клювом инкубаторский петушок Джигит, эдак он скоро дверь соседке насквозь продолбит — целыми-то днями настукивать!
Уходя на работу, каждый живность, свою за дверь выставляет. Поэтому Джигит вон уже хромой, чужими собаками и котами хватанный. Вообще нелепа и случайна его жизнь среди нас. Закупленный с десятками собратьев для свадебного пиршества, он каким-то чудом избежал участи цыпленка «табака»; приглянулся потом приехавшей погостить малышке и некоторое время жил в холе и сытости, служа ребенку заместо игрушки. Но ребенок уехал, подросший петушок познал улицу (кстати, и кличку Джигит получил он от подвыпившего прохожего за смелость, с какой накинулся клевать ноги чужака, помогая брехавшему Уралу отстаивать прибегающую к нашему подъезду территорию), запаршивел, отощал. Хозяйка перестала запускать Джигита в квартиру, загоняли на ночь в подвальную кладовую, всякий раз моля погибель на его голову. А утром он опять бежал сломя голову к каждому малышу во дворе, давался в руки и опять пытался достучаться в двери к той, что больше всех его когда-то ласкала и холила.
Зря я с этой проклятой холстиной прусь прямо домой, надо бы по пути в мастерскую забросить, а то сам нарываюсь на нежелательные расспросы — этого мне только сейчас и не хватает!
Жена, однако, догадалась о происшедшем, ни о чем не спрашивала, сделала вид, что ничего такого…
— Какая жара на дворе, правда? Принести холодненького кваску?
Неужели я так прост, примитивен, иго понятен с одного взгляда?..
Злюсь потихоньку, хоть и сознаю, что при подавляющем числе добродетелей у наших женщин нам легко переводить иные в разряд недостатков: добра надоедливо, нежна до приторности, внимательна придирчиво…
А июль чувствуется и в квартире: жарит и парит, жарит!..
Дочь в своей комнатке «балдеет» от новомодных магнитофонных записей. Не миновало и нашу семью испытание хард-роком, самым тяжелым, что есть в рок-музыке. «Прямо между глаз» — как вам понравится такое название концерта?
С некоторых пор музыка мне чудится этакой гадиной, не гремучей, так гремящей своим бесконечным языком-лентой в магнитофонной кассете.
Вот магнитофон умолк, будто поперхнулся. Такая это благодать — тишина! Наверное, жена пошла в комнату дочери и сказала… Что же она ей может сказать? «Ах, Лара, прекрати хоть сегодня эти завывания».
Неужели со мной это только сегодня, а завтра все пройдет, и я буду опять что-то делать, думать о другом, жить-поживать?..
Кот Марсик пришел потереться о ногу, чтоб вызвать во мне ответное ласковое чувство. Мне бы его заботы!
— Пошел прочь! Урал с Джигитом тебя дожидаются, — ворчу я и выставляю кота за двери квартиры.
Распаковывать картину руки не поднимаются, да и смотреть на нее сейчас не смогу!.. «Предложений нет. Келейная живопись».
— Черт возьми, опять Марсик? Кто тебя впустил?! — Уже с меньшей любезностью беру кота за шиворот и бросаю на лестничную площадку, кричу жене: — Рая! Не впускай мне больше Марсика, нечего ему тут под ногами путаться!
— Хорошо-хорошо! — скороговоркой отвечает жена.
«Хорошо-хорошо! — передразнивается у меня в уме. — Что хорошего-то? Привыкли к минимуму слов в обращении: «предложений нет!..»
Как гудит голова… И духота. Хоть рот разевай, будто рыба без воды. Да, в такой день самое место в воде по горло сидеть.
— Марсик? Это уже черт знает что! Рая! Я же просил!..
— А что такое? Ах, Марсик… Но я его не впускала, честное слово! Да ты и сам бы услышал стук двери.
— Действительно. Уж не кажется ли мне, что квартира полна котов? Я их вышвыриваю, вышвыриваю, а они все есть! Это уж третий, если, впрочем, не ошибаюсь.
— Да ты просто сегодня переутомился! По духоте прошел, а в автобусах, наверное, давка — все к морю спешат. Не поехать ли и нам искупаться? На нашем месте у Китовой сопки обычно никого не бывает.
— Вообще-то можно. Лодка на ходу вроде бы…
— И Ларочка пусть с нами!
— Только без магнитофона!
— Естественно!! И возьмем что-нибудь закусить, ведь ты еще не обедал. Так мы собираемся?
— Я готов.
— Тогда хоть галстук сними.
Здорово она это придумала — вытащить меня из квартиры на морской простор!
Весело гудит лодочный мотор, легкий ветерок от движения приятно обдувает лицо, кипит перекрученная винтом вода за кормой — зеленоватая, с прожилками пены, как подкожные волокна на плохо очищенном апельсине, шипит, как нагазированная, дышит, клиновой волной расходясь к берегам. А там скалы и лес, прикрытый махровыми облаками зелени, и в глубине его полумрак, застоялая сырость, гнилой запах замшелых валежин, паутина, пауки, муравьи, улитки на грибах — другой мир. Кажется, тоже знакомый до мелочей, а не напишешь, закрывшись в келье, потому что каждое деревце имеет неповторимую биографию роста, силуэт, свое особенное положение в лесу, место под солнцем, незаменимых соседей и ближайших родственников, и трава под каждым деревом иная растет; и грибы, и птенцы, и цветы…
Жена и дочь на переднем сиденье о чем-то говорят, потихоньку смеются, оглядываясь на меня, — боятся, что веселость их-еще невпопад с моим настроением.
Чего уж там! Я вдыхаю полной мерой морской воздух и, стараясь перемочь гул мотора, затягиваю песню:
Я люблю тебя, жизнь, Что само по себе и не ново!..— Жена с дочкой улыбаются посмелей, подтягивают мне, тут же выправляя мелодию песни. Мы поем и ни о чем больше своем не думаем, потому что в пении уединиться невозможно. Так бы всегда явственно чувствовать друг друга и в жизни, а то по утрам торопливо разбегаемся по своим делам и будто разрываем свой союз до вечера, может, и не вспоминаем друг о друге ни разу за день.
Девятиклассница Лариса уже мечтает, наверное, полюбить какого-нибудь прекрасного героя. Мне надо будет как-то сказать ей, чтобы не искала прикрас для своей любви, ведь прекрасным станет все то, что полюбишь…
Наша бухта. Мы с женой назвали ее бухтой Молчания. Почему? Наверное, каждый замечал, что на природе мы меньше всего повышаем голос и разглагольствуем. Это между собой мы бесцеремонны, нередко срываемся на крик, улыбнуться лишний раз боимся, полагая, что сантименты современному человеку не к лицу. Но истоки сыновнего отношения к природе нам бы следовало отыскать и прочувствовать в наших людских взаимоотношениях, и кто знает, может, тогда мы научимся наконец отдыхать душой и среди себе подобных, не будем бежать, мчаться на машинах и лодках за тридевять земель к деревьям, даже породы которых не знаем, к птицам, что отпугнем, к траве, что потопчем и сожжем кострищами.
Ни во что не вмешиваясь, ничего не тревожа, ходить тихонько и удивляться, как от малейшего перемещения облачка в небе, от порыва ветерка, от единственного шага в сторону или просто от перемены твоего настроения море меняется неузнаваемо, неповторимо, вдруг, от берега до горизонта. Одна и та же старая, до остова разрушенная баржа, некогда выброшенная штормом на камни, на разных рисунках кажется иной, на другом море, в другое время.
Кто-то верно сказал, что моря-океаны — это глаза Земли. Точно. Ведь и человеческие глаза не бывают только печальны, только радостны или гневны — они таят десятки оттенков всех тех чувств, что вызывает жизнь в своем беспрерывном течении, меняя облака, солнце, звезды, волнуя водоросли, волнуя сердце. Сколько догадок и предположений вызывает потемневший пенопластовый буй с куском рыбацкой сети, просмоленная щепа с какого-нибудь погибшего в бурю баркаса, диковинная железная накладка с икряно-красной ржой, мыслимая лишь на каком-нибудь старинном сундуке с фамильными или государственными бумагами, с драгоценностями!..
Перед замшелой каменистой грядой и зарослями ламинарии я глушу мотор и сажусь к веслам. Грести трудно, водоросли то и дело захватывают весла. Но вот и чистая вода — такая прозрачная, будто ее и нет вовсе, серо-белое дно кажется на расстоянии вытянутой руки, хотя до него около трех метров.
Прекрасный день, ласковая подъемная вода, побуждающая к ребячеству, к беспричинному, неуемному смеху. Время останавливается, мысли приходят только самые простые и непосредственные: тебе хорошо, ты счастлив, что рядом с тобой самые дорогие и нужные люди, что они веселы и здоровы, ты любишь их и все вокруг — море, небо, свой век, всех на земле людей! Ты любишь, но нет-нет да и всколыхнется досада, как колышется в воде похожий на оборку кофейного цвета лист морской капусты: почему же любовь свою, такую всеохватную, ты выразить-то никак не умеешь, человек два уха? Или сердце — келья? Вот привязалось словечко!..
Омытые морем, немножко усталые, мы сделались тише, серьезнее, глубже, дружней — я это чувствовал. И еще я чувствовал себя в том состоянии, когда в руке обязательно должна быть кисть. И прав был мой академик: на полотне у меня еще не море, а только мениск его меж скалистых берегов. А если уж придерживаться сравнения моря с глазами, то с бельмами — вышли глаза, до дна не доглядишься, а ведь я видел сегодня близкое переливчатое дно, я видел притонувшие облака, видел словно ожившие медлительные крапчатые звезды, нападавшие с неба ночью. — море верная старая зыбка, в нем что хочешь оживет, обрастет и родится!
На щелчок замка из глубины квартиры выбежал с радостным мяуканьем Марсик.
— Опять этот котяра самым непостижимым образом оказывается дома, тогда как я отлично помню, что был он во дворе, — сказал я.
— Тебе это показалось, ты не нервничай, пожалуйста.
— Ничего мне не показалось!
Только я успел смыть под душем морскую соль, как жена громко позвала меня и показала на окно. Недавно выдворенный в очередной раз из квартиры; Марсик карабкался с улицы по переплету окна к форточке, затянутой медной сеткой, оторванной с угла. Видно, кот проделывал эту процедуру не впервые: уцепился когтями за край сетки, подтянулся, поднырнул, оставляя на проволочках шерсть, спрыгнул на подоконник, на пол — готово дело!
— Вот и вся отгадка по поводу нескольких котов в квартире, которых ты вышвыривал одного за другим! — смеялась жена. — И додумался же!
Мне ничего не оставалось, как тоже удивиться сообразительности котенка и на этом забыть про все свои неудовольствия на его счет, — невеликое дело, а настроению подспорье!
Что-то еще говорил беспечное, что-то ел-пил за ужином, а сам давно уже в мастерской весь, с палитрами и кистями. И когда действительно оказался у мольберта, из всего внешнего теплилась лишь одна благодарная мысль: «Молодцы, ребята, углядели-таки правду хоть в двух маринах, которые сам я умудрился затереть на холсте самым безбожным образом!»
И море мое постепенно набирало воздуха, разворачивалось, рвало волной мениск. Мне было мучительно хорошо наедине с этой животворной стихией, которой от века нет переводу, где что ни капля воды — в ней планктон или икринка будущей сильной рыбы, что ни берег — там обязательно найдутся люди, от которых пойдут потом моряки, плотники или поэты.
Хорошо!
Тесное море
«Тесное море друзьям! — воскликнул товарищ юности Павла Иволгина, заключив его в крепкие объятия. Еще мгновение назад они едва не разошлись безразлично, столкнувшись в сумеречном проходе перегрузчика «Донец».
— Надо же! Не на Ленинской во Владивостоке, а в Тихом океане — нос к носу! А я смотрю…
— И я смотрю-ю! Видать тут плохо, но я кожей почуял — Пашка! Пошли ко мне в каюту, я здесь вторым механиком.
— Молоток! А я на плавзаводе паросиловиком. Ну как чувствовал, сам сегодня напросился на перегруз банкотары! Вообще-то и мы уже во Владик навострились, но капитан-директор и на переходе решил не останавливать завод — запасаем сырец, баночку вот… Это здорово! Ты рассказывай: кого еще из мореходки встречал за эти годы, где бывал, женился?..
В нечаянную встречу всегда успеваешь больше вопросов задать, чем получить ответов, но не это главное — всколыхнется в душе все незабвенное, юное — легче дышится потом, смелей думается и живется.
Уже совсем под вечер отвалил от «Донца» мотобот, с последним стропом ящиков увозивший Павла Иволгина с его рабочим звеном.
— А я однокашника на перегрузчике встретил! — поделился Павел. — Столько лет нигде не могли сойтись наши пути, а тут — на тебе!
— Гора с горой не сходится, — напомнил поговорку Белов, пожилой грузный кочегар.
— А с иными и разойтись бы рад, да никак! — буркнул электрик Портнягин, молодой парень, и всем было ясно, что имеет в виду он одну конкретную работницу плавзавода. И Павлу стало стыдно, своего мальчишеского восторга. Даже сильная радость, если она натыкается вдруг на чью-то угрюмость, уступает, деликатно прячется, сознает, что одна она всем миром еще не правит…
Смеркалось. На море это происходит не так, как на земле: подвижная вода суетливо отражает, поддерживает слабеющий небесный свет, и постепенно с ним, уже как бы застывшим, лишенным проникающей силы, море само стекленеет, потом тускнеет, как мятая свинцовая фольга, и вот уже только редкие бельмоватые блики мелькают среди волн. Сразу и ветер наддаст…
Холодные брызги долетают до самой будочки над моторным отсеком, где стоит Павел Иволгин, полуобернувшись от ветра к старшине мотобота у румпеля.
— Вы получше за ящиками, за ящиками своими смотрите! — крикнул старшина, отплевываясь от горьких брызг. — Мой моторист за день с ними до ребер вытрепался… Свен! Свен, где ты там, уснул? — пригнулся он к моторному отсеку, и оттуда, как пружиной, выпрямило долговязую фигуру латыша Свена.
— Раздай пассажирам спасательные пояса! — приказал старшина мотористу. — Волна сейчас мигом разыграется. А тут еще ни черта не видать из-за этого штабеля! Не могли последние ящики на два парашюта раскидать? — бурчал он уже в адрес Иволгина. — Вот учапаем сослепу к черту на кулички, так будете знать!
Чтоб сверить направление на одно нужное созвездие огней из четырех плавзаводов впереди, что светились правее холодного зарева над далеким берегом, старшина резко перекладывал румпель с борта на борт. Мотобот плясал на волнах, зарывался носом, шатался и вообще казался вертлявым бревном. Павел поспешил присоединиться к Белову и Портнягину, которые охлопывали ладонями штабель ящиков с банкой, загоняя на прежние места выпирающие, ерзающие легкие коробки, зная, что стоит одной где-то выскользнуть, как все это двенадцатирядное сооружение вмиг рассыплется карточным домиком.
На брызги уже не обращали внимания — ватники намокли, отяжелели, пробковые спасательные пояса, белевшие как охотничьи патронташи, сковывали движения.
— Ребята, вы сами покрепче держитесь, — остерег Павел. — Лучше потерять десяток ящиков, чем искупаться в февральском Куросио!
Быстро отставали красно-зеленые ходовые огни «Донца» — он, видно, уже снялся на Владивосток. Некоторая зависть к уплывающему товарищу шевельнулась у Павла, ведь ему скорое возвращение в порт не светило. Сватают, как говорится, подменить паросиловика на плавзаводе-3, уходящем из этой экспедиции к островам Шумагина в Беринговом море перерабатывать продукцию. Хоть в море и просьба имеет силу приказа, Иволгину, может, удалось бы избежать перевода на «тройку»: семь месяцев путины позади, есть даже один неиспользованный отпуск. Да и главный механик, Павел знал, встал за него горой: четвертый год паросиловик на судне, к коллективу притерся, знает капризы механизмов, а тут как раз нужно проводить дефектовку перед очередным ремонтом, саморемонт организовать — с новым-то человеком не очень развернешься.
Тесное море друзьям — так заметил товарищ Павла на «Донце».
Тесно в море рядом с бывшими друзьями — так можно было понять слова Портнягина (он сейчас сам просит перевода на «тройку»).
А Иволгин сам не знает, что ему лучше: остаться или перейти?
Совсем в тупик зашли некогда ясные его отношения с Машей Колкиной. Она врач на плавзаводе, молодой специалист, как еще говорят. Познакомились перед самым отходом в рейс — он добровольно помогал в погрузке медикаментов и оборудования, был в ударе, много шутил — Маша скоро с ним стала на «ты». Девушка была привлекательна и, как ему тогда казалось, легкодоступна…
Он получил такой отпор, что растерялся, испугался, готов был в море провалиться из собственной каюты от стыда и презрения к себе!
— А вы только этого и хотели добиться от меня?! — сразу как-то съежившись, растерянно улыбаясь, спросила Маша, совсем не похожая на простушку, мгновение назад хохотавшую над его остротами, позволявшую и обнять себя и поцеловать даже. — Э-эх, а я-то, дурочка, возомнила!.. — И тут же горячечно зашептала: — Нет, нет, ради бога, вы, пожалуйста, не думайте, что я стану жалеть себя для вас. Только обидно вот, тяжело, извините меня… — Она и плакала как-то совсем особенно: не шевелясь и не гримасничая — слезы лились ручьем из ее округленных, огорошенных глаз, вымывая в зрачках слепящие кристаллики нечеловеческой боли и какого-то детского недоумения. Нельзя было не отвернуть обоих глаз. Нельзя было не понежиться, не ощутить себя самой распоследней сволочью! И, кажется, только в тот миг он понял захолонувшим сердцем, как дорога она ему, как нужна. Позже он даже хотел себе объяснить, что и похотливое помрачение в нем было тоже следствием уже большого чувства, но оборвал себя тут же.
Так началась его мука: Маша избегала встреч, а при необходимости обращалась подчеркнуто официально; он потемнел, похудел, осунулся, терзаясь и непреодолимым желанием объяснения с Машей и страхом все окончательно испортить новой поспешностью. Может, для того чтоб лишний раз убедить ее, что он уже не прежний, Павел даже костюм новый купил для предстоящей встречи с Машей, рубашку белую, строгий темный галстук… Наконец, однажды узнал, когда ее дежурство, оделся с иголочки и пришел в санчасть. Она выслушала его не пряча усмешки.
— А вы, товарищ Иволгин, довольно упорны в достижении своих целей. Даже когда утерян фактор внезапности. Не страшно начинать все сначала?
В белом халате, неподступная, спокойная, она говорила с ним как медик, насквозь видящий тайные хитрости пациента.
«А сама говорила, что влюблена! — недоумевал он и сам заводился: — Подумаешь! Строит из себя!.. Девчонка!»
С головой уходил в работу, с легким сердцем пропускал обеды в кают-компании, обходясь чаем наедине и мясными консервами из судового магазина. Однако не замечал, чтоб на Машу как-нибудь влияло его такое затворничество. Ненароком встретятся в кинозале — он и рта не успеет раскрыть, а она щебечет:
— Как живете, товарищ Иволгии, как самочувствие? Что-то не видно вас, что-то вы с лица спали… Напрасно, знаете ли, в здоровом теле здоровый дух!
Ну что ты ей скажешь на это, что спросишь?! Любит, не любит, плюнет, поцелует — хоть на ромашке, действительно, погадай, только где ее тут взять?! Сядет он от Маши неподалеку, смотрит и смотрит, а то загадает: «Обернется хоть раз — подойду после сеанса, и пусть хоть что!..» Она же возьмет и не обернется ни разу.
Еще он слышал, будто от человека к человеку лучистая сила совпадающих чувств истекает. Специально станет прислушиваться к себе — опять непонятно: по-прежнему каждая клеточка сердца любит, страдает, глаза не насмотрятся, а чтоб еще что-нибудь новое к этому прибавилось — нет. Даже когда он один совсем, например, так такая маета, бывает, найдет, хоть плачь навзрыд, как ребенок!.. Долго ли такому продолжаться?!
— А вот сейчас выгрузимся, попаримся в баньке, поужинаем и — на танцы! — обняв вразмах штабель ящиков, мечтательно сказал электрик Портнягин.
— Кто о чем, а шелудивый о бане! — неодобрительно отозвался Белов. — Все танцульки ему да танцульки. Пора уж серьезным мужиком становиться, Портнягин!
— А в чем серьезность, папаша? В том, чтобы пораньше спать завалиться? Но мне не спится, мне на людей красивых охота посмотреть — чтоб они были не в робе, не в клеенчатых передниках и с ножами!
— Ну-ну, дотанцуешься, когда Верка тебе чего-нить отчикает!
Пока Портнягин вызывающе отшучивался с Беловым, Павел припомнил невзрачненькую девчушечку-работницу, источавшую густой рыбный запах, в мокром фартуке, с мокрыми резиновыми перчатками в руке, с мокрыми глазами умолявшую главного механика не переводить Лешу Портнягина, потому что они «дружат». Вызванный позже электрик заявил, что не желает оставаться посмешищем из-за ревности бывшей подруги, уж лучше хоть куда уйти.
— Да хватит вам зубатиться, — оборвал он спорщиков. — Подходим к борту — смотри, в оба!
Опасения Иволгина были не напрасны: отраженные бортом судна волны создавали толкучку, а от долгой болтанки в пути обвязка штабеля сильно ослабла, и вот в один из толчков верх штабеля разрушился и ящики посыпались на стоящего с левого борта Портнягина. Тот вскинул вверх руки, потерял опору — полетел в море! Иволгин тут же прыгнул за электриком, угодил ногами в плавающие ящики, упал в воду спиной и чуть не задохнулся от ледяного ожога.
Положив румпель на циркуляцию, старшина мотобота на чем свет стоит разносил оторопевшего Белова, неловко топтавшегося около рассыпанных ящиков с банкотарой.
— Моряки, мать вашу растак! Брось картонки, на бак иди, на бак, черт! Люди за бортом, а он вздумал тут!!.
— Я поплыль спасать? — спрашивал моторист Свен, сдирая с себя ватник.
— Я вот тебе поплыву! Где твое место по расписанию тревоги? На бак!!!
По пути Свен быстренько рассовал по палубе груду картонок, перемахнул на нос мотобота, взял на изготовку багор, повернув его крюком к себе, перегнулся за борт…
С плавзавода направили прожектор, стали майнать второй мотобот на кран-балках, вывалили за борт пассажирскую корзину. В это время Свен с Беловым уже выловили Иволгина и Портнягина — их скручивало калачиками, било крупной дрожью, так что с превеликими трудностями их впихнули в корзину, чтоб поднять на плавзавод. Белов сел со спасенными. Пот градом катил с него, хоть ватник свой он давно набросил на товарищей. Электрик обхватил ногу кочегара, как спасительный столбик, и тому скоро передалась его дрожь.
А на палубе плавзавода уже белел халат Маши Колкиной, казавшейся чистой Дюймовочкой среди монументально поблескивающих проолифенками бородачей из бригады грузчиков Феди Дюжего. Едва корзина стала на палубу, бригадир выветренным баском скомандовал:
— В санчасть их!
С привычным выдохом, легко, будто тридцатитрехкилограммовые ящики с мороженой скумбрией, двое грузчиков один за другим взяли Иволгина и Портнягина. Третий ухватился за Белова, но тот, дрожа, намертво вцепился в сетку корзины, молча выкручивался из дюжих рук, пока не выдавил из себя:
— Я-я не из моря!
— Дура! Спирту же дадут!..
Портнягина растирала сама Колкина, а Иволгина драил, как пемзой, заскорузлыми ручищами Федя Дюжий. Он старался, и скоро спина Павла горела огнем, стало больно.
— Довольно, — попросил он шепотом, — дай хоть простыню укрыться.
— Я своего оживил! — громко сообщил Колкиной Дюжий, энергично потер руки, с удовольствием понюхал их, передал врачу флакон со спиртом.
— Спасибо, вы свободны, Федор Иванович, — сказала Маша и, не оборачиваясь, передала ему синий байковый халат для Иволгина. Потом они с электриком сидели рядышком на клеенчатом диванчике.
— Согрелись? Не поташнивает, Павел Сергеевич? Как мне записать, сколько времени вы пробыли в воде?
— Кто ж засекал! Минуты три-четыре, наверное…
— Полжизни, короче! — сказал Портнягин и кашлянул в кулак.
— До этого не кашлял? — тут же бросилась к нему с фонендоскопом Колкина.
— Да нет, так это — молчал долго! — сконфузился электрик, поплотнее запахивая халат.
— Смотрите мне! — погрозила пальцем Колкина. — Чуть что неладное почувствуете — сразу ко мне! Напейтесь сейчас горячего чаю, я дам таблеток… Утром оба покажитесь. Товарищ Иволгин, я вам особенно напоминаю — не прячьтесь за работу!
Они уходили из санчасти «халатах и тапочках, по пути оставив в матросской сушилке мокрую одежду, сапоги.
— Вот и побывали мы в своем будущем вечном доме! — хмыкнул Портнягин. — Я как подумал, что подо мной тысячи метров холодного рассола, так и барахтаться бросил. А тут и вы, спасибо, Сергеевич!
— Брось! Все хорошо, что хорошо кончается.
— И что диковинно: о себе не думал, о матери не вспомнил, а о Верке своей — сразу!
— Это та девушка, что приходила к механику просить оставить тебя, не переводить на «тройку»?
— Она, шалава! — прикрывая грубостью теплые нотки в голосе, ответил электрик.
«А за меня просить никто не придет, — с обидой подумалось Павлу Иволгину. — Такой вот случай — а Маша все по-прежнему Павел Сергеевич, товарищ Иволгин! Да, хороша Маша, да, видно, не наша!..»
Переодевшись, он спустился в котельное отделение, поговорил с вахтенным, прошелся к турбинам — никаких замечаний, все работает, крутится, не требует его вмешательства. А сколько трудов стоила бесперебойная и надежная работа механизмов! Было время, когда число поломок за сутки превышало число рабочих рук, не знали ни дня ни ночи. Трудно теперь найти гайку, какой не касался бы ключом Иволгин. Он работал как все и больше всех, потому что обязан был беречь силы машинистов, особенно таких пожилых, как Белов и другие.
Он уйдет, и люди понесут свои вопросы и заботы кому-то другому, между собой будут обсуждать характер и привычки нового механика, сживаться с ним или спорить. Вспомнит ли кто о нем — был, мол, у нас Сергеевич… Да! О нем и сейчас-то даже те, кому следует, не очень вспоминают — правда, тут другое. В этой путине почти не было уже поводов, чтоб его «слушали» на судкоме или у капитан-директора. Смешно сказать, Иволгин даже не знает некоторых сменных мастеров рыбообработки, а раньше почти с каждым рабочим был знаком, выпроваживая то одного, то другого, присланного с просьбами наддать пару или электричества! На производстве так и есть: чем меньше о тебе говорят, тем лучше, знать, работаешь.
Он вернулся в каюту, не зажитая света и не раздеваясь, прилег на диване.
Холодный ветерок путался в невидимой шторке над приоткрытым окном, в подволоке простуженно сипела дуй-ка от калорифера, прикрытая не совсем плотно…
И все повторилось опять: качающийся на волнах мотобот, разваливающийся штабель ящиков, прыжок в море, но уже почему-то… за Машей Колкиной! Ее сразу далеко отнесло, а он, задыхаясь от тесноты моря, никак не мог преодолеть пеленающей тяжести мокрой одежды, своей неуклюжести. Сердце разрывалось от мысли, что он опоздает, и девушку ударит о борт, затянет под винт бота. Он видит ее белый халат, шапочку, неприступное, насмешливое выражение лица, Наконец он уже совсем рядом и протягивает ей руку.
— Смотрите мне, товарищ Иволгин! — погрозила Маша пальцем. — Такие шутки плохи на пороге нашего будущего дом?! — ? этими словами поплотней запахнула халат и поплыла к мотоботу, где Федя Дюжий, обрадованно поджидая ее, вывалил за борт свои ручищи…
«Да что это она все придирается ко мне?! — злится Павел. — Вот и думать о ней брошу, лучше о матери подумаю…» Тут его захватила такая щемящая грусть-тоска, что он проснулся.
Трепетала у окна шторка, сипела дуйка, диван вместе с палубой привычно мелко-мелко подрагивал от работы механизмов в котельном отделении.
Он встал, глянул на часы — одиннадцатый. Набросил куртку и вышел на палубу. На ветру где-то хлопал брезент, волны с громким плеском обшаривали борт судна, от бункеров впереди несло влажным запахом рыбы. В стенку одного бункера билась струя из шланга, и в свете прожектора брызги искрились снежной пыльцой. Не видно людей, не гудят лебедки — наверное, у рыбообработчиков какой-то перерыв. Павел пошел — на корму, стал лицом к непроглядной темени над Тихим океаном…
Будто уменьшаешься перед огромным пространством, забываешься в его гипнотической власти: кто ты, где, на какой планете, весна теперь или осень, который век?.. Вечность веет в лицо пресноватым запахом застарелой северной льдины, остывшим банановым духом, смоленой рыбацкой сетью. На пустынное море можно смотреть часами и видеть всякий раз то, что захочешь. Это так таинственно и необъяснимо, что невольно задумаешься: стихийное родство тут или родство двух стихий — человека и моря?
А еще ему думалось: «Все ли я сделал, чтобы примириться с Машей? Поди тут проверь! Скажешь «все» — похоже на правду, скажешь «нет» — тоже верно…»
Набрав в титане кипятка, он бросил в стакан пакетик чая и, поворачивая его ложечкой, с наслаждением вдыхал ароматный парок, представляя солнечное лето, горячие ступеньки крыльца в родном деревенском доме и благоуханную прохладу комнат, когда на троицу бабушка устилает полы сжатой серпом травой…
В дверь каюты тихо, неуверенно постучали. Он пошел открыть дверь и отступил, пораженный: у порога стояла Маша Колкина в наброшенной поверх халата теплой куртке, в белой медицинской шапочке набекрень; на груди виднелись резиновые трубочки фонендоскопа.
— Не спите еще, Павел Сергеевич? А я возвращалась от Портнягина и увидела свет в вашем окне… Не мешало бы температуру измерить и легкие прослушать, а то вон у вашего товарища насморк начался, чихания, шумы подозрительные!..
— Да я здоров! — отмахнулся Павел. — Лучше вот к чаю прошу…
— Нет, какие странные люди, право! Будто я беспокоюсь от нечего делать, — вспыхнула Колкина, сбросила на диван куртку, достала термометр, встряхнула и подала ему: — Сделайте одолжение, избавьте от угрызений совести. И давайте все же я вас послушаю. Последний раз потерпите.
«Почему она сказала «последний раз»?» — подумалось ему, но поддавшись уже раздражению от ее иронического тона, он самому себе противно вдруг засуетился, снимая рубашку, майку:
— Ах, пожалуйста-пожалуйста, Мария Анатольевна, за чем дело стало?!
— Ну вот и все, больше ненужных эмоций. Сердце и легкие без особенностей. Сто лет вам жить с таким сердцем! Можете одеваться.
— Не пойму я: это плохо, что сто лет мне жить?
— Да кто говорит?! Хорошо, Даже очень хорошо! Волнениям не подлежит — завидное сердце, как часы.
— Ну, знаете! Разговор у нас какой-то странный, вы не находите?
— Странный. А чего же тут особенного? Давайте термометр… Вот и температурка в норме. Извините за вторжение — долг, как говорится. Всего наилучшего.
— Маша!! Я никуда тебя не пущу, пока мы не сменим тона и не поговорим по-человечески. Вранье нашептали тебе твои резинки — мое сердце очень даже с особенностями: оно болит, оно измучилось любить насмешливую, злую девчонку, которой будто бы в радость терзать, терзать!.. Молчи! Я все скажу, а там уж как хочешь… Я люблю тебя, будь моей женой. Ответь «да» или «нет»? У меня нет больше сил, у меня и времени больше нет. Сколько я могу так терпеть, как ты думаешь?!
— О! Да у вас же горячка началась, товарищ механик, — серьезным голосом, бесстрастно отметила Маша Колкина и продолжила в том же тоне: — И я вот думаю: госпитализировать вас сейчас же или подождать утра?..
— Э-э-эх!!. — только это и смог выдавить из себя глубоко уязвленный Иволгин.
— Кукла! Девчонка! Воображала! Кукла! — твердил он потом сам себе, кружа по каюте. — О черт, как все глупо, глупо, глупо!
Опрокинул стул, наткнулся на шкаф, треснул его непонятно за что кулаком — открылась створка дверей, и, как насмехаясь над взбешенным сейчас Павлом, закачался, заводил манерно плечам тот новенький, специально для объяснения с Машей купленный в судовом магазине черный импортный костюм.
— К черту! Все к черту, вон, с глаз долой! — бормотал он, срывая с вешалок костюм, белую рубашку, галстук — все купленное для «того» случая, — выбежал из каюты к борту и швырнул одежду в море всю как была — ворохом. — Вот так тебе! Вот так!..
Чувствуя головокружение, он испугался, что теряет рассудок и от безразличия к себе может броситься вслед за выброшенной одеждой, — отпрянул от леера. В каюту вернулся опустошенный, как-то разом ослабевший, дрожащими пальцами долго не мог выщипнуть из пачки сигарету, прикурить…
Через два дня экипаж плавзавода стал готовиться к походу: зачехляли и крепили мотоботы, поднимали кранцы, стравливали из них воздух, проворачивали машины и механизмы. Боцманская команда приступила к надстройкам судна с кирочками, шпателями, шлифмашинками — обдирали старую краску, шпаклевали, грунтовали выбоины и поржавевшие места. Дожидались, когда мотобот с «тройки» перевезет всех списанных в отпуска и отгулы рабочих, заберет себе пополнение в новый поход через весь Тихий океан, совсем в другую сторону от дома. Туда дорога и Павлу Иволгину. Его чемодан вместе со своими вещами Портнягин унес и положил на парашют к сумкам других отъезжающих на «тройку».
За Иволгина пока оставался Белов, самый опытный из машинистов котельной. Инструктируя его насчет очередного заводского ремонта, Иволгин не услышал объявления о посадке на прибывший с «тройки» мотобот. Прибежал Портнягин:
— Сергеич! Трижды тебя по спикеру звали. В последнюю корзину айда — ругаются!
Наскоро попрощались с механиками, на бегу жали руки всем, кто вышел на палубу проводить. А Павел все тянулся взглядом поверх голов, надеясь в толпе на палубе отыскать Машу Колкину, но ее не было.
«А! Так, может, даже лучше, — смирился он, — раз — и все!..»
Поднимаясь в корзине над палубой, он смотрел на остающихся без него знакомых людей. Их много — им легче…
Но вот палуба осталась вверху, а корзина целит на мотобот, где ее встречают двое незнакомых матросов. А за их спинами, вокруг сложенных на крышках трюмов чемоданов и узлов, собралось до десятка «своих» — и это неплохо для начала жизни в новом плавучем доме.
«К вам, к нам!!» — приветственно машут руками два знакомых наладчика, еще кто-то за ними. Но кто это ближе всех смотрит так пристально и непонятно улыбается, прячась подбородком в лисий воротник голубого пальто? Маша?!!
Сама вызвалась на «тройку», не зная о его направлении сюда? Или перевелась именно потому, что он сюда направлен? Огорчена или обрадована? Однако ни один из этих естественных вопросов сейчас не занимал. Павла Иволгина. Он видел Машу — и это было все, что он хотел.
Гость
Шофер такси Роман Ревякин выехал на линию в ночную смену немножко не, в духе. Ну, во-первых, ночью все же человеку спать полагается, и как тут ни бодрись, а раздражение вперед тебя просыпается. Во-вторых, собираясь на работу, Роман понял, что второй жилец в его комнате спать еще и не думал ложиться — шушукается на кухне с какой-то очередной своей «знакомой». Дожидаются, когда Роман из комнаты уберется.
Ни умыться Роману толком не пришлось, ни чаю глотнуть. Ох, дождется, наконец, своего, ловелас несчастный! И взял же моду приводить в жилье всяких шалав, потому как известно, что любая иная женщина с мужиком в дом никогда не пойдет, а уж в крайнем случае пригласит к себе, где все ей привычно, откуда и турнуть гостя под зад коленкой можно будет, если что не так.
Нет, не повезло Роману с жильцом: и неаккуратный, и выпивоха, бабник и хвастун, каких мало! А как Роман радовался, что перебрался с частной квартиры в комнату малосемейки (целый этаж нового здания был отдан под общежитие), да еще один пожил несколько месяцев! И вот… Прокатился шар, как говорится, — Ревякин теперь часто поигрывает на бильярде в комнате отдыха, потому что вечно к жильцу приятели с бутылками валят, да и сам заявляется такой, что слушать его бредни тошно.
Ох, большое это дело — кто рядом с тобой живет! Ведь на работе, никуда не денешься, терпишь иной раз и откровенного хама, и брюзгу, мелочного зануду и какого-нибудь шикача с уголовной физиономией. Ладно, думаешь, катись-откатись, мне с тобой детей не крестить! Ждешь конца смены, а когда он подходит, начинаешь гадать, что же сегодня ожидает тебя в твоей комнате? А ведь были когда-то рядом самые нужные и дорогие люди: мать, отец, сестренка Нина — замуж она давно вышла, а он так и не появился, поздравил телеграммой да бандеролью подарок послал. Тогда как раз в море работать уйти собирался, но замешкался. Потом загорелся на большую стройку поехать — и опять что-то… Есть все же в этом городе что-то привораживающее, но стыдно очарованным балбесом быть — устроился шофером. А лучше б уехал домой, работал бы в совхозе на самосвале, женился, тоже бы, может, детей заимел, не завидовал бы чужому счастью.
Роману сразу не понравился пассажир в овчинном полушубке, на привокзальной площади втиснувшийся в кабину сначала спиной, а потом добрую минуту с помощью рук втискивающий свои ноги в огромных лохматых унтах. И дверцей овчина трахнула так, что у самого Ревякина внутри будто что-то оборвалось!
— Можно, кажется, и поаккуратней! — воскликнул он. — Или что государственное, то не свое, не купленное?!
— Извините, — кротко сказал пассажир, — я в кузне работаю — затяжелела, видно, рука.
— Мало ли кто где работает? Я же не тянусь прохожим головы крутить, когда баранку оставляю. На какую улицу ехать-то?
— А на все, какие есть! Только вы мне сразу скажите, сколько мне заплатить за весь Владивосток? — стал расстегивать на груди полушубок этот не понравившийся сразу Роману Ревякину пассажир. Молодой еще, судя по голосу, — это он из-за своей одежки неповоротливым стариком кажется.
— Это что, юмор? «Сколько заплатить за Владивосток?» — повторил Роман. — Мошны не хватит! И некогда мне шутить на работе. Если ехать, то говори куда… Купец тоже мне выискался!
— Извиняюсь, но я действительно хочу объехать ваш город — приезжий я. В гостинице не смог устроиться, ночь надо провести как-то с пользой, ведь времени у меня всего ничего…
— Та-ак, — на мгновение задумался Роман, — ну вот что: я работаю до шести утра, за час мне надо зарабатывать… — Он с расчетом назвал кругленькую сумму и деньги потребовал «на мотор», вперед то есть. Пассажир не стал торговаться и подал сотенную.
— У меня нет сдачи, — сказал Ревякин.
— Ничего, оставьте, утром сочтемся.
— Ладно. Перебирайтесь-ка лучше на заднее сиденье, располагайтесь поудобнее, а я в аэропорт катану первым делом — дорога длинная, так что и выспитесь туда-сюда… Не могу же я, на одном месте стоя, положенное количество бензина сжечь и километраж…
— Вы не поняли меня, наверное, — возразил пассажир, — я город хочу посмотреть. В аэропорт не надо ехать, потому что я недавно оттуда. Да и какой тут сон на новом-то месте? В кои веки выбрался сюда, жаль только, что ночью.
— Вот именно, что увидишь ночью?
— Все равно интересно: ночью один город, днем другой!
— А может, вы не ужинали, так у меня знакомый швейцар в ресторане за сторожа ночует — выдаст что-нибудь?
— Спасибо, но у меня с собой подорожник имеется, — тронул карман полушубка пассажир, — колбаса, хлеб, рыба… Все в порядке. А звать меня Валентином.
— Меня Романом, — откликнулся Ревякин на предложенное знакомство. — Поехали. Только куда сначала — вот в чем вопрос! В качестве гида я впервые, надо сказать… Нет, гостей, конечно, много возил, но все они какой-нибудь адрес да говорят, а так… Попробуем, однако!
Они приехали на причал морских трамваев, вышли из машины к пирсу. Было морозно, ветрено, пустынно. Впереди холодной цепочкой огней отражались в бухте суда, тяжелая темная вода плескалась в бетон.
Валентин размашисто подошел к краю и продекламировал:
На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих поли, И вдаль глядел…— Это бухта Золотой Рог, — поеживаясь на пронизывающем ветру, скоренько обвел впереди себя рукой Роман Ревякин, — отсюда суда в океан уходят, сюда и возвращаются — здесь их дом.
— Какой ветерок, смотри — океанский! — воскликнул Валентин, распахивая полушубок и шумно вдыхая морозный воздух. — Пахнет рыбой, сетями, дальними странами! — выкрикнул он отрывисто и спросил: — Ты бывал за морем где-нибудь?
— Нет, мне и здесь неплохо, — сказал Роман.
— Я тоже не бывал, вообще впервые море вижу. На Байкале вот приходилось даже купаться — лед! Вода холодная, — пояснил он. — А служил в Казахстане — там одни степи. Похожие очень на море, если смотреть долго-долго… А тут и смотреть не надо — чувствуется! Дыхание моря. Это мне повезло: страховку получил — тысячу. Жена, конечно, загодя покупки наметила — разнеси по магазинам денежки и дальше в кузне своей молотом постукивай. Ах ты, думаю, проза какая! Ведь очередные пять лет жизни пролетели. Что дни-недели незаметно мелькают — это ладно, но пятилетками попускаться — не жирно ли будет. И так все себя в чем-то сдерживаешь, окорачиваешь ради того-этого… Решил: махну на Тихий океан! Слезы, конечно, дома, истерики — все выдержал, выпросил несколько дней в счет отпуска, на самолет — и был таков! Своему Байкалу ручкой помахал. Я живу с ним почти рядом, в поселке.
— Лихо! — одобрил Роман. — Правильно. Себя же после уважать больше будешь, а всех денег ведь не соберешь. А то я вот показываю тебе город, сам здесь ни гость, ни хозяин. Вот даже пригласить тебя переночевать не могу — общага, да еще живет со мной такое чудо в перьях!.. Что трудно в городе, так это с жильем, поневоле снится отчий дом, как в песне поется. Большой он у нас, пятистенок — в нем хоть сколько гостей устроишь. Я тоже приехал сюда из тех же байкальских краев, из поселка — все никак не могу привыкнуть к тесноте и толкотне: спишь в одном месте, ешь — в другом, моешься — в третьем…
— А пьешь в каком? — засмеялся Валентин.
— Где попало, — отмахнулся Роман, — в комнате не разрешают, так каждый прячется, торопится. Вроде бы только что был человек трезвый, а уж идет-качается, бормочет на ходу! Жилец у меня такой. Все же зря я тебе не предложил ночь переспать на моей кровати, заодно и порядок бы навели кое-какой, пора уж… А утром бы сменился и покатили толком да ладом город осматривать.
— Брось ты на себя тоску нагонять! — отмахнулся Валентин. — Некогда мне рассыпаться по кроватям-то — завтра вечером уж и обратно лететь. Да есть у меня адреса, где можно было бы заночевать, если б захотел: в самолете с одним парнем познакомился — он мне свой дом записал, наказывал быть, еще теща наказала проведать своего сынка беглого — утречком его в постельке и захватить в самый раз! Так что поехали дальше: на мыс Чуркина, на Змеинку, на Эгершельд…
— Да ты все тут знаешь?!
— Из разговоров! Запомнить легко: Золотой. Рог, Змеинка — единственные названия! В знаменитых местах живешь, в таком городе, а недоволен! Я так всем завидую, кто хоть в Москве живет, хоть в Африке. Пусть не жить там, но интересно же посмотреть. А то в отпуске с огородами пурхаешься, с домом, глядь — некогда уж и ехать! И опять тебе дом да работа, работа да дом. Все тебя знают, всех ты знаешь — тоска. А в городе!..
— Ну что в городе, что в городе?! — вскинулся Роман. — Один раз никем не узнанный пройдешь, второй, третий, а потом так затоскуешь, хоть криком кричи.
— Так знакомься, дружи налево и направо, елки зеленые, что же ты?!
— Легко сказать! Я вот приду в свой таксопарк, со сменщиком пару слов скажу, кивну кому-то — все, разъехались-разбежались опять на весь день. Казалось бы — общая работа, интересы… Если нет между людьми чего-то основательного, коренного, общего навсегда, то как и дружить?
— Философия! Я, например, никогда на отсутствие друзей не жаловался — в армии, дома, в теперешнем поселке. Взять хоть сейчас: разве ты мне теперь не друг? А до утра поездим, так и вообще!
— Ну-ну, — снисходительно улыбнулся Роман Ревякин. Валентин нравился все больше — его правда. Завидны в нем и это молодое простодушие в понятии дружбы, непосредственность, умение и желание всему вокруг удивляться, радоваться. Наверное, так и надо жить — просто, открыто, нараспашку, стремительно принимая решения и никогда ни о чем не жалея. Только уже не получится так у Романа: пропал первый восторг перед городом, удивление, прошло ожидание необычного, чудесного, стушевались надежды на интересное будущее. Пришли терпение, понимание каких-то непростых жизненных вопросов, появился расчет времени наперед. Но разве равноценно все это утраченному, тому, что есть вот у Валентина?
Они еще много говорили о разном, объехали, кажется, все улицы города, все примечательные места, и в последний час работы Романа Валентин попросил подвезти его по адресу, что дала ему теща. Вот тут-то пришлось Роману удивиться, опешить, остолбенеть: разыскивался он, Роман Ревякин, в настоящем шурин Валентина или как там еще по-народному называют!
Сам-то Валентин такому повороту дела искренне обрадовался, обнял тут же Романа, стал тискать, захлопал по плечам тяжелой ладонью истинного молотобойца так, что внутри Романа что-то екало, и он съежился, как от страха…
До конца смены Роман отстаивался с машиной в каком-то переулке, молчаливо слушал рассказ Валентина о жизни своего дома, о всех домочадцах. Потом они сидели в его комнате друг перед другом (ни жильца, никого другого они, к облегчению Романа, не застали уже), пили вино. Поспали немного и еще немного выпили, пообедали всухомятку, молча — говорить уж, казалось, было не о чем больше, все переговорено раньше, ночью.
— Знаешь, Валентин, — прервал молчание Роман, — скажи дома, что ты не нашел меня здесь. Не смог, потому что город большой, а времени мало — придумаешь, что сказать!
— Да зачем это?!
— Какой все-таки ты еще молодой! — вздохнул Роман. — Так надо, так будет лучше, поверь мне.
— Да ладно, мне не трудно, только ведь Нина не поверит, съест меня со всеми потрохами, ведь ты ее характер должен знать. Она больше тещи мне все наказывала разыскать.
— Поверит не поверит — ее дело, — сказал Роман. — Может, скоро сам все объясню, хоть и не легко это.
— Я понимаю…
— Ничего ты не понимаешь, зятек, да и не ломай свою счастливую голову. Потопаем-ка лучше город досматривать, а то скоро тебе в дорогу…
Весенней ночью
Поздним вечером, дожидаясь сна, лежал один в послеоперационной больничной палате сорокапятилетний мужчина Иван Алексеевич Сысоев. Взошла полная мартовская луна, из форточки в изголовье кровати веяло запахами талого снега, еще чем-то весенним, давно знакомым на земле, родным. От внезапного волнения невольные слезы застилали взгляд — тогда вовсе исчезал сереющий потолок, погашенная электрическая лампочка на длинном шнуре от лунного света поблескивала будто еще ближе и ярче. От слез начинало сильно саднить и болеть под повязкой в больном глазу.
Сысоев сварщик — и однажды, обивая кирочкой свежий шов от окалины, он повредил левый глаз отлетевшим кусочком металлического шлака. Пробил зрачок. Сделали ему уже вторую операцию, но зрение не восстановилось. Лечащий врач Галина Николаевна уже нет-нет да и заведет разговор об удалении испорченного глазного яблока и протезировании. А оно, это яблоко, живое все-таки болит, ломится в орбиту!
И все же не эта беда лишает сна и больше всего тревожит сейчас Ивана Алексеевича: с женой не все ладно…
Вдруг не по-больничному громкие голоса послышались в коридоре у стола дежурной медсестры. Потом возбужденный говор переместился в операционную напротив палаты Сысоева, и он распознал среди прочих голос своего врача Галины Николаевны:
— Не Молчанов бы вам фамилию, а Балаболкин! Перестаньте же наконец разговаривать — мешаете операции! Не то и рот заодно зашьем!
— Ну да! У вас и ниток суровых поди нету! Молчу, молчу, а то с вас станется — зашьете что-нибудь не так… Что делать, если я человек веселый?
— Слишком, однако, веселый! А веселиться не с чего бы: били вас, видно, ногами, могли серьезно глаза повредить.
— Ерунда! Тут сердце разбито, а его не зашьете уж!
«Дурак!» — рассердился почему-то на неизвестного мужчину Сысоев и недовольно заворочался на своей постели: кончилось его одиночество — этого разговорчивого не в меру гражданина поместят, конечно, в его палату.
Между тем дело в операционной, видно, подходило к концу: пришла медсестра в палату и стала разбирать пустовавшую постель.
— Вот вам, Сысоев, и соседа послал господин несчастный случай, — сказала она. — Теперь все будет не так, как одному!
— Да уж будет! — усмехнулся Сысоев и спросил: — Сильно побили мужчину?
— Какой там мужчина! — отмахнулась сестра. — Под носом взошло, а в голове не выросло. Пьяный еще. Немного веко порвано, сосудики заштопали — заживет как на этом самом! У таких все заживает.
А потом под руки медсестра с Галиной Николаевной ввели высоченного парня с усами и бородой. Один глаз его был забинтован, под другим красовались обведенные зеленкой ссадины и кровоподтеки.
— О, да мы тут не одни будем! — обрадовался незнакомец и даже попытался руку подать Ивану Алексеевичу из-под руки Галины Николаевны. — Будем знакомы, папаша, меня Витькой Молчановым звать!
— Угомонитесь же! — почти умоляюще попросила врач. — Какой вы, право! Ложитесь и спите — отбой у нас давно, не нарушайте покой. И головой не вертите — швы могут разойтись.
— Не могли уж покрепче пришить? Сейчас всюду борются за качество.
— И за трезвость тоже!
— Ну все, молчу как рыба, виноват, товарищи женщины, спасибо за оказанную помощь! К 8 Марта я вам цветов принесу, только утром меня обязательно выпустите отсюда, иначе я сам удеру в чем есть.
— Будет утро, будет и разговор. Все. Я, право, устала с вами, Молчанов!
— Извините, простите, будьте великодушны! До свидания.
Медработники ушли, погасили свет. Но новенький и в темноте не успокоился.
— Ты прости меня, папаша, что я пьяный немного еще, но не в этом дело — злость гадская покоя не дает! Понимаешь, я из рыбацкой путины пришел, а моя жена, можно сказать, нового мужа привела себе! Представляешь?! Уже и заявление в загс снесли будто. Конечно, я за семь месяцев только три письма прислал, но ведь ишачил как проклятый, чтоб с ней же по-человечески все оформить, чтоб в свадебное путешествие и все такое… И откуда такие прыткие соплячки берутся, скажи! Другая жена моряцкая в отсутствие мужа губы красить перестанет, кольца поснимает, платья нового не наденет, а эта!..
— Так то жена законная, а тут «жена, так можно сказать».
— А разве в штампе все дело? Мы жили ведь, я не виноват, что у меня работа такая — в море!
— Не в штампе все дело, конечно, но женщинам по самой природе противна неопределенность. Ей ведь гнездо вить свое пора пришла, детей рожать — нужен крепкий дом, надежный человек.
— А я разве отказывался? Только говорил, что надо немного подождать, все подготовить, потом к родителям съездить, познакомиться, чтоб чин чином.
— Выходит, отпала нужда ждать. Бывает такое.
— Ну, а так можно? Я хотел по-хорошему во всем разобраться, а мне дружки ее хахаля под глаз залимонили, и понеслась! Меня, значит, по двору пинками перекатывают, а она вцепилась в него и кричит: «Ах, Витюша, не связывайся, ах, Витюша, уйди лучше!» Еще и тезкой оказался, пижон противный! Ну ничего, еще попляшут они у меня!
— Злиться не надо. Лучше в себе разобраться ладом, а тогда и решать. Утро вечера мудренее — спи, Виктор.
Но и на этот раз уснуть им не пришлось: опять включили свет, и оказалось, что медсестра привела милиционера в халате.
— Так что же с вами приключилось, гражданин Молчанов?
— Ничего, с чего вы взяли? Получилось как в фильме: поскользнулся, упал, очнулся — гипс!
— Нам сообщили со «скорой», обязаны разобраться, если есть криминал.
— Нет криминала, глупость одна.
— Так и писать?
— Так и пишите.
— Хорошо. Прочтите, подпишите здесь… Поправляйтесь, да больше не ходите по скользким дорожкам, Молчанов.
— Спасибо за добрый совет, товарищ… погон мне ваших не видно, извините.
— Спокойной ночи.
Свет потушили, только Молчанов через минуту опять заворочался:
— Нашлись, понимаешь, защитники-советники! Это ли мне сейчас надо? Мне ее надо, а кто вернет? Нет, уж я сам как-нибудь. Вот утром уйду отсюда, пойду к ним и скажу…
— И ничего не добьешься, Виктор, только хуже будет. Надо уметь признавать свои неудачи. Вот я с женой пятнадцать лет прожил, а теперь придется отпустить ее к другому, потому что понял: если за столько лет не смог привязать ее к себе чувством, то чего добьешься минутными разговорами, сценами разными или силой? Поделюсь сбережениями, продадим дом, она поедет в одну сторону, а я в другую куда-нибудь… Окривел только некстати.
— И еще денег дашь?! Ну ты силен, папаша! Да черта б ей лысого — раз такая! Пусть идет к монахам! Пятнадцать лет прожить и… Что только творится на свете?!
— То и творится, что сами творим. Я к ней так, а она, выходит, ошиблась. Раньше надо было хорошенько обоим разобраться.
— Ничего себе ошибочки! Закачаешься… И как же вы жили?
— Обыкновенно: дружно, уважительно. То и обидно, что почти не ссорились и я ни разу не почувствовал ее затаенности или притворства — это, что ни говори, мужик тоже способен почувствовать, если человек к тебе не от всего сердца относится. А здесь нет. Просто возвратилась однажды с курорта (она все лечилась, потому что своих детей мы не имели, а воспитали девочку из детдома, замуж выдали, институт уже заканчивает) и говорит: «Отпусти ты меня, Иван Алексеевич, я, кажется, полюбила другого человека, все думаю о нем, и тебя обманывать мне стыдно, места себе не нахожу!»
— Ишь ты какая!
— А разве не правда? Лучше честно сказать. Ну я ей, мол, уезжай, Регина, раз так, — дело человеческое, почему не понять. Тут она в слезы…
— Погоди, Иван Алексеевич, а вдруг она и сама еще не знает, что у ней за чувство к тому новому знакомцу, а ты — готово дело: рассчитал ее уж, сам подталкиваешь — иди и все такое. Нет, вот здесь ты не прав, ей-богу! Надо бороться за свое до конца, а то что же получается: жену отдай дяде, а сам иди к этой самой?
— Как же ей не верить, ведь сама попросилась уйти? Я, наоборот, теперь ей не верю, когда она уже пытается переиграть — все это в ней появилось, конечно, из жалости ко мне — слепому-кривому, а кому нужна жалость заместо?.. Сказала «а», говори «б», я так думаю.
— Не знаю, я молокосос против вас, конечно, а только можно распознать, когда женщина колеблется, ищет поддержки, совета, — другую сам лишний раз хорошенько приласкай, так она позабудет про все мечты о другой любви. От добра добра не ищут. Хотя теперь каждый с детства вниманием не обделен: живем при родителях, с сестрами-братьями… Вот почему раньше, читаешь, например, верность, верность, верность — и в революцию и в войну? Много опасностей было, трудностей, и люди друг другом дорожили. А теперь! Только с собой носятся, собой дорожат. Если не умеют в работе отличиться, способностями какими-нибудь; то выпендриваются одеждой или наглостью. Видел таких! И у Оксанки теперь фрайер тоже, видать, из таковских, но посмотрим, на какие шиши он счастье ей пойдет приобретать? Ничего, я подожду, я не гордый, но ее же, дурочку ослепленную, жалко!
— Да-а! Видишь, брат, какие неважнецкие наши дела с тобой, — вздохнул Сысоев. — Самое место нам, выходит, в больнице — раненные, так сказать, раненные в самую душу, язви ее! Беда.
— Ничего, обживемся как-нибудь, Иван Алексеевич, шибко тоже не переживай. Ты лучше держи жену сколько можно дольше, вот когда совсем ясно станет…
— Да ясно и сейчас: пожалела от женской доброты, а потом вместе каяться будем. Но я уж если что решил, то все, она меня знает! На самом-то деле, что я, совсем уж какой-нибудь!
— Не петушись, не хорохорься, Алексеевич. Я вон, видишь, как? Схлопотал! У тебя все ж полегче: она есть пока, можно еще попытаться, вот и не осложняй! Гордость гордостью, но на самолюбие, смотри, не наступи ей — тогда все, тогда хана: когда самолюбие задевают, то можно ожидать любых крайностей, и любя уйдет — не воротишь, хоть посиней тут! Я, кажется, задел… Наговорил такого сгоряча, что самому сейчас стыдно. Не простит. И сам себе не прощу. Когда Оксанка рядом была, то я, человек в общем-то сентиментальный, легко поддающийся чувству, решил держаться при ней эдаким суперменом без нервов, лишнего ласкового слова сказать боялся, высокомерничал. Теперь нет ее, так и полжизни отдал бы в операционной, но только чтоб она сейчас мне что-нибудь сказала, лишь бы щекой к ее рукам прикоснуться без оглядки! В море каждую ночь снилась, соскучился так, что и не рассказать, и вот — пожалуйста! — получите-распишитесь… Уснуть бы и не просыпаться совсем!
Но проснуться еще в эту ночь им обоим пришлось. Сысоев проснулся первым и сразу даже не понял, что его разбудило.
— Витя, Витя, ты здесь, Молчанов? Отзовись, Витюша, скажи хоть что-нибудь, родной, и я уйду… — Такие негромкие слова сопровождались легким постукиванием пальцев по оконному стеклу. Сысоев сел на кровати, посмотрел на окно: увидел вызолоченные щедрым светом весенней луны кудряшки простоволосой женщины, руку, освобожденную из рукава пальто.
— Вам кого? — тихонько приоткрыл он створку окна.
— Молчанова Витю, он здесь должен быть, в этой палате, мне только что сказали, он после операции. Он здесь?
— Вы Оксана? — почему-то уже уверенный в этом, спросил он.
— Да.
— Сейчас…
Молчанов подскочил как по тревоге от одного только имени, сказанного ему Сысоевым, бросился к подоконнику.
— Оксаночка! Как ты здесь?!
— Витюша, я глупая, я дурная, я выгнала его, прогнала прочь! Ты ничего, ты можешь ходить? Господи, как я могла допустить?!
— Ты молодчина, Оксанка! Я люблю тебя, я к тебе сейчас выпрыгну!
— Иди в дверь! — остерег Сысоев. — Скажи дежурной сестре, что жена разыскала еле-еле, и она впустит в прихожую, где свидания.
— Да? Спасибо! Оксана, иди ко входу, тебя впустят, я следом! Это же надо, Алексеевич, это же прямо не знаю!.. Я побегу, ладно?..
В палату Молчанов больше не возвратился. Утром сестра, сменяя постельное белье на его койке, ворчала:
— Ругает меня Галина Николаевна, а что я могла сделать? Не выдала б ему одежду, так она увела бы его так, в тапочках! Вот уж любят друг друга люди — прямо страсть!.. Эх, то-то что позавидуешь!
Сысоев потом еще раз всплакнул тихонечко, как ночью, когда услышал первые слова встречи Оксаны и Виктора.
«Сентиментальным совсем стал в больнице», — подумалось ему, но ум его не стал утруждаться определением — хорошо это или плохо — стать сентиментальным.
Клавдия Лебедь
Молодой парикмахер в Сиреневке Петр Коваль среди сверстников считается знатоком женской красоты и житейски умудренным человеком (был в городе женат и разведен). Парням и хотелось бы потолковать с ним о своих душевных затруднениях один на один, да стесняются, боятся остаться без тайны — какая ни на есть, а своя! Общие же разговоры с Ковалем затеваются как бы от нечего делать и с ожиданием: авось и себе что из сказанного о женщинах пригодится.
— Так какие же на свете есть женщины, Петро?
— Всякие. Каких хочешь найти можно… Только лысых нет, — смеется Коваль, — во всяком случае, в парикмахерской я не встречал!
— Ну, а какая была та, от которой ты сиганул со второго этажа, как люди говорят?
— Та с мужем была. С лысым! Отстаньте! — хмурится Петр и, легонько прихрамывая, уходит от допросчиков.
Ох, не перевелись еще на селе всезнающие кумушки, распускающие самые нелепые слухи! А что знают они о районном городе больше базарных новостей? Петр Коваль же учился в Холмах, жил там и работал в дамском салоне «Людмила».
Что далеко ходить, вон и соседку, сверстницу его Клавдию Лебедь, людская молва не щадит. Так и липнут к молодке любопытные взгляды, так и чешутся языки: «Кто же отец ее сына Ромки?» Как же, под носом, в поселке проглядели, кто ж это сумел подкатиться к гордячке Клавдии — вечно идет-выстукивает по улице, не дыша будто, никого вокруг себя не замечая!
Но и то правда: не тот уж поселок, разросся за счет строительства птицефабрики, людей новых много. Летом строители в общежитиях не вмещаются, живут в палаточном городке на берегу речки Соленки, впадающей в море и в приливы солонеющей. Палаточный городок зовут Ленинградкой — строительный отряд девушек из Ленинграда основал его года три назад. Теперь, если не хочешь жить в общежитии под надзором воспитателей и строгого коменданта, найди напарника, пойдите с ним к инструментальщику — тот выдаст палатку, внесет ее в личные карточки, где значатся сапоги, роба, и все — живи на воле, сам себе казак и атаман!
Вместе с новыми людьми пришли в Сиреневку новые дела. Местные жители тоже к иным специальностям потянулись: кто уж на первой очереди птицефабрики работает, кто на стройке, молодежь в новом ПТУ учится на электриков, операторов, наладчиков.
Ромке Лебедю всего полтора года, но и он уже всем сообщает:
— Вырасту и буду работать на «бешеном» кране, как мой папка!
Вот и новая зацепка для размышлений интересующихся Ромкиным происхождением…
Ближе к осени, когда Петра Коваля звали в дома стричь пацанву к школе, кое-кто пытался подладиться к нему с разговором о его соседке, но Петр пожимал плечами или прикидывался совсем наивным и, подмигнув, советовал:
— Да спросили б у Клавдии, уж она-то поди все знает!
Иных от такого совета передергивало, потому что кто же решится подойти с «таким», да еще к Клавдии — ее в поселке побаивались. Хотя ясных причин для этого вроде бы не было.
После школы Клавдия Лебедь поступила в юридический институт, но когда умерла у нее мать, перевелась на заочный факультет и осталась жить одна в родном доме. Работала секретарем-машинисткой в поселковом Совете, а на последних выборах ее избрали народным заседателем райсуда. Ничего необычного во внешности Клавдии на первый взгляд нет: большеглазая, с толстой русой косой, к весне всегда рябоватая от многочисленных веснушек, зимой и летом «сухостройная», как говорили младшие сестры-близнецы — Ольга и Валентина. Если дома Клавдия расторопная, веселая была, живая, то на людях словно каменела и вышагивала так, будто марш торжественный совершала, на какого-нибудь встречного так сверкнет своими глазищами, что того, бедного, в невольный поклон свивает: «Здравствуйте!»
Сестры Клавдии давно уже не Лебеди — замужем, своими домами живут: Ольга в Сиреневке за два дома от родительского, а Валентина в Холмах; обе и детей по второму кругу успели народить. Все просто у них, все понятно, тогда как у Клавдии выходило будто бы все наоборот, и это как бы исключало ее из числа своих людей в поселке и приближало к пришлым. Вроде строительного начальства или продавцов нового продмага на птичнике.
Словом, Клавдия Лебедь была причислена к тем, кого и знали и не знали. Ну и побаивались.
Петр Коваль тоже робел при встрече с Клавдией, но совсем по другой причине: нравилась она ему всегда. Нет, он и в мыслях не пытался ни разу соединить с ней свою судьбу. Просто нравилась, и все. А женился он в свое время в городе на той, которую полюбил. Во всяком случае, так ему казалось. А Клавдия нравилась ему еще со школы, нравится и теперь. Может же так быть — ничем тебе человек не надоест, ничем не вызывает неприязни! Петру не нужно было и с кумушками гадать насчет отца Ромки — он его знал. Просто однажды он хорошенько присмотрелся к его черным куделькам, густым, соболиного отлива бровям и узнал по тонким детским чертам точную копию Феди Пояркова, бывшего шофера начальника строительства птицефабрики, некоторым образом даже товарища Петра.
Жил Поярков тогда в Ленинградке, с бритьем ему там было сложно из-за отсутствия электричества, да к тому же бриться ему на дню надо было дважды, чтоб не утерять жениховского вида. Утром Федор в кресло для бритья к Петру не садился, а приносил из газика свою электробритву и наскоро сбривал перед зеркалом упрямую щетину. Но во второй половине дня он появлялся заросшим пуще прежнего, смеялся:
— Уж не ем почти ничего, а как на сале растет, шипишкина мать! Ты бы схимичил мне какое-нибудь средство, Петро, а то совсем невозможно, когда на твою бороду как на часы-ходики зрят: стой, мол, Федя, глянем, не пора ли нам на обед собираться!
Федя Петру рассказывал, что работал он с геологами, бывал в море, а теперь хочется ему на БАМ или куда-нибудь севернее, а может быть, и южнее.
— Поработать хочется так, чтоб всю жизнь вспоминалось! — мечтал он, звал с собой Петра Коваля, но тот отнекивался — так далеко и так скоро уезжать от родителей считал совестным, ведь и так немало покружил вокруг дома.
А Федя Поярков однажды пришел побриться «на дорожку», показал вызов из Тынды и уехал работать на автокране.
Нравился Петру этот парень, недоумевал он, почему же с Клавдией у них все по-хорошему не сладилось? Впрочем, он знал уже по себе, как вольно возникают и необратимо перестраиваются в человеке чувства от непостижимых для ума причин, когда и самому может показаться: не из-за чего…
Клавдия знала, куда уехал Федор, но зачем и на сколько — об этом у ней пока смутное представление, хоть он так старательно и долго все объяснял.
— Если у тебя ко мне все серьезно, — говорил он, — то подожди и сына пока одна нянчи, ведь мне с вами жить — вам и служить. Верой и правдой, как говорится. Но я еще хочу послужить разным нужным делам на земле, и послужить, не щадя себя, ни на что не оглядываясь, ни в чем не притворяясь. И чтоб за такую службу можно было даже и медалью наградить! Пусть не наградят, но чтоб было за что. Такая вот моя установка. И не мне одному это надо, но и тебе, и сыну тоже, для вечной крепости нашей с тобой жизни…
Огорчилась Клавдия: непонятный человек — мужчина, мало ему любви, мало собственного дома, где будет достаток, уют и дети, он не хочет покоя — значит, он не хочет того, что нужно ей, женщине, любящему сердцу. Как жить с таким? Биться в глухую стену со своими надеждами и радостями, а потом замкнуться, быть вместе, а на самом деле порознь: он — со своими исканиями славы и подвигов, она — с домом и детьми. Уж лучше одной…
После отъезда Федора она вдруг с какой-то одержимостью кинулась наводить порядок во всем большом родительском доме. Скребла, мазала стены изнутри и снаружи, белила, красила, мыла, доводя себя порой до изнеможения, будто эта работа что-то решала в ее жизни. Первые письма Федора она сжигала в печи не читая. Казалось, наступит такой день, когда память о нем станет обыкновенным воспоминанием, пусть и грустным.
Но кончилась-таки работа по дому — все сияло чистотой, благоухало свежестью, да ничто не радовало.
А потом Ромка пришел… Сын, как и хотел Федор.
И все никак не наступал легкий день обыкновенных воспоминаний, зато сколько было тех мгновений, когда только Федор был ей нужен и только его она проклинала и заклинала появиться, возникнуть, вернуться, прийти!
Не одна весна прошла, не одно лето. Опять вот осень. Завтра утром из Холмов приедет Валентина с мужем, Ольга со своим придет, мужчины будут картошку в погреб опускать, а женщины — капусту шинковать, солить. Октябрь.
Наверное, впервые оставшись на ночь одна-одинешенька, Клавдия не могла уснуть. Вообще, в последнее время ей не по себе: то не спится, то проснется среди ночи, будто голос зовущий услышав, то все в доме опять мыть-прихорашивать примется, за материну машинку швейную вдруг сядет летнее платье обверложивать, будто оно ей к спеху, на зиму-то глядя…
Спала не спала, а вставать пора: радио заговорило. Постепенно рассветало, но небо оставалось каким-то серо-белесым, пасмурным.
Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко: твои детки плачут, по камешкам скачут, сыр колупают, в окошко кидают!..Так, бывало, они с Федором на берегу Соленки приговаривали пасмурными днями в темное небо — совсем как дети…
— Солнышко, солнышко… — повторила Клавдия, но голос сразу осекся от подступивших слез.
За окном прошумел первый автобус.
«Ну, Валентина раньше восьми не заявится со своим семейством, — подумала она. — И Ольга пока по дому управится… Вот печку растоплю и за Ромкой сбегаю, а то проснется, устроит им всем «потягушечки». Он к дому привык, не то что папа родимый! Где носит его теперь?»
Набрав у летней кухни дров, она прошла в дом, свалила их у печи, настрогала лучин. Поленья сосновые, сухие — занялись огнем дружно, застреляли веселыми искрами из-за неплотно прикрытой дверцы, но тут же давно не топленная печь густо задымила. Пришлось Клавдии плотно позакрывать все двери в доме, а в кухне пол-окна распахнуть настежь.
Присев на корточки, спасаясь от едкого дыма, Клавдия смела веником мелкие угольки к поддувалу, потом стала подкладывать в топку, одной рукой заслоняясь от искристого жара.
Она не слышала шагов на веранде, негромкого стука в дверь, а когда глянула назад — привалившись к косяку кухонной двери, на нее смотрел… Федор Поярков при роскошной бороде и усах! Стукнуло выпавшее из рук полено. Она вскочила, но на встречный шаг сил уже не осталось — Федор успел поддержать, второй рукой совсем подкосил под колени, поднял к груди и толкнулся в первую попавшуюся дверь…
Валентина уже подталкивала к выходу своих мальчишек и мужа, когда пассажиры в автобусе переполошились:
— Смотрите — горит! Дом горит!!
Глянув в окно, Валентина обомлела: из кухонного окна родного дома дым с проблесками пламени свивался и поднимался вверх жуткой желто-ядовитой косой!
— Остановите, остановите! — застучала Валентина кулачками в закаленное стекло автобусного окошка. — Клавдя!! — тут же запричитала она, прижимая к груди младшего из сыновей. И впереди всех пассажиров понеслась к горящему дому…
Пожарные уехали, любопытные мало-помалу тоже разошлись. Петр Коваль потоптался во дворе до последнего и тоже направился к себе домой, недовольный, что ему не привелось спасти Клавдию из огня, вынести ее на руках, как это проделывают удачливые киногерои, — пожар дальше кухни вообще не распространился, да и с проходящего автобуса людей привалило больше чем надо, за ними и в кухню войти было просто невозможно.
В доме Клавдии остались все свои, да еще незнакомый кудлатый мужчина с подпаленной бородой, в мокром костюме, измазанном сажей, с какой-то медалью на нем. Этого незнакомца крепко за руку держала Клавдия.
В кухне и коридоре белыми волнами еще ходил тяжелый пар, стояла оцепенелая тишина, только изредка недовольно бухтели и попискивали мокрые головешки.
— А ну, все в залу! — залихватски взмахнув рукой, пригласила Клавдия и, не отпуская от себя незнакомца, вошла первой, а там представила:
— Вот, вы все мне не верили — это мой суженый, Федор!
Обедали в доме Ольги. Все удивлялись:
— Ну как вы, Клавдия с Федором, пожар-то в доме под боком не заметили?!
Федя Поярков улыбался, поглядывая на Клавдию, а та пожимала плечами:
— Да так как-то… Пока поздоровкались…
Потом мужчины вышли покурить на лавочке возле дома. Подошел Петр Коваль, поздоровался за руку со всеми и тут только узнал Пояркова, обрадовался:
— Ты?! Ну, тебя совсем не узнать! Борода, усы — вышел, значит, из положения-то, не требуется теперь и химичить насчет каждодневной щетины? А что за медаль у тебя, ух ты?!
— Медаль? Это за спасение утопающего. Был случай. А ты зря, Петро, не поехал со мной — славно бы поработали! Я вот женюсь и опять посмотрю…
— И Петра нашего тоже давно пора женить, куда только девчата смотрят! — весело заметил кто-то.
— Да они на себя же и смотрят в зеркало, когда он их прихорашивает!
— Неблагодарные…
— Да, так вот и получается, что сапожник без сапог.
— Бросьте! Просто не попалась человеку та, ну, что самая-самая. Появится — он уж не промахнется, будьте покойны.
— Это точно. Петр знает о женщинах больше нашего, и ему подавай поди такую красавицу, что нам и во сне не снилась, а?
— А какую, хоть бы обрисовал немного, Петр?
— Да что вы, ей-богу! — отмахивается Коваль. — Всякую женщину можно красивой сделать, главное, чтоб тебе это нужно было.
— Да, он у нас по этой части большой философ! — гордятся перед Поярковым мужчины.
Все еще раз дружно закуривают, угощают Коваля, предлагают ему зайти в дом, отметить помолвку Клавдии с Федором. Но Петр благодарит и отказывается, сославшись на срочные дела. О нем тут же забывают, бросают курить, поднимаются со скамьи, уходят во двор, занятые общими веселыми разговорами. Клавдия тоже смеется, льнет на ходу к Федору, потихоньку отбивает его в сторонку от всей компании, и они вдвоем уже шепчутся, смеются, забыв, наверное, про всех и про все на свете.
Стенка
Кто знает, как тяжело собственноручно вносить в свой дом неприятность, тот поймет состояние Ивана Николаевича, поздним вечером медлящего войти в свой подъезд, в сотый раз проклинающего свое невезение.
А случилось вот что. По простоте душевной он вызвался помочь сегодня, в субботу, побелить квартиру токарю Самойлову. И уж в конце всех ремонтных дел вдруг нечаянно завалился в новенькую мебельную стенку хозяев, что-то сломал…
Чуть не плакала жена Ивана Николаевича, выговаривая ему:
— Господи, ну куда ты, увалень, со своей добротой-то неотесанной все к людям прешься, если у них добра теперь в квартирах — от порога не прошагнешь — ковры, полировка да хрусталь?! Пора понять: это когда-то было, что человек купит телевизор и на радостях весь дом созовет, чтоб кино смотрели, чтоб разговоры разговаривали. Теперь тебя соседи через «глазок» разглядывают, а ты им еще улыбку изобрази, чтоб хоть впустили, если позвонить в «скорую» надо… Или вот ты Котовым денег дал, машину помог купить — тебя же они и осрамили! Давно ли легко вздохнули, как опять! Зачем ты со своими услугами вяжешься, если тебя не просят?
— Ну как это не просят? — обиделся Иван Николаевич. — Котов же при всех в цехе плакался, что с ног сбился в поисках недостающей тысячи, что очередь его может пропасть. Вот я и дал. А Самойлов сам в пятницу жаловался, что в ремонтной конторе обещают побелить квартиру только через месяц, а они ждут… В общем, я предложил.
— Напросился — скажи лучше! Самойлиха, наверное, рядом с тобой в обмороке брякнулась, ведь она всем уже уши прожужжала с этой «Березкой» — так, кажется, их стенка называется?
— Не знаю я! — отмахнулся Иван Николаевич. — И в обморок никто не падал, наоборот, меня там все успокаивали да обтирали, ведь я целый таз извести на себя вылил, опрокинувши… Между прочим, тут сам Самойлов и виноват, отказался передвигать шкафы. Я, дескать, целую неделю выстраивал-выравнивал эту баррикаду и повторять с нею муки не желаю; накроем, говорит, газетами и тряпками, чтоб известь не капнула, да и ладно. А я не мог дотянуться щеткой до угла, вот и пришлось влезть. Только сел наверху, взял в руки таз с известкой — ух! Все полки донизу пересчитал!
— И что же теперь делать? Сам-то знаешь или нет?
— Отремонтировать трудно — все выкрошилось, опилки ведь… Я размеры вот снял, может, в магазине продают запасные детали?
— Как же, пошел и взял! Если б так-то было! И когда ходить, если сегодня ночь уже, а в воскресенье мебельные магазины не работают!
— Действительно, — вздохнул Иван Николаевич, — придется ждать понедельника, чтоб после работы…
В понедельник утром, едва Иван Николаевич подошел к своему токарному станку, начались расспросы:
— А скажи, Иван Николаевич, как ты стенку Самойлову развалил?
Он невольно глянул в сторону станка Самойлова. Тот уже работал, но, видимо почувствовав на своей спине взгляд, обернулся к Ивану Николаевичу и с улыбкой приветственно помахал рукой. Ивану Николаевичу ничего не оставалось, как ответить тем же…
В этот день он едва не запортачил вал для электромотора, не пошел обедать в столовую, а засел в комнатушке, что была отведена для разных художественных работ, чем в порядке общественного поручения занимался Иван Николаевич уже лет восемь: писал к праздникам транспаранты, копировал плакаты, делал таблички, надписи, оформлял стенные газеты. Посидеть без дела ему и сегодня не дали: медсестра из здравпункта попросила сделать несколько красочных сообщений о завтрашнем дне донора на заводе. Как раз к концу обеденного перерыва он с этим и управился.
— Что там у тебя с Самойловым произошло, какую-то стенку ты, говорят, ему начисто сломал? — спросил подошедший к станку бригадир наладчиков Котов, тот самый, которому в свое время Иван Николаевич занял тысячу рублей на «Жигули». Права жена, из-за того отношения между ними стали вдруг какими-то любезно-ложными, а потом и вовсе расстроились. На первых порах после покупки автомобиля Котов прямо проходу не давал Ивану Николаевичу: поедем да поедем куда-нибудь на природу семьями. Раза три-четыре съездили, а потом до Ивана Николаевича дошли разговоры, будто Котов жалуется, что он прямо терроризирует его — требует возить всюду, вгоняет в расходы на бензин, вынуждает перегружать автомобиль, а он ведь на обкатке, дверцами трахает, как враг, чехлы грязнит и все такое малоприятное. Когда Котов в очередной раз завел разговор о субботней поездке куда-то, Иван Николаевич спросил прямо:
— А такие-то разговоры были?
— Да не так же все, ей-богу, — вот люди! — заюлил Котов.
— Были, значит, раз глаза прячешь, — заключил Иван Николаевич. — Ну что ты меня опять приглашаешь? Ведь человек должен и говорить и делать то, что думает и желает сам, а не наоборот. Иначе ведь неразбериха между людьми будет. Сам подумай: говорят тебе «здравствуй», а про себя желают, чтоб ты загнулся; с собой приглашают, а ждут не дождутся, чтоб отказался! Не понимаю я этого, извини…
С этого разговора и на работе у них пошло все наперекосяк. Раньше считались они хорошими товарищами, все об этом знали, и если какому-нибудь токарю необходимо было подладить станок, то обращался он не к мастеру, а к Ивану Николаевичу: «Скажи Котову, пусть посмотрит…» А за станком самого Ивана Николаевича бригадир наладчиков следил особо: до начала работы еще включит, послушает, «подшаманит»…
Они продолжали, конечно, поддерживать какую-то видимость былых отношений, но в цехе никого не обманешь: уже не просили Ивана Николаевича «сказать Котову, чтоб посмотрел».
Не без злорадства поди Котов и сейчас подошел к Ивану Николаевичу — радуется, наверное, что и в его дружбе с Самойловым разлад наметился. Не хотелось ничего рассказывать о злополучной субботе, да ведь люди невесть что еще могут наплесть — рассказал.
— Да-а, — многозначительно протянул Котов. — Влип ты здесь, Иван Николаевич: дорогая вещь, дефицитная, да еще чужая — такую уважать пуще своей надо. Ну и пусть он не отодвинул, позволил тебе наверх влезть — сам должен был подумать, прикинуть, остеречься!
— Ясное дело, — согласился Иван Николаевич, припоминая один случай во время поездки с Котовым на его машине. За городом им проголосовала женщина с чемоданом. Котов проехал мимо и только потом затормозил. Открыл дверцу, поджидая спешащую изо всех сил гражданку, а когда та была уже совсем рядом, вдруг тронулся с места и говорит с улыбочкой: «Чтобы не бегать за чужими машинами, купите свою. Поймете, как это удобно! Привет! — и покатил дальше, хохоча над сконфузившимся до слез Иваном Николаевичем: — Ничего, ничего — бог подаст!»
К концу рабочего дня к Ивану Николаевичу подошел Самойлов:
— Так что же делать, Николаич, где полки новые взять? Ох и бухтит жена, прямо домой идти нет никакой охоты!
— Да вот нынче же пойду по магазинам, авось и найдется, — сказал Иван Николаевич.
— Я заплачу, ты не думай, ведь дело это общее, мужское — отвязаться от бабьих игрушек, ведь им блестящие доски эти свет застят!
Однако в мебельных магазинах Ивана Николаевича не обрадовали.
— А вы мебельной фабрике претензии предъявляйте, — посоветовала одна продавщица, — мы ведь и сами по месяцу ждем замены брака.
«А что, это идея: пойти на мебельную фабрику и попробовать как-нибудь договориться, выписать!» — подумал Иван Николаевич.
Вот только загвоздка — идти на фабрику следовало в рабочий час. Но и тут выход нашелся: он вспомнил, что на заводе завтра день донора объявлен с его же помощью. И хоть донором Иван Николаевич еще не был ни разу, решил, что запишется одним из первых! Доноров-то освобождают от работы в день сдачи крови.
Сказано — сделано. И вот, во второй половине дня Иван Николаевич, испытывая неприятное легкое головокружение с непривычки, но радуясь удачному стечению обстоятельств, торопился к мебельной фабрике. Пройти без пропуска проходную не удалось, вахтер и слушать ничего не захотел. Пришлось схитрить: он разыскал отдел кадров и там сказал, что ищет работу, но хотел бы прежде познакомиться со сборочным цехом, поговорить с рабочими, с начальством. Без лишних разговоров ему был выписан разовый пропуск.
— Нет, это же невозможно! — сказала Ивану Николаевичу на его просьбу строгая женщина в белом халате, начальник сборочного цеха. — У нас фабрика, а не ремонтная мастерская! У нас детали мебельных гарнитуров сборщики прямо с лакокрасочного конвейера друг у друга из рук вырывают, потому что план, темп, работа. Если б вы хоть у нас работали… Впрочем, есть один выход: найдите нам художника, чтоб оформил кабинет экономической учебы, сейчас только в парткоме так раскритиковали, что в себя не приду никак!
— Есть! — радостно воскликнул Иван Николаевич. — Я сам все сделаю, ведь и на своем заводе занимаюсь оформительской работой!
— Серьезно? Ну, если та-ак!.. И вы на самом деле все сделаете? — обрадовалась начальница. — Тогда идемте, покажу работу.
— А полочки? — напомнил он.
— За этим дело не станет: позову мастера, он выпишет, а вы оплатите и получите. Только прошу вас, не исчезайте совсем, а?!
— Да что вы! — покраснел Иван Николаевич. — Спасибо вам, а то я уж отчаялся…
Он ног под собой не чуял, пока добирался до дома Самойлова с тяжелым свертком в руках: все новенькое, пахнущее лаком, обернутое серой бумагой, как полагается, перевязано шпагатом!
На звонок за дверью никто не отозвался, но он, памятуя, что находится перед глазком и его, возможно, разглядывают, старался придать лицу обычное серьезное выражение, но, кажется, улыбка так и расползалась… От нетерпения позвонил еще и еще.
— Да что вы звонок ломаете и лишнюю электроэнергию на счетчик мотаете?! — укорила выглянувшая сзади соседка Самойловых. — Нет никого дома. В кино они ушли. Что передать-то?
— Да вот я принес новые детали к их мебельному гарнитуру…
— А! То-то оно и видно, — буркнула женщина. — Значит, вы и есть тот самый человек, что сломал их чудесную мебель, оказал медвежью услугу, так сказать?! Оставьте у меня ваш сверток, я передам. Так, говорите, прямо из магазина? А зеркал там нет?
— Не знаю. Это прямо с фабрики, — сказал Иван Николаевич, передавая сверток.
— Ах, даже так?! — поразилась соседка. — А не достанете ли и мне там кое-что — зеркало, например, для такой же стенки, сейчас это так модно! Я хорошо заплачу, ну что вам стоит, а?
— Да что вы, что вы! — заторопился он к лестнице.
На душе было противно, голова опять закружилась, стало поташнивать. Домой он пошел напрямик — через овраг, застроенный двумя рядами гаражей. И там его остановил Котов, размахивающий большим махровым полотенцем на пороге своего гаража.
— Мух выгоняю, — пояснил он Ивану Николаевичу, — засиживают машину, сволочи!.. Ну как у тебя с Самойловым, купил новые полки?
— Купил. Отдал только что.
— Смотри-ка! Быстро ты, по-деловому. Уж не попросить ли и мне тебя, чтоб побелил гараж прямо с кузова моих «Жигулей»? Помнешь крышу-то, ну и купишь мне новый кузов, вишневого цвета. Очень мне такой почему-то теперь нравится. А тебе?!
— Нет, мне не нравится, — ответил Иван Николаевич и так опасливо обошел Котова сторонкой, словно был тот какой-нибудь хрустальный и мог ненароком разбиться от воздушного колебания.
Слово предоставляется…
Ключи от навесного замка на двери столярной мастерской имели мастер заводского ремонтно-строительного цеха и два кадровых плотника — Афанасий Прокопьевич и Семен Игнатьевич. У временно работающего пенсионера Кипарисова такого ключа нет. А он сегодня раньше всех прибежал на завод: во-первых, домой вчера заявился поздно пьяным в доску, и жена, истомившись ночь над бестолковым мужем (его тошнило, он падал с кровати, бессвязно бормотал и вскрикивал), чуть свет подняла его тычками и руганью — еле вырвался; во-вторых, Кипарисову показалось, что где-то в столярке он припрятал осьмушку вина из того, которым с ним рассчитались за пять двухметровых обрезных досок, проструганных, чуть ли не наждачной бумагой для чего-то обработанных. Позже за проходной он пил еще с кем-то в зачет нового заказа: то ли двери на дачу кому-то надо сделать, то ли гавкину будку — не помнит…
Декабрьское утро было кусучим, особенно мерзли свежие ссадины на лице, а потереть их рукой нельзя — боль-, но! Проклял он все на свете и от нетерпения готов был даже разбить окно в мастерской и влезть поискать вино, да случай не выпадал: поток рабочих от проходной густел с каждой минутой, а скрип снега на дороге в пяти метрах от столярки сделался прямо сплошным, невыносимым, будто сама голова Кипарисова, как тугой кочан капусты в дюжих руках, скрипела и растрескивалась.
Наконец показались оба плотника: шестидесятилетний Афанасий Прокопьевич и сорокапятилетний Семен Игнатьевич.
— Где вас черти держали?! Зуб на зуб не попадает уже! Оставляли б ключ где-нибудь здесь, а то хоть околей!
— Тебе оставь, так не только пропьешь тут все, а и спалишь, чума ходячая! — ответствовал Афанасий Прокопьевич. — Обрезную дюймовку вчера спер? Пять досок для ремонта полков в сауне заготовили, а ты!..
— Я? Спер?! Как язык у тебя, Афанасий Прокопьевич, поворачивается!
— Это у тебя совести нет, Кипарисов, осатанел вовсе, — махнул рукой старый плотник. — Мы работаем, а ты тащишь все из-под рук, чисто вражина какая! Вот берись и застругай нам доски какие были, не то мастеру скажем.
— Вот нужны мне ваши доски! Тут цельный день со всех цехов ходют, усмотри за всеми. У меня не шесть глаз, как у Змея-горыныча!
— Зато горло как у Соловья-разбойника — хлещешь водку как воду!
— Ну где эти доски лежали, покажь, где?
— Артист! — усмехнулся Афанасий Прокопьевич Семену Игнатьевичу.
— Дак обидно! Завалили их, может, лежат где-нибудь тут и молчат, заразы, а на человека обвинение! — Кипарисов сделал обиженное лицо и с ворчанием стал тыкаться во все закоулки мастерской, демонстративно отшвыривая все рейки и обрезки, под верстаки даже заглянул, в сушилку прошел, в помещении с деревообрабатывающими станками свет зажег.
— Может, действительно не он взял? — предположил Семен Игнатьевич. — Чего бы тогда сердился, искал? Зря вы, Афанасий Прокопьевич, так прямо…
— Он ищет? Он вчерашний день ищет. Побился весь, трусится как вор курячий — тьфу совсем! Вот как себя человек испоганить может!
Кипарисов вернулся расстроенный, вспотевший, весь в пыли и опилках, взгляд его лихорадочно блуждал. Пошел к своему шкафу, решив, видно, переодеться, но высвободив одну ногу из штанины, переступил ее и стал рыться в шкафу. Выпрямился опять. Придерживая рукой брюки, подошел к ящичку аптечки на стене, дернул дверцу, и оттуда вывалилась винная бутылка — он успел подхватить ее обеими руками, да поздно: все вылилось прямо на него.
— Гадская жизня! — дернулся Кипарисов, отшвырнул порожнюю бутылку, сдернул штаны, ляснул ими о шкаф, сел на табуретку, и натуральные слезы покатились у него по щекам.
— Эх, Кипарисов; Кипарисов! — поморщился Афанасий Прокопьевич. — Вот, оказывается, что ты искал — заначку на опохмелку! Памяти уж нетути? Откудова и взяться, если все дни месяца, как пришел к нам, ты скрозь пьян бывал!
— А кому какое дело? Хочу — и пью! Я и работать пошел, чтоб у своей бабы на вино из собственной же пенсии не клянчить.
— Постыдился бы при молодом такое! Мы тут за хлеб работаем, а ты — за водку! Действительно, как язык не усохнет!
— Да ну вас! Говори лучше, какие доски-то надобны?
— Без тебя сделаем. Работай уж свои носилки. Вчера за весь день между граммами ты и трех штук не соорудил, да и на те больно глянуть — занозисты! Уж не знаю: правду ли говорил, что плотником где-то был, или врал?..
— Нет, только вы одни тут мастера! По швабрам да полутеркам. Коснись поди настоящей работы, так неизвестно еще кто кого!
— Хвастать — рукавицы не дерутся, — усмехнулся Афанасий Прокопьевич. — На-ка вот кол затеши без долгих слов.
— На кой мне кол?!
— А забор у проходной скоро придется перебирать, — ! уклончиво сказал старый плотник, передавая Кипарисову лиственничную стойку из тех, что ставят на железнодорожных платформах для удержания штабеля леса.
Кипарисов несколькими неуверенными ударами топора заострил кол клином в одну сторону.
— Шатовато работаешь, — усмехнулся Афанасий Прокопьевич. — Разве прямо пойдет твой кол, не поклонится? На тычок его надобно затесывать в клин, но с двух или трех сторон.
— Вы так, а я — так! Нечего меня учить.
— Ну тогда и не балабонь. Не чванься горох: не лучше бобов.
— Подумаешь! Великое дело — колы умеет!
Семен Игнатьевич знает, как болезненно относится его старый товарищ к похвальбе — он тут же словом и делом старается уличить Кипарисова.
Афанасий Прокопьевич плотник потомственный, он и всю войну прошел не расставаясь с привычным инструментом в саперном батальоне. Мог стол и дом соорудить, как говорится. А Семен Игнатьевич пристал к делу случайно: некому было делать опалубку — поставили его.
— Ничего-ничего, молодец, Сеня: гладко тешешь, и стружки кучерявы! — похвалил его Афанасий Прокопьевич как-то через год-другой их совместной работы — равным себе признал. Теперь, работая вместе добрый десяток лет, они, пожалуй, и правда сравнялись уже в мастерстве по производству соколов да терок с полутерками для штукатуров, черенков для малярных кистей, швабр и лопат и в прочих плотницких и столярных работах. Но все равно в верстаке Афанасия Прокопьевича имелось много такого инструмента, какой Семен Игнатьевич и к делу не враз бы сообразил приспособить поди. На иных железках старого инструмента имелось клеймо: лев со стрелой — очень старая сталь. От отца к сыну переходил такой инструмент-кормилец, из рук в руки.
Афанасий Прокопьевич рассказывал, что к началу Отечественной войны, когда ему и восемнадцать едва исполнилось, он успел самолично комод сладить, по заказу делал резные наличники. А в саперах что? Топор, пила, гвозди и лопата, конечно. Скучали руки по затейливой крестьянской работе, сердце отказывалось верить, что родные Кумейки заняты врагом. Что там сохранилось? Врагу все тебе дорогое чуждо, и мало ли было пройдено таких деревень, от которых одни пепелища!
Как уже сказано, работа в ремонтном цехе не та, где все свое умение приложить можно, но старый плотник не забывал, как работали в старину русские плотники, да и сам, бывало, ударялся в запал: подберет где-то осиновую чурку и в свободные минуты примется строгать так называемый некогда щепенной товар: домашнюю деревянную утварь. Широкую прямую ложку-межумок, например, какой вся православная Русь выламывала из горшков крутую кашу. Осиновая ложка ценилась дороже березовой и чуть дешевле кленовой. Но выделать саму ложку еще полдела, ее «завить» надо — офигурить ручку, заолифить белилами или золотистой пудрой, разрисовать чернью и киноварью, а затем просушить хорошенько, в кипятке выварить…
А какие картинные рамки выделывал фигурным рубанком, калевкой, Афанасий Прокопьевич! Семен Игнатьевич, грешным делом, подумывал, что всю эту красоту старик ладит на продажу. Но не сходилась никак коммерция с характером Афанасия Прокопьевича. Ложки он, например, дарил налево и направо. У самого Семена Игнатьевича их перебывало до десятка разных размеров, простых и расписанных, одной он постоянно пользуется, другие объел «до кости» сын Игорь, теперь студент.
Нет, не станет Прокопьевич продавать и картинные рамки, только вот куда их столько?
«Что ж, у меня картин нет, мне рамки без надобности, да у других людей есть, ведь теперь будто мода пошла на картины в доме», — думал Семен Игнатьевич, в обеденный перерыв вернувшись из столовой и опять застав напарника за изготовлением очередной рамки. Кипарисов к тому времени умотал восвояси: из обрезков горбыля состряпал какую-то собачью холобуду, отнес куда-то, вернулся навеселе, помотался по мастерской, а потом переоделся в чистое и ушел, попросив передать мастеру, что у него нездоровье.
— А что поделаешь с ним? — вздыхал Афанасий Прокопьевич. — И на свете будто бы немало человек пожил, поработал, а объяснил все глупо: пей-гуляй, коль детей поднял, пенсию себе заработал. Мало сказано, да все тут. И как самому не страшно теперь, человек два уха, ведь гол как сокол на миру стал? А может, потому и пьет, что страшно? Бывает ли, чтоб живому человеку нечего делать?!
— Да ну его к монахам, этого Кипарисова, не стоит разговора, — отмахнулся Семен Игнатьевич. — Я что спросить давно хочу у вас, Афанасий Прокопьевич: куда столько рамок все делаете?
— Куда? Ну как же! — горячо начал было старый плотник, но смешался: — Туда да сюда… Люди просят. Опять же у нас со старухой фотокарточки разные имеются. Дети разлетелись по свету, так хоть на карточку поглядишь, и все легче сделается…
И вдруг по неуверенному, сбивчивому тону старика, по тому, как он спешно пошвырял в верстак заготовки новой рамки, словно ощутил неловкость за них, старался избежать прямого взгляда. Семен Игнатьевич понял, что его напарник избежал правды в ответе ему. Зачем, почему? Поди разберись.
Так и работали — больше молча. А потом пришел мастер, объявил:
— Завтра с восьми утра будет общезаводской митинг: заявление нашего правительства в ответ на ракетный шантаж США в Европе будем обсуждать. Прошу всех быть.
Мастер помолчал немного, повертел в руках сделанные уже полутерки, другим тоном продолжил:
— Я вот что еще хотел, собственно… Кажется, вы участник войны, Афанасий Прокопьевич? Выступите на Митинге? Ну расскажите что-нибудь былое, военное, людям же будет интересно!
— А в войне нет ничего интересного, молодой человек! — с особой сухостью произнес плотник. — Затем, знать, люди и сойдутся на митинг, чтоб с войной поспорить!
— Конечно! — смущенно согласился мастер, в сущности, действительно совсем еще молодой человек — улыбка выдала его возраст — лет двадцать пять — двадцать шесть. — Извините, — поправился он. — Но почему бы вам не выступить, Афанасий Прокопьевич, ведь одно дело, когда говорит человек не нюхавший пороху, а другое…
— Куда там мне выступать! — усмехнулся плотник. — Людей смешить? Пусть вон Семен Игнатьевич — он тоже войну не понаслышке знает.
— Правда? Выступите?
— Да что я-то?!
— Ну, товарищи, так вот уже совсем нехорошо, не на базаре! Или вы думаете, что кому-то для «галочки» ваше выступление требуется? Да желающих много, хоть отбавляй. — просто хочется, чтоб не совсем стихийно, чтоб от каждого цеха успели сказать, ведь митинг не собрание, время дорого, тем более, что международная обстановка…
— Да я скажу, я согласен! — смутился теперь Семен Игнатьевич. — Я как-то растерялся сразу, извините, конечно. Ведь такое дело…
— Обычное дело, общечеловеческое. Я записал вас, следите, как скажут, что слово предоставляется…
Мастер ушел.
Афанасий Прокопьевич глянул на часы и стал собирать в верстак инструмент, смахнул щепу, стружки, обрезки дерева.
— Да-а-а… — протянул после некоторого молчания. — Война, война… Столько народу повыбили, плотников, мастеров разных — поседни все не верится, что опять мы отстроились везде! Бывало, гольная зола от деревни останется, куска наличника не сыщешь, ничего деревянного. Думаешь: все, здесь никто никогда больше не заживет, дом не поставит! Ан нет, гляди-ка, народ с места не сбить, не отучить от ремесла. Да ежели б у нас всякий дом трижды заново не рубился, столько всех домов теперь было б, никакой нужды никому!
Всю дорогу домой Семен Игнатьевич думал о предстоящем выступлении на митинге. Как-то кратко надо сказать, по-своему. Кратко — это главное. Что он помнит о войне? Бедность, нужду, конечно, голод настоящий, когда в рот тянулось все, что под руку попадет: травинки разные, листья виноградника, цветы шиповника. Однажды он с ребятами наелся волчьей ягоды, а потом их всех родители поставили в кружок, чтоб, глядя на рвоту друг друга, их вытошнило всех…
В ту ночь его разбудили не как всегда: торопливо, грубовато, тут же притиснули к себе для поспешной ласки, отстранили, чтоб втолкать вялое от непрошедшего сна тело в узкую и холодную рубашонку. Руки мамы дрожали.
— Проснись же скорей, сынок, просыпайся, миленький! — Голова у мамы перетянута мокрым полотенцем, она плачет, торопится, слезы попадают ему на лицо, на губы — соленые, теплые… Весь дом как-то жутко сотрясается, что-то за ним лязгает, надсадно рокочет, отдаленно погромыхивает, словно приближается гроза. Огонек в лампе дрожит, колеблется, коптит. Голос матери доходит до его сознания как-то издалека, будто из сна еще… На голых досках ее кровати сидит уже одетая соседская девочка Люда, тут же простынные узлы.
— А куда мы поедем, ма?
— Ох, не знаю, сыночек, не знаю! Война опять…
— Война?! — Он незаметно толкает в бок Люду, и, пока мать мечется по хате, что-то собирает, срывает с гвоздей по стенкам, они сползают с кровати на пол, выбираются через темные сенцы на крыльцо.
Ночь за Амуром пылает, гремит, вспыхивает в полнеба. Над головой зависли невидимые самолеты, их нескончаемый вой давит, заставляет невольно втянуть голову. Деревенская улица полна лязга, топота, конского храпа. В глаза, в рот лезет холодная крупная августовская пыль, пахнущая сладковатым отработанным бензином, маслом, еще чем-то. Где-то у соседних домов кричат хрипло и устало: «Всем оставаться на месте, домов не покидать! Соблюдайте светомаскировку, без паники, без паники!..»
— Пошли в хату, боязно! — говорит Люда.
— Темно, жалко, а то пойти тоже фашистов бить! — бодрится он.
— Не фашистов, а самураев, — поправляет Люда. — Моя мама сказала, что война с Японией, она знает, ее еще раньше в сельсовет позвали…
Тут выскакивает его мать и обоих под мышки уволакивает домой, к узлам на кровати…
— Ты сегодня что-то не такой, — встревожилась жена Семена Игнатьевича. — Не заболел? Может, неприятности на работе? Не забыл, мы к сыну поехать планировали?
Картошки ему надо бы подбросить, денег, того-сего. Перед сессией когда ему с сумками-то шлындать? Опять же, приятельница из Грузии прислала наконец кожаный пиджак — пока он не померяет, я не успокоюсь.
— Успокоишься, успокоишься, — отмахнулся Семен Игнатьевич. — Ты сколько денег ему дала в прошлый раз? Двадцатку? Ну вот, и я еще восемь рублей сунул, что в кармане были. А еще неделя не прошла, так что не оголодает. А есть захочет, так сам прибежит, никуда не денется, ведь не пойдет же он на обед зарабатывать вечерним почтальоном, как товарищ его Сергей, у которого родители далеко и не отваливают ему энные суммы понедельно. И кожанка подождет. Я ни одной еще не износил, и ничего со мной не приключилось! А ты тоже, Люда, много вельвета, джинсов видела на себе?
— Ну сравнил! Что же нам, единственного сына в кирзу и телогрейку нарядить?
— Не о том речь. Только и «кожаный» вкус особо разжигать негоже. Вот выучится, заработает, тогда пусть покупает что душе угодно. — Семен Игнатьевич помолчал. — Смешно ведь, правда: мы с тобой в деревне выросли, а выведи-ка теперь нашего Игорешу на луг, найдет он себе, там что-нибудь съестного? Не найдет. Ни щавеля, ни лука-чеснока, ни другого. Крапиву и лебеду от картофельной ботвы не отличит, укроп от моркови или от хвоща!
— Погоди-погоди! А чего это ты мне за сына взялся выговаривать? Ты кто ему — дядя? Хоть раз топор или рубанок дал ему в руки, заставил поработать за собой вслед? Меня ведь, а не его ты гонял на верхотуру, когда крышу дачи покрывали, и с тобой я носилки с бетоном тягала и кирпичи!
— Вот и зря!
— Нет, а что это на тебя именно сегодня нашло такое раскаяние?
— Да просто!.. Недоволен я сегодня собой, вот и все.
Понимаешь, попросили завтра выступить на антивоенном митинге, а я отнекиваться давай, будто меня это совсем не касается. Тугодумные какие-то стали, толстокожие, близорукие. Будто и нет у нас прошлого, только настоящее, да однобокое, куцее будущее: вот вырастим сына, выучим, женим, внуков станем нянчить… А что же сами, елки зеленые?! Уже кончились, только для кожаных пиджаков и годны?
— Ну почему же? Я на своей фабрике, например, детскую одежду шью, и делаю это с превеликим удовольствием, заметь! Да и ты тоже, по-моему…
— Так нам же за это платят, и платят хорошо, ты тоже это заметь, платят даже премии за то, что не опаздываем к началу работы, что делаем сколько положено! Возьми другое: наши с тобой матери и односельчане в военно-послевоенные годы получали меньше, работали больше, жили порой нищенски, а по духу нам теперь дотянуться ли до них? В том-то и дело, что все мы почему-то считаем свою жизнь личным делом. Мол, как хочу, так и живу. «Работаю, чтоб иметь свои деньги на выпивку!» — говорит наш Кипарисов.
— Ну и что ваш Кипарисов? Разве все такие? Не все. И нечего говорить «мы, мы». Люди хорошие в основном, и это — правда.
— Конечно! Ты сама хорошая, вот и люди для тебя хорошие, но Кипарисов воришка и пьяница — для него тоже все люди хорошие, потому что не вмешиваются, помалкивают, работают и за него.
— Хорошенькие вы для него, а не хорошие, вот что. И ты это сам прекрасно понимаешь. В глаза-то слабо высказать ему, а? Перед женками дома воевать легче, конечно. Но мужские дела — это мужские дела. Я так понимаю. И что это с теперешними мужиками стало? Судачите как сплетницы!
— Но ты не очень-то заговаривайся! Так можно договориться черт знает…
— До правды, до правды только договоришься, больше ведь некуда. Тут тебе и сын твой и все, если уж сам разговор затеял. Кто должен был из сына мужика сделать, заставить побольше на работу заглядываться, а не на себя перед зеркалом? Я-то научу своему, да ты разучи как следует! А насчет думок, чтоб сына вырастить, женить, внучат нянчить — мои это мечты, мои, чего ж ты к моим бабьим думкам присоседился, своих нет? Вот так посмотришь на иных мужиков да поневоле вспомнишь: лучше раз в году родить, чем день-деньской бороду брить!
— Ну ты даешь, вот это сказанула так сказанула! Убила насмерть, Людмила Николаевна.
— Сам напросился. Да и знаю я, откуда это пошло — война, будь она трижды!.. Кто нас всех воспитывал-то? Матери. И тебя, и меня, и тысячи других мальчишек и девчонок, безотцовщину. Женщина, известно, все может вытерпеть, перенести, но мужчину воспитать не всякая годна, потому как жалость и любовь у ней на первом месте. Да что уж, всем вы хороши выросли: заботливые, не жестокие, работящие. Если б еще и везде так хорошо было уж: без войн, без горя горького. Мамы вон в это крепко верили тогда. Помнишь ту ночь, в августе сорок пятого?..
— Мы с тобой вышли войну посмотреть, я еще собирался бить фашистов!
— Не фашистов, а самураев, — сказала я.
Они сидели рядышком и вспоминали пережитое порознь и вместе, свое и то, что выпало на долю их безвременно погибшим родителям. Именно погибшим, а не умершим. В той же мере, как и погибшим в боях отцам, матерям, достались все военные горести и надсады, убившие их чуть позже…
Так у Семена Игнатьевича получилось, что, уже много поработав, поездив по свету, он почувствовал вдруг непреодолимую тягу вернуться в родную деревню, найти свой дом, могилку матери. И он все нашел: и дом тот, и соседку тетю Аню, мать Люды, застал еще живой, но уже нехорошо кашлявшей, устававшей от нескольких шагов по хате, встретил и саму Люду… Какой бы ни была вся его прошедшая жизнь, где бы его ни носило, а судьба, оказывается, сохраняла его счастье все это время на родимом месте, только приехать надо было, встретиться с ним, не опоздать.
— Люда, а ты не помнишь, куда делись те мои тетрадки со стихами? — спросил потом Семен Игнатьевич.
— В кладовке, наверное, если наш Игорь не умудрился на макулатуру снести в школу.
— Пойду поищу…
Он засиделся за разборкой бумаг до глубокой ночи. Юношеские стихотворные строчки были наивно-восторженны, неумелы, но по ним были ясно видны его главные заботы в жизни: мир, детство, мать, любовь, работа.
Он загорелся вдруг желанием написать стихотворение, с которым можно было бы выступить на митинге. Почему-то сразу нашлись последние, заключительные строчки будущего стихотворения:
Я помню себя с шести лет. С войной так и не повстречался, Я видел ее только след — Багровый, грохочущий свет, В котором отец мой остался…Утром он прочел написанное ночью жене. Слезы появились у нее на глазах.
— Зря все же ты бросил писать стихи: вон как берут за сердце!
— Зря? Но разве можно писать каждый день такое, что непременно брало бы до слез?
После митинга ему казалось, что все как-то по-иному смотрят на него, повнимательней, что ли, доброжелательней, дружески. Да и все люди ему самому вдруг стали ближе, родней, знакомей.
— Ну вот, а боялись — хорошо выступили! — похвалил мастер и даже пожал ему руку.
— Важно сказал, брат, правильно, одобряю, — похлопал по спине Афанасий Прокопьевич. — А то хотели, чтоб я! У меня бы так не вышло. Тут уж что кому предназначено. Вот тут, — плотник тронул себя за грудь, — тут иной раз такое кипит, что прямо заснуть невмочь, болит все. Разбудишь свою старуху, пожалуешься — тогда полегчает будто… Ты, Сеня, давеча про рамки меня пытал, да я от правды отвернул. Тут, вишь, какое дело: на войне приохотился я собирать по деревенькам, где проходили, всякую чудную работу — там кусок наличника с резьбой унесешь, там еще чего. Только скоро понятно мне стало, что мал солдатский мешок для всего российского ремесла, а что делать? Посоветовали ребята карандашиком зарисовывать. Так и пошло. Хочу тебе одну картину свою показать. Дорога она мне, вот и не решался никак. Других-то у меня теперь много появилось — хоть и говорят, что на каждую привычку есть отвычка, а совладать не могу. Нет-нет да потянет помалевать чего-нибудь. Спрашивается: на что это тебе, старый пень? А потом думаешь: нельзя же так, чтоб все непременно куда-то годилось, как ложка…
А Кипарисов выглядел непривычно посвежевшим, несмотря на то, что царапины на его лице покрылись коростами. Глаза у него были иные — здравые.
— Вы, мужики, извините меня по-хорошему, что я вчера так, да и вообще… Война какая-то у меня с женой открылась, понимаешь. Дети выросли все — ушли, мы с ней пенсионерами вдруг стали — на цельные дни только друг перед дружкой остались, а доброе друг другу сказать сразу как-то ничего и не нашлось. Замирились, слава богу, она первая вчера подошла, и все такое… Вот и вы меня, дурака, извините.
Окончательно убедился Семен Игнатьевич, что правильно поступил: в последний момент решил не читать на митинге свое стихотворение, а, как все, просто осудил войну. Это о счастье можно говорить по-разному, о радости какой — у каждого она своя. А когда общая беда грозит, одна на всех, тут и говорить надо не за себя. Не главное — побольше сказать, главное, чтоб побольше людей успели сказать одно и то же. Тогда обязательно будет так, как они хотят.
Первые ландыши
У Анастасии Григорьевны Осиповой шестидесятилетие. Дом ее сегодня — полная чаша: накрыты холодными закусками столы, на плите в жару томятся до полной готовности вторые блюда, на веранде остывает любимый в семье компот «вареневый» — из садовой клубники, вишни, слив, дальневосточного винограда. Накрытые полотенцами, в противнях исходят вкусным духом пирожки и ватрушки. Внучата со слюнкой во рту поглядывают на все это печенье, спрашивают:
— А скоро дедушка придет, а когда он будет?!
Все ждут главу семейства — Филиппа Ивановича. Несмотря на свои шестьдесят девять лет, он еще плотничает на стройке. После оформления пенсии едва ли неделю дома побыл, послонялся по двору, прикидывая, какую бы себе работу затеять, а после махнул рукой:
— Без дела жить — только небо коптить.
Вернулся на стройку. Вообще-то в молодые годы был Филипп Иванович Осипов известным на Камчатке промысловым охотником. Однажды зимой вывернулся на его тропу медведь-шатун. Филипп Иванович успел изладиться к стрельбе — выстрелил, но обнизил и только ранил зверя — пришлось с ножом его встречать, разъяренного.
Не один год после этого налаживался охотник со здоровьем, казалось, что ни одного ребра целого не осталось. С охотой, по всему получалось, придется распрощаться.
Из последней больницы выписался во Владивостоке, куда и вся семья к тому времени перебралась. Стал плотничать потихоньку. Эту науку он еще раньше охотницкой перенял в семье потомственного плотника, переселившегося в 1902 году из Херсона на Камчатку со всей своей плотничьей артелью, заключившей переселенческий договор. Но тайга да море растянули понемногу артель — кто в рыбаки пошел, кто в охотники.
Жили Осиповы во Владивостоке сначала по «углам», а потом и свой дом выправились срубить на хорошем месте — в Садгороде. Легко дышится здесь, на здоровье живется. Красное место. Из окошка вволю насмотришься на природу-матушку, а выйдешь из дома, так в одночасье грибов наберешь и орехов.
Одиннадцать детей вырастили Осиповы. Все собрались сегодня в родительском доме — три дочери и восемь сынов — принаряженные все, веселые, с детьми — во всяком уголке дома стоит радостный душе щебет внуков. Подарков нанесли в дом, чего только нет!
Видя счастливую растерянность матери перед обилием красивых вещей, сыновья шутили:
— Видишь, мама, чего только у тебя нет теперь, даже птичье молоко в конфетах! А то ты всегда говоришь, что мы трудно жили…
Была середина мая, с теплом весна в этом году явно затягивала: уж почти неделю с утра сеялась холодная морось, к вечеру переходящая в дождь.
Филипп Иванович пришел с работы только в шестом часу. Едва он снял свой волглый плащ, как его потянули в комнату:
— Глянь-ка, дед, что мы тут матери надарили — вот, вот и вот еще!
Переходя от подарка к подарку, Филипп Иванович будто все больше мрачнел, и какое-то внутреннее волнение отражалось на его морщинистом, обветренном лице.
— Ну, дед, что скажешь на подарочки? — допытывались сыны.
— Да что, ничего… А вы погодьте чуток, я счас!..
Думали, что отец что-нибудь свое для матери забыл в кармане плаща на веранде, но он надел плащ и ушел. А дождь тем временем вовсю забарабанил по крыше.
Родные не на шутку забеспокоились: куда это отец направился! Обегали дома поблизости: к одному соседу, ко второму — может, кого-то пригласить решил на семейное торжество, ведь жили с соседями дружно, как говорят, душа в душу. Но ни у кого не было Филиппа Ивановича.
Пора бы уж и за стол садиться, но нельзя без отца, поэтому вышли на веранду и там нетерпеливо выглядывали Филиппа Ивановича, переговаривались, вспоминали. Спросили мать:
— А что, отец тебе никогда ничего не дарил?
— Да зачем ему?! — воскликнула Анастасия Григорьевна. — Он ведь и так всю жизнь работает, все домой приносит…
Она смотрела на сетку дождя и вспоминала долгие камчатские пурги, заново переживая тоску и тревогу за мужа, одинокого в дремучей тайге, может, больного, голодного или замерзающего.
Первыми завидя нарты отца, дети обсыпали его со всех сторон и не отставали до глубокой ночи. Он им не забывал привозить из тайги веточки мерзлой калины, кедровые шишки, а то и живого зайца там или белочку.
Радуясь подаркам вместе с детьми, она все же тянулась взглядом к нартам: есть ли там мясо, хватит ли его, чтоб дождаться следующего возвращения мужа, теперь уж только по весне?
Жизнь текла такая, что о себе забывалось временами. До себя ли — дня не хватало, чтоб перекупать всех одиннадцать в корыте да постирать-посушить одежку!
Да и теперь только о детях сны и думки. И слава богу, что все хорошо у них, все здоровы, все рядом.
За мыслями приход мужа застал ее врасплох. С плаща Филиппа Ивановича лило ручьем на пол, сапоги и полы плаща были в прилипших травинках и лепестках лесных первоцветов. А в руке его был букетик ландышей — еще зеленоватых, полураспустившихся, первых.
Дети тут же переглянулись многозначительно: цветов-то среди подарков богатых не было!.
— Бери, бери, мать, — это тебе! — неловко совал он ей в руки букетик.
Тепло пальцев мужа, оставшееся на граненых стебельках, горячей волной передалось ее сердцу, и оно забилось, забилось как молодое, будто только узнавшее, что владеет счастьем издавна и навек. Невольные слезы стали в глазах, но она улыбнулась застенчиво и как-то робко вдруг поклонилась мужу по-старинному, в пояс:
— Благодарствуйте, Филипп Иванович…



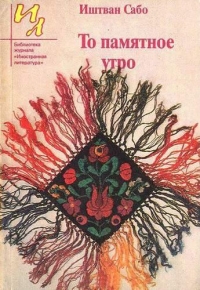




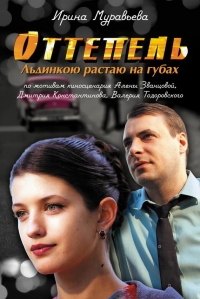
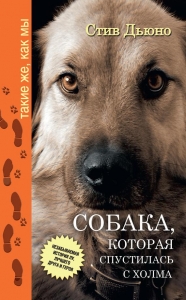

Комментарии к книге «Личное оружие», Олег Сергеевич Губанов
Всего 0 комментариев