Михаил Попов ПОРА ЕХАТЬ В САРАЕВО роман
ГЛАВА ПЕРВАЯ
— Именно зарежет?!
— Да, дядя Фаня, так и сказал — зарежу!
Настя сидела на краю деревянных мостков и болтала ногами в воде. Стоявший за ее спиной пожилой, бородатый господин возмущенно отбросил полы светлого сюртука в стороны и уперся кулаками в бока атласного жилета.
На противоположном берегу пруда высилась ивовая руина, от нее падала на водное зеркало прохладная тень. У подножия ивы томился серый деревянный павильон — одновременно купальня и лодочная станция.
Седой господин — Афанасий Иванович Понизовский — возмущенно вертел головой, рассыпая каждым движением холеную шевелюру. Он пытался подавить неподобающее чувство, но ему этот никак не удавалось. Он раздувал ноздри и подкашливал.
— Почему именно меня?!
— Я у него так и спросила, но он не знает.
— Не знает почему, но зарежет! — Афанасий Иванович хлопнул себя ладонями по полосатым коленям
— Это же черт знает и Бог весть что!
Прохладные владения ивовой тени у противоположного берега заметно глазу сокращались, и это огорчало девушку. Как будто она только сейчас поняла — восход солнца нельзя остановить.
— Может быть, он и день назвал, когда это сделает? Назвал, а?
— Он сказал, что это будет и скоро — и нескоро.
— Прямо оракул Дельфийский, прости Господи. — Афанасий Иванович развернулся и раздраженно прошелся вперед и назад по теплым доскам. Рассохшееся дерево удивленно скрипело. Настя обернулась к взволнованному собеседнику.
— Да будет вам, в самом деле, дядя Фаня! Такое впечатление, что вас эта история взволновала всерьез. Господин Понизовский остановился рядом со своею внучатой племянницей, правою рукой привел волосы в задуманное петербургским парикмахером положение, левую положил на гладкую прохладную голову девушки. Она плотно, до воскового блеска зачесывала волосы и завязывала сзади в узел (гордый?). На несколько мгновений их посетило особого рода взаимопонимание; скульптурно–родственная группа замерла на краю утреннего пруда, вырытого сто пятьдесят лет тому первым владельцем имения генерал–аншефом Иваном Ивановичем Столешиным. Афанасий Иванович нарушил и позу и тишину:
— Но все–таки ты меня тоже пойми. Внезапно, без всякого повода с моей стороны, здоровенный бугаище — одна ладонь как четыре моих и нрав «угрюмый и неизведанный» — заявляет, что намерен перерезать мне горло. Я что же — плясать от радости должен? Неприятно. Что я ему сделал, в конце концов?! Настя незаметно для дядюшки поморщилась.
— Он не «намерен», как вы сказали, он вас уважает, говорит, что добрый вы барин. Не то что Василий Васильевич.
— И на том спасибо.
— Он не намерен вас убивать, он даже не хочет вас убивать, но знает, что сделает это.
— По–моему, он нездоров. Надо показать его лекарю.
— Наш пухановский фельдшер сейчас в отъезде.
— Пусть берут мои дрожки и отвезут его на станцию. Там должен быть врач.
Настя сильнее, чем обычно, дернула ногой и выбросила перед собой веер сверкающих брызг. Несколько капель повисло на подоле платья.
— Да он, пожалуй, и обидится, дядя Фаня. Он правда не похож на безумца. Он же сам честно все рассказал, не таился. Блажь просто какая–то. У меня сложилось впечатление после нашего разговора, что он и сам не рад, что на него такое нашло. Не хочет он вас убивать, зачем же мы станем в сумасшедшие его рядить? Афанасий Иванович нервно вздохнул.
— Но все же согласись хоть с тем, что история эта не только несколько неприятна — что можно было бы терпеть, но и ненормальна. Я хотел бы отнестись к ней снисходительно или иронически, но речь идет о вещах, я бы сказал…
— Вы меня пугаете, вы на себя сделались непохожи. Дядюшка поморщился: и сам был от себя не в восторге. Он оппозиционным движением засунул руки в карманы, вознес очи горе и прикрыл их.
— Прибегнуть разве к полиции, — прошептал он, и в лице его проявилось интеллигентское бессилие. Сам себе ответил: — Засмеют-с.
— А скажите, дядя Фаня, с вами бывает так?
— Как?
Настя перестала болтать ногами, замерла, веки с выгоревшими ресницами сблизились; на ладонях, упиравшихся в деревянный настил, проступили бледно–желтые костяшки, на губах объявилась едва заметная и чуть–чуть ненормальная улыбка.
— Все. Все кончилось.
Афанасий Иванович начал наклоняться вперед, чтобы заглянуть в лицо племяннице, но она первая повернулась к нему, и улыбка у нее была уже не блаженная, а виноватая.
— Это как наваждение. Глупо, конечно, но вам–то я могу рассказать, да?
— Ну, хм, я… — Афанасий Иванович приложил заверяющую руку к белому шелковому галстуку. Он любил, когда с ним делились, это подтверждало косвенным образом его собственное мнение о себе, гласившее, что он хороший человек. Племянница вздохнула, собираясь со словами.
— Всего на несколько мгновений оно является, это ощущение, но зато уж охватывает целиком. Попытаюсь сейчас подобрать… но только знайте — словами бесконечно беднее и грубее. Вот, в общем, сижу здесь, на мостках, и пруд тот же, и сад, и то, что за садом — и небо и облака, — все то же, понимаете? А время — другое. Дядюшка привычным движением поправил шевелюру. Он ничего не понимал, но знал, что надо стараться.
— Совсем другой год, не четырнадцатый, а иной.
— Право, сложно, Настенька, мудрено. Не четырнадцатый, а какой, семнадцатый, что ли?
— Не в цифрах дело, поймите. Может, семнадцатый, может, тридцать седьмой. Не это важно. Важно то, что очень остро я как будто весь смысл этого другого года ощущаю. Могу, кажется, встать, выйти за ворота усадьбы, и мне сразу попадется навстречу не наш обычный деревенский человек, а иной. Могу поехать хоть в Петербург, а там все другое, другие дома, власти, новые моды.
— Рано или поздно все и так переменится. Настя досадливо махнула рукой.
— Это общие фразы. Не рано или поздно, а сейчас, в данный миг! И я бы не удержалась, проверила, но это всё секунды, мгновения. Наваждение проходит, и теперь я уже точно знаю, что за прудом поле конопляное, за полем проселок, он доведет до станции, там буфетчик мух гоняет полотенцем, колокол дребезжит, к платформе скучный поезд подходит…
Рефлекторно потянувшись к жилетному карману, Афанасий Иванович достал часы, блеснула потревоженная цепочка, отвалилась металлическая створка.
— Уже полтора часа как подошел. Настя вздохнула, а потом засмеялась.
— Вот всегда вы так, дядя Фаня. Сами говорите о себе, что вы натура мечтательная, «с небесностью», но одновременно без полета в нужный момент.
— Прости, Настенька, права ты, «без полета». Не думается мне о годе семнадцатом, когда нынче сердце не на месте. Как будто подточилось что–то, и в дыры невидимые страхи неведомые лезут. Старческое. Стариковское. Афанасий Иванович разгладил галстук.
— Но ты меня тоже удивила. Всегда казалась мне девушкой хоть и тонкой души, но вполне практической. Откуда у тебя эти полеты ума?
В этот момент на противоположной стороне пруда из ивовых кустов появился большой полосатый обезьян. Он запрыгал по настилу купальни и замахал приветственно рукой. Тут же появился второй, тоже полосатый. Афанасий Иванович полез в карман жилета за пенсне.
— Что за дьявол и черт?!
— Это Аркадий, — скучно пояснила Настя. — Со своим, очевидно, приятелем. Он писал.
Молодые люди в тигровых купальных костюмах, закрывавших тело от шеи до колен, весело отвязали одну из лодок и бодро погрузились в нее. Заключили весла и разом налегли на них. От несогласованного нажима лодка раскачалась, черпнула воды. Взлетел фонтан брызг. Звучный хохот поколебал основы тишины в камерном мирке пруда. Лодка была быстро укрощена, в несколько ладных взмахов вырвалась из ивовой тени и, набирая оскорбительную для здешних масштабов скорость, полетела к мосткам.
Настя торопливо извлекла ноги из небезопасной воды и встала рядом с дядей, одергивая и поправляя платье. Дядя Фаня стоял с поднятой рукой, коей крепил пенсне к переносице.
Лодка привела с собой треугольную волну, которая всхолмила пленку воды, вкатила в камыши и произвела там шум.
— Рад видеть, кузина, — крикнул Аркадий. Полосатая грудная клетка его охотно вздымалась, грудная клетка соседа по лавке вела себя так же, только не совпадая по ритму, выдавая выдох рядом с вдохом. Создавалось впечатление, что работает хорошо отлаженный двухтактный двигатель.
— Здравствуй, Аркаша.
— Это Саша Павлов. — Крупная веснушчатая голова с ярко–красными губами, в крупных рыжих кудрях. — Я, кажется, тебе о нем рассказывал.
— Нет, не рассказывал, но я очень рада видеть Сашу.
— А это, — Аркадий хлопнул веслом по воде, — мой дядя Фаня, мой самый лучший дядя. У нас тут все дяди и
племянники. Родство от двоюродного до седьмой воды на киселе. И люди все хорошие и очень хорошие. Аркадий не был чрезмерно крупным юношей, но ему достался слишком тесный купальный костюм. Призванный по идее скрывать не предназначенные к публичной демонстрации части тела, он, наоборот, их выпячивал. Рельефные бедра, раздавленные на лавке ягодицы и то мужское, что мы имеем в виду, а Настя не могла не видеть. Если все это богатство умножить на два (у Саши купальный костюм тоже был тесным), можно понять приступ дурноты, что накатил вдруг на девушку. Она оперлась на плечо Афанасия Ивановича и, повернувшись в профиль к кузену и его гостю, сказала:
— Я пойду распоряжусь насчет завтрака. Никто не услышал ее, даже дядя Фаня, восхищенно взиравший на полосатых гребцов.
— Давно ли вы изволили прибыть?
— Только что. И решили искупаться с дорожки. Генерал предложил нам освежиться, но мы отказались от его мадеры.
Аркадий называл Василия Васильевича не «папенька», не как–нибудь иначе, а именно «генерал», и трудно было понять, следует ли он таким образом какой–нибудь моде или в самом деле не испытывает к отцу глубоких родственных чувств.
— Идите домой, дядя Фаня, вам напечет голову. Дяденька приложил холеную ладонь к макушке и сделал сообщение для вновь прибывших:
— А меня ведь зарезать обещают, Аркашенька. Молодые люди расхохотались и, не сговариваясь, налегли на весла.
Глядя вслед поднимающимся по пологому склону фигуркам пожилого господина и девушки, Аркадий сообщил товарищу, впрочем, ни о чем его не спрашивавшему:
— Человек пустейший, но притом и милейший. Поездил по свету, по Италиям и Парижам. Всему учился, ничему не научился. Во всем разбирается, ничего не знает. Всех любит и ни в ком не разбирается. Я с ним книжки в детстве читал. Он мне в лицах показывал переход Ганнибала через Альпы. Особенно у него получалось эхо в горах, когда слон падает в пропасть…
— А отчего его так зовут: дядя Фаня?
Аркадий недовольно и снисходительно поморщился.
— Ну вот всегда найдется, извини за выражение, умник, который подумает, что мы тут передразниваем Чехова. Наш дядя Фаня не имеет никакого отношения к дяде Ване. Усвой это, пожалуйста. Просто лет десять назад приезжала к дядюшке родственница из Литвы. Он чуть–чуть поляк. Приемная дочь или что–то в этом роде. Так вот, она часто говорила: «Файный дядя, файный». Это, кажется, по–немецки. Да к тому же он еще и Афанасий, отсюда — Фаня.
— А кто такой дядя Ваня? — спросил Саша, очевидно, любивший докопаться до истины.
Аркадий удивленно сглотнул слюну и не нашелся, что ответить.
— Между прочим, я думал, что Фаня от английского «фанни» — смешной.
— Ты что, учишь английский?
— Он мне для работы нужен.
— Для того, чтобы рыться в болотах?
— Нет, чтобы читать, — простодушно ответил Саша.
— Ах вот оно что!
— Скажи, а девушка…
— Это Настя. Странная она. Семейство у нас большое, должен быть и кто–то странный. Я, знаешь, до сих пор не могу уяснить, кто она, собственно, мне. В общем — кузина.
— А в чем странность?
Лодка вошла из света в тень, и сразу все видоизменилось. Не только вода, воздух, звуки, но даже смысл слов. Аркадий, беспечно болтавший до этого, не без напряжения произнес:
— Ей еще и полных семнадцати лет нету, а она мне иногда кажется старушкой. После того как заболел дедушка Тихон Петрович — кстати, дедушка тоже не совсем родной, двоюродный, — так вот, дом теперь на Насте, бабушка при больном неотлучно. Мужики ее уважают.
— Настю?
— Ну да. Она у них за третейского судью. Развернувшись, молодые гребцы выбрались на освещенную середину пруда, встали на шатающемся дне лодки спиной к спине и, толкнувшись задницами, с бессмысленным визгом одновременно рухнули в воду. Стон удовольствия сотряс водные недра.
Настя и Афанасий Иванович шли по тропинке меж двумя одуванчиковыми полянами. Слева от них правила рыжая раса, справа — шарообразно–летучая. Три дня уже Настя собиралась спросить дядюшку, в чем причина этого растительного чуда, но и в этот раз забыла. Склон венчался старинной железной оградою. За оградой густел одичавший сад. Пришлось пройти шагов сорок, чтобы добраться до ворот, они держались на двух каменных беленых столбах. На вершине одного стояла гипсовая урна, на вершине другого сидел воробей. Войдя в ворота, дядюшка с племянницей оказались под сенью яблоневых ветвей и в конце шелестящего туннеля увидели двухэтажный дом с застекленной верандой. На невысоком крыльце сидел в кресле–качалке мужчина с широко распахнутой газетой. Сидел неподвижно. Легкая занавесь, подчиняясь неуловимому движению воздуха, выплыла из дверного проема и замерла у его плеча, предлагая для прочтения свои узоры взамен убогих букв. Проигнорированная, вернулась на место. Когда до ушей сидящего долетел скрип гравия под каблуками Афанасия Ивановича, он положил газету себе на грудь и сообщил с непонятным удовлетворением в голосе:
— Ну вот, его все–таки убили.
— Кого убили? — одновременно спросили дядя Фаня и молодая дама, вышедшая как раз на веранду из глубины дома. Одета она была по последней булемановской моде — в длинный облегающий костюм, украшенный шеренгами пуговиц от отворотов жакета до юбочной складки у левого колена. На голове она несла широкополую шляпу с не вполне уместными перьями, на плечах длинный платок с горностаевым рисунком. В левой руке — ридикюль на длинной кожаной цепочке. В ней чувствовалось театральное прошлое (пошлое).
— Здравствуйте, Галина Григорьевна.
— Здравствуйте, Настенька, здравствуйте, Афанасий Иванович. Вы не знаете, куда все подевались? Я уже два часа хожу по дому, и — никого! Даже прислуги нет. Аркадий с приятелем побежали купаться, Василий Васильевич не может оторваться от газеты, а я…
— Мария Андреевна у Тихона Петровича, ему опять худо. Она не отходит от него. А Зоя Вечеславовна с Евгением Сергеевичем еще, верно, почивают. Поздно вчера легли. О «прислуге» Настя ничего не успела сообщить, потому что на веранде появился длинный, унылого, почти чахоточного вида мужик в застиранной косоворотке. Стуча сапогами, он пронес мимо беседующих господ большой никелированный самовар и установил посреди стола, сервированного к чаю.
— Здравствуй, Калистрат, — строго сказал Василий Васильевич, поправив по очереди оба бакенбарда. Калистрат поклонился, сначала господину генералу, потом всем остальным. Поклонился низко, но без души.
— Барыня к чаю не выйдут, велели сообщить. Этот дворовый мужик был всегда себе на уме, но сегодня его сугубость как–то особенно ощущалась.
— Ступай, — сказала Настя, — я сама тут.
Каблуки Калистрата самодостаточно застучали прочь с веранды.
— Так кого все–таки убили? — спросил Афанасий Иванович.
— Да, любопытно, — поддержала его Галина Григорьевна, — впрочем, ты мне что–то уже говорил, Васечка. Генерал крутнул в сторону молодой супружницы снисходительным глазом и объявил:
— Фердинанда Франца застрелил в Сараево сербский патриот. По моему крайнему разумению, это обещает последствия. И самые непредсказуемые. — Сказав это, генерал несколько раз выпятил крупные красные губы, и лицо его подернулось туманом государственной задумчивости.
— Хотите, я вам предскажу все, что вы считаете непредсказуемым? — раздался резкий, даже неприятный голос. Из–за вечно неудовлетворенной своим положением занавеси появилась невысокая сухощавая дама лет сорока пяти в белом свободном платье с квадратным вырезом на груди и очень широкими рукавами. Черты лица у нее были правильные, даже безукоризненные, но притом почти неприятные. Она курила тонкую папироску, вызывающе держа мундштук большим и указательным пальцами.
По тому, какое впечатление на собравшихся произвело ее появление, можно было заключить, что она не является всеобщей любимицей. Генерал неохотно и неловко привстал в знак приветствия. Галина Григорьевна качнула своей шляпой так, словно боялась обрушить сооружение, покоящееся на ее полях, и тут же заявила, что ей нужно переодеться. Настя взялась переставлять чашку, нисколько в этом не нуждавшуюся. Только Афанасий Иванович поприветствовал появившуюся даму вполне дружелюбно.
— Как почивали, Зоинька?
— Все небось обсуждали с Евгением Сергеевичем судьбы будущей России? — не пытаясь скрыть иронии, подключился к вопросу генерал.
Зоя Вечеславовна посмотрела в его сторону сквозь клуб легкого дыма.
— Почему же будущей? Судьбы и ныне существующей нам небезразличны. Что же касается этого убийства в Сараево, то оно закончится ни больше и ни меньше…
— Как всеевропейской войною, — послышался хрипловатый лекторский баритон.
— Евгений Сергеевич, — распростер руки в ожидании объятий дядя Фаня и радостно двинулся в направлении плотного широкоплечего мужчины в полотняной летней паре.
Это был профессор Корженевский, публицист и философ, добившийся в последние годы, можно сказать, широкой и почти скандальной известности в интеллигентских кругах обеих столиц. Улыбка искривила широкий, почти безгубый рот, вечно как бы заплаканные глаза потеплели. Тот факт, что Афанасий Иванович был его безусловным и горячим поклонником, делал Афанасия Ивановича в мнении профессора человеком и приятным и значительным. Остальные члены семейства Столешиных относились к столичной знаменитости лучше, чем к его ехидной жене (своей родственнице), но чувства эти не выходили за границы абстрактного уважения. Приехал — и ладно. Работает всю ночь напролет — и пусть себе.
— Так значит, война, Евгений Сергеевич? — с сожалением отстранился от высокопочитаемого друга и сожалеюще нахмурился дядя Фаня.
Профессор проследовал к столу («Здравствуйте, Настенька»), по пути затевая лекцию.
— А как может быть иначе? Рассудите. Дунайская империя давно носится с планами уничтожения сильного Сербского государства и не упустит такого удобного повода. В этом вопросе венгерское дворянство и венгерские буржуа всецело поддержат своего венского монарха. Внутренние руки, так сказать, у императора полностью развязаны. Мы же, я разумею империю Российскую, не можем не вмешаться; уступив так странно в Боснии, мы не можем не возвысить свой голос здесь, что бы там ни говорилось в Думе. Германия окажет моральную поддержку Австро — Венгрии, страны Антанты — нам. А в делах подобного рода моральная поддержка очень скоро перерастает в экономическую, а экономическая в военную.
— Вы меня убедили. Почти, — кивал Афанасий Иванович, намазывая хлеб маслом, — но все же странно представить себе, что страны–хранительницы мировой культуры дойдут до варварских способов выяснения отношений. Вы только представьте себе столкновение Франции с Германией. Это все равно как если бы Лувр стал бы обстреливать Дрезденскую галерею.
— А вы думаете, уважаемый Афанасий Иванович, меня не беспокоит подобная перспектива? — продолжил профессор.
— Делает вид, что парит в политических эмпиреях, а на самом деле всего лишь приехал за деньгами, — шепнул Василий Васильевич своей супруге. Они устроились за дальним концом стола. Видно было, что они не горят желанием присутствовать при разговоре, но другого способа позавтракать не имелось.
— Но ваша речь… — Дядя Фаня положил намазанный
бутерброд на блюдце.
Евгений Сергеевич покровительственно улыбнулся.
— Речь эта не моя. Я лишь изложил основные мысли господина Сазонова, касающиеся заинтересовавшей нас темы. И князя Мещерского, лучшего нашего «Гражданина».
— А сами, стало быть, держитесь точки зрения противоположной: — мстительно глядя поверх дымящейся чашки, подал голос Василий Васильевич. Он был недоволен и профессором, и тем, что не выполнил данного себе обещания ни в коем случае не вступать в препирательства.
— Как не держаться, если это точка зрения здравого смысла.
— Смысла?! Здравого?!
— Именно, генерал, именно. Это не пораженчество, не предательство, как вам хотелось бы считать, а просто трезвый взгляд на существующий порядок политических вещей. Господин Сазонов со товарищи боится, что исторически сложившееся влияние России на балканских союзников будет уничтожено, ежели государь не проявит решимости отстаивать его силой оружия. Но как можно защищать то, что уже потеряно? Нет у нас никаких естественных союзников на Балканах! Нет! Есть хитроумные князьки, желающие разыгрывать российскую карту исключительно в рассуждении своих мелких местных интересов. События последних двух лет с очевидностью это показали. Стоило схлынуть оттоманскому игу, как они зверски, преступно между собою передрались. На протяжении профессорской речи лицо генерала наливалось темной кровью, бакенбарды нервно шевелились на шеках.
— Так, по вашему мнению, лучше просто сразу все отдать австриякам, дабы избавиться от забот?
— Вы думаете, что в вашем вопросе одно лишь патриотическое ехидство? Вы хотите меня уязвить, а на самом деле произносите политически разумные вещи. Василий Васильевич поставил возмущенно чашку на блюдце, но не попал в его центр, отчего чай расплескался.
— Не надо ли понимать ваши слова так, что вы всерьез рассматриваете возможность такого развития событий?! Евгений Сергеевич тоже поставил свою чашку, но не пытаясь придать ей качество некоего аргумента, — просто она оказалась пуста.
— Да, генерал. Более того, я не ограничусь высказыванием этой идеи вслух. Я собираюсь предпринять кое–какие практические шаги к ее осуществлению. И уже предпринимаю.
— Если вы имеете в виду ваши заметки в милюковской «Речи», — осторожно попытался вмешаться Афанасий Иванович, — то как проявление свободы слова я бы приветствовал…
Профессор положил ему широкую бледную ладонь на обшлаг, как бы великодушно освобождая от необходимости высказываться в свою защиту. Афанасий Иванович чуть поморщился, ему было досадно, что его так бесцеремонно зачислили в безусловные сторонники. Генерал саркастически усмехнулся.
— Тогда я не вижу никакого вашего отличия от самого вульгарного социалиста. Неужели и в случае начала военных действий вы останетесь в позиции активного врага существующего государственного устройства? Уголки широкого профессорского рта разочарованно опустились, в глазах появилась тихая академическая скука.
— Неужели вы не слышите, генерал, что рассуждаете в терминах охранного отделения. Вы собираетесь искоренять своих оппонентов методами господина Дубасова?
— А вы неужели до сих пор не поняли, что социалисты не могут быть отнесены к числу политических оппонентов? Это другое. Это нечисть, колония микробов в относительно здоровом организме.
— У вас странное представление о здоровье. Галина Григорьевна переводила любопытствующий взор с одного спорщика на другого. Пожалуй, она была одинаково далека от понимания как иронии профессора, так и волнения генерала. Ей, кажется, все равно было, что один из спорящих является ее мужем. Зоя Вечесла–вовна курила, так и не притронувшись к еде. Все знали, что она полностью разделяет точку зрения мужа и поэтому не вмешивается в разговор, хотя очень любит поговорить.
— Но так можно договориться черт знает до чего, милостивый государь Евгений Сергеич, — генерал бросил салфетку на стол, положил руки на скатерть, и она сморщилась под их тяжестью, — отчего же нам вообще тогда останавливаться, а?
— О чем вы, Василий Васильевич? — Профессор почувствовал, что дальний родственник собирается пойти по второму кругу препирательств, и очень их не хотел, не зная, как этого избежать.
— Почему же только Балканы? А Польша? А Финляндия, надобно и их оставить собственной судьбе? Армян — туркам, пусть режут! Грузин — персам. Да и в Поволжье полно инородцев, которые захотят, быть может, собственного пути и закона. Где предел послаблениям?! Отчего нам Петербург не объявить новой Астраханью — на том основании, что все дворники там татары? Они его подметают, стало быть, имеют на него особые права! Настя одним ухом слушала застольных спорщиков и старалась при этом уследить за двумя одновременными событиями вне пределов веранды. По яблоневой аллее поднимались к дому, чему–то смеясь, Аркадий с приятелем. Утреннее купание весьма освежило их. Настя надеялась, что, явившись на веранду, они станут тою силой, которая рассеет всеобщее раздраженное состояние. Также наблюдала она и за худой фигурою Калистрата, стоявшего у входа в каретный сарай. Калистрат поигрывал большими английскими садовыми ножницами: то откроет, то закроет. Он беседовал с кем–то, находящимся внутри сарая. Угол обзора не позволял видеть, с кем именно. Настя пыталась понять, почему движения железных челюстей выглядят так угрожающе. Может быть, угрожающий вид им придают усилия Калистрата?
— Никогда этого не будет, никогда, господин профессор!
Это возмущенное воскликновение оторвало внимание
Насти от садовых ножниц.
Генерал встал. Евгений Сергеевич, напротив, поудобнее откинулся в кресле и сказал отчетливо примирительным тоном:
— Я, кажется, вас задел, Василий Васильевич, поверьте, это не входило в мои планы.
— В этом я как раз не сомневаюсь, — усмехнулся вдруг генерал. — Сердить меня в данный момент вам крайне невыгодно.
Генерал грубо намекнул на финансовую подоплеку «семейного съезда».
Профессор озабоченно, можно даже сказать, растерянно посмотрел в сторону своей жены. Разговор из сферы абстракций внезапно перешел на практическую почву, и столичная знаменитость почувствовала себя неуверенно.
Зоя Вечеславовна, ни на секунду не растерявшись, подхватила эстафету.
— Вы абсолютно правы, дорогой мой дядюшка, — (Василий Васильевич был двоюродным братом хозяина имения Тихона Петровича Столешина и, стало быть, приходился двоюродным дядей его племяннице), — мы приехали сюда не для того, чтобы ссориться с вами, а с тем, чтобы наконец урегулировать раз и навсегда накопившиеся вопросы.
— Можно ли говорить об этом, когда Тихон Петрович так плох, — укоризненно сказал Афанасий Иванович.
— Вы правы, дядя Фаня, сейчас говорить об этом не стоит. И по соображениям морального порядка, и по соображениям порядка практического. Пока дядя находится в том состоянии, в котором он находится, приставать к нему с финансовыми разговорами не только жестоко, но и бессмысленно.
Всем было ясно, что Зоя Вечеславовна права, но при этом все испытывали острое чувство неловкости. Настя разочаровалась в Аркадии и его приятеле. Вместо того чтобы спешить к столу для спасения общесемейного чаепития, они полезли на яблоню, как бы подтверждая, что первое впечатление от их появления, когда они были столь похожи на обезьян, было не очень уж ошибочным. Напряжение разрядил профессор.
— А давайте знаете что сделаем? На днях я закончил одно сочинение. В нем в наиболее полной и, так сказать, образной форме (профессор улыбнулся) я изложил мои мысли по вопросу, который мы здесь с господином генералом затронули. Хотите, я прочту его, хоть сегодня вечером? Может быть, после того как я переверну последнюю страницу, выяснится, что истинные наши позиции, Василий Васильевич, не так уж и разнятся. Поверьте мне на слово, устная речь иногда до неузнаваемости изменяет мысль. Ну как?
Предложение никого, конечно, не восхитило, но вместе с тем это был вполне пристойный выход из положения. И единственный на данный момент.
— Это роман? — спросила Настя.
Евгений Сергеевич улыбнулся гордо и смущенно.
— Можно сказать и так.
— Ах, роман… — В глазах Галины Григорьевны тоже появился интерес.
— Доброе утро! — объявил Аркадий, поднимаясь на веранду.
Глава вторая
28 мая 1914 года молодой человек в мягкой белой шляпе, спортивном английском костюме и черных вязаных гетрах остановился у распахънутых ворот дома номер 6 по Великокняжеской улице. Удивительным был сам факт распахнутых ворот, прежде их можно было увидеть только запертыми. В любое время дня и любую пору года. Дом был знаменит в городе, да, пожалуй, и во всем княжестве тем, что стоил очень дорого, что никто не владел им долго и все владельцы кончали плохо. Из последних можно было назвать одного непутевого представителя сербского правящего дома, сына анатолийского коврового фабриканта и вдову русского сахарозаводчика. Посреди мощеного двора перед входом в трехэтажный особняк (заслуживавший скорее наименования дворца), выстроенный в привычном для этих мест трансильванском стиле, стояло, лежало и валялось огромное количество разнообразной мебели: бюро, кресла, сундуки, ширмы, поставцы, диваны, стулья.
Иван Андреевич Пригожий, сын костромского архитектора, вольный путешественник, а также любитель разнообразных искусств, подчиняясь не вполне осознанному внутреннему порыву, вошел в ворота. Надобно, пока не иссяк читательский интерес к этому двадцатидвухлетнему господину, сообщить о нем самые необходимые сведения. Он был обладатель разнообразных, но не всегда основательных дарований. Слыл влюбчивым малым, но на описываемый нами момент не был связан сильным чувством или определенными обязательствами с какою–либо особою противоположного пола. На губах его еще, быть может, цвело дыхание черноволосой прелестницы Эмилии, продавщицы цветочной лавки из флорентийского предместья, но из легкого сердца образ ее уже испарился. Путешествовал он уже более года, отправленный папенькой своим, малоталантливым богобоязненным человеком, на учебу в лучшие заграничные заведения. Науками он, может быть, и овладел, но не превзошел их, отчего несколько опасался возвращения в родные пенаты.
Иван Андреевич посетил мебельные мастерские Руперта Айльтса в Карлсруэ, Симона Звервеера в Роттердаме. В Париже он задержался долее всего, что понятно и почти извинительно. Вначале большая часть его времени тратилась на ознакомление с мебельным мастерством, а меньшая шла на сон и легкомысленный отдых. Впоследствии его жизнь состояла исключительно из легкомысленного отдыха с короткими перерывами на сон. Нет, нельзя сказать, что юноша полностью отринул отцовскую идею — сделать из него мебельщика. Он знал про себя твердо, что рано или поздно отправится домой, неся в своем сердце итальянскую весну, немецкие горы, парижское небо, а в голове чертежи кроватей, составы пропиточных лаков и приемы заграничных резчиков. Наконец, примерно на пятнадцатом месяце познавательного путешествия, старый архитектор стал проявлять признаки нетерпения. Он писал, что теряет силы и желал бы видеть наследника рядом с собою для подобающей передачи дел.
На такие аргументы возразить нечего. Устроив последний вольный загул в «Тур Д'Аржан», «Ле Беркли» и кафе «Де Флер» на бульваре Сен — Жермен, Иван Андреевич лег на обратный курс. Последним пунктом, требовавшим продолжительной остановки, был город Ильв, столица крохотного княжества на Балканах. Там проживал маэстро Лобелло, человек неясного происхождения, но громадного (не только мебельного) таланта. По мнению Пригожина–старшего.
Старый архитектор и старый мебельщик сдружились в восьмидесятые годы прошлого века, в бытность Пригожина–старшего военным инженером при русской дипломатической миссии в Ильве. После Второй Балканской войны миссия эта была временно закрыта. Явившись в скромную столицу карликового государства, ' Иван Андреевич тут же отправился с визитом к маэстро, но застал его лежащим в жестокой лихорадке. Доктор Сволочек, тихий, интеллигентный словак–доктор, пользовавший старика, утверждал, что болезнь хоть и тяжка, но никоим образом не смертельна, и посоветовал молодому гостю маэстро остаться и подождать выздоровления. Молодой человек последовал этому совету. Он был даже рад возможности задержаться, дабы освежить в памяти свои многомесячные занятия и упорядочить свои записи. Дома ему, несомненно, предстоял экзамен. Доктор Сволочек взялся опекать его. Внимательность и забота, проявляемые им, были на грани назойливости, но Иван Андреевич терпел, положив себе во что бы то ни стало дождаться встречи с маэстро Лобелло. Или, по крайности, его смерти. Без этого он не мог ехать домой. Итак, Иван Андреевич вошел во двор трансильванского дворца и замер перед первым же экспонатом. Это был шкаф, представлявший собою как бы два поставленных друг на друга сундука, — с двустворчатыми дверцами, консолями и пилястрами, богатым цоколем и карнизом. Подле стояло кресло. Высокая его спинка и подлокотники были покрыты резьбой и обильной и изящной. Италия, раннее Возрождение, сообразил Иван Андреевич. На лице самозваного посетителя читалось все больше восторга в ущерб первоначальному удивлению. И как было не восхититься зрелищем голландского уголка. Здесь уже почти не было тяжеловесного дуба, и даже орех утратил свое доминирующее положение. Царство черного амарантового дерева, розового бразильского, называемого также якарантовым, что свидетельствовало о широчайших ареалах голландской торговли того времени. Нидерландские мастера XVI–XVII веков восприняли и усовершенствовали приемы предшественников своих из раннего итальянского Ренессанса, они освоили характер новой орнаментации благодаря гравюрам Кука ван Эль–ста, Корнелиуса Боса и Корнелиуса Флориса. А что там дальше? Мебель в стиле Франциска I? Иван Андреевич легко отличил ее по наплыву итальянского орнамента на готические формы, по полной победе ореха над дубом. Кресла с неимоверно высокими спинками, табуреты, столы, лари, шкафы как бы были задуманы готом, а украшены ломбардцем.
Иван Андреевич задержался у роскошного дрессуара, столь магнетическим было действие этого роскошного поставца на его воображение, что он простоял бы возле него долго, размышляя, быть может, о превратностях судьбы, постигших великолепного французского монарха, когда бы не бросился ему в глаза блеск парчи, коей была обита спинка стоявшего поблизости кресла. Оно имело отчасти итальянский вид, но опытный глаз различил, что сейчас предстоит вступить в пышное царство Генриха II. Иван Андреевич не был поклонником этого чрезмерно изукрашенного стиля. Прямолинейная попытка реанимировать в середине XVI века древнеримские мотивы. Все эти мраморные птицы, фантастические животные вместо ножек, гермы, колонны, портики на шкафах, шифоньерах, засилье парчи, бархата вызывали в нем тоску, и он поспешил пройти дальше и как будто произвел путешествие в прошлое, попал в мир XII века, в мир романского стиля. Здесь все свидетельствовало о простоте и целесообразности. Все было подчинено целям повседневного быта и немудреного обихода. Царство сундуков, заменяющих собою стол, стул, кровать и шкаф. Противник всяческой чрезмерности, Иван Андреевич отвергал не только чрезмерность в пышности, но и чрезмерность в простоте. Он бежал из мира окованных металлом ящиков, поставленных для удобства перемещения на маленькие колеса. Они возбуждали почему–то сильнейшую в нем тоску.
Вскоре он увидел перед собою шкафчик для медалей, изготовленный из черного дерева с бронзою. Он сразу угадал, что это работа Андрэ Буля, тут же стояла пара кресел золоченого дерева на изогнутых ножках в стиле позднего Людовика XIV. «Не в Фонтенбло ли я?» — явилась мысль. В этом убеждал и сосед Андрэ Буля — дворцовый стол резного золоченого дерева с мраморной доской (правда, треснувшей в двух местах). Тут же дал знать о себе и стиль Регентства, представленный замечательной парой диванов, обитых гобеленовой тканью, и шкафом–комодом из орехового дерева с резьбой и откидной доской для письма. Доска были откинута, и на ней лежал полусвернувшийся лист желтоватой бумаги с поставленной поверх него чернильницей. Из нее торчало несколько потрепанное, но гусиное перо…»
Евгений Сергеевич сделал паузу и потянулся к стакану с чаем. Воспользовавшись этим, собравшиеся на веранде слушатели зашевелились. Галина Григорьевна поправила шаль на плечах. Василий Васильевич гулко прокашлялся и выразительно посмотрел по сторонам: мол, какая скукотища этот профессорский «роман». Многие были с ним согласны, особенно юные купальщики, им приходилось тратить массу сил, чтобы скрыть зевоту и удерживать веки в растворенном состоянии.
Зоя Вечеславовна регистрировала все мельчайшие детали, свидетельствовавшие о скрытом отношении родственников к мужниному тексту. Промокнув аккуратные усы, Евгений Сергеевич продолжил:
— Эта женщина…
Но его прервала Настя:
— Бабушка!
В дверях, уводивших в глубь дома, стояла Марья Андреевна, невысокая сухонькая старушка со сложенными'на груди темными кулачками. Стояла в привычно скорбной позе и не мигая глядела перед собой. Две подвешенные над столом керосиновые лампы с трудом держали фронт в борьбе с силами всемирного мрака, обступившими дом. В такой световой обстановке внезапное появление хозяйки произвело известное впечатление. И оно укрепилось в слушателях, постепенно понимавших, что смотрит Марья Андреевна как–то странно, мимо них, сквозь веранду. Кое–кому подумалось: выход старушки так многозначителен оттого, что она пришла сообщить о кончине Тихона Петровича. Настя перекрестилась. Глядя на нее, Галина Григорьевна сделала то же.
И тут Марья Андреевна громко и довольно твердо спросила:
— Зачем ты явился?
При том она продолжала глядеть сквозь веранду. У многих явилась мысль: в себе ли она? Головы повернулись, чтобы проследить за ее взглядом. Сидящему на свету трудно рассмотреть что–либо находящееся в темноте. Одно лишь можно было утверждать — за стеклами веранды кто–то есть. И этот кто–то огромен. Марья Андреевна видела больше, потому что сама находилась в неосвещенном коридоре. Может быть, какой–нибудь сведущий в законах оптики тип посмеется над этим объяснением, но присутствующим было не до смеха. Тишина установилась страшная. Только неизбежная и по законам природы, и по законам литературы бабочка выписывала шершавые вензеля по потолку.
— Я спрашиваю, зачем ты пришел? — повторила свой вопрос Марья Андреевна.
В ответ раздались тяжелые шаги. Смутная тень двинулась вдоль окон, и на пороге, отодвинув огромной ладонью занавесь, появился огромный мужик, одетый мужицким образом. Армяк, подпоясанный вервием, онучи, лапти, бородища лопатищей. С головы он медленно снес и в скомканном виде приложил к груди суконную шапку. Поклонился со скоростью Пизанской башни.
— Фролушка, — облегченно сказала Настя.
— Какой–то уж очень утрированный народный тип, — прошептал на ухо жене Евгений Сергеевич. «Как это он так бесшумно смог подойти к дому?» — тоскливо подумал Афанасий Иванович и ослабил узел галстука. Стало трудно дышать.
Марья Андреевна подошла к выражавшему всем своим видом покорность гостю и попыталась дружелюбно потрепать его по плечу. Достала только до локтя.
— Ну, ступай, Фрол, ступай.
Человекобашня стала покорно поворачиваться вокруг своей оси.
— Нет, нет, нет! — послышался немного видоизмененный волнением голос Афанасия Ивановича. — Раз уж он сам сюда явился, пусть говорит. Пусть ответ дает, что это он за разговоры стал водить в последнее время! Дядя Фаня встал и, любимым своим движением уперев руки в бока, подошел вплотную к широченной, виновато согбенной спине. Ему было важно всем показать, а себе доказать, что никакого тайного трепета он в связи с этой бородатой орясиной не испытывает. Но, увидев, что сзади за поясом у Фрола торчит топор, он осекся.
Резкий, почти агрессивный выход милейшего Афанасия Ивановича произвел эффект. Даже супруги Корженевские отреагировали. Профессор закрыл рукопись, а профессорша потушила папиросу. Генерал — тот даже встал; его в равной степени заинтересовали и смущенный гигант, и возможность пустить вечер по другому руслу, где стало бы неуместным дальнейшее чтение мебельного романа.
— Марья Андреевна, — громко воскликнул он, указывая на крестьянскую спину, — что это мужички у вас по ночам с топорами шастают?
Хозяйка дома неожиданно сильно смутилась; не приученная жизнью к тому, чтобы скрывать свои мысли, она и не смогла скрыть, что топор этот ей тоже не нравится. И одновременно является полной неожиданностью. Ко всему остальному она была вроде как готова, а к топору — нет. Поняв, что толку от старушки он дождется не скоро, генерал повернулся к дяде Фане, тоже, по–видимому, посвященному в тайну происходящего.
— Афанасий Иванович, может, ты чего–нибудь скажешь? Но тот говорить был не в состоянии. Лицо сделалось апоплексического цвета, а в глазах появилась влага. Но полноценной немой сцене возникнуть было не суждено. Подал голос владелец инструмента:
— Мы не убивцы, мы плотники. А топор у меня завсегда при себе.
Не успело население веранды как следует вдуматься в смысл этой загадочной фразы, как с места сорвалась Настя и, в несколько бесшумных шагов подлетев, схватила Фрола за руку и стала поворачивать лицом к людям. За время этой замедленной процедуры она успела вкратце изложить простое объяснение сегодняшнего, попахивающего скверной мистикой, визита. Оказывается, два дня назад горничная Груша — вон она стоит за спиной Марьи Андреевны — рассказала барыне о странностях, которым вдруг стал подвержен ее свекор, непьющий, уважаемый в деревне мужчина Фрол Фадеич Бажов. Странность главная состояла в том, что он, явившись к причастию, рассказал священнику отцу Варсонофию о возникшей у него поразительной уверенности, будто зарежет он вскорости одного человека, а именно родственника барина своего Афанасия Ивановича Понизовского. Отец Варсонофий помыслы такие безумные безусловно осудил, наложил соответствующую случаю епитимью, но про себя счел несомненною и беспредметною блажью. «Разыгралась фантазия народа», — так примерно высказался он в разговоре с фельдшером Михеенко. Марья Андреевна, в силу своей общей чуткости, отнеслась к сообщению Груши внимательнее, даже разволновалась. Упросила «внученьку» свою Настю сбегать в деревню и самолично разузнать, что там к чему. Плотник Фрол Фадеич и от Насти не скрыл своих удивительных настроений. Да, зарежет, да, дядю Фаню. Только не знает когда. Через время. После каких–то неясных событий. Каких? То нам неведомо, так примерно отвечал. Все это Настя рассказала и Марье Андреевне, и Афанасию Ивановичу, вот отчего такое настроение сложилось на веранде при появлении Фрола.
Евгений Сергеевич и Зоя Вечеславовна обменялись кривыми улыбками.
— Я же говорил, будет интересно, — шепнул Аркадий Саше, — а ты — «торфяник, торфяник».
— Но завтра все же пойдем? — озабоченно переспросил тот.
— Да пойдем, пойдем.
— Ну хорошо, — улыбнулся генерал, явочным порядком возглавивший следствие по странному делу, — история любопытная, слов нет. Остается узнать, зачем он сюда сейчас явился.
Галина Григорьевна смотрела на мужа с особого рода восхищением, ей было приятно, что ее Васичка и здесь полный начальник над всеми людьми и обстоятельства-
— Сейчас? — Настя быстро снизу вверх посмотрела на Фрола, в его лице была обширная растерянность. Девушка чувствовала, что обязана каким–то образом защитить представителя народа от представителя власти. На стороне Фрола была — по ее мненью — какая–то, пусть и не вполне изъяснимая, но правда. На стороне второго — лишь высокомерное барское любопытство.
— Да, хотелось бы узнать, зачем? — стал на сторону генерала дядя Фаня. Это задело Настю, но и помогло тут же придумать связный ответ.
— А он просто побоялся, что его неправильно поняли, что слова его, переданные мною дяде Фане, могли напугать его зря.
— И он пришел объясниться лично? — продолжал возвышаться над тихим безумием ситуации генеральский здравый смысл.
— Да-с! — с вызовом ответила Настя.
— С топором?
— Плотники они. — Голос девушки почти сорвался.
— Барышня правильно говорит? — в пол–лица повернулся к потупившемуся Фролу Василий Васильевич.
— Да, — сказал стыдливо, но твердо плотник. Но и генералу, и прочим осталось непонятным, согласился ли он с рассказом Насти или просто еще раз подтвердил свою профессиональную принадлежность. Генерал открыл рот для уточняющего вопроса, но тут за спиной у него послышались шаги, и «следователь» и остальные с ненормальной поспешностью обернулись. «Калистрат», — прошептал кто–то.
Калистрат, колотя железными набойками в пол, неся на лице скорбно–ироническую ухмылку, прошел к столу, убрал с него остывший самовар, поставил новый, горячий, и, не говоря ни слова, удалился. Это вторжение произвело на всех весьма неприятное впечатление, но никто не счел нужным высказываться по этому поводу.
— Ну так вот что я у тебя хочу спросить, дорогой мой Фролушка, как изволит называть тебя… — продолжил взятую на себя роль генерал.
— Давайте оставим его в покое, — снова встала у него на пути «внученька», — сколько можно, извините, Василий Васильевич, издеваться над человеком?! Это просто поветрие в воздухе такое. Мне и то мысли разные в голову лезут.
— Какие же? — весело, но со значением спросил Аркадий.
— Таким тоном бравые гусары шутят с синими чулками, оставьте этот тон, кузен, — резко ответила она ему. Отбритый студент нахохлился, но до его чувств никому сейчас не было дела.
— Поветрие, именно поветрие… — начал было Афанасий Иванович, но ему трудно было перебить разошедшуюся Настю.
— Вот Калистрат, вы все видели его сейчас, давеча мне и говорит — уверенно так, — что через месяц пойдет на каторгу. Он на выдумки не горазд, сам себе на уме человек, не болтун. А говорил уверенно, очень уверенно. У Фрола что–то из этой же области. Скажите, Евгений Сергеевич, — вдруг повернулась к профессору, — вы ведь ученый, разве такое не случается иногда? Бывает, что находит вдруг на всех такое?
Евгений Сергеевич выразительно пожал плечами, показывая, что тема разговора лежит много ниже его уровня. Но все глаза обратились к нему как к арбитру, и он не мог отмолчаться.
— Я, прошу прощения, не медик. Впрочем, здесь, может быть, и не медицинская проблема, а историческая. Можно припомнить случай, когда целыми народами овладевало своего рода безумие, какие–то предчувствия апокалиптические. Да и наши мужички среднерусские раз в три года готовятся к концу света..
— Конец света, так конец света, — вмешался дядя
Фаня, — но почему для начала надо зарезать именно меня?!
Евгений Сергеевич развел руками.
— Я не убивец, — почти угрожающе заявил Фрол.
— Вы говорите — мужики, — раздумчиво вздохнула Марья Андреевна, — а вот Тихон Петрович час тому назад сказал, что умрет ровно через месяц. Как объявят, так он и умрет, а что объявят, не объяснил. Очень спокойно сказал. И я ему поверила.
— Так он пришел в себя? — заинтересованно вскинулась Зоя Вечеславовна.
Профессор расценил слова Марьи Андреевны как сомнение в свой адрес и начал приосаниваться для того, чтобы заново и наукообразнее все переобъяснить. Генерал, боясь, что он снова овладеет инициативой, вмешался:
— А я считаю, что дело должно довести до конца. Он, — палец во Фрола, — явился, чтобы нечто объяснить, так пусть объясняет. Где и как произойдет то, что, как он считает, предстоит ему сделать и чего он делать не желает. По его словам. Может, нам кое–что станет понятнее. Несмотря на чрезмерную витиеватость, граничащую с косноязычностью, речь генерала показалась всем убедительной. Так часто бывает. «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно».
На веранде началось сочувственно–заинтересованное шевеление. Почувствовав всеобщую поддержку, генерал хотел было обратиться к представителю народа, дабы растолковать ему, что хватит, мол, темнить. Но не успел, ибо услышал угрюмый голос представителя:
— Я знаю где.
Стало быть, все понял из говорившегося выше.
— И отлично, — воскликнул генерал, — может быть, в таком случае ты нас туда проводишь? Фрол отрицательно покачал головой.
— Что значит это твое?.. — Василий Васильевич как мог передразнил его.
— Вы, барин, меня поведите.
— То есть как? Ты же сказал, что знаешь! Фрол кивнул и молча постучал себя скомканной шапкой чуть пониже кадыка.
— Истинный Бог. Только дороженьки не ведаю. Вы поведите меня, я и узнаю. Раздался негромкий деланный смех Евгения Сергеевича.
— Да он просто дурачит вас, генерал. Сейчас каждый мужик мнит себя Распутиным. И внешне похож. Все мысленно согласились, что слова профессора в общем–то справедливы, но вместе с тем остались при мнении, что он неправ.
Генерал, продолжая ощущать всецелую поддержку масс, не побоялся показаться смешным и решил возглавить предполагаемое шествие.
Несколько минут ушло на его подготовку и оснащение. То есть на то, чтобы отодвинуть соломенные кресла и встать, чтобы принести свечи и возжечь их.
— Ты не пойдешь? — спросила Зоя Вечеславовна оставшегося в креслах мужа.
— Лейбниц, кажется, как–то сказал: если ко мне прибегут и скажут, что типографский шрифт, случайно рассыпанный на улице, сложился сам собою в «Энеиду», я и пальцем не шевельну, чтобы пойти посмотреть. Я остаюсь с Лейбницем.
«Как типографский шрифт мог оказаться на улице?» — зачем–то подумал дядя Фаня.
Евгений Сергеевич был доволен собой. Он специально произнес свою краткую речь очень громко, ему хотелось уязвить неблагодарную толпу, не оценившую его романа. Пусть уходят! Но пусть уходят с клеймом дикарей на челе. Генерал был настолько на коне в этот момент, что счел возможным не удостаивать журнальную крысу ответом. Зоя Вечеславовна, всем умом находясь на стороне мужа, все же, не справившись с внутренним позывом, выдохнула вместе с клубом дыма:
— Мне надо там быть. Лейбниц пожал плечами.
— А ты чего сидишь? — спросил Аркадий друга.
— Я здесь побуду, а ты мне потом все расскажешь.
— Ну, ты, брат, настоящий торфяник. Саша Павлов виновато потупился, но остался на месте. Несмотря на эти мелкие неприятности в арьергарде, генеральское шествие двинулось. Василий Васильевич Сто–лешин, согнувшись в дурашливом четвертьпоклоне, пропустил вперед себя Грушу со свечой и самого испытуемого.
— Прошу-с, — и последовал за ними. Брак с таганрогской актрисой сказался в этом его движении.
За генералом шли парою немного испуганная Марья Андреевна и приятно возбужденная Галина Григорьевна. Афанасий Иванович вел под руку Настю. Ей, кстати, казалось, что он, наоборот, опирается на нее. Аркадий, неизбежно юношески кривляясь, замыкал процессию. Веранда почти опустела.
Евгению Сергеевичу было приятно, что он остался не в одиночестве.
— А что же вы? — спросил он Павлова. Ему хотелось верить, что причина его усидчивости не лень, а полноценное презрение ко всей этой мистической чуши. Волна краски окатила юного естественника, внимание столичной знаменитости просто ошпарило его.
— Да я как–то… Мне бы на болото завтра пораньше. Да и
неловко.
Ответ в целом удовлетворил профессора, и он начал примериваться, как бы максимально приятным для себя образом продолжить разговор, но ему помешало, как всегда, в высшей степени бесцеремонное появление Калистрата.
Он подошел к столу, посмотрел в упор на самовар и задумчиво произнес:
— Однако полон.
Евгений Сергеевич саркастически усмехнулся.
— Вот она, загадочная русская душа. Ну как ты вот определил, что самовар полон? Калистрат поиграл правой бровью.
— Да уж, — был ответ.
— А скажи–ка мне, откуда ты взял, что через месяц пойдешь на каторгу, а?
— Да уж знаю, — смыслом в себя произнес худобый мужик и с тем удалился.
Профессор еще раз усмехнулся, даже возмущенно всплеснул руками.
— Ну что, скажите мне, молодой человек, что, кроме вечного валяния Ваньки, есть в этом столь самобытном субъекте?! Ведь не может он знать, что самовар полон, не может он видеть сквозь никелированное железо. Шатается туда–сюда от дури и безделья. От дури и безделья же врет про каторгу. Разве нет? Саша потупился и тихо сказал:
— Он поглядел, что все чашки чистые, стыло быть, воду мы и не тратили совсем. Ведь Груша чашки после первого самовара переменила. Мы и не прикасались. Студент стеснялся своей правоты и охотнее промолчал бы, чтобы не вступать в разногласия с таким человеком, как профессор Корженевский. Но он был в том возрасте, когда истина почему–то дороже всего.
— Это пусть, самовар — он и есть самовар. А вот каторга, что вы на каторгу скажете?
Юный друг истины неуверенно улыбнулся.
— То–то же! — победоносным тоном, скрывая некоторое тайное недовольство собой, заявил профессор. Между тем процессия мучимых нездоровым любопытством свеченосцев продвигалась по тихому лабиринту ночного дома. Бесшумные причудливые тени шарахались по стенам. Кресла, столы, диваны корчились и неохотно замирали, попадая в поле устойчивого света. Осталось только догадываться, что они вытворяли, будучи предоставлены сами себе в полной темноте. Войдя в очередную комнату, Фрол останавливался. Молча, неторопливо, внимательно поворачивался. Спутники, не сговариваясь, распределялись по помещению, дабы осветить его равномерно. Мысленно сличив картину со своим необъяснимым видением, Фрол отрицательно мотал головой в ответ на немые вопросы, обращенные к нему, скупым народным жестом предлагал двигаться дальше.
Почти полная бесшумность (не считая шарканья подошв, треска свечей, судорожных вздохов) процессии постепенно придала ей оттенок торжественности. Те, кто унес в душе с веранды некоторое количество иронического недоумения, очень скоро расстались с ним. Смесь любопытства и трепета — вот что царило в душах. Даже Василий Васильевич принужден был умолкнуть, тем более что ему не перед кем стало демонстрировать свое главенство: кадетский умник был на сегодня повержен. Марья Андреевна передвигалась почти сомнамбулически. Даже непонятно было, отдает она себе отчет в происходящем или просто плывет себе по эмоциональному течению.
Афанасий Иванович не скрывал волнения на правах будущей и, возможно, скорой жертвы. Поправлял галстук и дергал щекой, чего раньше за ним не было замечено. Аркадий улыбался (хотя и молча), руки нес засунутыми в карманы форменных брюк, всем своим видом демонстрируя, что он привлечен, конечно, одним лишь только любопытством. Интересно все же узнать, как именно сходят с ума некоторые старики.
Глаза Галины Григорьевны сверкали, весь день она скучала, большую часть вечера томилась, наконец ей пообещали развлечение с оттенком чего–то таинственного, а таинственное — хлеб подобных натур. Зоя Вечеславовна во время хождения не только светила, но и дымила — курила жадно и непрерывно. Она молчала, но генерал немного ее опасался. Он был уверен, что она специально послана профессором, чтобы в самый интересный момент все испортить своим ядовитым ехидством. Это в ее стиле — внезапно шлепнуть в апельсиновое желе ложку хрена.
Настенька выглядела уместнее других. Глубоко запавшие глаза, сухое, вытянутое, воскового оттенка лицо, прижатые к скромной груди руки, походка, списанная с какой–нибудь особо деликатной тени. Вместе с тем ощущалось, что она что–то понимает.
О Груше сказать нечего: сбитая с толку горничная — и все. Может быть, вот еще что… Нет, поздно, Фрол остановился. Это была так называемая «розовая гостиная», самое изящное место в доме и, пожалуй, самое нелюбимое. Она получила свое наименование во времена Ивана Ивановича Столешина, потому что стены ее были затянуты розоватым штофом, а в центре потолка вылеплен большой медальон, в котором до сих пор угадывались соответствующие лепестки и шипы. Меблировка с некоторою натяжкой (надобно учесть и качество освещения) могла быть признана павловского стиля. Герой Евгения Сергеевича, надо понимать, сориентировался бы определеннее.
Бородача в лаптях заинтересовал более всего большой изразцовый камин. Рядом с ним высилось во всю стену темное зеркало. В нем чувствовалась такая же глубина, как в поставленном на бок пруду.
— Здеся.
Аркадий заглянул в темные воды стекла, но таким ничтожным и неуместным себе показался, что принужден был немедленно бежать оттуда с легким чувством позора в душе. Бежал он с такой поспешностью, что слегка толкнул свою мачеху. Галина Григорьевна хихикнула, Василий Васильевич поморщился (неизбежные семейные узлы) и заговорил:
— Так ты утверждаешь, что это случилось здесь, да? Генерал пытался взять свой прежний, времен веранды, тон. Это удалось ему не вполне. Фрол поставил его на место одним словом:
— Тута.
— А как, может, сообщишь нам, ты определил? Ведь должны же быть…
— По приметам.
— А-а, понятно, понятно… И назвать сможешь, по каким?
Фрол смог. Охотно объяснил он, что зарежет Афанасия Ивановича возле этой печки без дверки, рядом с зеркалом и часами.
— Часами? — раньше генерала спросил дядя Фаня. На каминной доске действительно стояли большие фарфоровые часы, изображавшие толстого немецкого пивовара, сидящего на пригорке с бочонком родного пива подмышкой. Дно бочонка играло роль циферблата.
— Тихон Петрович часы эти с нижегородской ярмарки привез, — сочла нужным пояснить Марья Андреевна.
— Ты не ошибаешься? — спросил генерал.
— Как можно, барин, — почти обиделся Фрол.
— Так может… — нервно хмыкнув, выступил на первый план Афанасий Иванович, — ты покажешь, как это будет сделано, а?!
Было видно, что он бросает какой–то вызов. Фрол принял его, даже и за вызов не приняв.
— Покажу, — просто сказал он, — вы стоять будете зде–ся.
Толстым, в грязных царапинах пальцем он отодвинул Афанасия Ивановича от каминной пещеры чуть в сторону, одновременно другой рукой изготавливаясь к какому–то еще движению.
— А я…
— Ты топор–то мне отдай, — подал голос генерал. Фрол покосился на него, помрачнел и повторил свое сакраментальное:
— Мы не убивцы, мы плотники, — и добавил, что топорик свой для такого дела, как «убивство», он «поганить» никак не станет. А может он использовать нож. И нож у него об нужную пору обязательно будет. Кривой такой, острый, не сапожный, но очень острый. Афанасий Иванович, глупо улыбаясь, стоял, прижавшись плечом к каминной доске; коленки у него не дрожали только потому, что он изо всех сил старался скрыть дрожь. Генерал стоял рядом. Он тоже был напряжен, он считал, что его место рядом с «жертвою», причем думал он это слово без кавычек. И еще он старался определить, не слишком ли далеко зашла игра, потому что плотник не собирался останавливаться. Левой рукой он взял Афанасия Ивановича за полотняное плечо, а правой полез за пазуху, сообщая попутно, что «ножик будет у него зде–ся» и что «оне», то есть дядя Фаня, «будут дергаться руками за веревочку (галстук), а говорить нича не будут».
Василий Васильевич уже собрался гаркнуть как следует на потерявшего чувство реальности «убивца», но тут подали голос часы. Издевательски легкий металлический звон раздался из них, и вслед задребезжала легкомысленная, в худшем смысле слова, немецкая музычка. Эти звуки подействовали на лапотного духовидца сильнее любого окрика. Он смолк, внутренне потух, опустил руки. Часы будто напомнили ему, что еще не время. Тут, перебивая звон, раздался грохот. Это рухнула на пол Зоя Вечеславовна. Когда к ней бросились, наклонились, капая расплавленным воском на лоб, изо рта у нее еще шел дым.
Возникла, конечно же, суета. Одна Марья Андреевна осталась безжизненно спокойна.
— Обморок, — сказала она, — такое уж бывало. Зою Вечеславовну подняли на руки и понесли в комнату. Тут же явились кувшины, полотенца, флаконы с нюхательными солями и т. п. Аркадий вызвался съездить за лекарем. Испуганный, растерянный Евгений Сергеевич, ломая руки, ходил по комнате, пытался поверх спин Насти и Груши взглянуть на бледный лик жены.
В это время Афанасий Иванович, стоя на уводящих в ночь ступеньках веранды, сжимая в карманах сюртука кулаки, спрашивал у медленно удаляющегося Фрола:
— Хорошо, где это будет, ты показал. И как будет — тоже. А когда будет, можешь сказать, братец, а? Фрол остановился; видно было, что напрягся, пытаясь дать ответ.
— Нет, мы неграмотные.
И ушел.
Темнота выдала взамен него Калистрата, как бы хоронившегося за углом веранды. Что характерно, он тоже,
как и Фрол, двигался бесшумно. Несмотря на сапоги.
Улыбаясь грязноватым ртом, он сказал, глядя в спину невидимому плотнику:
— Куда ему, безголовица. Ему что давеча, что надысь, все одно, а вы о таком.
— Что ты говоришь? — с трудом стряхивая неприятное оцепенение, повернул к нему несчастную голову Афанасий Иванович.
— Говорю, что я, например, не таков. Например, надежно знаю, что через месяц идти мне на каторгу. А господам — смех и ничуть не интересно.
— Не понимаю я тебя, чего тебе надо? Калистрат сокрушенно покивал.
— Да куды там понимать, да куды там.
Сказавши, развернулся, и темнота сразу предоставила ему убежище.
ПЕРВАЯ ПОВЕСТЬ ОБ ИВАНЕ ПРИГОЖИНЕ
Призрак
Чтобы развеять среды вчерашней попойки, я отправился на раннюю прогулку. За эти две странные недели я успел привыкнуть к Ильву и даже немного полюбить его. В рассветный час он был особенно и даже трогателен. По узеньким чистым, плавно изгибающимся улочкам медленно текла прохлада, стук моих парижских каблуков далеко разносился по древним и дивным лабиринтам. Двух–трехэтажные дома сонно высились по обеим сторонам Обиличевой улицы, аккуратные и малоинтересные, как экспонаты скромного музея. Вена стояла здесь плечом к плечу с Прагой и смотрела в лицо Софии, Салоникам и Стамбулу.
По ювелирно выложенному булыжнику прогрохотала повозка с дарами утреннего огорода, пробежали посыльные мальчишки. Несмотря на спешку, они успевали драться на ходу и что–то жевать.
Вдруг сделалось светло и весело на душе от мысли, что я никому не нужен в этом городе, да и во всем мире. Даже прежним возлюбленным. С какой благодарной легкостью они, должно быть, обо мне забыли. И спасибо им за это. Никто во мне не заинтересован. Кроме матушки с батюшкой, но это, понятно, другое. Я пошел быстрее. И вот Стардвор, монарший замок. Местные жители утверждают (а иностранцу в таких случаях спорить не стоит), будто это точная и лишь слегка уменьшенная копия замка Конопишт. Я бывал в резиденции легендарных Валленштейнов, но там мне никто не говорил, что Конопишт — это увеличенный Стардвор. Четыре угловые башни замка носили имена одновременно собственные и забавные: Непорочная чистота, Осторожная надежда, Плачущая принцесса, Скорбное молчание. Если прочесть их подряд, возникает в сознании мираж банального и печального сюжета. Впрочем, пустое.
Чтобы не мешать правителю Ильва князю Петру наслаждаться отдыхом после сладких мук, принятых им во время вчерашнего фейерверка, я свернул налево к набережной Чары. Тихая, как бы не вполне здесь признанная своею речка. Нависающие над водой кроны, незаметное глазу течение — хочет проскочить мимо столицы, не привлекая к себе внимания. В другое время я бы
погрустил и помечтал вместе с нею, но сегодня мне было плевать на ее укромность и природную чистоту. Жажда деятельности, оставленная спящей на гостиничной кровати, нагнала меня на набережной. Пора бы сеньору Лобелло сделать выбор между жизнью и смертью. Обстоятельства моей жизни были таковы, что у меня оставалось все меньше желания длить свое пребывание в этом городе.
Направился домой. И освеженный и возбужденный. Другою дорогой. Мимо старых кожевенных складов, мимо квартала часовщиков, мимо педагогического приюта и, наконец, мимо «трансильванского» дворца, этого эклектического чудища, притягивающего последние пятьдесят лет тайные мысли жителей комнатной столицы. На Великокняжеской в этот час было пустынно и шумно. За кирпичной стеной хором проснулся приют Св. Бере–ники, полторы сотни хоть и детских, но луженых глоток объявили об этом миру. В Карлеруз я жил по соседству с католической школой, но мне казалось, что соседствую я с кладбищем. Размышляя о том, насколько славянский человек непосредственнее германского, насколько больше жизненной динамики в недрах Балканского континента, чем имеется оной в расчисленных душах передовых наций, я подошел к «трансильванскому» дворцу. И остолбенел, отмахнувшись от своих легковесных размышлений.
Ворота — высокие, обитые потемневшими металлическими полосами, — мощные и загадочные ворота были открыты.
Я, не знаю почему, встал на цыпочки и перевел трость в горизонтальное положение. Роскошные рассказы, касающиеся этого жуткого (не только в архитектурном плане) жилища, вскипели в моем воображении. Любой ильванец после третьей рюмки сливовицы считал своим долгом коснуться стен этой тайны. Грязным пальцем намека или скользким языком сплетни. Я охотно слушал всех, кто желал поговорить на эту тему, но понимал, что мне не дано проникнуть в Трансильванию тутошнего духа глубже, чем проникает подозрение или зависть. Но ворота открыты! Подкравшись, я заглянул.
Приютские голоса пели что–то народное, но неуместное в этот момент.
Удивление мое умножилось: огромный двор был заставлен кроватями. Самыми разными. Это не был мебельный магазин под открытым небом, кровати стояли как попало. Взбесившаяся антикварная лавка? Четвероногие друзья сна производили по большей части музейное впечатление.
Трудно было понять самое основное — эти мебеля скопом покидают дворец в столь ранний час или атакуют его, надеясь вселиться?
Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я медленно вошел в это деревянное (и не только) скопище. Замирая, охая, хихикая, щурясь, приседая, я бродил внутри мебельного бреда под открытым небом и при отворенных воротах. Оказывается, не полностью сын провинциального архитектора остался равнодушен к навязанному ему отцом ремеслу. Какое–то специфическое удовлетворение вспыхивало в моем сердце, когда я узнавал: вот оно, тирольское ложе. Столь узкое, что невольно начинаешь мысленно примеривать его возможности к своим ночным привычкам. Поворачиваемся — бронзовое прибежище сновидцев на фигурных ножках, попирающих покорный камень. Навечно уложенная бронзовая же подушка отполирована так, будто ее еще вчера натирала шевелюра помпеянина. А эта вот низкая так называемая кагорсинская кроватка упокаивала какого–нибудь отвратительного ломбардского ростовщика. А резьбы–то, резьбы!
А вот еще что–то знакомое, и это вот тоже! Сколько же я успел узнать, сам того не желая! Человек, роющийся в гардеробном шкафу, невольно примеривает взглядом висящие там фраки, я мысленно повалялся на каждом ложе. Но мое веселое восхищение не могло длиться бесконечно. Как ребенок, желающий разломать игрушку, поразившую его воображение, я начал оглядываться в поисках человека, который мог бы мне объяснить, что все это значит. Визг приютских ангелят за стеной подчеркивал безлюд–ность двора. Но эта ширма! Та, что высится среди моря кроватей. Старинная, гобеленовая, со слегка редуцированным сюжетом. Впрочем, главное можно понять: юноша, одетый по европейской моде столетней давности, бросается с кинжалом в руке на кого–то (этот «кто–то» как раз и скрыт в складке), сидящего на белом коне. Вокруг полно расшитых золотом мундиров и плотных ног в белых лосинах.
Но меня заинтриговала не ширма, а то, что было за ней. За траченной молью времени тканью билось человеческое сердце. Не просто человеческое — женское. Это выяснилось, когда я, встав на осторожные цыпочки, посмотрел поверх преграды. Спиной ко мне на плюшевом, заметно расплющенном пуфе сидела весьма весомая дама в явно вечернем платье. И это почти что утром и почти что посреди улицы. Левой рукой она держала зеркало, правой поправляла перья, вонзенные в сложную волосяную гору на голове. В той же руке у нее было слегка надкушенное яблоко,
— Доброе утро, — сказала дама спокойно, даже лениво. Я снял шляпу и начал, огибая преграду, речь–извинение: мне так неловко в столь ранний час, без всякого приглашения… Поскольку передвигаться я продолжал на цыпочках, вид у меня был, вероятнее всего, отвратительный.
Оказавшись лицом к лицу с сидящей, я смог ее рассмотреть. Ее честнее было бы назвать зрелой, чем юной, яркой, чем свежей, величественной, чем грациозной. Меня к тому ж слепили бриллианты, устилавшие грудь в вырезе платья. Кроме того, я все время кланялся.
— Кто вы такой?
Я, смущаясь окончательно, подумал, что вот уже полутра беседую с дамой, а до сих пор не догадался представиться.
— Пригожий. — И поклонился в четвертый раз. — Совершаю продолжительное путешествие с образовательными и познавательными целями, изучаю искусства и ремесла европейские. В частности, стили мебельного мастерства. Это отчасти, мне кажется, извиняет ту непосредственность, с которой я ворвался… одним словом, вид такого количества антикварных предметов из области…
— Так вы русский? — спросила она на моем кровном наречии.
Выговор ее был верен и замечателен неуловимым среднеевропейским акцентом. Я онемел, ибо не рассчитывал услыхать в столь отдаленных местах язык моей родины.
— Или вы все же русит?
— О нет, мадам, руситами называют жителей здешнего княжества. Они имеют не так уж много общего с моими соотечественниками. Кровь их не только славянская. Но отчасти валашская.
— Да? — Она равнодушно подняла бровь, роясь взглядом и зеркале, что–то рассчитывая извлечь для себя важное из него.
— Впрочем, такие подробности, верно, утомительны…
— А что значит ваше имя? То, что вы хороши собой? Признаться, этот вопрос много добавил смущения моему состоянию. Но не только смущения. Опустивши голову, я сказал, что, если угодно, фамилия моя может происходить и от глагола «пригодиться», а также от малоупотребительного малороссийского слова «пригода», что значит — приключение. В общем, я не считаю возможным считать себя слишком уж ярким человеком, поскольку по матери я Серов. Я остался доволен
своей светскостью. Настолько доволен, что посмел поднять глаза и задать вопрос:
— Отчего вы находитесь одна?
Вопрос был короткий, но, еще не закончив его, я понял всю его бессмысленность. А может быть, и дерзость. Дело в том, что двор кишел слугами. Красный кафтан, по–дворницки рыча, запирал ворота. Две пары дюжих ливрей разбирали массивную кроватную раму на верхней ступеньке парадного крыльца. А внутри за распахнутыми дверями мелькали фартуки и юбки в вихре торопливого обустройства.
— Да, вы правы, одиночество — вещь скучная. Она рассеянно замолкла, и я понял с ужасом — отчасти, конечно, веселым, — что судьба моя решена. По крайней мере, на сегодняшний вечер. Отступать поздно. (Куда отступать? И почему?) Нужно было спросить себя, а я не спросил.
— Может быть, вы навестите бедную богатую вдову? Я начал торопливо и многословно благодарить.
— Вас ждут сегодня вечером. — Она была так горделива, что говорила о себе в третьем лице.
— Сегодня вечером, — повторил я, испытывая приступ характерного мужского вдохновения, слегка перевитого иронической мыслью. Точнее сказать, самоиронической. Зачем–то я нужен этой сумасбродной богачке, примеряющей вечерний туалет посреди двора. Но мне зачем–нибудь нужно это приключение? Никто никогда не отвечает себе на подобные вопросы. Кстати, я ведь уже откланиваюсь, но так и не узнал имени хозяйки. Моя мысль была тут же прочитана.
— Вас приглашает мадам Ева, — донеслось из–за ширмы.
Визит можно было считать законченным. Четыре парня, наряженных валашскими гайдуками, пронесли мимо меня черное устройство с ручкой в боку. Может быть, это специальная шарманка? Глядя им вслед, я лениво пытался понять, почему им так не идет балканский костюм. Наконец понял: все четверо были мулатами.
Я усмехнулся, навестил голову шляпою, подтянул гетры и направился к воротам. Красный кафтан, отпиравший мне калитку, обдал меня духом эстергомского красного и частично вернул к реальности. Не будучи уверен, что это нужно делать, я вложил в его ладонь четверть кроны. После чего оглянулся и увидел напоследок забавную картину. Моя собеседница устраивала выволочку покорно кланяющимся мулатам, указывая вырванными из прически перьями на черную шарманку. Что–то они не так с нею сделали. Из дворцовых дверей выбежала горничная и что–то спросила у грозной хозяйки, в ответ в нее полетело недоеденное яблоко. Причем казалось, что мадам была недовольна горничной и яблоком в равной степени. На всем пути от безалаберного дворца к приютившей меня гостинице я пытался объективно оценить утреннее столь пышно меблированное приключение. И ничего у меня не получалось. Одно лишь можно было утверждать с уверенностью: что приключение это отнюдь не закончилось. Оно только начинается. Переключились, господин Пригожий, на старушек, ха, ха, ха. До чего не докатишься от провинциальной скуки. Я дернул дверь «Золотого барана» и вошел, сопровождаемый мелодической истерикой медного колокольчика. Потребовал у слуги два кувшина горячей воды и четыре чистых полотенца в номер. Немедленно. Взбежал по скрипучей древнедере–вянной лестнице на галерею и направился в левое кры–по, расстегивая на ходу пуговицы спортивной английс–кой куртки. Желание побриться сделалось нестерпимым, Я надеялся, соскоблив похмельную щетину со своих в меру впалых щек, наконец обрести себя истинного. А уж он–то, бодрый и свежий, разберется в планах на будущее.
Войдя в комнату, претерпел разочарование. На стуле подле бюро сидел все он же — то есть доктор Сволочек (не стану скрывать его имени!). На том одном основании, что он (вместе с доктором Вернером) пользует маэстро Лобелло, моего доселе незримого наставника, он счел возможным взять надо мною опеку. Считалось, что он хороший врач и образованный человек. Первого мне, слава Богу, проверить не удалось, второе я ощутил на себе в полной мере. Утомительнее всего были глубокомысленные беседы, к которым он имел склонность и пытался склонить и меня при каждой встрече. Судьбы Европы, судьбы славянства, роль личности в глобальных исторических процессах — вот основные темы разговоров. Не чужд ему был легкий мистический уклон. Он во всем пытался увидеть «великое предзнаменование» и призывал меня смотреть вместе. Я соглашался лишь из боязни его обидеть. Иногда у меня появлялось ощущение, что доктор знает нечто важное и все время присматривается ко мне, решая, стоит ли передо мною открыться. На меня его тайны, по правде сказать, наводили тоску.
Сегодня он торжественнее и значительнее обычного. Он всегда одевался тщательно, а в этот раз вообще — черная визитка, крахмальные воротнички с алмазными капельками в углах отворотов. Подбритые бачки и разумная грусть в больших серых глазах. Что–то случилось, понял я.
Доктор поднял красивые деликатные руки с янтарного набалдашника своей трости и обнял меня за плечи. По–отечески. Мы расстались с ним менее десяти часов назад, поэтому такие нежности не могли не вызвать удивления. Он явно изготавливался для очень важного со мною разговора. А-а, догадался я и сокрушенно шмыгнул носом.
— Наш маэстро скончался?
Доктор столько странного и даже поразительного рассказывал мне о сеньоре Лобелло, так восхищался его способностью проникать в суть вещей, что я не удивился тому, что маэстро решил уйти, не удостоив меня свиданием в этой жизни. Кто я ему?
— Что вы такое говорите?! — Доктор отпрянул от меня. —
Я был у него сегодня утром!
Черт, ошибся! Как неловко. Мне пришлось выразительно
закашляться, изображая сильное смущение. Не дай Бог,
доктор подумает, что я способен шутить на такие темы,
да еще в связи с такой уважаемой личностью.
Он все–таки подумал.
— Весьма прискорбно, молодой человек, весьма! И тут внесли кувшины с горячей водой. Я, чтобы, так сказать, сменить тему, бросился к несессеру, хранившему мои бритвенные принадлежности, и с такою скоростью извлек опасное лезвие, будто хотел тут же покончить со своей бесполезной и дерзновенной жизнью. Опять получилось неловко: чтобы загладить, попытался улыбнуться виновато, но, поскольку вины своей не чувствовал, улыбка вышла, видимо, беспутной, а может, и наглой.
Благороднейший доктор, несомненно, решил, что этот заезжий русский дуралей продолжает при помощи бритвы заигрывать с деликатной темой, и оскорбился не на шутку. Обида выражает себя церемоннее других чувств. Доктор двинулся вон из комнаты, безапелляционно цокая тростью. В дверях произнес:
— Поздно, уже поздно. Вы, по всей видимости, успели зайти достаточно далеко по этому пути. Тут уж ничего не поделаешь. Прошу вас на правах человека, чувствующего ответственность за наше будущее: постарайтесь оставаться благородным человеком. Не оскорбляйте своими ужимками величия того, что должно совершиться. Я остался стоять над горячим кувшином с голым лезвием в руках. Ну вот что он мне сказал — или хотел сказать? Одно ясно: что–то случилось. Тем не менее я побрился.
И даже с удовольствием. Я стоял перед темным гостиничным зеркалом, фривольно оперируя при помощи двух пальцев собственным носом — вправо его, влево, вверх. Оставшись довольным его постановкой на лице, я поощрил несколькими шлепками юношеские свои ланиты. Одеколон так и заполыхал на них и ударил в мозг, как шампанское. Что ни говори — хорош мордаш. Нет, мордаш — это, кажется, про собак. Тем не менее хорош. И лоб, и каштановая волна поверх, и глаз затаенно сияет. И тут рядом с образом цветущей юности появляется на просторах амальгамы физиономия совсем в другом роде. Широкая, красная, нос бугристый, глаза навыкате и притом испуганные. Хозяин гостиницы, вуаля.
— Прошу прощения, что осмелился. Я обрадовался ему не больше, чем Хлестаков появлению городничего. Не плачено было уже за пять дней. Единственным моим финансовым документом было письмо батюшки, в коем говорилось, что деньги высланы. Письмо мсье Саловону было предъявлено, оно его отчасти успокоило, несмотря на то, что жилец величался там «ленивцем» и «разгильдяем». Возможно, мсье Саловон решил, что таким образом обозначается принадлежность к купечеству первой гильдии.
Нет, слишком заметно, что явился он не по денежному делу. Он испуган. Я мгновенно проникся уверенностью в себе.
— Если уж вы вошли… тем более без стука…
— Я не хотел обращать на себя внимание. — Хозяин затравленно оглянулся.
Не отказав себе в удовольствии еще раз похлопать себя по щекам, я сел в кресло и предложил почтенному ненавистнику всего малороссийского взять место напротив. Но ноги у него не гнулись, он остался испуганно стоять.
— Когда до меня дошли эти слухи, мсье Пригожий, я расстроился. — Он опять оглянулся и с подозрением посмотрел в сторону шкафа.
— Три сюртука, пятнадцать сорочек, больше там ничего нет. А что за слухи вы имеете и виду? — Разговор сделался мне неуловимо приятен, я решил совместить приятное с полезным, взял пилочку для ногтей и занялся левым мизинцем.
— Вы идете в гости к мадам Еве? — выдохнул старик.
— А вы хотите мне отсоветовать?
— Именно есть так. Поверьте пожилому человеку, которому не за что желать вам зла, — не надо вам к ней ходить.
— Отчего же?
Страдание выразилось в лице полнокровного старика,
он перешел на шепот последней степени шершавости:
— Мне кое–что известно об этой госпоже. Она посещала наш город. Она снимала тот же дворец, что и в этот раз, и провела в Ильве около четырех месяцев. И знаете, почему должна была покинуть город? Я махнул пилочкой: говорите уж.
— Поползли слухи.
— Так и знал.
— Поползли слухи, что она родственница того самого князя Влада. Знаменитого. Какая–то дальняя потомица. Родство якобы не самое прямое, но безусловно достоверное.
— И чем же родство это нехорошо, чем запятнал себя этот князь?
Мсье Саловон закрыл глаза. То, что он хотел сообщить, можно было проговорить только в темноте.
— Кровью.
Я внимательнейшим образом осмотрел свой мизинец и пришел к выводу — хорош! На очереди был ноготь безымянного.
— Знаете, если по этому принципу рассматривать…
— Вы не поняли главного.
— Ну так скорее сообщите мне, что есть это главное. — Я начал нервничать и не считал нужным это скрывать.
— В истории края, граничащего с нашим княжеством,
князь Влад известен как кровавый, страшный человек. Он известен под именем Дракулы. Хозяин гостиницы потерял сознание от своей смелости и по чистой случайности остался стоять на ногах.
— Так бы сразу и сказали — Дракула! — с вызывающей (специально) громкостью произнес я. — А мадам Ева — родственница Дракулы?
— Умоляю, тише, вы меня можете убить этими словами.
— В самом деле, эту чушь лучше нести шепотом, — аффектированно прошептал я. С впечатлительным «трактирщиком» пора было кончать. — Вы что же, сами видели мадам Еву?
— Собственными глазами.
— В тот приезд?
— В тот, в тот. И, будучи довольно молодым человеком, пленился. Ходил по улицам без памяти чувств. Но, происходя из сословия… вы меня понимаете, не имея даже тени шансов…
— То есть как, — вскричал я, радуясь, что поймал его на очевидной глупости, — «будучи молодым человеком»?!
— Именно, мсье Пригожий, это было перед последней русско–турецкой войной.
— Русско–турецкой?
— Да, в 1877 году. Она была прелестна. Я бы совсем сошел с ума, но меня отрезвили эти слухи. Они усилились, когда в Чаре нашли два мужских трупа с характерными ранками на шее и обескровленные совершенно. Он надоел мне нестерпимо.
— О Балканы, Балканы! Так вы утверждаете, что мадам Ева была в 1877 году прелестной молодой женщиной? Лет двадцати–двадцати пяти?
— О, мсье Пригожий, была, была прелестной!
— Как же она должна выглядеть теперь, в году 1914‑м? Он замолк. Началась мучительная возня морщин на лбу. Старик был смущен, а я не желал быть великодушным.
— Мне довелось побеседовать с нею час примерно назад и видеть ее, стало быть, своими собственными глазами. Она не юна уже. Вместе с тем я убежден, что если она и участвовала в той войне, то на стороне мокрых пеленок.
Саловон смотрел мимо меня. Надо признать, весьма тупо.
— Как хотите, дорогой мой, передо мною встает выбор: или верить вашим сбивчивым словам, или своим голубым глазам.
— Знаете, мсье Пригожий, вы не могли видеть мадам Еву. У меня есть сведения, что она еще не приехала. Ее ждут к вечеру, к самому приему.
— Ас кем же я тогда разговаривал? От кого получил приглашение? — спросил я и, естественно, расхохотался.
И снова стук в дверь. Нетерпеливый, даже наглый. Это не слуга. Я вымолвил «войдите» уже ему в лицо. Высокому, плечистому, отчаянно усатому офицеру. Погоны, правда, отсутствовали, но китель не давал обмануться. Отставники часто шьют себе такие. Выправка соответствовала амуниции. Что немного портило его внешность, так это рваная и приблизительно сросшаяся ноздря. Рвать ноздри? Кажется, такого наказания давно нет нигде в Европе.
— Алекс Вольф, — представился он чуть–чуть угрожающе. Сзади на сапогах у него богато звякнуло. Шпоры по своей лихости годились в родственники усам.
— Пригожий.
— Являюсь вашим соотечественником, мсье. Ввиду этого обстоятельства позволил себе вот так, по–простому, с визитом.
— Вольф? — зевнул я — Соотечественник? Говорят, правда, что встречаются немцы, носящие фамилию, например, Иванов… Впрочем, есть у меня один знакомый немец по фамилии Вернер… — Я понял, что не знаю, к какой мысли хочу вывести эту речь, но гость, кажется, достаточно понял ее для того, чтобы оскорбиться. И за
Вольфа, и за немцев. Он агрессивно подкрутил усы и расставил шпоры пошире.
— Вы, я вижу, позволяете себе насмехаться над вещами…
— Ни в коем случае. Ни, ни, ни! Я не желал вас обидеть. Весьма, весьма рад встретить здесь соотечественника.
Офицерский взор стал тусклее. Вольф сложил руки на груди и поднял бровь. И без того выразительную.
— Уверяю, — я улыбнулся, — очень, очень рад вас видеть.
Что–то подсказывало мне, что с этим господином лучше не ссориться. Тон мой был настолько примирителен, что даже заядлый бретер счел бы его достаточной сатисфакцией.
— Хорошо, тогда едемте обедать. У меня и лошади готовы. В венгерский трактир. Гуляшик, чардашик и несколько хороших мордашек. Устроим небольшой раскардашик.
Не сразу я нашелся, что ответить. Каков он — офицерский обед, я знал слишком хорошо. И в трое суток не уложиться.
— Вы отказываетесь? — зашевелились усы.
— Но я не одет.
— Жду за дверью, — обрадовался он, приняв мои слова за согласие.
— Может быть, вы подождете меня прямо в трактире? В венгерском.
— Что-о?
Он уже на меня кричит, подумалось с тоской.
— Я не могу допустить, чтобы вы заблудились в переулках этой дрянной столиченки. У меня дрожки. Или вы привыкли разъезжать в авто? Последний намек остался мне непонятен.
— Польщен вниманием вашим, однако ж окончание туалета хотел бы совершить в одиночестве. На несколько секунд я остался один. За это время нужно было решить, что предпринять, и понять, что, собственно, происходит. Офицер вставал у меня поперек горла со своим обедом. Отказаться же после того, как выразил (не важно, что невольно) согласие ехать, — это поединок. Усач по виду стрелок не из последних. Все же как широко распространились русские по свету, нипочем не сыщешь свободного от соотечественника уголка!
— Вы готовы? — Нетерпение за дверью.
— Повязываю галстук.
Что ж, едем. Только ни в чем ему не противоречить. Странности начались, стоило нам выйти из трактира. Не оказалось заявленных дрожек. Их не украли, как я понял, господин офицер вплел их в приглашение для шика. Или был уверен, что приглашаемый откажется от венгерского обеда?
Гостиничный мальчишка быстро добыл нам экипаж. Я поставил свою монмартрскую трость меж бежевых колен, опираясь рукою на нее, другой я придерживал опять–таки парижского сочинения цилиндр. Может статься, что во дворец придется отправиться прямо из офицерского раскардаша.
— Вы ведь недавно в здешних Палестинах, господин Пригожий?
— Недавно.
— Всякое место наскучивает рано или поздно. Маленькие городки имеют здесь преимущество перед парижа–ми.
Я безропотно согласился и с этой неуловимо путаной фразой.
— Но у вас все впереди.
— Надеюсь, лишь то, что мне не вредно.
— Что вы имеете в виду? — ощутимо напрягся Вольф. — Что я хочу ввергнуть вас в неприятности? Еле–еле я сумел успокоить его и положил себе впредь держаться еще осторожнее.
В трактире никто нас не ждал. Бродили меж пустыми столами скучные официанты. Место для румынского (в венгерских заведениях всегда играют румыны) оркестра безнадежно пустовало. Но стоило офицеру спросить «шикарный» обед, заведение стало оживать. Господин Вольф был сверхъестественно разборчив. Четыре скатерти заставил сменить. Закуски были все им возмущенно забракованы. Бледный, как мертвец (от злости), метрдотель велел принести новые. Они не были похвалены, но хотя бы допущены к столу. То же с винами. Местное ильванское (весьма недурное) он громко назвал помоями. Метрдотель покраснел и прикусил верхнюю губу. Остановился он на шато роз, шабли и мозельвейне. На мой взгляд, сопряжение этих напитков не обнаруживало тонкого вкуса. Однако бровь, которой я имел право повести, осталась на месте. Выпили тост первый. За Государя императора, как и положено. Я это сделал внешне охотно, чем дал повод для офицерского удивления. Он полагал найти во мне либерала и задеть своими словами?
— И вы всерьез считаете, что правящий наш дом достоин того, чтобы за него пить?
— В том случае, если вы поднимаете тост за, — да! «Может, сделаться дипломатом?» — подумал я, мысленно любуясь хитроумием своего ответа. Вольф мрачно наполнил бокалы. Происки на политические темы пришлось ему оставить, с какой стороны теперь зайдет?
— Но не кажется ли вам, господин соотечественник, что наш русский характер в общем–то дрянь и нас, русских, лучше за границу вообще не пускать? Ничему не научимся путному. Что поймем, то неправильно используем. А пуще всего способны лишь нахамить, как я давеча главному здешнему подавальщику. Возможность нахамить — лучшее утешение для души нашей.
— Я не вполне уяснил, в чем смысл тоста, прошу меня великодушно простить, мсье Вольф. — Тост простой. — Он поднял бокал с густо–красным напитком и прищурился так, будто был способен видеть сквозь такие препятствия.
— Выпьем, мсье путешественник, за то, чтобы никого из нас, ни одного русского хама и на пушечный выстрел не подпускать к Европе.
— Охотно, тем более что я лично делом могу ответить на ваше мудрое предложение. Через неделю, самое большее — две имею отбыть в родные пенаты. И собираюсь впредь пребывать там безвыездно. И я с наслаждением выпил.
Вольф только отхлебнул, изувеченная ноздря его дернулась.
— Но признайте, только честны будьте до конца, что Россия — непригодное место для житья. Пустейшее и грязнейшее. Моды — дичь! Дороги — канавы! Народишко — или раб, или бандит!
— С огромнейшим сожалением покидал я Париж, эту столицу просвещенного мира.
Соотечественник шумно втянул воздух, чтоб подпитать мыслительный пожар в своей голове.
— Откуда вы родом, господин Пригожий?
— Из Костромы.
— Подлейший город!
— Часть России, — равнодушно пожал я плечами и придвинул к себе блюдо с дунайскими креветками. Вольф вытащил салфетку из выреза жилета, несколько секунд мял ее, будто стараясь выдавить хоть немного яда для нового вопроса. Чтобы дать себе краткую передышку, я поднял бокал и предложил осушить его за родителей. Безобиднейший из предметов. Но с собеседником сделалось что–то страшное.
— Вы что, знакомы с моим родителем?
— Не имел ни чести, ни удовольствия.
— Так зачем его упомянули?
— Принято и приятно выпить за отцов наших.
— А откуда вы знаете, что он у меня вообще есть?
— Ежели он окончил дни свои, приношу вам глубочайшее соболезнование. Вольф задумчиво прокашлялся.
— Вы, может быть, считаете моего родителя бездарным писателем?
— Ни в коем случае.
— Вы считаете, что у него безыдеоматический язык, что он пишет как бы на эсперанто?
— Нет, нет, нет!
— Тогда выпьем. Что вы можете обо мне знать? Ничего! Когда–нибудь узнаете. Если доживете.
— Прошу прощения, мсье Вольф, мы будем пить за здравие или все ж таки за упокой?
— Мой отец жив. Но Бог с ним.
— Бог, — безропотно согласился я.
— А кто ваш родитель?
— Увы, — я развел вилкой и ножом, — костромич.
— А по профессии?
— Архитектор.
— Вы небось считаете, что архитектура — это застывшая музыка и прочее?
— Нет, что вы, я ничего в архитектуре не понимаю и не считаю ее каким–то особенным занятием.
— Так зачем ваш отец ею занялся?
— Вообще–то он хотел по бочарной части… просто так получилось.
— Не хотите ли вы сказать…
Я блестяще справлялся со своей ролью, демонстрируемая мною изобретательность и изворотливость поражали меня самого. В течение получаса, в течение полутора часов я оставался неуязвим, я начал уже находить своеобразную приятность в моем состоянии, когда вдруг (абсолютно вдруг) обнаружил господина Вольфа схваченным обеими моими руками за горло, а в душе страшное, испепеляющее желание задушить его немедленно и окончательно. Наше немое (я даже хрипов не выпускал из его горла) объятие длилось достаточно долго для того, чтобы глаза соотечественника вылезли из орбит, кровь налила голову, а мы успели почти бесшумно переместиться из центра трактира к оркестровому возвышению. Вокруг нас собралась толпа причитающих слуг. Дунайские креветки щедро устилали наш путь. Я что–то кричал.
Наконец тренированный оскорбитель, собравшись со всеми своими силами, одним отчаянным движением высвободился из смертельного ошейника и отшвырнул меня на несколько шагов. Сам он слепо рухнул в кресло, угодливо забежавшее ему за спину, а меня схватили за предплечья несколько десятков пальцев. Лицо Вольфа было зверски искажено, колонии разноцветных пятен путешествовали по нему, усы были размазаны по щекам, рваная ноздря храпела, как атакующий эскадрон.
Я был убежден, что вложенных в его удушение усилий было более чем достаточно, чтобы прервать его земное существование, однако же негодяй был жив. И выглядел довольным.
— Дуэль завтра на рассвете, в парке за Стардвором. Не помню, кто это сказал. Я или он. Выйдя из трактира (все еще в сильнейшем возбуждении), я обнаружил, что уже решительно темнеет, — сколько же часов ушло на выслушивание оскорблений из усатой пасти этого сумасшедшего? Небось меня уже ждут. Я отправился по известному адресу. Полностью нелепость и даже опасность своего положения я осознал, лишь поднявшись на крыльцо щедро иллюминированного дворца. И остановился перед лицом сильного сомнения. Стоит ли погружаться еще глубже в этот столь странно ведущий себя мир? Но лакеи уже начали мне кланяться как окончательно прибывшему, а впереди прозвучало торжественное объявление: «Мсье Пригожий!» Я вошел, оглядываясь. Танцевальная зала поразила бы воображение поустойчивее моего. Белые колонны по всему периметру. В паркетном озере отражались тысячи свечей. Гудели голоса, постанывал под потолком на особой площадке оркестр, возглавляемый невероятно кудлатым и очень талантливым на вид капельмейстером. За распахнутыми в разных направлениях дверьми виднелись фруктовые, кондитерские и винные пирамиды — буфеты, буфеты и еще раз буфеты. Хозяйка пока отсутствовала, поэтому, никому не представленный, я решил скрыться где–нибудь в укромном месте. Например, с бокалом медленно выдыхающегося шампанского.
Обмакивая губы в колючий напиток, я тихо глядел по сторонам, рассчитывая встретиться глазами с хозяйкой. Не знаю, зачем мне это было нужно, что я мог ей сказать? Что попал в историю, из которой рискую не выйти живым? Что не хочу заканчивать свою жизнь на задворках старого сарая, именуемого Стардвором? Я мог бы ей сказать, что хочу домой к матушке и отцу. Что долг чести не смеет требовать всю мою молодую жизнь в уплату. Как назвать поведение этого психопата? Мне неинтересно, благороден ли он и даже прав ли! Я хочу понять, почему матушка–старушка должна рыдать над хладным трупом юного сына оттого лишь, что на какого–то маловразумительного, надуманного типа нашло желание бретировать!
Дуэль сия бессмысленна. И честь не задета, ибо я даже не помню, острием какой именно колкости он попал в нее. Стало быть… Стало быть, я имею полное право удалиться. Не только из иллюминированного этого хаоса, но и из города. Дорожные мои бумаги выправлены до самого Петербурга. Матушка, батюшка, Отечество! Очи мои увлажнились. Я оглянулся — куда бы поставить ненужный стакан, и тут увидел перед собою незнакомое, но, кажется, живо во мне заинтересованное лицо. Это был среднего роста крепыш в длиннополом фраке с атласными лацканами и в белой манишке. Квадратный прыщавый лоб, широко, по–коровьи посаженные глаза. Большая капля пота в кожаной складке на переносице.
— Я слышал, вы деретесь завтра утром? — спросил он. Смотрел он прямо в мои сыновние слезы. Чтобы этот немец не понял меня правильно, я отхлебнул большой глоток шампанского, демонстративно промокнул влагу платком и пояснил:
— Очень крепкое. Прямо прошибает…
— Позвольте представиться. Штабе, капитан. Подождав несколько секунд, я осторожно (хватит с меня одной дуэли) спросил:
— А, виноват, имя ваше? — что мне, собственно, до того, что он в столь молодые годы уже при хорошем чине.
— Капитан Штабс, — сказал он громче, и подбородок
его дрогнул, — военный атташе здешнего германского
посольства.
Бывают люди, для которых их звание — фетиш. Что же
сказать в ответ?
— Я человек частный (фамилию, кажется, не стоит называть). Путешествую, изучаю искусства. Живопись, ремесла. Мебель. Немец наморщил лоб и промокнул каплю на переносице.
— А зовут вас как?
— Пригожий Иван Андреевич. А вас?
— Значит, это вы деретесь с господином Вольфом? Когда мне показали вас, я удивился — такой не воинственный вид.
— Не только вид, у меня и сердце не воинственное.
— Теперь же я удивляться перестал. Вы способны разозлить кого угодно. Даже такого одухотворенного человека, как Алекс. Я еще отхлебнул шампанского.
— Своею обходительностью он довел меня до того, что тому назад не более часа я душил его обеими руками. И жалею, что не задушил.
Пруссак надменно откинул голову. Все, убегать придется от двух дуэлей сразу.
— Вы пытаетесь намекнуть, что господин Вольф… С тоской почувствовал я, что скатываюсь в невидимую, но неотвратимую пропасть. Любая фраза усугубляла мое положение. К счастью, судьба выделила на мою долю спасителя: появился из–за соседней колонны невысокий, с морщинистой лысиной и дряблой личиной господин. У него плюс к указанному были огромные выпуклые брови, очки и развязность в движениях. Если бы он назвался господином Шимпанзе, я бы не удивился.
— Терентий Ворон, здешний газетный волк, — очаровательно гримасничая, сообщил он. Взглянув на нас, он мгновенно понял суть дела и с налета с помощью трех–четырех фраз сначала смягчил противостояние, а затем и вовсе рассеял. Немец, недоверчиво набычившийся при его появлении, через минуту сам громко соглашался, что это довольно забавное соединение: фамилия Штабс и звание капитан. Чтобы окончательно его умаслить, господин Ворон поведал мне историю семейства Штабсов. Оказалось, что капитан своеобразно родовит. Прямой его предок, швабский студент, с длинным кинжалом набросился на императора Наполеона. Ажиотация его происходила от патриотических речей господина Фихте.
— Ну и как, покушение было удачным?
Ворон шутку оценил и, криво улыбаясь, отвернулся.
— К сожалению, нет, — сказал капитан, и было видно, что действительно «к сожалению».
— Его высочество князь Петр с княгиней Розамундой!
— Вот поэтому наш род не так знаменит, как род Брутов. Тогда до меня не полностью дошел смысл этого замечания. Я наблюдал появление правящего семейства. Кривоногий человек с огромной лысой головой, украшенный, как рождественская елка, вел под руку высокую, вроде бы стройную, но слегка неустойчивую даму. Длинное платье, сошедшее прямо со страниц «Журнал де демуазель» 1904 года, скрывало неуловимый дефект походки. За спиной раздался бравый баритон Штабса:
— Княгиня принадлежит к роду Гогенцоллернов!!! У газетного волка было свое мнение на сей счет:
— У этой замечательной четы общая кличка — «отдаленное родство».
Я решил, что мне в такой ситуации разумнее всего промолчать.
— Его высочество — представитель местной руситской династии Кнежемировичей. Раз пять ее свергали, когда Ильванию присоединял кто–либо из более сильных соседей. При обретении временной, почти всегда условной свободы ее возводили на престол вновь. За неимением другой.
— Ну а кличка?
— Князь Петр состоял в плохо подтвержденном родстве с сербским королевским домом Обреновичей, а супруга его — четвероюродная племянница кайзера Вильгельма. Правда, Кнежемировичам есть и самим чем похвастаться. Существует гордая историческая легенда, по которой примерно тысячу лет назад князь Руст дал отпор венгерскому предводителю Арпаду, из–за чего мадьяры не пошли на юг, а повернули в Паннонию. Но, думаю, в памяти любого народа полно подобной малодостоверной чепухи.
На его месте последней фразы я бы не произносил. Капитан, кажется, держался того же мнения, но молчал. Зубастый газетчик, однако, и не думал останавливаться.
— Существует и другое истолкование клички. Депо в том, что с самого момента брака князь и княгиня ни разу не спали вместе. Князь импотент из–за перенесенной в детстве свинки, а княгиня… Капитан недовольно кашлянул.
— Впрочем, о ней вы многое поймете сами.
Я тихо поинтересовался у господина Ворона, не боится
ли он, что у здешних стен есть уши.
— Уши у них, может быть, и есть, — держась все того же нагло–беззаботного тона, отвечал он, — зато абсолютно нет мозгов. Тайная полиция княжества состоит из десятка кретинов, причем все они находятся на содержании у немецкого посольства. Капитан покашлял то ли смущенно, то ли польщенно.
— А вот и мадам Ева, — восторженно сказал Ворон. Навстречу высокородным гостям вышла хозяйка. Встав со своего раздавленного пуфа, она сильно выиграла в моих глазах. С особой артистической грацией несла свою сложную прическу. Но одеяние ее… как бы это определить… на общем чопорном фоне смотрелось слишком экстравагантно. Псевдоантичная туника, удлиненный складчатый пеплос, сандалии с позолоченными ремешками. Вместо утренних перьев в каштановых волосах — диадема. Дорогостоящая фантазия из мастерской самого Поля Пуаре.
— Актриса, все же она великая актриса. Такой женщине
можно все, — хрипло пел Ворон.
Публика была отчасти в обалдении, отчасти в восторге.
— Напрасно она так, — процедил капитан, — нельзя выглядеть настолько… м-м… необычнее монархини. Мадам прибыла сюда не на прогулку. У нее денежное дело к князю.
Княгиня позеленела, как тоска, подумал я, но скрыл свое наблюдение.
— Пойдемте, мсье Пригожий, вас надо представить остальным гостям.
— Может, можно уклониться от этой процедуры?
— Это обязательное условие, — отрезал журналист. На мечтающих о бегстве ногах я побрел в гущу событий. К главным мучениям тут же добавились частные. Мой облик джентльмена полусвета жалок был пред блеском истинного аристократизма. Серому сюртуку надо оставаться на окраинах раута и там тешить себя размышлениями, что внутренняя независимость ценнее дипломатического фрака.
— Граф Консел, — так отрекомендовал мой капитан сухощавого старичка с мертвенно–желтым лицом и вертикальными аскетическими морщинами на щеках. Граф посмотрел на меня. Зеркала души его обильно слезились. Я испытывал в этот момент приступ только мне свойственного ужаса. Мне послышалось, что его назвали «граф–консул», и я понял, что не могу определить, где здесь звание, а где фамилия.
— Граф — первейший здешний меценат и благотворитель. Его, например, радением был устроен недавно детский праздник в ратуше.
— До свидания, граф, всего вам наилучшего, — перебивая капитана, увлек меня далее Ворон.
— Почему вы не представили меня ему? — без всякой обиды поинтересовался я.
— А что я, по–вашему, только что сделал? — удивился капитан.
— Вы же не назвали ему мое имя. Газетчик хихикнул.
— Он бы тут же забыл его, и при следующей встрече вам бы было неприятно. Вздорный старик, маразматик. Вечный шпион австрийского генштаба. Я повторяю: маразматик, но Вену он совершенно устраивает. Вы знаете, пару раз князь Петр, заговорившись, прилюдно передавал через него привет генералу Гарденбергу, начальнику тайной венской канцелярии, а граф при этом продолжает считать себя глубоко законспирированным агентом. И венцы ему верят. Невзирая на свой возраст, является частым и желанным посетителем местного дома терпимости. Там, по словам девиц, он демонстрирует редкий сексуальный прием — «русский казачок». Знаете такой? Я успел только помотать головой. Капитан громко сказал:
— Прошу прощения, сэр!
К нам повернулся длиннолицый тучный дылда лет пятидесяти с волосами до плеч.
— Посол его величества короля Георга Пятого сэр Оскар У. Реддингтон. Рекомендую моего друга господина Пригожина из России. Я пожал огромную и мягкую, как перина, руку.
— Вояжируете? — спросил он меня по–французски.
— Из России в Россию.
Рыхлая громадина, кажется, сочла меня человеком, любящим пошутить. Впрочем, мне было плевать на то, какое я произвел на него впечатление.
— Двери британского посольства всегда открыты для вас, молодой человек.
Приглашение выглядело политически двусмысленно, но я поблагодарил: уверенность, что я никогда им не воспользуюсь, позволила мне чувствовать себя с печальным гигантом на равных.
— Неприятный тип, — стоило нам отойти, заявил Штабе. Пруссак не мог держаться о британце другого мнения.
— Скорее грустный, — слабо возразил я.
— Вы наблюдательны, — неожиданно похвалил меня Ворон. — Недавно похоронил своего старого любовника. Безутешен, и, что самое главное, — искренне. Правда, есть сведения, что вот–вот влюбится в пару очаровательных пареньков. Одновременно плетет сеть заговора, в этом все уверены. Имейте в виду, мой друг, вы ему приглянулись.
— Немцы жестоки, но сентиментальны, а англичане остроумны, но гомосексуалисты, — сделал несколько не идущее к делу сообщение Штабс. Когда мы на него посмотрели вопросительно, он дал ничего не объясняющее объяснение: — Ведет себя, будто является потомком Ричарда Львиное Сердце, а сам — все знают — получил титул от отца — смотрителя тюрьмы.
— Мсье Делес! — воскликнул журналист и хищно заулыбался.
Подошедший к нам субъект был очень мало похож на типичного француза — рыжий, кудлатый, веснушчатый, с очень тонким и очень горбатым носом. В облике его чувствовалась общая легкая ненормальность, трудно было только определить, опасного она свойства или нет.
— Господин Пригожий, мсье Делес, — сухо произнес капитан. Француз был явно ему несимпатичен.
— Зовите меня просто Ксавье.
Я поклонился, но не разрешил ему называть меня Иваном. Отчего–то мне показалось, что его не следует подпускать к себе слишком близко,
— Знаете, чем интересен мой друг Ксавье? — болтал
Ворон. — Своим оригинальным извращением. Он негрофил.
Я воспитанно молчал, капитан тихо пыхтел носом, пасть
француза весело распахнулась, показывая отличные зубы.
— В самом деле, некоторое время я провел на Гаити, где пытался возродить традиции Туссена — Лувертюра, черного президента. И правительство, и общественное мнение впечатляются, когда за права негров борется белый.
— Вернее, рыжий, — поправил журналист, и все засмеялись.
— Но, как это часто бывает, самым большим препятствием на пути к освобождению черных оказались сами черные. Они любили, любили меня, а потом решили меня съесть. Поэтому я здесь. Когда мы с ним расстались, я узнал о нем вот еще что.
— Говорят, правда, очень глухо, что не очень–то он там боролся за права негров. Снимал кино. Не совсем обычное. По крайней мере местные жители, когда увидели кусок его фильма, тут же решили его зарезать. Интересно, что за кино он собирается снимать здесь? Еще суждено мне было познакомиться в этот вечер с паном Робертом Мусилом, толстым коротышкой в пуленепробиваемых очках. Ни за что нельзя было догадаться, какие мысли бродят за этими стеклами. Похож он был на уменьшенную копию Собакевича и всем своим видом показывал, что не даст себя надуть.
Характеристика господином Вороном ему была дана такая:
— Очень солидный делец и очень большой подлец. Одно слово — заводы «Шкода». Нет, получается два слова. У них пять тысяч готовых гаубиц на складе, а князь почти согласился с доводами своих генералов, что его армия нуждается в перевооружении.
Зачем он мне все это рассказывает? Пусть лучше Штаб–су, ему вон как интересно! Каждый новый военный или придворный секрет казался веревкой, привязывающей меня к здешнему миру.
— Луиджи Маньяки!
Даже описывать не хочу, ибо кому не известно, как
выглядит сорокалетний итальянец.
— Вообще–то тут, в Ильве, подвизается целая троица этих братьев. Один шьет, другой поет, третий торгует, — плел Ворон.
— Понятно.
— Что вам понятно, мой юный друг? Больше никому не понятно, зачем было устраивать итальянской разведке всю шпионскую сеть из одних братьев.
— Да уж, — саркастически произнес капитан, и я решил не вдумываться, в чью сторону направлен сарказм.
— Вот еще две замечательные фигуры. Видите, там, возле фруктового буфета, человека в серо–голубом мундире — господин Иван Сусальный, начальник криминальной полиции. Большой патриот и большой идиот. Замечателен своими пшеничными, до пола, усами.
Усы действительно были пшеничного цвета и весьма изрядной длины.
— Впрочем, о свойствах местных полицейских я вам, кажется, уже сплетничал. Рядом с ним господин с бородкой, Виль Паску, газетная змея, пригретая на груди княжества. Знаменит афоризмом: «Хорош только мертвый журналист».
— Такой афоризм больше подошел бы начальнику полиции, — заметил Штабе.
— Не–ет, тут имеется в виду, что если журналиста убили, значит, он был неподкупен. Всем известна беспримерная продажность этого литератора, и в афоризме сам он ернически и цинически в этом признается. Лучше быть подкупленным, но живым, чем неподкупным, но мертвым.
— А это…
— А это я, — иронически сказала крупная, строго, даже строжайше одетая пятидесятилетняя примерно тетка, появившись из–за колонны.
— Мадмуазель Дижон, — в один голос сказали капитан и журналист, кланяясь с чуть чрезмерной почтительностью, — конфидентка хозяйки этого очаровательного праздника.
— А вы, стало быть, тот самый молодой человек?
— Тот самый, тот самый, — заверили ее. Большие, черные, чуть навыкате глазищи, про такие всегда думаешь, что где–то их видел. Иван Андреевич поклонился. Распрямившись, увидел только спину лилового жакета и жесткий узел на затылке.
— Кто эта женщина?
— Как вы, наверное, слышали, это не женщина, — хихикнул журналист, — но весьма влиятельна, и даже с загадкой. Мало о ней известно, но желательно поддерживать хорошие отношения.
Был я в этот вечер представлен еще десяти, а может быть, пятнадцати господам. Туркам, болгарам, хорватам — черты их и моем сознании перемешались. Одно многоголовое дипломатическое животное во фраке и бабочке. Ядовитая любезность во вставных челюстях. Во мне же разгоралось желание бежать. Как можно скорее, как можно дальше. Пусть Кострома, пусть тюрьма, все равно. Грядущее утро рисовалось мне тем мрачнее, чем безумнее и невразумительнее была ночь перед ним. Доведенный до состояния крайнего, я задал капитану Штабсу, воспользовавшись краткой отлучкой ядовитого писаки, жалобный вопрос:
— Вы явно, капитан (он поднял бровь), то есть я хочу сказать, вы явно занятой человек, капитан, — что заставляет вас уделять столько времени и сил мне, личности совершенно не замечательной с точки зрения интересов любого государства? Даже здешнего? Он, против опасений, не увильнул от ответа по дипломатической кривой, он сделался серьезен и даже внутренне осунулся. Сказал странное:
— Я должен смыть пятно, лежащее на репутации рода
Штабсов.
Мне показалось, ответь он менее просто, я бы понял
больше.
— Когда б я был Наполеоном, подумал бы, что вы намерены меня зарезать.
— Нет, что вы, — тяжеловесно усмехнулся он, — я успел проникнуться к вам симпатией. Тут пришла моя очередь усмехаться, причем недоверчиво. Штабе обиделся.
— Не верите? А я вам докажу. Вы ведь сегодня стреляетесь?
— Спасибо за напоминание.
— У вас нет друзей в этом городе.
Я подумал о докторе Сволочеке и сказал:
— Нет.
— Тогда я стану вашим секундантом. Можете на меня положиться.
— Не надо, не надо становиться моим секундантом!
— Мы теперь друзья, а друзья должны чем–то жертвовать друг для друга.
Я попытался осторожно исчезнуть. Сделал шаг назад, но уперся в подлетевшего Ворона.
— Теперь выпьем шампанского, — закричал он.
— Я не хочу, у меня уже мозг от него пузырится.
— Это настоящий Дюдеван, триста франков бутылка. В Стардворе вам такого не подадут.
— А я и не рассчитываю там быть.
— У руситов есть поговорка: от дворца и от ямы Дво–рецкой (наименование самой известной тюрьмы) не зарекайся. То есть может кого угодно судьба вознести, а может и к подножию жизни бросить.
— Не хочу шампанского, — тупо настаивал я на своем.
— Ну, тогда без него, пойдемте, она уже ждет.
— Кто?!
И тут я увидел, кто. Ее светлость стояла у противоположной стены, опираясь слишком гибкими пальцами о золоченую консоль и купая подбородок в веере. И поощрительно улыбаясь. У меня от этой приязни обледенел желудок. Но офицерская воля уже влекла меня. Положение мое было вполне безнадежным. Я еще ловил возмущенно распахнутым ртом последние глотки свободы, а ревнитель родовой чести уже рекомендовал меня Ее светлости.
Кажется, я что–то отвечал, с перепугу — по–русски. Родная моя речь странно подействовала на высокопоставленную немку.
— Тебя удостаивают танца, — прошептал мне на ухо прусский ус.
Я еще не успел испугаться, а рука княгини уже закогтила мое плечо. Оркестр швырнул нам под ноги что–то неотвратимо танцевальное. Смычки стаями рушились на струны.
Меня учили танцевать, но меня не учили танцевать с царствующими особами. К тому же мне следовало помнить о скрытом дефекте ее походки. Или все же это дефект моего зрения?
Три–четыре пары закружились вслед за нами. Я был им благодарен.
— Вы русский? — спросила княгиня.
— Да, Ваше высочество.
Она улыбнулась и закатила задумчиво глаза. То ли в
восторге от сделанного открытия, то ли в попытке что–то
вспомнить. Вспомнила и поинтересовалась с искренним участием:
— Пшепрашем вшистко?
Звук неродной, но родственной речи смутил меня. Я
знал, что должен понять, о чем меня спрашивают, но не
понимал.
— Тепло? Студено? Наистудено?
Она продолжала меня ласково пытать, а я вспыхнул от
стыда, словно вопрос касался моего белья или стула.
— Заедно? На здрав?
Тут уж нельзя было отделаться одними красными пятнами на физиономии, я собрал в кулак все свои умственные силы, и пожалуй что зря. Потому что мой ответ получился никак не иначе как вот таким:
— Вшистко, студено, на здрав.
Ее высочество чуть не подвернула свою таинственную походку, приходя в тихий экстаз; так бывает, когда внезапно встречаешь в толпе врагов родственную душу. Вальс меж тем великодушно заканчивался. Я в три вращения препроводил Розамунду к консоли, у которой отнял ее пару минут назад, и начал откланиваться.
— Тырново! — торопилась мне что–то сообщить венценосная танцовщица.
— Трнава, — почти резко парировал я, делая шаг прочь. Последним с ее губ слетело «Буг», но я уже был вне пределов досягаемости.
— Она что, ненормальная? — спросил я вернувшегося господина журналиста, стремительно уносясь в сторону выхода.
— Ну зачем вы так, — урезонил меня ругатель всех и вся, — просто ее высочество думала, что говорит с вами по–славянски. И тем делает вам приятное. Она у нас тут панславистка — на свой особый манер. Вы отличены, поздравляю.
— К дьяволу!
Я быстрым шагом покидал танцевальную залу.
— Может быть, может быть. Но в данном случае на вашем месте я не уносился бы с такой скоростью. Ее высочество решит, что вы делаете это под впечатлением, которое она произвела на вас.
— К черту!
— Если вы твердо решили составить компанию именно этим двум господам, то не могу не отметить — вы следуете правильным путем.
Мне и самому пришло в голову, что я заблудился. Ничего похожего на выход, через который я явился на бал, по дороге мне не попадалось. Все меньше света и все больше пыли. Не слуги, а тени. Назло себе, Ворону, Штабсу я сделал еще несколько поворотов, промчался еще несколькими тусклыми коридорами, и передо мною оказался заброшенный подъезд дворца. Я убегал в сторону, противоположную спасительной. Огромный темный вестибюль со скошенным вдаль и вниз потолком. Дно его не ощущалось моими чувствами. Забит он был отслужившим мебельным веществом. Щепки, обломки, ржавые пружины, тряпки, обглоданные листы фанеры, рваные края мраморных плит. Элементы мебели превращались здесь в элементарное вещество. Из этого темного зрелища я сделал неожиданный для моих спутников вывод:
— И все же я не понимаю, почему должен стреляться с
Вольфом!
Журналист поскреб матерчатую лысину.
— Попытаюсь объяснить несколько издалека. Вот, скажем, все знают, что Цезаря зарезали Брут — простите, капитан, пришлось, так сказать, к слову, — Брут и Кассий. Но почему имя первого стало нарицательным, а второй превратился в нюанс для специалистов?
— Откуда мне знать? Потому что Цезарь не сказал: «И ты, Кассий!»
— Нет, дело не в этом. А в том, что может быть только один. Только один, понятно?! — проникновенно произнес Штабе.
— Великолепно, капитан! Есть дела, в которых возможен только один! Вы мешаете Вольфу. Я чувствовал, что мне говорят правду, на все вопросы отвечают полностью и максимально точно, но ничего не понимал.
— Но это какая–то чушь! Кто такой этот Вольф?! Откуда он взялся? Вы можете мне это сказать?!
— Лично мне о нем известно очень мало. — Ворон выпятил губы. — Он повсюду следует за мадам. Фигура загадочная, с призрачным прошлым. Знаете что, пойдемте отсюда.
И мы стали подниматься по широкий, застеленной драным ковром лестнице. Я заметил, что деревянная свалка потянулась за нами, как будто мы ее разбудили своим вторжением. Как из первобытного океана, из нее выбирались зародыши вещей. С каждой ступенькой их вид становился все осмысленнее. Наконец стало возможным применять к ним какие–то, для начала уродливые, названия: продавленная кушетка, кривой стул, бюро с вырванной ящичной челюстью, кресло со взорвавшимся сиденьем.
Наступил момент, когда закончилась изнаночная сторона дворца, уроды вымерли. Но легче не стало — повсюду торжествующе правили свой стоячий бал отвратительно смешанные семьи. Кровать из рода бидермаеров топталась в обществе стульев рококо, венецианские кресла жались к английским готическим ящикам, а меж консолями от Людовиков XIV и XV нагло торчала решетчатая спина Чиппендейля.
Профессиональная тошнота подступила к моему горлу и превратилась в чисто человеческое страдание. Мои спутники показались мне иллюстрацией хаоса, в который мне только что пришлось опуститься. Я давно догадался, что эти двое не случайно вьются подле меня и лезут с разговорами. Они приставлены. Кроме того, они явно не союзники, чем дальше, тем явнее становилось, что они не могут меня в каком–то смысле поделить.
— Между прочим, уже светает, — сказал Штабе, отдернув на мгновение гардину, — мне пора готовить пистолеты.
— Какие пистолеты? — жалобно просипел я.
— Так езжайте, — пожал плечами Ворон.
— Но вам не пора ли в редакцию, мсье?
— Может, и пора.
— Какие пистолеты?!
— Я ваш секундант, вы разве забыли, мсье Пригожий?
— Так идите, приводите в порядок свои железки.
— А вам неплохо бы очинить свои перья… Мы все втроем продолжали передвигаться и уже оказались на территории, обжитой балом. Появились группки балагурящих фраков и платьев.
— У меня такое впечатление, капитан, что вы мне, как бы это мягче сказать, слегка не доверяете.
— У меня сходное мнение на ваш счет. Меня смущало и пугало то, что они почти полностью перестали считаться с фактом моего присутствия. Чем бы это кончилось, сказать трудно, когда бы не появление откуда–то сбоку мадмуазель Дижон.
— Вот вы где, — без какой–либо эмоции в голосе сказала она.
— Мы осматривали дворец, — нашелся Ворон.
— Осматривали, осматривали, — присоединился капитан.
— Мне кажется, нашему гостю пора поблагодарить мадам за приглашение на бал. Мои спутники тут же стали пятиться в разные стороны.
— Следуйте за мною, — сухо предложила мне суровая дева.
Я последовал. Идти пришлось недалеко, но через самые освещенные и густонаселенные места. Меня видели все. Включая панславистку из дома Гогенцоллернов. Мадам стояла в окружении нескольких оживленно беседующих господ и дам. Вернее сказать, оживленно слушающих. Говорила мадам. До того момента, как она обернулась ко мне, я успел понять, что на ней то же самое черное платье и те же бриллианты, в которых она была встречена мною нынче утром. Легкомысленный маскарадный пеплос был отринут.
— А, это тот самый молодой человек из России?! Надев прежние одежды, она не осталась прежней. Ничего от величественной заторможенности не осталось. Она была едва ли не игрива, несмотря на всю свою крупность.
— Да, тот самый, о котором я вам рассказывала, — сообщила мадмуазель, отступая на несколько шагов. Беседующие с мадам как по команде заработали веерами и стали расплываться в стороны.
— Ну и как вам мой прием, юноша?
— О, мадам.
— Вы тут со всеми перезнакомились, и я слышала о вас массу лестных слов, мол, вы именно то, что нужно. Так легко войти в общество не всякому удается. Такой успех не случаен.
— Мадам, я бы хотел…
— А как вам, в свою очередь, понравились мои гости? Я лишь начал набирать воздух в грудь.
— Не правда ли, собрание ослов и негодяев? А главное,
ничтожеств?
Нет ничего обременительнее чужой откровенности.
— Я видела, вам и со здешней ученой княгиней удалось потанцевать. Вам не кажется, что у нее хромает не только славянское произношение?
Говорила она эти злопыхательские фразы самым беззаботным и даже дружелюбным тоном, у меня ни на секунду не появилось ощущения, что я участвую в каком–то нехорошем деле. В этом был фокус ее личности, у меня возникло чувство благодарности к ней. Мадам вдруг прервала свой щебет.
— А как вы находите меня, молодой человек из России? Гожусь ли я еще на что–нибудь?
Каково? В голове моей бедной вскипела путаница определений, кои я хотел бы обратить к ней. Мне хотелось сравнить ее с грациозной, хотя и массивной вазой, восхититься, как она совмещает в себе развязность и изящество, тайну и пошлость. Но произнести вслух все эти домыслы было немыслимо. Равно как и молчать. Сама собой выплыла следующая фраза:
— Что вы не соответствуете городским о вас слухам.
— Каковы же они?
— Считается, что вы родственница Дракулы. Она помедлила самую маленькую секунду и расхохоталась. Я заторопился с объяснениями:
— Это, разумеется, дикая, варварская глупость, я просто затем, чтобы позабавить.
Мадам потрепала меня по щеке ладонью. Обыкновенной теплокровной ладонью.
— Вам это удалось. Вы меня очень позабавили, хотя на самом деле хотели уязвить.
— Поверьте…
— Но это слухи, а сами вы? Ваше мнение, отчего–то оно мне интересно.
— К стыду… я не успел. Я лишь второй раз с вами беседую.
— Второй раз? — вяло удивилась она.
Она считает меня идиотом? Который же еще?! Но не
спорить же!
— Я осмотрел ваш дворец, — залепетал я.
— И что он? — вдруг озаботилась мадам. — Подозрительное, что–то непонятное?
— Какой безумец расставил вашу мебель, мадам? — Я был уверен, что он» меня прогонит, она же снова рассмеялась.
— Его имя — Спешка.
И тут я очень остро почувствовал, что разговор окончен. Начал пятиться, кланяясь, но мои поклоны уже никого не интересовали. Я выпрямился, на меня налетел Штабе.
— Пора. В гостиницу. Ванна, полбутылки бургундского и письмо родителям.
Кофе мне подала заплаканная толстушка в кривовато напяленном фартуке. Хотя мне было в общем–то плевать на причины ее горестного состояния, я, по законам инерции общения, поинтересовался — о чем слезы?
— Мсье Саловон, — прошептала она, и у нее перехватило горло.
— Он умер? — заинтересованно спросил я, как человек, выяснивший перед неприятным путешествием, что может рассчитывать на попутчика.
— У него удар. Кровь бросилась в голову.
— Кровь?
Не успел я ни во что толком вдуматься, к девушке
подпорхнул неотступный Штабе и, обняв за плечи, стал
выпроваживать из номера.
Кофе показался мне тошнотворным, кровь Саловона
бросилась именно в мой кофейник! Неужели внутренняя
боль способна повлиять на вкус окружающего мира?
Штабе тоже отхлебнул дымящейся смолы и объявил камбронновским голосом:
— Дерьмо!
— Это ты о чем (вас ист дас)? — просипели за дверью, потом дверь распахнулась, и на пороге я увидел еще одного типичного германского офицера. Голубой глаз, черный мундир, русый ус и тупой юмор.
— Капитан Юберсбергер! — с нескрываемым удовлетворенном объявил Штабе. — Ваш второй секундант. С меня было вполне достаточно и одного капитана, поэтому я даже не попытался казаться приветливым. Обиднее всего, что Юберсбергеру было на это плевать. Такой выполнит товарищеский долг, даже если ему придется удушить самого товарища.
Возмущенно раздеваясь на ходу, я направился в ванную комнату, и там, лежа в воде и в слезах, слушал, как территорию моей комнаты топчут каблуки жизнерадостных милитаристов. Они громко обменивались воспоминаниями о своих прежних дуэлях и спорили с отвратительным знанием дела, какие дуэльные раны опаснее для жизни. От выпитого после ванны шампанского меня, естественно, вырвало. Мне тут же был устроен душ из подходящих к случаю шуточек. Я узнал, что новичков почти всегда тошнит в урочный день. Это так же неизбежно, как полные штаны новобранца в первом бою. Слишком немецкий юмор. Теперь письмо родителям. Я сел к столу. Штабе молча придвинул ко мне чернильницу с торчащим пером и лист бумаги. Лист был ненормально длинный, на нем можно было описать всю мою жизнь за последний год. Немец деликатно отвернулся, товарищ его тоже. Текст уже составился в моей голове, поэтому я начал бросать слова на бумагу скоро, бойко… «Дорогая, бесценная моя матушка! Пишет тебе сын твой единственный, пишет в горький и последний, может статься, час. Не пройдет…» Дойдя до этого места, я вдруг отшвырнул перо и упал головою на руки. Как бесконечно обессиленный. Секунданты ничуть не удивились такому повороту моего поведения, в их практике, видимо, случалось и это.
— Тогда едемте!
Когда мы вышли к коляске, нас встретило с особой тщательностью выделанное утро. Все дышало жизненной глубиной, предметы были преувеличенно реальны: свежие горы цветов во влажных корзинах у входа, оживленная болтовня цветочниц, прохладная на вид мостовая, сочно–гнедые кони. А с каким затаенным приветствием скрипнули рессоры, как ласково колыхнулась коляска, как нежно ударило копыто в темя первого булыжника! Итак, едем.
Кажется, еще никому не доводилось описывать свой путь к эшафоту. А может, и доводилось, да я не вчитывался, глупец, уверенный, что это не нужный мне опыт. Вот совет, который я хочу оставить потомкам, пусть их у меня и не будет. Вчитывайтесь, пока не поздно. Вглядывайтесь и вдумывайтесь, милые мои… Почувствовав стремительное приближение истерики, я взял себя в руки и одернул. Не хватало еще распустить русские нюни перед лицом извечного врага. А коляска весело катилась, горожане привычно сторонились, облако таяло, невинность синевы казалась все лживее. Пруссаки гоготали все бесчеловечнее. Наверное, они кажутся себе отличными парнями, отвлекающими меня от печальных дум.
Зажмурившись изо всех сил (единственный способ уединиться), я снова подумал: зачем, зачем я туда еду? Почему я не выпрыгиваю из коляски и не бегу к ближайшей подворотне? Пусть свист в спину, пусть улюлюканье и позор, зато живой! Неужели Андрей Пригожий,
I сын архитектора, до такой степени часть человечества? Неужели до такой степени зависит от мнения людей — людей, которых почти не знает, совсем не уважает? Нет, я сильней обстоятельств. Сильней! Не хотеть — значит мочь! Я привстал, выбирая момент. Вон там коляска притормозит, делая поворот, засеменит всеми восемью копытами… На выбранном углу, спиной к керосиновой лавке и лицом к моему отчаянию, стоял славный доктор Сволочек. Бок о бок с другом своим Верне–ром. Вернер был за скобками ситуации, а вот его словацкий коллега поразил меня скорбным своим взглядом. Он полностью смирился с тем фактом, что я еду в этой коляске с двумя пистолетами и двумя капитанами на смертельно опасное развлечение. Эта скорбь встала шершавой стеной на моем пути к унизительной свободе. Я сел на место. Без сил. В поту. С потухшим, вероятно,
• взором.
— Сволочек, Сволочек, — пробормотал я сокрушенно. Капитаны понимающе переглянулись — дуэлянт горячит себя перед поединком. Правильно делает, потому что пора!
Вот уже сдержанно грохочет мост над безразличной Чарой. Вот уже потянулась тополиная аллея к той затуманенной в сей ранний час поляне. Противник героя всегда приезжает на место дуэли первым и оскорбленно расхаживает возле своей кареты. Один секундант — близкий друг — держится рядом, стараясь его подбодрить или успокоить. В зависимости от того, что требуется. Второй, попавший в дело почти случайно, в сороковой раз осматривает пистолеты и ста-; рается представить себе неприятности, которые его ждут* после всего. Он первым видит запоздавшего соперника и громко говорит: «Наконец–то!»
Секундантами Вольфа оказались два капитана княжеской гвардии. Им льстило, что их визави будут капитаны армии императорской. Быстро и даже с блеском совершилось несколько обязательных церемоний. Предложение решить дело миром было произнесено лишь до середины, а Вольф уже закричал:
— Ни в коем случае!
Юберсбергер подошел ко мне с открытой коробкой. Я был странно спокоен в этот момент. Взгляд мой бродил по сторонам без всякой нужды, запоминая абрис ивовой ограды вдоль невидимой реки, темные полосы, оставленные на росистой траве колесами и сапогами, обтянутые серо–сиреневым сукном ляжки одного из княжеских капитанов.
Что он так вышагивает?! Это же отвратительно в такой момент! Ах да, отмеряет расстояние… Отчасти меня привел в себя холод пистолетной рукояти. Штабе дружелюбно приобнял меня за плечи и повлек к «барьеру»: к торчащей из мокрого дерна рапире. Моим плечам вспомнилась плачущая служанка из гостиницы, и они дрогнули.
Только став у барьера, я толком разглядел Вольфа. Он был бледен и от этого особенно черноус. Не человек — валет.
— Расходитесь! — крикнул Штабс.
Я сделал шаг назад, потом еще, более всего заботясь о том, чтобы не оступиться. Почему–то я хотел выглядеть достойно в глазах этих незнакомых мне, в сущности, господ. Господ, с которыми у меня скорей всего и не будет возможности познакомиться. Я знал, что сейчас умру, но думал о каблуках, о высоте мокрой травы, о кротовых норах, которые всегда подстерегают… Меня сильно качнуло вправо, я едва не упал. Усы собравшегося капитанья начали иронически топорщиться. Господи! Неужели мне не о чем больше подумать. Сейчас все кончится, и эти деревья, и река, и громада замка пропадут. Я навсегда и полностью исчезну. — Сходитесь!
Я продолжаю, продолжаю им подчиняться, каждой их команде! Они меня убивают, а я им подчиняюсь! Вот они, последние, самые последние шаги. Тут я опять попал ногой в ту же самую кротовую дыру и понял, что не успею вовремя дойти до барьера. Остановился, поднял пистолет и прицелился. И увидел, что поразительно подвижная, как пар из чьей–то пасти, волна тумана накатывает на Вольфа.
И я выстрелил. Торопливо, как будто боялся, что туман отнимет у меня соперника. Выстрела не услышал, так забита голова шумом крови. Но я знал, что выстрелил. Знала рука, знало плечо. Я отбросил оружие и тут же вспомнил, что мог бы использовать его как защиту. Можно ли теперь наклониться за ним? Не нарушение ли это правил?
Волна тумана проплыла, и Вольфа не оказалось там, где ему положено было стоять. Я не понял, что это значит, но сообразил, что теперь можно не бороться со слабостью и тошнотой. И упал. На спину. С открытыми глазами, рассчитывая, быть может, увидеть небо в равнодушных облаках. Небо было чистым. Потом появились сходящиеся со всех сторон шумы, состоящие из непонятной речи. Надо мною склонились физиономии четырех капитанов.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Рано утром, задолго до завтрака, из дверей большого «генеральского» флигеля появился Калистрат. Он нес стул и трехногий журнальный в дальний конец сада, в так называемую «вишневую заводь». Это было самое укромное место, получившее свое название от двух старых, давно бесплодных деревьев, что было несправедливо, ибо ощущение укромности создавали не они, а приземистые яблони и заросли первобытных непуганых трав. Помнилось, что вишни посажены еще в прошлом веке отцом Тихона Петровича в честь какого–то весьма исторического события, но какого именно — забылось. Калистрат выступал неторопливо и солидно, как бы предвосхищая выход того, кто последует за ним. Последовал Василий Васильевич. Несмотря на столь ранний час, он был при параде. И сюртук, и сорочка, и панталоны отдавали какой–то особой джентльменской свежестью. Даже с расстояния в сорок, скажем, шагов (на таком, например, находился кучер Авдюшка) можно было утверждать, что от его бакенбард разносится запах английского одеколона.
В руках генерал нес стопку газет, под мышкой увесистый, в зеленом переплете том. Василий Васильевич решил провести нынешнее утро в соответствующих его чину и положению размышлениях. Газеты должны были сообщить последние факты с фронтов мировой политики, а книга (это был Алексис де Токвиль, «История демократии в Америке») призвана была еще больше укрепить генерала в убеждении, что Российскому государству никакой другой способ правления, кроме монархического, все еще не подходит.
Когда молчаливая и представительная пара вошла в тень первых деревьев, Авдюшка — довольно рослый малый весь в веснушках и с какою–то стернею вместо волос на голове, вдруг швырнул в сторону ни в чем не провинившийся перед ним хомут и бросился в сторону людской — длинного приземистого сарая, служившего одновременно и жильем для дворни, и прачечной, и чем–то еще. Вид у кучера сделался заговорщицкий. Некому было удивиться этому преображению. Почти все жители имения почивали. Спал Тихон Петрович, спала Марья Андреевна на стоящем возле мужниной кровати неудобном стуле. Спала Груша на сундуке, подложив ладошку под щеку и выставив из–под платья каблуки башмаков. Аркадий с Сашей спали, намотавшись по болотам. Однокурсник не обманул молодого Столешина, он прибыл к нему не для пустопорожнего гостевания, а с конкретными научными целями. Целыми днями он со специальными лопатками и мензурками бродил по самым грязным местам в окрестностях усадьбы, собирая коллекцию «образцов». Аркадий довольно смутно понимал смысл его занятий. Это была странная дружба. Аркадий, человек гуманитарный и вместе с тем порывистый до чрезвычайности, внезапно разругался в пух и прах со всеми своими университетскими приятелями и знакомыми, не сойдясь с ними во мнении о дальнейших путях современного искусства. Столь же внезапно он решил, что отныне будет дружить только с Сашей Павловым, студентом–физиологом, которого он едва знал. Он пригласил его провести месяц в деревне. Юный натуралист охотно согласился. Он сказал, что рад возможности поработать в столешинских болотах. Не скрывал он и своего удовлетворения, что ему удастся провести целый месяц на чужом коште. Уже на другой день по выезде из Санкт — Петербурга Аркадий стал немного жалеть о своем замысле. Саша его начал даже слегка раздражать своим желанием извлечь из столешинских торфяников эликсир бессмертия. Спала также и Галина Григорьевна, абсолютно не заметившая, что муж ее покинул.
Не спали Евгений Сергеевич и Настя, они одновременно заканчивали утренний туалет. Благодаря заученным усилиям из Насти получалась все та же аккуратная, бесцветная, но с затаенною очень глубоко болезненной искрой девушка. Смысл ее туалета состоял в том, чтобы сделалась как можно заметнее красота характера. Евгений Сергеевич чувствовал себя не в себе. Летняя полотняная пара, еще вчера устраивавшая его вполне, теперь раздражала и белизной и полотняностью. К тому же он порезался, бреясь, что случалось при его методичности и обстоятельности чрезвычайно редко. «Я волнуюсь?» — спросил он себя и мрачно ответил: «Да». Причиной этого волнения была болезнь Зои Вечеславов–ны. Обморок во время сеанса народного визионера возымел последствия. Профессорша оказалась прикована к постели. Это означало, что те переговоры, ради которых супруги Корженевские прибыли в Столешино, придется вести Евгению Сергеевичу. Практическая сторона жизни его всегда пугала и раздражала.
Наконец, убедившись, что ему нипочем не справиться с галстучной заколкой, профессор с возмущенным шипением вытащил ее, сорвал с шеи галстук и, чувствуя на себе любящий, но насмешливый взгляд жены, вышел из комнаты.
В тот же момент раздался стук в дверь Настиной комнаты. Она почему–то похолодела и перехваченным горлом произнесла: — Войдите.
Калистрат установил стул, столик и, не испрашивая разрешения, заторопился обратно. Он почти бежал, высоко поднимая худые кривые ноги в неизменных сапогах, раскинув при этом руки. Он напоминал своим видом вставшего на дыбы паука. В его глазах горел огонек нехорошего предвкушения. От «вишневой заводи» до каретного сарая, к которому он, по всей видимости, направлялся,
было шагов полтораста. Создавалось впечатление, что он намеревается преодолеть все это расстояние такой паучьей рысью.
Дверь отворилась, и появилась русая голова.
— Дядя Фаня?! — почему–то с удивлением спросила Настя.
— Я, Настенька, я. Мне очень нужно с тобой поговорить.
Аркадий перевернулся с живота на спину и раскинул руки. Еще несколько мгновений — и он проснется.
Калистрат, выбегая из–под яблоневой сени на посыпанную гравием дорожку, задел плечом профессора, но и не подумал остановиться.
Евгений Сергеевич не умел обращаться с простым народом и не любил народ за это. Он совсем было решил оставить мелкое Калистратово хамство без внимания, но пересилил приступ интеллигентности.
— Эй, милейший! — крикнул он твердым голосом вслед
возбужденному пауку.
Тот неохотно остановился, обернулся. Тяжело закашлялся.
— Ты что, милейший, ослепнуть изволил?
— Не разглядел. Извиняемся, — пробурчал Калистрат и снова тяжело закашлялся.
«Все вокруг больны, — с неудовольствием подумал профессор. — И жены и слуги». Он уже жалел, что остановил этого чахоточного идиота, что теперь с ним делать? Мелькнула спасительная мысль.
— Где генерал?
— Где вишни. Там.
— Пошел вон, — сухо сказал профессор, довольный тем, что способен на такие решительные заявления. Калистрат, прежде чем удалиться, сказал с загадочным видом:
— Статься так может, что спасли вы сейчас кой–кого. Он уже сидел со своей загадочностью у Евгения Сергеевича в печенках, поэтому тот не отреагировал, а отправился в указанном направлении.
— Садись, Настенька, садись. — Обнимая за плечи, Афанасий Иванович подвел девушку к кровати и усадил.
— Да что с вами?! Вас еще кто–то хочет зарезать? — не удержалась она.
Афанасию Ивановичу было неприятно, что она так шутит, и он не скрыл этого. Вид у него был растерянный, он засовывал руки в карманы, вытаскивал платок, часы, папиросы, засовывал все обратно. Бросался к окну, всматривался в него. С неловко отодвинутого букета в керамической вазе бесшумно осыпались лепестки.
— Мне сегодня очень плохо спалось.
— Мне напротив, но…
— Поэтому сначала я решил не придавать этому никакого значения. Шутки Морфея — и все. Но потом, когда уже умывался, то очень даже понял: не в Морфее совсем тут дело. Сон — это одно, а это — другое! Он похлопал ладонью по левому колену, а потом по правому, показывая, где у него «сон», а где «другое».
— Ты меня понимаешь? Сон тут совсем ни при чем! Совсем!
Калистрат вбежал в прачечную, наполненную кисловатым влажным духом, — никого! Над котлом поднимается пар. Из котла торчит весло для перемешивания тряпичного варева. Лавка. На лавке спит кот. Стоят четыре бадьи с холодной водой. Калистрат недоверчиво прошелся по выскобленному полу, заляпанному хлопьями мыльной пены. Приблизился к окну, протер запотевшее стекло и медленно осклабился. Ав–дюшка сидел в лопухах, справляя нужное дело.
— Приспичило, охальник!
— С добрым вас утром, Василий Васильевич, — хрипло–ватее, чем обычно, произнес Евгений Сергеевич в хребет развернутой газеты. «Утро России» сложило крылья
и легло на правый бок. Показалась довольная (чем?) генеральская физиономия.
— А-а, господин Корженевский, что вас заставило в такую рань? Ведь вы, творцы и служители искусств, любите об эту пору как раз поспать. Не желаете ли свежую газету? У меня большой выбор. И «Биржевые ведомости», и «Русские».
— Мне нужно с вами поговорить.
— Представьте, мне с вами тоже.
— Зоя Вечеславовна все еще больна…
— Очень и искренне сожалею, но разговор у меня не к
вашей супруге, а к вам.
Евгений Сергеевич мимолетно коснулся воротничка своей
сорочки, ему было неприятно осознавать, что он не в
галстуке.
— Ко мне?
— Именно и да. Помните наш спор недельной примерно давности? Ну, в день прибытия. Спор о том, какие последствия возымеет Сараевское преступление, помните?
— В общих чертах, — сухо сказал профессор.
— Я эти черты позволю себе вам напомнить. Безжалостно напомнить. Вы утверждали, и с апломбом, что грянет вскоре после выстрела не что иное, как всеевропейская война. Не так ли?
— Возможно.
— Не возможно, а именно так. А вот взгляните, что пишут сегодняшние газеты, — генерал уверенно зашелестел широкими листами, — это «Русское слово». «Несмотря на усилия министра иностранных дел Австрии графа Берхтоль–да, отчасти поощряемого германской дипломатией, Дунайская монархия не проявляет признаков агрессивности. Франц — Иосиф отбыл из Вены в свою резиденцию в Ишл. Военный министр Австро — Венгрии генерал Кробатин и начальник австрийского ландвера отправились в отпуска. Также поступили и начальники венгерских гонведов». Ну, похоже это на близкое начало военных действий? Евгений Сергеевич еще раз поправил отвороты своей рубашки, но ничего не сказал.
— «Председатель совета министров Венгрии граф Иштван Тиса выдвинул свои весьма убедительные соображения об опасностях, которыми были бы чреваты военные действия против Сербии, а также захват ее территории».
— Чего вы от меня добиваетесь, генерал?
— Ничего особенного. Я хочу лишь, чтобы вы признали свою ошибку.
— Но у меня к вам дело, никоим образом не связанное с большою политикой. Дело сугубо частное.
— Давайте подобающим образом покончим с большою политикой, и я в полном вашем распоряжении в частном смысле.
Помявшись на месте, Евгений Сергеевич прошелся туда–сюда. Ходить было неудобно — мешала высокая трава.
— Что ж, Василий Васильевич, я должен констатировать, что на настоящий момент мой прогноз выглядит малосбывшимся. На настоящий момент. — Тут был вознесен профессорский палец. Генерал улыбнулся.
— Умному достаточно, как говорят римляне. Можно теперь перейти и к вашим делам.
— Они не только мои, они касаются всех. В той или иной
степени.
Шелест складываемой газеты.
— Зоя Вечеславовна хочет получить свою часть наследства. Причем получить немедленно, да?
— Вижу, что нам почти нечего обсуждать, вы полностью в курсе дела.
— Да, в курсе. Как тут не быть. А обсуждать есть что, дорогой Евгений Сергеевич. Как это, например, можно требовать часть наследства еще при живом Тихоне Петровиче? Это пахнет несколько дурно.
— Прошу вас, оставьте проповедническую кафедру. Вы не хуже меня знаете резоны Зои Вечеславовны. И мои. Ей были обещаны дядей, Тихоном Петровичем, деньги, достаточные для покупки квартиры за границей. Ее уступка заключается в том, что сумма эта будет вдвое меньше доли, на которую Зоя Вечеславовна могла бы претендовать по закону и здравому смыслу. Спешка же, которую вы изволите осуждать якобы с позиций самой высокой морали, продиктована тем, что открылся очень выгодный заграничный вариант. Убежден, что Тихон Петрович, узнав, что есть возможность столь удачно устроить судьбу своей ближайшей родственницы, не стал бы медлить. Лично я тоже не вижу, почему бы не решить это дело немедленно, раз предварительная договоренность вполне достигнута.
— Но Тихон Петрович давал, насколько я понимаю, свое согласие, находясь в здравой памяти и твердом рассудке, а сейчас он без сознания.
— Но ведь у него бывают периоды довольно длительного просветления!
— И кроме того, — генерал самоуверенно зевнул, — насколько мне известно, нужной суммы у Тихона Петровича все равно нет.
— Но ведь можно кое–что безболезненно продать.
— Что, например?
— Ну-у, хотя бы ту березовую рощу, что за старой мельницей.
Василий Васильевич всплеснул руками, будто только и ждал, что этой проговорки собеседника.
— Вот это дело! Никакого другого способа, как только разбазаривание не вами нажитого, вы не видите. Краска начала проступать фрагментами на лице профессора. Что–то было угрожающее в этом процессе. Генерала это ничуть не испугало.
— Вот вы с Зоей Вечеславовной и показали свое истинное лицо. Продать, что только возможно, и бежать за границу.
Профессору очень хотелось вспылить, но он сдержался, он не мог себе позволить открытой ярости. Он знал, что супруга очень его не похвалит за прерванные переговоры. Не до амбиций. Он решил против демагогии выставить логику.
— Никак не могу понять, Василий Васильевич, в чем смысл вашего противодействия. Ведь для вас прямая выгода в том, что Зоя Вечеславовна соглашается на уменьшенную долю. Ведь в конце концов вы останетесь здесь полным хозяином. За вычетом какой–то рощи. Вы ведете себя неразумно.
Генерал немного помрачнел. Сам того не ведая, профессор задел очень неприятную струну в его душе.
— А я, Евгений Сергеевич, если честно сказать, так и не слышал собственными ушами обещаний Тихона Петровича. Все больше со слов Зои Вечеславовны. Не успевшая полностью схлынуть краска начала снова подниматься по щекам профессора.
— Вы спросите хоть Марью Андреевну. И вообще, как вы можете…
После этого надо было уходить. Евгений Сергеевич развернулся и через плечо добавил:
— Выражает сомнение в чужих правах тот, кто и в своих собственных не слишком уверен.
— Представь себе, Настенька, стою я в розовой гостиной, схватившись вот так рукою за каминную доску. Правой рукою. — Афанасий Иванович поднял названную конечность и подозрительно осмотрел.
— И что же? А левой что вы делаете?
— Левой? У меня удушье, я пытаюсь освободить горло. Ты же знаешь, у меня полнокровие. Нечем дышать.
— Что же вы замолчали? — испуганно спросила девушка. Испугало ее выражение дядюшкиного лица. Оно сделалось отсутствующим, словно сознание Афанасия Ивановича куда–то провалилось. Потревоженный резким вопросом, дядюшка вернулся в себя. И продолжил говорить:
— И в гостиной какие–то люди, люди. Двери распахнуты… Люди эти размытые, но враждебные, ощутимо враждебные. Рты их раскрыты, надо полагать, они кричат что–то, но мне не слышно что. Уши забиты как бы звенящей ватой. И удушье, удушье… И страшно. И вдруг из этой беззвучно орущей толпы выходит…
— Фрол?
Афанасий Иванович замер на мгновение, а потом тихо и
нехорошо засмеялся.
— Откуда ты знаешь, Настенька? Впрочем, что я спрашиваю, это же все могут знать, все видели.
— Так это и правда был Фрол?
— Почему «был»? Будет! Все как давеча показывалось. Полезет за ножиком за пазуху. Достанет, занесет…
— А дальше?
Рассказчик заерзал на месте, заныл, лицо его исказилось, будто открылась внезапная внутренняя боль.
— Как же можно спрашивать, Настенька?! Кто же может знать, что будет дальше?! Никто не может! Кроме того, нет никакого смысла знать это, никакого! Настя, кажется, поняла, что имеется в виду, судя по тому, как она прижала ладони ко рту. Афанасий Иванович был не в силах далее говорить, да и рассказано было, пожалуй, все, что можно было рассказать.
Установилась, естественно, тишина. Она длилась, неуловимо образовывалось в ней какое–то содержание, и через некоторое время его смысл и вес стали таковыми, что с ними нельзя было не считаться. Тишина наполняла не одну лишь Настину комнату. Через щель, образованную неплотно прикрытой дверью, она сообщалась с общей тишиной дома. Границею ее были внешние стены двухэтажного здания. За ними продолжалась обыденная жизнь звуков. Шелестели яблони, позванивала коса, топор крушил чурбачки для растопки самовара, постанывал колодезный ворот. И вдруг в самом сердце тишайших хором совершилось шумное предательство. Заголосили часы. Те самые, с каминной полки в «розовой гостиной». Соответствующая восьмому часу утра легкомысленная бошская мелодия безбожным образом издевалась над молчанием старика и девицы. Самое неприятное и непонятное было в том, что звук этот был слишком громок. Ненормально громок. Настя хорошо знала, что до ее комнаты звуки из «розовой гостиной» никогда не долетают. Афанасий Иванович думал о другом. О чем — покажет дальнейшее развитие событий.
Тут выяснилось, что наглый мотивчик произвел нехорошее впечатление не только на них. Раздался истеричный (женский?) вопль, и вслед за этим грохот, похоронивший музычку. Кто–то невидимый, нервный и решительный расколошматил фарфоровый хронометр о дощатый пол.
Афанасий Иванович и Настя одновременно бросились к двери.
Увидели они вот что: стоящую на коленях Зою Вечеславовну. Она, как кобра (это сравнение не пришло в голощ; ни девице, ни старцу), нависала над белым мелким к»™-'1 шевом, посреди которого бился в последних судорог; металлический механизм.
— Зоя Вечеславовна, — прошептала Настя, — . вам помочь?
Профессорша поднялась. Лицо ее против ожиданий было спокойно. Она перекрестила на груди концы своей шали.
— Нет уж, — сказала она не только твердо, но даже вызывающе, — помогать, во–первых, поздно, а во–вторых, не нужно. Я бы даже сказала так: если надо помогать, то не надо помогать.
Появилась Груша с веником и совком. Настя чувствовала, что должна сказать еще что–то, поучаствовать в странной этой неприятности, но ее утащил за рукав дядюшка с почти неприличной силой.
— Идем, Настенька, идем, мне срочно нужно тебе что–то сказать.
Теряя равновесие, и физическое и душевное, девушка последовала за ним. Единственное, что она позволяла себе, так это повторять вопрос, повторявшийся ею за
последние дни многократно: «Да что это с вами, дядя Фаня?»
Только вытащив девушку из дома на веранду, а с веранды в тень большого жасминового куста, он изволил отпустить ее рукав.
— Сейчас мы пойдем в каретный сарай, — шумно дыша, сообщил он.
— Зачем это?! — сделала она широченные глаза. — Я не хочу в каретный сарай.
Движением, взятым из собственного видения, Афанасий Иванович освободил шею от шелковой парижской удавки. Грудь его вздымалась, капли пота наперегонки бежали по бледным щекам. Но заговорил не он, а профессор.
— Доброе утро, — проскрипел тот, появившись из–за куста. Он не был расположен шутить, но счел, что светский человек, внезапно застав кого–либо за тайной беседой, обязан разрешить микроскопическую неловкость ситуации какой–нибудь шуткой. Пусть и банальной. — О чем секретничаем в такую рань?
— Вовсе мы и не секретничаем, — непреднамеренно солгала Настя.
Но профессор не обратил на ее ответ внимания. Он молча проследовал на встречу с истребительницей фарфоровых хронометров.
— Идем, Настя, идем. — Афанасий Иванович вновь вцепился во все тот же рукав.
— Отпустите, дядя Фаня. Почему я должна идти в сарай? Вы сегодня какой–то… — Посмотрев в лицо дядюшки, она не закончила возмущенную речь и даже почувствовала, что ее возмущение замещается другим чувством. — Ну ладно, пошли. И отпустите рукав. Ей — Бегу, смешно выглядит со стороны.
— Хорошо, хорошо, только скорей!
Василий Васильевич был занят своим раздражением в адрес профессора; Марья Андреевна — поправлением постели Тихона Петровича; Груша — осколками часов; Зоя Вечеславовна и Евгений Сергеевич — неприятною беседой; Калистрат — ехидным наблюдением за притворщиком Авдюшкою; Саша Павлов и Галина Григорьевна — сном. Некому было обратить внимание на чудовищное по своей подозрительности дефилирование странной парочки в сторону каретного сарая. Впрочем, один герой забыт в перечислении.
Отодвинув задвижку, Афанасий Иванович образовал довольно узкую щель, пропустил внутрь Настю, самым преступным образом огляделся, нет ли свидетелей, и скользнул следом за девушкой.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Напряженно пыхтя, Афанасий Иванович расстегнул ремни, которыми крепился на запятках брички объемистый кожаный ящик для поклажи.
— Даже рискуя, может быть, показаться вульгарным вором, я решился на этот эксперимент. Вот, Настя, подержи крышку…
Бледные от волнения руки дяди Фани нырнули в темноту ящика…
— Вот!
…извлекли оттуда нечто завернутое в тряпицу. Тряпица была тут же Удалена, и к тусклому оку запыленного окошка были поднесены немецкие фарфоровые часы, только что погибшие на полу у двери Настиной комнаты. Они были в полной целости и сохранности и отличались от «тех» только тем, что молчали.
— Что это, дядя Фаня? — прошептала потрясенная Настя.
— Украл! Стащил! Уволок с полки тихо нынче ночью и запрятал в ящик!
— Я про другое.
— Про какое другое?
Не отвечая, Настя медленно села на подножку брички и
медленно же обхватила голову руками.
— Что это происходит? Что тут у нас происходит?! Мне сейчас стало… — Она помолчала. — Мне сейчас стало очень вдруг жутко. Эти ваши… видения, а теперь часы. Обессиленно опустившись рядом, Афанасий Иванович продолжал нянчить на руках необъяснимый феномен.
— Это, конечно, смешно, я понимаю. Может показаться, что я принял угрозы этого мужика всерьез, что я поверил, будто он меня через некоторое время зарежет в «розовой гостиной». А самое забавное, что немного действительно поверил. Поверил! Себе я говорил — когда крал часы, — что я это просто в качестве эксперимента. Ведь они мне виделись так отчетливо. Любопытно посмотреть, что будет, коли их удалить с полки, как это повлияет на видение. Хотел я даже, может быть, посмеяться над моим видением. И за это, кажется, наказан.
— Что значит наказан?
— Как бы тебе сказать… — Дядюшка тряпицею, укрывавшей часы, вытер лоб, загривок, шею. — Я считаю, что мне дан знак.
— Знак?
— Он. Мне сообщается, что западня, о которой мне дали представление двумя способами: при помощи угроз Фрола и моего видения, — эта западня много прочнее, чем я мог подумать.
— Какие слова — западня, знак…
— Можно, Настенька, и по–другому назвать, но только Зоя Вечеславовна показала, что мне не вырваться.
— Она просто не в себе, дядя Фаня, вы сами помните, как она упала тогда, с Фролом. Она несла их к себе в комнату, испугалась музыки и выронила. Афанасий Иванович то ли закашлялся, то ли слишком саркастически засмеялся.
— Несла! Держала! Испугалась! А где она их взяла?! А, Настя? Часы лежали здесь, в ящике, с того самого момента, как я их украл, с четырех примерно часов утра. В три мне «привиделось» мое убийство, а в четыре я их украл. А потом мучился до восьми, стыдясь к тебе постучать. Я специально кинулся проверять, что с ними, и тебя захотел в свидетели. Потому захотел, что, в частности, боялся, что трогаюсь слегка рассудком моим. Все же очень сильное на меня произвела впечатление та сцена возле камина.
Настя, повинуясь смутному порыву, встала с подножки и отошла к окошку, поближе к свету и подальше от темноватых речей дядюшки.
— Не хочешь ли ты сказать, что Зоя Вечеславовна во всем этом как–то замешана?
— Я уже сказал это. Ты сама видела разбитые ею часы.'Я только не знаю, как назвать ее участие, и начинаю содрогаться, когда размышляю над этим.
— Дядя Фаня, тебя стало трудно понимать.
— Не мудрено, раз оно такое трудное, то, что я хочу словами изъяснить. Но ты девушка умная, к тому же и сама кое–что чувствуешь, правда? Не отпирайся, давеча со мной о временах каких–то рассуждала, помнишь, на мостках? Ты еще корила меня за нечуткость и нетонкость. Сейчас во мне этой тонкости хоть отбавляй. Буквально рвется все внутри.
Приступ удушья прервал сбивчивую речь. Опять пошла в ход тряпица. Афанасий Иванович попытался встать, ему хотелось подойти к Насте поближе, ему казалось, что она не полностью его понимает, потому что стоит слишком далеко.
— Да что вы меня корить пытаетесь, дядя Фаня! Я же сразу сказала, что мне жутко стало при виде этих целых часов. Не понимаю почему, а очень жутко. Я, может быть, сама бы на твоем месте украла их. Чтобы проверить. Но главное тут — что проверить, что!\ Дыхание Афанасия Ивановича успокаивалось.
— Я еще, сказать по правде, надеюсь, что у этой истории
было простое объяснение, и мне весьма стыдно думать о Зое Вечеславовне как о какой–то дьяволице. Бред, наваждение. Хорошенько потрясти бы головой, и все долой!
— А мы этим и займемся.
— Чем это? — с большой подозрительностью спросил дядюшка.
— Мы будем искать «простые объяснения».
— Н-да, хорошо бы.
— И потом, — Настя попыталась придать голосу беззаботно–игривое настроение, — если уж вас так беспокоят ваши видения и угрозы Фрола, уезжайте из Столешина на то время, когда угрозы должны осуществиться.
— Время, время, — Афанасий Иванович нервно постучал по фарфоровому пивовару, и из глубин механизма встала недовольная звуковая тень, — ведь не говорит этот аспид, когда! А ты его еще так отстаивала. Знает небось, а не говорит. Почему, спрашивается, а? Хочет, чтобы я непрерывно кошмарами маялся и в конце концов съехал навсегда.
— Он просто не знает, неграмотный. Мог бы сказать — сказал бы.
— Вот ты опять его защищаешь, опять! А каково мне, тебя не волнует вовсе.
— Эко вы поворачиваете. Не надо. Он всегда говорил, что Афанасий Иванович хороший барин, что убивать он вас никак не хочет. Он мучается, поверьте, свечки ставит, молится.
— Ты его еще и жалеешь. Ведь это меня надо жалеть, а не его, меня зарежут, ты хоть это прими во внимание. Не любишь ты меня вовсе.
— Неправда, ну что вы, дядя Фаня. Я вас больше всех люблю, и мне горько, когда вы бываете нехороший. Афанасий Иванович помотал головой.
— Станешь тут нехорошим.
— Идем купаться, да? — Саша, жадно зевая, подошел сзади к стоявшему у окна Аркадию, тот глядел сквозь рыхлое сиреневое облако на двери каретного сарая. — Чего ты задумался, Аркадий?
— Да есть от чего онеметь. Тебе не кажется, что в нашем Богом спасаемом имении происходят престранные вещи? Деликатный Саша пожал плечами.
— Я давно обратил внимание, но это, можно сказать, не мое дело. А кроме того, у меня тут поле деятельности открылось. Я ехал сюда с определенными надеждами, но чтобы такие богатства!
— Это ты о наших болотах, что ли?
— О них, о них.
— Завидую тебе. Все у тебя разумно и объяснимо, а мне вот какие–то вещи кажутся весьма странными.
— Странен предмет, о котором мы не имеем достаточно сведений, и поэтому…
— Ой, не надо, Сашенька, не надо, давай свернем с этой дорожки. Мы и так уже, пожалуй, превратились в банальную пару персонажей; один, видите ли, боготворит ум, другой в противовес ему живет сердцем, но при этом их неудержимо тянет друг к другу.
— Лед и пламень?
— Видишь, даже тебе понятно.
— Да ладно, идем купаться же.
Василий Васильевич возвращался к себе во флигель, пребывая в неплохом расположении духа. После разговора с профессором у него создалось впечатление, что он в этом разговоре победил. Он шел, дразня свернутой газетой лопухи, и улыбался, что–то бормотал себе под нос, наверное, мысленно добивая призрак своего противника. Он спешил рассказать обо всем супруге, он ощущал себя охотником, волокущим в пещеру хорошую добычу. Галина Григорьевна, пожалуй, уже проснулась и нежится, как всегда в этот час, в постели, завороженно и мечтательно наблюдая возню световых пятен на белом потолке и уносясь женскою мыслью в места, которые кажутся мужчинам несуществующими.
Генералу суждено было ошибиться. Жены не было в постели.
Жены не было во флигеле.
Настроение Василия Васильевича испортилось. Сочная добыча обернулась падалью.
Что бы могло означать это отсутствие? Завтракать — щелкнула крышка часов — еще рано. Ушла гулять? В тот самый момент, когда генерал ощупывал руками остывшую постель Галины Григорьевны, профессор попал в объятия Зои Вечеславовны. Только переступив порог комнаты. Жена обнимала его страстно, почти исступленно. Евгений Сергеевич был сбит с толку. Не то чтобы он отвык за годы супружества от такого проявления чувств, в их браке подобные проявления просто не был| заведены. Союз интеллектов, а не совокупление тел, чем должна быть признана их семейная жизнь. А тут объя тия, поцелуи, слезы. Евгений Сергеевич всегда (и спра^Ц ведливо) считал, что как экземпляр мужчины сильно'? уступает жене как представительнице женского пола. Ему эта вспышка телесной приязни с ее стороны была приятна, но и пугала. И испуг усиливался при воспоминании о недавнем припадке. «Милый! Любимый! Женечка! Родной мой! Что же теперь делать? Жизнь моя!» — такие и подобные им слова продолжали сыпаться на Евгения Сергеевича. Он в порыве особого рода честности попытался отстраниться, как бы показать, что ласки и чувства эти не заслужил. И объяснил, почему так считает.
— Зоинька, я, кажется, все испортил.
— Что ты говоришь, родной?
— Я поссорился с Василием Васильевичем. Он теперь настроен против нашего замысла. Мы не купим эту квартиру. Зоя Вечеславовна, всегда с легкостью понимавшая суть самых запутанных и специальных вопросов, выказала на этот раз полное нежелание и неумение что–либо понять. Она снова бросилась мужу на грудь и снова забилась в приступе приязни. Это наконец вывело профессора из себя, и он сказал чуть недовольно, гладя, впрочем, жену по волосам:
— Извини, Зоинька, но ты так… говоришь сейчас, будто я в гробу, а ты со мной прощаешься. Она замолкла и настолько внутренне сжалась, что это почувствовали даже обнимающие руки Евгения Сергеевича. И он тоже внутренне сжался. Он коснулся ее глубокой тайны, почувствовал это и испугался. Зоя Вечеславовна осторожно, но безапелляционно высвободилась из семейственных объятий, отошла к кровати и села на нее, сложив руки на коленях.
— Насчет денег не беспокойся. Они их нам отдадут. Квартиру мы купим. И даже не в Берлине, а в Париже.
— Что с тобой, Зоинька?
— Что со мной будет, я не знаю. И, кажется, уже не узнаю. А что будет с тобою, я не могу сказать.
Еще только приближаясь к выходу из сада, Василий Васильевич услышал человеческий смех. Он доносился со стороны пруда. Какое гулкое место — пруд, подумалось ему, и он выскочил на открытое пространство. Вот оно что!
Галина Григорьевна стояла (в белом платье, с летним полупрозрачным зонтом, наклоненным на левое плечо) на краю лодочной пристани и хохотала. Развлекали ее молодые люди, сидевшие в лодке у ее ног. Василий Васильевич, прекрасно понимая, что поступает глупо, побежал вниз по тропинке, страшно ступая мощными ногами и хватая воздух пещерою рта. Бакенбарды тряслись. Он вылетел на мостки, где давеча беседовали Настя и Афанасий Иванович, и вынужден был остановиться, комкая от бессилия одной рукою «Биржевые ведомости», все еще остававшиеся при нем. Страшная штука ревность. Вдвойне она тяжела, когда ревнуешь любимую и глупую молодую жену к собственному сыну, симпатичному балбесу.
К счастью для генерала, дальнейшие обстоятельства сложились так, что он не выглядел полностью потерявшим лицо. Почти сразу вслед за его покорением мостков скатился от садовой ограды Васька, брат кучера Авдюшки, с сообщением, что «барыня Марья Андреевна всех кличут для дела».
Веслолюбивые студенты наконец заметили, что на противоположной стороне пруда кто–то есть. Тут сгодилась казавшаяся бессмысленною газета. Помахав ею, генерал объяснил гуляющей (гулящей?) и купающимся, что их ждут наверху, в доме.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Евгений Сергеевич поправил манжеты так, чтобы они выглядывали на один дюйм из рукавов сюртука. Он знал, все напряженно ждут, когда он заговорит, что надобно выдержать паузу. Это оттенит и важность и странность момента. Место действия — разумеется, веранда. Время — второй час пополудни: в креслах возле большого обеденного стола сидятЗоя Вечеславовна, Галина Григорьевна, Марья Андреевна и Василий Васильевич; на ступеньках, прислонившись спиной к косяку, — Саша. Стоят: Настя и Груша. Одна у окна, другая у дверей, ведущих в глубь дома. Евгений Сергеевич прохаживается, наклонив голову, как это было заведено у него в лекторской практике. Нужно, чтобы как можно больше мыслей собралось в лобную часть головы.
— Прошу отнестись к тому, что я сейчас скажу, с максимальным вниманием и, по возможности, без предубеждения. В последние дни открылись некие факты в жизни нашего Столешина…
— Вы про эти несчастные часы? — громко спросил генерал. Он постарался, чтобы его вопрос прозвучал не только громко, но и насмешливо. Его раздражало то, что профессор снова овладел всеобщим вниманием. Однако реакция остальных столешинцев на его выпад дала ему понять, что никому он сейчас не интересен со своими выпадами. «Некие факты» занимали общее воображение больше.
— Насколько я могу судить, все странности начались с этого мужика Фрола Бажова, с неизвестно откуда явившейся ему идеи, что вскоре или, вернее сказать, некогда он убьет нашего милейшего Афанасия Ивановича. Под воздействием этой идеи он явился сюда, инсценировал с помощью некоторых наших друзей что–то вроде медиумического сеанса… Василий Васильевич покраснел, но промолчал.
— Результатом этого спектакля были особого рода сновидения, поразившие все того же Афанасия Ивановича.
— Это был не сон, — сказал дядя Фаня из своего кресла.
— Ну, скажем так, это было не сновидение, а видение, ведь вы, если не ошибаюсь, утверждаете, что всё это видели.
— Утверждаю.
— Сначала был обморок Зои Вечеславовны, — мрачно поправила Настя.
Все поглядели на нее и были весьма поражены ее видом. Губы сжаты, под глазами круги, в глазах непонятно к чему относящаяся скорбь. Она что–то знает, предположили некоторые, но никому неохота была задумываться, ибо хотелось следить за рассуждениями профессора. Его поза и тон обнадеживали.
— Верно, сначала был обморок Зои Вечеславовны, — сказала Зоя Вечеславовна, неожиданно перебивая мужа. — К тому же я должна заметить, что эти три явления связаны между собой.
— Три явления?
— Да, генерал, три. Бредовая идея мужика, нелепое сновидение…
— Это был не сон.
— …Афанасия Ивановича и мой дурацкий обморок.
— Мы забыли еще кое–что, — сказала Настя.
— Что? — повернулись к ней.
— Например, заявление Тихона Петровича, что он непременно умрет в конце этого месяца.
— И Калистрат, — подал вдруг голос Саша. Все были очень удивлены его вмешательством. Смущенный Саша пояснил:
— Он ведь все ходит по имению и всем рассказывает, что через месяц пойдет на каторгу.
— Глупый мужицкий кураж, — несколько нервно отрезал профессор, — а что касается Тихона Петровича, тут у меня тоже есть объяснение. Человек, достигший преклонных лет, довольно часто ощущает приближение смертного часа. Это в известной степени говорит о, так сказать, полноценности его душевного состава. О зрелости души. У средневековых европейских народов существовало устойчивое поверье, что знание своего часа и смерть в своем доме среди родных и близких (двоюродных и жадных, подумал кто–то) при заранее приглашенном священнике — это не что иное, как счастье. Напротив, смерть случайная, а пуще того — смерть на чужбине, — это позор. В Венгрии, например, умерших внезапно хоронили в церковной ограде только за особо внесенную плату.
— Я не знаю, как там обстоят дела в Венгрии или Австрии, герр профессор, — улучил момент для контратаки генерал, — только Тихона Петровича я попрошу не примешивать ко всей этой чертовщине. Евгений Сергеевич примирительно развел манжетами.
— Совершенно с вами согласен. Собственно, я и сам утверждаю, что никакой мистики в том, что Тихон Петрович знает о своем часе, нет. И конечно, мы его не станем касаться в наших в общем–то праздных рассуждениях. Также я предлагаю отринуть и болтовню Калистра–та. По соображениям, правда, другого рода.
— По каким? — не желая идти на полное примирение, спросил Василий Васильевич.
— Хотя бы для того, чтобы не нарушать чистоту эксперимента, как говорят ученые. Больше возражений не последовало.
— Вы согласны со мной, коллега? — к Саше Павлову. Рыжая голова стыдливо кивнула.
— Вот и славно, вернемся теперь к тому пункту в нашем рассуждении, в котором мы свернули с прямого пути. Итак, мы имеем дело с неким аффектом, подразумевающим, смею утверждать, общую причину. О ней и пойдет речь.
— Это часы, — вздохнул Афанасий Иванович, вытаскивая свой карманный хронометр.
— Правильно, часы. Фарфоровый немецкий пивовар с бочонком под мышкой, что стоял на каминной полке в «розовой гостиной». Его узнал Фрол Бажов во время путешествия по дому. Он же отчетливо приснился, прошу прощения, привиделся Афанасию Ивановичу. И он же, наконец, вызвал страшную, необъяснимую неприязнь у Зои Вечеславовны.
— Да, да, мне вдруг нестерпимо захотелось с этими часами расправиться. Изувечить, истребить! — быстро сказала профессорша, причем сказала уверенно, без малейшего надрыва. Сказала и закурила, но руки у нее при этом ни в малейшей степени не дрожали.
— А я их просто украл, — тихо признался дядя Фаня.
— Ну что вы, — поспешил ему на помощь Евгений Сергеевич, — что вы, какое же это воровство? Это опыт. Вы просто хотели проверить, что станется с вашим видением, ежели оно захочет повториться, когда из него будет удален главный элемент. Правильно?
— Правильно, — согласился, но без жара, Афанасий Иванович.
— Признаться, окажись я на вашем месте, пожалуй, повел бы себя похожим образом.
— Сначала я хотел их выбросить в пруд, а потом спрятал в каретном сарае.
— В пруд было бы надежнее, — усмехнулся генерал. Дядя Фаня поднял на него печальные, покорные глаза.
— Нет. Пруд могут осушить. Когда–нибудь. И найти часы. Без меня. И поставить на полку. А спрятанные можно в любой момент пойти и разбить. Вдребезги.
— Ну так Зоя Вечеславовна их и разбила, — генерал встал, разминая затекшие плечи, — насколько я слышал, именно вдребезги. Наступила длинная и чем–то очень неприятная пауза.
— Это были не те часы, — прошептал дядя Фаня.
— Не те? — одновременно спросили несколько человек.
— Не те, — громко объявил Евгений Сергеевич, торжествующая нота дребезжала у него в горле, — да, должен признаться, какое–то время я и сам был смущен, увидев в руках Афанасия Ивановича целехонький «краденый» экземпляр. Ведь буквально за полчаса до этого Зоя Вечеславовна подробно рассказала, что она сделала со своим экземпляром. Потом меня пронзила одна мысль, и я ринулся в «розовую гостиную».
Евгений Сергеевич сделал подобающую паузу. Кто–то должен был не удержаться и спросить: «Что же вы там увидели?» Не удержался генерал.
— На каминной полке стоял третий экземпляр.
Груша и Галина Григорьевна одновременно и испуганно вскрикнули.
Профессор победоносно улыбнулся в их сторону.
— Я тоже был на грани испуга или чего–то в этом роде. Но, слава Богу, все разъяснилось. С помощью… Евгений Сергеевич юбилейной походкою подошел к Марье Андреевне, молчавшей все это время, и, подчеркнуто поклонившись, поцеловал ей руку. Потом распрямился и объявил:
— Двадцать лет назад на гамбургской выставке у Тихона Петровича зашел спор с одним местным буржуа. Спор о том, кто из них сильнее. Физически. Сели они за стол друг против друга и схватились за руки, кто, мол, кого положит. Тихон Петрович поставил на кон свой великолепнейший выезд. Буржуа этот, оказавшийся часовщиком–фабрикантом, — партию своих самых ценных произведений. Очень был уверен в своих силах. И зря. Одним словом, вернувшись с ярмарки, Тихон Петрович, выставив один хронометр как напоминание о великой победе на каминную полку, остальные одиннадцать схоронил в чулане. Со временем о коробке все забыли, кроме, разумеется, Марьи Андреевны. Этому чулану мы и обязаны нашими столь необычными переживаниями. Кое–кто облегченно заулыбался. Далеко не все. Зоя Вечеславовна, несмотря на очевидный триумф своего мужа, не выказала никаких признаков улучшившегося настроения. Горничная Груша тоже. Профессор закончил объяснение:
— Марья Андреевна — добрая душа. Каждый раз, обнаружив пропажу, она не затевала розыска, щадя чувства похитителя. Что–то ей подсказывало, что надо повести себя именно так. Отсюда и произошла наша столешинская мистика.
Казалось бы, все — можно радоваться, но тут встал со своего места Афанасий Иванович. Он был то ли смущен, то ли взволнован, а может быть, переполнен смесью этих чувств.
— Если, Марья Андреевна, вы… так способны понять переживания, скажем, мои, из–за этой глупой истории и путаницы и верите, что испытываю я настоящее страдание, а не просто блажь… — Он запнулся.
— Что вы хотите сказать, Афанасий Иванович? — раздался громкий шепот хозяйки дома.
— Отдайте мне все часы, приз Тихона Петровича. И я их все разобью.
— А я охотно помогу, — сказала Зоя Вечеславовна, — хотя и подозреваю, что это бесполезно. Марью Андреевну, кажется, немного смутила просьба двоюродного брата, она задержалась с ответом. Брат истолковал это молчание по–своему.
— Я заплачу, разумеется, заплачу за все, даже за тот экземпляр, что разбила Зоя Вечеславовна.
— Боюсь, что мне придется заплатить самой, — загадочно усмехнулась профессорша. — И не мне одной. Весьма заметное неудовольствие выразилось на лице Евгения Сергеевича. «Столешинская мистика», столь неотразимо им только что разоблаченная, не желала рассеиваться. Особенно досадно было то, что способствует этому драгоценная супруга.
— Конечно, берите, — всплеснула руками Марья Андреевна, — неужто вы думаете, что я стала бы требовать с вас деньги? Бог с вами. Да и Тихон Петрович бы не одобрил.
— Спасибо, сестрица, — прочувствованно сказал Афанасий Иванович. К нему бесшумной тенью подошла Настя.
— Прикажете прямо сейчас, дядя Фаня?
— Прикажу, обязательно прикажу, — горячо закивал тот, — часы эти будем истреблять, не теряя ни одной секунды, а то как бы, боюсь, они не разбежались. Судя по всему, они живут какой–то своей жизнью.
— Авдюшка, Калистрат! — кликнула Настя, выйдя на ступени веранды. Там она столкнулась с наконец–то появившимся Аркадием.
— Что случилось, пожар? — пошутил он. Не обращая на него внимания, Настя побежала в сторону каретного сарая.
— Однако как тебя туда тянет, — усмехнулся ей вслед кузен и стал подниматься по ступеням. (Василий Васильевич при появлении сына поморщился.)
— О, все в сборе, а я только что со станции. Там, знаете, какие–то новые веяния. Буфетчик Николай — так тот прямо мне сказал: быть, вашбродь, войне. Даже сквозь легкое опьянение, привезенное со станции, Аркадий ощутил необычность настроения на веранде.
— Ну, у вас тут, я вижу, тоже новые какие–то идеи завелись. Он наклонился к уху Саши Павлова и прошептал:
— Ни мне письма, ни тебе книг, скверно работает почтовое ведомство. Хотя оно и понятно — войне быть. Теме этой не суждено было продолжиться, потому что перед ступенями веранды появились Авдюшка и Калистрат, они несли продолговатый нерусского вида ящик, снабженный для удобства специальными ручками. Настя указала, куда его поставить. Поставили — зачем–то с величайшей осторожностью. Подняли крышку. Внутри, засыпанные до подбородка серыми от времени опилками, сидели фарфоровые пивовары. В предвкушении необычного зрелища публика покинула свои насиженные места и приблизилась к окнам. Открылись рамы, откинулись занавески.
Евгений Сергеевич, напротив, сел к столу и принялся наливать себе чай. Чай был холодным, это каким–то образом укрепило его во мнении, что прав все–таки он. Афанасий Иванович медленно, но неукротимо снял свой короткий домашний пиджак и не глядя передал назад — оказалось, на руки единственному здесь пьяному, Аркадию то есть. После этого он медленно, зная цену каждому шагу, пошел на гамбургский ящик. Он чувствовал, что в нем есть что–то от палача в этот момент, и был рад этому.
Авдюшка за время наступления успел сбегать к дворницкой и вернулся с топориком. Молчаливый Афанасий Иванович принял орудие расправы, взвесил в барской руке, обернулся к зевакам и, криво улыбнувшись, пошутил:
— Мы не убивцы.
Замечание вызвало бурную реакцию только в Аркадии, он, размахивая пиджаком, подбежал к ящику:
— Мы не убивцы, убивцы не мы.
Афанасий Иванович почти брезгливо отверг его каламбурную помощь, наклонился, наливая кровью лицо, и, схватив первые часы за голову, вырвал на свет. Подержал на весу облепленную прахом скульптурку. Философски бросил ее на гравий и тут же обрушил сверху неотразимый обух.
По лицам наблюдающих пробежала волна неодинаковых переживаний.
За первым Гансом последовал второй, а может, это был уже Фридрих. А потом Франц, и Юрген, и Генрих, и Йоган. Не все умирали с одного удара, иногда требовалось и два, и четыре. Только четные получались четкими. Полезные и забавные немецкие механизмы, превращаясь в безнадежное крошево, предсмертно ныли освобожденными пружинами. Осколки разлетались в стороны. Один, самый мстительный, вонзился не отошедшему на безопасное расстояние Аркадию в то место на левой руке, к которому мы прикасаемся, нащупывая пульс. Афанасий Иванович, напоминая себе уже даже не палача, а некое совсем уж первобытное существо, припал губами к этой родственной ране, останавливая кровь.
— Браво! — закричало сразу несколько голосов.
— Ну, дядь Фань, — восхищенно воскликнул спасенный юноша.
— Это просто античная баталия, — сказал Василий Васильевич.
Победитель отшвырнул топор, церемонно, все еще остро ощущая собственный общественный вес, принял свой пиджак и проследовал туда, где, судя по всему, пред-; стояло отпраздновать успешное окончание дела. Может быть, даже с шампанским отпраздновать. Когда начал смолкать первоначальный вихрь иронических (и необязательно) поздравлений и восхищенных комментариев, раздался хрипловатый, как бы дополнительно охлажденный остывшим чаем голос профессора:
— Я бы на вашем месте, господа, послал бы кого–нибудь в «розовую гостиную». Насколько мне известно, тот экземпляр, что усилиями нашего Геракла совершил вояж в каретный сарай, находится там. Классическая сцена всеобщей немоты. Настя бросается вон с веранды.
Зоя Вечеславовна саркастически закашливается и отбрасывает папиросу.
— Бьюсь об заклад, что их там уже нет.
— Почему?! — Огромные испуганные глаза Афанасия Ивановича.
— Их кто–то украл, чтобы подставить на каминную полку в нужный момент.! Холода добавил генерал:
— А мне и другое кажется странным: почему мы, господа, не подумали о том, что немец мог после поражения от Тихона Петровича наделать себе еще пару дюжин таких часиков. Может быть, какие–нибудь из них захотят явиться в «розовую гостиную» с жаждой, так сказать, мести. Вещи, мне кажется, имеют свою душу. Евгений Сергеевич, хоть и был сердит на дядю Фаню за его шаманский шабаш, счел нужным во имя научной честности воспрепятствовать этой тихой травле.
— Насчет этого вашего немца, Василий Васильевич, мы можем быть спокойны.
— Отчего же такая безапелляционность? — все еще любуясь высказанной им мыслью, поинтересовался генерал.
— Потому что наш Тихон Петрович не просто победил часовщика, а жутким образом повредил ему руку, так что оный принужден был оставить профессию. Само собой разумеется, что соответствующая компенсация была ему выплачена. И даже сверх того.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Странна столешинская ночь
Так думал, например, Афанасий Иванович, стоя у открытого в нее окна. Яблони, подкравшиеся к нему на расстояние вытянутой руки, казались теплокровными существами. Не умея собственными силами дотянуться до мученика в роскошном халате и убаюкать его, они выпускали в его сторону беспорядочных страстных ночниц. Те, приятно попорхав перед его лицом, уносились внутрь комнаты к классическому предмету своих вожделений — свече.
Афанасий Иванович с удовольствием улегся бы спать, но страх комкал его постель. Он знал, что убивец является не во сне, но боялся заснуть. Глупо? Безусловно! Афанасий Иванович знал это. многократно доказывал это себе на пальцах логики, но верить себе по–настоящему не начинал. История с последними каминными часами разрешилась удачно, вредоносной хронометрической гидре отсечена была последняя голова. Собственноручно, хотя и топорно. Но все равно в душе один лозунг: нет сну!
Не спал и господин генерал. Он лежал в темноте с мирно посапывающей Галиной Григорьевной и думал о ней. Думал нехорошо. Думал и о себе, и тоже непохвально. И очень литературно. Зачем он, седой бывалый человек, прельстившись свежестью и непосредственностью… Старик, женившийся на молоденькой, всегда глуп. Да и то сказать, свежесть оказалась отчасти искусственной, а непосредственность прикрывала явную посредственность ума и чувств.
Но, окорачивал он себя, во–первых, он далеко не старик, а во–вторых, Галина Григорьевна должна быть обязана ему за то, что он вытащил ее из этого таганрогского вертепа, называемого театром. Без таланта, без покровителя, без капли мозгов в голове — на что она была обречена?! Говорила, что обручена — ложь! И, главное, никаких следов благодарности — ни в словах, ни в поведении.
Но вместе с тем и сынок хорош! Зачем надевать этот омерзительный костюм? С какой целью он так полосат?! Зачем купаться в пруду?! Невозможно запретить, но и невозможно объяснить, — зачем бросать этот вызов? Ночь, глухая ночь была и в сердце генерала, и в сердце среднерусской возвышенности (сердцерусской?). Профессор не спал потому, что работал. Зоя Вечеславов–на раскритиковала несколько мест из его последних сочинений, и теперь, склонившись над текстом, он постепенно, без обычной, правда, благодарности осознавал, что критика эта резонна. Как она все–таки умна, Зоинька. Но, однако, эти эксцессы! Необъяснимые обмороки, они пугают. Зоя Вечеславовна всегда казалась и самому Евгению Сергеевичу, и общим знакомым человеком с приятным набором милых странностей. Они лишь подчеркивали глубину и оригинальность ее характера. Не более. Оказалось, что более. Не есть ли это болезнь? — спрашивал себя Евгений Сергеевич, стыдясь при этом, что способен такое думать — хотя бы и в интимном мраке своей души.
Не спали и юные петербуржцы. Не спали по–разному. Гость лежал с открытыми глазами и улыбался. Он что–то понял. Ему открылась бездна, но не испугала его, а показала какую–то научную драгоценность. Пусть и на шестипалой ладони.
Разумеется, завтра же необходимо ехать в Петербург. Только там можно достать все нужные реактивы и оборудование для постановки опыта. Да что там реактивы… Саша повернул голову в сторону отбившегося от науки товарища. Но видимее от этого товарищ не стал. Значительно проще было рассмотреть детали будущего открытия. Что это с Аркадием происходит, подумал естествоиспытатель и сам удивился, что способен думать подобным образом и тратить понимательные способности на то, от понимания чего дело не продвинется. Но он был благодарен ему за столешинские болота. Ах, болота, болота, торфяные толщи, хвощи, корневища, в этой толщи гниющие. Сбежав по ступенькам внезапной и ненужной аллитерации, он вновь оказался по щиколотку… И тут Аркадий неожиданно сел на кровати. Невидимо, но явно. Саша хотел его окликнуть, чувствовал, что окликнуть, пожалуй, даже стоит, но не сделал этого.
Скрипнула кроватная рама, и привиденьевого типа фигура встала во весь свой приблизительный рост. Царапнул лапой по полу стул. Ночная рубаха поглотила себя халатом. Все движения были медленными и бесшумными. Бесшумными потому, что медленными. И вдруг… Подразумевающийся халат сделал резкий выпад в сторону открытого июльского окна, оперся рукавом на подоконник и вылетел в ночь. Та приняла его полностью, не выдав ни единым звуком.
Выйдя из затаенного состояния, естествоиспытатель тоже опустил ноги на пол. Аркадий знал, что за ним наблюдают? Куда он побежал? И что теперь делать? По крайней мере, стоит подойти к окну. Саша подошел. Не без опаски положил ладони на прохладный подоконник. Медленно наклонился вперед, живо вращая при этом глазами. Если Аркадий затаился под окном или поблизости, хотелось увидеть его первым. Неизвестно зачем, но хотелось. Но все эти странные предосторожности не имели никакого смысла, потому что Аркадий был далеко от окна. Он бродил по саду, беспорядочно разводя слепыми руками ветки, топча травы, задевая то правым, то левым плечом яблоневые стволы. Не в поисках чего–то, без какого–либо маршрута. Иногда он останавливался и задирал лицо к небу. Лицо блестело от слез, а сквозь крепко сцепленные челюсти прорывалось то ли рыдание, то ли рычание. Он явно о чем–то вопрошал эти сочетания блестящих точек наверху, и виделось ему нечто вроде осмысленного и обнадеживающего ответа там. Если бы только не эта псевдопрозрачная, как сильное опьянение, туча, наползающая справа! Вот уже скрыты ею самые достоверные созвездия, и это заставляет все сильнее сотрясаться от бесшумных страданий исцарапанную яблоневыми когтями грудь.
Все! Небесная картина искажена и загажена. Там тоже уже нет правды. Шатаясь от горя, Аркадий двинулся дальше. Огибая особенно разросшееся растение, забрел на неуместную в такой темноте клумбу, растоптал ее, выб–рел на очередную лужайку, и тут вдруг земля зашаталась под ним, зашаталась и разверзлась. Он с глухим утробным криком рухнул вниз. Не сразу он сообразил, что наткнулся на заброшенный гамак. Некоторое время он позволял делать с собою все что угодно. Перевернулся, скуля, на спину и попытался вновь обратить взор к небу. Но ничего не получилось. Теперь мешала не только туча; изволила выйти еще и луна. Что она способна сделать с ночным садом, известно. Аркадий заметался, чтобы не слишком бросаться ей в глаза, почувствовал благодарность к гамаку, который перестал раскачиваться. Ему был виден бедно освещенный угол дома в проеме между двумя кронами. В стене имелся прямоугольный провал. Окно. Ах вот оно что, прошепталось внутри. Не могло быть никаких сомнений, что окно это уготовано именно для него. Умеющий выпрыгнуть из окна в ночь по справедливости должен обладать правом забраться в него. Освободившись из провисшей сети, Аркадий двинулся на черный прямоугольный зов. Он не думал о том, к чему приведет этот подсказанный высшими силами лаз, хотя и знал, к кому.
Не раздумывая и не сомневаясь, лишь слегка дрожа от нетерпения, он схватился за подоконник, подтянулся и одним движением внырнул внутрь, собрался с собою на шершавом узком половике и на четвереньках двинулся к бесшумной девичьей кровати.
Марья Андреевна выбежала из спальни и несколько раз дернула за веревку, посылая в спальню горничной испуганный звонок.
Калистрат локтем толкнул жену в бок: — Не слышишь, барыня кличет.
Груша вскочила, помотала спросонья головой и начала натягивать через голову юбку.
— Ишь ты, как будто и впрямь спала, — ехидно сказал муж. Привыкшая к его неизменному (низменному?) ехидству Груша отвечать не стала.
— Кто здесь?
Настя оторвалась от подушки и одним паническим движением влипла спиной в настенный коврик.
— Это я, не бойся, я!
— Аркадий?! Зачем ты здесь?!
— Я тебе все объясню.
— В халате?
— Ты пойми и не кричи.
Он схватил ее за руки, как будто именно их нужно было успокоить прежде всего. Настя руки, наоборот, вырывала, полный контроль над ними был ей важен в этот момент.
Аркадий говорил. Сбивчиво, жарко, с шепотом и рыданиями. Невозможно описать, какую он нес чепуху. В основном про Мазурские болота. «Везде, черт их раздери, эти болота!» Часто упоминал о девятнадцатом августа. «Не когда–нибудь, Настя, не когда–нибудь, пойми, а именно девятнадцатого августа!» Он настаивал, что от его «взвода» не останется никого. При этом продолжал ловить ловкие Настины кисти и проявлял намерение взгромоздиться на узкое ложе невинности.
— Какие болота?! Какой взвод?! Что тебе от меня надо?! Ты пьян!
— Мазурские, Мазурские, возле местечка Пшехонцы. Все местечко одним залпом, два дня по болотам. Титоренке оторвало ногу. Обе ступни. Не девятнадцатого, а семнадцатого. Я один, совсем один, Настя, представляешь, два дня. Все тряслось под ногами, ходуном все ходило. У них там такое слово есть — дрыгва. А потом дыра — и сразу по пояс…
— Я не хочу слушать ни про какие болота! Уходи отсюда, уходи!
— Да ты пойми, пойми, как это скоро! Он взлазил и съезжал, сталкиваемый худыми, но безжалостными ногами.
— Скоро, очень скоро, почти завтра. А тебе все равно!
— Мне не все равно, мне противно. Убирайся! Я сейчас начну кричать. Это же невообразимо.
— Да, да, невообразимо, это нельзя понять. Ты права. Трясина, девятнадцатое совсем рядом, и я ведь ничего особенного не прошу, Настя.
— А что ты просишь? — холодеющим тоном спросила она, всползая спиной по морщащемуся коврику.
— Ты же запираешься в сарае с дядь Фаней, со стариком. А я не старик. Я понимаю, его тоже зарежут, и его жалко, но меня тоже жалко…
— Ты! ты!., ты знаешь кто?!
— Кто бы ни был, но не старик, я даже умру молодым, Настя.
Он почти полностью вскарабкался на обороняемое ложе, но на одно короткое мгновение оказался в позе неустойчивого равновесия на краю его. Удара жилистой, пусть даже и женской, ноги было достаточно, чтобы болезненно обрушить его на пол.
Настя была готова к новому натиску (настиску?), но, оказавшись на полу, Аркадий обмяк. Он был даже не в силах подняться больше чем на четвереньки. Всхлипывая и бессмысленно жалуясь, он пополз к двери.
— Животное! — такой был поставлен ему диагноз. Он уползал, глухо колотя коленками в половик, рыдая, в растерзанном халате.
Проводив невидимым взглядом своего дальнего и свихнувшегося родственника, Настя отлипла от стены, шагнула босою ногой на половик и, пошатываясь, двинулась к окошку, одну безумную минуту назад впустившему Аркадия. Подойдя вплотную, она запрокинула голову — и вдруг с утробным звуком перевалилась через подоконник. Ее вырвало, мучительно и длинно. Так рвет или от отвращения, или от ужаса.
Взявший на себя обязанности следователя Саша был неподалеку, за деревом, он был весьма озадачен таким проявлением женского естества. Неприятные недоумения роились в голове естествоиспытателя. Аркадий медленно и, можно сказать, тщательно продвигался по коридорам родного дома. Время от времени ему приходилось становиться на колени — действие возобновлявшейся страшной мысли. Мучительно сглотнув несколько раз слюну, прояснив этими усилиями внутреннее зрение, он вставал и шагал дальше. Желание исповедаться крепло в нем. Оставалось только понять до конца — в чем именно. Но он был уверен, что последняя ясность постигнет его там, в том месте, которого он таки достигнет. Нужен был только убедительный сигнал, что вот оно, это место. А вокруг была только равномерная, нигде не сгущенная, ничем не чреватая ночь. Но повезло. Из–за поворота послышались быстрые легкие шаги. Только она, высланная ему на помощь, могла так неординарно передвигаться. Аркадий стоял на очередных четвереньках, у него времени и сил хватило только на то, чтобы поднять голову и открыть объятия. В них и попала вызванная барыней Груша. Объятия трагически замкнулись.
Калистрат медленно, несуетливо поднялся. Надел портки, рубаху. Подпоясываться не стал, равно как и наматывать портянки. Натянул сапоги на босу ногу. Вытащил из–под топчана английские ножницы для подстригания кустов, взялся за деревянные рукояти и бесшумно развел их на уровне груди. Очень отдаленно эта сцена напомнила историю про Самсона и его льва. Чахоточно–сардонический смешок вырвался из впалой груди. К чему он относился, понять пока было трудно.
Груша была девушка сильная. Упершись ладонями в плечи Аркадия Васильевича, шепча тихо, но вполне возмущенно: «Ах, барин! барин! барин! нельзя!», она дала обратный ход, мощно перебирая ногами. Она работала так решительно, что увлекаемый ею Аркадий не успевал встать на ноги и ехал на коленях. Он обнимал бурно работающие бедра и что–то пел про все те же болота, уткнувшись в теплый фартук. Эти речи переплетались с рыданиями и деталями неминучей гибели, а также диковатыми размышлениями вслух о том, что за маменькиными горничными волочиться и подло и принято. Одним словом, доказывалось, что ввиду скорых и неизбежных Мазурских болот он должен быть понят Грушею–доброю душою, ибо в ситуациях прочих, не предсмертных, не видела она от него грязных приставаний, а видела только все хорошее или безвредное. До Груши наконец дошло, что она имеет дело не с обычным случаем барского кобеляжа, а с чем–то непонятным и, может быть, небезопасным. Инстинктивно она уволакивала дикого барчука к выходу на заднее крыльцо. Там не было жилых комнат, там можно было избежать свидетелей.
Калистрат допивал стакан водки, когда услыхал звон колокольчика над своим семейным топчаном. Он поперхнулся. Очередной глоток дрожащая глотка отказалась принять. Роль последних капель для его душевной чаши сыграли дребезги медного негодяя. Почувствовав, как вспотели босые ноги в сапогах, Калистрат понял, что еще секунду назад не был окончательно решившимся человеком. Только этот повторный звонок (хотя на самом деле никакой не повторный) заставил его решиться.
Выбив задом скрипучую дверь, Груша вытащила все еще бормочущего студента на крыльцо, безжалостно залитое лунным светом. Тут было все, что нужно для романтического свидания. Покосившиеся перила, жасминовые дебри, свиристящая насекомая чепуха. Чувствуя, что выбивается из сил, Груша сделала последнее усилие. Аркадий сверзился по трем трухлявым, но высоким ступеням, уда–рясь коленями. Только внизу, уже на траве, он понял, как ему больно, и потянулся руками к больным местам, топя в тихом стоне детали своего сложного бреда. Воспользовавшись добытою свободою, Груша бросилась бежать по траве высокой, уворачиваясь от веток ухватистых, за угол дома. Мимо генеральского флигеля к длинному сараю служебному. С одной, ей-Богу, единственной целью — избежать освещенных лунным вниманием мест. И если бы не белый, как смерть, фартук, этот выслушавший столько грязных и странных предложений, не потемневший от возмущения и тоски кусок ткани, — вот если бы не он, Груша бы сумела темной стороной имения проскользнуть на прежнюю ровную дорожку своей незамысловатой жизни. Но фартук выдал, идол. Груша скользила, спиной прижимаясь к стене служебного флигеля и перебирая по ней руками. При желании можно было заподозрить в ней женщину, желающую скрытно прокрасться в некую дверь.
Василий Васильевич вздрогнул, потревоженный истошным женским криком. Он осторожно, но быстро встал — Галина Григорьевна не проснулась. Натянув халат и положив в карман браунинг, вышел из флигеля. Крик убиваемой Груши разбудил не только его. Первым у места чудовищного преступления оказался Саша Павлов. Он был, в общем–то, и свидетелем случившегося, ибо бродил по саду от окна к окну, стараясь проникнуть в смысл происходящих вокруг ненормальных событий. Сразу же после Василия Васильевича явилась чета Кор–женевских. Они были вполне одеты. «Мы еще не ложились», — счел нужным пояснить кому–то Евгений Сергеевич.
«В три часа ночи», — подозрительно подумал генерал. Проступила из темноты Настя.
— Что случилось? — спросила она, поднимая над головою толстую свечу. Ей никто не ответил. Привалившись к стене, сидела Груша. В ее некогда белом фартуке в районе груди зияли две дыры, из которых текли два потока, сливаясь в один на коленях. Генерал порадовался, что здесь нет Галины Григорьевны, и обратился к дамам:
— Может, вам не следует на это смотреть?
— Это Калистрат, — сказал Саша, — там, за дверью, должен быть еще один труп.
Генерал достал из кармана пистолет и что–то передернул в нем.
— Если бы сейчас был день, меня бы наверняка вырвало, — сказала Зоя Вечеславовна.
— Надо его немедленно разыскать, — сказал генерал.
— Чего его искать, он когда вышел оттуда, из комнаты, то пошел к сараю, — объяснил Саша. Настя опустила руку со свечою пониже, другую прижала ко рту, в горле билась повторная желудочная судорога. Генерал огляделся — кого взять на подмогу, — но потом решил, что справится сам.
— Помогите Насте, — сказал он естествоиспытателю.
— Как? — искренне спросил тот.
Калистрат сидел в бричке — с закрытыми глазами, сложив руки на груди. Он не стал оказывать никакого сопротивления. Только надменно покашливал, когда ему вязали руки и вели к погребу за конюшней.
— Разберемся утром, — сказал генерал. После всего он отправился к себе во флигель. Странно, но он находился в приподнятом расположении духа. Хорошо, очень хорошо, что Галина Григорьевна ничего не видела, и не только потому, что сберегла свои нервы, но главным образом потому, что предоставила мужу возможность покрасоваться в качестве рассказчика о кровавом преступлении и о своем решительном поведении. Подходя к дверям, Василий Васильевич как раз обдумывал нравоучительный эпилог этой истории.
Так и не закончив мысль, он заметил, что в окнах спальни горит свет. Тем лучше, не придется будить жену, заставил себя подумать генерал, хотя сердце его заволновалось.
Открыв дверь спальни, генерал остолбенел, побледнел. Будь он чуть–чуть поапоплексичнее, не миновать бы удара.
Галина Григорьевна, облаченная в один лишь пеньюар и наброшенную на плечи шаль, сидела в креслах, и у ее ног располагался Аркадий Васильевич. Его явно спящая голова лежала на коленях мачехи. Тонкая артистическая рука голову эту поглаживала. Не без приязни (ничего материнского в этих движениях генерал не рассмотрел), о чем свидетельствовала печальная улыбка на устах генеральши.
И среди подчиненных, и перед начальством Василий Васильевич славился отменной выдержанностью. Профессиональная выучка помогла ему и на семейном фронте. Дождавшись, когда утихнут мучительные внутренние взрывы и появится способность управлять своими голосовыми связками, он сказал:
— А теперь объясните, мадам, что все это значит? Он был готов к повинному пристыженному молчанию, готов был к хладнокровной (все же актерка) изобретательной лжи, готов был к покаянным истерическим слезам, расцарапыванию щек и ползанью по полу в поисках пепла. Даже к потоку встречных обвинений — в смысле «ты сам этого хотел» и «нечего жениться на молоденьких!». Но Галина Григорьевна его удивила, она подробно и почти спокойно объяснила, что значит все эго. И объяснения ее были чудовищны по своей неправдоподобности и аляповатости. Она утверждала, что Аркадий явился в халате и в слезах, а колени в крови, что пал перед ней на эти больные колени и рассказал, что утонет вскорости в каких–то весьма отдаленных болотах. Что он не видит никаких путей к спасению, и от этого жизнь его сделалась адом. Он рыдал и обнимал ее (Галину Григорьевну), но не как женщину, а скорее как мать, как единственного человека, которому может довериться.
— Вот и все, — искренне похлопав ресницами, сказала генеральша, — а потом он заснул, измученный. Василий Васильевич молчал.
— Вот видишь, я говорю, а он спит, — этот факт бывшая актриса подала как безусловный аргумент в какую–то свою пользу. Воспринял ли его так Василий Васильевич, осталось неясным. Он, старательно передвигая дрожащие от ярости ноги, прошел к свободному креслу и сел в него. Почувствовал себя увереннее.
— Болота? — спросил он, открывая следствие.
— Да, да, Мазуриковские, — торопливо подтвердила супруга, ей было приятно, что ее понимают.
— Но зачем, — жутко хмыкнул генерал, — какие–то специальные болота, когда в округе полно своих?! Сильно было подмечено, безжалостно, и Галина Григорьевна, потупившись, поняла, что ее позиция в чем–то небезупречна: что она может быть понята не так, как она сама себя понимает. Актриса новыми глазами посмотрела на симпатичную спящую голову у себя на коленях, и ей захотелось схватить ее и выкинуть за окно. Тогда прекратится опасная неловкость между женою и мужем. Теперь она уже и сама начала подозревать, что эта горячечная история про скорую гибель в чужих болотах неубедительна. Тем более при этой прильнувшей к коленям голове. Как же можно было так неосторожно проникнуться?! Наваждение!
— Должен вам заметить следующее, мадам…
— Не говорите так, — негнущимся от ужаса голосом прошептала Галина Григорьевна.
— …рассказанная вами история смехотворна. Вы сами от нее откажетесь. Но что бы вы мне ни рассказали впоследствии, это не изменит моего отношения к вопиющему факту неблагородства и предательства. Теперь я безусловно прихожу к выводу, что моя женитьба на вас была чудовищною ошибкою. Мы отныне прекращаем супружеские отношения. О способе, коим мы разорвем узы нашего негодного супружества, я вас извещу.
— Васичка…
Генерал встал, пасмурен и тяжел.
— Вынужден обратиться с одною к вам просьбою.
— Конечно, Васичка, конечно…
— До нашего отъезда из Столешина не афишировать вашу связь, равно как и наш с вами разрыв.
— Какая связь? Какая связь?
— С тою же просьбой обращаюсь к этой столь натурально спящей голове. Я прошу вас о соблюдении приличий, не чрезмерная просьба.
— Да какая связь?! — Галина Григорьевна схватила Ар–кадиеву голову за височную кудрю и яростно дернула, клок остался в кулаке. Юноша съехал на пол и так, не просыпаясь, зарыдал.
ВТОРАЯ ПОВЕСТЬ ОБ ИВАНЕ ПРИГОЖИНЕ
Двойник
Иван Андреевич очнулся. Дадим ему время свыкнуться с его новым состоянием. Нужно описать ложе, на котором он это сделает. Массивная, красного дерева амфисбена, в том смысле, что нельзя понять, где у этой кровати голова, а где ноги. Обе оконечности венчаются плавно загнутыми вовне спинками. И на левой, и на правой вертикальных панелях налеплено по бронзовому Гермесу; горизонтальная панель под шелковым матрацем во всю ширь занята ползучим бронзовым растением, вьющимся в разные стороны из пятиконечного медальона.
Если бы Иван Андреевич мог наблюдать свое пробуждение со стороны, он, несомненно, узнал бы именитый экспонат музея декоративных искусств в родном Париже. Кровать Гортензии Богарнэ. Но внимание очнувшегося было занято двумя открытиями другого рода. Он почувствовал, что под простынею, наброшенной кем–то на него, он совершенно гол. А в ногах у него сидит женщина, одетая очень по–домашнему: волосы (огромное количество) распущены по плечам, полупрозрачный пеньюар, выражение глаз таково, будто она видела его, Ивана Андреевича, еще до того, как на него была наброшена простыня. Подозрение неотвратимо превращалось в уверенность, и чем она становилась тверже, тем прекраснее казались эти молчаливые очи. Будто именно вид мужской слабости — та пища, что нужна демону женской привлекательности. В описываемые мгновения сей зверь был сыт и неотразимо загадочен. Чтобы как–то утвердиться в обретенном м'ире, Иван Андреевич попытался опереться на прошлое. Но, сделав мысленный шаг назад, оказавшись в туманном аду дуэли, тут же ретировался. Почувствовал себя слишком слабым для подобных воспоминаний.
Сидящая великодушно моргнула. Господи! хоть что–то человеческое не чуждо этой всеведущей душе! Кстати, кто она такая?! Лежащий знал, что, вспомнив имя этой женщины, он поймет все.
Она моргнула еще раз, и зародыш улыбки поселился в углу рта.
— Мадам Ева! — с огромным облегчением воскликнул Иван Андреевич, радостная судорога пробежала от левой ключицы к правой плюсне.
— Наконец–то. Я уже начала думать, что вы меня не вспомните, русский юноша, — чуть надменно (месть за медленную сообразительность), но в целом дружелюбно заговорила крупная красавица, — ведь это не первая наша встреча.
— Не первая? В каком смысле? — Иван Андреевич пробежал мыслью по своему обнаженному телу.
— Вам хотелось бы о ней забыть? Но не волнуйтесь, я
считаю, что вы искупили свою вину. Мне нравятся такие характеры — сначала надерзить даме, а потом вступиться за ее честь.
Иван Андреевич старательно вспоминал их первую встречу, да, несколько бликов, облаков, яблок… но, кажется, никаких дерзостей. «Дракула» был позже. Пока он плавал в прошлом, мадам Ева успела незаметно приблизиться и теперь занимала место на уровне его чресел.
— А вот дуэль… — Молодому человеку хотелось узнать, чем завершилось это безобразие.
— Именно дуэль, — посверкала большими глазами мадам, — когда мне донесли, из–за чего она случилась…
— Из–за чего? — Сам дуэлянт не смог бы ответить на этот вопрос.
— Этот неприятно таинственный господин Вольф давно уже преследует меня своими неприятными чувствами. Долго отвергаемая любовь неизбежно превращается в ненависть. Вы избавили меня от его общества.
— Навсегда? — Иван Андреевич хотел спросить: «Я убил его?», но отчего–то не посмел. Ответ мадам был как бы исчерпывающий и одновременно слегка туманный:
— Все обстоит так, будто его никогда и не существовало. Был некий призрак и растворился в тумане. Мадам Ева приблизилась на расстояние прямого дыхания. Рождаемое ею тепло полностью сообщалось щекам Ивана Андреевича. Потом она сделалась так близка, что он не мог одновременно видеть оба ее глаза и сосредоточился на одном расширенном, сложном, как географическая карта, зрачке.
— Мне донесли свидетели той сцены в трактире, что вы держались великолепно.
Иван Андреевич, впадая в панику и приходя в восторг, понял, что степень его близости с мадам Евой, возможно, сделается больше той, что возникает меж женским взором и мужской наготой.
— Этот усатый наглец, этот наглый усач раз за разом повторял: «С т е р в а! С т е р в а!» — мне объяснили, что это очень нехорошее русское слово, а вы раз за разом благородно парировали: «Я в восхищении, в восхищении!»
Ивану Андреевичу и нечего было ответить, и нечем, ибо губы его и язык вступили в приятную борьбу с агрессивным поцелуем. Но тут он вспомнил, что перед тем как схватить Алекса Вольфа за горло — вот так, вот так схватить (пальцы сами собой впились в талию «стервы» и обнаружили, что она обнажена. Пеньюар, как пена, собрался к ногам), — да, да, перед тем как сдавить шеищу этой черноусой сволочи, он вел с ней (со сволочью) беседу о… Господи! О матушке, о его, Ивана Андреевича, матушке Настасье Авдеевне. Этих нападок в адрес ее фамилии не смог снести любящий сын. А матушка каким образом возникла? Она возникла из разговоров о русской живописи. Каким же это образом? Он напряг силы еще не полностью отмякшей памяти. (Вспоминать приходилось, жадно целуясь.) Да, Вольф яростно поносил современную русскую живопись, а он, разумеется, подпевал, и только за Серова инстинктивно захотел вступиться. Вольф взялся утверждать, что Серов мразь, «Похищение Европы» (название картины произнес раз пять) — чушь, да и сама фамилия — дрянь. Во всяком случае — для живописца не годится. И тут Иван Андреевич заявил, что фамилия как фамилия, его матушка такую носила. И после очередной «дряни» или «мрази» пошли хрипы, выпученные глаза, суета официантов. Иван Андреевич вел эти сложные мыслительные расчеты не в слишком подходящих условиях, но не мог прерваться, не добравшись хоть до какой–нибудь истины. Официантам, малограмотным руситам, в свирепой словесной каше кабацкой ссоры, очевидно, просто почудились слова «стерва» и «восхищение». Они отчасти похожи на «Серова» и «похищение».
Оторвавшись на мгновение от губ мадам, Иван Андреевич глотнул теплого воздуха.
Соображения, по которым они (официанты) одному из дерущихся приписали только ругательства, а другому только славословия, остаются на их темной официантской совести. Но, убей Бог, непонятно, отчего эти с искаженным слухом аборигены решили, что имелась в виду именно мадам Ева?! Мадам Ева, ма–дам Е-ва, ма–дам Е-ва, мадам Е-ва, мадам Е-ва, дам–ева–ма, е-ма дам–ва, дам–ва е-ма, ва–ва е-е, дам–дам ма–ма, мама! ма–ма! ма–ма! а–а–а-а-а!
«Дорогая, родная моя матушка Настасья Авдеевна! Пишет тебе твой несчастный сын Ваня. Пишет в минуту тяжелую, лютую. Скоро, ох, скоро выходить мне на мое последнее поприще. О многом грущу я над листом этим белым, но горше всего над тем, что огорчу тебя, любимая, дорогая моя!..»
С этими словами проснулся Иван Андреевич. Он был один в кровати, но не один в комнате. Рядом с кроватью стояла плоская молчаливая горничная, на сером рукаве она безучастно держала платье молодого человека, гостя хозяйки. Иван Андреевич посмотрел на нее с некоторым смущением, но тут же понял, до какой степени она пребывает в должности прислуги — ее можно не стыдиться.
Обернувшись многострадальной простыней, Иван Андреевич проследовал в ванную. Зеркала, никелированные чудеса суперсовременной сантехники, мрамор и шкура хорошо питавшегося хищника под ногами. Радуга халатов и полотенец на вешалке. Иван Андреевич глянул в опальное озерцо, висевшее на стене: удивленное, но довольное животное. «Я ведь пару часов назад убил человека», — подумал он и ничего не ощутил. Даже усмехнулся. И тут же с невольным урчанием полез под поток шелковой воды, рожденный поворотом хрустального крана.
Стол был сервирован на троих.
— Мадмуазель Дижон, — сказала мадам, и Ивану Андреевичу пришлось поклониться рослой, усатой, уныло одетой тетке с базедовым взглядом. Конечно, вспомнилось ему, она мелькала на бале. Кажется, он был даже ей представлен мсье Вороном. Конфидентка. Поправим — не мелькала, но почти неотступно высилась в районе сладкого буфета. Иван Андреевич, прихотливо перемещаясь по зале, изволил видеть мадмуазель с разных сторон и посему впал в гераклитову ошибку.
— Мсье Пригожий, мой новый секретарь. Он специалист в мебельном искусстве и любезно согласился разобрать наши вековые завалы.
Иван Андреевич удовлетворенно поежился, его положение обрело определенность. Он благодарно поклонился благодетельнице. Она приветливо улыбнулась ему в ответ. В улыбку было подмешано немного приятной двусмысленности. Иван Андреевич скосил взор в сторону мадмуазель: разделяет ли она общее пикантное настроение? Мадмуазель была застегнута на все пуговицы приличия. «Какая неприятная, — подумал Иван Андреевич, — как хорошо, что не она здесь хозяйничает!» Усаживаясь за большой овальный стол с роскошной фруктовой вазой, сошедшей прямо с голландского натюрморта, он спросил:
— О мадам, я видел ваши разнообразные богатства и хотел бы спросить: вы предполагаете составить интерьер в каком–нибудь едином стиле?
— Нет, нет, я не терплю однообразия. Ни в чем, вы скоро это почувствуете. Неизменна в моей жизни только мадмуазель.
Конфидентка выразила столько же признательности, сколько глазастая статуя.
— Я бы хотела каждую залу оформить в особенном стиле, — ничуть не обиделась мадам.
— Мне случайно довелось побывать в дальних помещениях дворца…
— О, далеко не все из того, что вам довелось там увидеть, принадлежит мне. Следы прежних владельцев и прежних времен, посему такой хаос. Отворились высокие ампирные двери, и красно–синий лакей–мулат вкатил и столовую трехэтажный сервировочный стол, богато уставленный. Сверху громоздилась огромная серебряная полусфера. Новый секретарь сосредоточил на ней свое внимание, пытаясь на взгляд определить, горячая она или нет.
Другой лакей сгустился у него за плечом и налил в высокий бокал густого белого напитка. Иван Андреевич поднес его ко рту. Отхлебнул. Замер.
— Молоко, — неприязненно объяснила мадмуазель.
— С кровью? — беззаботно пошутил новый секретарь, он чувствовал себя на коне, ему хотелось острить, блистать и продолжать нравиться. Этим женщинам вряд ли известен источник, из которого почерпнут каламбур, но он попытался объяснить: — По–русски «кровь с молоком» означает крайнюю степень здоровья, а если, наоборот, молоко с кровью… — Он остановился. Холод, как неправильно подвешенный аксельбант, охватил левую часть груди. Ведь не далее как вчера он обвинил мадам Еву в родстве с Дракулой. Он осторожно поглядел на хозяйку. Мадам напряженно ела. Веки ее приспустились под тяжестью аппетита. Витиеватой историей из жизни чуждого ей языка она ничуть не заинтересовалась. Мадмуазель, напротив, глядела на него очень даже понимающе, однако без всякого восторга от того, что было ею понято.
Иван Андреевич положил себе на будущее не только воздерживаться от сложных шуток, но также и от употребления родного языка, раз его так небрежно принимают в доме. Он будет впредь говорить только по–французски. Надо думать, мадам станет отвечать ему взаимностью.
К мясу было подано вино бордового цвета, но не французское. Потом яблочный пирог и очень сухое шампанское. В конце сыр. Хозяйка, судя по всему, любила поесть (конфидентка тоже) и в застолье соблюдала галльские обычаи.
Прием пищи закончился внезапно. Мадам объявила, что ей необходимо — и срочно — составить письмо Бильс–кому бургомистру. Это в Швейцарии, объяснила она. Почему это нужно было объяснить, Иван Андреевич понял чуть позднее. Он вскочил, комкая салфетку, торопливо двигая челюстями. Вид у него сделался деловой и озабоченный, в дверях он обернулся и наткнулся на нескрываемо иронический взгляд мадмуазель. Так она благословляла на секретарское крещение. Иван Андреевич понял: они с базедовой дурой враги.
— Вам следует переодеться. Уж таков замысел. Все нужное вы найдете в своей комнате. Плоская горничная — Женевьева, так ее звали — уже ждала его с ворохом тряпок.
— Костюм тирольского горца, — тихо объявила она. Ивану Андреевичу не слишком была симпатична идея послеобеденного маскарада, но он счел за разумное подчиниться. Какие у него основания для капризов? Быть может, они сейчас будут оформлять швейцарскую спаленку и мадам хочет, чтобы все было на высоте. Он мужественно облачился в неудобно скроенные тряпки, натянул длинные, выше колен, сапожищи. Женевьева протянула ему шляпу с пером.
— Идемте, — сказала тихоня.
Они прошли шагов двадцать пять по унылому коридору, свернули налево, потом еще раз налево.
— Здесь.
За дверью играл патефон. Иван Андреевич не считал себя меломаном, но тут сразу же узнал — РимскийКорсаков, «Садко». Такой выбор музыки льстил ему как гостю.
Письмо писалось на узкой, скрипучей, как старая швейцарская конституция, кровати. Тирольское ложе знаменито прежде всего своим огромным навесом, который одним краем крепится в головах кровати, а другой вздымает, как створку открытой раковины. Иван Андреевич был вначале несколько закрепощен. Сначала ему казалось, что за ними наблюдают (кто–то же переворачивает пластинку, когда она кончается), но потом он остановился на мнении, что все дело в свойствах ложа. Чрезмерная раскованность в движениях грозила превратить совокупление в погребение. Грабовая доска навеса легко могла стать гробовой. Его мучил вопрос: с какой целью был применен этот массивный козырек? Типично альпийское ханжество — вот сила, которая вознесла два пуда древесины на саженную высоту. Дело в том, что в изголовье этих гордых горцев полагалось висеть распятию. Сбросив свои оперные сапоги и оперенную шляпу, сорвав белоснежный фартук с потупившейся супруги, альпийский стрелок забирался под защиту навеса, чтобы вид того, как именно он занимается любовью, не увеличивал муки Спасителя.
Изготовив три варианта послания (мадам каждый раз удалялась куда–то, словно должна была кому–то показать текст), пара импровизированных горцев направилась в столовую. Проспав, правда, часа два с небольшим. Стол их ждал. Все было на месте или наготове. Приборы, лакеи, мадмуазель Дижон.
Поскольку на дворе брезжило утро, мадам Ева потребовала свежих придворных сплетен. С угрожающей ловкостью очищая сицилийский персик, мадмуазель рассказывала: импотенция князя зашла так далеко, что он озабочен уже не тем, что ему не спится с женой, но как бы совсем не спиться. Пока Розамунда меняет секретарей (выразительный взгляд в сторону Ивана Андреевича) и учителей сербско–хорватского языка, князь Петр меняет напитки. Интрижка с божоле не затянулась, князь вернулся к арманьяку.
Личный сапожник княгини грек Мараведис заболел гепатитом. Теперь ищут другого немого тачателя, которого можно посвятить в тайну, ни для кого не являющуюся тайной: левая нога княгини на десять сантиметров короче правой.
Мадам Ева высказалась в том смысле, что для нее печень правителя так же безразлична, как и печень сапожника. Руки — вот что в них ценно. Причем правителю достаточно одной правой, ибо именно она держит подписывающее перо.
При словах о пере и писании взор мадам затуманился. Она вспоминала, все ли запятые поставлены в окончательном варианте послания бильскому бургомистру.
— О господине Пригожине, — грубо шелестнув газетным листом, строгая сплетница вторглась в приятные мечтания мадам.
— Что там?
Иван Андреевич застыл с чайной ложкой во рту. Оказалось, что в «Вечернем Ильве» написано, что, «по сообщениям наших корреспондентов из России, господин Пригожий находится в данный момент в отдаленных местах сибирских гор, где успешно охотится на многочисленных медведей. Пригожий чувствует себя хорошо, но сожалеет о той участи, которой подвергся таинственный Алекс Вольф».
— Как мил этот мсье Терентий, — улыбнулась мадам, — а ведь я его ни о чем не просила. Иван Андреевич подумал, что согласен, пожалуй, с конкурентом Ворона, мсье Паску, — хорош только мертвый журналист. Вслух он выразил сомнение в том, что кто–нибудь поверит этой «клюкве».
На это мадмуазель Дижон сухо заметила, что зря он относится к этой попытке помочь ему с пренебрежением. По ильванским законам дуэли строжайше запрещены.
— А поединок, — она пожевала толстыми губами, — с исчезновением одного из дуэлянтов грозит победителю
пожизненной каторгой. Наказываются даже жертвы. Например, господин Вольф никогда не будет похоронен в церковной ограде.
— Хватит об этом, — властно и нетерпеливо сказала мадам, — дело прежде всего. Нам предстоит расшифровать одну древнеримскую надпись. Интересно, о чем размышляли помпеяне перед извержением Везувия.
Громадный овальный стол в ампирной столовой стал сердцем дворца. Из любых самых дальних и экзотических мебельных экспедиций возвращалась к нему довольная путешественница, сопровождаемая утомленным секретарем.
На юго–запад, если взять за точку отсчета вечную вазу с фруктами в центре стола, в шестидесяти примерно шагах (из них двадцать вверх по лестницам) поджидало мадам ранневозрожденческое безбалдахиновое чудо. Веронский мастеровой покрыл все поверхности, доступные резцу, мелкой отчаянной резьбой, увековечив все странные и сложные изгибы своей эротической грезы. После того как мадам и новому секретарю удавалось развязать бесконечные ленточки и освободить крючочки в недрах замысловатых ломбардских одежд, на этой площади разворачивались такие картины, которые были совершенно невообразимы в унылом тирольском пенале.
Вместе с тем нужно было отличать особенности бурной итальянской раскрепощенности от утонченной развращенности древних италийцев. С этой последней следовало начинать юго–западную дорогу в обширном и слишком прохладном Медиоланском триклинии. Одно дело — предаваться любвеобильному любованию виноградными орнаментами, совсем другое — разгоряченной дешифровке писаний, навечно оставленных в развратном кар–рарском мраморе. Ивану Андреевичу нравилось здесь особенно потому, что античные одежды выгодно отличались от средневековых простотой устройства и готовностью самостоятельно сползти с разгоряченного тела. На юго–западных путях мадам с молодым секретарем вкусили и итальянского и италийского. И неизменно их картинные, хотя и жаркие объятия сопровождались нытьем лютни или классическим каляканьем кифары. Западное направление тоже пользовалось вниманием. Мадам Ева особенно хорошо чувствовала себя в сверкающих объятиях Людовика XIV. Позолота, начищенная медь, цветной мрамор и прочая чушь, на первый взгляд не имеющая отношения к сути дела, царили здесь. Кроме того, Ивану Андреевичу в этом павильоне казалось, что во Франции XVII века всякая любовь — это дело втроем с королем. Повернись хоть так, хоть этак, хочешь — распрямись, хочешь — скукожься, можешь — перекрути партнершу, хочешь — заверни в тулонский узел, — все равно на ближайшем предмете обстановки, прямо перед носом у тебя будет шифр–медальон короля-Солнца в виде лучезарного Аполлонова лика или двух перекрещенных литер.
А музыка! Мадам требовала клавесин, и только клавесин. Такая пластинка была, видимо одна, и в ней имелся трудноуловимый, но мучительный для слуха дефект. Сквозь дребезжание основного инструмента все время чудилось чье–то рыдание. Пару раз выбирались на острова. Постель британца его крепость.
Иван Андреевич почувствовал это на своих шкуре, ногтях, волосах, зубах. Непонятно, пожалуй, но ничего не поделаешь. Мадам Ева взяла со своего секретаря клятву, настоящую, скрепленную кровью, что он никому, никогда, даже если они расстанутся, даже если расстанутся врагами, даже после ее смерти не расскажет, что происходит между ними за таинственными стенами Хепль–уайта и Чиппендейла.
И даже о том, что это вообще имело место, будет молчать. (Кстати, в Англии не было никакой музыки.)
Иван Андреевич дал такую клятву и был намерен ее сдержать, тем более что это было и в его интересах. К задней части дворца примыкал сад, отданный в ведение громадного и улыбчивого болгарина. Как и все садовники, он не считал людей правящим классом природы и особенно плохо относился к вегетарианцам. В этом была своя логика, растения беззащитнее животных. Но перед хозяйкою благоговел.
Завидев мадам Еву, он мчался к ней на кривых ногах, обнажая в милой улыбке желтые зубы престарелой, но оптимистически настроенной лошади. Хлопая себя ладонями–лопатами по кожаным штанам, кожаному фартуку и кожаным щекам, он настаивал на немедленном путешествии или в розарии, или в альпинарий. И казалось, что от этого фанатика нет возможности отделаться без скандала. Но стоило хозяйке сказать, задумчиво глядя в розовую щель меж белыми облаками: «Мсье Аспарух», — как он кидался в бегство и сразу за поворотом аллеи превращался в старую ракиту.
«Дорогая моя матушка Настасья Авдеевна и батюшка мой Андрей Поликарпович. Пишу вам в отчаянную минуту, ибо спустя малое время должен буду отправиться на защиту чести своей…»
Не закончил свое послание родителям Иван Андреевич в день дуэли, никак не мог продолжить его и в последующие дни. Неоднократно разворачивал он длинный, наполовину исписанный лист, пробегал быстро увлажняющимся взглядом вышеприведенные строки и опускал уже изготовленное перо.
Не было сил, еще меньше было свободного времени и почти никогда — подходящего состояния духа для продолжительного разговора с родными. Обращаясь к матушке–старушке мысленно, он ловил себя на том, что применяет странную псевдосказовую интонацию. Чувствуя, что фальшивит, фальшивить не переставал. Был уверен, что такая словесная лебеда лучше всего врачует раны материнской души. «И скучаю я здесь, родная, и рвусь домой, да дела важные, ученые меня пока здесь удерживают». Написав эту заботливо–лживую фразу, он сначала устыдился, а потом попытался подбодрить себя мыслью, что по–другому нельзя. В самом деле — не излагать же всю постельную правду подслеповатой толстухе Настасье Ав–деевне, беспросветно богобоязненной мамаше своей. Суетливая слеза мгновенно скользнула по носу и, попет–ляв по небритой щеке, упала в таз с малиновым вареньем, что пузырится на летней плите посреди родимого костромского сада. Настасья Авдеевна снимает горючую сыновнюю слезу под видом сладкой пенки, тяжко вздыхает и растворяется в дымах отечественных. Не имея возможности написать полноценное письмо, Иван Андреевич решил облегчить свою душу ведением неких «записок». В них он решил отразить все те небывалые обстоятельства, которыми он был окружен за последнее время. Собирался он уделить внимание и тем странностям, что с некоторых пор стал замечать в своем собственном характере и в поведении части чувств. «Положительно, во мне поселилась болезнь, похожая на слабое и непостоянное размягчение мозга. Временами краем глаза я вижу предметы как бы отраженными в кривом зеркале. Таковое наблюдал ребенком на Ярославской ярмарке. Знакомая вещь вдруг баснословно или смехотворно искажается, находясь на краю зрения. Стоит же повернуться к ней в лоб, смотрит прежнею, как ни в чем не бывало. Случилась однажды даже с самою мадам такая глазная подмена. Лежу, изготовленный, на голландской простыне. Мадам должна явиться ко мне справа, и вот слышу звук шагов, но глазом вижу несомненную мадмуазель Дижон. Поворачиваюсь (в ужасе, между прочим), — слава Богу, ошибка. Мадам пришла». «Слух тоже нехорош. За стеною аглицкого зала мне постоянно слышится какой–то стрекот. Похожий на работающий машинный цех. Я спросил у мадмуазель Женевь–евы, нет ли во дворце какой–нибудь мастерской. Получив ответ отрицательный и весьма удивленный, озаботился пуще прежнего. У мадмуазель Дижон спрашивать побаиваюсь — засмеет. О подобном вопросе к самой мадам и думать страшно». И лист привычно сворачивается в трубку.
Иван Андреевич висит в английском шезлонге, закинув каблуки выше головы. Сброшенный пиджак неловко обнимается со стволом сливы. Глаза обессиленно закрыты. На животе жилета водружена бронзовая чернильница, украденная с письменного стола мадам. Она явно удивлена, ей давно не приходилось стоять на мягком. Задумчиво оскаленные зубы секретаря покусывают за хвост столь же похищенное, как и чернильница, стило. Глядя на эту сцену со стороны, хочется дать блаженствующему тихий совет — не открывайте глаз. Как можно дольше, ибо в ногах уютной сети стоит пергаментный садовник. И раздумывает, позволительно ли кашлянуть. Болгарская воспитанность позволяет ему заговорить только после того, как он будет увиден.
Висящий опять начал что–то самозабвенно нашептывать. Аспарух не смел вторгаться на территорию транса. «Матушка, всем сердцем, всем сердцем стремлюсь я домой, всем сердцем, но не знаю, не ведаю, родная моя, когда Бог, когда Господь наш сподобит меня. Сыт я вполне, и одет, и во всем прочем никакого утеснения не испытываю. Постигаю секреты ремесла, за коими и отправил меня батюшка в злынь–заграницу», — текла вольно мысль.
Последние слова понравились Ивану Андреевичу своей самовитостью. Начал он казаться себе чем–то вроде былинного и одновременно плененного богатыря. Надобно, подумал он, такое словесное достижение зафиксировать в книжечке. Для этого пришлось размежить вежды. — Пожалуйте переодеваться, — улыбнулся болгарин. В таз с малиновым вареньем рухнула дохлая ворона. Настасья Авдеевна, причитая, убежала в дом. Сразу после обеда два молчаливых лакея прошествовали в глубь сада со свернутым албанским ковром. Третий нес бронзовую жаровню, наполненную ароматическими углями. Четвертый — приспособление, напоминающее чем–то систему переливания крови. Очень богато украшенное и потребительски невразумительное. Может быть, это был кальян.
Иван Андреевич, уныло улыбаясь, облачался во влажно–красные, волнующиеся вокруг икр шальвары, надевал простроченную золотой нитью безрукавку, вставлял босы ноги в стоптанные, хотя и сафьяновые, бошняцкой моды чувяки. С сильно задранными носами. В зеркало он сказал: «Кисмет!»
В этот момент садовник с нехарактерным для него зверским выражением рта кривым басурманским ножом полосовал плетеное тело шезлонга. Белено было истребить это непригодное для любви ложе. Иван Андреевич вышел из своего покоя в коридор, шаркая мусульманскими подошвами. Из–за поворота на него вылетела разгоряченная горничная. Их было много тут, имени этой он не знал. Испуганно и часто оглядываясь, она зашептала по–руситски, чтобы он как можно скорее бежал из этого дома. Как можно скорее, пока еще можно это сделать, но скоро будет нельзя. Бежать, бежать, иначе будет худо. В руситском языке тоже бытовало это хмурое слово. Во время этой искренней речи Иван Андреевич великодушно, а значит, и глуповато улыбался. Он ни слова не успел вставить. Попытался узнать имя этого кристально чистого фартука, но не успел. Что–то особым служилым чувством почуяв, она застонала и упорхнула за поворот коридора. Из–за этого поворота тут же донеслись звуки оплеух. Звук нельзя было спутать ни с каким другим — длани старой девы извлекают его из щек провинившейся девушки.
«Однако!» — очень уж общо подумал Иван Андреевич и вышел в сад.
Перспектива заниматься любовью на лоне садовой зелени смущала его. Как–то это нескромно, даже если полянка укромна. У стен растут уши, а у зарослей — глаза. Чтобы войти в сложный образ лесного — и притом мусульманского — насильника, он зарылся в кусты, намереваясь угрожающе сквозь них прокрасться.
«Желаю тебе, матушка, здоровья крепкого, и батюшке крепкого же здоровья. А обо мне беспокоиться не надо. Но помолиться помолитесь».
Теряя на ходу обувку с чужого плеча, Иван Андреевич пошел на приступ.
«Открылось давеча вот что. Уши мои нисколько не больны. Стрекот за стенами делается телеграфными аппаратами. Гуляя по дворцу, открыл случайно неприметную дверь, а там кипит работа. Ленты дрожат и лезут, барабаны крутятся. Меня попросили уйти. Очень недовольно. После этого господин в черном мундире с целым ворохом лент выскочил из оной двери и побежал наверх по лестнице. Я за ним, проследить — куда? Оказалось, в кабинет мадам, в тот, что с портретом Наполеона. Я, пользуясь особым положением в доме, вошел без доклада. Каково же было удивление мое, когда я встретил явное неудовольствие. Мне было велено идти в библиотеку. И тут я сказал, как я разумею, глупость. Я сказал, что в библиотеке нет ни дивана, ни какой–либо иной подходящей мебели. На что мадам расхохоталась, а бывшая тут же мадмуазель (это особенно жжет мое сердце) заметила весьма едко: «А вы что–нибудь почитайте сидя!» Очень стыдно. Поделом мне. Что самое поразительное: как они были в этот момент похожи друг на друга — эти две столь различные женщины».
В играх — садовых и прочих — сменилось между тем несколько недель.
Ивану Андреевичу трудно было измерять переживаемое во дворце время мерками, взятыми из прошлой жизни. Он заметил, что простое, уличное, общее для всех, равно участвующее в делах государственных и в приключениях сугубо личных время, впиваясь в трехэтажный мебельный склад с ликом трансильванского дворца, как бы сбивается с курса. Оно робеет, тыкается в двери и зеркала, может неосторожно повернуться и сделаться уязвимым для обостренного чувства. Может забыть свое рассеянное завихрение где–нибудь в курительной или библиотеке, и тогда общение с сигарой или альманахом растягивается до бесконечности, оставаясь при этом непроницаемым для щупалец общего распорядка. Использованное время не полностью вытекало наружу. Иван Андреевич выработал в себе умение выискивать в разных углах дома такие лужи. Это могло быть и в пыли–темноте заднего вестибюля, и на паркете центральной залы. Там он бывал на сотню–другую вздохов предоставлен сам себе, даже будучи в поле базедового зрения мадмуазель Дижон или в толпе лениво лавирующих лакеев. Неправдою было бы сказать, что он пытался манкировать хоть в малой степени своими секретарскими обязанностями или ощутил потерю аппетита. Нет, он охотно взбирался на очередной возрожденческий ларь, служивший ложем ранним дожам. Его волновали венецианские объятия, его веселили сыры и цесарки, и не вина были виновны в приступах неопределенного томления, являвшегося в каморку его уединенного размышления. Ненаписанное «письмо к матери» все пышнее и замысловатее распускалось в нем. Какой слезой оно было напоено! Какие фантастические филины и всхлипы селились в его ветвях!
Помимо тоски по родному дому, дневник Ивана Андреевича питался ощущением стесненности, которого не мог
не испытывать подвижный молодой человек, оказавшись в тисках не только строгого, но и не вполне понятного ему режима. Мало того, что ему возбранялось покидать территорию дворца, ему и внутри этой территории далеко не все дозволено было знать. Он повсюду встречал примеры какой–то сложной, таинственной, равнодушной к нему жизни. Дворец — отнюдь не сонный аквариум, но несущийся куда–то поток. Может быть, к водопаду? На окраинах невнятного здания, в его подвалах и тайных комнатах круглосуточно трудились или невидимые, или неведомые люди. Помимо открытых им «белых» телеграфистов, встречались ему в пыльных и хладных закоулках и люди с ворохами черных лент. Широких таких, и как бы даже не бумажных на вид. Судя по тому, как эти двое перепугались при виде его, Иван Андреевич решил, что имеет дело с особо секретным «черным» телеграфом. О мадам, мадам, Евушка моя, чем это ты занимаешься, что замышляешь, моя непроницаемость! Разумеется, открытия свои он держал в тайне, рассчитывая разобраться во всем самостоятельно. Второй по важности обязанностью Ивана Андреевича было развлекать беседою посетителей мадам Евы, тех, что дожидались своей очереди в обитой светлым дубом прихожей. Его самого эти разговоры забавляли, плюс позволяли считать себя человеком хотя бы отчасти полезным, поэтому ко всем гостям он относился с неподдельным дружелюбием. Настолько неподдельным, что те смущались или даже пугались. Род деятельности этих людей исключал возможность человеческих отношений с кем бы то ни было.
Граф Консел был наиболее частым визитером. Иван Андреевич заметил, что, когда докладывают о нем, мадам Ева снисходительно усмехается, а после его ухода бывает в постели рассеянна и задумчива. Что–то человеческое, родственное появлялось в ее объятиях. Подслеповатый подагрик нравился Ивану Андреевичу все больше. По установленному в доме этикету секретарь занимал позицию за правым плечом мадам с бархатною папкой в руках и каменным выражением юной рожи. Мадмуазель Дижон проводила с ним специальные и порой оскорбительные занятия по умению подражать каменному истукану. После того как гость усаживался, Ивану Андреевичу надлежало неторопливо, но стремительно удалиться.
Так вот однажды, окончательно уверовав в благотворную для себя роль графских посещений, Иван Андреевич великолепно ему подмигнул. Тот виду не подал, но, по словам мадам, «был очень настойчив сегодня». На следующий день господину секретарю была доставлена в подарок огромная коробка конфет. Мадмуазель Дижон учинила целое расследование. Кто? Но посыльный не сказал ничего вразумительного. Отысканный через него кондитер только руками разводил — ничего, мол, не помню. Кажется, какая–то старушка принесла листок с адресом. Так ничего и не добившись, мадмуазель положила себе проверить каждую конфету, для чего забрала коробку к себе в комнату. Почти так же часто, как граф, появлялся в кабинете мадам слоноподобный сэр Оскар. Ласковость его по отношению к молодым людям была общеизвестна. Иван Андреевич отвечал улыбкой на улыбку. Представив себе, до какой степени печальный гигант не знает, чему следует приписать явно выраженную приязнь молодого секретаря, Иван Андреевич разражался хохотом, едва прикрыв за собою дверь.
Однажды он привез с собою двух своих юных друзей. Рыжеватого, конопатого, бойкого Дюйма и шоколадного мулатика по имени Амад. Поскольку им тоже не полагалось присутствовать при беседе, Иван Андреевич повел их «поиграть в шары».
Аспарух мгновенно и охотно вымел усыпанную лепестками акации площадку. Иван Андреевич сбросил сюртук и закатал рукава.
«Играем на щелбаны», — сообщил он. «Как это?» Иван Андреевич показал. Их искренне восхитил тип валюты, которым придется расплачиваться проигравшему, и в конце концов одолели великовозрастного соперника. К появившемуся из дворцовых дверей сэру Оскару они кинулись с радостными криками, наперебой рассказывая о своей победе. В лице мадам, вышедшей проводить солидного посетителя, выразилось разочарование, как у владельца покусанной собаки.
— А долг? — крикнул паренькам Иван Андреевич, ему хотелось тут же претерпеть игрушечное наказание, чтобы превратить событие в шутку. Но дети отказались комкать удовольствие, они вприпрыжку бросились за своим монументальным папашей, громко обещая получить причитающееся «как–нибудь потом». Дюйм открыл дверцу коляски, Амад отвалил ступеньку. Накренив борт экипажа своей ножищей, сэр Оскар медленно погрузился в него. Инерция смутной досады провела Ивана Андреевича шагов двадцать вслед за английским выездом из ворот дворца. Как глупо все получилось. У него в голове составлялся пассаж из пяти примерно фраз, при помощи которого можно было бы свести эту ситуацию к ничьей. Но никто не собирался его слушать. Оставалось сжать свой финальный монолог до выкрика и бросить его в спину уезжающему посольству. Но коляска, набирая скорость и громкость грохота по камням мостовой, уже проносилась сквозь створ. Лошади налегли на левое копыто. Порыв бледного пылевого облачка. Англичане исчезли. Иван Андреевич остановился.
Он собирался выругаться, но не успел этого сделать. Потому что увидел знакомое лицо. Бледное, усатое… Вольф! Ворота с торопливым треском затворились. Иван Андреевич кинулся к калитке, чтобы тут же проверить, было ли видение лишь видением, или все же… В проеме калитки возник знакомый красный кафтан, пахнущий чесноком и токаем.
— Нельзя туда!
Оказалось, что действительно нельзя, там стоит на специальном посту полицейский, чтобы его, Ивана Андреевича, арестовать как закононарушителя. Так и не пустил. Впрочем, Иван Андреевич не очень и рвался. Силы оставили его. Их едва доставало, чтобы пристойно держаться на ногах. Он побрел сокрушенно к главному входу. К счастью, мадам уже не было на крыльце, вместо нее надменно высилась на верхней ступени мадмуазель. Стояла так, будто стояла здесь всегда.
— Там был Вольф. Кажется, — ответил секретарь на ее немой вопрос.
— Этого не может быть, — констатирующим тоном, без малейшего желания убедить или успокоить, заявила мрачная девственница.
— Моя пуля, хотя я не хотел стрелять и стрелял не целясь, попала ему… впрочем, я сам не видел, мне сказали. Я потерял в тот момент сознание. Или чуть позже. Впрочем, сам не знаю, как это все произошло… — Иван Андреевич замолк, осознав наконец ненужность произносимых им слов. Мадмуазель презрительно следила за его бессильными трепыханиями.
— То, что произошло сегодня, — результат ваших безответственных блужданий там, где вам появляться не надлежит. Невольно вы видите то, что вам не предполагали показывать. Впредь я бы попросила вас оставить ваши прогулки но дальним закоулкам дворца. Это не только моя просьба, но и пожелание мадам. Сосредоточьтесь на подобающем исполнении ваших прямых обязанностей. В добавление к сказанному я бы хотела передать вам острое неудовольствие мадам тем, что вы пытаетесь вступить в некие сношения с посещающими ее господами. Поймите, вы состоите при мадам, поэтому ваши сепаратные, а пуще тайные разговоры с такими людьми, как граф Консел или сэр Оскар, недопустимы. Особенно граф Консел, особенно! Идите переоденьтесь, через полчаса обед.
— Я, право, не в состоянии есть.
Мадмуазель очень внимательно посмотрела на него и ушла, приведя в смятение шумом своего платья сухие лепестки жасмина, лежавшие на граните.
«Странности продолжаются. Необъяснимое событие у ворот. Что–то со зрением. Покойники не могут вставать из могил, мадмуазель права. Но она тоже странная, намекала на какие–то мои «сношения». Имеются в виду коробка конфет от графа и щелбаны в долг от Дюйма с Амадом?»
Иван Андреевич пообещал быть впредь поосмотрительнее, но в тот же день дважды нарушил свое обещание. Первый раз в отношении неположенных прогулок. Задумавшись над странностями своего положения и о неясных видах на будущее, он оказался ранним утром в парадном вестибюле и там наблюдал, схоронившись за пальмою в кадке, как рыжий господин Делес покидает дворец с двумя большими железными коробками в руках, в сопровождении закутанного с ног до головы человека в австрийских офицерских сапогах и черной необычной шарманки, которую несли два молчаливых мулата. Господин Делес с офицером и шарманкой погрузились в автомобиль, подняли верх и укатили. Мулаты побрели в сторону кухни.
Второе нарушение случилось в полдень в библиотеке. Иван Андреевич сидел в кресле с томом Шадерло де Лакло на коленях и думал одновременно о нескольких вещах: о таких и этаких, о дальних и ближних, о высоких и интересных. Внезапно услыхал за спиною:
— А-а, вот вы где. — Это пел тоном давнишнего приятеля пан Мусил. Торговец смертью был последним человеком, дружбы которого стал бы по своей воле искать Иван Андреевич, но пришлось расшаркаться.
— Я, знаете ли, тут с книжкою… мечты разные… бездельничаю.
Пан Мусил состроил гримасу, говорившую: хоть на голове ходите, раз хороший человек.
— Мадам занята, у нее телеграфист, — как бы переходя к своим прямым обязанностям, сказал Иван Андреевич. Тут же разругал себя за то, что упомянул телеграфистов, вдруг это тайна.
Пан Мусил серьезно, понимающе кивал, хотя было непонятно, что именно он понял. Далее с его стороны последовал длинный, чрезвычайно путаный монолог. Немного лести, больше юмора, несколько блесток пафоса и большое количество доброй воли.
— О, — сказал Иван Андреевич, соображая, что ответить и стоит ли вообще отвечать.
— Учитывая все мною вышеизложенное, я не могу не подарить вам это.
Из–за заискивающе извивающейся спины явился кожаный футляр, из футляра явился огромный шестиствольный револьвер, богато отделанный.
— Заводы «Шкода», последнейшая разработка. Залповый огонь. Вынимаете из кармана — и дуэль невозможна. Одним выстрелом и оскорбителя и секундантов. Заводы «Шкода».
В душе Ивана Андреевича шевельнулось неприятное воспоминание об усатом негодяе. Толстяк, словно это шевеление уловив, продолжил свою песню. Разумеется, он, официальный представитель заводов «Шкода», прекрасно знает, что господина Пригожина здесь нет. Он охотится в сибирских горах на бурых мишек. Но не всякий может удовлетвориться газетным известием, есть еще люди, желающие верить глазам своим, а не печатному слову. Против таких надобно взять свои меры. Заметая следы уверениями в своей полнейшей преданности, пан пропал.
Иван Андреевич, оглядевшись, спрятал за шкаф чешскую батарею и с любопытством спросил себя: мне что, уже дают взятки? Кому–то что–то нужно от секретаря пани Евы. Они, дуралеи, не знают, что от него ровным счетом ничего не зависит, ему даже телеграфные конфетти читать не доверяют. А может, надеются, что будет зависеть, и одаривают впрок? А может быть, секретарь и сам не знает, до какой степени уже сейчас влиятелен? Надо или разбираться, или ждать. Второе! Что делать с жутким подарком? Найдется работа. Например, изрешетить конопатого и шоколадного. Голубые гаденыши, что теперь ваши щелбаны. Пусть оно пока полежит за шкафчиком. «А почему я, собственно, не убегаю? — вдруг образовалась в самом центре сознания мысль. — Потому, что боюсь полиции, которой скорей всего и нет никакой?»
Несмотря на выволочку, устроенную могущественной конфиденткой безалаберному секретарю, жизнь его сделалась много вольнее. То ли он до такой степени научился манипулировать распорядком дня, то ли мадам Ева ослабила хватку.
Уже не бродил за ним по зеленым закоулкам, хрустя кожаными доспехами, Аспарух, не скреблась в дверь мадмуазель Женевьева и не шептала, потупив взор, что он должен немедленно переодеваться к очередному приему пищи. Даже усатая конфидентка, мисс Непроницаемость, однофамилица чудного французского городка, сменила гнев на безразличие.
Ивана Андреевича это устраивало. Более всего его радовали два вида свободы: библиотечная и садовая, в обоих случаях блаженствовала голова. И над книгой, и под липой.
К этому времени относится несколько дневниковых записей. Их, верно, немного, и носят они явно разрозненный, случайный характер. Иван Андреевич опять возвращается мыслью к первому дню своего пребывания во дворце и пытается анализировать «случаи с картиною». Долго, на двух страницах молодой человек излагает свои соображения о природе своего тогдашнего недоумения. Соображения эти или очень путаны, или слишком убоги. Кроме того, при внимательном чтении становится понятно, что сама тема перестает быть животрепещущей с каждым новым замечанием по ее поводу. Пишущий смиряется с неразгаданностью этой тайны. Его устраивает жизнь, которую он ведет. Он перестает чувствовать себя птицей в сексуальной клетке.
Остальные записи вообще не заслуживают внимания. Он, например, с благодарностью вспоминает батюшкин совет — обливаться каждое утро холодной «водицей» в целях укрепления здоровья и благодарит (с непонятной экзальтацией, проявившейся даже в дрожи почерка) его за то, что он «не оставляет сына беспутного заботами своими и попечениями».
Сделаны Иваном Андреевичем и полезные ориенталист–ские наблюдения над ильванской жизнью. «А яйцо сырое разбивают местные поварские люди не поперек, как в нашем отечестве, а вдоль длины. На мнение мое, что это есть препустейший предрассудок, готовщики оскорбляются и выражают открытое сомнение в моей способности понимать вкус пищи вообще». К чести Ивана Андреевича, он пишет о яичном споре в свифтовском духе, ему что вдоль, что поперек — все равно. Есть в дневнике несколько замечаний о способах перчения беконов, но стоило перу разойтись, пишущий, опомнившись, заявляет, что перчение сала есть открытое венгерское влияние и рассмотрение его как части ильванского образа жизни должно быть отставлено. Подобного рода научные сальности пересыпаны дешевыми каламбурами типа: «Эх, чужбинушка, ухнем» (перед выпиванием большой рюмки).
Итак, надо признать, что заведенный в целях сохранения некоего внутреннего суверенитета дневник Ивана Андреевича роль свою утратил, и его ждало неизбежное превращение в обычную непотребную тетрадь, какого–нибудь третьесортного Печорина.
Да, мадам ослабила хватку, но не разжала полностью пышных объятий. Каждый день совершался хотя бы один стилизованный выезд (музыка более не привлекалась для сопровождения любви). Желая, может быть, угодить своему беспутному спутнику, мадам выбирала направления, близкие его национальному сердцу. То это был екатерининский диван с подлокотниками в форме лиры (затылок зело жалуется), то карельская березовая ладья с лупоглазыми царевнами (лягушками) вместо ног. Тонкая лесть посредством выбора стиля мебели не была по достоинству оценена Иваном Андреевичем, что задело похотливую путешественницу.
— Вы неблагодарный мальчишка, — заметила она, покидая новгородские полати, специально сооруженные где–то на северо–востоке третьего этажа, подальше от глаз ценителей прекрасного. Патриотический пыл в Иване Андреевиче пребывал в опавшем состоянии, он не способен был сообразить, что словесная месть относится к месту, на котором только что свершился секс. Что мадам в определенном смысле ставит своего секретаря на место. На следующий день под португальским балдахином случился форменный скандал. Дело в том, что в любом часто повторяющемся действии неизбежно со временем появляется рутинный момент. Поскольку тела, помимо всего прочего, есть еще и биологические машины, то их способности (в сфере любовной) творить и вытворять ограничены. Стало быть, в повседневной практике не обойтись без известной доли автоматизма. Мадам Ева считала по–другому. Она изволила вдруг открыть глазищи и застала Ивана Андреевича в состоянии трудолюбивого бездельничанья.
Восхождение было грубо сорвано. Наплевав на атлантические дали, которые можно было разглядеть с высокого португальского берега, мадам Ева устроила кровавый привал по дороге. Три оплеухи, кровоточащая ноздря, заплывший глаз. Несколько оскорбленно–оскорбительных фраз. «Вы так меня любите, господин любовник?! Что это за тайные мысли занимают моего секретаря?! Вы манкируете, как обезьяна!»
Мадам ушла. Голая. Ступая крупными белыми ступнями по липкому паркету.
Смущенный, досадующий (что, жалко было пары–тройки стонов?), немного даже испуганный Иван Андреевич направился в ванную комнату, чтобы остановить кровь. К брекфасту явился с ваткою в ноздре. Кровь давно не шла, но о полученной ране нужно было напомнить. За едою не было сказано ни слова, съедено (господином секретарем) немногим больше. Мадам и мадмуазель уписывали вовсю. Сопя перегруженным носом, Иван Андреевич всячески изображал гибель аппетита, пытаясь показать таким образом, что он отнюдь не животное, каким сочла его возлюбленная. Тело его может страдать не только от жары или холода, но и от переживаний душевных.
Таким незамысловатым способом выраженные раскаяние и признание постельной вины были оценены. Мадам Ева уже утром следующего дня сделала шаги к примирению. Все сорок — расстояние от основной ее спальни до юнкерского номерка, где Иван Андреевич проводил одинокие ночи.
Войдя к нему в одном, уже полурасстегнутом, пеньюаре, мадам не обнаружила негодника в постели. Но не успела ни расстроиться, ни удивиться — услышала тоскливое ямщицкое пение в ванной. Бесшумно сбросив одежды, мадам на цыпочках двинулась на голос. Выражение ее изготовившегося лица говорило: почему, собственно, кровать, полати, лежанка, диван, козетка, шкура, ларь, — почему не ванна?!
Словно почувствовав приближение своего счастья, Иван Андреевич сменил песенную тему, нытье переросло в бодрое, а потом и в бурное рычание. Мадам Ева не догадывалась, что ее секретарь в этот момент приступил к исполнению отцовского совета. Она намеревалась, отодвинув тонкую занавесь из плотного шелка, скользнуть под теплые струи и слиться с ними и со своим секретарем в экстазе. Не по ее получилось.
Увидев сквозь тонкую ткань занавеси чью–то смутно обрисованную фигуру, Иван Андреевич испугался. Кто это там, неизвестный и бесшумный? А-а, небось тихоня Женевьева с напоминаниями, что пора переодеваться. Ну, получай за свою исполнительность: Иван Андреевич до отказа отвернул ледяной кран, отдернул шелк и лупанул шумным душем перед собою. Ледяные струи ударили в грудь и лицо зрелой красавицы. Она заорала и завизжала одновременно.
За обедом мадмуазель Дижон объявила, что мадам Ева предлагает своему секретарю принять участие в автомобильной прогулке по Чарской долине. Целью прогулки (помимо завтраков на траве и любовании красотами предгорий) является город Тёрн, где двадцать четвертого числа должен состояться знаменитый праздник «опрокинутых чаш».
Надо ли говорить, как обрадовался и обнадежился Иван Андреевич. Три дня уже он не мог пользоваться обществом величественной хозяйки. Ему стало казаться, что он отставлен окончательно, и эта мысль была непереносима.
Увидев, как он просиял при этом известии, мадмуазель недовольно отодвинула от себя вазочку с мороженым, слизнула широким языком белые капли с усов и удалилась.
Итак, автомобильная прогулка. Июнь в Ильвании — этим все сказано. Несмотря на крошечную территорию, княжество располагало разнообразной, в основном курортного качества природой. Имелось два вида гор. На востоке по–болгарски молчали живописные отроги Родоп под густою еловою шубой. Скалистые, как бы оскаленные вершины — македонская вывеска. Извилистая разноширокая долина Чары являлась любимицей и житницей страны. В северной части располагался Тёрн, второй и предпоследний по величине город княжества. В южной, уже отчасти нами описанной, — Ильв. Многочисленные, но малонаселенные руситские деревеньки (ступенчатые скопления черепичных крыш) обнаруживали стремление устроиться как можно выше над поверхностью долины. На самих заливных лугах руситы не селились. На берегах реки было не более десятка деревень. Существовало два одинаково убедительных объяснения этого феномена. Профессор Жилянкович из Загребско–го университета, главный специалист по культуре балканских долин, настаивал на экономико–прагматическом истолковании. У руситов, мол, всегда было очень мало плодородной земли, они привыкли беречь каждую ее пядь. Поэтому они даже дома свои строили не на земле, а над землей. Спустились, возделали — и наверх, спать.
Антонин Плакучий, сорбоннски образованный руситский просветитель, считал такую точку зрения оскорбительной для своего народа. Он защитил блестящую диссертацию, в которой доказывал, что деревни строились в труднодоступных местах для того, чтобы уберечься от турок, армии которых имели обыкновение (в течение пяти веков) использовать Чарскую долину как самую удобную дорогу на христианский север. Поречные деревни — поселения поздние, что видно из песенного фольклора этих мест.
Но оставим этот старый спор славян между собой. Четыре открытых автомобиля выезжают из северных ворот столицы. Под колеса бросается бледный булыжник, по бокам стремительно строятся тополя. «Испано–сюиза» является собственностью «дамы, таинственной во всех отношениях» (так Иван Андреевич теперь думает о мадам), три туринских экипажа предоставлены братьям
Маньяки. Один из них — тенор — сам присоединился к развлекательной экспедиции.
Места в первой машине распределились следующим образом. На заднем сиденье (в центре) мадам Ева, слева мадмуазель Дижон, справа Иван Андреевич. Сиденья устроены в салоне каретным манером, так что сидящие на переднем улыбаются мадам и ее спутникам. Это Антонио Маньяки, толстозадый, томный, приторно–улыбчивый, какое–то оливковое масло в штанах. Он все время делает вид, что хочет отстраниться от занявшего центральное положение (по требованию мадам) мсье Терентия. Ворон делает то, для чего и вызвонен: он без умолку и не без блеску болтает. Что–то черкает в толстой лоснящейся записной книжке. Мсье Терентий дает пояснения по поводу чего угодно. Название минуемой деревни, описание напитка, который может быть произведен из злака, растущего на пересекаемом поле, историческая (сказочная) справка по поводу торчащего на распутье каменного креста. Сэр Оскар У. Реддингтон тоже в первом автомобиле, как и положено британскому подданному Трость, локоны, одышка (даже в сидячем положении). Много ума, но еще больше сдержанности. Видит всех насквозь, но закрывает на увиденное глаза.
В машине номер два смешанная компания. Во–первых, здесь промышленник Мусил. Он дико выглядит в клетчатом туристическом костюме и громадных альпийских башмаках на угрожающе рифленой подошве. Была б его воля, он бы никуда не поехал. Зачем тащиться в горы, когда пиво и сосиски можно обрести не поднимаясь со стула. Единственной его радостью было то, что в поездку не приглашен этот француз–негрофил. Неужели рыжая наглая обезьяна отставлена вместе со своим псевдоантичным хозяином?! Чтобы получить на этот вопрос положительный ответ, пан Мусил готов был терпеть любые муки, даже пикники на горных лужайках. Господин Сусальный молчал рядом. Увидев его, Иван Андреевич сначала испугался — не явился ли тот, чтобы его арестовать, но потом понял, что начальник полиции его скорее охраняет, чем преследует. Крыло мадам прикрывало лучше дипломатического паспорта. Как без светской хроники, так и без полиции безумный этот выброс в горы обойтись не мог. Хуже всего приходилось графу Конселу, он принадлежал к старой австрийской аристократии — породе людей, генетически не приспособленных к передвижению машинным способом. Он усиленно хмурился, пытаясь удержать на переносице пенсне, и ронял его после каждого чиха, вызванного атакой пылевого облака, присланного колесами лидирующего авто.
Третий экипаж был страннее первых двух. Капитан Штабе, бледный от обиды, что его сослали в третий класс, оделся в гражданское платье, чтобы не позорить прусский мундир. Он с удовольствием вообще бы не поехал, но получил задание выяснить, что за каверзу затевает породистая авантюристка. Почему отринут Делес и слегка приближен Мусил. Значит ли это, что она перестала шкодить «Шкоде» и поставила крест на «Крезе»? Чьими, в конце концов, пушками князь Петр будет переоснащать свою допотопную артиллерию? «Знаете, что вас ждет, капитан, если Ильвания последует примеру Сербии?» Итак, он должен был мириться с обществом двух малолетних извращенцев и двух политических беженцев: румына и хорвата. Румын был священником, хорват железнодорожным чиновником. Оба являлись борцами за права своих народов и ведомств. Священник добивался у австрийских властей, чтобы они не вмешивались в дела Православной Церкви; чиновник выступил против насаждения мадьярского языка на хорватских железных дорогах, так называемой «прагматики». Бежав от преследований, оба осели в Ильве и были приближены мадам в рассуждении каких–то отдаленных и не вполне ясных видов.
Капитан старался не смотреть в их сторону и не слушать их разговоров; они состояли из антимадьярских выпадов («скрестили свинину с перцем — получили венгерца») и рассуждений на тему: кто наконец застрелит этого негодяя? Имели они, конечно, в виду эрцгерцога. Штабе, как и абсолютно все в Европе, ненавидел Фердинанда, но, будучи офицером союзной ему армии, не должен был поддерживать такие разговоры. И не поддерживал. В последнем экипаже пустились в путь три веселые девицы, выписанные мадам из единственного и одновременно лучшего модного дома в Ильве. Для каких целей — выяснится потом. Впрочем, девицам цели эти были известны отлично, и они не скрывали их от остальных слуг, устроившихся в том же автомобиле. Все эти сложности и подоплеки были неведомы и неинтересны Ивану Андреевичу. Его мучило желание объясниться по поводу холодного, слишком холодного душа, коему он случайно (ну случайно же!) подверг свою благодетельницу. До отбытия возможности такой не представилось.
За полчаса до старта средь суматохи сборов состоялся короткий, как оскорбление, инструктаж. Суть его сводилась к тому, что в этой поездке Ивану Андреевичу следует помнить о том, что он именно секретарь, хотя большого количества бумажной работы не предвидится. Да, все догадываются об их особых отношениях, но от публичной демонстрации этих отношений надобно воздержаться. Спать, безусловно, в разных покоях. Тщательно избегать ситуаций, которые можно истолковать как уединение вдвоем.
«Высшие политические соображения требуют этого от меня, а я от вас».
Иван Андреевич дал слово мадам. Но не себе. Сдержать его было тем труднее, чем ближе он находился к ней в машине. Максимально подобравшись на сиденье и устремив взгляд вслед объяснениям журналиста, Иван Андреевич позволял своему как бы неуправляемому колену тыкаться в ее сдобное бедро. Не получая ответа, он радовался тому, что неловкое послание хотя бы не отвергнуто с гневом.
Когда достопримечательная чепуха оказывалась слева, Иван Андреевич послушно поворачивался вместе со всеми, но не для того, чтобы осмотреть ее, а чтобы подышать осторожным воздухом в шелковый платок, обнимавший ее шею. Нагретая таким прикосновением ткань начинала пахнуть сильнее, и он принимал это мелкое парфюмерное чудо за обмен очень тонкими намеками.
Мадам Ева не смотрела в его сторону. Даже будучи предупрежденным по этому поводу, Иван Андреевич нервничал. И невольно начинал высчитывать, кому или чему достается большая часть внимания великолепных вежд. Он очень надеялся, что ильванской природе, однако оказалось — нет, оливковому певуну. И не только потому, что он сидел напротив. Вон Ворон тоже сидит прямо напротив, да к тому же интересно болтает, но ему достаются лишь рассеянные улыбки дружеской признательности.
Это стало особенно заметно, когда автомобиль покинул Чарскую долину, взбежал на первый каменный уступ, и открылась на соседнем всхолмии аккуратная деревенька. Белые стены, красные крыши, зеленая муравчатая гора за спиной.
Двигатель гудел, затягивая все туже узлы внутренних усилий, и тут, как бы рожденная тугой механической волной, воспарила «черная ласточка», сладкая соррен–тийская песенка. Это было и уместно и артистично. Синьор старался, пел до дрожи в обширных ляжках. Мадам была в восторге. Иван Андреевич с тоскою осознал, что в этом мире тенора выше секретарей. Нет, надо объясниться! Она все еще обижена на него. Она чувствует себя оскорбленной, а он не виноват. Совершенно, абсолютно! Если б она знала, какие муки
ему приходится претерпевать, не имея возможности выговориться. Иван Андреевич пребывал наготове, все аргументы были начищены до блеска и наполовину вытащены из ножен. Внутренняя тетива была непрерывно натянута. И даже по ночам он не разжимал пальцы. Мадам, пожалуй, догадывалась о состоянии спутника. ' Насколько он был готов дать объяснения, настолько она не спешила их принять. Запретив ему доступ к своему телу, она оберегала также от него и свое сознание. Стоило Ивану Андреевичу подкараулить момент ее краткого, но полного одиночества и броситься к ней с полным ртом словесной сырой от слез каши, он видел на ее устах палец, повелевающий молчать! Она просто хочет меня помучить, думал он и возвращался в выжидающее положение. Пользовался счастьем просто находиться рядом. Пользовался каждой возможностью коснуться ее плеча, шарфа или запаха. Собирал по крупицам впечатления и готовил тайный скудный ужин, без которого не смог бы пережить ночь. Угрюмую глухую ночь в предгорном славянском трактире. На второй день мадам произвела перестановку. Сэр Оскар сел на место мадмуазель Дижон, а та в упор уставилась на господина секретаря. Иван Андреевич сначала расстроился, но тут же нашел успокаивающее объяснение. Если бы его тайные, невидимые для английского монокля ухаживания досаждали ей всерьез, она бы отселила неприятного ухажера к проституткам или гомосексуалистам. Ею был выбран другой путь. Натравив на него мадмуазель, она как бы сказала ему: продолжай меня хотеть, но сумей проявлять это так, чтобы даже моя бдительная дылда не заметила. Что ж, Иван Андреевич страдал, Ворон вещал, сэр Оскар вздыхал, горы высились, экипажи катились. Кстати, чрезвычайно медленно.
— Здесь! — вдруг вздымала палец мадам, прерывая словотечение журналиста, и он, пожевав жабьими губами, менял тему.
— Этот водопад, господа, называется «коса красавицы». Считается, что именно возле него вестготский король Теодорих принял послов императора Валента. Здесь, тоже по преданию, был пленен турками предок князя Петра. Существовала также легенда, что витиеватой водяной колонной любовался сам знаменитый Ламартин по пути вояжирования в Болгарию. Или обратно. Мсье Терентий прищурился на один глаз, припоминая соответствующую французскую цитату. Мадам Ева его перебила:
— Ночевал ваш Ламартин, конечно, в этом медвежьем сарае. — Она указывала при этом на длинное бревенчатое здание с гостиничной вывеской. Синьор Маньяки захихикал.
— Холодная! — сообщил Дюйм Амаду, дотронувшись до висячей воды, набрал густо–белой пены, швырнул напарнику в шоколадную рожицу. Тот завизжал и бросился бежать по слегка наклонной альпийской лужайке, топча невинные цветочки.
Холодная? Это слово очнуло Ивана Андреевича. Он выпрыгнул из машины, решительно направился к водопаду и стал быстро раздеваться. Одежду навалил на серый валун, торчащий из сочного дерна.
Пожилая публика медленно выгружалась из остывающих авто. Одному сэру Оскару требовалось не менее пяти минут на эту операцию.
Увидев, что делает секретарь мадам, большая часть путешественников решила, что он собрался покончить счеты с жизнью. Непонятным оставалось, зачем было так далеко отъезжать от города и выбирать столь странный способ.
Рыча от наигранного удовольствия, почти голый Иван Андреевич стоял под хладным валом воды. Ему смутно была видна немая сцена у автомобилей. Сцена стояла лицом к нему. Высвободив перехваченное судорогой дыхание, он крикнул:
— Я привык, я всегда принимаю холодный душ. Каждый день! Меня батюшка научил.
Теперь–то она должна понять, откуда появился мокрый холод в их отношениях.
Разница меж цивилизованным душем и горным водопадом такая же, как меж болонкой и волчьей стаей. С тяжелым, но отчасти все же сладострастным воем вырвался секретарь из ледяных когтей стихии. К нему, привлеченные остро мужским рычанием, подбежали с хохотом девицы из третьей машины. И стали растирать его своими шарфами. Иван Андреевич всячески показывал, как ему весело. Он чувствовал, что нравится девицам, и хорошо, пусть она видит, как он популярен, хотя и мокр. Он попытался поймать взгляд мадам. Прочие смотрят на него с осуждением, с восторгом, с презрением, с удивлением. Но как смотрит она?! Никак! Она под ручку с толстозадым тенором входит в гостиничные двери. Вошла. Неужели ничего не поняла?!
Или поняла, но ей этого мало. Или нужно не этого? А потом был ужин на траве.
Полыхал пахучий костер за спинами пирующих. Капал ароматный жир с кабаньей туши. На белых скатертях неустойчиво высились бутылки. Хозяин гостиницы с умильной и немного испуганной улыбкой бродил кругами вокруг рассевшихся господ и стремился лично плеснуть мускателя в бокал господина Сусального. Три скрипача наяривали, закатив глаза, какого–то безумного, косматого, одичавшего в здешних еловых ущельях Брамса.
Дело зашло уже достаточно далеко. Поднятые на разных концах мягкого стола тосты при столкновении рассыпались дребеденью глупых словечек и еще более глупых смешков. Иван Андреевич, против всеобщего мнения не простудившийся, а всего лишь отчасти потерявший голос, веселился меньше других. Из–за своих переодеваний и растираний он опоздал к «рассаживанию» и обрел место на задворках стола где–то между церковью и паровозом. Очень скоро сюда с верховий праздника покатились по наклонной плоскости покусанные яблоки и пустые бутылки. Иван Андреевич не мог смириться с тем, что его место теперь, после водного подвига, на помойке. Когда над его головой пролетела апельсиновая кожура и воздух потемнел (не от стыда), он решил, что надо пробираться наверх. Чтобы не привлекать внимания, это надо делать тайком. То есть оставаясь в лежачем положении. Вздымая правой рукой бокал с бледно–янтарным напитком, он левой цеплялся за альпийскую шевелюру, помогал себе каблуками и выгребал все выше и выше. Ему предстояло обогнуть жонглирующего фруктами Дюйма, проскользнуть между двумя жующими жеманницами и ни в коем случае не потревожить клетчатый бочонок, представляющий интересы заводов «Шкода». А там уж можно распрямиться–вытянуться таким образом, что его затылок сам собою окажется в соприкосновении с ее коленом. И будь что будет!
План этот Ивану Андреевичу удалось выполнить почти полностью. Дюймова груша свалилась–таки ему на' голову, мимолетные губы девиц оставили на его щеках запах цыпленка и табака. И вот он уже плавно, уважительно огибает полноватого папу австрийских пушек. Вытягивается вдоль по черно–зеленому шелку. Собирается в пружину. Подмигивает пламенному сполоху в глазу торговца смертью. И начинает распрямляться вновь. Сейчас! Сейчас!
В этой толкотне теней и винных запахов многое можно. Щека касается… это же шнуровка высокого дамского ботинка! Не оттолкнула! Позволяет себя касаться! Секунду, пять, вечность! Попробовать поерзать щекою? Не слишком ли?!
Это же преднамеренная ласка. Табу. И юношеская щетина зашуршала по нечеловеческой коже.
И это позволено ему!
Неужели купание красного от холода секретаря достигло своей цели!
Слезы облегчения застлали голубые глаза счастливого Иванушки. Русая голова продолжала кошачьими движениями ластиться к шнурованному ботинку. Мир был прекрасен в этот момент. Вон пан Мусил заглатывает шпикачку, как необыкновенно обаятельная свинья. Мсье Ворон настолько блистательно острит, что добродушные шлюшки уже не бросают в него цыплячьими костями, а норовят поцеловать умную лысину.
Капитан Штабе, сэр Оскар и граф Консел были вне пределов видимости, но, вероятно, тоже на высоте. Не говоря уже о тех господах и дамах, что пляшут возле костра. Нет, там одна дама и один господин. И стоят они неподвижно. Пляшут языки пламени. Ивану Андреевичу вдруг стала мешать счастливая пелена на глазах. Он закрыл веки, подождал несколько мгновений (не отрывая щеки от любимого ботинка) и распахнул: возле костра стояли, соединившись бокалами, мадам Ева и тенор. Тогда…
Чтобы рассмотреть лицо владелицы чуждой обуви, Ивану Андреевичу пришлось совершить действие, называемое в механике червячной передачей. Увидев перед собой тяжко усмехающуюся гору с большими выпуклыми глазами и цветочной клумбой на шляпе, он почувствовал себя червем в полном смысле этого слова.
— Мадмуазель Дижон, — в ужасе просипел он, но звук, им изданный, очень сильно походил на голос с трудом подавляемой страсти. Гора что–то миролюбиво пророкотала. Иван Андреевич, воспользовавшись своим правом закашляться, уткнулся в платок и пополз на румыно–хорватскую границу.
Может показаться странным, но господин секретарь заснул легко в эту ночь, и ему не снились женские ботинки. И даже тривиальный жар не посетил его. После утреннего какао весело расселись по машинам. Положение Ивана Андреевича ухудшилось вдвое. Появилась еще одна женщина, с которой надо было объясняться. И он опять не представлял, каким образом изменить свою полную невиновность в случившемся. Пока хорошая мысль не придет в голову, он решил не встречаться взглядом с владелицей шнурованной обуви. Поэтому сделался жадным, неотрывным слушателем продажного писаки. Входил во все подробности рассказываемых баек. Истории мсье Терентия не были готовы к испытанию на интеллектуальный разрыв, он хотел забавлять, а не просвещать, поэтому внезапное и угрюмое внимание секретаря мадам встало у него как кость в горле.
Когда тот аккуратно закашлялся в платок, говорун обра–дованно поинтересовался:
— Простудились все–таки?
— Эхо водопада, — пошутил Иван Андреевич и еще раз для совсем непонятливых повторил свою легенду: — Где бы ни приходилось путешествовать, не изменяю этой привычке — обливаюсь водой холодной. Очень проясняет мысли.
— Но может начаться чахотка, — сказал итальянец. Иван Андреевич хотел снисходительно улыбнуться в ответ на это варварское мнение, но, посмотрев на теплолюбивого спутника, — испугался. Это был не тот итальянец. Похожий на тенора, даже очень похожий, но не тот. Близнец, но не певец. И не Луиджи, с которым его знакомили. Или кажется? Да нет, не кажется!
— Вы присоединились к нам сегодня утром? Двойник непонимающе поднял густую бровь.
— Синьор Маньяки путешествует с нами с самого начала, — безапелляционным тоном сообщила мадмуазель Дижон, — вы забыли.
Иван Андреевич не мог на нее посмотреть, а то бы увидел, что усатая улыбается.
— Холодная вода проясняет мысли, — тихо заметила мадам Ева.
Все заулыбались. Иван Андреевич был так рад тому, что она хоть таким образом обратила на него внимание, что не обиделся.
— Но мне все же кажется, что этот господин не тот, за кого он себя выдает.
Кто–то фыркнул, кто–то зевнул, всем было неловко. Иван Андреевич решил сражаться до конца, но тут отказалось служить горло.
— Нет, я уверен. Тут был ваш брат, певец, а вы… — Речь стерлась, как об наждак.
— Но я тоже певец, — рассмеялся синьор Маньяки, уперся левой рукой в колено, принял позу. — Ария Жермона из оперы «Травиата». Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной!
Итальянцы умеют петь все, даже подсадные братья теноров, но все же любому непредвзятому уху было слышно, что поет не профессиональный артист. Иван Андреевич ждал, что кто–нибудь объявит это вслух. Но публика благодарно внимала, салон автомобиля сделался оперной ложей. Иван Андреевич вертел возмущенной головой. Для чего они притворяются?!
Даже мотор перешел с завываний на деликатный рокот. Кроме всего прочего, Ивану Андреевичу в самом выборе арии почудился неприятный намек. Кто это покинул край родной? Не про Прованс он поет, господин секретарь, а про вас! Иван Андреевич не выдержал.
— Это ужасно, — зашипел он, — чудовищно, это невоз–мо–щ-щно. — Шипение перешло в свист и уперлось в тупик кашля.
Это смешно, когда сипящий критикует поющего. Все засмеялись. Синьор Маньяки, демонстрируя хорошую репертуарную оснастку, грянул над бьющимся в судорогах соперником арию Риголетто:
— Куртизаны, исчадья порока, насмеялись над мной вы жестоко!
Иван Андреевич молча признал свое поражение. И когда вместо второго итальянского брата на следующее утро место перед его носом занял третий, тот самый Луиджи, господин секретарь протестовать не стал. Если шпионы с Апеннин желают вести себя так, это их дело. Попетляв еще один день по живописным закоулкам чар–ского левобережья, развлекательный автопробег достиг Тёрна.
Этот город был меньше Ильва, но древнее и темнее. В здешних местах водилась особая глина, после обработки она превращалась в темно–коричневые кирпичи. По соображениям безопасности Тёрн воздвигли на сравнительно небольшом плоском возвышении, что заставляло здания тянуться вверх и прижиматься друг к другу. Всего лишь три или четыре улицы были способны пропустить по себе легковой автомобиль, не превратив его в тромб. Ощущение общей отрешенной устремленности вверх усиливали виноградные шали, коими было задрапировано большинство зданий. Узкие вертикальные окна тускло поблескивали в вечном полумраке уличных каналов. Население более чем на треть состояло из болгар, румын и обалканившихся немцев, что сказалось на тоне и стиле местной жизни. Бытовала в Ильвании такая поговорка: пока Ильв веселится, а Сельм торгует, Тёрн — молится.
Конечно, всякое обобщение есть искажение, в чопорном горном городке были и ростовщики и кабаки. А один раз в году Тёрн становился самым веселым, пьяным и разгульным местом во всем княжестве. Трудно было в это поверить, глядя в лицо ему сегодняшнему, похожему на вечернее кладбище.
Мадам въехала в средневековую гостиницу с мощеным внутренним двором, с галереей вдоль второго этажа, с решетчатыми лютеранскими окнами. Пыльные механические кареты, осторожно ворча, вползли в гулкий объем и замерли, уткнувшись фарами в ограду фонтана. Началось распаковывание.
Ночь Иван Андреевич провел в скучной комнате с белыми стенами, черным распятием над кроватью, узким окном и узкогорлым кувшином на подоконнике. Ужин был до крайности постным: бледная зелень и зеленоватый творог. Такая обстановка подействовала иссушающе на его воображение. Он силился, но не мог себе представить, чем, кроме черно–белого сна, могли быть в эту ночь заняты его спутники и прочие жители гостиницы. Оказалось, что такие ужины и такие ночи, в общем, исключение. Об этом сообщил ему в коридоре Луиджи Маньяки, который, весело напевая (не Риголетто и не Травиату), появился из ванной комнаты с мокрым полотенцем через плечо. Иван Андреевич хотел было иронически поинтересоваться, не намекает ли тот своими завываниями, что его тоже нужно считать артистом, как это требовал вчерашний брат, но раздумал. Ирония — оружие умных рабов.
Что касается сегодняшнего дня, поведал Луиджи, то он праздничный. Приглаживая влажные волосы, он прочел короткую емкую лекцию о «Дне опрокинутых чаш». Триста с лишним лет назад к стенам славного города Тёрна подступил турецкий паша с войском и потребовал позорной сдачи. Получив отказ, удивился и дал залп из старомодных своих пушек. И послал янычар немедленно на приступ. Одно пушечное ядро попало в крепостную стену в том месте, где она прикрывала громадный винный погреб. Ядро взорвалось так удачно, что в стене образовалась брешь. Обрадованный турецкий канонир решил развить успех. На беду паши, оказался он весьма умелым метателем ядер. Из разорванной вторым попаданием тысячеведерной бочки хлынуло на головы орущих турок сладкое терновое вино. Наступление, естественно, прекратилось. Канонир еще больше расширил прореху, дегустация продолжилась. За терновым хлынуло сразу два сорта выдержанных мускатов, а потом кагор. Когда до ноздрей паши донесся винный дух, было уже поздно. Непривычное к вину янычарье перепилось совершенно. Три сотни трезвых саксонских рейтар при поддержке озлобленных грабежами руситских ополченцев изрубили в пьяную капусту всю османскую армию. С тех пор день этот празднуется под именем «Праздника опрокинутых чаш», хотя естественнее было бы его назвать карнавалом продырявленных бочек или даже Днем турецкой артиллерии. Основное развлечение заключается в том, что по улицам бродят люди в янычарских шароварах, с приклеенными усами и голые по пояс. На них льют вино и хохочут.
— Вчера было что–то вроде сочельника, сегодня повеселимся. — И, взяв особо фальшивую ноту, итальянский дипломат убежал переодеваться османом. Подозрительно он ласков со мною, подумал Иван Андреевич, но не задержался на этой мысли. Пошел к себе. Там облачился в лучшее свое одеяние (все–таки праздник) и прилег поверх скучной постели в ожидании того, когда за ним зайдут, чтобы увлечь в водоворот веселья. Может быть, там, в этом водовороте, удастся добыть объяснение странностей мадам. В толпе, среди криков и скрипок, он доберется решительным своим шепотом до ее уха. А может быть, не стоит, наплывала другая тема. Не стоит подступать к ней с неотвратимыми вопросами. Неужели он боится? И чего? Превратить сложную ситуацию в безнадежную? Он что, не уверен в своем влиянии на нее? Совершенно не уверен! Кто он ей — постельный зверок, наказанный за то, что сдуру цапнул за палец свою хозяйку.
Иван Андреевич находил горькое удовлетворение в этом самоуничижительном сравнении. Что делать, коли нет сил оскорбиться? Нет даже сил вести себя оскорбленно.
Впрочем, нет смысла стараться. Она не обращает внимания на то, как он себя ведет. Какова актриса! Ивану Андреевичу хотелось считать, что мадам Еве нелегко дается ее небрежность и холодность. На самом деле она мучительно борется с желанием броситься в объятия несправедливо измученного секретаря. Однако почему за ним не идут?
Раннее же утро на дворе, а в гостинице тишина. Иван Андреевич вскочил и прислушался стоя. Нет, тихо. Растерянно оглянулся на след своего тела на покрывале — с тем чувством, с которым, быть может, флейта вспоминает углубление своего футляра.
Какая чушь приходит в голову иногда. Иван Андреевич хмыкнул и выбежал в коридор.
Он постучал к Луиджи Маньяки, никто не ответил. Пробегавшая мимо служанка пискнула, что «господин ушел». Тогда он — почесав большим ногтем переносицу — отправился к начальнику полиции. И того не застал. Граф Консел — заперто! Апартаменты сэра Оскара — прыщавая аборигенка моет окно в пустой комнате. Бросили, — мелькнула жестокая и веселая мысль. Завезли в терновые, заросли и предоставили произволу судеб. Метнулся к окнам внутренней галереи — четыре автомобиля обнюхивают гранитную чашу фонтана. Облегченно расхохотался. Пробегавшая мимо фартучная девушка, попав в облако его веселья, отрезонирова–ла коротким серебряным смешком. Иван Андреевич дружелюбно шлепнул ее по аккуратному задку и сделался полностью уверен в себе.
Праздник в Тёрне в обратном переводе с немецкого назывался «гулкое гуляние». Особые «турецкие», сберегаемые именно для этого дня барабаны при помощи ярких, со значением расшитых перевязей вешали на себя местные богатыри и толстяки. Животы как бы удваивали силы барабанов. Если округлый звук запереть в узкий, прямоугольный по своим линиям канал улицы, он звереет и рвется вверх, сотрясая балконы, груженные визжащими от удовольствия горожанками. Вдоль третьего этажа поверх виноградных косм висят цветочные гирлянды. Когда под балконом сталкивается пара барабанов, гирлянды заметно колышутся. Владельцы барабанов–гигантов — Ганс Пфлюге с «красным арбузом» и Мирослав Вашек с «Гибралтаром» — устраивают соревнования, кто первым сорвет собственноручным грохотом намеченную гирлянду. Но это уже ближе к полуночи, при свете вересковых костров, дающих тучи громадных искр, как бы передразнивающих небо. Вторая важнейшая часть праздника — «простреленные бочки». Четыре парня изрядной дюжести несут на плечах носилки, посреди которых стоит двухсотлитровый бочонок особой конструкции. Носилки сопровождает человек, одетый как чиновник городского магистрата той героической поры. Стоит собраться вокруг толпе погуще, чиновник забирается под носилки, поворачивает рычаг; вылетают пробки из просверленных в бочке дырок, и во все стороны хлещут струи вина. Все хохочут и выкрикивают сорт винограда и год урожая. Это своего рода конкурс. Победитель получает приз, кажется, бутылку вина. Должность носильщика весьма почетна. Меж парнями–претендентами идет соревнование весь год — несколько туров отбора. Во время самого праздника им пить запрещается.
Иван Андреевич под первый винный ливень попал сразу за стенами гостиницы. Песочный сюртук мгновенно сделался похож на шкуру леопарда. Иван Андреевич попробовал возмутиться, сюртук обошелся ему в четыреста франков, но не нашел понимания у окружающих. Наоборот, победитель мгновенного конкурса опорожнил ему на голову свой приз. «Я культурный человек», — уговаривал себя господин секретарь, с ненавистью глядя в хохочущую рожу знатока местных вин и обычаев. Культурность, как известно, заключается в том, чтобы спокойно воспринимать противоестественное. Распялив рот в подобии счастливой улыбки, Иван Андреевич прорыдал: «Ха–ха–ха», — и от него отстали. Черт с ним, с сюртуком, но где мадам и ее эскорт? Откуда столько народу?
Город, еще вчера напоминавший кладбище, сегодня превратился в ярмарку. Иван Андреевич бродил наугад и как попало, он знал, что оказался внутри лабиринта, но его не интересовало, где находится выход из него. Опытным глазом завидев подозрительную бочку, он обходил ее стороной, но попадал под сладкий водопад из окна на втором этаже. Окатив его мускателем из огромных чаш (вот откуда название праздника), две не очень симпатичные девицы захлебывались собственным хохотом, запрокинув праздничные прически, а потом валились животами на подоконники, и их этим же хохотом рвало.
Андрей Иванович снял цилиндр, чтобы смахнуть с него хмельную лужицу, но обнаружил, что тот усыпан давленым крыжовником. Из экономии его окатили компотом. Но где же знакомые лица? Не бежали ли их обладатели из Тёрна на каретах, побросав автомобили для маскировки? И тут Иван Андреевич увидел пана Мусила — он сидел в углу укромного кафе под специально истребованным зонтом и пил пиво. Какой все–таки милый, независимый в своих напитках человек, подумал мокрый секретарь и не стал нарушать этого одиночества. Он успокоился, и ему сразу захотелось чего–то большего, например, приобщиться к празднику. Он высмотрел плывущую над головами бочку, подобрался вплотную и начал занимать удобную позицию, бесцеремонно навалившись на чью–то сухопарую скрипучую спину. Поймал ртом гранатового цвета струю. Тут же к нему с верещанием с разных сторон слетелись Аннетт, Жюли и Биа, девицы из столицы и из третьей машины. В одну секунду Иван Андреевич наполучал кучу поцелуев, щипков и неприличных предложений. Ртом он продолжал тянуться к слабеющему источнику и остановился, лишь когда подмятый господин издал предсмертный стон.
— Это вы?! — весело, без тени вины в голосе прыснул Иван Андреевич.
— Я, — подбирая моноклем слезинки, сказал граф Кон–сел. Но он не рыдал, он рдел от удовольствия. Выпитое вывернуло Ивана Андреевича наизнанку, он был за скобками праздника — и вдруг оказался в самом центре его. Увидел логику и смысл в повсеместном ки–шении народа. И пошел в него. Весь день провел он в приятных блужданиях. Возле северных ворот пил с подмастерьями шорного цеха, у железнодорожного вокзала обливался из кожаных бурдюков красным сухим с болгарскими козопасами, при этом пытался им объяснить, какая сволочь этот садовник Аспарух, но, кажется, не объяснил. Неподалеку от старых боен обменял свои ели–сейские панталоны, залитые красным вином, на синие турецкие шаровары, залитые горючими слезами какого–то закручинившегося дядьки. Примкнул к параду русит–ских кузнецов, стащил у одного из ихних барабанобой–цев запасную колотушку и бродил после этого, высматривая, по чему бы шарахнуть. Подкрался к тихонько и временно отдыхающему барабану и изо всех сил показал, какой он есть молодец, Иван Андреевич Пригожий. Этот остроумный жест обидел владельца инструмента до такой степени, что господин секретарь ретиво ретировался.
В море лиц попадались ему и знакомые. Особенно много было итальянских, хотел было он спросить у одного из них, что ему, лицу этому, и его братьям нужно от обожаемой им мадам, но, пока подбирал подходящие слова, стоявший перед ним итальянец превратился в толстую бессмысленную руситку.
Стоя с открытым ртом подле очередной бочки, он краем глаза заприметил другого зеваку — хорватского железнодорожника, ловившего соседнюю струю. В течение нескольких секунд они дружески перемигивались, но скоро жизнь разлучила их, не дав перемолвиться и словечком. Сэр Оскар со своими разноцветными бесенятами кушал мороженое, рядом с их кафе было место традиционной барабанобитвы. Сэр Оскар изо всех сил помнил, что он британец, и чем громче грохотала натянутая кожа, тем невозмутимее становилась его физиономия. Быстро вокруг английского стола собралась плотная говорливая толпа. На бледных от напряжения любителей мороженого указывало несколько десятков злорадных пальцев. Пальцы эти вытягивались так далеко, словно желали вытащить вишенку из вазочки посланника. Не во врожденном хамстве местных жителей тут было дело, а в желто–бело–синей гирлянде, висевшей над головами троицы тихих сладкоежек. Барабанные волны сотрясали ее. Еще удар, еще! Ну вот! А–а–я! Летит! Толстый цветочный жгут лопнул и осыпал сэра Оскара и его детишек двадцатью фунтами мертвых цветов.
Дальше впечатления Ивана Андреевича сделались рваными, возникли протяженности пустого серого времени, где он функционировал как объект, не будучи ни в малой степени субъектом. Ободрал сухие виноградные волосы с безмолвной стены. Видел лицо усатой женщины в медленно восстанавливающемся зеркале воды. Что за вода? Фонтан? Пруд? Бассейн? Сначала она принесла облегчение, а потом улыбнулась улыбкой Анаконды. «Здравствуйте, мадмуазель Дижон», — пробормотал он на всякий случай и вновь забылся. В гостиницу привел его запах бензина, сочившийся из внутреннего двора, сделавшегося стойлом автомобилей. Вечерело, началось вторжение предгорного тумана в лабиринт праздника. Биение барабанов сделалось мягче, и соответственно утихали сердца. В небесах завелись первые звезды, захотелось плакать и о многом–многом кому–нибудь поведать. Почему же она ему не встретилась?! Ведь она участвовала в празднике. Он бы почувствовал ее отсутствие.
Аккуратно держась руками за ступени, поднялся на второй этаж. Вечно торопливая горничная, летевшая сверху со стопкой белья на вытянутых руках, выдавила своим каблуком лужицу боли из мизинца четвероногого господина. Запричитала от ужаса и неожиданности. Понимая, что она ему особо обязана и не сможет отказать, Иван Андреевич схватил ее за низ фартука и проникновенно спросил: — Где мадам?
О, она где–то здесь, в этом проклятом отеле, в этом оживленном аду. По всем лестницам стучат копыта прислуги. В разных концах и этажах пьяного муравейника раздается пение. Оно отражалось в пьяном слухе Ивана Андреевича, как в кривом акустическом зеркале, и мучило воображение призраками того, чего нет. Скорей всего мадам прячется в тех местах, где поселились Маньяки. Иван Андреевич выбрал позывные музыкального урода, говорящего по–итальянски, и, скорчившись, прислушался. Кажется, там! Бодро зашагал в выбранном направлении, но, прибыв, по его расчетам, на место, обнаружил, что не слышит итальянских стонов. «Голубая канарейка», порхавшая в волнах сдобной страсти, издохла. Где–то за спиной возникает «Не забывай Неаполь и вернись в него». Иван Андреевич колченого помчался на новый зов. О ма–дам, ма–дам, ма–дам, — рушась в бездну и одновременно считая ступени, бормотал он. Неаполь померк, не подпустив к себе, блудливый дебил–бельканто бродил уже повсюду и блеял где заблагорассудится. А может, все наоборот, холодея, подумал Иван Андреевич. Может быть, этот итальянец бессовестно развлекает неподвижно сидящую (или лежащую) мадам Еву (не станет же такая женщина носиться вверх–вниз по лестницам за голосистым недоноском). А он, безумно влюбленный и пьяный секретарь, каждый раз промахивается. Слух, обманщик–слух! Нельзя доверять ни слухам, ни слуху. Нельзя было доверяться тому, что не абсолютно. Надо доверяться зрению.
Если мадам Ева здесь, то в одной из комнат он ее обязательно обнаружит. Надо просто открывать все двери подряд.
Много повидал всякого молодой секретарь во время этого похода. Тайные свидания и таинственные сцены. Не только насмотрелся всякого, но и кое–чего наслушался, особенно когда открывал двери, занятые посторонними компаниями, где тоже отнюдь не в фанты играли. Пришлось и потолкаться, в основном с сэром Оскаром, он тоже бродил по коридорам разврата с тяжелым сердцем и еще более тяжелыми ногами. Шатающийся юноша обязательно, даже при искреннем желании уклониться от встречи, врезался в страдающую тушу. Причем туша всякий раз тушевалась и бормотала извинения.
Британец, как и Иван Андреевич, разыскивал кого–то жизненно ему необходимого. После пятого примерно столкновения на встречных курсах, представители двух самых больших в мире империй объединились и теперь вскрывали каждую дверь с двойным правом. Навстречу попался Луиджи Маньяки с емкостью мутного алкоголя. Они столкнулись, стеклянная емкость полетела на пол и лопнула. Огромная лужа жадно расползлась по ковру. Итальянец онемел, несмотря на то, что до этого молчап. Иван Андреевич не стал выводить его из этого состояния и поспешил к замеченной поблизости двери. Ее он, кажется, не открывал. Мадам там!!!
Он открыл дверь и увидел, что комната пуста и что это именно его комната. И силы оставили его.
Что–то мешало Ивану Андреевичу стать самим собой. Что–то близлежащее и вместе с тем невидимое. Какая, в общем–то, в этой жизни царит теснота! — подумал Иван Андреевич свесившейся с кровати головой. Он решил, что находящийся неподалеку пол предоставит ему больший простор для самоощущения. Щадящим образом он сгрузил себя с кровати, получив возможность расправить свои члены и овладеть ими. Настолько, что стал подниматься. Встав на ватные колени, он с медленно нарастающим удивлением обнаружил, что метал лиловые молнии неудовольствия не в кого–нибудь, а в свою возлюбленную. В медовую мадам. Оказывается, его Ева провела ночь (или по крайности утро) в одной с ним кровати. Или это снится? Да нет, — досадливо отмахнулся от этого жалкого объяснения, — ничего не снится. Она здесь, и, судя по тому, насколько погружена в сон, — давно. Полная сдобная длань покрывает лицо.
Иван Андреевич начал ощупывать себя в попытках определить, что было меж ними во время его беспамятства и было ли вообще. Турецкие штаны вместо информации несли тарабарщину, разочаровала и жилетка, грязная, липкая, немая. О, если бы на нем в эту ночь были родные панталоны! Там каждая пуговица — сказитель. Да, мы забыли сообщить важную подробность: мадам была обнажена. Иван Андреевич не отрывал взгляда от пятерки ярко–красных ногтей, выложенных на страже былинного лона. Живое воплощение спящей Венеры. От картинной знаменитости мадам отличалась только цветом ногтей. Ногтями этими, всею кровавой десяткою, мадам порой записывала на спине секретаря свои впечатления при опробывании экзотической мебели.
— Ну что же вы? — сказала лежащая чужим спросонья голосом.
— Что?! — потрясение вскрикнул секретарь.
— Я жду уже около трех часов. Ведь вы искали меня?
— Искал, искал! Конечно, искал! Значительно дольше трех часов. Всю ночь. С самого начала этой мучительной поездки, нет, с того дурацкого душа. Даже раньше — с французской кровати. С того момента, как продырявил этого наглеца Алекса, с той встречи в мебельном балагане! С той минуты, что я появился в Ильве. С той
минуты, что я появился на свет!
Конечно, Иван Андреевич был не способен произнести
эту хоть и страстную, но подозрительно стройную речь;
он издал несколько рыдающих хрипов. Но не поднялся с
колен.
Над ним прозвучал властный уверенный голос:
— Я давно заметила, что вы меня любите.
— Да, да, да! — И он тут же попытался объяснить, как и насколько. Речь эта была сколь длинная, столь и сбивчивая. Текли слезы непрошеные и очень медленные. Иван Андреевич заверял каждую страницу любовного бреда потными печатями, что наносились лбом на подушку, на остывшее покрывало, на подставку для ног, на прикроватный коврик.
Иван Андреевич объяснял, что влюбился сразу, только не сразу это понял, ибо, входя в рай, не обращаешь внимания на то, что ворота распахнуты. До конца дней, до последних всхлипов своего никчемного существования он будет возвращаться на простор этого бескрайнего месяца, ибо истинная жизнь его вся там. Она закончилась, прошла и поэтому неуязвима. Там вечно умирает сорванная любимыми пальцами былинка, там навсегда дрожат пружины в жадных до человеческого тела кроватях, там полупрозрачные фигуры комических дипломатов пасутся на тускло отсвечивающих паркетах, а бело–розовые облака окончательно остались в пределах застланного восторженными слезами взгляда. «Да, я вас люблю — вы слышите, до какой степени небезмолвно, но тем не менее безнадежно!» Лишь малая часть сказанных слов приведена здесь, малая и внятная. Страстные и бессвязные пассажи кишат по краям слепящего признания.
Светская львица не прерывала говоруна и слушала с подчеркнутым вниманием, даже сочувствием. Нет речи, которую нельзя было бы закончить, настал момент, когда с таким трудом воздвигнутое здание словесного замка Иван Андреевич не мог уже поддерживать силою иссякающего дыхания. Сооружение начало рушиться, все смешалось — доказательства и слезы, аргументы и рыдания.
— Я весьма удивлена речью вашей, мой юный и безумный друг. Глубочайшее есть у меня подозрение, что весь месяц, коему был посвящен вдохновенный ваш рассказ, вы делили особняк на Великокняжеской не со мной, а с какою–то другой женщиной.
Впервые за все время разговора Иван Андреевич поглядел в лицо лежащей и остолбенел. А она продолжала. Тон ее был весел и почему–то угрожающ:
— Различия между мною и воображенным вами фантомом микроскопичны, но уж больно многочисленны. Не буду останавливаться на каждом. Вот несколько вопиющих примеров, взятых наугад из вашей сумбурной речи. Письмо к швейцарскому бургомистру. Иван Андреевич продолжал представлять собою коленопреклоненную статую.
— Вы отчего–то утверждаете, что тогда, то есть во время написания оного послания, лилась из замаскированного патефона музыка композитора с длинной русской фамильей Римский — Корсаков, однако же я отлично помню, что установила пластинку другого автора, а именно Масснэ.
«Хорошо, что не Массена», — пролетела сквозь пустую голову секретаря абсолютно праздная мысль.
— А измышления по поводу моего туалета на бале? Неужели вы думаете, что я могла явиться на дипломатический прием в тунике и пеплосе — в костюме, отдающем низкопробным балаганом? Еще эту дуру Розамунду я могу себе представить зашедшей в такие гардеробные дебри в погоне за модою, но чтобы я! А самое подозрительное — яблоко. Позвольте вам заметить, я яблок не ем. И другим не предлагаю. Мой любимый фрукт — персик. Персик, персик и только персик. Справьтесь у
кого угодно, что предпочитает на десерт мадмуазель Дижон, и вам ответят — персик.
— Что вы здесь делаете, мадмуазель, и в таком виде? Что вы здесь делаете, мадмуазель Дижон?!
— Меня зовут Меропа.
— Очень неприятно.
Тень надменного неудовольствия появилась в лице мадмуазель.
— Что вы имеете в виду? Я здесь нахожусь по вашему настоятельному приглашению и в подобное состояние привела себя, следуя вашим советам.
— Да-а? — Иван Андреевич не верил ей, но знал, что мог бы такое сделать.
— Вы с первого дня поездки начали оказывать мне несомненные знаки внимания…
Иван Андреевич мстительно вцепился в щеку, которая шарила по девичьей шнуровке на альпийской лужайке.
— Если вы заметили, я спокойно, с юмором даже снесла ваше признание в том, что вы сохраняете светлые воспоминания о месяце, проведенном в объятиях моей сестры…
— Чьей сестры?
Мадмуазель криво усмехнулась.
— Сестрица меня предупреждала, что вы не вполне вменяемы, но не настолько же! Моя сестрица, моя! Европа! Пальцы Ивана Андреевича со щек поднялись к вискам.
— Может быть, я и в самом деле слегка не в себе, но, право же, я не знаю никакой Европы, кроме Европы. Скрипя кроватью, мадмуазель стала подбираться к Ивану Андреевичу, ведя при этом разъяснительную работу.
— Европа — полное имя моей сестры, Ева — домашнее, так ее зовут близкие люди. Я Меропа, она Европа.
— Какие созвучные имена, — сказал Иван Андреевич, отползая по прикроватному коврику.
— Между нами вообще очень много общего. Куда же вы, господин секретарь?
— Я не ваш секретарь, я служу только мадам Еве.
Европе.
Крупная голая старая дева замерла на краю кровати, постепенно пропитываясь обидой. Несколько крупных бледно–розовых пятен возникло на разных частях тела, которое без помощи сознания вспомнило о стыде.
— После всего вы… — Она не договорила, резко откатилась по покрывалу и пала с кровати с противоположной стороны.
Иван Андреевич остался лежать на боку, прижавшись спиной к стене. Безуспешно пытаясь разобраться в происходящем. Он не видел страшную гостью и не знал, чем она занимается по ту сторону ложа. Может быть, вынимает мстительный кинжал. Но где сейчас мадам? Где Ева? Где Европа? Какое странное имя! Почему наглая сестрица так уверена в себе? Мадмуазель закончила туалет и, обойдя кровать, появилась над лежащим.
— Это… — растерянно начал он, но не смог продолжить.
— Да, это я, — чему вы удивляетесь? Вы видите меня в подобном наряде уже второй раз. Мадмуазель была в черном вечернем платье, грудь ее скрывалась под фальшивым бриллиантовым панцирем, на голове — это поражало сильнее всего — высилась мощная сложная прическа. Утыканная перьями.
— Это парик? — жалобно поинтересовался секретарь.
— Это парик. Не правда ли, в таком облачении я довольно сильно похожа на свою сестру.
— Удивительно.
Мадмуазель вдруг разъярилась.
— Ничего удивительного, ведь мы близнецы, сестры–близняшки.
— Этого не может быть.
— Что же так? Уверяю вас, у нас все одинаковое: и размер бюста, и объем бедер, и цвет глаз, и походка.
Только профессии разные. Она пошла в актрисы и проститутки, а я в стенографистки и переводчицы.
— Мадам Ева прекрасна, а вы…
— А я?! — заревела Меропа.
— Отвратительны.
Мадмуазель все же не ожидала столь прямого ответа,
ее передернуло, она осклабилась.
— Зачем же вы оказывали мне знаки внимания?!
— Это было недоразумение, дурацкое недоразумение. Всего один раз.
— Один раз?! А все те взгляды, намеки, пикировки?! Вами было сделано достаточно, чтобы я приняла ваши намерения достаточно всерьез. Глубокое женское сердце воспламеняется от самой ничтожной искры.
— Я люблю мадам Еву, и других женщин для меня нет. И девушек.
— Это я уже поняла. Ну так вот что я вам скажу, ничтожество в панталонах. Ваша возлюбленная бросила вас, но не так, как женщина бросает возлюбленного, а как кухарка бросает грязную отслужившую тряпку. В помойное ведро. Она до такой степени дорожит вашей любовью, что разрешила мне попользоваться вами, если у меня будет такое желание. Со смехом разрешила, «чтоб добро не пропадало», — вот ее слова! Все равно вас потом отдадут Розамунде.
— Что значит отдадут? Это неправда.
— Не–ет, правда. Истинная правда, полная и окончательная.
— Я пойду сейчас к ней, пусть она сама это скажет. Мадмуазель усмехнулась как можно более оскорбительно.
— Мадам Ева, надо думать, в этот момент подъезжает к Ильву. А может быть, уже беседует с князем. А за вами я сейчас пришлю господина Сусального, чтобы арестовать и препроводить в Стардвор, в распоряжение этой хромой дуры. Она требовала вашу голову — и она ее получит.
— Какую голову, я свободный человек!
— А дуэль? Вы уже забыли?
Иван Андреевич потерянно покачал головой.
— Я вам не верю
— Это ваше право, но будет по–моему.
— Я люблю мадам Еву, я объяснюсь с ней. Тут какая–то злонамеренная путаница. То, что вы говорите, чудовищно.
Мадмуазель снова усмехнулась и молча вышла. Иван Андреевич обессиленно закрыл глаза и услышал омерзительные детские голоса:
— А-а, вот мы вас и нашли! — Это были Дюйм и Амад. — Нам сейчас уезжать.
— Зачем же вы меня искали?
— Мы же говорим, нам сейчас уезжать, и мы хотели бы получить должок.
И они, по–детски радуясь, в четыре руки начали лепить в лоб лежащему выигранные во дворе дворца щелбаны. Время от времени засовывая отбитые пальцы в рот, чтобы остудить.
Лишь появление начальника полиции спугнуло их. Господин Сусальный явился не один, за его спиной стояли двое полицейских. Крупные, мрачные, но добропорядочного образа дядьки, поросшие одинаковыми соломенными усами. По приказу начальника они взяли Ивана Андреевича за предплечья, резко подняли и повлекли вон из комнаты. Секретарь не сопротивлялся. Через черный ход его вывели к черной карете и молча впихнули внутрь. Проделав в полнейшем молчании короткое путешествие по кривым улочкам Тёрна, они вознеслись все вместе на третий этаж какого–то дома. Там в скупо обставленной, пропахшей дешевым табаком комнате уже находился начальник полиции. Он стоял у зашторенного окна немного сгорбившись, папироса в зубах, печаль в глазах. Полицейские вышли, усадив пленника на стул.
— Вот, — господин Сусальный показал свернутый в трубочку лист бумаги с висячей печатью, — это приказ о вашем аресте.
Иван Андреевич вопросительно сглотнул слюну. Полицейский вздохнул.
— Дуэль. В нашем государстве дуэли запрещены. Стро–жайше. Приказ старый, подписан в тот же самый день. Вы оставались недоступны властям, ибо проживали во дворце мадам Евы. А мадам занимает особое положение не только в Ильванском княжестве, но и во всей европейской политике. Вы, наверное, заметили? Иван Андреевич не до конца понял, что имеется в виду, но почувствовал, что в этом месте надо кивнуть, и кивнул. Иван Сусальный опять вздохнул.
— Я ее не люблю, а вы любите, поэтому нам трудно будет понять друг друга.
Пшеничные усы висели самым пессимистическим образом, в глазах — смертный свет неверия в свои силы и в нужность того, что он будет сейчас делать.
— Мадам Ева, требующая, чтобы ее именовали Европой, имеющая в арсенале еще не менее дюжины маскировочных имен, — известнейшая на континенте авантюристка. Она состоит или состояла в тесных, а иногда и интимных отношениях со многими знатными, богатейшими и даже коронованными особами. В известном смысле вы можете считать себя польщенным. Иван Андреевич стал считать.
— К ее помощи прибегают для исполнения поручений самого щекотливого и тайного характера. Иногда через нее вершится даже высокая политика. Самая высокая. Много весьма любопытного и крайне отвратительного рассказывают о ее давнишних отношениях с самим Францем — Иосифом. Это сейчас все его силы уходят на ношение бакенбардов, а еще каких–нибудь тридцать лет назад он был мужчина хоть куда. Когда–то весьма давно он отбил мадам у небезызвестного графа Консела. Да, да, молодой человек. Граф тогда отнюдь не был такой развалиной, как ныне. Он подобрал юную Еву в каком–то заштатном варьете, дал артистическое образование, истратил на нее уйму денег. У нее были попутные увлечения, но всегда она возвращалась к графу. Думаю, он специально запускал ее в постели таких людей, как австрийский император, чтобы через нее влиять на дела. При этом искренне ее любя. Вот такие случаются психологические выверты в сфере большой политики. Создание переросло создателя; разорив графа, Ева скрылась под крылом Вильгельма, тогда еще наследника престола. И этого он ей простить не смог, возненавидел люто. Иван Андреевич тупо смотрел перед собой.
— В Ильв она явилась по делу, которое вроде бы не отнесешь к самым крупным. Дальше начинается государственная тайна, поэтому слушайте особенно внимательно. Князь Петр решил заняться перевооружением нашей армии, даром что она и в перевооруженном состоянии никому не сможет сопротивляться. По традиции мы всегда покупали снаряжение у Австро — Венгрии. Всё — от пушек до пуговиц. Это сравнительно дешево, и недалеко везти. Кроме того, это была своего рода дань великому соседу. Продавец с симпатией относится к покупателю. Мадам Ева взялась хлопотать о продвижении, извините за этот британский жаргон, на наш рынок оружия французской фирмы «Шнейдер и Крез». Раньше этим занимались братья Маньяки, но немногого добились. Австрийские пушки хуже французских, но зато почти вдвое дешевле. Кроме того, обращаться к Крезу в нашем случае — значит подражать Сербии. Этого венцы никогда не простят. Вы меня понимаете?
— Думаю, что да, но не думаю, что мне это что–то дает.
— Подождите, осталось совсем немного рассказать. В течение месяца мадам Ева боролась против пана Муси–ла за сердце князя Петра. Позиции ее были слабы. Она настаивала, чтобы правитель Ильвании поступил строго против интересов собственной страны. Автомобильная прогулка в Тёрн была задумана специально, чтобы удалить из города всех, кто смог бы отговорить князя от подписания противоестественного контракта. Она обманула всех. И братьев Маньяки — обещала поделиться и не поделилась. И Ворона — обещала вернуть ему его долговые расписки, а сама передала их господину Пас–ку. Я не говорю про пана Мусила — он вообще на грани самоубийства. Сейчас, — Сусальный достал часы, — мадам, вероятно, уже на приеме у князя. В разговоре один на один она его уломает. Могла бы помешать княгиня, но, судя по тому, как мне велено обращаться с вами, и Розамунду удалось уговорить.
— Спасибо за эту бездну сведений, тем более таких секретных, но так и не возьму в разумение, почему именно я, почему именно мне все это должно быть сообщено?
Господин Сусальный посопел, потрогал край уса.
— Меня зовут Иван, казалось бы, так же, как и вас. Но нет! У вас библейское имя, а у меня местное, ильван–ское. Доказано убедительно господином Плакучим, всемирно известным нашим ученым, что в древности столица нашего княжества называлась не Ильв, а Ив. Пойдите на берег Чары, на то место, где вы так неразумно стрелялись, и поймете, почему: Ивовый край. Ив — вот имя столицы этого края. Иван — имя столичного жителя. Заметьте, краткость — особенность нашего языка; он самый древний из славянских, ближе всех стоит к языковым корням. Смотрите: Ильв, Тёрн, Сельм — вот названия наших городов. Только в семнадцатом веке обозначилась смягчающая латинская огласовка. Румынское влияние. Не Ив, а Ильв, не Сем, а Сельм. А знаете, почему именно Сем? Потому что семь дней. Это исконно торговый город, рынки трудятся без выходных, даже в воскресные дни. И последнее доказательство: возьмите румынские или венгерские карты. «Где?» — вяло подумал Иван Андреевич.
— И вы увидите, что наш Тёрн обозначается там как Тьерень. Они его пытались подвергнуть смягчению, но горная твердыня устояла.
В глазах начальника полиции заблестела жизнь, какие–то исконные, хотя и присыпанные пеплом служебной тоски огонечки.
— Возвратимся к моему имени. Если я Иван, столица зовется Ив, то…
— Страна должна называться Ивания, — брякнул секретарь.
— И никак иначе, — просиял господин Сусальный, — и пусть многим, очень многим это не нравится. А теперь я расскажу, почему вы здесь. Иван Андреевич напрягся.
— Все настолько просто, что должно быть обидно. Для вас. В общем, княгиня Розамунда потребовала вашу голову. В обмен на подпись мужа на контракте. Князь слушается жену свою во всем. Он импотент, а она немка. Это наше большое национальное горе.
[— Но, — Иван Андреевич преодолел спазм, схвативший его за горло, — я вам, простите, не верю. У меня такое впечатление, что княгиня скорее расположена ко мне… зачем ей моя голова?!
— Да, к вашему несчастью, вы произвели на графиню очень благоприятное впечатление. Сильное. Зажгли в ее сердце чувство и тут же нырнули в постель мадам. Чувство редко в таких ситуациях переходит в бесчувствие. В равнодушие, понимаете?
— Она меня возненавидела?
— Да. Но ей нужна голова, только голова. Начальник полиции встал, прошел до двери, открыл ее и осторожно выглянул. Было видно, как коридорный сквозняк фамильярничает с его усом.
— Послушайте, господин Сусальный. Иван. — Секретарь закашлялся, ему было и страшно и неловко. — Я о голове. Вы решили выполнить приказ этот?
— Да, у меня есть приказ о вашем аресте. Но я хочу, чтобы вы мне помогли. Помочь вам бежать. У вас в глазах удивление? Почему я так поступаю? Я, как вы правильно подметили, Иван, русит. Мне неприятно, что француженка и немка станут играть вашей головой. Авантюристка и калека. Не верите в возможность таких чувств в начальнике полиции?
Иван Андреевич хотел сказать, что ему все равно, благодаря каким (и чьим) чувствам он сохранит свою голову на плечах. Но начальник полиции его опередил.
— Скажу тогда, что мне выгодно ваше бегство: не получив обещанного, княгиня Розамунда разозлится и потребует расторжения контракта с Крезом. Это еще можно сделать. Князь Петр купит дешевые австрийские чушки и убережет казну от окончательного истощения. И теперь я слушаю вас. Ваше слово, господин русский путешественник. Стоит отступить главному страху, как человек оказывается в толкотне второстепенных чувств. Многообразные и безобразные впечатления пьяных суток захохотали в углах еще несколько квадратной головы. Болел лоб — то поклоны и щелбаны. Зашевелился в сознании голый кошмар по имени Меропа. Иван Андреевич ощутил нестерпимое желание задать несколько вопросов мадам. Еве, Европе, авантюристке, подружке императоров и своей любовнице. Только таким путем можно было выйти из шизофренического лабиринта, в который он попал.
— Я должен поговорить с ней.
— Все могу позволить вам, а этого не могу.
— Тогда чего стоят все ваши слова? Может, вы просто наговорили на нее?
— Нет, не наговорил. Только она уехала, я же вам уже сказал. Ночью в Ильв на машине. А вас вот не взяла. Выдала вас Розамунде. С головой.
— Но тогда хотя бы мадмуазель…
— Нельзя!
— Она тоже уехала?
— Нет, без вас она не уедет, ей велено доставить вас в Стардвор. С одной ролью — двойника мадам этой ночью — она справилась. Она бродила по коридору в платье сестры, и все думали, что мадам на месте. А вот с вами я ее обманул. Не следовало ей отпускать вас от себя. Но в этом доме вы в безопасности. Правда, искать она вас будет яростно.
— Чтобы отомстить? Я обидел ее, — пояснил Иван Андреевич.
— Интересно, как вы смогли «обидеть» это существо? Иван Андреевич затравленно поглядел на полицейского — стоит ли говорить? Да чего уж там.
— Она почему–то решила, что я проявляю к ней интерес как к женщине и тут же предложила мне свою любовь. Я отверг ее, и даже с содроганием. Начальник полиции, резко выходя за рамки своего печального образа, расхохотался:
— Еще бы ей не обидеться, она обязательно должна была возыметь к вам особую злобу. Как же, с Европою он спит охотно, а с Меропою не желает, когда они близнецы.
— Да, — Иван Андреевич потер лоб, — она сказала мне об этом, но я никак не могу поверить. Она и… она — близнецы.
— Да вам кто угодно скажет. Все это знали. Знали, как стенографистка завидует актрисе. Даже переодевается тайком в ее платья, смотрится в зеркало, представляет себя сестрою. Такая возможность, как сегодня ночью, поизображать из себя мадам — для нее счастье. Но мужчин отпугивает. Вы вот тоже… Она рассчитывала попользоваться… Теперь вы понимаете, что вам нельзя показываться ей на глаза. По городу уже шнярыют шпики. Ни мне, ни вам не поздоровится.
— Вы же начальник полиции? — не удержался от ехидного вопроса Иван Андреевич.
— Да, такова наша несчастная жизнь. Возможности у развратной авантюристки значительно больше в нашей стране, чем у законной власти… Я знаю, что большинство моих людей подкуплены, и доверять могу только бывшим односельчанам. Я не могу рисковать в этой партии, поэтому прошу не удивляться тем мерам безопасности, что будут к вам применены. Иван Сусальный встал, закурил новую папиросу.
— Я сейчас отправлюсь на вокзал, чтобы подготовить наше безопасное убытие. Сначала Бухарест, там пересадка — и дальше прямиком на родину. Я забочусь о спасении вашей жизни и очень прошу не мешать мне в этом. Иван Сусальный мрачно затянулся дешевым дымом.
— Кое–что все–таки согревает мое сердце, даже в сей мрачный день, когда я вынужден навсегда покинуть свою родину.
— Что? — вяло поинтересовался Иван Андреевич.
— Я представляю себе, как мадам Ева расправится с нерадивой мадмуазель.
— Почему?
— Меропа не сможет доставить вас в Ильв, Розамунда заставит князя опротестовать контракт, все планы мадам, а их у нее, насколько известно начальнику полиции, много, полетят в тартарары.
Некоторое время Иван Андреевич лежал на потрескавшемся кожаном диване, мрачно глядя в потолок. Но до отхода поезда было слишком много времени, лежать без движения и без надежды на будущую встречу было невыносимо.
Нет, он будет к ней писать.
Иван Андреевич потребовал перо и бумагу. Полицейские, невесело посоветовавшись, принесли и то и другое. Играть в деликатность не стали, наоборот, нависли справа и слева, присматриваясь к каждой букве сочиняемого послания. Пусть, мстительно решил Иван Андреевич, применив французский язык. Изведя листов двадцать почтовой бумаги на черновики, изготовил пронзительный текст–вопль, который, прошибая ширмы всех недоразумений, должен был довести до сознания всеевропейской интриганки (в глубине души Иван Андреевич все более сомневался в словах положительного полицейского), как она, несмотря ни на что, любима нелепым сыном костромского архитектора. А в конце в стиле кровавого всхлипа просил о встрече. Он выражал уверенность, что ему удастся «вымести сор ссоры из храма любви».
Несмотря на цветистость слога, в письме чувствовалось искреннее чувство.
Господи, почему из–за того, что французские пушки дороже австрийских, он должен навсегда расстаться с любимой женщиной?! Почему он должен верить ценителю славянских древностей, который сидит сейчас в гражданском платье на Тёрнском вокзале, готовый к совместному бегству на север? Русит спасает русича? Но не спасает ли он на самом деле при этом контракт пана Мусила с лысым князем? Несомненно, дело так и обстоит. Начальник полиции не может быть тонким, душевным, бескорыстным интеллигентом. Иначе придется считать, что весь мир встал с ног на голову. В этом мире меж близнецами нет ни малейшего сходства! Но зачем же она бежала без него? Почему не взяла его хотя бы как секретаря? Сусальный! Он, господин Сусальный, явился к ней, к порывистой вспыльчивой красавице, и наговорил такого… в конец все еще рыдающей строки упала короткая очередь капель. Иван Андреевич запрокинул голову и стал нащупывать платок. Нос всегда был его слабым местом. Неоднократно он орошал алой жидкостью своей страсти и ланиты, и перси, и длани, и даже чресла своей пассии. И ей это нравилось, хотя ни в одном европейском языке, кроме русского, кровь и любовь — не рифма. Полицейские, завидев кровь, решили, что перед ними происходит случай какого–то хитрого членовредительства, а может, и самоубийства. Они ударили писаке по рукам.
С чувством своего трагического превосходства он рассмеялся. И спросил, не является ли господин Сусальный также и начальником тайной полиции. Является, ответил усач с двумя нашивками. Это ни для кого не секрет. Руки Ивана Андреевича были отпущены, и он сквозь прижатый к носу и губам платок спросил, знают ли господа полицейские, как называется дело, в котором они участвуют.
— Похищение у Европы. Когда–то из–за путаницы вокруг названия одной русской картины я застрелил человека и обрел любовь.
Ничего не понявший капрал следил за тем, как Иван Андреевич вписывает в письмо корявый каламбур, дабы повеселить возлюбленную и сообщить о неожиданном прозрении. О Боже, как они были близки, когда друг друга абсолютно не понимали. Теперь разъяснились все детали и нюансы той священной невнятицы, а меж ними шестьдесят верст. Бог весть сколько шпионов и целая выдуманная страна.
Он заклеил конверт, а капрал ему сообщил, что письмо отправлено быть не может.
— Распоряжение господина Сусального. А теперь пожалуйте бриться.
Пока капрал удалял со щек Ивана Андреевича щетину, второй полицейский вынул из конверта две светлые волосяные пряди. Что это?
Оказалось, усы. Их старательно и умело наклеили беглецу на верхнюю губу. Потом заставили переодеться в платье ильванского крестьянина, явившегося в город на заработки. До вокзала велено было добираться пешком. Зашторенная карета вызвала бы подозрения. К вокзалу в целях конспирации продвигались не прямым путем, а замысловато и бессмысленно петляя. Тюрьма, биржа, костел, банк, мечеть, набережная. «А там что?» — «А? А там старые бойни. Теперь там живут бродяги. В бочках. Гостиница для Диогенов. У самой воды». — «Чара ведь течет оттуда?» — «Да. Вообще–то она речка горная, да уж тут, в Тёрне, нрав успокаивается». Конечно, этот разговор произошел у Ивана Андреевича не с капралом, а со старым, классического вида букинистом, что устроил свой развал на широком шершавом парапете над плавно несущейся пеной.
Чтобы втереться в доверие к букинисту, надо у него что–нибудь купить. Иван Андреевич взялся приобретать том Моммзеновской истории, кажется, третий, сопровождая покупку похвалами в адрес Цезарева критика. Речь он вел по–немецки, но, как ок–к–казалось, на этом языке владелец берета мог лишь заикаться. Но вот какой–то Сент — Бёв! В ответ на первое же «парле» книгопродавец расцвел и сладострастно зашамкал. Иван Андреевич тут же достал несколько банкнот.
— Я возьму это, это и это.
То есть Моммзен, Сент — Бёв. И еще зачем–то венгерско–хорватский словарь. Наверное, для маскировки. Денег он вручил старику впятеро больше, чем стоили эти духовные сокровища. Все, что шло поверх цены, предполагалось сделать платой за передачу (Иван Андреевич стал его тихонько доставать из кармана) письма в столицу. Серо–голубые не разбирались в сент–бёвском языке, но отлично смыслили в деньгах. Завидев количество нулей на бумажках, они поняли: что–то затевается. Капрал плотно взял секретаря за предплечье и увлек в сторону. Напарник капрала аккуратно нес его покупки. Следующую попытку снестись с мадам Евой — Европой Иван Андреевич предпринял буквально через сто шагов после расставания с симпатичным книжным червем. Увидев на очередной виноградной стене почтовый ящик, он кинулся к нему и одним движением просунул письмо в щелку. Он думал, что поставил своих форменных спутников в трудное положение, но, оказалось, даже не вывел их из себя. Напарник отдал капралу стопку купленных книг и, подойдя к желтому жестяному хранилищу сердечных и деловых тайн, решительно в него вцепился. Напрягся. Задрожали бакенбарды, заскрипели выдираемые болты. Через несколько секунд шествие к вокзалу продолжилось. По левую руку от Ивана Андреевича несли изданные тексты, по правую — неизданные. Секретарь шел, опустив руки. С видом человека проигравшего и полностью признающего поражение. И когда полицейские начали успокаиваться, он бросился бежать.
Вбежав на территорию боен, Иван Андреевич сделался вдруг спокоен. Он петлял меж вонючих бочечных пирамид без всякой цели, но и не думал впадать в панику. Он неуловим, какие могут быть сомнения! Нецензурно причитая, бродили по деревянному бардаку потные полицейские. Их мучила одышка, их мучила вонь, а паче всего — мысль о том, что до отхода поезда остается не более получаса, что быстро темнеет, что по перрону городского вокзала нервно расхаживает господин Сусальный, засунув руки с пистолетами в карманы длинного бежевого плаща.
Видимо, страдания их были столь искренни, что им дана была возможность исправиться. Беззаботно путавший следы беглец оказался в одном из тупиков. Из него было два выхода. Игривое провидение, разделившее догоняющих где–то на маршруте, заткнуло их вооруженными фигурами оба.
Для Ивана Андреевича физический тупик совпал с жизненным. Чтобы подтвердить это, капрал взвел курок, то же сделал напарник его, пытаясь удержать под мышкою мокрый от пота ящик.
Вместо того, чтобы сдаться, безумный беглец развернулся, бросился на ветхую гору бочек у себя за спиной и довольно живо стал карабкаться вверх.
— Уйдет, — сказал напарник.
Капрал понял это раньше и теперь размышлял над тем, позволено ли ему применять оружие, упоминалось ли об этом во время инструктажа.
Напарник бросился вслед за Иваном Андреевичем. Капрал поглядел на него без надежды, потому что преследователь так и не выпустил из рук желтого ящика. Иван Андреевич был уже на вершине. Капрал, сплюнув в адрес судьбы–индейки, прицелился.
— Не стреляй! — крикнуло сразу с десяток голосов. Полицейский невольно скосил взгляд. Множество испуганно горящих глаз глядело на него из разных углов.
— Не стреляй!
Не слушать 4 же было доверенному лицу начальника полиции всякую шваль! Он выстрелил, целясь, как ему казалось, в ногу тяжело дышащего на вершине человека. Бочечные пирамиды рухнули, как альпийские лавины, только грохот у них был своеобычный, перебористый, гулкий. Бочки катились со всех сторон, давя людей и их бесполезные вопли.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Появление полицейского чина в русском романе почти переменой погоды в худшую сторону. Так что нет ничего удивительного в том, что когда дрожки Антона Николаевича Бобровникова въехали в ворота столешинской усадьбы, небо начало хмуриться. И липовая аллея перед парадным яблоневая толпа в тылу дома затрепетали. Когда же Антон Николаевич, еще довольно молодой 'человек, пусть и женатый, но интересующийся идеями и еяниями, сел к столу, хлынул ливень. Помимо следователя, кушали чай Корженевские, генерал, Афанасий Иванович и отец Варсонофий, человек степенный, молчаливый, кажется, неглупый, с припухшими веками и тяжелым выразительным дыханием. Подавала Настя, безропотно взявшая на себя все хлопоты по дому. Марья Андреевна слегла, и ей требовался почти такой же уход, как Тихону Петровичу. Срочно затребованные из деревни девчонки были еще вполне бестолковы, буфетный человек из уездного ресторана должен был прибыть только завтра.
За столом царило неопределенно–сложное настроение. Генерал и профессор были мрачны, каждый в своем роде; отец Варсонофий, как о нем уже сообщалось выше, предпочитал помалкивать. Поддерживали беседу господин следователь и Зоя Вечеславов–на. Зоя Вечеславовна задавала вопросы, Антон Николаевич, слегка краснея каждый раз и промахивая салфеткой губы перед первым словом, отвечал. Он был осведомлен, с кем имеет честь сидеть за столом, и горел желанием послушать столичную знаменитость и смущался тем, что вынужден говорить сам при такой аудитории. Впрочем, речь шла о предметах, касающихся его профессии, это облегчало его положение. Он даже отчасти блистал, был доволен собою и жизнью. И даже смертью, что дозволила ему оказаться в таком обществе.
— Ну, это теперь понятно, но что же послужило причиной этой дикой выходки? — спрашивала Зоя Вечеславовна.
— Ревность.
— Ревность?
— Да-с, и я удивлен, что вы этому удивляетесь. Разве не известны нам — хотя бы из классической литературы — примеры, когда это чувство служило причиной пролития рек крови. И «Отелло», и «Кармен». Далее следовал рассказ о допросе, снятом с «убивца». При этом слове Афанасий Иванович криво вздохнул. Оказалось, Калистрат давно уж не доверял жене, жуткие английские ножницы появились не вдруг и не случайно, а задуманы были специально и издалека. Сначала, еще прежде ревности, появилась обида. Груша была в горничных у барыни, то есть приближена. «Ходила чисто», как говорится. А сам Калистрат только что звался буфетчик, а сам больше дрова колол да за лошадьми ходил. Чувствовал, что жене не ровня. Нервные губы следователя воспитанно отхлебнули чаю.
— Отсюда мысль: а не отдали ли ему Грушу в жены, чтобы грех какой–то прикрыть? Баре–то сплошь и рядом со своими дворовыми любовницами так поступают.
— Но это вы хватили, господин Пинкертон, чьи тут могут быть грехи? Тихона Петровича? — неприязненно хмыкнул Афанасий Иванович.
— А я и не говорю, что был грех. Боже меня упаси от такой невежливости. Таков был ход мысли убийцы. Так вот, стал он следить за супругою и пришел к выводу, что у нее есть любовник. Полгода выслеживал — поймать не мог.
— Проще было согласиться, что такового нет, — заметила Зоя Вечеславовна.
— А у него, наоборот, копилась ярость. Ревность такая штука, что если уж заведется, то может питаться чистым воздухом, реальная пища ей и не нужна подчас. Генерал поднял глаза на говорливого гостя и углубился задумчивыми пальцами в бакенбард.
— Ревность — грех, — ни к кому, собственно, не обращаясь, сказал отец Варсонофий.
— Согласен! — бодро крикнул Антон Николаевич. — Но вы же спрашивали меня не вообще, а о конкретном Ка–листрате. Так вот, он пришел к выводу, что раз преступники не ловятся, значит, они невероятно хитры. Его озарило — так он выразился.
— Не мужицкое словцо, — шепнул профессор жене, но следователь услышал.
— Согласен, согласен, и весьма. Сам удивился. Так вот, «озарило» его, что встречаются они посредством звонка, коим пользуется барыня. Любовник — а на эту роль претендент был один: дворовый молодой парень Авдей Толоконин, — прокравшись, дергает за укромно висящий шнур. Звонок звонит, жена идет на свидание — а дурак муж спокоен, считая, что она у барыни.
— Неплохо придумано для дворового парня, — заметил генерал.
— Да, да, — следователь еще раз промочил чаем горло, — только теперь уж нельзя проверить, так ли оно было на самом деле. Подозреваемые мертвы. Калистрат же утверждает, что, дождавшись той ночью звонка, он оделся, достал ножницы. Сомневался некоторое время, но когда услышал второй звонок и голос барыни, понял, что прав в своих подозрениях. Вылез в окно и затаился неподалеку от дверей в конуру Авдея. Глядь–поглядь, а жена его любимая по стеночке, по стеночке крадется к этой двери. Какие тут еще нужны доказательства? Ждать, когда он ей начнет юбку, прошу за выражение, задирать?
— Что касается меня, — подал голос Афанасий Иванович, — до последнего оставался бы при спасительном сомнении.
— Для кого «спасительном»? — поинтересовался генерал и повернулся к Насте. — Хорошо бы мадерцы, что ли, бутылку, а? После этого снова дяде Фане:
— Спасительно это сомнение для виновницы, а представьте себе, насколько оно мучительно для обманутого мужа!
— Да, — решила переменить тему Зоя Вечеславовна, — история нелепейшая. И заметьте, каковы мы все в этой ситуации. Ждали–ждали крови Афанасия Ивановича, часы крали, а получилось вон что.
— Чьей крови? — сделал профессиональную стойку господин Бобровников.
— Эта кровь вас не касается, — неожиданно резко заметила Зоя Вечеславовна.
Разговор поперхнулся. Чувствуя в себе ответственность за его поддержание, хотя бы в сугубо светской форме, Антон Николаевич ухватился взглядом за пачку газет, торчавших из кармана генеральского пиджака.
— А что вы скажете, господа, по поводу ультиматума? Профессор, батюшка и Афанасий Иванович поглядели на следователя вопросительно: что, мол, за ультиматум?
— Я еще не просматривал сегодняшние газеты, — сказал Евгений Сергеевич.
Генерал достал из кармана пачку газетных листов и бросил на стол — угощайтесь!
— Это оскорбительный ультиматум, унижающий достоинство сербского народа. Думаю, прав–обозреватель «Русского слова»: ультиматум этот выработан Австро — Венгрией с полного ведома германцев.
— Вероятно, так оно и есть, но интересует — например меня — другое.
— Что же именно, господин Бобровников?
— Действия Сербии.
— Хотите, я опишу вам эти действия, — вступила в разговор Зоя Вечеславовна. Улыбаясь вступила.
— Извольте, мадам, — поклонился своей чашке следователь.
— Сербия ультиматум примет.
— Этого никак не может быть, — угрюмо заметил генерал.
— Примет, за исключением тринадцатого пункта. Допустив австрийских чиновников к следствию на своей территории, она тем самым теряет свой суверенитет. Сербия откажется от этого пункта. Но самое интересное не в этом, — Зоя Вечеславовна загадочно затянулась. Она не стала ждать, пока кто–нибудь из заинтригованных мужчин спросит: «А в чем?» — Австрию ничуть не удовлетворит это ползание на брюхе, буквально через несколько дней она объявит войну Сербскому королевству. Я убеждена, что уже в завтрашних газетах будет объявлено о мобилизации в Дунайской империи. Не удивлюсь я также, ежели выяснится, что и у нас началось нечто подобное.
— Вы известная провидица, — не скрывая насмешки, сказал генерал, — во всех почти газетах сообщено заявление господина Сазонова о том, что в случае уничтожения Австрией Сербии Россия непременно станет воевать. Такие заявления нельзя делать, не открыв подготовительных мероприятий для всеобщей мобилизации. Говорю вам это как профессиональный военный.
— Бывший профессиональный военный, — не удержалась Зоя Вечеславовна.
Василий Васильевич не нашелся сразу, что ответить, и разговором овладел Афанасий Иванович.
— А я у вас вот что хотел спросить, э…
— Антон Николаевич.
— Да? Извините. С Калистратом все ясно, как я понял. Каторга ему полагается, как он и полагал.
— Вероятнее всего.
— Но, знаете, у нас есть еще один умник.
— То есть?
— Некто Фрол, Фрол Бажов. Здоровенный такой. Плотник. Говорит, что не убивец, но убить, знаете ли, обещает.
— Кого?
— Меня, естественно. — На лице говорившего появилась страдальческая улыбка.
— Я вам рассказывал, Антон Николаевич, — прогудел батюшка.
— Ах да. — Следователь озабоченно покивал.
— И что? — потянулся к нему всем существом Афанасий Иванович. — В свете случившихся событий такие обещания особенно пугают.
— Сказать честно, я, как и отец Варсонофий, придерживаюсь того мнения, что это какое–то психическое отклонение. Тут дело врача, а не полиции. Фрол этот, как мне донесли, поведения трезвого человек, уравновешенного.
— Мне, знаете ли, все равно, какая репутация у моего будущего убийцы.
— Дя–дя Фаня, — тихо–укоризненно сказала Настя.
— При чем здесь «дядя Фаня», — сказал злобно Афанасий Иванович, — надо говорить об этом «убивце»!
— Вы же все часы в доме переколошматили, неужели не успокоились? — усмехнулся профессор. Все засмеялись. Даже Настя, даже отец Варсонофий. Особенно сочно — генерал. Ему было приятно, что не он один находится в тяжелом положении. Только Зоя Вечеславовна не поддержала всеобщего веселья.
— Надобно вам всем заметить, что смеетесь вы зря.
— Зря?
— Да, господин генерал заштатный.
— Зоя, Зоя! — Евгений Сергеевич положил руку жене на плечо.
— Фрол Бажов действительно зарежет Афанасия Ивановича в «розовой гостиной» этого дома.
— Может быть, и когда именно это случится, скажете? — неудержимо бледнея, спросил дядя Фаня.
— Скажу.
Все заинтересованно смолкли.
— Почти ровно через четыре года. В июне, кажется. Афанасий Иванович встал, застегнул сюртук.
— Могли бы и поточнее. Как–никак мы родственники. Должны помогать друг другу.
— Ей — Богу, точнее не могу, — совершенно серьезно,
почти извиняющимся тоном сказала Зоя Вечеславовна, отдалив ото рта папиросу. — Точная дата мне не будет сообщена.
Дядя Фаня вышел из–за стола, спустился по ступенькам веранды на мокрый гравий под дождь.
— Чего это он? — прошептал кто–то. Словно в ответ на этот вопрос Афанасий Иванович подскочил на месте, выкаблучил какое–то тяжеловесное па, скорчил веранде рожу и прокричал:
— А часики–то тю–тю!
И удалился, разговаривая сам с собою. Генерал попытался разрядить создавшуюся мрачную неловкость:
— Браво, Зоя Вечеславовна. Вы можете не только судьбу
Сербии предсказывать. Судя по поведению нашего милейшего кузена, ваши предсказания очень влиятельны. Торжественно посему объявляю: верю любому вашему слову касаемо будущего. Когда, вы говорите, начнется всеевропейская война?
Зоя Вечеславовна спокойно, без тени кокетства, апломба и прочих психологических мерзостей сказала:
— Двадцать восьмого, кажется, числа Австрия объявит войну сербам. Первого августа Германия — России, третьего — Россия Германии. Сначала война будет для России успешна, мы займем часть Восточной Пруссии. Потом кайзер перебросит часть войск из Франции.
— Так Франция тоже будет воевать? — как можно более игриво поинтересовался генерал.
— И Франция и Англия.
— И когда же эта война закончится?
— Через несколько лет. В восемнадцатом году.
— А кто победит?
— Франция и Англия победят Германию.
— А мы?
— А Германия нас.
Василий Васильевич откровенно засмеялся.
— Но это же нелепость! Мы союзники с Францией и Британией. Если они победят, значит, и мы тоже. Элементарная логика так диктует.
— История редко подчиняется законам элементарной логики, — вступился за жену профессор. Побарабанив удивленно по стопке газет — никак не мог понять, почему никто вместе с ним не смеется над этой курящей дурой, — Василий Васильевич попытался налить себе чаю.
— Мадера, — тихо подсказала Настя.
— Ах да. Кто–нибудь еще желает, господа? Вы, отец? Отлично.
Проглотив стакан темно–янтарного напитка и разметав привычным движением бакенбарды по щекам, генерал понял, что ему одному придется атаковать демагогический бастион, воздвигнутый этой самодовольной бабенкой. Поскольку лобовая атака не удалась, придется зайти с фланга.
— Ну, хорошо, дражайшая Зоя Вечеславовна.
— Разве я дрожу?
— Что? Ах да, я забыл, вы же словесный тоже человек. Но не это сейчас в центре. Так, в европейской войне мы разобрались, ладно. Я, видя всю вашу проницательность, обращусь с корыстной просьбой.
— Я жду.
— Хотелось бы, пользуясь обществом такого оракула,
спросить о своей судьбе. Личной.
Зоя Вечеславовна извиняющимся образом вздохнула.
— Что так, дража… дорогая?
— И «дорогая» не говорите, так богатые волжские купцы обращаются к содержанкам. Василий Васильевич прижал руки к груди:
— Каюсь.
— Про ваше личное будущее ничего сказать не могу.
— Почему? Я вам почти такой же родственник, как Афанасий Иванович.
— Дело в том, что ваше будущее никак не связано со Столешиным.
Генерал понимающе усмехнулся. Он как бы хотел сказать: «Вот, значит, для чего был разыгран весь этот спектакль с предсказаниями: чтобы лишний раз уколоть соперника в погоне за наследством».
— А ваше? А ваше будущее будет связано?
— Нет. — Зоя Вечеславовна равнодушно покачала головой. — Мы с Евгением Сергеевичем будем жить за границей после войны.
— Господа, господа, господин генерал, — опять вмешался судебный следователь, — я в ваших словах слышу нечто вроде иронии в адрес Зои Вечеславовны. Антон Николаевич был уверен, что генерал безжалостно издевается над самоуверенной и не вполне нормальной дамой. Почему же никто не считает своим долгом вступиться за нее?!
— Не знаю, кто там кого победит, но что касается войны… Посмотрели бы вы, что происходит на станции у нас. Все словно с ума посходили. Можно сказать, что мобилизация уже в известном смысле идет.
— Да, второй день там в буфете бедокурит Аркадий Васильевич. Уймут, а он опять. То плачет, то пьет. Генерал поморщился.
— Надо за ним послать кого–то.
— Саша ездил за ним, но он его не слушает. Драться полез, зуб выбил, — сообщила Настя. Василий Васильевич повернулся к следователю.
— Это уже по вашей части. Некому, что ли, его связать, запереть?!
— Помилуйте, — улыбнулся Антон Николаевич, — как можно господина Столешина связать. Хоть и студента. Но, с другой стороны, если вы хотите…
— Хочу, хочу и очень хочу!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Если вдуматься, Василий Васильевич, у вас еще более Неправильное представление о будущем, чем у Зои Вечеславовны.
Евгений Сергеевич достал папиросу из коробка, оставленного на столе женою, и закурил, причем сделал это умело. В его пальцах таилась ловкость старриного курильщика.
Антон Николаевич, отец Варсонофий и Саша ждали с интересом, каким образом профессор станет развивать тему. Ждал и генерал — в предвкушении того, как его антагонист будет терять свою научную репутацию на столь сомнительных путях, как рассуждения о природе времени.
— Мало того, что оно неправильное, оно еше одновременно и дикарское, детское. Только, извините, дикарь может с такой полнотой убеждения поклоняться такому примитивному идолу, как абсолютная непроницаемость будущего. И только ребенок может пребывать в полной безмятежности в связи с наличием такой веры. Не надо так торопливо краснеть, генерал. Ни в малейшей степени я не хочу вас оскорбить. И даже не мщу за ваши иронические нападки на Зою Вечеславовну. Она и так, без моего вмешательства, осталась выше ваших нападок, хотя и слегка нездорова, по–моему.
— Отчего же вы так настойчиво и определенно относитесь именно в мой адрес, герр профессор?
— Потому что вы — фигура, в наибольшей степени выражающая некую идею. Идею непроницаемости будущего. Скажем, наш уважаемый батюшка не годится на эту роль уже потому лишь, что принадлежит к организации, верховное учение которой, безусловно, отрицает эту непроницаемость. Не ходя далеко, можно указать хоть на «Откровение Иоанна Богослова», текст, в котором будущее описано весьма подробно. Правда, и невнятно. Прошу прощения, отец Варсонофий, ежели задел вас или Священное писание.
— Бог с вами, говорите что хотите, — усмехнулся батюшка, — ваше безбожие не моим осуждением будет наказано. Евгений Сергеевич совершенно серьезно поклонился ему.
— Что касается нашего молодого друга…
Саша, как всегда при обращении общего внимания на
его персону, покраснел.
— …то он по складу ума человек ищущий, и для него в принципе не заказаны никакие интеллектуальные пути. Хотя бы они и вели в самое будущее.
— Что же вы скажете обо мне? — спросили пунцовые губы.
— Я вас недостаточно знаю, господин Бобровников, для того, чтобы предпочесть господину генералу.
— Что ж, — Василий Васильевич плеснул себе мадеры, — пока мне нечего возразить. Но пора переходить к сути.
— Извольте! — Профессор поправил галстук и медленно погладил мертвенного цвета щеку. — Но, как вы, наверное, догадываетесь, разговор о будущем надобно начинать с разговора о прошлом. Что касается будущего, все мы примерно в равной степени уверены, что оно наступит, в отношении же прошлого средь людей большее разнообразие мнений и чувств. Прошлое для нас более недоступно, чем будущее. Нам оно явлено в виде какой–то свалки старых книг, жутко искалеченных или бездарно помпезных статуй, осыпающихся картин и особенного племени существ — стариков. Эти конные статуи стоят так, будто громадное чудо и честь — умереть. Но Бог с ним; слишком многие люди слишком много изучают то, чего, собственно, нет. Не будем присоединяться к безумцам и обманщикам, заставившим государство оплачивать их труд и считать их фантазии о несуществующем наукой. Сидящие за столом удивленно переглядывались.
— Поговорим о том, к чему имеем личное отношение. К той части времени, в которой жили сами, лично. Наша память свидетельствует — жили. Для невнимательного или бездарно–благоговейно настроенного ума оно, время, сохраненное в памяти, — нечто непрерывное и неуклонно последовательное. Но если всмотреться в начальный кусок частного, например, моего хроноса, начинаешь сомневаться в этом. Доказательствами того, что человек жил, служат смехотворнейшие вещи: фотографические снимки и рассказы родственников. О том, насколько вторые надежны, мы скоро поговорим. То, что принято называть сознанием, возникает в качестве «череды ярких вспышек», меж которыми лежат серые пустоты. Поскольку объяснить природу этих пустот немыслимо, вспышки эти от страха слипаются в нашем воспоминании. Необходимо немалое умственное усилие, чтобы разлепить их и на время рассмотрения хотя бы развести по соответствующим местам календаря. Кстати, существует некий инстинкт, заставляющий людей утверждать, что они помнят себя с невероятно раннего возраста, с трех месяцев, как граф Толстой. В этом вранье содержится тот же род бравады, что и в мальчишеском желании убедить приятелей, что первая женщина была познана им чуть ли не в младенчестве. Это все наивные попытки раздвинуть границы столь ограниченной жизни.
Генерал неловким движением повалил рюмку, но профессора это не сбило.
— Но рано или поздно наступает такой момент, от которого идет сплошная память. То есть возникает странная, ничем, даже субъективным чем–нибудь не подтверждаемая уверенность, что с такого, скажем, числа я сознательно проживал каждый день и час. Возникновение этой уверенности — одна из загадок, разгадка коих приближает к тайне личности, но которые разгаданы не будут. Может быть, с этого момента «приходящая» душа поселяется в данном теле постоянно.
Но нельзя отрицать, что под микроскопом непредвзятого внимания становится очевидным, что и эта часть памяти пятниста. Состоит она из конечного количества разных по размерам, интенсивности и глубине фрагментов. Мы не отыщем ничего, что доказывало бы непрерывное, последовательное сцепление секунд, минут, часов и дней. Вам знаком, безусловно, эффект вечеров совместного воспоминания. Скажем, встреча друзей после долгой разлуки спустя ряд лет после окончания гимназии. Вы же ловили себя на том, что три четверти «общих воспоминаний» общими отнюдь не являются. Вы рассказываете, как дрались вместе со своим другом против четверых хулиганов в городском саду и как вы заслонили вашего друга, когда тот был сбит с ног. И вдруг выясняется, что в его памяти это вы валялись на земле, а он героически кас прикрывал.
— Вы обещали что–то рассказать о родственных воспоминаниях, — сказал генерал.
— Ах это, — профессор хмыкнул. — Родственники всегда вспоминают о своих брюках и платьях, обмоченных вами в щенячьем возрасте. Родственники — это фантазирующие чудища, специализирующиеся на воспоминании того, в несуществовании чего вы тайно, но безусловно уверены. Причем фантазии эти вы по этикету должны приветствовать и даже быть за них благодарными.
— Теперь можно переходить и к будущему, — отчасти провокаторским тоном заметил отец Варсонофий.
— Извольте. — Профессор нахмурился. — Для начала замечу, что о будущем нам известно больше, чем мы привыкли думать. И вообще, известного больше, чем неизвестного. Положим, что лет через пятьдесят, когда вашего покорного слуги не будет на свете (этот факт можно считать вполне известным), солнце все так же будет всходить на востоке, а садиться на западе. Год будет равняться тремстам шестидесяти пяти дням. Сила тяготения на поверхности планеты — девяти и восьми десятым «ж». Великая русская река Волга будет впадать в Каспийское море. Поверхность Евразии будет покрыта лесами, горами и пустынями. Может, только лесов станет немного меньше, чем сейчас, а пустынь побольше. Женщины будут любить мужчин, рожать от них детей и кормить этих детей грудью. В пищу повсеместно будут употребляться хлеб, мясо, молоко и вино. В ходу будут немецкий, английский, испанский, русский языки. Кроме того, китайский, японский и урду. По–прежнему будут издаваться и читаться книги Шекспира, Гете и Сервантеса и даже графа Толстого. Как вы, наверное, уже догадались, продолжать в том же духе я мог бы бесконечно, но пощажу ваше время (извините за каламбур). Так вот, при таком количестве известного — что же останется неизвестным? То, например, выйдут ли из моды шляпки такого–то фасона и от какой именно болезни и в какой момент времени умрет, например, петербургский профессор Корженевский? То есть из того ничтожнейшего факта, что мне неизвестно, какие из моих статей будут забыты прежде, а какие позже, я должен выступить на защиту сумасшедшего и ничем не доказуемого утверждения, что будущее непознаваемо?!
— Парадоксально, но несколько кокетливо, герр профессор.
— Почему же кокетливо, — тихо заметил Саша, — мне так не показалось.
Генерал надменно покосился в сторону студента, но не успел ничего возразить, рассуждение профессора продолжилось.
— Но должен честно заметить, что, несмотря на громадные успехи наук, мы еще слишком далеки от разгадки. Дело отчасти в устройстве человека как такового. Огромному большинству из нас много интереснее муравьиные обстоятельства личной судьбы, чем география материков будущего. Личный финал и все, что с ним связано, вызывает жгучий интерес, а объективная картина конца миров — почти скуку. Капля внутренней боли актуальнее океана истины. Но здесь смешно протестовать, это все равно, как если бы вода сделалась недовольна своей текучестью.
— Сие верно, — подал голос батюшка, протягивая руку за мадерою, — природа человека неизменна, ибо неизменен образ, с коего он сваян. Изменение природы человеческой и будет сигналом конца света. Евгений Сергеевич поднял соглашающуюся руку.
— Но оставим пока теософию, поговорим о более мирских, хотя и весьма сложных вещах. За проблемой непознаваемости будущего лежит нечто более фундаментальное — проблема времени. Одна из самых главных и самых темных. Древние персы поставили время — Зерва выше своего Ахурамазды. А боги Олимпа так и вообще смертны, и нигде не отмечено, что они пытались протестовать по этому поводу. Но, как я уже заметил, оставим это. Не
будем говорить о времени как о Боге, поговорим о нем как о механизме. Не важно, кто его запустил, но интересно, как он действует. Хотя бы в той части, что постижима нашим умом. На мой взгляд, мысль человеческая доселе погрязает в одной страшной ошибке. Априорно считается, что природа времени однородна. И впрямую, жестко связана с физической природой мира. Говоря упрощенно, мы привыкли считать, что время равномерно течет сквозь предметы, и это протекание несет в себе изменение предметов, старение их. Сквозь все предметы, сквозь все вещества. Знаете, что даже, скажем, углерод может постареть. Вселенная сейчас состоит из углерода, не идентичного тому, что был миллиард лет назад. Профессор потянулся к коробку с папиросами, но коробок оказался пуст.
— Но сказано же — есть нескудеющая сила, есть и нетленная красота, — со следовательской объективностью напомнил Бобровников.
— Да, да, — вяло кивнул профессор, — я вам процитирую еще пять коробов таких идеалистических мечтаний, а батюшка напомнит, что имеется где–то и Царствие Небесное, основная привилегия жителей которого — не подвергаться действию времени.
— «Уверовавший в меня не вкусит смерти».
— Спасибо, батюшка. Но мы условились гулять вне богословских рощ, как бы они ни были цветущи и плодонос–ны. Останемся в жалкой пустыне нашего несовершенного мира. А мысль моя такова: природа того, о чем мы беседуем, неоднородна. По меньшей мере она двусоставная. Часть времени, его наиболее грубая, плотная, энергичная, витальная, если так можно выразиться, часть течет сквозь толщу физического мира, пронизывая все его плотности и сложности. Другая часть — я еще не придумал для нее названия — находится как бы не при деле, не участвует в общих работах по состариванию мира. Шляется неведомыми путями, валяет метафизического дурака.
— Зело, — сказал отец Варсонофий и чокнулся с генералом.
— Но что, — спросил полицейский чин, — навело вас на такие размышления и позволило сделать такие фраппирующие выводы? Должны же вы были от чего–то отталкиваться. Профессор вздохнул.
— На фактах, в вашем понимании этого слова, держится наука прикладная. Ведь что есть критерий научный? Это опыт. То есть имеющим место, существующим признается только то, что можно воспроизвести хотя бы два раза. А вот вас, уважаемый Антон Николаевич, можно сделать во второй раз? Одним словом, если применить к вам требования современной науки, легко доказать, что вас просто–напросто нет.
— Опять парадокс! — недовольно отозвался генерал. — То есть вся наука глупа, вся и насквозь. Вот и приехали. Профессор начал догадываться, что его высокоумные вещи воспринимаются слушателями все менее серьезно, и, чтобы не превратиться в посмешище, он решил сам придать беседе юмористическое наклонение. Что ж, заветная'мысль так же неуместна средь публики, как нагота. Между тем явилась бесшумная Настя и наклонилась к уху батюшки.
— Тихону Петровичу стало хуже, господа. Я оставлю вас, — сказал тот.
Господин Бобровников уловил профессорскую иронию и принял ее на свой счет. Несмотря на это, он продолжил приступать к нему с вопросами.
— Прошу прощения, Евгений Сергеевич, но мне кажется, вы не докончили вашу мысль.
— Вы думаете? — Профессор пожал плечами.
— Конечно. Я был убежден, что вы намерены свести вместе две линии, наметившиеся в вашем рассуждении.
— Чувствуется в ваших приемах большая процессуальная практика.
— Пусть так, но, прошу вас, не отрицайте, что вы собирались перебросить мостик от предсказаний Зои Вечес–лавовны к вашим описаниям механизма времени. Вам просто помешали.
Генерал, просидевший большую часть разговора в обществе какой–то своей частной тоски, вдруг встал и молча удалился. Судя по всему, в направлении своего флигеля. Тем самым расчищая поле для спора. Евгений Сергеевич вздохнул вслед ему и некоторое время разглядывал сеющийся дождь, ежась в объятиях пледа.
— Просто мне расхотелось, Антон Николаевич. Почувствовал в какой–то момент, что почти полностью покинул твердую почву и отдаюсь во власть волнам слишком уж необязательного фантазирования. Роль седовласого безумца, сыплющего поэтическими пророчествами по любому поводу, — это не для меня. Нынче у нас таких пол-Петербурга.
— Но все же! — В голосе следователя появилась испуганная настойчивость, знаменитость явно срывалась с крючка. — У вас было какое–то объяснение слов вашей супруги. Вы отнюдь не показали, что считаете их абсолютной выдумкой.
— Вы правы, не считаю, хотя, казалось бы, должен. Более того, убежден: многое из того, что она говорила, сбудется. Объяснение, какого вы так домогаетесь, расплывчато, никак и ничем не доказуемо и в высшей степени не научно. Но — извольте. Придется нам на некоторое время вернуться к нашему прежнему предмету. К времени. Слишком многообразный предмет, поэтому коснусь только тех сторон, что имеют прямое отношение к нашему разговору. У большинства людей о нем, о времени, примитивное календарное представление. То есть всякий будущий год мыслится как некая граница, абсолютно гладкая и перпендикулярная нашему движению вперед. Мир равномерно ползет в будущее, и тридцать первого декабря в ноль–ноль часов и минут он полностью со всеми своими людьми, странами, машинами, звездами, с каждой песчинкой, травинкой, с каждым крохотным чувствием в этот год въезжает. Одновременно*. Это и есть заблуждение. Распространенность и живучесть его колоссальны. Знаете, почему?
— Знаю, — храбро ответил следователь, — это заблуждение упрощает жизнь.
Профессор несколько замедленно, но поощрительно кивнул. И посмотрел на третьего участника беседы — Саша молча сверкал глазами за самоваром.
— Примерно так, молодой человек, примерно так. Я же утверждаю, что стена эта не так ровна, как кажется. Да что там! Она вообще отсутствует. Ее нет, границы. Будущее не ждет, как пустой идеально выметенный сарай, кареты нашего сегодняшнего мира. Будущее уже происходит, хотя нас там нет пока. Оно кипит, взрывается, орет и стонет. Мы накатываемся на него, вызывая в нем ужас предчувствий и тошнотворных ожиданий вперемешку с глупыми мечтами и жадными надеждами. В силу же того, что это процесс бурный, нестройный, от него летят случайные раскаленные капли, пылающие ошметки. Летят во все стороны. И вперед, и назад! Назад, молодой человек! Сотнями, а может, и сотнями тысяч этих плевков осыпаны наши бедные мозги. Вблизи времен, чреватых выплесками больших страстей, — а ближайшее будущее надлежит отнести именно к таковым, — град сей становится гуше. Большое количество людей подвергается воздействию этих невидимых жестов будущего. Одни ощущают неопределенное томление, тоску, другие способны превратить эти случайные сумбурные сигналы в понятные символы. Я склонен думать, что Зоя Вечесла–вовна принадлежит к числу подобных людей. Если хотите, она современная Кассандра.
В наступившем молчании на первый план выступил шум дождя. Но царил недолго. Профессор был не в силах остановиться.
— Но если сказать честно, у меня нет никакого способа хотя бы в ничтожной степени подтвердить ее предсказания научным образом. Взять хотя бы эту историю с милейшим Афанасием Ивановичем. Зоя Вечеславовна убеждена в правоте своих слов на его счет. Она уверена, что его зарежут через четыре года тут, в Столешине. Я ей пробовал объяснить, что это маловероятно, хотя бы потому, что Афанасий Иванович крайне редко бывает в имении, живет за границей большей частью. Или в Москве. Никакого реального отношения к здешним делам у него нет. Ведь он не Столешин, а Понизовский, всего лишь родственник Марьи Андреевны. С какой стати ему торчать здесь, особенно ввиду подобного предсказания! Да он нарочно проведет весь восемнадцатый год где–нибудь на водах. Она же мне отвечает: не знаю почему, но зарежут его именно здесь, в «розовой гостиной», и зарежут именно крестьяне. Именно Фрол Бажов. Вот такова ситуация. Профессор неопределенно и неприятно усмехнулся.
— Все факты и разумные доводы против ее предсказания, но какие–то чувства сигнализируют мне, что, тем не менее, все может быть. Ведь будущее уже здесь. Зде–есь. Может быть, прячется за тою занавеской или в листве мокрой яблони. Просунуло сюда свои щупальца и орудует. Глядите — самовар! Казалось бы, нет ничего проще, даже глупее. Обычный никелированный самовар. Поверхность гладкая и отражает то, что и положено, — нас с вами, Антон Николаевич. А на той стороне, что нам не видна, может быть, сию секунду корчатся какие–нибудь невиданные рожи и хохочут над нами, глупцами. Говорите, мол, говорите, мы–то ведь уже знаем, как именно вы будете пожраны.
— Здесь ничего нет, — тихо сказал Саша, сидевший с той стороны самовара.
— Будущее уже происходит, а прошлого скорее всего не было, — не слушая его, сформулировал профессор.
Генерал последовательно снял дождевик, калоши, пиджак, ботинки. Расстегнул пуговицы на сорочке. Снял ее. Так же поступил с брюками. Все это проделывалось в кабинете и являлось результатом тех тяжких дум, которым Василий Васильевич предавался все последние дни. И особенно часы, проведенные на веранде. История с изменой жены из не вполне доказанной превратилась постепенно в смехотворную. Но каков тогда он, генерал, если все претензии его к Галине Григорьевне ничем реальным не подкреплены?! Не дурак ли он? Очень может быть! Несправедливое моральное наказание, коему он подверг невинную (может быть — невиновную?) супругу, следует немедленно отменить. Надо доверять женщине, которую любишь! — вывел вдруг для себя формулу Василий Васильевич и чуть не прослезился от того великолепия и великодушия, что были в ней заключены. Итак, раздевшись до нижнего белья, гипнотизируя дверь спальни (нехорошо, если Галина Григорьевна выйдет внезапно и застанет его в таком виде), прошел к бельевому шкафу. Скрипнула половица, исказив физиономию счастливого мужа. Облачение должно соответствовать высшей сути момента. Парадный мундир — вот что сейчас было бы уместно. И цветы! Василий Васильевич на мгновение растерялся, но тут в его голове мелькнула подпоручиковская мысль. На клумбе у входа. Торопливо, однако тщательно облачился. В одном решительном броске выбежал на улицу, сорвал несколько мокрых растений и, светящийся, предстал пред дверью спальни. Изысканно постучал рукой в белой перчатке. Тою же рукой подкруглил бакенбард. За дверью молчание. А-а! — понял Василий Васильевич, — «сон, смеживший очи деве». Он снова поднял руку.
— Тихон Петрович скончался, — сказала Настя, глядя в пол.
Разговор на веранде смолк при одном ее появлении. После сказанного молчание сделалось как бы торжественным.
— Очень удачно, что вы здесь, Антон Николаевич. Надо разобрать кое–какие бумаги. Завещание и прочее.
— Отчего такая спешка? — Пунцовые губы обменялись мягкими укусами. — Удобно ли? Надобен адвокат.
— Нет–нет, не волнуйтесь, все удобно. Это просьба Марии Андреевны. Она очень вас просит вскрыть и огласить завещание немедленно. У нее какие–то свои на это причины.
Когда следователь встал, Евгений Сергеевич неуютно поежился в кресле. Его очень интересовало то, что написано в завещании, но он знал, что обнаруживать этот интерес неловко. Наследницей в конце концов является Зоя Вечеславовна, а не он. Да и вообще, меркантильные переживания плохо гармонировали с темою предшествовавшего разговора.
Никого!
В спальне было пусто. Генерал тяжело повернул голову вправо, потом влево и прошептал одними усами:
— Где же ты?
Комната выглядела так, будто покинута была навсегда. И бесповоротно. Посреди аккуратно застеленной кровати лежало письмо. Нетрудно было догадаться, что там содержится объяснение причин бегства Галины Григорьевны. Да, всего лишь это. Ни слова, дарящего хотя бы маленькую надежду, там не было. «Я должна вас покинуть, должна!» И это все. Пухлые пальцы медленно скомкали послание.
Следователь появился на веранде в сопровождении батюшки. Нес в руках конверт, покрытый большими сургучными кляксами. Господин Бобровников был отчасти рад, что ему досталась некая роль в здешнем семейном катаклизме, но вместе с тем немного опасался быть втянутым в какую–нибудь кляузную историю. Евгений Сергеевич выжидательно прищурился.
— Надо пригласить всех, — заметил батюшка. — Вы не сходите за генералом и Настей, юноша? Саша готовно кивнул, но стоило ему подняться, как в глубинах дождя раздался топот копыт. И мимо веранды проскакал верхом на белом жеребце одетый в парадную форму Василий Васильевич Столешин. Даже не посмотрев в сторону гостей и родственников. Плюясь гравием, высокая и тяжелая фигура удалилась по яблоневой аллее к воротам.
— Что это такое? — спросил Евгений Сергеевич, впрочем, не рассчитывая, что ему кто–нибудь ответит.
— Ну что ж, надо хотя бы позвать Марью Андреевну, — вздохнул следователь, надламывая первую печать.
— Она осталась при Тихоне Петровиче, — ответил отец Варсонофий, — плачет. И потом, она знает содержание документа.
Антон Николаевич потряс высвобожденным из конверта листом. Воздух был так влажен, что это потряхивание не произвело характерного шума.
— Интересы Зои Вечеславовны представляете вы, Евгений Сергеевич, я правильно понимаю?
— Правильно.
— Собственно, из этого документа следует, что все права на имение и прочее имущество переходят к Афанасию Ивановичу Понизовскому. За исключением небольших сравнительно сумм, следующих Зое Вечеславовне и Василию Васильевичу Столешиным. Анастасия Ивановна остается, как и была, на иждивении… Что касается Марьи Андреевны… да что я, благоволите убедиться сами. Профессор взял бумагу в руки и, прочитав, убедился, что Бобровников абсолютно правильно изложил суть документа. Претензии Зои Вечеславовны были более–менее удовлетворены. Но не в ущерб генералу, как ожидалось, а уделением от богатств Афанасия Ивановича, нового всему владельца. Вариант, который можно было признать в общем удовлетворительным. Но в глазах профессора загорелись чувства, ничего общего не имеющие с радостью.
Приняв обратно в свои руки бумагу, Антон Николаевич объявил, что теперь необходимо ознакомить с документом главного правообладателя.
— Где его комната?
— Третья по темному коридору. По тому, что идет налево, — сказал Саша. Депутация тут же двинулась.
Дверь легко отворилась, и в грустном полумраке можно было различить мужскую фигуру, лежащую ничком на кровати. Волосы рассыпаны по подушке, правая рука костяшками пальцев упирается в пол. Следователь неохотно приблизился, сказал, не оборачиваясь, отцу Варсонофию, тяжело дышавшему за спиной:
— Он что, тоже мертв?
— Мертвецки пьян, — сказал одновременно каламбур и правду служитель.
Бобровников подвигал ноздрями.
— Да, действительно, коньяк.
На щеках Евгения Сергеевича появился какой–то мертвенный отлив. Саша, также оставшийся на веранде, счел необходимым спросить:
— Что с вами?
— А вы сами не поняли? — неприятным голосом отозвался тот.
— Смотря что вы имеете в виду.
Профессор сильно поморщился и поскреб ногтями бледно–сизую щеку. И оглянулся. Ему было неуютно в отсутствие жены. Тем более что понятое сейчас им имело к ней прямейшее отношение.
— Получается, молодой человек, что она, как это ни дико, права.
— Зоя Вячеславовна?
Евгений Сергеевич сделал нетерпеливое движение холеной рук 9й.
— После этой бумаги у Афанасия Ивановича есть все основания бывать в имении почаще. Богатейшее хозяйство, его не оставишь без присмотра.
— Всего лишь «есть основания». Хозяин не обязан сидеть возле своей собственности неотлучно. Можно ведь взять и уехать на то время, что объявлено временем убийства. — Саша говорил спокойно, даже слишком спокойно, воображение его вовсе не было поражено. Он словно разбирал шахматную задачу, прикидывая, каким образом можно избежать осложнений.
Профессора более всего удивила и даже, можно сказать, задела именно эта рассудительность. Нежелание видеть сверхъестественную сторону события.
— Скажите, юноша, вы в самом деле так уж спокойны или всего лишь разыгрываете спокойствие? Вас ничуть не смущает…
— Что? То, что событие, казавшееся нам невероятным, вдруг проявило претензии на то, чтобы стать реальным?
— Да, примерно так, — отчего–то закашлялся профессор. Саша поджал губы и наморщил лоб. Задумался.
— Нет, меня это не смущает. Почему я должен нервничать из–за того, что появилось косвенное подтверждение, что Афанасий Иванович Понизовский умрет именно летом восемнадцатого года? Меня бы даже и прямое доказательство этого не смутило.
— Признаться, мне несколько странны ваши речи, юноша.
— А мне это удивительно. Пожалуй, я догадываюсь о причинах вашего… — Саша смущенно, почти по–детски улыбнулся. — Вы знаете, обыденные представления очень порой влияют на умы свободные и даже глубокие. Теоретически все живущие знают, что умрут, но даже это чистое знание не избавляет их от страха смерти, что, согласитесь, удивительно. Нонсенсуально.
— Н-да, — только и сказал профессор, кривя рот.
— Бытует и еще более бредовая идея, что страх смерти смягчается лишь одним — тем, что неизвестен точный день. Тут уж, на мой взгляд, просто парадокс. Это неуместное чувство — я разумею страх смерти — уничтожено полностью может быть лишь точным знанием своего часа. Отпадает целиком и полностью необходимость каких бы то ни было терзаний по этому поводу. Заметьте, что я имею в виду не самоубийство и прочие гадости. Интерес к этому вопросу становится столь же академическим, как стремление астронома к уточнению карты звездного неба. Разве не так?
На втором этаже было темно. Серый свет дождливого дня не имел сил просочиться сквозь двойные и тщательней–ше задернутые гардины. В этой ни для чего не нужной тщательности сказывался какой–то здешний комплекс. Свойственный не только людям, но и самому дому. Непроницаемость как добродетель.
На втором этаже было тихо. Некому было здесь появиться и незачем.
Тем не менее Настя была настороже и старалась ступать как можно бесшумнее. Прекрасно зная расположение комнат и внутреннее их устройство, она каждый раз, нажимая на ручку двери, ощущала себя первооткрыва–тельницей.
Перед тем как войти в «розовую гостиную», она взяла паузу. Откуда бы взяться этой рыбьей робости? Что там может быть особенного?!
Самое страшное — фарфоровый немец с бочонком. Немец, которого нет. Без всякого желания с ее стороны воображение нарисовало ей настоящего, в полный жирный рост, бюргера. С трехведерной бочкой в обнимку он сидит на каминной полке, свесив толстые ноги почти до пола, и мурлычет мелодийку. Чушь какая–то!
Чтобы доказать себе это, Настя решительно толкнула дверь, и сначала ей показалось, что она права. На каминной полке никого (и ничего) не было. Но рядом кто–то стоял. Не мужчина. Фигура в длинном, до паркета, платье.
— Черт его знает, этого Фрола. Это какое–то исключение. Бывает он здесь, не бывает, — важно то, что через четыре года благополучно зарежет нашего славного дядю Фаню.
Настя спокойно теребила поясок своего некрасивого платья.
— И вы верите в это, да?
Профессорша прошла мимо нее к окну, шурша подолом черного платья до полу и звякая фарфоровыми черепами. Отодвинула край гардины и посмотрела на дождь так, словно он шел прямо в будущее.
— Я не могу в это верить, я это знаю, девочка. В конце восемнадцатого года я получу письмо от одного из ваших соседей, где вся эта кровавая история будет подробнейшим образом описана. Забавно, но ты будешь в это время находиться здесь.
— Меня тоже зарежут?
Зоя Вечеславовна отпустила край ткани и повернулась к собеседнице.
— Нет. И ты это прекрасно знаешь. Тебя озверевшие мужики пощадят. За доброту твою, за отзывчивость. А вот Афанасия Ивановича нет. За те годы, что наш милейший либерал дядя Фаня будет владеть Столешиным, он успеет превратиться в редкостную скотину, злобную и несправедливую
— С трудом верится. Может быть, его убьют по ошибке?
— Нет, дорогая, никакой ошибки не будет. Афанасий Иванович полностью заслужит то, что с ним произойдет. Легко быть добрым, прекраснодушным и либеральным, когда отвечает за все кто–то другой. Например, Тихон Петрович. Когда же сталкиваешься нос к носу с нашим замечательным, самобытным народом–богоносцем, — звереешь! Афанасию Ивановичу, человеку отчасти европейскому, а значит, верящему в рациональное мироустройство, сделается уже через несколько месяцев невыносима мужицкая уклончивость, своеобразная хитрова–тость, загадочное косноязычие деревенской души, эта добродушно–звериная повадочка. Он затеет усовершенствования, ибо совесть ему не позволит просто безвозмездно пользоваться плодами чужих рук. Как всякий просветитель, он пойдет с факелом рационализма в угрюмые сиволапые народные толщи. Первые добрые порывы потерпят позорный крах. И тогда он решит, что добро должно вооружиться дисциплиной, что справедливость проистекает от регулярности и т. д. Мужики будут уклоняться от своей пользы, он их — пороть. Они будут больше уклоняться, он их — больше пороть. Короче говоря, возненавидят его пейзане наши столешинские, и даже не столько за лютость, беспримерную в наших великодушных местах, а за свою неспособность постичь, ради чего эта лютость к ним применяется. Если за дело, то секи, у нас так. Баловство не сладко без наказания, предполагающегося в конце его. А вот непонятное — непонятно и отвращает. Так что зарежут его, зарежут, как только возможность представится.
— А чего же он тогда не уедет, чувствуя свое шаткое положение и вдобавок имея такие на свой счет предсказания?
— Да не успеет. Он же знает, что предсказание касается лета восемнадцатого года, а мужики примут свои меры еще в январе. Не велят уезжать, возьмут под арест, так сказать. Власти кругом никакой. Вступиться некому, соседи–помещики сами дрожат от страха. Так и будет полгода ждать смерти под домашним арестом.
— Жуткая картина. Может, ему сейчас об этом сказать? Пусть откажется от имения и уезжает.
— Скажи, милая, скажи. Пусть откажется. А что, завещание уже вскрыто?
— Да. Тихон Петрович помер час назад. Все отказал дяде Фане.
Зоя Вечеславовна прошла шумною тенью назад к камину.
— Я тут сижу–сторожу, а там такие события! Тихон Петрович сделал страшную ошибку. Он человек был разный: и страшный, и странный, и честный. Одним словом, большую часть своей жизни подходил к своему времени, а в конце засомневался. И решил отдать бразды самому, на его взгляд, доброму. Я пыталась с ним говорить — уже когда весь этот кошмар с часами начался. Но мои слова звучали неубедительно. Во–первых, я сама лицо заинтересованное — если не Афанасию Ивановичу имение, то кому? А во–вторых, очень уж со своими предсказаниями похожа на малохольную. Что ж, поглядим, что из всего этого получится.
Вскипела следующая спичка и затеплилась новая папироса.
— Но ты–то, Настенька, не бойся, тебя они правда не тронут, мужики столешинские. Во флигеле поселят, учительницей будешь, чуть ли не праведницей станут тебя считать. Это будет такая народная плата за зверство, учиненное над барином. Наш народ отходчивый и мистически справедливый. Это все сведения из того письма ко мне в Ниццу. В Ницце мы будем жить с Евгением Сергеевичем. И больше я ничего про тебя не знаю. Верно, ты и меня переживешь. Настя сухо сказала:
— Я ничего не боюсь. Я знаю, что меня не тронут. И знаю, что вас переживу.
Длинное серое молчание распространилось по комнате.
— Значит, я уже не одна такая, — наконец задумчиво усмехнулась профессорша. — впрочем, что я! Давно надо было понять, что не одна. Тихон Петрович все про себя знал. Правда, открылось ему все лишь за месяц до вскрытия завещания. Да и Аркашка–дурачок. Насколько можно было разобрать его лепет, его таки убьют где–то в польских болотах. И очень скоро. Генерал пока непроницаем для намеков будущего. Мне неинтересно знать, что его ждет. Думаю, не подвиг. Чтох касается Марьи Андреевны, — тут все ясно и скоро.
— Да, — тихим протокольным голосом сказала Настя, — она умрет сегодня же. И ничего не имеет против этого.
— Еще бы! Сказочный персонаж. Она прожила долгую и счастливую жизнь — и ей даровано умереть с мужем в один день.
Огромная и несчастная фигура шла, шатаясь, по вагону. Мощные генеральские движения распахивали двери купе — и раз за разом внутри ничего не обнаруживалось. Василий Васильевич казался себе крупнее обычного от трагедии, клокотавшей внутри. И поэтому не удивлялся тому, с каким трудом удается ему продвигаться по холодному коридору
В сапогах хлюпала вода, мокрый мундир был горяч изнутри.
То, что в вагоне нет ни одного человека, генерала и раздражало, и пугало, хотя он прекрасно знал, почему это так.
Дверь купе, в котором таилась Галина Григорьевна, была открыта.
От надвигающейся грозы несчастная актриса защитилась только тем, что вжалась в угол и плотно платком обернула плечи. Из–под надвинувшейся на глаза шляпки затравленно глядели когда–то умевшие пленять глаза. Василий Васильевич понял, что ему не нужно входить внутрь, достаточно, что туда вошло облако мундирного пара.
— Галина Григорьевна, — сказал генерал со всей полнотой чувств, и у него отказало горло. Он слишком знал, как виноват перед этой женщиной, и страстно желал, чтобы и она это знала. Одолев немоту, он начал ей об этом рассказывать. Поскольку человеческий голос ему не подчинялся, он невольно перешел на командирский. Он начал с самых сильных слов. Он бичевал себя. Он доказывал и объяснял, что никогда — «слышите, никогда!» — не позволит себе того, что позволил, безумный, давеча. Только доверие! Впредь только доверие будет править на их совместных землях. Сразу по получении денег они уедут, куда будет ведено Галиной Григорьевной! И даже запрет первоначальный насчет сцены отменяется. Ежели захочет Галина Григорьевна, ежели потребует этого ее столь артистическое сердце, она может обратиться отчасти и к сцене. И не обязательно только лишь в виде любительских спектаклей в пользу каких–нибудь не вполне достаточных губернских гувернанток. Допустима и настоящая жизнь в искусстве. С гримерными, букетами, аншлагами и бенефисами. Ничто не будет навсегда скрыто под глупым мужниным запретом. Муж, наоборот и напротив, собирается стать истинным другом и ценителем, не переставая быть опорой и надеждой…
Генерал остановился. Во–первых, ему стало трудно дышать. А во–вторых, пора было услышать что–нибудь в ответ. И он услышал.
— Оставьте меня! — истерично и истошно закричала Галина Григорьевна. — Оставьте! Оставьте! Совсем оставьте!!! Я ничего от вас не хочу!
— Галина Григорьевна… — быстро замерзая, попытался возразить муж с открытой душой.
— Убийца! Убийца! Вы ничего не можете мне сказать и не смеете говорить! А я могу, я знаю, что вы меня убьете. Вы мне не простите, не знаю чего, но не простите, вы меня убьете!
Василий Васильевич попытался думать, что это начинается горячка — дарительница бреда. Галина Григорьевна просто нездорова. Надобно обнять ее за плечи и приголубить. Успокаивающе и отвратно воркуя, генерал сделал шаг в купе. Сапог сладострастно чмокнул.
— Не смейте! Не приближайтесь ко мне, убийца!
— Что вы такое говорите, Галина Григорьевна?!
— Вы хладнокровно меня убьете. Нет, даже не хладнокровно. Вы подло и трусливо меня убьете. Ведь я же напишу вам письмо, напишу! Вы будете прекрасно знать, что я нахожусь в селе.
— Да как же я могу вас убить, Галина Григорьевна, ок–ститесь!
— Как! Как! Из пушек, из ваших проклятых пушек! Вы, прекрасно зная, что я никакого отношения к банде этой не имею, что я просто актриса, — вы побоитесь сказать это своим вонючим комиссарам и убьете меня. Хоть сейчас–то уйдите. Мне не так много осталось. А вы будьте прокляты, трус и убийца.
Василий Васильевич, сделавшись бледным и немного окривев на одно плечо, не имея сил уйти сразу, закрыл для начала дребезжащую дверь. Постоял, упершись в нее мало что понимающим лбом. Дерево казалось ему горячим, причем преднамеренно. Постоял и побрел обратно своим извилистым маршрутом к выходу из вагона. Тяжело, как вынимаемый из петли висельник, спустился по крутым ступеням на насыпь. Там стоял с зонтом начальник станции. На лице его выражалась готовность служить и чувство вины за качество погоды.
— Что прикажете, ваше высокоблагородие?
— Бомбардировать село, — ответствовал генерал, сомнамбулически направляясь к зданию. Начальник последовал за ним, теряясь в догадках сразу по нескольким поводам и тихо раздражаясь против самодурства больших чинов. Остановившись у станционного колокола, Василий Васильевич вспомнил про человека с зонтом.
— Ты вот что, братец, ты проследи. Генерал повернулся к одинокому вагону, застывшему на запасном пути и заключающему в себе его бывшую жену. Начальник станции догадался, что он имеет в виду. Генерал полез во внутренний карман кителя, но в парадном мундире не было и не могло быть бумажника. Если бы Василий Васильевич не был обуреваем сильными и новыми для него чувствами, он испытал бы чувство неловкости.
— Не беспокойся, не обижу.
Начальник станции не поверил, хотел отойти с полупоклоном, но по инерции чинопочитания поинтересовался:
— А что с сынком вашим? Имею в виду — как быть?
— А посади ты его под замок, — сказал генерал, думая не о сыне и даже не о жене, а думу собственную.
— Уже, так сказать, сидит за дебош и вред буфету. Уж так был буен.
На это генерал ничего не заметил. Не глядя взял из рук железнодорожника зонт и отправился вдаль и вдоль по перрону с видом человека, с каждым шагом укрепляющегося в сознании своей цели.
— А дамочка? К нему дамочка прибыла из Петербурга. Как с нею быть? — озабоченно суетился сзади начальник, но не мог быть услышан.
— Я, например, точно знаю, где и когда умру. — Саша смотрел на профессора спокойным неаффектированным взглядом.
Евгений Сергеевич искал в его трезвом облике признаки безумия, но знал, что не найдет. Этот стервец даже не покраснел, что случалось с ним и в менее напряженные словесные моменты. Не заметно и специфического самодовольства, что порой возникает у людей, награжденных какой–либо особо тяжелой или чрезвычайно экзотической болезнью в обществе страдающих прозаическим расстройством желудка.
— Но, насколько я понимаю, коллега, где именно и когда именно — эти сведения вы бы хотели сохранить в тайне, — отчасти иронически заметил профессор. Саша искренне удивился такому предположению.
— Это будет в одной физиологической клинике в штате Массачусетс. В Америке. Насколько я понимаю, эта клиника будет принадлежать мне. Умру я в преклонном весьма возрасте в тысяча девятьсот семьдесят девятом году. В январе.
— Точнее не можете сказать? — защищая свою последнюю позицию, осклабился Евгений Сергеевич. Саша был настолько открыт, что профессорская ирония пролетела сквозь него, как ворона сквозь колоннаду.
— Не могу. Я впаду в беспамятство перед смертью. Сколько оно продлится дней, знать мне, естественно, не суждено.
— Очень интересно: Америка, клиника. — Евгений Сергеевич плеснул себе мадеры в чайную чашку.
— Интересно как раз не это, а то, что мне удалось понять. В конце концов. И начал я понимать уже здесь, в Столешине. Попытаюсь объяснить в доступных формах. Вы ведь, если правильно понимаю, к физиологии…
— Это что — лягушек резать? Увольте. Человек, истязающий земноводных, но безответных тварей, носит немытые волосы до плеч, всем хамит, умирает от неумения пользоваться своими собственными инструментами. На могиле его вырастает лопух, периодически радующий стариков родителей. И никакой Америки. Саша вежливо улыбался, пережидая. И стоило лилово–щекому дяденьке затянуться вином, начал:
— Уже очень давно, почти год назад — я уже тогда занимался проблемами старения, вернее, причинами оного — я сделал небольшое, но глобальное открытие. Иногда нужно уйти от точных частностей и позволить себе пусть расплывчатое, но решающее обобщение. Вот в чем мое. Природа, наша матушка–природа, не рассчитывала на то, что человек будет жить долго, а захочет еще дольше. Не думала, что он создаст вакцины и скальпели, пилюли и горчичники. Вы меня понимаете?
— Если у вас природа может думать, почему я не могу понимать?
— Лет до тридцати — тридцати пяти человек живет как животное, внутри за него работает природа. Все отклонения автоматически компенсируются, искажения исправляются, ущербы возмещаются из внутренних, заранее предусмотренных запасов. Мы, как в утробе матери, прячемся в недрах естественного здоровья. Но с какого–то момента — всё! Сорокалетние природе не нужны. Все не нужны! Они — неважные приспособления для размножения и т. п. Сорокалетние организмы предоставлены сами себе, им позволено жить по инерции, до первого серьезного нарушения в системе. На наш мозг, даже усложнившийся, ей плевать.
— Кому плевать?
— Природе, я же говорю. Что сложность нашего мозга перед ее сложностью! С природной точки зрения, люди становятся искусственными существами. Старость — это фактически загробная жизнь до гроба. Это не значит, что ее не должно быть. Разумеется, так вопрос ставиться не может. Мы не должны во всем ей подчиняться. Желание прожить как можно дольше — своего рода новоприобретенный инстинкт, резко отличающий человека от животного. Хотя, если вдуматься, то срок нашего пребывания там от времени, проведенного здесь, зависит вряд ли.
— Мне кажется, вы отвлеклись.
— Да, простите. Итак, я прихожу к выводу, что хотя понять суть биологической жизни нельзя, в обозримом, по крайней мере, будущем, следует попробовать изучить как следует работу биологического механизма. Улавливаете мысль? Евгений Сергеевич молча отхлебнул еще вина.
— Но это если глобально смотреть, почти философски. Я же лишь физиолог, отчасти врач. У меня своя узкая делянка. Меня интересует определенная часть биологического механизма физиологической машины. А именно — кровеносная, сосудистая система. В чем причина ее старения, столь пагубно сказывающаяся на продолжительности человеческой жизни?
— В чем?
— Во внутренних стенках артерий — они, кстати, имеют своеобразное наименование: «интим». С возрастом на этих стенках начинают возникать отложения, все больше, больше. Канал кровотока неуклонно сужается. Наконец наступает закупорка, сердечный или мозговой удар и смерть. Почему так? Потому что природа не позаботилась о способе растворения этих отложений. Зачем? Принцип экономии средств. Старики не нужны.
— А кому они вообще нужны? — выразительно цыкнул зубом профессор.
— Это у вас пессимистическое настроение. А на самом деле нужны хотя бы самим себе. Науке. Старость иногда сопровождается мудростью. Вот вы почти светило для филологических умов. Зачем вам умирать завтра от сердечного приступа, когда вы можете написать еще десять или сорок книг.
— Что эти десять или сорок изменят в мире?
— Не знаю. И уверен, что не мое дело — знать это. Может быть, желание жить как можно дольше есть часть высшего, надприродного повеления человеку. Оно может, например, исходить от Бога. Хотя, если честно, Бог мне непонятен. Я стараюсь оставаться в кругу вопросов, имеющих какой–то ответ. В Столешинских болотах я нашел путь, самый первый шаг пути, — в болотах Флориды и Амазонии я его продолжу — к тому препарату, что очистит артерии человека. Без скальпеля и прочих ужасов.
— Кто знает, может быть, ваш путь ошибочен, вы об этом не думали? Вдруг болота вас обманут?
— Мне нравится одна фраза из какого–то философа: человек, который заблуждается, не знает, что он заблуждается; человек, который знает истину, точно знает, что он знает истину.
— Спиноза.
— Пусть, зато правда. И тут я возвращаюсь к началу. Наградив меня точным знанием о дне и часе смерти, меня осчастливили. Ибо тем самым я получил подтверждение, что моя теория верна. Вы понимаете, верна. Моя жизнь приобретает смысл, ее имеет смысл прожить. Все остальное такая чушь в сравнении с этой уверенностью. Профессор вдруг, не предварив свое действие никаким словом, швырнул в энтузиастически привставшего исследователя недопитый стакан чая. Студент увернулся и весело крикнул:
— Это не чернильница, герр профессор. Корженевский тяжело встал и, не глядя в сторону собеседника, вышел вон с веранды. Саша, потеряв равновесие на качнувшемся стуле, свалился на пол.
Зоя Вечеславовна отпустила гардину, в гостиной вновь сделалось темно.
— А знаете, что я вам скажу, вот какая мне пришла в голову мысль. Не бывает эпидемий, которые убивали бы всех поголовно. Из любой чумы бывают исключения. А Евгений Сергеевич, несомненно, человек исключительный. Кроме того, я не верю, что этот бред будет длиться еще долго.
— А я, напротив, боюсь, что он наступил навсегда. И по всей стране, — с пожилой задумчивостью в голосе сказала Настя.
— Ну–у–у нет! — помотала головой и позвенела немецкими башками Зоя Вечеславовна, — это было бы слишком апо–калиптично или даже апокалипсично. И как–то — аляповато. Конец света не может начаться у нас в Столешине и произойти в таких пошлых формах. Буфетные мужики бегают с садовыми ножницами за своими развратными женами.
— Это не так.
— Что не так? Но, если вдуматься, — профессорша помолчала, — это наваждение могло бы стать чем–то вроде спасения. Когда все заболевают одной болезнью, они становятся равны в самом существенном. Появляется поразительная основа для взаимопонимания. Люди наконец смогут договориться. На платформе общего горя. Становится представима и даже возможна новая всеобъединя–ющая идея. Что произойдет с Россиею, обуянной таким необычным и общим переживанием! Не только идея возможна, религия новая… — Зоя Вечеславовна стала говорить быстрее, как будто речью ее овладела лихорадка.
— Это надо очень обдумать, очень! Все в этой истории так неоднозначно… Мы восприняли эти диковатые, неизвестно откуда идущие токи как бедствие, а это, может быть, просто такое откровение. А кровопускание, устроенное Калистратом, не более чем первое жертвоприношение новой религии.
— Я убеждена, что Груша не изменяла своему мужу. Не любила его, но не изменяла.
— Невинная жертва — это еще лучше.
Зоя Вечеславовна прошлась вдоль стены в неожиданном
танце.
— Мне не нравится, как вы о ней говорите. Танец погас.
— А что это, милая, вы так горячо за нее вступаетесь? Впрочем, кажется, понимаю. Супружеская верность — это то единственное, что может себе представить девственница, размышляя о семейной жизни.
— Пусть так.
— Похвально, но странно. Поверьте, вы напрасно так носитесь с этой драгоценностью.
— Как знать.
— Одно преступление она, девственность ваша, уже принудила вас совершить.
— Преступление? — насмешливо и с избыточным чувством своей физиологической правоты фыркнула девица.
— Вы могли бы облегчить страдания этого кобеленыша Аркаши. Ведь он просил, пронзенный внезапным страшным открытием, просил у вас помощи, он валялся у ваших сухощавых ножек, как раненый валяется на поле боя, призывая сестру милосердия. Есть вещи, стоящие выше той позиции, которую вы сочли нужным отстоять. Фу и фи! Что ждет наших офицериков на фронтах будущей бойни, когда для них закрыты не только сердца, но даже и постели родной державы.
— Какая–то гнусная, бессмысленная чушь, — топнула «сухощавой» ножкой Настя, — у него же есть своя девушка в Петербурге. На меня он никогда не смотрел как на женщину. Я всего лишь дальняя родственница. Я не могла его отнимать у той, которая…
— Ложь! — уверенно заявила Зоя Вечеславовна, испытывая острое удовольствие от собственной губительной проницательности.
— Отчего же ложь?! И потом, как вы можете знать, что Аркадий добивался меня? Он никому не рассказывал, и я тоже.
— О Господи! — презрительно усмехнулась профессорша. — Я знаю, когда умрет мой муж, я знаю, что расстреляют царя и все его семейство, я знаю, что война, которая начнется на будущей неделе… в общем, почему от меня должна быть скрыта такая мелочь?
Следователь и священник вышли на веранду. Им открылась картина, заставившая отца Варсонофия выразиться образно:
— Мамай прошел.
Большой обеденный стол был наполовину обнажен. Уцелевшие чашки смущенно топтались на дальнем краю. Валялись стулья, кокетливо отбросив ножки в сторону. В дальнем углу веранды сидел на полу Саша в обнимку с остывшим самоваром и был красен вместо него.
— Что случилось? — профессионально спросил Бобровников.
Саша пожал свободным плечом, отодвинул наглый самоварище и поставил его рядом и вертикально.
— Евгений Сергеевич.
— Что Евгений Сергеевич?
— Напал вдруг на меня. Сначала мадерой швырнул, а потом вскочил, ногами стал топать и кричать. Самовар
схватил, потащил — и в меня. Я со стула на пол, головой
об стенку.
Саша, классически морщась, ощупал затылок.
— А причина, причина какова? Не мог же он просто так, без всякого повода на вас напасть, юноша!
— Вы мне не верите, но…
— Пока не очень. — Бобровников поднял стул и сел. Батюшка нахмурился и подвигал губами в недрах бороды в стиле «свят–свят». Был чем–то недоволен и смущен. Студент встал, одернул форменный кителек. Он был кое–где присыпан мокрой заваркой.
— Я просто рассказал ему свою теорию, он выказат сначала интерес и слушал даже с вниманием. Отпускал замечания по ходу. А потом вдруг эта мадера. Я было смеяться, а он…
— Что же за теория такая? Разумею, что в ней именно причина, — подал голос батюшка. — Изложите ее нам. Юный физиолог боролся со следами чаепития на мундире.
— Боюсь, вам она покажется богопротивною, — сказал он с оттенком мировоззренческой непочтительности в голосе.
— Во всяком случае, швыряться в вас мадерою я не стану.
— А где сейчас Евгений Сергеевич? — Следователь следовал своим путем.
— Не знаю, ушел. Я лежал смирно, дабы не возбуждать в нем еще большей горячности. Притворился без чувств. А он, проклиная немцев…
— Немцев?!
— Звучали ученые фамилии, а они по большей части немецкие. Так вот, проклиная, и вместе со слезой немного, удалился. Слышал, как гравий хрустит, более ничего.
ТРЕТЬЯ ПОВЕСТЬ ОБ ИВАНЕ ПРИГОЖИНЕ
Мститель
|Внутри было сухо и сильно пахло вином. Сухим красным. После тёрнского гулевания Иван Андреевич запомнился этот запах навсегда. Оказывается, праздничные бочки крепились к своим носилкам намертво, что оборачивалось большим удобством во время водного путешествия. Деревянное винохранилище путешествовало вертикально, как бы на подводных крыльях. Оставалось только молиться, чтобы не вылетели затычки из дырок. В быстро наступающую темноту Иван Андреевич вплыл в гулкой толпе обрушенной в реку тары. Выстрелы полицейских револьверов и крики потревоженных бродяг остались на берегу. Первые потеряли пленника, вторые — жилье. Беглецу было наплевать и на тех, и на других. Осторожно высунувшись из вертикального жерла, он выловил из воды длинную узкую доску и назначил веслом. Теперь он был полностью экипирован для ночного путешествия.
Течение Чары было быстрым, но плавным, вода неслась по гладкой вымоине в базальтовом основании континента. Единственную опасность представляли столкновения с собратьями по побегу, полыми детьми знаменитого тёрнского бондаря Иштвана Гелы, до конца прошлого века снабжавшего солониной дунайские города. Впрочем, не все бочки плыли порожняком. Иван Андреевич слышал слева и справа от себя то руситскую, то румынскую ругань. В этих возгласах было поровну возмущения и удивления; принадлежали они тем бочечным жителям, кто сверх меры нагрузился накануне и стал приходить в себя, только оказавшись в воде. Чара без всякого предупреждения сделала крутой поворот. Лента плывущих бочек скомкалась под корневищами трех высоченных сосен, единой черной громадой вставших на фоне слова «вызвездило». Поработав веслом, Иван Андреевич миновал сие подобие Сциллы. Тёрн остался за поворотом жизни — со всеми своими праздниками, предательствами, полицейскими, букинистами и обманутым поездом. Вдохнув поглубже речной воздух, Иван Андреевич испытал такое облегчение, что ему захотелось задрать голову и что–то объявить звездному небу. Но сдержался. Он был не уверен в этих невидимых берегах. Настолько ли они пустынны, насколько тихи? Раздражало и то, что он не может определить, на каком расстоянии от них находится. Держится ли он середины потока или вот прямо сейчас въедет в охраняемую камышом заводь. Тени ив и тени сосен сделались его смутными ориентирами. Первых становилось все больше, а вторых все меньше.
Слух беглеца привыкал к новым звуковым условиям. Надводные звучания холоднее и извилистей наземных. Для сухопутного слуха они так же странны и неприятны, как шевеление тритона за шиворотом. Никакое непонятное шуршание в ночном лесу не могло заставить Ивана Андреевича потерять самообладание. Здесь же пара невидимых шлепков по водной глади где–то слева по курсу тут же вызывала в воображении матерого утопленника, который незаметно подкрадывается к плавучей бочке, чтобы наброситься на путника.
Впрочем, пустое. Иван Андреевич был готов оседлать и пришпорить речного мертвеца, если не окажется другого способа передвижения.
Очень приятно было проплывать мимо редких пристаней. Деревянный настил, сарай речника, тусклый фонарь с сальной свечой внутри. Собака рассеянно гавкнет, сама не уверенная в том, что учуяла что–то на водной поверхности. Стукнет калитка, громыхнет ведро, напоминая реке, что оно имеет право на поборы с нее. Деревни стоят спиной к бесшумной воде. Они ее не стесняются, завтра здесь уже будет протекать другая река. Вся гордыня града направлена вовне. В реку все исподнее и постельное. Вода досконально узнаёт, как тут ели, спали и любили; и ей интересно. Настолько, что она замедляет скорость своего течения. Иван Андреевич определил это с помощью песни, которую тянули бабьи голоса во всех минуемых поселениях. Песня повествовала о прелестях летней прополки и о любовных играх меж бойким Иванкой и скромной трудолюбивой Цветанкой. Вся Нарекая долина, вернувшись с огородов, отряхнув колени и умывшись, упивалась этой историей. В предместье Тёрна Иван Андреевич успевал, проплывая мимо поющих, узнать всего лишь, что Иванко спозаранку ходит за Цветанкой и что Цветанка не очень–то отвечает Иванке взаимностью. Чем дальше он спускался в долину, тем со все более развернутой версией песни его знакомили.
Наконец где–то посередине меж Тёрном и Ильвом он выслушал ее почти целиком. Уже была и свадьба, и дети, и свой огород, который со временем потребует прополки.
Иван Андреевич поневоле увлекся исследованием местного песенного фольклора и в очередной деревне рассчитывал узнать, замкнется ли эта поразительная по своему внутреннему драматизму история в круг. Но живая жизнь не позволила ему порадоваться силе своей иронической проницательности. Следующая деревня спала. Намертво. Как, надо полагать, и вся Чарская долина. В одно время полем, одну песню поем и вместе спать ложимся. Может быть, в этой формуле и заключается единство народа. Под размышления такого рода стаг Иван Андреевич убаюкиваться, найдя относительно удо. ное положение в круглой каюте. Может быть, подействовали на него слабые, но винные пары, с коими он эту каюту делил. Вдруг страшный удар в спину. Вздернулся, вскинулся, но не опрокинулся. А-а, это всего лишь бочка–преследовательница; гналась от самого Тёрна и только здесь настигла. В абсолютной тишине ее толчок п;:о гремел как гром. А почему абсолютной? Вон там когда
лупят по проселку. Главный государственный тракт Ильв — Тёрн вплотную в этом месте подходил к реке. Скачет полицейский наряд со стороны столицы. Тут Иван Андреевич понял, почему видит всадников — вместе с тишиной исчезла и темнота. Его бочка плыла по реке расплавленного олова. Матушка–пуна преподносила беглеца на бледном полотенце всякому, кто захочет его увидеть. Иван Андреевич присел и наклонил голову. Всадники остановились на берегу.
Толпятся, перестраиваются, обмениваются опасными для секретаря мыслями.
Прозвучала невнятная команда, и стук копыт, бледнея, посыпал вверх по реке. Иван Андреевич выглянул им вслед и догадался, что его спасло. Оловянная река вся была просто утыкана плывущими бочками. Будь он один на воде, не избежать бы досмотра. Беглец с огромным облегчением пошевелился. Поглядел по сторонам, поглядел вверх. Теперь можно было подумать о предстоящем разговоре с мадам. Какая–то неуверенность обнаружилась в сердце. Когда возлюбленная была совершенно недоступна, он великолепно знал, что он ей скажет при встрече. Теперь же, когда исчезли все препятствия… В самом деле, почему она его бросила на произвол обезумевшей сестрицы?! Почему решила выдать хромой славянофилке? С головой. Что там бормотал господин Сусальный о торговле пушками? И если честно всмотреться, то месяц их изобретательной любви выглядит не столько упоительным, сколько подозрительным. Эти инфернальные завалы мебели, перепуганные телеграфисты, закутанные офицеры, патефонные пытки, опереточные дипломаты, невразумительные подарки, усатые призраки. Все эти переодевания, негрофилы с железными коробками, переодетые гайдуками мулаты, выпученные глаза Меропы, камины, полыхающие посреди июня, и снова усатые призраки. Бледнолицые, с изодранной ноздрею. За воротами. Жутко, нечеловечески усатые…
Когда он проснулся, первой мыслью было — проспал. Справедливости ради надо сказать, что пропустил он много. Не видел, как обгоняют его судно несущиеся с севера на юг автомобили, набитые девственницами, пушечными торговцами, дипломатами и развращенными детьми. Просмотрел набережную торгового города Сель–ма. Не видел, как в предрассветном тумане бродят среди тюков зевающие полицейские, не слышал, как ругаются паромщики и выходят на берег гогочущей толпою гуси.
Иван Андреевич нетерпеливо и осторожно высунулся из бочки. Обнаружил, что давным–давно уже рассвело и что корабль его болтается на мелкой волне как раз под стенами Стардвора. Туман на реке столь густ, что кажется, будто княжеский замок парит на облаке, не касаясь земли. Стало быть, за спиной у него… Иван Андреевич услышал удар и хруст. Бочка накренилась. Борясь за сохранение равновесия, беглец развернулся внутри бочки и надавил спиной на поднимающийся край. Он находился метрах в семи от ивовой стены, давшей название здешней столице. Увидел клетчатые руки, державшие веревку, противоположный конец которой грыз с помощью маленького якоря кран бочки. Увидел красное, но своеобразно довольное лицо пана Мусила. Услышал, как он шепчет, пыхтя:
— Помогайте, Луиджи, помогайте. И Ивана Андреевича решительно втащили под ливень ивовых веток. Оказавшись на берегу, он увидел два направленных на него пистолета. Один нормальный, другой шестиствольный. Между тем «спасители» ему улыбались. Скорей приветливо, чем настороженно. К тому же они имели вид людей, у которых что–то получилось.
— Вы собираетесь меня убить? — как можно высокомернее спросил секретарь.
В отчет послышались добродушно–оскорбительные смешки. И пана Мусила, и Луиджи, и тенора забавляло, до
какой степени он не понимает своего положения. Иван Андреевич давно казался себе похожим на Иванушку–дурачка, но не желал, чтобы это заметили другие. Он насупился и принял оборонительную стойку.
— Успокойтесь, господин Пригожий, успокойтесь, — засеменил голос пана Мусила. — Самое неприятное для вас позади. Еще вчера вечером мы могли желать вам зла. Теперь дело обернулось таким образом, что мы сделались союзниками.
— Мы с вами?
— С вами, с вами, мы, мы, — заверяюще закивали Маньяки.
— Что же такое случилось вчера вечером? Пан Мусил покашлял в курок револьвера.
— Боюсь, вам трудно будет понять с ходу.
— Я постараюсь.
— Граф Консел получил приказ устранить садовника Аспаруха. Учтите, я говорю вам абсолютную правду.
— И поэтому вы решили не убивать меня? — Физиономия Ивана Андреевича выразительно скривилась, но клетчатый толстячок отнюдь не почувствовал абсурдности своих слов. Продолжал объяснять что–то свое.
— Мы оценили непреклонность порыва, бросившего вас в воду в Тёрне.
Объяснение было чуть внятнее первого, но только чуть. За спинами вооруженных господ раздалось недовольное шевеление. Иван Андреевич поднял глаза и разглядел в сложной тени дерев карету. На козлах сидел третий итальянец. Никаких слуг не было видно.
— Скорее, господа, скорее! — недовольно сказал он, и все остальные признали, что он прав.
— Едемте, едемте, господин Пригожий. Ничего страшного вам не грозит. Мы только лишь покажем вам интересную фильму.
В небольшой подвального типа зальчик Ивана Андреевича доставили с повязкой на глазах. Когда ее сняли, он увидел, что будет смотреть «фильму» в обществе старых знакомых. В продавленных бидермаеровских креслах, расставленных без всякого порядка, сидели граф Консел, сэр Оскар. Терентий Ворон морщил плешь при помощи влажного от волнения платка и громко шмыгал обиженным носом. О пане Мусиле и говорить нечего — он тоже был тут и заведовал показом. В дальнем углу мостился капитан Штабе, было даже непонятно, на чем он сидит.
Два безликих механика возились с киноаппаратом и испуганно переговаривались на техническом наречии. У этого мероприятия был отчетливо подпольный, как бы противозаконный оттенок. И это при подобном скоплении персон важных и важнейших.
Необходимое вступительное слово было произнесено гостю из Тёрна шепотом на ухо. Оно состояло в сообщении, что наш век есть век всеобщего шпионства и стремительного технического прогресса. С помощью новейших приборов и механизмов любые, даже самые тайные и низкие, проявления человеческой натуры могут попасть в сферу высокой политики. Иван Андреевич покосился на пана Мусила.
— Непонятно? — спросил тот. Иван Андреевич пожал плечами.
— Не верите или не хотите верить?
Опять выловленный из реки не нашелся что сказать.
— Тогда смотрите!
Торговец пушками подал знак, и за спинами зрителей затрещала большая степенная цикада. Расширяющийся луч образовал на белой стене ослепительный квадрат. Несколько секунд на экране плясала кандинская дребедень, а потом явилась комната. Иван Андреевич вздрогнул. Вид ее был, кажется, ему знаком. Обширный, богато обставленный кабинет. Волнение секретаря усугублялось собственным трепетом летящих кадров. Обширный, как империя, стол, два золотых подсвечника (Актеон и Артемида) на зеленом сукне. Он мог бы поклясться, что
сукно именно зеленое, хотя фильма была черно–белой. Письменный прибор в виде фрагмента Трафальгарской битвы. Широкая мраморная губа камина, три пальмовых пятерни нависают над диваном красного дерева с бронзой…
Иван Андреевич уже, конечно, понял, чей это кабинет, удивление относилось к тому, почему он виден с такой странной точки.
Дергающейся, невыносимо манерной походкой вошла в кадр мадам Ева (тварь! сволочь! сука!). Она была в домашнем тулонском платье с прямоугольным вырезом, вырез затянут телесного цвета кисеею. На голове умопомрачительная прическа. Над левым ухом вздымается волна, над правым кипит пена. Вычурно, но великолепно! (Чучело, настоящее чучело!)
Иван Андреевич не в состоянии был оторваться от экрана, поэтому не мог определить происхождение этих шипящих шпилек. Они кишели в воздухе кинозала. Все были настроены против мадам.
Она прошагала мимо бездыханного камина и села к столу.
Иван Андреевич понял, откуда смотрит киноглаз. Напротив стола висел портрет Наполеона работы Тьюборла, тот, где император в нелепом лавровом венке. В большом нагрудном медальоне императора и угнездилось соглядатайское око.
Пока Иван Андреевич это понимал, многое успело произойти на экране. Мадам с самым деловым и недовольным видом разобралась с почтой. Она вскрывала письма так резко, будто ощипывала курицу. И сама она, если всмотреться, напоминала манерами большую птицу. (Гус–с–сыня!) Иван Андреевич прекрасно помнил, что в жизни мадам была не такой. Кинопленка клевещет. Задумалась, рвет телеграфную ленту. В клочья! Опять задумалась. Чу, подняла голову. Кто–то появился в кабинете. По лицу хозяйки видно, что удивлена. Замирает, подобравшись. Медленно, насколько возможно в этом стрекоте, встает. Гость вот–вот войдет в кадр. Вошел!
Военный. Короткий китель, сапоги бутылками, мятые под коленями галифе. Сабля до полу. Движения ходульные, шарнирные. Стоя спиной к камере, он что–то говорит мадам… нет, не говорит, он бросает обвинения. Много обвинений. Время от времени ощупывает лицо. Наконец говорить ему надоедает, и он развязно плюхается в кресло перед письменным столом. В профиль к зрителям. Зал вспыхивает восхищенными ахами. Иван Андреевич в первый момент понял лишь то, почему пальцы этого австрийского офицера так внимательны к собственным щекам, — очень уж защетинены. Чуть позже и до него, беспечного мебельщика, дошло — Фердинанд! Пусть и небритый, но эрцгерцог. Разумеется, по степени визуальной популярности он уступал своему батюшке Францу — Иосифу, нервные усики смотрелись жалко в сравнении с пышными седыми бакенбардами. Тем не менее его облик был известен любому читателю газет на континенте.
Эрцгерцог сидя продолжал выражать яростное неудовольствие своей собеседнице, он дергался в кресле, как зверь в капкане. Ни одной неподвижной секунды. Пыльный (значит, прямо с коня) лакированный сапог все время отбрасывал ножны, норовившие заползти под брюхо креслу. Темный рукав бился на темном сукне. То встанет на локоть, то рухнет расшитым отворотом вниз.
— Вы видите, видите, как недоволен Его Высочество, — шепот пана Мусила.
Мадам стояла потупившись, но не испуганно, изредка пытаясь обронить замечание в поток высочайшей брани. Главный триалист империи не усидел в кресле.
— Его Высочество вне себя, — заметил сэр Оскар. Эрцгерцог начал яростно маршировать вдоль стола, воздевать руки, а потом лупить себя по коленям. Во время особенно решительных рывков он на время выпадал из
кадра, и тогда все начинали оборачиваться к ни в чем не повинным механикам. Но что те могли сделать?
— Смотрите, а ей хоть бы что. Она даже улыбается! — возмущенные шепоты из разных углов.
— Она села!
Действительно, демонстрация военизированной нервности не произвела на мадам угнетающего действия. Бросая быстрые (и еще более убыстряемые киноспособом) взгляды из–под невинно дрожащих ресниц, она с трудом сдерживала улыбку. Женщина почти всегда ошибается, думая, что видит мужчину насквозь. Мужчина испытывает жалость, если может поставить женщину на место, или раздражается, если такой возможности лишен. На экране отображалась ситуация третьего рода. Ни жалости, ни раздражения — гнев!
— Он ее застрелит? — очень заинтересованно спросил Луиджи.
— К сожалению, нет, — пропел тенор. Иван Андреевич оглянулся — оказывается, в кинозал проникли Маньяки. Пока он оглядывался, мизансцена на экране изменилась. Вытребованная непреклонным эрц–герцогским жестом мадам обогнула суконную равнину и остановилась справа от нее среди скопления красного дерева, бронзы и бархата.
Небритый воин продолжал между тем свой обличительный танец в непосредственной близости от обвиняемого тела. Возмущенные ужимки, угрожающие гримасы. Ножны на манер крысиного хвоста бьют по ковру. В ответ: заламывание лакомых рук, сотрясение персей, гибельный изгиб губ. Возмущение зала по этому поводу:
— Видите! Она как будто помолодела, тварь! А ведь когда хочет, кажется почти старухой! Граф Консел бил золотой оправой своего пенсне по оскаленной десне и бормотал что–то добродушно–ругательное. Пан Мусил шумно наливался кровью. На экране возникла пауза. Зрительный зал ответил замиранием. Несколько мгновений эрцгерцог молча буравил небритым взглядом беззащитную собеседницу. Кожаный палец (он так и не снял перчатки!) нащупывал каплю пота на виске. Киномашина предавалась вольному стрекоту. И вдруг — а-ах!
Черная пятерня одним когтистым движением сорвала кисейный занавес декольте. Ни одна жилка не дрогнула в теплокровной статуе по имени Европа.
— Какая мерзавка, вы посмотрите, что она творит! Иван Андреевич подумал, что замечание относится к наглой лапе агрессора!
Китель долетел до кресла и замер с выброшенным вперед рукавом, как пловец, достигший желанного берега. После этого Фердинанд рьяно прижал белую грудь к своему (кажется, сиреневому) белью и нанес жадный, но не совсем точный поцелуй в рот мадам. После чего она была излишне резко (по вине кино) препровождена на диван и там, повинуясь беспрекословному приказу кожаного пальца, начала приводить в окончательную негодность свое платье. Его Высочество колотил пятками сапог в ковер, они неохотно снимались, а ему не хотелось вершить наказание мадам слишком уж по–походному.
В общем, приготовление к соединению шло с неестественной скоростью и цинизмом. И это смягчало для Ивана Андреевича кошмарность зрелища. Спасительный душок киношной несерьезности был во всем этом. Он ждал, что сейчас что–то где–то щелкнет, Его Высочество и мадам станут быстро–быстро одеваться. Подпрыгнет и пристегнется сабля, срастется платье, как девственная плева, восстановится кисея в вырезе — ив конце концов они усядутся к столу, беседуя. Чем сильнее он надеялся на возвращение, тем бодрее дело шло дальше; они уже провалились так глубоко, что никакой пленке, даже запущенной в обратном режиме с самой высокой скоростью, уже их было оттуда не вытащить.
И наступил момент, когда фильма кончилась и началось самое обыкновенное скотопредставление. С разных сторон вываливались из неспокойной тьмы хари и десятками по–разному отвратительных голосов объясняли Ивану Андреевичу, что он наблюдает случай беспардонного, омерзительного, нечистоплотного и антиконституционного совращения эрцгерцога Франца — Фердинанда международною шлюхой.
— Покажите мне место, где на ней можно было бы поставить клеймо!
— Нет такого места!
Иван Андреевич пытался возразить, что наблюдают они все вместе отнюдь не совращение, а скорее изнасилование, надругательство, принуждение к сожительству, превышение полномочий, использование служебного положения в личных целях.
— Это изнасилование?!?! — гомерически вопрошали все. И в этот момент мадам могучим движением плеч переворачивала дунайского принца и более чем добровольно производила в его адрес грубые любовные действия.
— Да, это насилие! — слабо, почти беззвучно настаивал на своем Иван Андреевич.
— Это принуждение?! — хихикали все, даже механики, которых должны были убить после показа, когда мадам более чем искусно делала главнокомандующему искусственное дыхание.
— А это, конечно, использование служебного положения в личных целях?!
В меру усатый милитарист с саблей и с хохотом гоняется за кокетничающей всем телом теткой. Причем и кокетка не одета, и сабля обнажена. На счастье Ивана Андреевича, восторженная пара так и убыла из пространства, доступного киноглазу. И вот тут, когда все осталось позади, Иван Андреевич начал терять сознание. Уже в который раз за последние дни. Кто мог предположить в этом здоровом теле столько впечатлительности!
Свалиться со стула ему не дали. Вода, пощечины, нашатырь — и вот он уже шарит вокруг себя руками и глазами, пытаясь понять, где находится. Подглядывающий механизм был выключен. Горел электрический свет. Участливо болтающие пасти были настолько приближены к лицу слабонервного секретаря, что он почувствовал себя не только несчастным, но и загнанным. Чтобы не дать дотоптать себя этим уродам, он попытался перейти в наступление.
— Этого не может быть!
— Чего, чего не может быть?! — возмущенная волна пробежала по залу.
— Его Высочество верный семьянин. Я читал. Он влюблен в свою супругу графиню Хотек. Пан Мусил по–хомячьи оскалился и потряс полненькими ручками.
— То–то и оно! Эрцгерцог действительно любит жену. Он ни в коем случае не собирался изменять графине. Он примчался, чтобы разобраться с пушками, он не подозревал, что попадет в такие опытные лапы!
— А когда это он приезжал в Ильв? И почему никто этого не заметил?
— Вчера, вчера приезжал. И, разумеется, строго инкогнито. Вы бросились в реку, он бросился в автомобиль — так, кстати, ничего и не добившись от этой… Верно, теперь он уже находится в расположении австрийских войск в Тарчине. Маневры прошли хорошо. А 28, в день Святого Вида, он, как и собирался, въедет в Сараево. Не забывайте, мы живем в век невероятного развития техники. Механические колеса уничтожают расстояния. Кинопленка делает тайное явным, как вы только что имели возможность убедиться.
— Как же инкогнито, когда мундир?
— Ну, это вы совсем о смешном, поверх можно набросить плащ с капюшоном и поднять верх машины.
— А что ему было здесь надо? И что, никто не заметил
его отсутствия — ни генерал Потиорек, ни его жена?
— О, вы читаете газеты, интересуетесь политикой?
— Не неотступно.
Торговец пушками улыбнулся как человек, который знает ответы на все вопросы, которые ему могут быть заданы.
— Его Высочество, как и всех нас, возмутила афера с французскими пушками. Он не может не заботиться о процветании своей военной промышленности. Чтобы не откладывать дело в долгий дипломатический ящик, он приехал тайно и лично, чтобы вмешаться в ситуацию и поломать сделку, если ее еще можно поломать. Граф Консел промурлыкал что–то одобрительное, мол, надо, разумеется, такие соглашения ломать и крушить.
— Князь Петр не смог дать вразумительных объяснений своего странного антигосударственного поступка и сослался на тайное влияние мадам в этой истории. Она давно уже была известна эрцгерцогу как любовница императора, и его давно возмущало то, какое она оказывает влияние на дела.
— Откуда вам все это известно? — как можно недоверчивее спросил Иван Андреевич, хотя верил каждому слову. Пан Мусил не счел этот вопрос вопросом.
— Узнав, что эта авантюристка в городе, эрцгерцог направился к ней, чтобы раз и навсегда покончить с нею и ее кознями. Факт предательства интересов Австро — Венгрии был налицо.
— Не вы ли информировали его о сделке?
— У него достаточно своих шпионов. Итак, он поехал на Великокняжескую улицу. Остальное вы видели.
— Он изнасиловал мадам.
— Скорее она его соблазнила. Поверьте, способности и умения мадам в этой сфере ни с чем не сравнимы. Ежели вам недостаточно собственного, простите, опыта, могу призвать и иных свидетелей. Иван Андреевич не успел возразить, свидетели явились. Братья Маньяки со слезами на лживых глазах рассказывали ему, как она мучила их, соединяясь с ними по очереди, каждому обещая счастье и обманывая всех.
— Когда это было, господа? — недоверчиво усмехался секретарь.
— Это было во время прогулки на авто. О Господи, подумал он.
— А вы, находясь все время рядом, были в полном неведении и думали, что числитесь официальным любовником. Вы подвергались издевательству втрое большему, чем каждый из нас, трех несчастных братьев. После слезоточивых итальянцев выступила британская дипломатия. Сэр Оскар, перебарывая приступы нервного удушья, пытался описать, какою кровью истекало его больное сердце, когда он понял, что разноцветные голуби грязно совращены великовозрастной гетерой. Что может быть ранимее старого гомосексуалиста?
— А вы думали, что это длится вздорная ссора меж госпожою и секретарем? — прокомментировал пан Ворон, выступая на первый план с улыбочкой, скрывающей, несомненно, душевную язву. — Даже я, — развел он руками, — даже я, при всем циническом наклонении ума… ведь я поставил свое перо ей на службу совершенно бесплатно. Несколько случайных ласк — и все. Воспользовавшись моим ослеплением, она скупила мои долговые расписки и передала их этому дегенерату Пас–ку. Я погиб. Я погублен, но не знаю — за что?! Иван Андреевич покосился на очкастую обезьяну, и его затошнило от подвижных думающих бровей.
— Вы еще скажите, что она и господина Консела соблазнила, — сказал он, но тут же вспомнил о рассказе начальника полиции и от этого потерял последнюю уверенность в своих силах.
Престарелый шпион чувственно зашамкал губами в задних рядах — в том смысле, что если надо что–то поведать, то он поведает.
Решительный, необыкновенно деловой сегодня пан Му–сил остановил графа и прочих желающих поделиться своими интимными горестями.
— Вы правильно нас поняли, господин Пригожий. Все мы в настоящий момент являемся в той или иной степени врагами мадам Европы и желали бы ей всяческих несчастий. Ее способы интриговать возмущают и отвращают всех. Мы предпринимаем определенные, как нам казалось, даже изощренные шаги к тому, чтобы ее погубить.
— И что? — Иван Андреевич сделал вид, что готов усмехнуться.
— Не желая доставлять вам дополнительные переживания, все же расскажу. Просмотренная вами фильма не единственная в своем роде.
— Кстати, кто их снимает? Этот человек ведь должен постоянно находиться в доме на законном основании! Присутствующие неуверенно переглянулись.
— А-а, теперь уж все равно, — нахмурился пан Му–сил, — эти пленки передала нам мадмуазель Дижон. Побуждения ее были вполне бескорыстны. Она действовала из чистой ненависти и святой зависти.
— Знаю, она завидовала сестре, но при чем здесь чистота? Она завидовала, потому что в мадам Еву все влюблялись, а в эту лупоглазую бестию никто. Она со своей девственностью была еще более развратна, чем мадам Ева со своими многочисленными любовниками, в которых, кстати, я не слишком верю, господа.
— О, не сомневайтесь! — слезливо прошептал сэр Оскар.
— Даже если все так, то мне плевать. Мое чувство к ней останется… Я все равно буду ее любить. Ибо никто не в силах отнять у меня тот волшебный месяц, когда мы… да что я вам буду рассказывать, господа! Вам меня не понять. Потому что не дано! Я благодарен, слышите, благодарен мадам Еве! А эти пушки, политика, эрцгерцог, император — мишура и чушь! Пусть она спала с императором когда–то… Пусть она даже с паном Вороном… ее вынудили или люди, или обстоятельства. Я прощаю, прощаю ей! Более того, считаю, что она не нуждается в моем или чьем–либо прощении. Во время этой речи пан Мусил рефлекторно рылся в карманах, на пухлом лице менялись гримасы. Было понятно, что он сейчас достанет еще какой–то аргумент.
— Похвально, хотя и ненормально, что вы способны на подобные чувства. Вы прощаете мадам давнишнюю связь с императором и с нашим умником паном Вороном. А вот садовник?
— Что садовник? — не понял Иван Андреевич.
— Аспарух Слынчев.
— При чем здесь садовник? Вы мне что–то про него уже говорили, но я не понимаю.
Пан Мусил достал клетчатый платок и промокнул у себя под подбородком.
— Я уже сказал вам, что мы хотим уничтожить мадам Еву. С этой целью мы направили императору копию пленки, которую вы только что видели.
— А я сказал вам, что мне плевать и на пленку, и на императора. Я люблю мадам — несмотря ни на что.
— Увиденный вами эпизод не единственный на этой пленке. На ней зафиксировано и то, как мадам Европа соединяется с болгарином. Со своим идиотом–садовником. Понимаете, о чем я говорю? Она делала это как раз в разгар вашего с нею «медового месяца». С садовником. Не после того, как вы поссорились, а во время романа. Какая неуемность! Вы считали этого болгарского мужика чем–то вроде домашнего животного…
— Хватит! — прохрипел Иван Андреевич.
— Прикажите включить машину, мои слова можно подтвердить документально.
— Не надо. — Иван Андреевич прижал ладони к вискам. Оружейник продолжал говорить:
— Кстати, история с садовником имеет неприятное завершение. У нас есть сведения, что император ознакомился с фильмой.
— Погодите.
— И вместо того, чтобы расправиться с мадам, как мы очень рассчитывали, он велел наказать садовника. Не более и не менее, как кастрировать.
— Что же в этой ситуации ждет эрцгерцога? — поинтересовался тихо киномеханик и испуганно замолчал. Пан Мусил продолжал обращаться к Ивану Андреевичу:
— Теперь вы понимаете, юноша, что… Юноша поднял на него безумный взгляд.
— Я понимаю только одно, что я люблю мадам Еву.
— Вас не волнует тот факт, что вас могут приравнять к садовнику?
— Вы говорите непонятно.
Пан Мусил снова вытер под подбородком. Лицо его сделалось страшным.
— Сейчас вы меня поймете. Вы цепляетесь за этот свой эфемерный месяц любви как за воспоминание о потерянном рае. Эпизод с садовником вам кажется всего лишь недоразумением. Гадким, но всего лишь случаем. Так я вам сейчас докажу, что никакого эдема, июньского эдема не было. С самого первого дня, с самого первого часа эта чудовищная женщина просто использовала вас. Как? Вам ведь известно, что мадам актриса. Так вот, сюда, в Ильв, она приехала не только для торговли французскими пушками, но и для съемок некой фильмы. Весьма и весьма скандальной. Самой скандальной из всех до сих пор существовавших. Не догадываетесь, какой именно?!
— Не догадываюсь, — с трудом ответил Иван Андреевич. Он чувствовал, что ему лучше не знать того, что он сейчас узнает.
— Вспомните, разве не заставляли вас напяливать на себя бутафорские костюмы и заниматься любовью всякий раз на мебели иного стиля, всякий раз в новом интерьере? Вы небось думали, что это просто оригинальное и невинное извращение, ничего более. Причем шло дело каждый раз под довольно громкую музыку. Вам это казалось тоже немного странным, верно? Так вот, это были съемки, мой юный, слепо влюбленный друг. Съемки. Господин Делес — кинопорнограф, главный изготовитель отвратных лент по всей Европе. Трансильванский дворец в Ильве — идеальное место для подобной работы. Интерьеры, колоссальные запасы старья, нужно было привезти всего лишь дюжину–другую кроватей. Фирма «Шнейдер и Крез» обязалась финансировать эту затею в обмен на услуги в торговле своим оружием. Вас использовали, как дешевую постельную скотину. Над вами надругались так, как только можно надругаться. Кроме того, вы в смертельной опасности: если император увидит вас в одном голом кадре с мадам… Вас найдут, как Аспару–ха, кастрированным среди роз. Или берез. Как вам будет угодно.
— Он погиб только потому… — Иван Андреевич обесси–ленно, по инерции продолжал защищать разгромленную позицию. — Его Величество увидел в действиях садовника то же, что я в действиях эрцгерцога. — насилие. И болгарин, и Его Высочество грубо принудили мадам… принудили, принудили… и тогда Его Величество…
— Убейте ее, молодой человек из России, — раздался за спинами собравшихся глухой невеселый голос. Все обернулись. У дверей стоял князь Петр в надетом на голое тело золотошитом мундире и с пузырем льда, приложенным к желчному пузырю.
— Убейте ее. Это надо сделать, и у вас нет другого выхода. Вы спасете меня, хотя на меня вам, наверное, наплевать. Вы спасете союзный вашему отечеству народ, ибо этот контракт — смертный приговор княжеству. Вы спросите — почему я? Во–первых, вы уязвлены этой тварью бесконечно сильнее, чем кто–либо другой. Во–вторых, вы — в отличие от прочих — лицо абсолютно частное. Вам легче будет скрыться после того, как вы совершите мщение. Сделайте это. Княгиня тоже просит вас об этом.
— Но моя голова…
Князь страдальчески поморщился.
— Это недоразумение. Имелся в виду ваш мозг, то есть… ну, вы понимаете, княгиня хотела побеседовать с вами на славянские темы. В переносном смысле голова, в переносном! Убейте. Поверьте, жизнь моя сделалась несносна и непереносима.
В руку Ивана Андреевича само собою переползло из волосатых лап пана Мусила шестиствольное чудо имперской оружейной промышленности.
— Это нужно сделать немедленно, — опять взял дело в свои руки торговец. — Мадам сейчас почивает. Слуги или подкуплены, или арестованы. Вас никто не остановит. О будущем не беспокойтесь, вы не только останетесь живы, но и сделаетесь обеспеченным человеком. Иван Андреевич начал подчиняться командному голосу, встал, волоча по воздуху тяжелый пистолет, направился к двери. Князь Петр уступил ему дорогу. Во дворе (прокуренный киноподвал находился, оказывается, в княжеской резиденции в Стардворе) Иван Андреевич увидел автомобиль, за рулем сидел тенор.
Откуда–то с первого этажа донесся медный лепет невидимых часов. Они жаловались на то, что заняты заведомо бессмысленным трудом.
Все находящиеся в комнате посмотрели на массивный ящик красного, но некрасивого дерева с тусклым висячим маятником внутри. Кабинетный хронометр был мертв. Воистину, время остановилось в правительственной келье.
Пан Мусил нехорошо переглянулся с графом Конселом, сэр Оскар сделал трагические глаза Луиджи Маньяки, а потом все вместе обратили взоры на князя.
— Чаму ён нейдзе? — громко сказала княгиня. Подражая эрцгерцогу Фердинанду, она (втайне, конечно) стремилась сделаться покровительницей, а может, и повелительницей балканских славян. Для того, чтобы постичь душу народа, надо изучить его язык. Поскольку народов славянских было много, она принялась учить сразу все языки, ни секунды не сомневаясь, что добьется успеха на всех фронтах. Немка, что и говорить.
Князь Петр считал, правда, что под видом всех этих волосатых второкурсников Загребского университета к ней шляются все новые и новые любовники. Как ни странно, в данном случае он был неправ. Княгиня строго разделяла слово и тело. К своей будущей политической роли она относилась очень серьезно. Не менее серьезно, чем эрцгерцог к своей. Он хочет из двуединой монархии сделать триединую, германо–венгеро–славян–ское государство. Прекрасно, она будет ему в этом помогать. Фердинанд станет в этом деле заведовать кнутом, она пряником. Если же его убьют, она готова была взять на себя и его долю исторического дела. Влияние Ильва будет расти, он станет балканским Пьемонтом. Если, конечно, пристрелят эту кошмарную развратную тварь. Которую ненавидит даже собственная сестра. Правда, тоже кошмарная. Неужели сегодня?
Почему же так долго?! От дворца до дворца сто секунд езды на машине.
Но вот наконец шаги в приемной. Княгиня встает несколько неровно, несмотря на бесчисленные тренировки. Князь отнимает от левого соска ледяную подушку. Присутствующие, как им и положено, замирают.
Дверь, обе высоченные створки, нараспашку! В окружении лакеев и гвардейцев стоит окровавленный тенор. Что–то он сейчас пропоет.
— Ну что же вы, молчать не сметь! — мучительно взывает князь. — Она мертва?!
Окровавленная голова поворачивается отрицательно и медленно, чтобы не расплескать то, что еще осталось внутри.
Немая, но очень шумная сцена. Скрипит паркет, стучат каблуки, вспышки кашля повсюду. Руки жестикулируют, хватаются за голову, за горло.
Наконец подробности: этот, казалось, затравленный открывшейся правдою секретарь шарахнул тенора рукоятью пистолета по голове, выкинул из машины и удрал на огромной скорости. К западным воротам. Князь с истерическим стоном с размаху нанес удар ледяным астероидом по албанскому побережью и отломил итальянский каблук. Смятение в кабинете. Некому даже выставить вон любопытных слуг. Очень чувствуется отсутствие трезвого человека, такого, как начальник полиции.
Невнимательный обмен невнятными мнениями. Кто–то говорит, что отчасти готов к такому повороту события. Слишком легко этот юноша согласился на убийство любимой (хотя и отвратной). Порой судьба неповоротлива, а порой… Что же теперь?
За неимением вооруженных властью деятелей за дело взялся оружейник. Пан Мусил прикрикнул на лакеев, и дверь затворилась. Он же велел дежурному офицеру организовать погоню. Телеграфировать в Зборов, Чап–лич и другие крупные села на Чишском тракте, чтобы немедленно и всенепременно задержали одинокого автомобилиста.
Живьем, обязательно живьем, — подсказал сэр Оскар. Князь опять затеял ходьбу вокруг стола.
— Жива, жива, она же жива! Но теперь она уедет, проснется сейчас — и уедет. И увезет все бумаги. Я не посмею ее задержать.
Княгиня Розамунда со вполне понятным отвращением смотрела на мужа.
— Не увезет, — успокоил его пан Мусил. — У мадам Евы сильная простуда, подхваченная во время ночной гонки из Тёрна. Она панически дорожит своим здоровьем и проведет в постели не менее трех дней. Делес, этот борец за черномазые права, при ней неотлучно.
— Как он умело скрывал свой союз с нею, — продолжал хныкать князь, — если бы не мадмуазель эта противная, вы бы так и не догадались, что он ее сообщник и киношник, дураки!
— То, что он имеет отношение к грязным махинациям в сфере кино, мы знали уже давно, тем не менее… Князь махнул на оружейника ледяным пузырем.
— Почему же он сразу не уехал в Париж, как только получил текст контракта с подписью?
— Он не хочет ехать без своих коробок с кинопленкой, а их около сорока. С таким хозяйством не прошмыгнешь незаметно. Ведь его вы посмели бы задержать, Ваше Высочество? — тихо отомстил князю пан Мусил. Князь обиженно кивнул, судорожно вздохнул, в очередной раз прошелся по кабинету. Подойдя к портняжному манекену, грубо толкнул его пальцем в грудь, как бы спрашивая: а ты кто такой? Манекен некрасиво упал. Его Высочество резко обернулся.
— А офицера этого вы так и не сумели найти?
Пан Мусил поклонился почтительно, но ответил весьма
твердо:
— Его искал господин Сусальный. Вы это поручили ему. Я лично не имею к этому ни малейшего…
— Хорошо, хорошо, — жалобно замахал рукою князь, не имевший сил ссориться, — однако меня беспокоит, как бы он нам… как бы это сказать… не повредил.
— Как? — усмехнулся граф Консел.
— Он может рассказать всю правду о съемках. О том, как он играл роль эрцгерцога в… нехорошей фильме. Ведь он как две дробины схож с Фердинандом.
— Без грима не слишком, — заметил сэр Оскар.
— Но все же, — продолжал ныть Его Высочество, — если пойдет такой слух…
— Опасным он может стать лишь тогда, когда дойдет до императора. А вы. Ваше Высочество, можете себе представить, чтобы на прием к императору мог проникнуть провинциальный, вечно полупьяный комик?
— Тем более в ситуации, когда никто из придворных этого не хочет, — поддержал пана Мусила граф.
— А…
— А если он начнет рассказывать о своих похождениях по трактирам, его просто–напросто отправят в сумасшедший дом, — радостно подвел итог общему мнению Луиджи Маньяки.
— Кстати, господа, а что сделалось с господином Сусальным? — раздался голос княгини.
— Он бросился под поезд, — пожал могучими плечами сэр Оскар.
— После того, как господин Пригожий… — начал оружейник.
— А куда он, собственно, теперь едет? Разговор, по трусливой княжеской тропе вильнувший в сторону, не мог не вернуться к сегодняшнему беглецу, и произошло это в вопросе доселе молчаливого капитана Штабса. Пруссак как–то посерел и зачах в последние дни. Им недовольны были в Берлине, им пренебрегали в Ильве. Сегодня никто не ждал от него разумного вопроса. Но еще меньше от него ждали ответа, который он дал на собственный вопрос:
— А ведь он, господа, поехал в Сараево.
— Сараево?!
— Сараево.
— Да, завтра, двадцать восьмого числа, эрцгерцог Франц — Фердинанд въедет в город, и господин Пригожий убьет его.
— Он не успеет добраться до Сараево, — с надеждой сказал пан Мусил.
— Успеет, — мрачно заверил тенор, зная свою машину. Между тем высказанная капитаном мысль воцарялась в кабинете. Было видно, как она движется от одного к другому и как по–разному действует на собравшихся. Вспыхивали и гасли глаза, ползли кривые и растерянные улыбки, схватывало животы.
«Он нам все испортит!» «Он вооружен!» «Если его схватят на границе, Потиорек отговорит эрцгерцога въезжать в город». «Или отговорит жена». «Но Иованович уже предупреждал Билинского, что может найтись искренний сербский юноша, который не задумываясь бросит бомбу или выстрелит из револьвера. Но эрцгерцог не изменил свои планы». «Билинский мог не передать это предупреждение Фердинанду. Вам не хуже моего известно, что не все в Вене обожают эрцгерцога». «А если и передал, то сведения могли показаться Фердинанду чушью». «А когда ему предъявят живого террориста, совершенно реального террориста…» «С шестиствольным револьвером фирмы «Шкода»?» «Это нюансы, хотя и неприятные, так вот, в таком случае он, поверьте, задумается». «И если не отменит этот въезд…» «Между нами, довольно провокационный». «Пусть так. Так вот, он велит нагнать в город столько войск и агентов, что наши «искренние» сербские юноши из кармана спички не посмеют достать, не то что пистолет». «Господа, господа, а не все ли нам равно, кто именно убьет «великого триолиста»? Господин Пригожий тоже довольно искренний юноша». «Тем более русский, в этом деле русский лучше серба». «Лучше–то лучше, но, думаю, что даже русского в этом деле мало. Император даже русского простит». «Ну, вы уж…» «Да, да, ревность — жуткая сила!» «Да, после того, что старику показали, он не скоро отойдет». «Но есть еще и Берлин». «Вильгельм настоит, он не упустит такой шанс!» «Настоять–то он сможет, но он не уверен, что стоит настаивать». «Если хотите, я могу вам описать реакцию Берлина на убийство Фердинанда». «Если оно состоится!» «Я не боюсь сглазить. В первый момент Вильгельм взбесится. Бросит свою Кильскую регату, примчится в Потсдам и потребует наказать цареубийц. Будет бомбардировать телеграммами и Вену, и Лондон, и даже Санкт — Петербург. Вера в династический корпоративизм в нем безгранична». «Да, они все родственники». «Но уже на следующий день его ярость начнет ослабевать. Он так же, как и все в Европе, ненавидит Фердинанда за пессимизм и мизантропию, к тому же завидует его бесстрашию и садоводческому дару». «Правильно, а тут еще появятся осторожные голоса прагматиков–миротворцев, у этой публики полные карманы липких аргументов». «И он передоверит право и ответственность за окончательное решение Францу — Иосифу». «Тем более что подчеркнутое уважение к старику — издавна культивируемая линия его поведения». «А как старик относится к сынку–хаму, мы уже обсуждали». «Кроме того, прошу не забывать, что господин Пригожий нужен нам для другого убийства». «Но он не хочет убивать мадам, разве он не убедительно продемонстрировал это!» «Мы еще вернемся к этому вопросу. Тут нужно и, я уверен, можно что–то придумать». «Так думайте». «Вам тоже не запрещено этим заниматься». «Ох, Сусальный, Сусальный, я ведь считал его умным человеком». «Это во многом его вина, его безумная идея вывести русского секретаря из игры». «Вы говорите, умный? А по–моему, идиот. Он ведь решил, что попал в компанию масонов, ей-Богу». «Да и вы хороши с вашими «магическими» эффектами!» «А как быть?! Нельзя же было силой притащить его в спальню к мадам и нажать за него курок?» «А во–вторых, мы зря так уж волнуемся, господа, он физически не может добраться до Сараево». «Не успеет все же?» «Успеть–то он, может быть, и успел бы, но ему не дадут». «Жандармы?» «Жандармы тоже будут в этом участвовать».
Иван Андреевич сидел за рулем второй раз в жизни. Никто никогда не попросит его описать дорогу от ворот трансильванского дворца до этого невзрачного моста, а ведь это могло быть поразительное описание. Он сидел за рулем, окостенев, как мумия, схватившись бесполезными руками за рулевое колесо и до предела вдавив педаль в пол. Это объяснялось не лихачеством или спешкой, а тем, что, раз вцепившись в скорость, он уже не мог «вынуть шпоры из брюха». Из боязни, что машина, поняв, под каким она седоком, проявит норов. Заглохнет или бросится от стыда в ближайший каменный угол.
Каждый появившийся по курсу предмет, каждый человек — это был внезапный враг. Скольких утренних гуляк разогнал он по магазинам и кафе, скольких заставил распластаться по ближайшей стене! Вылетев за городские ворота, сделался грозою телег и тарантасов. Возмущенные крики летели ему вслед из некошеных рвов по обе стороны тракта. Собаки и петухи надолго запомнили его рейд. Стайки поселян с косами через плечо (похожие на коллективную смерть), заслышав машину, торопели, а завидев, бросались вон с тракта и падали в живую траву, а потом крестились вслед. Коровы, разумно оборачиваясь, поджидали, когда этот грохот подкатит поближе. Слава Богу, ни одна из них не стояла в этот раз посередине дороги. Иван Андреевич рулил как аптекарь, грамм туда, грамм сюда. Он искренне не верил, что этим дрожащим колесом можно повлиять на движения автомобиля. И вот такой водитель вылетел из–за поворота (отвесная скала в пятнах плюшевого мха) к деревянному мосту через широкий ручей. На мосту три обещанных жандарма на лошадях. Подкручивают усы руситские, перекрывают путь. Машину они сначала услышали. За каменным поворотом возник и стал быстро расти сгусток неестественных звуков. В нем, как игла в яблоке, крылась угроза. Жандармы расстегнули пистолетные сумки. Звук все рос — и вдруг как бы разродился клубящимся пылевым облаком. Механизм был внутри него, но неуязвим для глаза. А значит, и для пули.
Всадники выхватили револьверы, но увереннее себя не почувствовали.
Иван Андреевич, так и не сообразивший, как ему удалось обогнуть каменное препятствие, вынырнул из облака саженей за двадцать до моста. Что можно было сделать за секунды, остававшиеся до столкновения? Рассмотреть, что какие–то форменные безумцы гарцуют на мосту, размахивая револьверами; понять, что он неотвратимо и скоро въедет в них; содрать липкие пальцы с руля, схватиться за верхний край лобового стекла, поставить ногу на борт машины и прыгнуть через низенькие перила моста в недалекую воду. Все это под аккомпанемент револьверной пальбы. Жандармы палили не в него, а в то, что было по–настоящему опасно, — в автомобиль, но пулею не остановишь впавший в самозабвение механизм.
Вода протащила Ивана Андреевича под мостом, он вынырнул и успел досмотреть финал битвы «фиата» со стражами моста. Кони орали, жандармы ржали, сложные разноногие существа, ломая перила и хребты, рушились в воду. Механический убийца в плен не брал, скомкав и сбросив с моста последнего жеребца и его жандарма, он ринулся следом. Содрал водяную кожу с потока, закачался на волнах, накренился, что–то высматривая фарою в глубине. Из ноздрей капота шибанул пар. Иван Андреевич стал выгребать к берегу. Выбравшись и засев в кустах, понаблюдал за поведением ручья, тот был нем как могила. Стало быть, этой части погони можно было не опасаться. Само собою, Иван Андреевич понимал, что отныне ему передвигаться надобно скрытно. Например, под сенью ореховой рощи, растущей вдоль дороги. Еще не успев полностью просохнуть на ходу, он увидел легкую рессорную коляску. Управлял ею пожилой господин в расстегнутом жилете, полосатых штанах и с большой висячей трубкой во рту. Вид у него был самоуверенный: какой–нибудь процветающий бакалейщик или управляющий из ближайшего имения. Но при виде жуткого револьвера уверенный человек стушевался. Сам помог развернуть коляску и, хотя этого у него никто не требовал, уговаривал лошадку вести себя смирно.
Уже порядочно отъехав, Иван Андреевич оглянулся и увидел, что пожилой господин продолжает кланяться вслед его револьверу.
Лошадь не то что машина. Искусство управления этим умным животным Иван Андреевич изучил в детстве и в совершенстве. Белотелая кобылка, весело выбрасывая копыта, мчала его вдоль ореховой чащи, яблоневого сада, дубовой рощи, вдоль пустоши и по дну ложбины. Через незнакомую деревеньку, провожаемая удивленными взглядами тех, кто привык видеть в рессорной коляске совсем других господ.
Иван Андреевич успел проникнуться к ней добрым чувством, но, надо сказать, что это была не последняя его лошадь в этот день. На следующей он выехал из ворот одиноко стоящей усадьбы, сопровождаемый проклятиями престарелого зажиточного крестьянина и зубовным скрежетом его безоружных сыновей. Крестьянский жеребец оказался плохим кавалеристом. Вскоре пришлось Ивану Андреевичу объяснять (опять же предъявляя в качестве основного аргумента подарок пана Мусила) начальнику деревенской почты, что он должен немедленно выпрячь из почтовой кареты коренника и отдать ему. Почтарь послушался, но вскоре Иван Андреевич окончательно пришел к выводу, что впредь не будет гужевых лошадей использовать в качестве верховых. Несмотря на препятствия и перипетии, продвигался он стремительно (сравнительно), намного опережая слухи о своем появлении и наряд жандармерии, посланный его изловить.
Самый опасный участок пути он преодолевал ночью в стоге крестьянского сена. Засыпающие полицейские чины, зевая, бродили с фонарями вокруг явившегося из тьмы холма во главе с заикающимся дураком. Они прекрасно знали этого возчика, не раз он проезжал мимо их поста и груженый и
порожний, но на этот раз у них имелось указание быть настороже. Возчик заикался сильнее обычного и не мог объяснить, куда это его несет на ночь глядя. Накануне Иван Андреевич продемонстрировал ему, сколько стволов будет направлено в его задницу в рискованный момент. Полицейские чесали в затылках. Если бы этот возчик был человеком полноценным, говорил не заикаясь и ехал днем, они бы его ни за что не пропустили, а тут махнули рукой, по совокупности нелепостей сочтя неопасным. В те благословенные времена ни боевые действия, ни полицейские операции в ночное время были невозможны. Выехавшие на его поиски жандармы, укладываясь спать, были убеждены, что он ответит им тем же. Но Иван Андреевич продолжал стремиться к своей цели. А ночь установилась над Балканами густая. Настолько темная, что нет возможности более–менее отчетливо проследить целеустремленные блуждания Ивана Андреевича и его отчаянные подвиги. Как ни наводи на образную резкость, зрелище зело зыбко. Какие–то копыта стучат, колесят колеса, прячутся в платки чьи–то причитания, одинокий дуб стремительно возносится над головою, впитывая звезды, мрак хлопает крылом над челом ездока, воет собака в ожидании луны. Бог с ней, с ночью, никому не удавалось описать ее. Сразу утро.
Окраина города. Пустынный переулок на окраине. Вдоль стен каменного сарая крадется высокий оборванный человек. Он что–то прячет под мышкою и оглядывается. Грязен, исцарапан, бос на одну ногу. Вот, кажется, дверь, к которой он стремился. Молодой человек дергает за ручку звонка. Еще раз, еще! При этом он все время оглядывается. За стеклянной по пояс дверью появляется заспанный хозяин. Разглядев как следует визитера, он быстро отпирает дверь. Он узнал Ивана Андреевича. Некоторое время они молча смотрят друг на друга.
— Мне нужно помыться и переодеться, — говорит гость.
— Идемте, — говорит хозяин, — что это у вас? — Палец хозяина указывает на левое плечо Ивана Андреевича.
— Это останется при мне.
А солнце продолжает подниматься. В Видовдан по давнишней традиции на высоких берегах Дрины, Савы и Моравы сербские общественные организации устраивают народные гулянья. Веселые и сытные. В день этот султан Мурад на Косовом поле превосходящими всякое воображение силами разбил сербское войско. Но празднуется, понятно, не это. Поднимают тосты за одинокого героя Милоша Обилича, который, прокравшись в шатер султана–победителя, поразил его мечом в грудь, полную самодовольства.
Повсюду на цветущих лугах под ореховыми ветвями стояли питейные палатки и гремели самодеятельные оркестры, млела баранина на вертелах, все бойчее плясала молодежь.
Его Высочество после маневров остановился на ночь в Илидже, небольшом городке верстах в двенадцати от Сараево.
В 9 часов 22 минуты к гостиничным воротам подкатили, поблескивая лаковыми поверхностями и сверкая никелированными частями, четыре «мерседеса» 13‑го года выпуска. В первом заняли места начальник полиции, правительственный комиссар и сараевский бургомистр. Во втором, согласно правилам безопасности, поместился наследник престола, его супруга и боснийский наместник генерал Потиорек. Рядом с шофером сел граф Гаррах. В автомобилях третьем и четвертом нашли места свитские офицеры, венские и местные должностные лица. В 9 часов 30 минут кортеж отошел в Сараево.
Иван Андреевич торопливо сбросил с себя грязную драную одежду, не менее грязное и не менее драное белье и начал обливаться теплой водой, зачерпывая ее руками из большого оловянного таза, стоя на дощатом полу кухни. Пистолет лежал на табурете справа от него. Хозяин стоял в дверях и сокрушенно молчал. Иван Андреевич торопился. Схваченное мокрой нервной рукой мыло попыталось взлететь, но было прихлопнуто на животе. Иван Андреевич торопился, но намыливался тщательно и густо, словно от этого что–то зависело. Глядя одним глазом сквозь кошмар пены, он крикнул хозяину:
— Что вы стоите, принесите мне какую–нибудь одежду. И ботинки. Который теперь час?
— Девять тридцать три.
— У меня совсем нет времени. Скорее! Умоляю вас, скорее!
Эрцгерцогский кортеж вдруг свернул с дороги в сторону Филипповиц: как выяснилось чуть позже, наследник захотел поздороваться со стоявшими там на отдыхе частями. Обогнув небольшую ореховую рощу, автомобили вкатили в расположение лагеря. Их, оказывается, ждали. Стоя в полный рост, опираясь левой рукой на плечо генерала Потиорека, Его Высочество на ходу приветствовал солдат и офицеров 32-пехотного полка, того самого, где когда–то служил капитаном. Набирая скорость на волне восторженных криков, кортеж двинулся дальше.
Одной рукой растирая голову расшитым кухонным рушником, другой рукой Иван Андреевич рылся в куче вынесенных ему для примерки вещей. Все было — даже без примерки — мало, коротковато.
— Посмотрите еще что–нибудь! Вы же должны понимать, что я не могу идти в этом. В таком деле одежда может сыграть роковую роль. Хозяин молча наклонил голову и повернулся к дверям.
— И поскорее, поскорее, умоляю вас. Все может решить минута!
Наследник престола велел остановиться у почты. Вышел из машины. У входа в здание его ждал сухой высокий старик в черном сюртуке, это был местный аулический советник. За этого старика просил кто–то из свитских, кажется, фрейлина герцогини Гогенберг. Дело тут было не политическое, но частное. Его Высочество решил, что его образу в глазах подданных этот снисходительный разговор пойдет на пользу. Собираясь объединить славян, негоже и мусульман отталкивать. О чем беседовал наследник со стариком, осталось тайною. В 10 часов 19 минут автомобили показались на набережной Милячки. Франц — Фердинанд приказал сбросить скорость. На набережной было полно гуляющих. Народ нельзя было лишать возможности полюбоваться своим будущим императором.
Солнечное утро постепенно переходило в жаркий, пронзительно–синий день. В церквах гремели колокола. Справляли панихиду по сербам, павшим пять столетий назад на Косовом поле…
Иван Андреевич бросил последний взгляд в зеркало. Ощупал левую полу светлого сюртука, там во внутреннем кармане хранился револьвер. Бросается в глаза. Но по–другому нельзя. Шумно вздохнув раза три подряд, Иван Андреевич пошел ко входной двери. С каждым шагом в его движениях крепла слабость, неуверенность, а в глазах появилась тоска. Он опять ощупал карман с револьвером.
— Знаете что, доктор, вам придется сходить на разведку. Я понимаю, что втравливаю вас в неприятную историю, может быть, даже опасную, но по–другому нельзя, я должен хотя бы приблизительно знать, что меня там ждет.
Первая бомба была за пазухой у Мехмедбашича, одного из основателей «Уедненье и смрт». Ему нужно было вынуть бомбу и швырнуть. На три секунды трудов. Легкое, хотя и смертельное дело. Мехмедбашич не был трусом или предателем, но бомбу он не бросил.
То же самое случилось и с Кубриловичем. Впоследствии он всем, даже прохожим на улице, рассказывал, что дважды стрелял в эрцгерцога из револьвера. Хватал за рукав, силой останавливал и начинал кричать, что это он! он! он только что стрелял в эрцгерцога. В 10 часов 25 минут автомобиль наследника был у того моста через Милячку, что называется Цумурья, там стоял Габринович с букетом цветов. Он поднял его над головою и бросил под колеса автомобиля. Раздался грохот. Гвозди, начинявшие бомбу, свистнули во все стороны. В толпе заорали раненые. Один офицер из свиты схватился за горло, другой за плечо. Наследник был невредим. Он был занят женою. Запальный капсюль оцарапал герцогине Гогенберг шею. Фердинанд помог обмотать ее платком. Автомобили кортежа беспорядочно сгрудились на набережной. Очнувшийся от шока первым лейтенант Морсей кинулся на Габриновича. Находившийся тут же городовой бросился наперерез золоченому венскому франту. «Не суйтесь не в свое дело!» Они сцепились. Бледный как смерть, снег и полотно Габринович медленно вынул из кармана склянку с ядом, медленно откупорил и вылил содержимое в рот. После чего прыгнул в реку. Его Высочество овладел собою раньше прочих благодаря приступу бешенства. Испортить такую поездку! В ответ на невнятные вопросы Потиорека, что делать, он велел ехать — как и было запланировано — в ратушу. Машины, набирая скорость, помчались вдоль по набережной. Таврило Принцип, мимо которого пролетел кортеж, поступил так же, как Мехмедбашич и Кубрилович, — не воспользовался ни бомбой, ни пистолетом. То ли после первого дела счел дело решенным, то ли потому, что машины шли слишком быстро. В ратуше ничего еще не знали о покушении. Бургомистр–мусульманин дрожащим от пережитого волнения голосом начал свою речь. Она получалась у него невероятно цветистой — или просто казалась такой на свинцовом фоне происшедшего только что на набережной. Эрцгерцог, разрывавшийся меж бешенством и необходимостью соблюдать приличия, резко оборвал бургомистра. «Довольно глупостей! Мы приехали сюда как гости, а нас встречают бомбами. Какая низость! Хорошо, говорите вашу речь».
Бургомистр продолжил, но успеха не имел. Наибольшее внимание привлекала шея герцогини, кровь продолжала сочиться.
Фердинанд объявил, что по окончании церемонии он заедет в больницу навестить раненных при покушении офицеров. Кто–то попытался ему заметить, что это опасно. В городе могут быть еще террористы. Наследник усмехнулся и сказал, что снаряд не попадает дважды в одну воронку.
Граф Гаррах, не доверявший солдатской мудрости, попытался организовать надлежащую охрану. Но возле ратуши не оказалось ни одного полицейского. Даже городового. Граф попытался чуть ли не со слезами на глазах в чем–то убедить Его Высочество, но тот не желал слушать. Тогда, обнажив саблю, Гаррах вскочил на подножку автомобиля эрцгерцога и сказал, что будет так стоять всю дорогу. На левую подножку. Надо было на правую.
Решено было ехать прежней дорогой, следуя той же логике взаимоотношения снарядов и воронок. Террористы, даже если они и остались в городе, с прежнего маршрута должны были разбежаться. Таврило Принцип пил в это время кофе в маленькой кофейне на улице Франца — Иосифа. Он был в трансе. Габриновича наверняка взяли. Через него возьмут остальных. Горло перехватывало то ли от страха, то ли от отчаяния. Все рухнуло. Собирался ли этот юноша совершить еще одну попытку покушения, неизвестно. Эрцгерцог — должен был он рассуждать — уже на вокзале или в гостинице под охраною. Да, все рухнуло.
Таврило Принцип вышел из кофейни с одною мыслью: как бы поскорее избавиться от бомбы и револьвера. Между тем тронулся кортеж от ратуши. Шоферам никто не сообщил об изменении маршрута. Он сидел у них в головах еще с Илиджа: до ратуши по набережной, от ратуши поворот на улицу Франца — Иосифа. Потиорек хватился первым, ударил шофера по плечу: «Куда ты едешь? По набережной!» От генеральского окрика шофер ошалел и нажал на тормоз. «Мерседес» остановился как раз в том месте, где стоял напившийся кофе Принцип. Юноша от ужаса выронил бомбу. Она не взорвалась. Со всех сторон с криками бежали люди в мундирах.
В этот момент Иван Андреевич поднял свой пистолет и, не глядя прицелившись, нажал на курок. Удар был страшный. Тело вжало в кровать и неловко вслед за этим подбросило. Правая рука отлетела и шарахнулась тыльной стороной кисти о стену, но пистолет удержала. Левая схватила и потащила край скатерти со стоявшего рядом стола неизвестно чьей работы. На пол посыпались мелкие вещицы, а потом тяжко съехала Библия.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Копыта хлюпали по мутным лужам. Генерал медленно ехал по пустынной деревенской улице, держа в правой руке поводья, в левой — железнодорожный зонт. Улица была широкая, заборы низкие, дворы голые и скользкие на вид. От этого ощущение пустынности усиливалось. Дождь все сеялся, но уже по инерции, без внутренней уверенности в своей правоте.
Василий Васильевич не смог выбрать избу, к которой можно было бы обратиться с вопросом. Он проехал деревню насквозь, так ничего и не поняв в народной жизни. Увидев перед собой унылые липы и бредущую на водопой к барскому пруду березовую рощу, он остановился. Вытер мокрые щеки и, пробормотав себе в усы что–то непреклонное, развернулся. И погнал заляпанного грязью конягу обратно. Словно почувствовав его решимость добиться своего, деревня перестала скрытничать и дичиться. Сразу же открыла она вернувшемуся генералу амбар, под стеной которого сидели на полированном бревне с полдюжины задумчиво покуривающих мужичков. Черная соломенная стреха хоронила их от дождя.
— Здорово, мужики! — сказал бодро Василий Васильевич, вглядываясь в бородатые лица. Мужики встали, поклонились, содрав с голов шапки.
— А что, как мне Фрола Бажова, убив… плотника вашего, сыскать?
Изба Фрола была ему тут же, без всякого народного жеманства, указана и оказалась настолько рядом, что могло показаться, будто она тихо подкралась к амбару во время генеральского разговора с мужиками. Тем не менее один курильщик вызвался проводить и услужить. Принял у ворот коня на сохранение и зонт. Зонт генерал машинально сложил, отдавая в мужицкие руки, о чем потом долгие годы стыдливо жалел. Простые люди так же могут позволить себе не мокнуть зря, как и господа. Будущие красноармейцы никогда не догадаются, чему они обязаны столь человечным отношением к ним их дивизионного военспеца.
В избе было тепло и кисло. Маленькие окошки давали мало света и позволяли лишь рассмотреть икону в черном углу, лампаду под ней, голый широкий стол и сидящего за столом бородача. Перебарывая в себе желание наклонить голову, чтобы не зацепить невидимый потолок, генерал подошел к столу и сел на лавку. Ему не хотелось, чтобы Фрол заранее понял всю серьезность и силу его интереса, поэтому он начал «шутливо»:
— Как поживаешь, убивец?
— Мы плотники, — глухо ответил хозяин, и Василий Васильевич сразу затосковал. Все же он очень рассчитывал на этого мужика, происходящего из самой что ни на есть народной толщи. Ближе всех расположенного к глубинной, беспримесной правде. Плохо, ежели он станет прикидываться рядовым представителем трудовой бессмысленной скотины. И еще хуже, ежели он является таким на самом деле.
— Скажи мне, ведь ты первый все узнал?
— Что, барин?
— Что станешь убивцем.
— Узнал, но стать не хочу.
— Это я понимаю, дурья твоя башка. Хотя, может, и не дурья. Но я про другое. Как ты дошел? И откуда это было? Просто так сделалось в голове, и все? Фрол вздохнул тяжко и длинно, как бы не по своей воле.
— Не понимаю, барин.
— Не понимаешь или говорить не хочешь?
— Я сказал, сам сказал. Сам.
Василий Васильевич потрепал растительность на лице.
— Ты видишь, я генерал.
— А то.
— Я вошел, ты даже не встал. Значит, что–то знаешь. Может, даже и с той стороны, какой я скоро буду генерал, а?
— Виноват и стыдно мне — спал. Тихо, дождик сыпет. В доказательство своего раскаянья Фрол поднялся, опершись кулаками на тускло освещенную столешницу.
— Ладно, пусть. Мне другое не нравится, что я никак не могу тебя уловить, ухватить. Русский народ!!! (
— Русский, ваше благородие, истинный крест — русский. — И бородач мощно перекрестился на иконку.
— Значит, в Бога–то веруешь?
— Ишь ты, как же чтоб не так? — почти восхитился безумием вопроса плотник.
— А вот царь?
— Царь? Царь — он батюшка. И завсегда царь.
— А если его казнят?
— Не понимаю.
— Я тоже не понимаю, брат. И для меня царь есть царь. А я его генерал. Пусть даже бабу глупую полюбил всем сердцем и насмерть. И зря. Но я генерал, и я царский генерал. Понимаешь?!
— Понимаю. И робею.
Василий Васильевич сардонически захихикал.
— А ты, значит, Афанасия Ивановича зарежешь?
— Не хочу я этого.
— Мрачнеешь, но вместе с тем не полностью опровергаешь. Ну, Бог с ним, с Афанасием. А если б ты, Фрол Бажов, такой, как есть, понял, если б вступило тебе в голову, что не его, не либерального помещика Понизов–ского зарежешь, а царя Николая Александровича зарежешь, тогда как?
— Царь — это царь.
— Нет, ты не крути, ты возьми в голову, представь, вообрази: не Афанасия Ивановича, а царя–батюшку. Так же ясно, как Афанасия, только царя. И гостиная, и камин, и часы, только не помещик, а царь.
— Нельзя это и грех. И быть не бывает.
— А Афанасий Иванович, значит, бывает?! Его, значит, можно?! Уже, выходит, ведено?! Кем? Кем велено?!
— Я этого не хочу.
— Но знаешь, что будет?
— Знаю, барин, — Фрол продолжал стоять, и голос его гудел под невидимым потолком, — знаю, очень знаю, но сильно не хочу.
— Но ведь кто–то, не ты, не Фрол Бажов, с тебя и дяди Фани хватит, — какой–нибудь Иван Петров знает уже, заметь, знает, что зарежет царя, как с этим быть?
— Я не знаю никакого Ивана Петрова.
Генерал вскочил, бросился к окну, ударил кулаками по
узенькому подоконнику и заговорил быстро и горячо:
— А представь, Фрол, я, царский генерал… я готов хоть сейчас воевать идти, хоть полком командовать, хоть ротой, я глотку перегрызу всякому, кто заикнется против
монархии и царской фамилии, всякому, кто… так вот, я тоже кое–что знаю. И про себя, и вообще. Что будет война. С германцами, а потом внутри себя. И я пойду на службу, уж не знаю, как это произойдет, понять такое мозг мой не в силах, но пойду–таки на службу к тем, кто царя моего сбросил и из пистолетов расстреляет. Это как, Фрол, а? Я ведь это точно знаю!
— Этого быть не должно, барин, — очень ясным, все понявшим голосом сказал мужик.
— Что значит «не должно»?! Вот хоть ты — не убивай Афанасия, и все! Что тут трудного — не убить, убить–то сложнее. Ан ты все же сделаешь это, ибо неизвестно, что предпринять против этой мысли, против уверенности этой. Застрелиться, что ли?
— Самоубийство грех, — уверенно, причем употребив слово не из своего лексикона, заявил Фрол.
— А царя застрелить — нет? А барина своего зарезать?
— Каждый должен сам думать.
— Уж что–что, а думать мы горазды. Придумать — так нет, ничего толкового не придумывается, а думать… Генерал поднял голову и посмотрел в окошко, прищурился и вдруг захохотал. Весьма громко и истерически.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Кто это там стучится в двери первого этажа? Мне отлично известно кто. Великий друг великого немого. Липкий негодяй, склонный к негрофилии, мсье Делес собственной персоной Я знал, что он захочет меня посетить, знал, что он меня выследит, но мне никогда не суждено узнать, каким образом он это сделает и зачем ему нужно. Есть области мира, для проникновения в которые дух мой не предназначен. Впрочем, что это я! О месте моего пребывания мсье Делесу могла сообщить мадам. Какой–нибудь час назад доктор Своло–чек беседовал с нею на мой счет. Надо сказать, более чем неудачно. Мадам не пожелала видеть своего старого, хотя и юного любовника.
Доктор Сволочек (пришло время открыть его настоящее имя — Словачек. Оно исказилось в призме моей юношеской неприязни. Господи, я считал этого милого словака, человека слова, форменной сволочью. Не мог простить ему его поведения в день дуэли. Да, я натолкнулся тогда на его похоронный взгляд и не смог покинуть коляску. Но что заставило доктора смотреть на меня именно так? Он всего несколькими минутами раньше узнал о смерти синьора Лобелло. Исходя из моего поведения в день смерти маэстро, доктор всерьез считал меня причастным к ней. Он видел во мне чадо ада. Этот незримый Лобелло был чем–то вроде провинциального Нострадамуса. Из каких–то древних и дрянных книг он вычитал, что судьба мира решится в городе Ильве в июне 1914 года. Причем руками молодого человека из северной страны Московии. Решится путем убиения этим юношей заезжей франкской актрисы. Можно себе представить, какими чувствами воспылал впечатлительный доктор, когда узнал о моем знакомстве с мадам Евой. Предсказания синьора Лобелло всегда сбывались. 'А тут еще выяснилось, что последнее предсказание есть последнее его дело в этой жизни).
Итак, доктор Сволочек отправился отпирать дверь. Если бы я мог, то остановил бы его. Все, что в моих силах сделать для него, — это назвать его настоящее имя. Грохот переворачиваемого стола и стук падающего тела. Мсье нанес доктору удар рукоятью пистолета в переносицу. Теперь тихо Мсье душит доктора, поваленного навзничь. Душит, душит… Мелкий шум — конвульсирующая нога удушаемого отбросила табуретку. Все. Окончательная тишина.
Сейчас начнут скрипеть ступени, ведущие на второй этаж. Сейчас мы узнаем, сколько их. При жизни я несколько раз брался сосчитать, поднимаясь в кабинет теперь уже тоже мертвого хозяина. Раз, два, три, четыре, пять,
шесть — и это все?! И он уже на втором этаже! Этого не может быть! Там их минимум пятнадцать–семнадцать. Ах, вот оно что! Мсье Делес изволит подниматься огромными замедленными шагами, выставив перед собою пистолет. Он думает, что это самый скрытный способ. Он не знает еще, что я не в состоянии встать. Жалеет, что нашумел с доктором. И надеется, что сплю. Да, он на втором этаже. Теперь он немного помедлит, решая, с какой из четырех дверей ему начать. Дверь в столовую открыта настежь. Дверь в кабинет приоткрыта, и там вот–вот зазвонит телефон. Зазвонил, облегчая задачу убийцы. Я должен, где бы ни находился, отреагировать на звонок и тем самым подставить себя под пулю. Руки мсье вспотели, пот волнения заливает глаза, жарко и страшно.
Телефон замолк на середине звонка. Жертвы, то есть меня, нет в кабинете. Я скорей всего сплю мертвым сном в спальне, за одною из двух закрытых дверей. За какой? Не гадая, мсье полагается целиком на свою интуицию и удачу. И она его как бы не подводит. В моей комнате становится чуть светлее, затем темнее — открыл дверь (бесшумно) и вошел. Он внутри. Увидел лежащее на кровати тело. Полусбросивший скатерть стол мешает рассмотреть, кому оно принадлежит. В настоящий момент оно не принадлежит даже мне. Во всяком случае, не полностью. Мсье Делес делает два перекрещивающихся шага влево. Если бы я мог, я давно бы уже выстрелил через скатерть из–под стола. Открытая им дверь продолжает медленно распахиваться. Сейчас она достигнет подставки с длинногорлой стеклянной вазой. Подставка содрогнется, ваза зазвенит, мсье выстрелит. Я, конечно, ничего не почувствовал, просто понял, что пуля пошла точно в солнечное сплетение, вторая — в грудную кость. Третья — в шею. Он словно бы меня застегивал.
Мсье замер и прислушался — какой эффект произвели его выстрелы. Я уже не внушал ему опасений. Я не только был стопроцентным трупом, я еще был очень похож на него.
Мсье явно хотел для верности сделать мне еще несколько дырок — и хотя бы одну в голове, но звуки, доносившиеся с улицы, отсоветовали ему. Он, пряча на ходу револьвер в карман, попятился из комнаты. Будем надеяться, что три ближайших дня я пролежу в полном покое. Возвращение в Ильв с берегов ручья — пожирателя жандармов отняло слишком много сил у моего ныне столь продырявленного тела. О, как они старательно и бездарно за мной гнались! Если бы они могли представить, что я пробираюсь навстречу им, а отнюдь не в Сараево на набережную речки Милячки, они, наверное, могли бы меня поймать. Зачем я все–таки застрелился?
Чем дольше я пребываю в новом своем качестве, тем мне труднее ответить на этот вопрос. Я собственными силами сделал открытие: мадам Ева — грязная интриганка, похотливая тварь, глупая, самоуверенная, дурно образованная (достаточно вспомнить мебельные бредни ее гостиных) тетка. Когда–то, в дни своей таинственной молодости, она, может быть, могла пленять и пленила нескольких венценосных павианов, но в сегодняшнем своем неряшливо–развратном виде она могла прокрасться разве что в сонное сердце Иванушки–дурачка.
И вот я не могу понять, почему, когда мои глаза открылись, я выстрелил не в нее, а в себя. Я загонял до смерти лошадей по дороге в Ильв отнюдь не для того, чтобы увидеться с милейшим доктором, а, конечно же, в надежде поговорить с ней! Почему же не поговорил? Послал на разведку несчастного старика. Побоялся, что, увидев ее, все же смогу всадить в нее пару пуль? Кажется, ответы на эти вопросы останутся для меня тайной, как и то, куда я отправлюсь из нынешнего моего состояния. Мне известно очень многое, но не это.
Например, я знаю, что господин Сусальный — человек в высшей степени порядочный и большой патриот своей странной страны. Он желал моего бегства не только потому, что это был самый простой способ расстроить планы врагов Ильвании, но и оттого, что искренне мне симпатизировал. Достаточно сказать, что он отдал мне свои усы для маскировки. В каком бешеном волнении он бродил по перрону, ожидая моего появления! Ждал до последней секунды, и когда ему сообщили о моем бегстве, он бросился под поезд: лучший способ закончить неудачный роман. Какой бы он казни подверг себя, когда бы узнал, что был участником бесконечно более крупной игры, чем борьба между «Шкодой» и Шнейдером за казну Ильванского княжества!
Еще мне известно, что в настоящий момент Его престарелое Величество император Франц — Иосиф, вместо того чтобы собираться на похороны племянника, кормит белым хлебом уток в дворцовом пруду. Кормит себе потихоньку, а в голове у него зарождается (очень медленно из–за преклонного возраста сего мозга) любопытная, даже неожиданная мысль. Оказывается, всем главным заговорщикам — Гавриле Принципу, Неделько Габриновичу и Трефко Грабежу (Его Величество из всей схваченной шестерки запомнил только одно имя — Принцип) — на момент совершения покушения не было двадцати лет. Стало быть, им можно, не вызывая недоуменных вопросов, заменить смертную казнь на наказание помягче. Пусть сначала это будет пожизненное заключение, а там посмотрим.
Сделав первый шаг — очистив Сараево от полиции и жандармерии, удалив всех тайных агентов в день въезда туда наследника и подтолкнув тем самым этих горячих юношей к принципиальному поступку, он должен совершить и шаг второй — сделать что–то для соблазненных его хитростью умов.
Пусть, пусть пока «свирепствует реакция», как напишет завтрашняя «Аксьон», пусть штадлеровцы и националистические банды австрияков и хорватов бесчинствуют в сербских кварталах Сараево: в Вареше, Бугойне, Висо–ко, Мостаре, Травнике, Брчко; пусть полиция демонстративно опекает бандитов; пусть запрещаются все омла–динские организации, даже спортивные общества, такие как «Соколы». Пусть повсюду арестовывают сербских активистов — в Риске, Любляне, Задаре, Дубровнике, пусть закрывают сербские газеты, хватит нам одной лживой «Истины». Это плата. Плата за наглость. Все же стрельбу и швыряние бомб в главнокомандующего Австро — Венгерской армией никак иначе не назовешь — наглость. Пусть наследник был обречен, но имперский мундир надобно уважать!
Разгул реакции — это кусок, который необходимо бросить активным безумцам вроде Гетцендорфа и Бертхоль–да. Надо дать им возможность поизмываться и над белградскими сербами. Глупая, хотя и полезная выходка этих желторотых героев должна надолго поселить в сербских сердцах чувство вины и страха. Но скоро воинственная волна пойдет на убыль. Противников антисербского террора сделается не меньше, чем сторонников. Хитроумнейший граф Тиса, вероятнее всего, станет во главе партии миротворцев. В глубине души никому неохота воевать. Даже Вильгельму. Да, он в ярости. Требует крови цареубийц и наказания всех тех, кто за ними стоит. Третий день на полях всех бумаг он пишет одно — «сейчас или никогда!», он обрушивается на бедного Чиркчи, посмевшего робко заявить: «Я пользуюсь каждым удобным случаем, чтобы предостеречь от необдуманных шагов». Но в глубине души у Гогенцоллерна (как говорят сообщения графа Гройса) устанавливается настроение 12‑го года. «Тройственный союз охраняет только физические владения союзников, а не какие–либо их притязания. Я не могу взять на себя ответственность за войну, где может погибнуть сама Германия, — и это ради дурацкой Ильвании!»
Да, волна начала спадать, едва поднявшись. Я не в силах различить, где кончаются мысли Его дунайского Величества и начинаются мои. Человек, плывущий по течению, может до известной степени считать скорость течения своей собственной скоростью. До известной! В этом вся проблема — неизвестность этой степени. Но есть безотказный способ вновь почувствовать себя самим собой. Усилием воли сменить бездну, в которую вынужден проваливаться. Одна такая располагается прямо под моей спиной. Моя кровать является как бы пробкой некой бездонной бутыли. Кровать — часть гарнитура, изготовленного лет сорок назад Пребе–ном Проглядным (эту фамилию можно перевести как Прозрачный, Просвечивающий). В домах ильванской интеллигенции, как правило, стоит мебель его работы. Подо мною еловое ложе. Не надо даже закрывать глаза, чтобы увидеть и услышать: сырое туманное утро в предгорьях Ильванских Синих Родоп. Гулкие ритмичные удары, сотрясающие кристальную тишину и шевелюры дерев. Нарастающий, как отчаяние, шум падающего гиганта. Со звоном отлетают сучья, люди в белых безрукавках поднимаются по тропинке в темнохвойную чащу. Сшибая пенистые верхушки мелких волн, извилистый суставчатый плот петляет меж крутыми лесистыми стенами. То сгущаясь до предела, то вырываясь в промежутки вольного вращения, тянется песнь циркулярной пилы. Бесконечная рана просыпается сочными опилками; дальнейшая судьба — это полупрохлада и полумрак громадного лесосклада, он чем–то похож на загробный мир. В чистилище его расчлененным жителям гор суждено провести не менее трех лет, расстаться с лишнею влагой и медленными судорогами, скрытыми в волокнах древесины. В это время два вида человеческих существ покидают свои жилища с мыслью о будущей жизни тайно томящегося дерева. Одни идут в леса, другие на луга. Дело первых — смола, вторых — корневища особых трав. Когда над синим равнодушным огнем подвешивают закопченный чан и в нем закипает черно–оранжевое празднично пахнущее варево, Пребен Проглядный, знаменитый «тачатель» мебели, входит в мастерскую. Рукава белой полотняной рубахи закатаны, за ухом карандаш, на носу вызывающе круглоглазые очки в простой железной оправе. Подмастерья молча выносят из глубин склада испуганно замерший брус. Мастер ерошит рыжую щетину на подбородке, раздувает ноздри, нюхает дерево одновременно и ноздрей и ухом. Венгерский свинодел господин Липчеи хочет сменить спальный гарнитур в своем доме. Ему предстоит второй, он надеется счастливый, брак, с юной певицей из заезжей оперной труппы. Итальянской. Толстый одышливый вдовец нелепо, шумно счастлив. Он не хочет скрывать — ему нужна широкая кровать. Последние годы ложем ему служил берлинский кожаный диван в кабинете. Кровать должна быть прочная, основательная, но при этом выглядеть достаточно изящной — на итальянский вкус. То есть панели и спинки не возбраняется украсить резьбою. Пружины из артиллерийской стали.
Господин Липчеи, придерживая одной рукой длинную ночную рубаху, другой дрожащую свечу, уселся на девственное ложе. Блики света плавали по гроздьям резного винограда. Молодая жена в обществе второй свечи о чем–то шепталась со своим отражением в зеркале. Когда она, собираясь с силами для борьбы с отвращением, которое вызывал в ней «очкастый боров», подошла к кровати, господин Липчеи был мертв. От счастья. После этого, мне отлично видно, в спальню входят, вбегают, врываются, вваливаются многочисленные люди. Тут не только наследники господина Липчеи по свинскому промыслу, тут пяток любовников итальяночки. Офицеры, ветеринар и провизор. Певичка требует от них таких многочисленных и необычных ласк, что невольно начинаешь завидовать свинопасу–миллионеру — умер вовремя. Затем у мебели появляется проданный вид, и
тут же — купленый. Длинный тощий господин долго погибает от чахотки, окруженный лекарственными склянками и в присутствии тихой медсестры. Тихой, да не очень. Три–четыре раза в день она перепархивает в кабинет, там ее ждет молодой жизнерадостный наследник чахоточника. Чем занимаются молодые люди на диване, ковре, письменном столе, подоконнике — неинтересно. Интересно, кто есть больной. Это Давор Дар–ный, лучший ильванский композитор, автор знаменитой (печально) «Оды Родине» и гениальной, но ныне почти забытой стилизации «Собрание чарских напевов». Он держится не менее мужественно, чем его сын, но все же умирает. Сын мгновенно продает дом и исчезает вместе с сестрой милосердия в никому не интересном направлении. Дом вместе со славой его прежнего владельца и отравленной кроватью попадает в руки доктора Словачека. Доктор честен, поэтому не слишком богат. Он носится с мыслью сделать дом композитора культурным центром маленькой страны. Поэтому он не выбрасывает мебель. В частности, описываемую кровать. Мало того, что на ней умер сам Давор Дарный. Она еще, оказывается, является творением господина Проглядного. Именно на ней лежа, он впервые прочел рукописный манускрипт, составленный маэстро Лобел–ло. Он до такой степени был потрясен прочитанным, что стал с того момента считать произведение господина Проглядного священным местом. Стелил себе постель в кабинете. Почти год простояла кровать нетронутой — до того момента, как вошедший в сомнамбулическом состоянии в комнату бледный юноша с тусклым от переживаемой боли взором рухнул навзничь на спину прозрачного ложа и выстрелил себе в грудь из жуткого шестиствольного пистолета.
Однако время перевалило с третьего на четвертое число, в размышлениях моих появилась некоторая горячность, как будто возросла температура мышления. Кто–то решил навестить жилище одинокого доктора, несмотря на то, что предусмотрительный мсье Делес, уходя, вывесил на дверях табличку «Прошу не беспокоить». Кстати, для чего ему ее понадобилось вывешивать? Ах вот для чего! Для себя! Чтобы сохранить тут все в неприкосновенности до своего нового появления. Хотелось бы побольше узнать о его сегодняшних планах. Судя по доносящимся снизу звукам, он раздевает доктора. Удовлетворенно хихикает. Неужели не побрезгует трупным тряпьем?! Да что там, наконец, происходит?! Характер доносящихся снизу звуков не позволяет сказать ничего… Не может быть!
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Стоило коляске господина Бобровникова выехать за ворота, дождь над имением над Столешиным стал стихать. Зоя Вечеслалавовна отодвинула мундштуком край портьеры, выдохнула дым в стекло и сказала:
— Дождь кончается кончается.
— Все когда–нибудь кончается. — Ккак эхо, отозвалась Настя
Старая курильщица резко к ней обернулась.
— Да, бывает такое состояние обстоятельств, что самое банальное выражение делается глубоким.
— Сейчас такое состояние?
— Пожалуй. Но речь не об этом, как вы понимаете.
— Ничего я не понимаю.
— Объясню, моя дорогая, объясню. Я жду расплаты.
— Расплаты?
— Или, точнее, встречного одолжения. Услуги за услугу. Откровенности за откровенность.
— Все еще не понимаю вас, Зоя Вечеславовна.
— Знаете, о чем я думаю, батюшка?
Качнувшись на внезапной ухабине, отец Варсонофий усмехнулся.
— О том же, о чем и я, об этой невразумительной истории. Не побывали ли мы в сумасшедшем доме, где все переодеты господами и дамами, прости Господи.
— Ну, как вам сказать…
— Да так и сказать, — батюшка шумно вздохнул, потому что очередная ухабина опасно заползла под правое колесо коляски, и живот, налитый мадерою, тяжело повело влево, — я знаю семейство Столешиных лет, почитай, пятнадцать. С тех пор как Насте сровнялось два года. Профессора видел несколько раз. Он всегда любил поговорить, но столь нездравых и путаных речей от него не приходилось мне слыхивать ни разу. Да и другие на себя похожи мало.
— И какое вы даете истолкование этим фактам?
— Пока что никакого. Проще всего объявить о дьявольском наваждении. — Батюшка перекрестился. Бобровников поморщился.
— Это все общие слова. Об–щие сло–ва, должна быть причина рациональная. Я вот что вам скажу.
— Милая моя Настя, я только что, не скрываясь, описала вам свою кончину…
— Вы ничего не описывали, вы просто били кулаками в стену и что–то кричали про какой–то туман. О том, что он вас пугает и неизбежен.
Зоя Вечеславовна должна была бы обидеться на почти снисходительный тон девушки, но не обиделась. На нее, напротив, нашла задумчивость.
— Просто я очень сильно испугалась.
— Вы испугались? — изумилась Настя.
— Еще бы. Со мной, оказывается, произойдет то, чего я всегда, с раннего детства боялась больше всего на свете. Зоя Вечеславовна помолчала.
— Я сойду с ума. Никак по–другому этот туман объяснить нельзя. Видимо, смерть Евгения Сергеевича так на меня подействует. Я по–прежнему не знаю, когда умру, но зато мне известно, — Зоя Вечеславовна нервно хмыкнула, — как. Моя мать… если со мною случится нечто похожее… а безумие передается по наследству… она десять лет провела в лечебнице в грязи, унижении, в каких–то ни на что не похожих муках. Ей не было даровано даже воли к самоубийству. Иногда самоубийство не грех, а высшее право и абсолютное благо. Если душа уже частично там, наверху, почему должна так страдать, терпеть подобные унижения…
— Я тоже не знаю, когда умру, — тихо сказала Настя.
Коляска остановилась, от лошадей шел обильный пар.
— Для очистки совести, всего лишь для очистки совести, батюшка.
— Моя совесть чиста.
— Давайте заедем к этому «убивцу». К Фролу Бажову. Вы, конечно, будете надо мною смеяться.
— Не буду.
— Я даже по должности обязан, мне кажется, вмешаться. Следует его… как бы это правильнее сказать… допросить. Именно допросить. Есть какая–то связь между его первоначальными бреднями и развитием столешинских событий. Может быть, не следует человеку просвещенному верить, что возможны…
— Поворачивайте.
— Не верю, — входя в свое обычное состояние, заявила Зоя Вечеславовна. Она была даже как бы оскорблена. — Не может быть. Если вы знаете это о других, а вы своим поведением доказываете, что в самом деле знаете, то о себе вы должны знать непременно. Таково условие!
— Чье?
Зоя Вечеславовна злобно оскалилась.
— Не знаю, но уверена, что по–другому быть не может. В противном случае это несправедливо! Или должно быть убедительное, совершенно убедительное объяснение.
— Объяснение есть, Зоя Вечеславовна. Просто я проживу очень долго.
— Что значит — долго?
— До конца этого века. Правда. Доказательств хотите? Ну, я, например, знаю, что после той войны с Германией, что сейчас начинается, будет в сороковых годах еще одна. Победоносная. Знаю еще, что люди полетят…
— А про себя?
— Пожалуйста. У меня никогда не будет детей и, естественно, мужа. После войны, после второй германской войны я постригусь в монахини. Я знаю, как будут праздновать Рождество Спасителя. Двухтысячелетнее.
— А что будет потом, потом?! Настя развела руками.
— Этого — нет, не знаю, как и того, когда умру.
Обогнув березовую рощу, тяжело вращая облепленными грязью колесами, коляска выкатила на прямую к деревне дорогу, и господин Бобровников, натянув вожжи, остановил лошадей. Виной тому была открывшаяся картина. Навстречу трусил белый жеребец с двумя седоками. Профессор неуклюже сидел впереди, генерал сидел за спиной у него и мягко нахлестывал Боливара сложенным зонтиком. Увидев следователя со священником, Василий Васильевич остановил свое измученное транспортное средство и громко спросил:
— Куда вы, господа, станция там. Или вы тоже? А? Тоже, господа? — Генерал расхохотался.
Профессор отвернулся в сторону тусклых серо–зеленых далей. По его мертвенным щекам текли две неосознанные слезы.
— Господа, мы трясли и донимали этого Микулу Селя–ниновича по очереди, а потом и на пару. Никакого толку. Даже если он что–то знает, ничего нам не сказал. И вам не скажет. Будьте уверены вполне: допрос с пристрастием ничего не принесет, равно как приглашение исповедаться.
— Мы произведем обыск. Может статься, он что–то прячет.
— Что?! — вновь затряс баками генерал. — Письмо, которое он получил от Иоанна Богослова? Несмотря на насмешки генерала и слезы профессора, мысль об обыске показалась Бобровникову дельной.
— До свидания, господа, — сухо сказал следователь, трогая.
— Прощайте. Зря вы, хотя — кто знает? А я вот намерен двигаться подалее от господина народа к госпоже мадере.
Зоя Вечеславовна, отвратительно хихикая, ушла в дальний и темный угол гостиной.
— Да у вас мания величия, милая. Да, да, не исключено, что мозг ваш воспален не менее моего. И помешались вы на, так сказать, фамильной почве. Вас ведь никогда не считали полноценной родственницей? Скорее прижива–лочкой.
— Я Столешина, мадам.
— Да это пусть. Только ведь неплохо бы знать, от какого смысла и слова фамилия эта происходит. Судя по направлению ваших мыслей, вы считаете, что от «столетия», то бишь от века. На этом основании вы отмерили себе годков сотню. Разочарую — от «столешницы», от нее. Кто–то из дальних предков нашего генерал–аншефа Васильевича был простым мастеровым, столы у него выходили лучше всего.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Я сажусь на кровати, медленно сгибаю руку. Окоченение первых суток полностью прошло. Членам вернулась прежняя гибкость. Надо встать на ноги. Так или иначе, мне мне уже пора. Визит некрофила не причина, а повод. Пальцы правой руки медленно освобождаются от бесполезного пистолета. Мне нечем его зарядить для нового залпа.
Теперь к двери. Походка выравнивается к пятому шагу. Дверь в коридор открыта. Переступаем порожек. Налево к лестнице. Верхняя ступенька самая скрипучая, но режиссер слишком шумно дышит, чтобы что–нибудь услышать. Медленно, но твердо ступая, я спускаюсь по лестнице, наблюдая за тем, что происходит внизу, в круге желтого света керосиновой лампы. Мне кажется, я должен быть полностью лишен каких бы то ни было чувств, но сейчас мне неприятно видеть, что это живое животное делает с моим братом трупом. Я спускаюсь все ниже и ниже, совсем скоро я окажусь за спиной у этой потной, сладострастно дрожащей гадины. Я наклонюсь, возьму его за волосатую шею… Я успел только накло- ^ ниться, какая–то тень по своему собственному почину I спугнула мсье. Он замер и, не расставаясь с предметом своей страсти, обернулся. Могу себе представить, что он увидел. Наклонившегося к нему с вытянутыми руками мертвяка.
Смерть его была, к сожалению, мгновенна. Я оттащил неприятное мне тело подальше в сторону, доктора накрыл остатками одежд. С этим покончено. Есть еще одно дело. Одновременно и нужное и доброе. Я поднялся в кабинет, достал лист бумаги и придвинул к себе ручку с чернильницей. «Дорогая моя матушка Настасья Авдеевна! Пишу Вам письмо мое прощальное, безрадостное. Окончилась жизнь моя на чужбинушке в городе под красивым названием. Где похоронят меня, точно мне неизвестно, главная печаль, что не в родной земле. Не ищите мою могилу, вам, пожалуй, не укажут, да еще наплетут всяких обо мне небылиц. Не верьте, ибо ни в чем, ежели разобраться, сын Ваш Ванечка не виноват, может, в одном лишь, что огорчил Вас безвременно и очень. Батюшке моему тоже кланяюсь, руку целую, потому что больно перед ним виноват, да и вообще глуп. Вот и все мое послание. Прощайте, мои дорогие». Я взял второй лист бумаги и тут же составил второе послание.
«Уважаемый господин капитан!
Хочу предложить Вам дело, совершив которое, Вы навсегда смоете и с себя самого, и со всего рода Вашего то проклятие, что является предметом Вашей тоски. Спустя сто лет Штабе получит возможность дернуть за главную мировую струну.
Дело простое и нисколько не опасное. Вам надлежит немедленно выехать в Потсдам. Вы будете там утром. До завтрака Вам не удастся встретиться с Его Величеством, а вот после оного пытайтесь. Выясните, кому надо дать взятку, чтобы до Вильгельма дошло известие, будто в Ильве убита актриса Европа Н. Когда до него этот слух дойдет, он немедленно захочет Вас увидеть, и Вы ему скажете, что в ночь с третьего на четвертое июля актриса сия невероятная была убита одним сумасшедшим русским в своем доме на Великокняжеской улице. Нет, не говорите, что сумасшедшим, скажите, что русским агентом, специально прибывшим с этой целью из Парижа и маскировавшимся под мебельного мастера.
Если вы сделаете это, отпечаток Вашей руки навсегда останется на колесе мировой истории. С замогильным приветом Иван Пригожий». После этого я надел длинное белое пальто, принадлежавшее покойному доктору, повязал простреленную шею шарфом, положил оба конверта в карман и вышел на улицу. Проходя мимо почты, опустил письма в ящик. Рядом с почтою стояла гостиница «Золотой баран», принадлежавшая господину Саловону. Только сейчас я понял, от чего меня хотел предостеречь косноязычный трактирщик. Оказывается, в ночь перед приездом в Ильв мадам Евы я приснился ему в моем сегодняшнем виде. Я представлял собою труп с жуткою раной на шее. Так же, как и доктор, хозяин гостиницы связал это видение с появлением мадам. Он хотел мне помочь, нелепый старик, за что сражен ударом. Я подумал, могу ли я ему чем–нибудь помочь сейчас? Навряд ли. Кроме того, у меня не так много времени. Через час начнет светать.
Так, а чем же я ее убью? Ах да, имеется же еще одно шестиствольное чудище за шкафом в библиотеке. Запахнув поплотнее пальто, я двинулся вверх по улице.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
После отъезда генерала и ученого Фрол некоторое время сидел в задумчивости за столом, положив ладони
на его голую поверхность. Что происходило в его душе — в таких потемках, царящих в избе, было не разглядеть. В состоянии этом пребывал он не так чтобы очень долго. Шумно вдруг вздохнул, стал на колени перед лампадой. Она горела так слабенько, что лик на иконе был неразличим. Помолился тихо–тихо, шумно при этом «кланяясь. После чего встал и быстро вышел во двор. Огляделся, отмерил три больших шага от угла избы по направлению к чахлой яблоне, нелепо торчащей из земли. Принес из сараюшки тяжелый заступ и вонзил в отмеченном месте в мокрую землю. Работал яростно, как для себя. Вскоре яма в половину его роста была готова, землица–то рыхлая. Фрол вернулся в сени, снял с одной из кадок крышку и вынул оттуда немецкие часы, погладил пивовара по гладкой голове мозолистой ладонью.
Он первым сообразил: если стащить и припрятать этот музыкальный механизм с каминной полки в «розовой гостиной», можно спасти и доброго барина Афанасия Ивановича, и собственную душу. Грушенька, пусть земля ей будет пухом, и украла по его слезной просьбе эти часы.
Фрол услышал, что по улице едет кто–то. Выглянул в щелку, отворив дверь. Еще двое! Вовремя вырыта яма, вовремя! Коляска проследовала мимо в поисках человека, могущего указать двор Фрола–плотника. Фрол выбежал из хаты, прижимая к груди фарфорового немца. Уложил его на дно ямы на мягкую землицу, накрыл охапкою лучшей соломы. Быстро засыпал могилку.
Коляска возвращается. Плотник отбросил заступ и пошел к колодцу мыть руки.

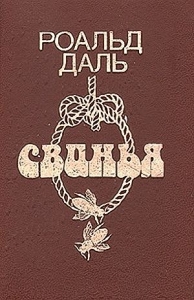
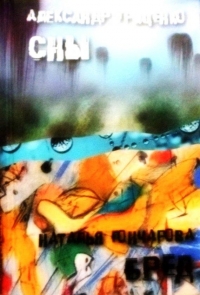
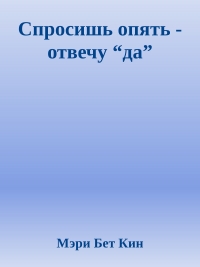
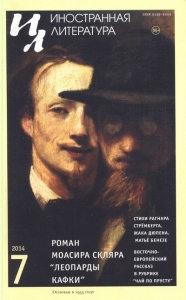



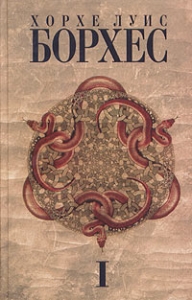


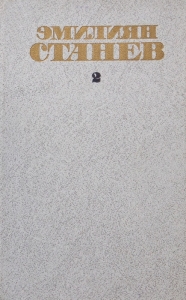

Комментарии к книге «Пора ехать в Сараево», Михаил Михайлович Попов
Всего 0 комментариев