Катя Ткаченко Ремонт человеков
1
Вывеска гласила: «Ремонт человеков».
В слове «человеков» последние две буквы, «о» и «в», были явно дописаны позднее, они были четче и ярче, а если приглядеться внимательнее, то через бессмысленно–округлую «о» можно было разглядеть еле заметную, а некогда такую же четкую и яркую букву «а».
Видимо, первоначально на вывеске было написано «Ремонт человека», но позднее кому–то — вполне возможно, что и хозяину — пришло в голову, что призыв к ремонту одного конкретного человека плохо отразится на его бизнесе.
Впрочем, мне это было все равно.
Я стояла на улице, смотрела на вывеску и думала, что надо бы подойди ближе и открыть дверь. Нажать на ручку, повернуть ручку, надавить на нее. Дверь откроется и я смогу войти внутрь.
Ветер толкнул меня в спину, проезжавшая мимо машина лихо влетела в лужу, брызги грязным веером коснулись плаща. Я отскочила и машинально вытерла лицо рукой. Потом посмотрела по сторонам, достала из кармана платок и уже им протерла вначале одну щеку, потом другую.
Дверь открылась, из нее вышел приятного вида мужчина в очках, осмотрел меня бегло с ног до головы, хмыкнул и пошел направо. Дверь не закрывалась, она будто ждала, когда я наберусь смелости и решусь войти.
Мужчина удалялся по улице медленно, мне все казалось, что он должен обернуться и снова посмотреть на меня.
Он не обернулся и я вошла в дверь.
Дверь сразу же закрылась, мне отчего–то стало намного легче.
Этот козел так и не обернулся, значит — ему что–то во мне не понравилось.
Но на то он и козел.
Послышались шаги, я подняла глаза.
Из глубины помещения навстречу мне шел человек очень странной наружности, я вновь почувствовала, как по спине пробежали мурашки, точно так же, как сегодняшним утром, когда я поняла, что мне надо одеться, выйти из дома и поехать туда, где я недавно, совсем случайно, обнаружила эту вывеску.
«Ремонт человеков».
Человек был седым, с длинными волосами, забранными в хвост. В правом ухе у него была серьга, необычайно мощные плечи и такая же мощная, выпирающая сквозь ярко–оранжевую майку грудь. И при этом он был намного ниже меня, странное зрелище: мужской торс и ноги десятилетнего мальчика.
— Вы к нам? — вежливо спросил седой.
— Здравствуйте, — опять потупив глаза, сказала я.
— Здравствуйте, так вы к нам?
— Я хочу спросить… — промямлила я и вдруг поняла, что слова застревают в горле.
— Кофе? — спросил седой. — Или чего покрепче?
— Кофе, — сказала я, решившись, — сегодня очень ветрено…
— А ветер холодный… — участливо добавил седой.
— Холодный, — подтвердила я, — да еще машина обрызгала…
— Вон туалет, — сказал седой, — там есть зеркало и раковина, а я пока сварю кофе…
Я послушно пошла в указанную сторону. Одинокая узкая дверь с блестящими буковками WC, ни мужской стилизованной фигурки, ни женской, просто WC.
— Закрывается изнутри! — проговорил мне вдогонку седой.
Я благодарно кивнула головой и вошла в туалет. Он был маленьким и чистеньким, дверь действительно закрывалась изнутри. Я повернула торчащий в замке ключ и вдруг почувствовала, что сейчас расплачусь. Разревусь. Завою белугой. Внизу живота резко заныло. Я прошла мимо зеркала, даже не посмотрев в него, толкнула матовую стеклянную дверку внутренней кабинки. Было очень чисто и на удивление приятно пахло — за туалетом следили, его чистили и драили, это было не только видно, это чувствовалось.
Я опустила белый пластиковый стульчак, расстегнула плащ, подняла юбку и резко стянула с себя колготки и трусики. И так вдруг и застыла, вновь ощутив, как по спине побежали мурашки, целое стадо, толпа, огромная армия, как сегодняшним утром, когда я вошла в свой собственный туалет и вдруг поняла, что я должна сделать.
Я резко вздохнула, села на унитаз и позволила себе расслабиться. Такого со мной еще никогда не было — чтобы я пошла в туалет не дома. Ну, почти никогда. По крайней мере, очень давно, лет пятнадцать, а то и двадцать. С моих пятнадцати, а то и двадцати. Я сидела, чувствовала, как освобождается пузырь и как по спине все ползут и ползут мурашки. Это от страха, подумала я, или от неуверенности.
От неуверенности в том, что я поступила правильно.
Когда сегодня утром решила, что мне надо выйти из дома и пойти сюда, в это странное заведение под этой странной вывеской.
Я освободила пузырь полностью.
Страх был тоже от того, что я решилась.
Я взяла чистую и так же, как и все здесь, приятно пахнущую салфетку из стопки, лежащей на полочке прямо напротив унитаза, и аккуратно промокнула ею между ног — я давно не брила там, а волосы у меня густые и жесткие, собирают капельки в самом низу, как мох в лесу после дождя.
— Кофе, — подумала я, — а вот сейчас бы в самый раз выпить кофе!
Я вымыла руки и внимательно посмотрела на свое лицо в зеркало. Оно было чистым, брызги от машины попали на плащ, но не на лицо, и потом — я его уже протирала. Платком, на улице. Я улыбнулась себе в зеркало, зеркало осклабилось в ответ. Мне захотелось разбить его, чтобы больше никогда не видеть своего отражения.
— Терпи, — сказала я зеркалу, — ты пришла сюда, значит, ты решилась!
Зеркало вновь осклабилось и я показала ему язык. Он был с каким–то неприятным налетом и я вдруг покраснела. Мне стало стыдно, что у меня такой язык, что я вся такая — в забрызганном плаще и с давно не бритым лобком. И не только лобком.
Ожидаемого слова я не произнесла, даже самой себе.
Ожидаемое слово осталось невысказанным.
Седой уже должен был сварить кофе и мне давно пора выйти из туалета.
Закрыть за собой дверь с блестящими буковками WC и сказать, наконец–то, седому, зачем я сюда пришла.
В это ветреное утро с остатками ночного дождя.
Когда на дорогах лужи и машины проносятся прямо по ним.
И грязные брызги летят тебе на плащ, а кажется, что на лицо.
— Кофе готов, — сказал седой и поинтересовался, все ли в порядке.
— В порядке, — улыбнулась я и села в уютное кресло.
Такое же уютное, как местный туалет.
— Ну и… — с вопросительной интонацией начал седой.
— Вывеска, — сказала я, — это что…
— Это — правда! — сказал седой.
Я отхлебнула кофе, он был горячий, крепкий и терпкий.
— С травками, — сказал седой, — я добавляю туда кардамон и корицу, а иногда и кориандр. Сегодня я добавил немного кориандра, он дает свежую горчинку, чувствуется?
Я сделала еще глоток и сказала: — Чувствуется.
— Да, это правда, — сказал седой, — мы делаем ремонт любому, что надо — то и починим…
— А если мне надо не это? — спросила я.
— Не это? — седой задумался, а потом вдруг машинально посмотрел на входную дверь.
— У меня есть деньги, — сказала я, — немного, но есть.
Седой поднялся и пошел к двери. Она была плотно закрыта, но седой, видимо, решил проверить. И повернуть ключ. Изнутри.
Седой повернул ключ изнутри и, проверяя, подергал дверь. Она не открывалась, седой как–то странно хрюкнул.
— Деньги, — задумчиво сказал он, возвращаясь ко мне.
— Деньги, — сказала я, — немного, но есть.
— А что надо? — спросил седой.
— Глаз, — набравшись смелости, ответила я.
— Глаз? — удивился седой.
— Да, глаз, — повторила я.
— Вам? — спросил, вдруг заулыбавшись, седой.
— Нет, — тихо сказала я, — мужчине…
— Мужу… — как бы сам себе сказал седой.
— Это важно? — поинтересовалась я.
— Нет, — бодро сказал седой, а потом добавил: — Я, кажется, понял…
— Что? — поинтересовалась я.
— Вы хотите знать, где он бывает и что он делает, вы хотите присутствовать при этом, вы хотите чувствовать то же, что он, вы хотите стать им…
Я промолчала.
— Это противозаконно! — сказал седой.
— А вывеска? — спросила я.
— Это можно, — ответил седой, — это просто ремонт.
— Это тоже ремонт, — проговорила я, — вы отремонтируете меня, иначе меня не будет…
— Как это? — удивился седой.
Я смотрела на седого и думала, как ему сказать, чтобы он не посчитал меня за сумасшедшую. За сумасшедшую тридцатишестилетнюю бабу, ввалившуюся к нему одним хмурым весенним утром, когда на улице было ветрено, а ночью шел дождь. Сильный и холодный, только вот под утро, уже на грани с рассветом, он начал утихать и утром о нем напоминали только лужи. И сумасшедшая тридцатишестилетняя баба ввалилась к нему в дверь, расположенная над которой вывеска гласила «Ремонт человеков». Баба зашла в туалет, в котором и пописала. Леди помочилась в чистый унитаз и отправилась пить кофе, хотя ей надо совсем другого. Но вот как обо всем этом сказать?
— Ну, — повторил седой, — как это?
— Он хочет меня убить, — наконец выдавила я из себя.
— Муж… — сказал седой.
— Муж, — повторила я.
— Наймите сыщика, — посоветовал седой и закурил.
Я облизала внезапно пересохшие губы.
— Курите, курите, — сказал седой. — курите, если хотите…
Я закурила.
— Сыщик — это хорошо, — продолжил седой, — он вам обо всем будет докладывать… У вас ведь есть деньги?
— Есть, — ответила я, выпуская дым куда–то под потолок, — но сыщик мне не нужен. Я хочу все видеть сама…
— Видеть? — переспросил седой.
— Видеть, — повторила я, замолчала, а потом решительно добавила: — и чувствовать…
— Зачем? — удивился седой.
Я могла ему не отвечать, потому что клиенты не обязаны отвечать на такие вопросы. Но я была странным клиентом, нетипичным, я хотела того, с чем сюда, обычно, не приходили. И потому я решила ответить.
— Я не хочу умирать, — сказала я, — это первое.
— Понятно, — сказал седой и предложил мне еще кофе.
— Нет, спасибо, — мотнула я головой и продолжила.
Я продолжила о том, что первое — это далеко еще не самое важное. Самое важное в другом: я хочу знать, почему он решил сделать это и я хочу быть готова к этому. Нет, не к смерти. К тому, чтобы сделать все, чтобы ее избежать…
— Так просто исчезните, — сказал седой, — мир большой, исчезнуть всегда можно…
— У меня не так много денег, — ответила я, — да и потом: он не даст мне сделать этого. Если он решил…
— А он решил? — в уже знакомой мне манере переспросил седой.
— Вот это–то я и хочу знать! — сказала я каким–то очень тихим и очень торжественным голосом.
— Это невозможно, — сказал седой, — что бы я вам не предложил, я не могу сделать одного 6 я не могу впустить вас в его мозг, вы можете видеть, вы можете даже чувствовать, но вам не влезть в его мысли…
— Я догадаюсь, — сказала я, — я всегда была догадливой…
— Дети есть? — вдруг как–то обреченно спросил седой.
— Нет, — так же обреченно ответила я, — детей нет…
Седой затушил сигарету, я последовала его примеру.
— Посидите немного, — сказал седой и пошел к шкафам, напоминавшим аптечные.
Он начал открывать ящички, а я смотрела ему в спину.
У него действительно были маленькие и тоненькие ножки десятилетнего мальчика и мощный, мускулистый, накаченный, рельефный торс взрослого мужчины. И он был по–настоящему седым, с длинными волосами, забранными в хвост.
Я подумала о том, занимается ли он с кем–нибудь любовью, а если занимается, то кто это — мужчина или женщина. И какого роста. И как седой делает это. Я подумала об этом и почувствовала, что начала краснеть.
— Вот, — сказал седой, возвращаясь с какой–то коробочкой, — вот то, что вам надо!
Он сел обратно в кресло, положив коробочку на стеклянный столик, стоявший между нами. Между двумя пустыми чашками из–под кофе и рядом с пепельницей с двумя окурками. Моя сигарета была выкурена почти до фильтра, а на фильтре были хорошо заметны следы губной помады.
— Деньги, — сказал седой, — сколько у вас денег?
Я сняла сумочку с плеча, подумав, что вот ведь как странно: даже в туалете я не сняла ее, даже здесь, когда села в кресло и стала пить кофе. Пить кофе, курить и говорить седому, зачем я сюда пришла.
Я сняла сумочку, расстегнула, достала из нее пачку денег, туго перетянутых резинкой для волос. Моей собственной резинкой для моих собственных волос.
— Доллары, надеюсь? — вкрадчиво спросил седой.
— Доллары, — ответила я, вспомнив, как еще вчера ходила по обменным пунктам, чтобы выгадать на курсе.
— Доллары, — сказал седой, это хорошо, и сколько их?
Я пододвинула пачку к нему. Седой взял, легко стянул резинку и начал пересчитывать.
— Мало, — сказал он, закончив считать, — к сожалению, мало!
Я опять покраснела и почувствовала, как внизу живота снова резко заныло. Эти деньги были все, что я смогла достать. Заработать, отложить, занять. И их было мало.
Я посмотрела на седого и улыбнулась. Виновато улыбнулась и облизала губы языком. Седой ухмыльнулся и как–то очень расслабленно спросил: — А ты умеешь?
Я опять покраснела, на этот раз — до самых кончиков волос. Я поняла, о чем спросил седой. Как поняла и то, что готова сейчас на все. Даже встать на колени и взять у него в рот, если ему очень этого захочется. У меня больше не было денег, их было неоткуда взять, но уйти отсюда просто так я не могла. Я встала из кресла и сняла плащ.
— Успокойся, — властно сказал седой, — успокойся и сядь обратно!
Я продолжала стоять, растерянно глядя на седого.
— Сядь! — приказал он еще более властно.
Боль внизу живота стала невыносимой, мне опять безумно захотелось в туалет. Второй раз за какие–то несколько минут. То ли пять, то ли десять.
— Сядь! — вновь проговорил седой. — И не делай глупостей!
Боль так же внезапно прошла и я села обратно в кресло.
— Я дам тебе это и скажу, что делать, — тихо проговорил седой, — и ты мне останешься должна.
— Сколько? — так же тихо спросила я.
— Еще столько же, — сказал седой, — если ты выживешь, если тебя не убьют… Он что, действительно хочет тебя убить?
— Да, — выжала я из себя, — хочет…
— Значит, это будет аванс… А если он тебя не убьет, то ты со мной рассчитаешься сполна… Скажем, через месяц… Месяца хватит?
Я подумала о том, смогу ли найти за месяц еще точно такую же сумму денег. Эту я собирала полгода. Но седой готов ждать еще месяц и мне не надо было вставать перед ним на колени и брать у него в рот. Может быть, через месяц, если я не найду такой же суммы и если останусь в живых. Взять в рот, лечь под него, сделать все, что угодно, но не сейчас.
— Хватит… — сказала я и неуверенно добавила: — Наверное…
— Месяц… — почти что пропел седой, — если тебя не убьют…
Я снова закурила и посмотрела в сторону коробочки.
— Возьми, — проговорил седой, — возьми и открой!
Я взяла коробочку. Она была легкой, почти невесомой. Сверху обтянута черной кожей, маленькая серебристая защелка сбоку. Серебристая защелка из какого–то металла.
— Открой, — опять тем же властным голосом сказал седой.
Я открыла коробочку легко, без напряжения. В ней лежали два матовых шестигранных кубика. Каждый не больше сантиметра в диаметре.
— Один — тебе! — седой аккуратно взял кубик, повертел его перед моим лицом и положил обратно. Я заметила, что этот кубик лежал слева.
— Второй — ему! — седой повертел перед моими глазами правым кубиком.
— Что с ними делать? — очень тихо спросила я. — Съесть?
Седой засмеялся, вначале негромко, потом все сильнее и сильнее, пока на глазах его не показались слезы.
— Чего в этом смешного? — обиженно спросила я.
Седой промокнул глаза большим, отлично выглаженным носовым платком, а потом наклонился ко мне через стол.
— Съесть, — сказал седой. — съесть… Съесть, а потом выкакать обратно. Ты за это платишь такие деньги?
— Тогда что с ними делать? — опять спросила я.
Седой снова взял левый кубик из коробочки и пристально посмотрел на меня.
— Раздевайся! — сказал седой.
— Вся? — смущенно спросила я.
— Нет, — сказал седой, — грудь, оголи грудь…
Я медленно расстегнула кофточку, помедлила, потом сняла ее совсем и посмотрела на седого.
— Лифчик, — сказал седой, — лифчик тоже снимай!
Я сняла лифчик, чувство было такое, что я сижу на приеме у врача. Я больше не краснела, седой перестал быть мужчиной, даже таким, с ногами десятилетнего ребенка.
— Все? — деловито спросила я.
Седой встал и подошел ко мне. Грудь начала покрываться пупырышками — в помещении было не очень тепло.
Я никогда не стеснялась своей груди, когда–то я ей даже гордилась. Лет десять назад. Сейчас уже не горжусь, но все еще не стесняюсь. Седой смотрел на мою грудь, я чувствовала, как она покрывается пупырышками и как отчего–то немеют соски. Седой вдруг больно ущипнул меня за левую грудь, так больно, что я вскрикнула.
— Все хорошо, — сказал седой, — все просто отлично!
И с этими словами он прижал кубик к моей левой груди.
Я почувствовала жжение.
Вначале легкое, потом все сильнее и сильнее.
Жжение и как будто укус.
Кубик перестал быть матовым, вначале он стал совсем прозрачным, как хорошо отмытое окно, а затем начал становиться цвета моей кожи.
И стал в эту кожу врастать.
Я смотрела, как он врастает в мою грудь, будто буравя в ней норку. Кубик буравил норку в моей левой груди и исчезал в ней, как крот в земляном ходу.
Жгло уже изнутри, вся грудь была горячей, такой горячей, что я боялась к ней прикоснуться.
И вдруг все это кончилось. Норка заросла, крот исчез в земле, кубик уютно устроился где–то внутри моей левой груди, чуть ли не по прямой линии от соска.
— Я же сказал, — улыбнулся седой, — все будет хорошо, все будет просто отлично!
Я оделась и вновь села в кресло.
— А что дальше? — спросила я.
— Дальше самое сложное, — сказал седой. — Ты ведь не можешь привести его сюда?
— Не могу, — согласилась я.
— Тогда ты должна сама придумать, как сделать это! — с этими словами седой закрыл коробочку и протянул ее мне.
— Обязательно в левую грудь? — спросила я.
— Обязательно, — сказал седой, — если, конечно, у него сердце с левой стороны…
— С левой, — я утвердительно кивнула головой, — это я точно знаю, что с левой…
— Через месяц, — сказал седой, — думаю, что ты успеешь…
— Я все буду видеть? — спросила я.
— И даже чувствовать, — ответил седой, провожая меня до двери. — Разве что мысли читать не будешь.
Внутри моей левой груди уже все успокоилось, разве что немного покалывало, с холодком и даже приятно…
— Удачи! — сказал седой, закрывая за мной дверь.
— А почему человеков? — спросила я, не удержавшись.
— Было человека, — пробурчал седой, удерживая дверь приоткрытой, — только народ плохо шел, пришлось переделать…
— И что, лучше стало? — поинтересовалась я.
— Не жалуюсь, — ответил седой, закрывая дверь.
2
Я медленно шла в сторону центра по правой стороне улицы и думала о том, какая я, все таки, дура.
Дура в плаще и с сумочкой на плече.
И со странным кубиком, вбурившимся в мою левую грудь. Впившимся, присосавшимся, вползшим в нее, в ней исчезнувшим.
Имплантант.
Самоимплантант.
А я — дура.
Дура, вбившая себе в голову, что ее хотят убить.
Собственный муж, между прочим, как это не смешно, я все еще ношу на пальце кольцо.
Нормальные женщины имплантируют себе в грудь силикон. От этого грудь становится как на картинке. Хотя, скорее всего, это ненормальные женщины — сейчас ведь доказано, что все эти операции вредны для здоровья. Может быть рак груди и вместо картинки ты получишь дырку. Берут ножницы, чик–чик — и в картинке дырка.
Мне хотелось плакать, я чувствовала, как глаза превращаются в две щелки, из которых вот–вот, да хлынут слезы.
Дура шла по улице и плакала. В спину дуре бил ветер, дул ветер в спину дуре, дура шла вместе с ветром, дуру хотели убить.
Вопрос — за что?
Кубик в груди молчал по этому поводу. Пока молчал. Второй кубик лежал в коробочке, коробочка лежала в сумочке, сумочка была на ремешке, ремешок был на плече. Сумочку на ремешке придумала Коко Шанель, это я точно помню. Как и маленькие черные платья без рукавов. У меня тоже есть такое, висит дома, в шкафу, я давно его не надевала, потому что потолстела. Этому платью года три… Нет, меньше… Два с половиной, не больше…
Седой сказал, что я буду видеть и чувствовать, но не сказал мне главного: что делать, если мне это не понравится. Если станет чересчур противно и даже больно. Больше всего я не люблю, когда больно. И люблю одновременно. Но объяснять это я не хочу, даже самой себе…
Я дошла до перекрестка и остановилась на красный свет. Глаза хотели плакать, но не плакали. Глаза припухли, если я заплачу, то они покраснеют, если бы в сумочке были очки, то я бы их сейчас надела. Женщина в плаще, с сумочкой на плече и в темных очках. Но их не было, как не было их и дома: я их случайно разбила под Новый год, когда уронила на пол, убираясь перед приходом гостей. — Дура! — сказал он, — Ты хоть знаешь, сколько они стоят? — Тогда я заплакала и тогда я поняла, что он хочет меня убить.
Красный свет сменился зеленым, я быстра пошла на ту сторону, пытаясь вспомнить, есть ли у меня с собой еще деньги, или я все отдала седому. Можно было открыть сумочку и посмотреть, но не на ходу же это делать. Я дошла до тротуара, резко остановилась и открыла сумочку. Еще какие–то деньги были, совсем немного, но на очки, может быть, хватит. Хотя, скорее всего, что нет. На хорошие очки, приличные очки, нормальные очки, то есть, такие, какие у меня были и которые я разбила. Но все равно надо посмотреть, если хватит, то я куплю, если нет…
Для того, чтобы придумать, как пустить в дело второй кубик, мне надо успокоиться. Пока я знаю только один вариант: разыграть безумную любовную сцену, хотя это не сложно. Не сложно разыграть. Сложно другое: я боюсь его.
Наверное, я зациклилась на этой мысли, она вертится и вертится в голове, как и вторая постоянная мысль: я дура.
Дура, что вляпалась во все это.
Мне опять надо переходить улицу. И опять красный свет. Слишком много машин, они несутся, как оглашенные. Меня опять могут обрызгать, и мне опять придется идти к седому. В его уютный, комфортный туалет. Если бы я просто могла положить кубик дома в ванной на полочку, а он бы утром, бреясь перед работой, посмотрел на него и заинтересовался. Взял бы коробочку, открыл ее, достал кубик и приложил себе к левой груди. Прямо под соском. Или над. Но чтобы в стороне сердца, это главное — чтобы в стороне сердца, так говорил седой. Он любопытен, он может сделать это, если, конечно, заметит коробочку. Но надо наверняка, а я не знаю как…
Опять зеленый, я опять перехожу улицу. Мой самый любимый магазин. Как раз напротив.
Женщина в сумочкой через плечо переходит улицу.
Я перехожу улицу.
На зеленый свет.
У меня в левой груди поселился имплантант. Это не силикон, от силикона — говорят — может быть рак груди, хотя если бы я имплантировала себе силикон, то моя грудь стала бы как на картинке. Но я имплантировала себе маленький кубик, который вполз в меня как жук в норку. Маленький паучок, матовый жучок. Был матовым, потом стал прозрачным, а потом вообще исчез. Он сейчас во мне. Он во мне, я с ним, мы вместе идем в магазин, потому что мне нужны темные очки.
Мне нужны темные очки, я хочу плакать, у меня припухли глаза. Я боюсь плакать, я боюсь своих собственных слез. Я держу спину прямо, я перешла улицу и зашла в магазин.
Мой самый любимый магазин, улица осталась за спиной, двери остались за спиной. Отчего я решила, что он хочет меня убить? Если мне нужны очки, то это на втором этаже, на третьем я не была сто лет, вначале надо бы на третий, но я иду по первому. На первом пахнет.
На самом деле я ничего не собираюсь покупать. На самом деле я ничего не собираюсь покупать. На самом деле эта дура ничего не собирается покупать, хотя ей нужны темные очки. На первом этаже пахнет, потому что здесь продают парфюм. Духи. Туалетную воду. Туалетную воду. Духи. Парфюм. Я принюхиваюсь. Душно, начинает кружится голова. Это от слабости, слабость от страха. Красивые пузыречки, вон на той полке мои любимые запахи. Я дура, что вбила это в себе в голову. Седой это сразу понял, потому–то и предложил мне эти дурацкие кубики, толку от них никакого не будет, такого просто не может быть, чтобы ты могла видеть глазами другого человека, седой сволочь и дурак, он делает свой бизнес, «ремонт человеков», этого пузырька я еще не видела, можно вон тот, да–да, вот это… Дайте пожалуйста…
Не очень… Как–то резко… И сладко одновременно… Не люблю сладкие запах, как и черное белье… Черное и красное… Белье тоже надо посмотреть, это на втором, рядом с очками, в очки можно попозже, сначала белье… А вот этот запах лучше, он свежий, чуть с зеленью, пахнет самым началом лета, после дождя… Мне нравятся морские запахи, ему тоже нравится, когда я пахну морскими запахами, когда я пахну морем, когда я пахну, свежо и остро…
И он хочет меня убить. Я проснулась ночью, он спал рядом, он всегда спит рядом, уже восемь лет, как спит рядом. Восемь лет мы спим рядом, я боюсь сказать то, что должна сказать. Пусть даже самой себе. Но я проснулась ночью и поняла, что он не спит. Он лежал с закрытыми глазами и я поняла одно: он думает о том, как бы сделать, чтобы меня рядом больше не было. Никогда. Вообще никогда. Чтобы меня не было вообще. Он лежал, думал об этом и я это чувствовала…
Второй этаж. Я пришла сюда, чтобы купить очки, хотя на хорошие денег у меня нет. Но я пришла сюда, потому что это единственное место, где я могу подумать. О том, что происходит, о том, почему я сегодня с утра пошла к седому.
О кубиках.
Мне надо будет дождаться, когда он уснет, а потом взять в руки коробочку. Открыть ее и достать оставшийся кубик. Достать и положить ему на левую грудь, под самый сосок. Или над соском. Но тут одна сложность — он спит или на боку или на животе, он всегда так спит, все эти восемь лет, что мы спим вместе. Белье в этом отделе, я давно не покупала себе нового белья. Не знаю, почему. Понятия не имею. Просто, видимо, не хотелось… И сейчас не хочется… Хочется плакать, реветь, уреветься…
Мой любимый цвет — сиреневый. И еще бежевый. И белый. Это для белья. Белый, бежевый, сиреневый. Мне нравится этот комплект, но не настолько, чтобы я сошла с ума. Точнее, я уже сошла с ума. Если решила, что он хочет убить меня… Я действительно чуток располнела, но мне нравится это боди. Глупое название — боди, лучше сказать — рубашка для траханья. Глупое слово — траханье, точнее будет — для ебли. Совокупление, занятие любовью. Занятия. Оно как раз сиреневого цвета, коротенькое, чуть бы прикрыло попу и лобок. Но чуть. Замечательное сиреневое боди для ебли. Сколько раз я делала это за свои почти тридцать шесть лет? И в какой раз я думаю об этом в магазине? Мне хочется плакать, у меня в левой груди какая–то хрень. Херь. Маленький кубик, который должен изменить всю мою жизнь. И — может — тогда он меня не убьет, хотя с чего это я решила, что он хочет меня убить?
Я убью тебя, когда–нибудь, когда ты мне надоешь… Или я тебе… Когда я почувствую, что надоел тебе. Я тебе еще не надоел?
В магазине я думаю об этом впервые. Это точно. Я смотрю на боди и думаю о том, как правильно говорить — рубашка для траханья или рубашка для ебли. Я никогда не матерюсь, даже в постели. Я матерюсь только про себя. Внутри себя. Когда я абсолютно внутри себя, как сейчас. И он мне не надоел, а значит, это я надоела ему, но это не повод, чтобы меня убивать.
Хотя интересно, как он это собирается сделать?
Отравить?
Это называется — начиталась глупых бабских романов. Про «душу трагедией в углу». Хотя читать все же лучше, чем смотреть все эти сериалы. Про дамочек в красивых боди и с роскошной грудью. Грудями. Роскошными грудями, выскакивающими из боди. Я торчу здесь уже десять минут и все у одного прилавка. И меня все это не успокаивает. Все это приводит меняв бешенство, даже сиреневый цвет. И бежевый тоже. Лучше посмотреть что–то другое, что я ненавижу, хотя бы вот это… Черные кружева, замечательная прозрачность… Черное будет просвечивать сквозь черное…
А если отравить — то чем?
Нет, он не решится на это, ему проще придумать что–нибудь другое. Он умный, он придумает. Хотя, если отравить, то можно инсценировать самоубийство. Мое самоубийство. Подсыпать мне таблеток, растворить их в стакане и предложить выпить. Я попрошу его принести мне чего–нибудь попить перед сном. Чая или соку. Я всегда пью вечером или чай, или сок. Если холодно, то чай, если тепло, то сок. Лучше, апельсиновый или грейпфрутовый. Утром я его тоже пью. Он возьмет стакан, намешает в него таблеток… Каких? Я ничего не понимаю в таблетках, а эти черные кружевные трусики мне не нравятся. Лучше, все же, то боди. Оно действительно красивое. Независимо от того, для чего я его бы купила. В конце концов, покупаешь всегда для себя. А через это черное волосики будут сильно просвечивать, хотя они тоже черные, его это смешит, потому что я — крашенная. Голова одного цвета, лобок — другого. Он давно меня просил покрасить лобок, наверное, надо было это сделать…
Очки, мне нужны очки, но на хорошие у меня не хватит денег.
Я все еще хочу плакать.
Если он все же решит меня отравить, то это точно будет инсценировка самоубийства. Интересно, сколько таблеток и каких ему для этого надо? У нас дома нет даже легкого снотворного, не говоря уже о сильнодействующем. Ни ему, ни мне снотворное никогда не требовалось, разве что валерьянка. В таблетках, маленьких и желтеньких, можно ли отравить валерьянкой?
Очков много, очень много, но я поднимусь, вначале, на третий. Если я посмотрю очки и ничего не подберу, то мне надо будет идти. Выйти на улицу, сесть в автобус и поехать домой. Приехать домой и осмотреть всю квартиру в поисках снотворного. Или еще каких–нибудь незнакомых таблеток, которыми меня можно отравить. Говорят, что на третьем этаже открылись еще два отдела, один — с обувью, второй не помню с чем. В поисках не помню с чем дура идет на третий этаж. Дуру собираются отравить. В левой груди у дуры имплантант. Вообще–то в этом зеркале я все еще очень симпатичная дура, хотя мне уже почти тридцать шесть… И я пополнела за эту зиму. Черное платье пока не надеть. А если попробовать? Сегодня вечером? Придти домой, принять душ, надеть те свои шелковые трусики и белый же лифчик, а потом черное платье… Хотя лифчик можно не надевать, пусть будут видны соски. Чуть–чуть. Вот только надо ли подбривать подмышки? Я это делала позавчера, так что можно не подбривать, я надену черное платье и буду ждать его у телевизора, на столик…
Столик, столик, что поставить на столик…
Маленькую коробочку, купленную у седого.
Милый, у меня для тебя подарок. Милый. Я ведь знаю, что ты хочешь меня убить, милый, так вот я сегодня с утра сходила к одному мужику — ты только не ревнуй, не надо ревновать милый, просто хозяин маленького магазинчика со странным названием «Ремонт человеков», он седой и с косой, и у него странный вид, он на ножках десятилетнего мальчика — ты можешь себе представить, милый?
Он не может, он смотрит на меня в моем черном платье и думает, что я потолстела. Что грудь у меня теряет форму. Что я сбрендила. А вот и неизвестно что, хотя теперь — известно. Это для дам. крутое для крутых дам из Италии. Для крутых дам все крутое из Италии, надо зайти и посмотреть, я похожа на крутую даму в своем плаще и со своей сумочкой и с припухшими, так и не расплакавшимися еще глазами?
Но на самом деле красиво, я смотрю и мне нравится, мне даже хочется примерить, вот этот костюм, очень легкий и очень бежевый, к нему надо какую–нибудь такую блузку или кофточку… Какую? Надо посмотреть по сторонам и примерить. Надо доставить себе приятное, надо переключить мозги, а то я думаю лишь об одном: что я дура и что он хочет меня убить.
Отравить.
А я жду его за столиком и смотрю на него преданными глазами.
В боди для ебли.
Интересно, в чем лучше его ждать, в черном платье или в боди для ебли?
Я еще не решила, я просто хочу примерить вот этот костюм… Да, да, вот этот… Можно?
Очень уютная примерочная, три зеркала, нет, есть и четвертое, на двери. Когда дверь закрывается, то обнаруживаешь, что зеркал — четыре. Спереди, справа, слева и сзади, можно оглядеть себя всю. А теперь надо перевести дух, снять сумочку, снять плащ. Главное, чтобы сумочка никуда не делась, в сумочке коробочка, в коробочке кубик от седого. Вначале повешу сумочку, затем — плащ. Затем надо раздеться. Я сегодня в сиреневом, а костюм бежевый, белье не подходит… Надо было надеть бежевое, тогда бы подошло. Что–то морщит… Здесь вот, справа… Какое–то зеркало дурацкое, ноги у меня в нем короткие, да и задница толстая. Не попа, а жопа. Плохой костюм, мне не нравится, для него грудь надо больше, да и вообще…
И вообще мне нужные темные очки. Свои я разбила, а мне хочется плакать.
Очки на втором, надо спуститься на этаж вниз.
Если же не отравление — то тогда что?
Можно сбить машиной, но как это спланировать? Это ведь надо с кем–то договариваться, хотя можно и на своей, несчастный случай, но как он наедет на меня на нашей же машине? Тогда никто не поверит, что несчастный случай, а вот этот отдел я тоже не помню… Тут всякие цацки… Бижутерия… Бусы и серьги… Большие серьги кольцами, когда я стригусь совсем коротко, то мне такие очень идут. Стрижка под мальчика. Он говорит, что так очень эротично и его это безумно возбуждает. При этом он не смотрит мне в глаза. Он никогда не смотрит мне в глаза, он опускает свои и смотрит куда–то в пол. И говорит, что он возбужден, что так мне очень эротично и он безумно меня хочет. И смотрит в пол, а эти серьги действительно хороши, они намного лучше, чем тот дурацкий итальянский костюм… Видел бы меня сейчас седой, куда я потопала с его коробочкой. Седой считает сейчас деньги и думает, наверное, что надо было просить побольше. В расчет, когда я принесу остальную часть. Через месяц. Если бы я у него отсосала, то мне бы не пришлось нести ему через месяц оставшуюся часть денег, хотя я не представляю, как бы я стала сосать у седого. Когда он сидел, то не доставал мне и до плеча. Мне пришлось бы не просто сесть на корточки, а лечь на пол, и потом — а вдруг он у него был грязным? И некрасивым? Чем сосать некрасивый, лучше уж совсем не сосать…
Очки, мне нужны очки, эти мне не нравятся, оправа какая–то дурацкая, а эти синие, мне не нужны ни синие, ни розовые, ни зеленые, мне нужны обычные темные очки, сквозь которые не видно, что у тебя заплаканные глаза, красивые очки, на которые приятно посмотреть и которые приятно взять в руки. К примеру, вот эти… Хотя они дорогие, у меня не хватит, как не хватит на эти, хотя эти мне нравятся меньше…
Если я куплю очки, то по дороге домой зайду в парикмахерскую. Если там есть мой мастер, то я подстригусь. Коротко, под мальчика. Надену очку и приду домой. И буду думать, что мне делать дальше. Чтобы он меня не убил. Чтобы я осталась жива. Чтобы я могла жить очень долго и смотреть, как я толстею и как моя грудь становится все уродливей и уродливей. Я должна думать о чем–то другом, но о том я думать себе не позволяю. Лучше примерить еще вот эти очки, они аккуратненькие такие и даже красивые. Скорее, симпатичные, но мне нравятся. И не очень дорогие. Если я выскребу все, что есть в сумочке, то должно хватить, хотя у меня останется один проездной. Я выйду на улицу в новых очках и пойду на автобус. И я смогу заплакать, если захочу. Купить — не купить? Купить — не купить? Не знаю, я еще подумаю, хотя мне они нравятся, я не нравлюсь сегодня себе сама, мне не нравится то, что происходит, но они мне нравятся, в них я лучше, только надо будет зайти и подстричься, хотя — на что?
У меня ведь ничего не останется, а покупать эти очки и не стричься — это безумие. Лучше просто подстричься, потому что что–то мне все равно надо сделать. Или купить очки или подстричься, или купить очки или подстричься, лучше и то, и другое, но денег у меня нет. На все. Только на одно. Или купить очки, или подстричься, или купить очки, или подстричься… Или купить очки — или подстричься… Купить очки… Подстричься…
Я покупаю очки и сразу же надеваю их на себя. Подстригусь завтра. Или послезавтра — возьму у него денег и подстригусь. Если, конечно, до того времени он меня не убьет!
3
Мне никогда не забыть тот день.
Мне никогда не забыть этот день.
Я всегда была романтичной особой.
Я когда–то была романтичной особой.
У меня был брат.
У меня есть брат.
Это начало истории.
На самом деле я стою сейчас на автобусной остановке. В новых темных очках. И я плачу. Этого никто не видит, это не чувствую даже я сама. Но я плачу и стою на автобусной остановке.
Женщина в плаще и с сумочкой на плече. С сумочкой на плече в темных очках. Купленных на последние деньги. На самые последние деньги.
На женщину смотрит мужчина, который стоит возле киоска с сигаретами и прочей дребеденью. Если есть женщина, то всегда найдется мужчина, который на нее смотрит. Он смотрит на меня и я чувствую, как во мне, где–то в самой глубине, не в желудке, а еще ниже, начинает тихонечко ворочаться ярость. Мне не надо, чтобы он на меня смотрел, мне очень плохо, поэтому я и купила темные очки. Этот тип смотрит на меня и как–то странно улыбается. Сейчас, поди, он еще подойдет ко мне и начнет нести всякую чушь. Ахинею. Мол, здрасьте. Мол, вы очень даже ничего. Мол, как у вас со временем. Мол, не хотите ли вы…
Не хочу, но он и не подходит. Он все так же стоит и курит возле киоска с сигаретами и прочей дребеденью. Автобуса нет, опять поднимается ветер. Мне никогда не забыть тот день. Мне никогда не забыть этот день. Я всегда была романтичной особой. Я когда–то была романтичной особой. У меня был брат. У меня есть брат.
Брат.
Был брат.
Автобуса все нет. Начинает накрапывать дождь.
Дождь шел всю ночь, к утру он закончился.
Дождь закончился и поднялся ветер. Резкий, холодный, неприятный. Меня обрызгала какая–то машина — капли из лужи попали даже на лицо, пришлось воспользоваться чужим туалетом.
Я стою и плачу, но слез никто не видит, потому что их нет. Просто я чувствую, что я плачу за своими новыми темными очками, а мужчина стоит и смотрит на меня, они смотрят на меня всю жизнь, я ненавижу то, как они смотрят, по крайней мере. если я плачу в этот момент.
Когда я плачу, то на меня не надо смотреть.
Показался автобус, но я не могу прочитать номер. Мне плохо видно — серое, тусклое, низкое небо, накрапывает дождь, на мне темные очки, и я не могу прочитать номер.
Автобус подкатил к остановке, не мой, мне нужен маршрут на две единицы больше.
Мужчина бросил сигарету и решительно пошел в мою сторону.
Я стою у самого автобуса.
— Извините, — говорит мужчина и проскальзывает мимо меня. Тенью в шляпе и с портфелем. Дурацкий мужчина, в дурацкой шляпе и с дурацким портфелем. Хотя и кожаным, хорошей, между прочим, кожи. Светло–кофейного оттенка. С таким портфелем надо ездить не в автобусе, хотя он и в шляпе.
Автобус отходит и я смотрю, как он удаляется вверх по улице.
Мне никогда не забыть тот день.
Мне никогда не забыть этот день.
Мне хочется закурить и я лезу в сумочку. Лежит пачка, в пачке три сигареты. И зажигалка тоже лежит. Я отхожу к киоску и закуриваю, хотя не могу припомнить, когда в последний раз я курила на улице. Вообще–то, я до сих пор стесняюсь курить на людях. Если только — немного выпью. Много я никогда не пью. Я не люблю это состояние — когда голова чумная, а у меня она всегда чумная после того, как я немного выпью. Даже немного. И еще — я сразу же очень хочу спать. Поэтому я начинаю курить, сигарету за сигаретой, а наутро болит голова и лицо становится серым.
Но сейчас я курю прямо на улице. Женщина в плаще и с сумочкой на плече. Мне что–то надо будет сделать, когда я приду домой. Я знаю, что, но я боюсь это делать. Я — трусиха. Я страшная трусиха, утром я набралась смелости, а сейчас она вся ушла. Исчезла, свалила, растворилась, испарилась.
Я даже боюсь вспоминать.
Я всегда была романтичной особой.
Это я помню.
Я когда–то была романтичной особой.
Это я тоже помню.
Моего автобуса все нет и нет.
Это я вижу.
У меня был брат.
Это я знаю, как и то, что он есть.
Где–то есть, но не со мной, не рядом.
Он давно не рядом.
То есть, как бы его и нет.
В тот день я пришла к нему в гости. К нему и к его жене. Младший брат был уже женат. Женатый младший брат и незамужняя старшая сестра.
Брат был весел, он ждал гостей, а тут пришла я.
Автобус все не идет, если бы мужчина в шляпе все еще стоял на остановке, то я, наверное бы, взбесилась!
Брат сказал, что ждет друга с подругой, но я не помешаю. У него есть новое кино и мы все вместе его посмотрим. Как называется, спросила я. «Остров помешанных», ответил брат и показал мне кассету.
Жена брата готовила ужин и я пошла ей помочь.
Я докурила сигарету почти до фильтра, хотя дома так никогда не делаю. И не только дома. Я всегда оставляю минимум треть. А сейчас я докурила ее почти до конца и бросила окурок на асфальт. Он лежал рядом с моей левой туфлей и дымился. Я посмотрела по сторонам — никто не обращал на меня внимания. Тогда я наступила на сигарету и вдавила окурок в тротуар. С какой–то ненавистью, будто я давлю таракана или еще какую гадину.
Я боюсь тараканов, как и прочих летающих и ползающих. Но когда я их вижу, то у меня возникает одно желание: уничтожить. Раздавить с хрустом. Я закрываю глаза и давлю.
Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли…
Я не помню, из какой это песни, да и из песни ли?
Я просто не помню, откуда это…
Жена брата делала салат, потому что отчего–то положено к приходу гостей всегда делать салат. Я не была гостьей, я была случайно зашедшей к ним в этот вечер старшей сестрой ее мужа. И я пришла на кухню помочь ей делать салат.
Появился очередной автобус, вполне возможно, что и мой. Дождь начал накрапывать еще сильнее, я стояла под навесом остановки и пристально смотрела сквозь свои новые темные очки на еще почти неразличимый номер над кабиной водителя.
Мой или не мой?
Когда я зашла на кухню, то салат был уже почти готов, оставалось добавить майонеза и сметаны и все хорошенечко перемешать. Если хочешь, сказала жена брата, то можешь делать бутерброды. Я покорно кивнула и стала нарезать батон.
На этот раз автобус был мой. Я вышла из–под навеса и вошла в двери, холодные капли дождя успели царапнуть меня по щеке, будто я все еще плакала.
Бутерброды были с копченой колбасой и с копченой рыбой.
Брат тоже вошел на кухню и достал из холодильника две бутылки — бутылку водки и бутылку сухого вина.
— Хорошее кино, — сказал брат, — я уже посмотрел…
— Теперь и мы посмотрим, — ответила ему его жена.
Я промолчала и подумала, зачем я к ним пришла.
Тогда еще я этого не знала, хотя и до сих пор иногда думаю — зачем…
Я прошла в салон, он был неполным. Были даже свободные места и можно было сесть.
— Билетик покупайте! — сказала неопрятная кондукторша в какой–то безразмерной кожаной куртке.
— Проездной, — сказала я ей и подумала, что надо бы снять очки, но не сняла, а села на ближайшее свободное место.
В двери позвонили и брат пошел открывать.
— Если хочешь, — сказала его жена, — неси все это на стол.
Я взяла поднос с бутербродами и пошла в комнату.
Я всегда была романтичной особой.
Я когда–то была романтичной особой.
Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли, прицепилось, сейчас не отцепится. Автобус тихо пер в горку, я уставилась в окошко и закрыла глаза, так и не сняв очки.
Они уже были в комнате — друг брата и подруга друга.
Вначале я увидела подругу.
Она сидела в кресле и молчала. Она показалась мне очень молодой и очень красивой, у меня вдруг безобразно вспыхнуло лицо.
— Это — моя сестра, знакомьтесь! — сказал брат.
Я назвала свое имя.
Подруга друга назвала свое.
Мужчина в шляпе и с портфелем, наверное, уже давно дома, сидит сейчас на диване и смотрит телевизор, хотя, впрочем, такие мужчины, как правило, смотрят обычно телевизор вечерами. И говорят всем, чтобы они отстали, так как был очень тяжелый день и им надо отдохнуть. Ему надо отдохнуть.
Потом я повернулась и увидела его. Он сидел на стуле у окна и вертел в руках кассету с фильмом «Остров помешанных». И не смотрел на меня.
Я опять назвала свое имя.
Он нехотя оторвался от кассеты и посмотрел на меня. Снизу вверх, хотя мне показалось, что наоборот — сверху вниз, и я почувствовала, как что–то внутри меня негромко хлопнуло, а потом взорвалось. И по всему телу разлилось странное тепло.
Он нехотя посмотрел на меня и так же нехотя назвал свое имя.
Автобус остановился у остановки, водитель хрипловатым баритоном объявил название следующей. До моей оставалось еще четыре.
Брат разлил водку в две рюмки, его друг налил нам вина.
Потом брат сказал, что надо бы выпить за встречу, а потом он включил фильм.
Автобус отошел от остановки, за окном нудно шел дождь.
До этого он просто накрапывал, а сейчас шел так же нудно, как и ночью, когда я открыла глаза и долго лежала в темноте, слушая как за окном нудно идет дождь и как он дышит во сне рядом со мной. Лежа на боку, подогнув странным образом ноги и скинув с себя одеяло.
И в этот–то момент я в очередной раз поняла, что он хочет меня убить.
И что утром мне надо будет выйти из дома и поехать туда, где я — совершенно случайно — несколько дней назад увидела вывеску «Ремонт человеков».
Я пригубила свой бокал и поставила его на стол.
На экране летел самолет, потом нам показали двоих — мужчину и женщину — сидящих рядом. Эта была супружеская пара, летящая в отпуск.
Брат налил всем еще. Они с другом быстро выпили по второй.
Самолет внезапно начал крениться и падать, в салоне началась паника.
Все орали, визжали, кричали, повалил дым, появились язычки огня.
Подруга друга заявила, что ей становится страшно и что она предпочла бы потанцевать.
Жена брата сказала, что она тоже не против и брат пошел в соседнюю комнату — включать музыку.
Я сидела у телевизора и смотрела кино, все танцевали в соседней комнате, про меня все забыли.
Автобус остановился у очередной остановки, до моего дома оставалось еще три.
Самолет рухнул в океан, но не взорвался. Его обломки покачивались на сине–зеленоватых волнах неподалеку от белого берега с красивыми пальмами.
Брат вошел в комнату и налил еще водки. Я посмотрела в свой бокал — он был пуст и я сама подлила себе вина.
Музыка в соседней комнате стала громче, мне стало неуютно и я выключила свет. Я сидела в темной комнате одна, пила сухое вино и смотрела дурацкий фильм про то, как выжившая в авиакатастрофе супружеская пара оказалась на острове, который был необитаемым. И как эта пара начала сходить с ума.
И я почувствовала, что тоже схожу с ума, потому что нет ничего более отвратительного, чем оказаться там, где ты никому не нужна. Где веселятся, пьют и танцуют, а тебе хочется одного — подойти к стенке и начать долбиться об нее головой, потому что ты оказалась совсем не там и не тогда, и никому до тебя сейчас здесь нет дела.
Я пила уже третий бокал, а автобус все ехал и ехал — мне оставалось две остановки, до меня оставалось две остановки, мужчина в шляпе и с портфелем явно уже давным–давно был дома. Если, конечно, он ехал домой, а не в какой–нибудь офис.
Хотя такие мужчины в офисы ездят на машине. По крайней мере, как правило.
Выжившая в катастрофе парочка поняла, что на этом Богом забытом острове их еще долго никто не найдет и что — вполне возможно — им придется провести здесь не один месяц, а может, что и год. Или годы. Я прикончила третий бокал и почувствовала, что безумно хочу в туалет. Нажав кнопку «пауза» я встала с дивана и пошла в коридор. Дверь во вторую комнату была открыта, в ней горел приглушенный свет и было видно, как брат танцует что–то очень медленное с подругой друга. Жена брата смотрела в окно, а друг что–то ей говорил, говорил, говорил…
Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли…
Кажется, именно под это они и танцевали, хотя, скорее всего, это мне просто кажется…
Мне всегда все кажется…
Просто кажется…
Только кажется…
Осталась еще одна остановка, автобус был почти пустым, так что пока можно было не вставать.
Я зашла в ванную — туалет у брата был совмещенным — и поняла, что много выпила. Голова кружилась, меня мутило. Я прикрыла дверь, стянула быстро трусики с колготками и села на унитаз. Хотелось опустить голову, хотелось закрыть глаза, хотелось заснуть.
Пописав, я встала и решила умыть лицо. Я открыла воду и нагнулась над раковиной. И тут я почувствовала его руки.
Именно его, а не брата. Это были его руки, его сильные, жесткие руки. Одна легла мне между ног, второй он сжал мне шею. Я стояла пригнувшись над раковиной и чувствовала, как он с силой разводит рукой мои бедра. Я могла закричать, я могла укусить его за вторую руку, но я нагнулась еще сильнее и левой рукой стала плескать себе водой в лицо.
В этот момент он развел меня так широко, что я почувствовала, что сейчас что–то случится. Произойдет. Самолет упадет в океан и неизвестно, кто выживет.
И тут он подтолкнул — как–то очень сильно и одновременно нежно — меня еще дальше вперед так, что я грудью просто улеглась на раковину и вставил.
Он вошел в меня и та теплота, которая разлилась внутри, как только я увидела его и услышала его голос, стала кипятком.
У меня внутри все горело, холодная вода лилась мне на голову, он методично обрабатывал меня сзади и мне хотелось кричать.
Мне хотелось кричать, петь, выть, царапаться, вилять задницей от восторга как собака виляет хвостом.
И дело не в том, что меня давно никто не ебал.
Меня давно никто так не ебал, так сильно, так внезапно и так безжалостно.
Меня просто никто еще так не ебал.
Я начала дрожать, какая–то пружина сорвалась с места и стала разматываться там, внутри. От самого низа и до верха.
Автобус подошел к остановке. Я встала, поправила сумочку и пошла к дверям.
Я чуть не захлебнулась в тот момент, когда он начал спускать прямо в меня, даже не спросив, можно или нет.
Меня хватило только на то, чтобы совершенно машинально закрыть кран, голова моя так и была в раковине.
Он вынул из меня и вдруг правой рукой с силой провел по щели, будто проверяя, насколько он ее заполнил.
И тут я заплакала.
— Прими душ, — сказал он мне в спину. Я услышала, как он застегивает молнию на брюках.
Я не поворачивалась, я боялась повернуться, я боялась увидеть его лицо.
За весь вечер он сказал мне две фразы. Первая — как его зовут. И вторая — прими душ! С восклицательным знаком.
Я вышла из автобуса и пошла в сторону дома
Он вышел из ванной и закрыл за собой дверь.
Я повернулась и посмотрела на нее.
Я не помнила, слышала ли я, как он закрывал ее на задвижку, как не помнила, слышала ли я то, как он ее открывал.
Я смотрела на дверь и помнила лишь то, как из меня выходил воздух — сильно, с каким–то смачным свистом — когда он двигался во мне.
И я помнила, как мне было хорошо.
Я смотрела на дверь и слезы тихо текли по лицу.
Я подошла к дому и полезла в сумочку за ключами.
Рука наткнулась на коробочку, ту самую, что я купила у седого. Коробочку, где все еще лежал одинокий матовый кубик.
Второй был во мне.
Я взяла ключи и открыла дверь в подъезд.
Дверь ванной я закрыла на задвижку и быстро начала стаскивать с себя всю одежду. Я не чувствовала себя грязной, но я чувствовала, как хлюпаю внутри, из меня вытекало и бедра были липкими.
Я вошла в подъезд и закрыла дверь на улицу. В подъезде было тепло и сухо.
Я залезла в ванну и включила душ.
Я не думала о том, что произошло, я поливала себя горячей струей и хотела одного: оказаться вместо этой ванны в другой.
У себя дома, в своей собственной квартире.
Где на крючке висит мое собственное полотенце.
Это было давно, очень давно…
Я младше его, сейчас мне почти тридцать шесть…
И он хочет меня убить.
Это я знаю точно, это я почувствовала еще раз сегодня ночью.
Когда в тот вечер я вышла из ванной, то его с подругой уже не было.
Они ушли, потому что было поздно, да и подруга себя неважно чувствовала — так сказал мне брат, предлагая остаться у них ночевать.
Было поздно и я себя неважно чувствовала, третий бокал оказался лишним, я перепила и мне пришлось принять душ.
— Ты долго принимала душ, — сказал брат.
— Я всегда долго принимаю душ, — ответила я, — очень долго. Я люблю принимать душ…
— Ты остаешься? — спросил брат.
— Да, уже поздно, — сказала я.
— Мы постелим тебе в этой комнате, — сказал брат, — если хочешь, досмотри кино…
— Не хочу, — ответила я, — как–нибудь потом, я очень хочу спать…
— Постели ей! — сказал брат жене.
— Сейчас! — ответила жена.
Я открыла дверь в квартиру и вошла.
Я не забуду тот день никогда.
Я когда–то была романтичной особой.
У меня был брат.
Впрочем, он есть и сейчас.
Я сняла сумочку и посмотрела на себя в зеркало.
Мне действительно очень шли эти новые темные очки.
Я улыбнулась и подумала о том, что дома очки можно снять. Как нужно снять и плащ.
Снять очки, снять плащ и ждать вечера. Когда он придет домой и мне надо будет имплантировать ему второй кубик седого. Под его левый сосок, прямо туда, где сердце.
Когда я проснулась на следующее утро в квартире брата, то дома была только его жена — брат уже ушел на работу.
Я позавтракала и быстро собралась, потому что и сама опаздывала.
Кассету с «Островом помешанных» я попросила с собой — досмотреть вечером, когда вернусь, уже дома, где в ванной на крючке висит мое собственное полотенце.
Когда же вечером, перекусив что–то на скорую руку, я решила достать кассету из коробки, то из нее смущенно выскользнула неприметная визитная карточка.
Неприметная визитная карточка с его номером телефона.
И я опять почувствовала теплоту внутри.
Вот только тогда я еще не знала, что через восемь лет он захочет меня убить!
4
Как говорит про них одна моя подруга — все они с другой планеты. И это в лучшем случае.
А потом добавляет: я бы их держала в гетто и выпускала каждого десятого, может, что и двадцатого. И раз в месяц. На двадцать четыре часа.
— Для чего? — спрашиваю я.
— Просто так, — отвечает подруга, — ни для чего, чтобы проветрились. Походили по улицам и подышали свежим воздухом. А потом обратно, в гетто, до следующего раза…
— А если захочется? — спрашиваю я.
— Мне давно уже не хочется, — отвечает она, — и тебе скоро тоже надоест. Если еще не надоело. Надоело?
Я не отвечаю, я просто не знаю, надоело мне или нет. А знаю я одно: он хочет меня убить.
Я знаю это, подходя к подъезду, знаю, входя в подъезд, знаю, нажимая кнопку лифта, знаю, входя в лифт — слава Богу, одна, терпеть не могу, если со мной едет кто–то еще. Он хочет меня убить, он хочет меня убить, он хочет меня убить…
Вопрос в другом: почему?
В чем я так виновата?
Что ему во мне так не нравится, что ему остается лишь одно — сделать все, чтобы меня больше не было на этом свете?
Я достаю ключ, глаза смотрят на дверь все еще сквозь очки. Дверь темная, почти черная, хотя на самом деле она светло–коричневая, очень светло–коричневая, где–то даже более светлая, чем коричневая. Но через очки она темная, почти черная.
Я вставляю ключ и поворачиваю.
Дверь открывается, я мышкой прошмыгиваю в прихожую и захлопываю дверь за собой.
Захлопываю испуганно, будто за мной гонятся, хотя в подъезде никого.
Это уже просто истерика, меня колотит, я срываю новые очки и швыряю их на тумбочку.
И чувствую, что опять плачу.
Я смотрю на себя в зеркало — вместо глаз две опухшие щелки с черными разводами вокруг. Это не синяки, это просто потекла тушь. От слез. От моих слез. Я плачу, у меня истерика, хотя я всегда была уравновешенной и спокойной девочкой. И такой же девушкой. И женщиной. Но то — раньше, сейчас все не так, с того самого момента, когда я поняла, что он хочет меня убить.
Я иду в кухню и лезу в холодильник. Мне надо чего–нибудь выпить, немного, для того, чтобы прийти в себя. В холодильнике только водка, водки я не хочу, у водки отвратительное послевкусие, я не люблю водку, я люблю сухое красное вино, но сейчас мне оно не поможет. Мне надо что–нибудь покрепче и я иду в гостиную.
У нас — три комнаты. Гостиная, спальня и его кабинет. Сначала я пойду в гостиную, а потом в спальню. В кабинет я пока не пойду, в кабинете мне пока делать нечего, выпивка должна быть в баре, бар — в гостиной, я иду в гостиную, чувствуя, что безумно хочу в туалет и что это опять чисто нервное.
Но я терплю, подхожу к бару, открываю створку и тупо смотрю на убогий ряд бутылок. Сам он не пьет ничего, кроме виски, и то понемногу, грамм пятьдесят перед сном. И держит виски в кабинете, в левом ящике письменного стола — он убрал из него все полки и сделал еще один бар. А этот — для гостей, которые приходят редко и которые пьют так же мало, как и он. А потому бар почти пустой. Все та же водка — одна бутылка, мартини — одна бутылка, коньяк… Я не знаю, какой, я не разбираюсь в коньяках, как ничего не понимаю ни в виски, ни в водке, мартини я люблю, но не могу сказать, что в нем я разбираюсь. Я ни в чем таком не разбираюсь, я просто беру в баре первый попавшийся бокал и наливаю его до половины коньяком. А потом выпиваю залпом.
И мне сразу дает в голову.
Внутри становится горячо, в висках пульсирует, в глазах — туман. Хотя туман — это лучше, чем слезы. Мои туманные глаза уже не плачут, мои туманные глаза тупо смотрят на открытую дверку бара, отчего–то я сижу на полу, на корточках, дура, которая втемяшила себе в голову, что ее хотят убить.
И не кто–то, а собственный муж. Ее муж, мой муж. Муж.
С которым, между прочим, я прожила уже восемь лет. Под одной крышей. Пролежала в одной кровати. Протрахалась восемь лет. Восемь лет, почти каждый день, видела, как он с утра встает — потягиваясь и откашливаясь. И почему–то всегда — или мне сейчас так кажется? — с одной ноги. С левой. Хотя — может быть — что и с правой. Но всегда с одной. Встает и идет в туалет. И не закрывает дверь. Стоит над унитазом и журчит. А потом начинает делать зарядку. Восемь лет отжиманий, восемь лет приседаний. Я сижу на корточках и мне безумно себя жалко. Я все сегодня делаю не так. Я не знаю, зачем я пошла к Седому. Я не знаю, зачем позволила ему прилепить мне к левой груди этот дурацкий кубик, который потом вполз в меня как клещ. Я сама хотела этого, но сейчас я не знаю, зачем.
Я знаю только то, что я хочу еще коньяка. Но не могу себе этого позволить. Еще полбокала — и я рухну на кровать, а может, и не дойду до нее. Рухну просто здесь, на ковре, рядом с открытым баром. Он придет домой, посмотрит на меня — пьяную и одетую, спящую на полу рядом с недопитой бутылкой коньяка, ухмыльнется и возьмет в руки нож. У него он есть, я знаю, я видела как–то раз, когда он открывал правый нижний ящик своего стола. В левом — виски, в правом — нож.
Я встаю с пола и иду в туалет.
Меня покачивает.
Мне надо в душ.
Раздеться и в душ.
Но сначала — пописать.
Поссать.
Помочиться.
Я хочу в туалет.
Даже у Седого я не хотела в туалет так, как хочу сейчас. Низ живота просто выворачивает.
Я сажусь на унитаз и чувствую, что унитаз подо мной покачивается так же, как только что пол.
Коньяка для меня было много. Целых полбокала. Банально. Женщина в истерике и слезах пьет коньяк в одиночестве. Чтобы успокоиться и не реветь. Не реветь и не думать. Не думать и не вспоминать. Чтобы просто забыть все. И знать только одно: есть еще один кубик, один странный, серебристо–матовый кубик, который надо внедрить в мужское тело. Кубик–шпион. Кубик–наблюдатель. А я — подглядывающая. Буду подглядывающей. Когда сделаю все до конца.
Я встаю с унитаза и иду в спальню. Уже целенаправленно, уже собрав себя снова на куски. Я развалилась на куски, и я собрала себя вновь. Мне надо раздеться, мне надо принять душ. А потом найти нож. Или убедиться, что он есть. И еще — решить, как мне сделать так, чтобы шпион перешел границу, был внедрен, заслан, оказался на месте. Я — резидентша, так что это я должна продумывать операцию.
Я раздеваюсь, бросаю одежду на кровать и смотрю на себя в зеркало. Я никогда не хожу голой при нем, это он обожает ходить голым при мне. Я — стесняюсь, я вообще почти всего стесняюсь, хотя на самом деле…
Я отворачиваюсь от зеркала и иду в душ. Мне жарко после коньяка, хотя дома прохладно. Но меня уже не качает, я твердо держусь на ногах, я захожу в ванную и лезу под душ.
И душ быстро приводит меня в норму.
Душ всегда быстро приводит меня в норму.
Ванна расслабляет, а душ приводит в норму.
Я становлюсь нормальной женщиной, я вытираюсь тщательно и долго, а потом одеваю свежие трусики. Хотя могла бы и не одевать. Встретить его в маленьком черном платье и без трусиков. И с накрытым столом. Чтобы он удивился и забыл про все на свете. Выждать момент, а потом спросить: зачем тебе это надо…
Не получится, он не поймет, с чего это я такое устроила, наоборот — он что–то заподозрит, так что думай, думай, думай, говорю я себе и одеваю лифчик. Чтобы он вообще ничего не заподозрил — ведь я всегда хожу в лифчике, даже когда мы одни, только на ночь я снимаю его и трусики, если, конечно, нет месячных.
Я накидываю халат и прибираюсь в спальне.
И чувствую, что надо почистить зубы — во рту стало противно от выпитого коньяка.
Так что снова в ванную, но это уже все очень быстро, у меня мало времени, часа два, не больше, и ведь я еще ничего не надумала.
Я почистила зубы и мне стало легче. Под глазами нет черных кругов, краска смыта, я не красива, я не обольстительна, я просто такая, какая есть. Нормальная женщина. Пресловутый объект желания. Странное существо с отверстием между ног. Иногда мне кажется, что все они воспринимают нас лишь такими, чтобы при этом не говорили. О красоте души, необыкновенном уме и чувстве сострадания. Главное — чтобы была дырка и чтобы эта дырка давала. Дай, говорит он, и я покорно раздвигаю ноги. Или ложусь на бок и позволяю ему раздвинуть ноги самому. Вставить. Всунуть. Всадить.
Выпивший полбокала коньяка кусок мяса.
Это я про себя.
Это я сейчас — кусок мяса, в трусиках, лифчике и халате. Принявший душ кусок мяса, который очень хочет есть.
Если и предстоит быть убитой, то лучше — на сытый желудок.
Съесть пару бутербродов и выпить кофе. И думать, думать, думать.
В левой груди жжет, это просыпается резидент. Или резидентша. Я — резидентша, но мой кубик — резидент, тоже мужского пола. Он. Шпион. Это его кубик шпион, а мой — резидент. Он просыпается и жжет, он хочет, чтобы я побыстрее внедрила шпиона. Послала на задание.
Я смеюсь и иду на кухню.
Беру в холодильнике сыр, в хлебнице — хлеб.
Делаю два бутерброда и кладу их в микроволновку.
Пока она гудит, я делаю себе кофе. Нормальный, то есть, не быстрорастворимый. Варю себе сама кофе в маленькой турочке, которую он подарил мне два года назад — привез с Ближнего Востока, откуда–то с аравийского полуострова.
Есть такой полуостров — аравийский? Или нет? Вроде бы есть…
Кофе готов и бутерброды — тоже. Кофе, который варишь сама, мужского рода, быстрорастворимый — среднего, женского рода кофе нет, женского рода — я.
Тридцатишестилетняя дура, которую хотят убить.
И я совершенно ничего не могу придумать, я пью кофе, ем бутерброды и понимаю, что у меня начинается ступор. И вскоре он перейдет в истерику, очередную истерику, которых на сегодня хватит.
Я ставлю тарелку и чашку в мойку и иду в его кабинет.
В его святилище.
В его скромную мужскую обитель.
В его схрон.
Келью.
Крепость тире цитадель.
Женщинам, детям и собакам вход запрещен.
В нашем доме ни детей, ни собак.
Хотя могли бы быть и те, и другие.
Но ни детей, ни собак, одни женщины, причем — в единственном числе.
Одна женщина.
Это я.
И мне сюда вход тоже должен быть запрещен, но я плюю и иду в его кабинет, захватив с собой собственные сигареты.
Он курит очень крепкие, у меня от них сразу болит голова. Не начинает болеть, а именно болит, то есть — моментально, после первой затяжки.
И я курю свои, но обычно или в гостиной, или на кухне.
А он курит и в гостиной, и на кухне, и в кабинете.
Я смотрю на его стол и думаю, что будет, если я все же найду этот нож.
Я никогда не роюсь в его столе, но сегодня я не могу этого не сделать.
Ни резидент, ни шпион мне этого не простят.
В столе четыре ящика. Что сверху вниз — четыре, что снизу вверх — все равно четыре…
Я смотрю на часы. Он придет через два часа. У меня еще есть время, у меня все еще есть время, немного, но хватит, два часа для того, чтобы думать, думать, думать. Два часа для того, чтобы порыться в его ящиках и найти… Что–нибудь найти, что–нибудь такое, чтобы еще раз убедило меня в том, что он хочет меня убить. Если я найду это, то мне станет легче. Значит, я не просто сбрендившая баба, в свои тридцать шесть начавшая сходить с ума, значит, все это правда и я не зря пошла сегодня к Седому и второй шестигранный кубик еще пригодится.
Я открываю первый ящик, в нем ничего особенного — заполненная карточками визитница, несколько файлов с бумагами, его документы, мои — отдельно, его — отдельно, но все это действительно неинтересно, ящик, можно сказать, пуст, девственно пуст, когда он оттрахал меня в ванной моего собственно брата, то я давно уже не была девственницей, хотя кое–что девственное во мне оставалось, кое–что, что ему досталось, я никогда никому не признаюсь в том, какое место все это занимает в моей голове, хотя, может, это лишь потому, что я мучительно пытаюсь понять одно — ну почему он хочет меня убить…
Второй ящик. Если в первый я хоть иногда, но заглядывала через его плечо, то во второй — ни разу. Он просто не открывал его при мне. Никогда. Ни второй, ни третий, ни четвертый. Слабость и эйфория от коньяка уже прошли, как прошел и привкус во рту. Но мне хочется сесть, а еще лучше — лечь. Если я лягу, то не смогу рыться в ящиках. И я сажусь на пол, опускаюсь попой на ковер и зарываюсь с головой в ящик номер два.
В нем оказывается какая–то ерунда. В основном, проспекты. Из тех мест, где мы побывали с ним вдвоем и из тех, где он побывал один. И еще — фотографии. Из тех же мест. Те фотографии, что не нашли места в семейном альбоме. Остатки, не кондиция, фотографический брак. Но выбрасывать жалко и они лежат здесь. В другой день и в другом состоянии я бы с удовольствием их посмотрела, я бы вспомнила его и вспомнила себя, я бы вспомнила те места, где нам — я не могу этого исключить — когда–то было хорошо, но сейчас у меня не то настроение, да и просто нет времени, мне надо успеть до его прихода, а остается еще два ящика, третий и четвертый, первые два не дали никакого результата, обыск пока в пустую, визитница, бумаги, документы, фотографии, проспекты — ничего интересного.
В третьем ящике лежит большой плотный конверт из черной бумаги. И почему–то — рыболовная блесна. С большим, тройным крючком, никогда не знала, что он увлекается рыбалкой. Хотя блесна тоже может быть орудием убийства, только очень уж изощренного, надеюсь, что он приготовил ее не для меня, мне совсем не хочется, чтобы этим крючком меня цепляли за шею. Наверное, это не просто больно, наверное, это очень больно, а то. что женщины боятся боли меньше, чем мужчины — неправда. Это их, мужской миф, мы боимся боли не меньше, просто, мы больше к ней готовы, мы ожидаем ее каждый день, каждый час, каждую минуту. Они делают нам больно, они готовы сделать нам больно, тройной рыболовный крючок цепляет меня за шею, леска натягивается — ведь если есть крючок, то должна быть и леска, хотя лески в ящике я не вижу и беру в руки конверт.
В нем что–то лежит и мне безумно хочется на это что–то взглянуть. Но я боюсь, я чувствую, что найду там что–то такое, что мне может не понравиться, вот только что? Я хочу курить и хочу посмотреть, что лежит в этом конверте, который он так тщательно скрыл от моих глаз, запаковав в плотную черную бумагу и запрятав в третий ящик своего стола.
Я беру сигарету и закуриваю.
Если он спросит, почему я курила в его кабинете, то я скажу, что мне так захотелось.
Хотя он, скорее всего, не спросит, он просто войдет в квартиру и скажет, что он устал и хочет есть, а потом посмотрит на меня и улыбнется. И от его улыбки мне станет страшно, потому что я знаю одно: мне надо сделать так, чтобы кубик Седого вполз ему в грудь рядом с сердцем, но я до сих пор не придумала, как…
В конверте, между прочим. лежат самые обыкновенные порнографические журналы. Когда я обнаруживаю это, то начинаю смеяться. Взрослый, почти что сорокалетний мужчина, в доме, где нет ни детей, ни даже кошек и собак, прячет от жены пачку порнографических журналов. В столе, в третьем ящике. Наверное, смотрит ночами, когда я уже сплю. Или когда меня нет дома, а он–дома.
Я не люблю порнографию, хотя эротические фильмы иногда смотрю. Но порнография меня не только не возбуждает, она меня временами просто оскорбляет. Она напоминает мне мое истинное место в мужском мире — быть дырой. Необходимым приспособлением для секса. Орального, анального, вагинального. Все разложено по полочкам, всюду суют они свои хуи. В жизни я никогда не говорю это слово, даже, когда он просит меня в постели: — Скажи мне, ну, скажи! — Я что–то бормочу, что–то невнятное, чтобы он отстал. И он отстает, и уже потом, когда я засыпаю, идет в кабинет и лезет в этот свой третий ящик…
Я пролистываю журналы, быстро, лишь для того, чтобы убедиться, что в них ничего постороннего. То есть, ничего такого, что заинтересовало бы меня. И в них действительно ничего такого, мужики и девки, девки и мужики. И делают то, что делаем все мы. Или, по крайней мере, почти все мы. Только они не стесняются и делают это напоказ. Перед фотографом. Не скрывая лиц, не закрывая глаз. Они даже сосут с открытыми глазами…
Я облизываю отчего–то пересохшие губы и чувствую, что краснею. Слава Богу, что этого никто не видит. И прежде всего — он. Когда я краснею при нем, то становлюсь совсем беспомощной и он может делать со мной все, что захочет. И не могу сказать, чтобы мне это не нравилось…
Остается один ящик — четвертый.
Надеюсь, что в нем я найду то, ради чего и сижу сейчас здесь, в его кабинете, на полу, у открытого письменного стола. Я ищу нож, тот самый нож, который я как–то раз уже видела в его руках. Тот самый нож, которым он, скорее всего, и собирается меня убить.
И я нахожу его. Четвертый ящик — самый захламленный, чего в нем только нет — толстая, перевязанная какой–то легкомысленно–розовой ленточкой пачка писем, вполне возможно, что есть в этой пачке и мои письма, писала когда–то, вот только сейчас мне совершенно не хочется перечитывать те глупости, альбом с коллекцией марок, будем считать, что это что–то сентиментальное из его же прошлого, папка с газетными вырезками, уже пожелтевшими, которые давно бы надо выкинуть, конвертик с фотографиями, простой почтовый конвертик с маленькой пачкой маленьких фотографий, даже не пачкой, так, штук пять–шесть, какие–то незнакомые мне люди, видимо, из того же прошлого, что и альбом с марками, дискета для компьютера, аккуратно упакованная в плотную бумагу и, наконец–то, тот самый нож.
Дискета и нож — вот что заинтересовало меня в этом ящике.
Нож в кожаном чехле, с рукояткой из кости какого–то животного. Лезвие не очень длинное, сантиметров пятнадцать. Блестящая сталь, по лезвию проходит желобок. Тот самый нож, которым он, наверное, и будет убивать меня, когда для этого, естественно, придет время.
И я узнаю, когда оно придет, я не зря сегодня ходила к Седому.
Шестигранный серебристый кубик, величайшая ценность, которую я должна пустить в дело.
Я убираю нож на место, я убираю на место все, кроме дискеты. Мне безумно хочется включить компьютер и посмотреть, что же на ней. Скорее всего, ничего особенного, какие–нибудь очередные деловые тексты. Но тогда почему она запрятана так далеко — аж в четвертый ящик стола?
Ведь мы прячем только то, что действительно хотим спрятать.
Времени остается в обрез, я беру дискету и кладу в карман халата. Но там она не будет лежать долго, я ее перепрячу, а потом, когда он точно не сможет этого увидеть, включу компьютер и обязательно посмотрю, что на ней.
Может, на ней и хранится ответ на тот вопрос, который так мучает меня в последнее время — почему, все же, он хочет меня убить?
5
До двадцати восьми лет я была довольно самостоятельной особой. Если не сказать, совсем самостоятельной. То есть, во всем привыкшей полагаться только на саму себя.
Хотя тут есть еще одна забавная подробность: тогда у меня тоже был муж.
Или почти муж. То есть, мужчина, с которым я жила постоянно, но который не был моим официальным супругом.
И если вспомнить тот мой визит к брату, то во многом он был связан с тем самым человеком.
Не визит, конечно, мое настроение и его последствия: как все, что произошло тогда в ванной, так и то, что сейчас рядом со мной человек, который хочет меня убить.
Навязчивая мысль, мысль, от которой никак не могу избавиться. Он хочет меня убить, он хочет меня убить, он хочет меня убить…
Лучше думать о чем–нибудь другом, например, о том, что было со мной до двадцати восьми лет. Даже не думать, вспоминать.
И не столько вспоминать, сколько попытаться пережить заново, про себя, в себе, извлечь из себя и заново переварить в себе.
До двадцати восьми лет я была довольно самостоятельной особой.
И считала, что нет такого мужчины, которого бы я не смогла обыграть в этой замечательной игре «мужчина тире женщина», впрочем, как и «женщина тире мужчина».
Единственное, чем приходилось платить за проигрыш, так это собой — лечь и раздвинуть ноги, но я все равно была в выигрыше, ибо только от меня зависело, раздвину я ноги или нет.
Может, потому я и не сопротивлялась тогда в ванной, не кричала и не звала брата — меня впервые брали силой, и я покорилась.
До этого все было не так, до этого я считала, что королева — всегда я. Королева, принцесса, властительница, повелительница.
И делала вид, что мужчины занимают в моей жизни отнюдь не главенствующее место.
Они были на обочине, присутствовали где–то за кадром, пусть рядом, но в тени.
Пусть на них бросаются похотливые сучки, но я не такая.
Я самодостаточна, я умна, меня гораздо больше интересует то, что творится в моей голове, чем то волнение, которое временами возникало между ног.
За исключением тех дней, когда месячные, но месячные — это не дни, месячные — это катастрофа, это момент, когда мир теряет нормальные очертания. Хотя ты знаешь, что пройдет несколько дней и все опять станет на свои места.
И голова вновь обретет ясность, а тело — легкость. Тяжесть и боль исчезнут, вновь захочется жить.
Жить и играть в привычные игры, когда мужчины пытаются поймать, а ты — убежать.
Не будучи при этом той похотливой сучкой, которая постоянно течет.
Собственно, именно поэтому я и девственности лишилась позже, чем многие мои подруги.
Мне было уже двадцать три, возраст, согласитесь, приличный для дефлорации.
Не могу сказать, что меня это совсем не тяготило — то, что я никогда еще не чувствовала в себе мужское начало.
Член, палку, хуй.
Но тяготило это как–то странно — в моем окружении уже у половины подруг были дети, вторая половина то ли собиралась беременеть, то ли делала аборты, а я пребывала в полном согласии со своей девственной плевой. Сама по себе она мне не мешала, мешало то, что я в свои двадцать три была белой вороной, которая не знала того, что знают они, мои подруги и подружки, то есть близкие и не очень, вот только все они могли смотреть на меня сверху вниз.
Что приводило меня в полное бешенство, потому что обычно сверху вниз смотрела я.
И мне оставалось одно — как можно скорее лишиться этой дурацкой девственности, вот только надо было решить, с кем.
Если бы у меня была любовь…
Если бы я была влюблена, если бы я томилась и страдала…
Но в последний, да и в первый, наверное, раз я была влюблена в десятом классе, вот только с того дня, когда он попытался вставить мне прямо в подъезде, любовь закончилась.
И мальчики, юноши, мужчины стали лишь предметом игры.
Но девственности надо было лишаться и я принялась внимательно смотреть про сторонам.
И как–то так получилось, что то, что было мне нужно, я нашла очень быстро.
У моей ближайшей на тот момент подруги был младший брат. Подруга была сверстницей, то есть, ей тоже было двадцать три. Но она, в отличие от меня, не была девственницей, она относилась к категории тех, кто делал аборты.
Младший брат был моложе почти на пять лет, ему было восемнадцать с чем–то.
То ли с четвертью, то ли с половиной.
Очень, надо сказать, славный мальчик, может, чересчур смазливый, но очень славный. Особенно, для первого раза.
При этом, он как увидел меня, так одурел.
Хотя надо признаться, что было от чего, если и сейчас, когда мне тридцать шесть, пусть и почти, мужчины порою дуреют, вот только я давно уже прекрасно знаю, чего они стоят.
Даже тот, который хочет меня убить.
А тогда я этого на самом деле не знала, я просто согласилась поехать с подругой на дачу, с подругой, с другом подруги, с другом друга подруги и его, соответственно, подругой. Вот только я была одна.
И для меня пригласили младшего брата.
Скорее всего, именно для того, чтобы он лишил меня девственности, хотя эти детали и не обсуждались.
Просто, чтобы мне не было скучно, подруга пригласила своего брата.
Милого мальчика с большими выразительными глазами и прекрасной фигурой, широкие плечи, мускулы выпирают где надо, такие мальчики любят смотреть на себя в зеркало.
При этом я совершенно не думала о своей девственности, когда мы поехали на дачу.
И когда приехали — тоже не думала.
Я забыла о ней, она меня не волновала.
Мне было хорошо и так, было тепло, было уютно, пели птички и замечательно пахли садовые цветы.
Я ничего не понимаю ни в птичках, ни в цветах, но мне до сих пор все это нравится — как одни поют, а другие пахнут.
Брат подруги вился вокруг меня как это делает какой–нибудь назойливый комар, он развлекал меня, он ухаживал за мной, он томился, его глаза блестели и мне было весело.
И я даже решила позволить ему поцеловать себя.
Нескромным пылким поцелуем.
Довольно влажным — отчего–то помню это до сих пор.
Я стояла на веранде, он прижимал меня к двери и пытался просунуть мне в рот свой язык.
Я временами то позволяла, то нет, милый молодой человек распалялся все больше и норовил залезть рукой мне под блузку.
Я чувствовала, что соски напряглись и хотят, но мне все еще было уютно с моей девственностью и я вовсе не собиралась расставаться с нею.
Хотя и понимала, что атаки будут все мощнее и мне надо будет принимать решение.
Но принимать решение мне не хотелось, мне просто нравилось, что у него такие ласковые, хотя и нетерпеливые руки, и что у него так стильно выпирает между ног.
Он прижимался ко мне, он терся о меня, он шептал на ушко, что сейчас кончит.
Я краснела и смеялась, а потом вывернулась из его объятий и выскочила на улицу.
Он появился вслед за мной, смущенный и тоже покрасневший.
Подруга внимательно посмотрела на брата, потом — на меня, потом опять на брата.
— Он у меня маленький, — сказала она мне, — ты его не порти…
Все засмеялись, больше всех — я.
Хотя если кто кого и собирался испортить, то — он меня, хотя навряд ли он подозревал, что в свои двадцать три я все еще девственница.
И что я пробуду ей еще до завтрашнего дня, потому что, хотя нас и положили вместе в чердачном закутке, ночью ничего не произошло.
Разве что он действительно кончил — мне в руку.
Хотя и просил, чтобы я взяла у него в рот, но я предпочла просто положить руку на его возбужденный член.
Положить руку и отдрочить, хотя слово это тогда произнести вслух я не могла.
Он тоже попытался раздвинуть рукой мне ноги, но я посчитала, что на первый раз с него хватит и моих затвердевших сосков.
И он, спустив мне в ладонь, успокоился, и внезапно заснул, а я лежала рядом, и думала о том, что — может — уже стоит распрощаться со своей пресловутой девственностью.
Позволить себя дефлорировать.
Потерять невинность.
Порвать целку.
А он спал рядом и посапывал, милый, очаровательный мальчик, который так и не добрался до моего сокровища.
Что, между прочим, для них все равное — главное. Цель жизни. Хоть прямо, хоть косвенно, но каждый из них помешан только на одном — сделать так, чтобы это сокровище стало его. И это. И это тоже. Поэтому они так часто смешны и жалки, и поэтому мы так часто проигрываем им: мы становимся зависимы, мы теряем свободу, мы позволяем себя убить…
Я сделаю все, чтобы этого не позволить, я буду бороться за свою жизнь, цепляться за нее, кусаться и царапаться!
А потом я заснула и проснулась, почувствовав, что он опять пристает ко мне.
Но было слишком рано и я хотела спать.
Рассвет только начался и солнце лишь чуточку коснулось не зашторенного чердачного окна.
— Спи, — сказала я ему, и отчего–то добавила: — потом!
И заснула сама, даже не убрав его руку со своей груди.
Между прочим, это была первая ночь в моей жизни, которую я провела рядом с мужчиной.
В одной постели, под одним одеялом.
На узкой дачной койке, под таким же узким шерстяным одеялом, которое постоянно куда–то убегало, падало, разве что не соскальзывало.
Спать из–за этого было неудобно, но я спала и очень крепким сном.
И когда я окончательно проснулась, то обнаружила, что его нет рядом — видимо, он уже рассказывал всем внизу какая я стерва и как я ему не дала.
Или наоборот: хвастался тем, чего не было, и расписывал сестре, какой он крутой любовник.
Мне оставалось одно: спуститься быстренько вниз и добавить к рассказу маленький штришок — описать в красках как он кончал в мою руку.
Но когда я спустилась, то нашла на веранде лишь своего молодого — как его назвать? Еще не любовника, но уже и не просто постороннего. Того, с кем я провела всю ночь рядом. Того, кто долго, а порою и болезненно, терзал мою грудь. Того, кто безуспешно пытался развести мне ноги, но у него с этим так ничего и не получилось. Что называется, я его продинамила.
И он сидел в печали и курил, смотря на веселые садовые цветочки.
А все остальные ушли гулять в лес.
Может быть, за грибами.
Или за ягодами.
В общем, ушли в лес, оставив нас одних.
Я позавтракала, он сидел рядом и смотрел обожающими глазами.
Я опять почувствовала себя сверху.
Я опять могла повелевать им, мне было его жалко.
Он ждал, когда я закончу есть, в его глазах было не только обожание.
Он просто мечтал наброситься на меня опять и доделать то, чего не смог добиться ночью.
И я поняла, что пришло время сдаться, банально говоря, крепость должна пасть, а ее ворота — открыться.
Мои ворота начали мне мешать, вот только я не хотела лишаться девственности прямо здесь, в этом чужом доме.
Пусть я не любила его, пусть он был мне просто приятен, но хоть что–то романтическое во всем этом, но должно было присутствовать.
Чтобы я могла когда–нибудь вспоминать об этом без отвращения.
А то, что будет противно и больно — в этом я не сомневалась, в двадцать три ты уже знаешь так много, что порою тебе кажется, что это происходило именно с тобой.
То есть, девственность я теряла неоднократно и всегда мне было больно и противно, и какая разница, что всегда это было не со мной.
Я позавтракала и попросила у него сигарету.
Он ждал, послушный мальчик, он ждал и смотрел, как я медленно курю, наслаждаясь набирающим силу летним днем.
Он понял, что если чего и добьется, то только по моей воле, впрочем, почти все они со временем понимают это.
Или делают вид, что поняли.
Я докурила и предложила ему пойти в лес.
Мы закрыли дом, он убрал ключ под коврик и мы вышли за калитку.
Лес был сосновым и светлым, воздух был пропитан терпким ароматом настоянной на солнце сосновой хвои.
Прямо от калитки уходила тропинка, скорее всего, что именно по ней и ушли остальные, еще до того, как я проснулась.
Сейчас мы шли следом, вот только абсолютно не стремились их догнать.
Было хорошо, было удивительно хорошо — от этого летнего дня и от этого дурманящего воздуха.
Он шел рядом и что–то говорил, говорил, а я делала вид, что слушаю.
Хотя на самом деле, я не слушала и не думала, я растворилась во всем, что вокруг и чувствовала лишь одно: как я счастлива.
Тропинка вышла на большую поляну, покрытую ромашками.
Мы пересекли ее и подошли к небольшому холмику, поросшему редкими высокими соснами.
И я подумала, что это очень подходящее место.
Залитый солнцем холмик с видом на полную ромашек поляну.
Я села прямо на траву, а потом просто легла на спину. Солнце слепило и я зажмурила глаза.
И тут же ощутила на губах его губы.
Он был нетерпелив, он боялся, что я очнусь и ему все обломается, как и прошедшей ночью.
Он ползал губами по моему лицу, а рукой шерудил под юбкой, стремясь то ли порвать трусы, то ли разорвать, но никак не снять.
Я лежала, все еще не открывая глаз, только легла так, чтобы ему было удобнее.
Он стянул с меня трусы и задрал подол платья. В попу впились колкие травинки и я заерзала.
Тут я почувствовала, как он с силой раздвинул мои ноги и начал пихать между них свой член.
Как оказалось, я была абсолютно не готова к этому.
Мне вдруг стало страшно и я почувствовала, что ему в меня никогда не войти.
И я так и умру девственницей.
То есть, невинной.
Недефлорированной.
Целкой.
Он тыкал и тыкал, но никак не мог попасть туда, куда нужно.
Солнце все так же слепило в лицо и мне совсем не хотелось открывать глаза.
Он лежал на мне и пытался всунуть в меня свою гордость. Но гордость не всовывалась и меня стал разбирать смех, страх прошел, если что и было надо сделать, так это помочь ему.
Я взяла рукой его член и аккуратно вставила себе в дырочку.
И дальше он просто пропихнул его и мне действительно стало больно.
Больно и противно, хотя он уже заполнил меня внутри и начал дергаться на мне, как заводной.
И сразу же кончил.
Кончил и упал рядом, а я открыла глаза и посмотрела. Вначале на себя, потом на него.
Между ног у меня были следы крови, в крови был и он. В моей крови.
Он лишил меня девственности, он выдоил из меня кровь.
И он потянулся ко мне — ему хотелось целоваться.
А мне было больно и целоваться не хотелось, как не хотелось больше его видеть.
Он сделал свое дело и должен был исчезнуть из моей жизни.
По крайней мере, так я думала вечером, уже у себя дома, когда смотрела в одиночестве телевизор.
У меня начиналась новая жизнь, в которой ему больше не было места. Ведь я уже не была белой вороной, как не была и девственницей.
Точнее, я больше не была белой вороной, потому что больше не была девственницей.
Через неделю, после какой–то вечеринки, я позволила проводить себя молодому человеку, с которым познакомилась лишь пару часов назад.
В ту ночь я в первый раз кончила.
С тем молодым человеком мы встречались пару раз, но потом я познакомилась с другим.
Тот был старше меня, на несколько лет. И я обнаружила, какое это удовольствие, когда чувствуешь себя младше.
По крайней мере, тогда в игре «мужчина–женщина» появляются добавочные краски.
Как и в игре «женщина–мужчина».
Вот только, если это игра.
А та ситуация, в которой я оказалась, когда поняла, что он хочет меня убить, не игра.
Это бег на выживание.
Пусть даже сейчас я никуда не бегу, а жду его дома.
Его.
Моего ненаглядного.
Моего обожаемого.
Моего предполагаемого убийцу.
6
Я решила приготовить на ужин курицу и приготовить ее так, как он больше всего любит.
Оказывается, на это у меня было время.
Он позвонил и сказал, что задержится.
И когда я положила трубку, то почувствовала облегчение.
Такое сильное облегчение, что снова заплакала.
Я сидела в кресле рядом с телефоном и плакала.
Рыдала.
Опять выла белугой, хотя никогда не знала и даже не задумывалась о том, кто она такая.
Я плакала от того, что — на самом деле — больше всего боялась сейчас увидеть его.
Услышать, как он звонит в дверь.
И открыть эту дверь.
И увидеть, что он стоит на пороге.
И что–то говорить ему, что такое, что я говорю ему каждый вечер.
Хотя — на самом деле — сегодня я могу сказать совсем другие слова, милый, могу сказать я, дорогой мой, ты знаешь, я приготовила тебе подарочек, он перевернет все нашу жизнь, ты уже никогда не будешь прежним, как никогда не буду прежней и я. Мы станем другими и тебе никогда, никогда не удастся…
Я не договариваю, я забываю слова, которые хотела сказать.
Он позвонил и сказал, что задержится.
И этим дал мне время.
Я могу достать из кармана халата дискету и включить компьютер.
Я могу заняться собой.
Я могу убрать квартиру.
Я могу приготовить ужин.
Я могу просто лечь и смотреть телевизор.
Смотреть телевизор и ждать, когда он позвонит в дверь.
И тогда пойти в прихожую, открыть ее и сказать ему те слова, которые я забыла.
Я могу сделать все это, хотя больше всего я боюсь первого варианта. Дискета тянет карман, я чувствую, что — как бы мне не хотелось — я не должна делать это, лучше всего вообще положить ее на место, в тот самый нижний ящик стола, где она лежала рядом с ножом.
Хотя мне безумно хочется включить компьютер.
Точно так же мне безумно хотелось позвонить ему сразу же, как из коробки с видеокассетой, выпала его визитная карточка.
Неприметная визитная карточка с его номером телефона.
Я смотрела на нее и чувствовала, как у меня влажнеют ладони. Потеют. Становятся мокрыми.
И мне хотелось сразу же снять трубку и набрать этот ряд цифр.
И сказать ему…
Те слова я тоже забыла, я вообще забываю слова, иногда они застревают даже не на кончике языка и не в горле, а где–то ниже, чуть ли не в районе диафрагмы, а когда я вспоминаю их, то они оказываются другими.
Совсем другими.
Я встаю с кресла и тупо иду в сторону ванной.
Если с чего и начать, то проще всего — с себя. Процесс ожидания. Два, а то и три часа. И тогда он придет. Придет и позвонит в дверь. Я как улитка, ползу по квартире, ноги ватные, но это не от коньяка, это от жизни, это от того, что я нашла в нижнем ящике его стола и от того, что давно — как хитрый и жилистый червь — живет во мне.
Ощущение того, что он хочет меня убить.
Я доползаю до ванны и вползаю в открытую дверь.
Включаю кран с горячей водой, смотрю, как над ванной поднимается пар.
Если что сейчас и надо мне сделать, так это быстро и решительно сбросить с себя халат, так же быстро и решительно принять душ, а потом начать готовиться к его приходу.
Но решительности давно нет, она была утром, когда я пошла к Седому, а сейчас я тюхтя, улитка, черепаха, даже не кусок мяса с дыркой между ног, а слизень, боящийся всего на свете.
Точно такой же я была, когда смотрела на его визитную карточку.
Я хотела позвонить и не делала этого.
Я не делала этого день, не делала этого два дня.
И на третий день я не решилась.
Я жила как в тумане, я хотела позвонить и не звонила.
Я не звонила так долго, что уже стала забывать то ощущение, что пришло, когда он развел меня широко–широко и я почувствовала: сейчас что–то случится.
И то ощущение, когда у меня внутри все горело, холодная вода лилась на голову, а он методично обрабатывал меня сзади и хотелось кричать.
Кричать, петь, выть, царапаться, вилять задницей от восторга как собака виляет хвостом.
И даже то ощущение, когда я начала дрожать, какая–то пружина сорвалась с места и стала разматываться там, внутри. От самого низа и до верха.
И лишь когда я поняла, что забываю, я решила набрать его номер.
Я сбрасываю халат, снимаю лифчик и трусики, отчего–то брезгливо смотрю на них, а потом бросаю в контейнер для грязного белья.
Поворачиваюсь к зеркалу и начинаю пристально изучать себя.
Белый верх, черный низ.
Крашенная блондинка с давно не стриженным черным лобком.
Я намылила промежность, взяла бритву и безжалостно стала уничтожать свои заросли.
Пусть останется только белый верх, а низ будет бритым.
По крайней мере, ему это должно понравиться.
А если и не понравится, то мне уже все равно. Почти все равно.
Когда я позвонила ему, то вначале долго никто не брал трубку.
Почему–то так бывает всегда, когда это для тебя очень важно: ты готовишься, ты собираешься с духом, ты ныряешь с головой в омут, а там длинные гудки.
Я положила трубку и подумала, что — может быть — это и к лучшему.
Бритый лобок горит и зудит, но это пройдет, надо принять душ и смазать себя кремом.
Баночки стоят на полке, полка влево от зеркала.
Это — моя полка, его полка — вправо от зеркала.
Там тоже стоят баночки, но их меньше.
Я сполоснула бритву и подумала, что надо побрить и подмышками.
Как под левой, так и под правой.
Только белый верх, один белый верх.
У меня короткая стрижка, хотя когда–то я носила длинные волосы.
По крайней мере, в тот день, когда начала звонить ему.
Я звонила и звонила, а волосы рассыпались по плечам.
Не жгуче–черные и не темно–каштановые. Что–то среднее, странный такой оттенок, почти брюнетка.
Я залажу в ванну и переключаю смеситель на душ.
Горячая вода — спасение человечества.
Когда ее нет, то жить не хочется.
Но сейчас она есть и я опять яростно мылю себя между ног. И подмышками. И намыливаю груди, свои крепкие, но средних размеров груди.
Груди не рожавшей женщины.
Почему–то не рожавшей, как бы мне этого не хотелось.
Хотелось, да не получилось.
И не получается.
Вначале я намыливаю одну грудь, потом — другую.
Когда он взял трубку, то я растерялась.
Я готовила слова и я их забывала, а потом вспоминала и готовила снова.
Но когда он взял трубку, то я онемела.
— Ну, — сказал он в телефон, — кто это?
Этот кто–то молчал.
— Говорите, — повторил он, — чего вам надо?
Мне многое было надо, но я не могла ничего сказать.
— Я вешаю трубку, — сказал он.
— Не вешай, — выдавила из себя я, — это я.
— Кто — я? — удивился он.
— Я, — мой голос вдруг запнулся и начал исчезать.
Я стою намыленная в ванне и поливаю себя из душа. Мыло смывается вместе с грязью и потом, как бы мы не старались, но мы почти всегда грязные.
Я чувствую, как кожа начинает дышать.
Я смотрю на свои соски и они мне нравятся.
Как нравится и чисто выбритое местечко между ног.
Хотя вот так, наголо, я еще никогда не брилась, всегда оставляла хоть немного, у самой щелки, черный нимб возле дырочки.
Но сейчас там все голо, как у младенца.
Как у маленькой невинной девочки.
Которой я давно не являюсь.
Я беру шампунь и начинаю мыть голову.
— Кто это я? — опять спрашивает он.
Слова вдруг опять множатся и плодятся, плодятся и множатся. У меня в горле, быстро доскальзывая до кончика языка.
Я объясняю ему, кто я такая. Уже не помню как. Отчетливо помню одно: я не стала говорить, что я — это та самая, которую он выебал в ванной комнате квартиры ее собственного брата. Которую он поимел. Оттрахал.
Я выключаю душ и вылажу из ванны.
Беру полотенце и вытираюсь насухо, а потом подбираю нужный крем.
Открываю баночку и начинаю мазать лобок. Чтобы он не жег и не саднил, чтобы кожа была мягкой, пусть и бритой. Самое неприятное будет дня через два, когда волосы начнут отрастать и появится щетина. Такая же, как бывает у него, когда он не бреется несколько дней. Жесткая и колючая. У меня она тоже появится, но между ног.
Я беру другой крем и начинаю мазать лицо, втирать его в щеки и лоб, в шею и снова в щеки. А потом беру третью баночку и намазываю грудь и живот. Я хочу быть красивой сегодня, хочу, чтобы в тот момент, когда он увидит меня, он потерял бдительность.
И чтобы я смогла сделать то, что мне надо сделать.
Сюрприз от Седого.
Второй сюрприз.
Первый уже во мне.
Я его даже не чувствую, будто так и родилась.
А тогда, когда я позвонила ему, я не чувствовала себя такой красивой. Более того, я чувствовала себя последней дрянью. Если не блядью.
Потому что у меня уже был мужчина и мы жили вместе. Он — со мной, я — с ним.
Вот только когда я звонила, его не было дома, хотя на самом деле я ничего этого уже не помню.
Я вообще его не помню, все это было не со мной.
Какой–то мужчина, с которым я жила и которого в этот момент не было дома.
Хотя у него тоже было тело и он даже умел разговаривать.
И мы пару раз вместе ездили в отпуск.
И он даже предлагал мне выйти за него замуж.
Но я этого ничего не помню, как не помнила в тот момент, когда говорила по телефону.
С ним. С тем, кого я сейчас жду.
Для кого я так тщательно выбрила свои лобок и подмышки и кто хочет меня убить.
Я опять влезла в халат, но знала, что это ненадолго.
Я переоденусь.
Может, я даже надену то черное маленькое платьице с коротким рукавом, которое висит слева в нашем платяном шкафу.
Но сначала я должна приготовить ужин.
К примеру, курицу, и приготовить ее так, как он больше всего любит.
Запечь в пергаменте, нашпигованную чесноком и натертую черным перцем и солью.
Она запекается в собственном соусе. Курица под собственным соусом.
Хотя для себя я бы сделала по другому.
То есть, если бы хотела доставить удовольствие не ему, а себе.
Вот только давно я этого не делала, может быть, что и никогда.
А для себя я бы сделала ее с чем–нибудь экзотическим, с какими–нибудь фруктами. Хотя бы ананасами. Или киви. Или этими… Как их там… Рамбутанами.
Курица под соусом из рамбутанов. Смешно.
Под ананасами я готовила, пару раз. Но ему не понравилось — как–то очень тонко все это, сказал он, не для меня…
Для него — в пергаменте, нашпигованная чесноком.
Чего я никак не могу понять до сих пор — так почему все это произошло.
Ведь он тоже был не один, тогда, когда пришел в гости к моему брату…
У меня был брат…
У меня есть брат…
Он пришел с женщиной, это я была одна, потому что мой мужчина отсутствовал.
Если у тебя есть мужчина, то отсутствовать он не должен, в его отсутствие всегда что–то может произойти.
Как бы ты не старалась этому помешать.
Я до сих пор не могу этого понять, сколько раз я не спрашивала его о том, почему тогда он вошел вслед за мной в ванную, он всегда отвечал очень просто: — Не знаю.
И потом добавлял: — Мне так захотелось.
И смотрел на меня, улыбаясь.
И я чувствовала, как внутри меня что–то начинает дрожать.
Как в тот самый день, когда мы опять встретились.
Уже после телефонного звонка.
Я иду на кухню, достаю из морозилки курицу и бросаю в микроволновку.
Размораживаться.
Замороженную курицу из морозилки бросаю в микроволновку размораживаться.
Очень много дурацких слов.
Иногда мне кажется, что в ванную он зашел по той же причине — разморозить меня, убить во мне ту женщину, которой всегда казалось, что она — сверху.
И которая этим самым пугала мужчин.
Он посмотрел на меня и не испугался. Он решил убить во мне одну женщину и этим самым породить на свет другую. Вот только зачем? Неужели лишь для того, чтобы спустя восемь лет убить и ее?
Микроволновка гудит, я достаю чеснок и начинаю его чистить. После чеснока всегда приходится отмывать руки и мазать их кремом. И после любой готовки — тоже.
Дискета все еще лежит в кармане халата. У меня почти два часа в запасе, хотя может, что и меньше. Не два, а полтора. Я закину курицу в духовку и решу, что мне с ней делать.
Не с курицей, с дискетой.
Включать компьютер, или не включать.
Когда я увидела его второй раз в своей жизни, то он тоже сидел за компьютером.
В своем офисе.
Именно в нем он назначил мне свидание.
— Зайдешь за мной, — сказал он, — и мы куда–нибудь поедем.
Я не почувствовала в этом никакого унижения. Он и так уже унизил меня, растоптал, выебал.
И мне ничего не оставалось, как подчиниться, иначе просто не стоило ему звонить.
А я позвонила, и потому пошла туда, куда он приказал.
Хотя голос был не командным, а мягким и даже нежным.
Нежный приказ. Зайди за мной и мы куда–нибудь поедем.
Микроволновка звякнула, сигнал, что курица разморозилась. Белые очищенные дольки чеснока, перец, соль — все под рукой.
Я вымыла размороженную курицу и вытерла полотенцем.
И положила на доску.
Голая распластанная курица неприлично раскинулась на доске.
Готовая к шпигованию.
Я смотрела на нее и чувствовала, как краснею. Временами я тоже похожа на такую курицу и он это хорошо знает.
Вот только — на живую.
Пока еще живую, но это ненадолго.
Если, конечно, мне не удастся сделать то, что я задумала.
Я села в лифт и нажала нужную кнопку.
Офис у него как был тогда, так и сейчас все еще на шестом этаже.
У меня дрожали коленки и мне было жарко.
На улице тоже было жарко — какая–то непонятно жаркая весна, может, в этом и было все дело.
В весне.
Но мне действительно было жарко и когда я вышла из лифта, то почувствовала, что вся обливаюсь потом.
Шесть долек чеснока, по одной — под ножки, по одной — под крылышки. И две в спину.
И тщательно натереть солью и перцем.
И завернуть в пергамент.
А пергамент обвязать нитками.
И включить духовку, и дать ей нагреться.
Я открыла дверь, он сидел спиной ко мне за компьютером.
Был седьмой час вечера и он был один.
— Заходи, — сказал он, даже не поворачиваясь.
Я зашла и встала посреди комнаты.
— Садись — сказал он, все также не отрываясь от монитора. — Я сейчас…
Я села в первое попавшееся кресло и почувствовала себя последней дурой. Меня опять ставили раком, мне опять делали больно. Ты пришла, но тебя нет, я занят. Ты подожди, я сейчас, как тогда в ванной, когда он даже не спросил, хочу я или нет. Он просто сделал, что хотел. А я стерпела.
Как терпела и тогда, когда села в кресло.
А он сидел за компьютером и не обращал на меня никакого внимания. Я могла упасть, могла улететь. Могла просто умереть в этом кресле, но он бы все равно не заметил. Он приказал мне придти и я пришла, приползла, прибежала.
Сучка, явившаяся по вызову.
Сейчас он кончит и мы что–нибудь начнем.
Курица начинает запекаться в духовке, а я, убрав весь кухонный срач, иду отмывать руки.
И мазать их кремом.
Чтобы они были мягкими и нежными, чтобы ему было приятно, когда он — хорошо покушав и выпив рюмочку, а то и две виски — будет лежать и принимать мои ласки.
А я буду ласкать его, ублажать, нежить, ожидая того момента, когда он совсем растает и я смогу сделать то, что должна.
Кубик Седого.
Я возьму его и приложу к груди. Его груди.
И вот тогда–то, пусть не сразу, пусть через день, неделю, месяц, но вот тогда–то я и узнаю, отчего он хочет меня убить.
7
Хотя сейчас мне кажется, что это было осенью.
Наше свидание.
То, второе, после ванной.
Мне так кажется потому, что когда он встал из–за компьютера, то надел куртку.
Вроде бы, кожаную куртку, а значит, на улице было не жарко.
И значит, что на мне тоже было что–то надето еще, к примеру, плащ.
А не только платье или юбка и блузка.
Вот только я ничего этого не помню.
И про осень на самом деле тоже не помню.
Сейчас я помню только одно — он хочет меня убить.
А осень или весна — это не важно. Важно другое: почему все это случилось.
Началось в один прекрасный момент и сейчас…
Я не знаю, идет это к концу или нет, и что тут может подразумеваться под этим словом. Моя физическая смерть? Отчего–то я действительно убеждена, что он хочет меня убить, вот только это не значит, что так оно и будет. Но что–то все равно должно произойти, это я чувствую всей своей кожей, желудком, придатками.
Даже придатками я чувствую это.
Хотя когда это начиналось, я чувствовала совсем другое.
Сильный, будоражащий запах.
Как сейчас, от курицы, запекающейся в духовке.
Мы шли по улице и от него пахло.
И этот запах притягивал меня, заставлял сердце…
Нет, не волноваться, не убыстрять пульс.
И не скакать в груди взбесившимся кроликом.
И не ухать какой–нибудь отчаянной ночной птицей.
Я просто чувствовала, как оно растет, становится все больше и больше, тяжелее и тяжелее.
Наверное, я сумасшедшая, раз до сих пор помню это ощущение — как сердце увеличивается в размерах, заполняет собой всю грудную клетку и мне становится трудно дышать.
Пусть даже вечерний воздух был свежим и теплым, и это говорит за то, что все же была весна.
И я была в платье, предположим, что я была в одном только платье.
А если он и надел куртку, то это ничего не значит, может, это мне просто так помнится, что он был в куртке и шел по улице, а я тащилась рядом и вбирала в себя его запах.
У меня кружилась голова, я боялась, что упаду в обморок прямо на ходу. Шмякнусь на асфальт, обдеру себе в кровь руки и ноги.
Наверное, все дело в том, что хоть раз в жизни, но каждая из нас мечтает испытать это ощущение. Когда жизнь резко меняется и ты чувствуешь этот запах. И идешь за ним, идешь рядом с ним. И не думаешь о том, что будет дальше. Просто идешь. Это называется «потерять голову», но на самом деле все гораздо сложнее. Голову потерять невозможно, возможно другое — почувствовать, что это тот твой шанс, упустить который нельзя. Не в рациональном плане, не в плане устройства судьбы. В плане эмоциональном, хотя и это не те слова…
Видимо, я просто боюсь назвать это по–настоящему.
Какой бы откровенной я не казалась, я все равно боюсь сказать правду.
Я брожу вокруг да около, я подбираюсь к тому дню на цыпочках.
Я боюсь того дня, потому что он сделал меня совсем другой.
Сейчас я понимаю это гораздо лучше, сейчас, когда под левой моей грудью — кубик Седого.
А тогда, восемь лет назад, я даже не предполагала, что существует такой человек, Седой, и что в один странный день я с утра пойду к нему и робко открою дверь под вывеской «Ремонт человеков».
Восемь лет назад я шла по улице и хотела только одного: чтобы этот запах всегда присутствовал в моей жизни. Чтобы мне позволили вдыхать его, пить его, есть его, лизать его, купаться в нем. Чтобы этот запах стал всем, что вокруг меня.
И я совершенно точно знала одно: это не была любовь. По крайней мере, в привычном значении этого слова.
Хотя бы потому, что дома был мужчина, которому я уже больше года говорила эти слова.
— Ты меня любишь? — спрашивал он.
— Любишь, — отвечала я и закрывала глаза.
Мне отчего–то было приятней лежать рядом с ним с закрытыми глазами. Тогда я могла представить себе, что на его месте кто–то другой, не сосед, конечно, по лестничной площадке, и не очередной накаченный баран с киноэкрана, но кто–то другой. Совсем другой, тот, который сделает со мной все, что захочет.
И я не буду сопротивляться, я не буду притворяться ничего не понимающей дурой.
Я буду лежать под ним и кричать: — Еби меня, еби… И добавлять: — Сука! Сука!
Вот что я боюсь произнести вслух, как боятся произнести это почти все.
Потому что если любовь и есть, то она почти всегда лишена страсти. Той бешенной, похотливой страсти, которая просыпается иногда под утро, когда в спертом, заспанном воздухе ты вдруг чувствуешь невыносимую боль внизу живота. Боль и резь. Боль, резь и тяжесть.
Конечно, это позыв, чтобы сходить в туалет. Ты выбираешься из кровати и на сонных ногах, покачиваясь, с полузакрытыми глазами, идешь в это замечательное место, делаешь свои дела и так же возвращаешься обратно — на сонных ногах, покачиваясь, с полузакрытыми глазами.
И опять забираешься по одеяло, чувствуя рядом чей–то теплый бок.
И тогда сон слетает, будто его и не было.
Будто всю ночь бессонница.
Ты лежишь и таращишься в потолок, но потолка не видно — еще ночь и рассвет наступит не скоро.
Ты поворачиваешься на бок, обнимаешь руками подушку, зарываешься в нее, пытаешься вновь уснуть, но ничего не получается: сон исчез, будто его уничтожили, извели, убили — точно так же, как он это собирается проделать со мной.
И ты переворачиваешься на другой бок, прижимаешься к тому теплому, что лежит рядом, хотя прекрасно понимаешь, что нужно сейчас тебе совсем не это.
Не это тепло, не это тело.
Ты хочешь гладить не эту кожу, потому что эта тебе знакома как собственный дом.
Кухня, прихожая, ванная.
Гостиная, спальня.
Варианты возможны, варианты всегда есть, но это только варианты.
Основной же набор — один и тот же.
И ты лежишь и корчишься, стараясь не закричать. Конечно, можно разбудить это теплое, спящее рядом тело, можно приласкать его и возбудить, можно, в конце концов, и самой получить от этого тела удовлетворение, но все это будет не то.
Потому что хочется совсем другого: почувствовать себя не просто единственной, а на самом деле быть такой.
Одна женщина на земле и больше никого.
Кроме, естественно, того, чей запах доводит тебя до этого безумия.
Это абсолютно не отменяет желания заслать их всех в гетто или в резервацию.
Это просто другое желание, как есть день и есть ночь.
И тогда, если ты не будишь своего соседа по постели, то ты просто раздвигаешь ноги и начинаешь ласкать себя сама, закрывая глаза и представляя, что это делает с тобой кто–то другой.
Вот только не тот, кто рядом.
Тот — партнер по жизни, твоя официальная любовь. Может быть, что и муж.
Ты даже можешь от него забеременеть и родить ребенка. Но не ему, себе.
Я не родила тогда, я никак не могу родить и сейчас.
Кто–то скажет, что это главная причина, отчего я схожу с ума, что же, каждый волен судить, как хочет, но я знаю, что причина не в этом.
Причина в том, что когда жизнь становится обыденной и банальной, тебе хочется ее взорвать.
Сделать другой, изменить, сойти с ума, почувствовать этот запах.
Мы шли по улице и он почти не разговаривал со мной.
Он просто время от времени ронял какие–то слова, я нагибалась к асфальту, поднимала их, пристально рассматривала и складывала в сумочку.
На память: вдруг это не повторится.
Никогда.
— Хочешь кофе?
Эти два слова я выделила особо, достала даже носовой платок и протерла, чтобы они блестели.
— Так ты хочешь кофе?
— Хочу! — выдавила я из себя, понимая, что кажусь ему полной дурой.
Мы свернули в какую–то кафушку, в ней было людно и накурено. И кофе — судя по всему — здесь должен был быть отвратительным.
В таких кафушках кофе не может быть не то, что хорошим, но даже пристойным. Или неплохим. Или удобоваримым.
В таких кафушках подают исключительно пойло.
Он не хотел поить меня пойлом, он хотел угостить меня настоящим кофе. Несмотря на то, что был уже вечер, а значит, я могла получить вместе с кофе бессонницу. И все из нее вытекающее.
— Я сегодня один, — сказал он, — можем выпить кофе у меня.
Слова даже не нуждались в том, чтобы протирать их платком. Предложение было явным и наглым. И я согласилась.
Он подошел к кромке тротуара и поднял руку.
Я стояла за его спиной и смотрела на дорогу.
Я ни знала о нем ничего, кроме того, как его зовут.
И его номера телефона.
И того, где расположен офис, в котором стоит компьютер, за которым он сидел, когда я вошла.
И еще я знала, каким он может быть сильным и грубым, и как я могу кричать, когда он входит в меня.
Хотя тогда, в ванной, я не кричала, но я хотела кричать, а значит, что и могла.
Первая машина не остановилась, не остановилась и вторая.
Третья появилась сразу за второй и притормозила.
Он что–то сказал водителю, открыл заднюю дверцу и я села.
Сам он сел на переднее сиденье.
И даже редкие слова перестали падать.
Он молчал, машина ехала по вечерней улице, я смотрела в окно.
Самое странное, что запах стал еще сильнее.
Я чувствовала, что у меня больше нет воли, что я просто какой–то предмет, который везут.
Якобы пить кофе.
Или на самом деле пить кофе.
Просто ему захотелось выпить кофе и он прихватил меня с собой.
И я согласилась, вот только не спрашивайте меня, почему.
Ясно и так: за меня все решили и мне это стало приятно.
Мне стало приятно, что я могу не ломать голову над тем, соглашаться мне или нет, мне сказали: — поехали пить кофе!
И я поехала.
Машина остановилась, он расплатился, мы вышли.
Это точно была весна, потому что было тепло. А значит, что я была в одном платье.
Мы вошли в подъезд, он вызвал лифт.
На бетонный и грязный пол подъезда упало слово: — Приехали!
Дверь лифта открылась, он пропустил меня вперед. Помню каждое мгновение, будто это случилось сегодня утром. То есть, когда одна часть меня была у Седого, вторая все еще ехала с ним в лифте. Восемь лет назад.
Лифт остановился.
Он вышел вперед и пошел к дальней на площадке двери.
Я тащилась за ним, ноги отчего–то начали подгибаться.
— Заходи! — сказал он, открывая дверь.
Я вошла и осмотрелась. Напротив висело зеркало и я сразу уставилась на себя.
Я была бледной и глаза нездорово блестели.
— Хочешь сигарету? — спросил он.
И добавил: — Так я иду варить кофе?
Я кивнула головой. Два раза. Два кивка. Мне было не по себе. Я вдруг поняла, что боюсь. Не его, просто боюсь. По крайней мере того, что входная дверь откроется и кто–нибудь войдет. К примеру, та женщина, с которой он был в гостях у моего брата. В тот самый день, когда…
— Подожди меня в комнате, — сказал он, предлагая мне пройти.
В комнате между двумя книжными шкафами стояло кресло. Уютное большое кресло, которое обещало мне какое–то подобие укрытия.
И я забралась в него с ногами, чувствуя, как по груди текут струйки пота.
Мне хотелось в душ, хотелось смыть с себя этот страх.
Рядом со шкафами стоял письменный стол и еще одно кресло. Напротив была тахта. И еще напротив — телевизор.
— Музыку включить? — спросил он из кухни.
— Нет, — отчетливо проговорила я и не узнала своего голоса. Мне было двадцать восемь и я никогда еще не оказывалась в таком дурацком положении. Но я сама напросилась. За мной закрыли дверь, меня поймали и заперли на ключ. Я могла сидеть дома и быть в полной безопасности с тем мужчиной, что ждал меня дома. Вот только нужна ли мне была та безопасность?
Он вошел в комнату, в руках у него был поднос с двумя чашечками кофе.
— Я тебя забыл спросить, — сказал он, — ты пьешь с сахаром или без?
Столько слов одновременно еще не падало, я смотрела, как они посверкивают и поблескивают на ковре.
— С сахаром, — тихо ответила я и взяла чашечку в руку.
И вдруг успокоилась. Сейчас я допью кофе, скажу «спасибо» и пойду домой.
Это лучшее, что я могу сделать.
Выпить кофе, сказать «спасибо» и пойти домой.
И думать по дороге о том, какая я дура.
Унюхала запах и пошла, а запах оказался обманчивым. Ложный запах, который ни к чему не привел.
Я закрыла глаза и отчего–то начала считать про себя. Один, два, три, четыре, пять…
На «пять» я сделала первый глоток, кофе был вкусным, я решила сделать еще глоток и потом уже определить, что может входить в это понятие — «вкусный кофе» — и отчего–то открыла глаза.
Он сидел рядом, почти соприкасаясь со мной коленями и пристально смотрел на меня.
И я почувствовала, что сейчас невольно разожму пальцы и чашечка упадет на ковер. И если не разобьется, то кофе все равно выльется и будет пятно. И его надо будет замывать, и мне придется ползать по этому ковру с мокрой тряпкой в руках.
— Поставь, — сказал он.
Дрожащей рукой я поставила чашку на стол.
Он вдруг улыбнулся и взял мою руку в свою.
А затем встал и второй расстегнул молнию у себя на джинсах.
Оттянул резинку плавок и я увидела то, что еще не видела.
Что только чувствовала в себе тогда, в ванной.
Он у него был красивым, с открытой головкой. И это мне понравилось больше всего.
Я облизала губы, а потом осторожно взяла его в рот.
Он придерживал мою голову той же рукой, которой до этого расстегнул джинсы.
Головка была соленой и вкусной, и я продолжала ее облизывать.
— Глотни кофе, — вдруг сказал он каким–то странным голосом.
Я послушно отстранилась от него и пригубила кофе. А потом опять взяла его в рот.
Мне до сих пор абсолютно не стыдно вспоминать все это. Как я сидела с ногами в его кресле, пила его кофе и сосала его…
Вот только сейчас я это слово не могу выговорить.
Но я сосала его, я сглотнула кофе и втянула его в себя еще глубже.
Его рука надавила мне на затылок сильнее, я почувствовала, что он залазит мне в горло и я могу задохнуться.
Он понял этот и нажим ослаб.
Мне отчего–то безумно нравилось ласкать его именно так, как я это делала — то посасывая, то просто полизывая язычком.
Горьковато–сладкий вкус кофе во рту смешался со вкусом его солоноватой плоти.
Я уже была мокрая, плавки можно было выжимать.
И я до сих пор не стыжусь этого, как не стыжусь и того, что было дальше.
Он напрягся, я приоткрыла рот шире, а потом сомкнула губы на головке и еще раз вобрала ее в себя.
И тут он начал спускать, а я глотала его сперму, она была горькой, как кофе без сахара, но мне хотелось еще и еще.
Ноги затекли, я так и сидела все это время — в кресле, забравшись в него с ногами.
Он стоял передо мной с закрытыми глазами, а я все еще держала в руках то, что увидела впервые.
Его член, который только что кончил мне в рот.
С еще не до конца слизанными мною капельками спермы на головке.
И тогда я аккуратно, самым кончиком языка, слизнула их и он, зашатавшись, упал на ковер.
Лег, распластался, почти что умер.
А потом открыл глаза и сказал: — Ты потрясающа! Ты — лучшая!
Наверное, чтобы услышать это, я и поехала с ним пить кофе. И если что я и не собиралась говорить ему, так это то, что делала минет чуть ли не впервые в жизни. То есть, не держала во рту, а ласкала, лизала, сосала.
Потому, что он у него действительно был красивым.
И кофе был вкусным.
И мне этого хотелось.
Как сейчас хочется проверить, готова ли курица, а потом посмотреть на часы.
Курице сидеть в духовке еще с полчаса, а значит, я могу, наконец–то, сделать еще одну вещь.
Включить компьютер и вставить в него дискету.
Ту самую дискету, что я нашла в нижнем ящике его стола, рядом с остро отточенным ножом, которым, судя по всему, он и собирается меня убить.
8
Нежность моя не знает границ. Счастье бабочки, порхающей над цветком. Не в прошлом времени, в настоящем. Если чего я и хочу сейчас, так это забыть и про дискету, и про нож, и про кубик Седого. Тот самый, что пульсирует где–то в глубине моего тела, под левой грудью. На груди есть родинка, он как–то мне сказал, что если бы ее не было, то ее надо было бы придумать. Вырастить. Нарисовать. Вытутаировать. Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Про нож и дискету забыть не удается, а про кубик и подавно. Что, интересно, сейчас делает Седой, вспоминает ли он меня, а если вспоминает, то о чем? О моей дурацкой просьбе и признании в том, что муж хочет меня убить? Или лишь то, что я осталась ему еще должна, сколько–то денег, столько–то денег, денег не хватило в той пачке, что была в сумочке, но Седой был благороден, он сказал, что подождет, когда я смогу рассчитаться. С кухни пахнет курицей, и мне больше не хочется плакать. Ведь действительно: нежность моя не знает границ… Не знает или не знала? В прошедшем времени или в настоящем? Так в прошедшем или в прошлом? Забыть не удается ни про что, ни про дискету, ни про нож, ни про то, что когда–то было… — Ты хочешь остаться? — спросил он, когда я вытерла рот его носовым платком. Чистым и отглаженным носовым платком, с темной каймой, хотя все это могло быть и не так. Порою мне кажется, что все это просто — мои глюки. Странные тараканы, поселившиеся в мозгу, разве все это действительно может быть? Я ненавижу тараканов нормальной женской ненавистью, когда хоть один попадается на моем пути, то мне хочется растерзать его, уничтожить, размазать — пусть по стенке, пусть по полу. И лишь то, что я — нет, не боюсь, мне противно не то, что дотронуться, а смотреть на это ползущее создание! — так вот, лишь эта моя брезгливость мешает мне запустить в него тапком. Тапочком. Туфлей. Тем, что на ноге. На ногах. И он уползает, затаивается где–нибудь в углу, а потом, ночью, проникает в мозг. И там они множатся, плодятся, глюки, тараканы, неподдельные страхи на ножках и с усами… Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… — Нет, — ответила я, — смотря на него и желая лишь одного, остаться и больше никогда не покидать этот дом, любой дом, где он был бы рядом со мной, — я не могу, меня ждут… — Это «ждут» упало на ковер, куда совсем недавно он выронил несколько других слов, те уже исчезли, растаяли, а это «ждут» маячило на полу и маячило. — Тебя проводить? — спросил он. — Нет, — упрямо произнесла я еще одно «нет», — я сама… — Ты поедешь на машине? — никак не мог остановиться он. — Не знаю — сказала я. «Нет», «не знаю», глюки и тараканы бродят в моей голове, надо идти на кухню и доставать курицу из духовки, и еще дискета, она все еще в кармане халата, что она там делает, зачем я ее туда положила? Чтобы посмотреть? Прочитать? Обнюхать и расследовать? Я встала и попросила показать, где я могу умыться и почистить зубы. Я не могла же сказать просто: мне надо прополоскать рот, он до сих пор полон тобой, я чувствую твои капельки, твои миллиграммы, твои миллилитры на внутренней полости рта, ты был замечательной бормашиной, но сейчас мне надо произвести дезинфекцию. И ты отнесся к этому как к должному, будто это так привычно — показывать малознакомой женщине свою ванную. Опять ванная, лейтмотив, связующее звено, твоя ванная, моя ванная, моя кухня, вот эта, та самая, на которой сейчас готовится курица в пергаменте, курица в пергаменте и духовке, на твоей кухне ты был без меня, тогда, когда варил кофе… У меня такое ощущение, что я постоянно подглядываю, еще до того, как имплантировала в тебя кубик Седого, тогда станет понятно, тогда я начну подглядывать за тобой… Счастье бабочки, порхающей над цветком… Но тогда за чем я подглядываю сейчас? Не за курицей же, за ней я присматриваю, совсем чуть–чуть и придет пора доставать из духовки… Я подглядываю за собой, я пытаюсь увидеть себя, ту себя, которая еще не задумывалась о том, что придет момент, когда он захочет меня убить… Ты захочешь меня убить… — Вот ванна, — сказал ты. Я отбросила слова ногой куда–то под плинтус и вошла в ванную. У меня кружилась голова. Не знаю, что на меня нашло, если это и было таким мгновенным всплеском желания, против которого я не смогла устоять, то почему сейчас у меня кружится голова и мне хочется исчезнуть? Это не стыд, это что–то другое… — Вот ванна, — сказал он. Я закрыла за собой дверь и осмотрелась. Направо — вешалка с полотенцами и с женским халатом, его подруга чуть выше меня, это я помню… Я не хочу примеривать этот халат, даже мысленно, и потом — он мне просто не нравится, белый халат в каких–то аляповатых дурацких цветах, она ходит по дому как розарий, как клумба, клумба ходит по дому, а он срывает с нее цветы… Полочка с зубными щетками, меня подмывает взять ее щетку, это явно та, что светлее, почему–то мужская щетка всегда темная, а женская — светлая, я могу взять ее зубную щетку, но не делаю этого. Точно также, как не надеваю ее халат: я брезгаю. Это как таракан ползущий по стенке, чужая зубная щетка в твоем рту… Интересно, а она чистит зубы после того, как он кончает ей в рот? Отчего–то мне кажется, что я ревную, мне хочется взять эту щетку и разломать на мелкие кусочки, но нельзя, нельзя, мне ничего здесь нельзя, тень, зашедшая прополоскать рот… Я беру тюбик зубной пасты и выдавливаю немного на палец. Потом пристально смотрю на этого толстого белого червячка и открываю воду. Вода плещется о раковину, опять ванна, все дело в ванне, это какое–то безумие, думаю я, стирая пальцем и пастой его следы изо рта. Рот становится мятным, в уголках губ пощипывает. Я снова смотрю на полочку и разглядываю баночки. Ее баночки. Я полная дура, что согласилась сюда войти, я полная дура, что спросила, где можно почистить зубы. Будто сама не знаю, где… Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Я подглядываю сейчас не за собой, я подглядываю за ней, я смотрю на ее баночки и представляю, как она принимает вечером ванну, вот из этой она насыпает соль, а вот в этой — гель, которым она моется, а потом, когда выходит и вытирается вот этим полотенцем, то натирается уже из этой баночки, бело–розового цвета. Какая я, все таки, дура, что вошла сюда и смотрю сейчас на все это. Какая я дура, что вообще согласилась на это безумие: выпить чашечку кофе. Будто маленькая девочка, которая не знает, чем все кончится. Кончится тем. что он кончит. И не все ли равно, куда — в рот, или между ног. И тут я чувствую, что опять его хочу, уже не в рот, а… Да, именно, только сюда, но для этого надо остаться. И он предлагал, он сам спросил: — Ты хочешь остаться? — И я сказала «нет». Да, меня ждут, курицу уже пора вытаскивать, я выключаю плиту, открываю духовку и достаю противень. От курицы пахнет, от курицы идет дух, курица испускает аромат. Я выхожу из ванной, ущипнув рукав ее халата так, чтобы на ее коже остался кровоподтек. — Я пошла, — говорю я. — Ты пошла? — спрашивает он. — Я пошла! — говорю я. — Ты пошла? — спрашивает он. Я смотрю в пол и вожу носком туфли по полу. Пол в шашечках. Паркет, светлая шашечка, темная шашечка. Сейчас он скажет, что я его запачкаю, что от носка туфли на нем останутся полосы. Он ничего не говорит, он смотрит на меня и у него дрожат руки, я это хорошо вижу, они у него волосатые, волосы темные, длинные, курчавые. И мягкие. А — руки смуглые. И сильные. Когда он нажимал мне на затылок, то я это почувствовала. А сейчас они дрожат. И нежность моя не знает границ, больше всего на свете я хочу остаться, но я не могу, я не должна, и дело не в том, что вдруг она придет, или меня потеряют дома. Я хочу остаться, но я не должна оставаться, тараканы опять забродили по голове, они кружат внутри нее и кружат, тараканы и глюки, курица в пергаменте, пергамент обвязан ниткой, надо взять ножницы и ее перерезать, я еще раз говорю: — Я пошла! — Он не отвечает, он смотрит на меня и я чувствую, что ноги совсем ослабли. Кто–то должен что–то сказать, кто–то должен что–то сделать. Он ждет, чтобы это сделала я, я жду, чтобы это сделал он. Я поднимаю глаза и смотрю на него, так же пристально, так же въедливо, так же беспощадно. И он сдается, он обнимает меня, я закрываю глаза и открываю рот. Он целует меня, влажно и больно, он сжимает меня так, что кажется — секунда, и я хрустну. Я опять вся теку, единственное, чего хочу, так это быть с ним, быть его, быть под ним. Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Я сдираю подгоревший пергамент и аккуратно выкладываю курицу на блюдо. Она божественна. Она — само совершенство! Она — путь к апогею сегодняшнего вечера, она должна мне помочь, и это не выдумка мужчин, как большинство того, что они говорят о нас. Про курицу — чистая правда. Про курицу и про кусок мяса, про большой, хорошо отбитый и хорошо прожаренный кусок мяса, можно с кровью, можно без, можно и без зелени, но — чтобы был кусок мяса, один на столе, другой — рядом, в постели, за столом, на улице, но без куска мяса никак и никуда… Я выскальзываю из его объятий и говорю: — Я позвоню! — и с этими словами открываю дверь. Мне интересно вот так подглядывать сейчас за собой, той собой, которой уже нет и не будет. Одна «я» спускается в лифте, другая думает о том, что ей делать сейчас, когда курица уже готова, надо или переодеваться, или заняться дискетой, давно обещанное самой себе занятие, вот только я этого боюсь… Чего, чего, а этого я явно боюсь… Просто говорить себе, что муж хочет тебя убить. Просто говорить об этом кому–то еще, к примеру, Седому… Просто найти нож, в конце концов, его кто–нибудь мог подарить, он мог достаться в наследство, им можно резать бумагу, а можно просто иногда любоваться его качественной выделкой… Можно, конечно, предположить и то, что это тот самый нож, который когда–нибудь… А вот дискета… Я ее боюсь, сегодняшняя «я», как та «я» сейчас боится выходить на улицу и оставаться на ней одной. Одна на вечерней улице, после посещения малознакомого мужчины, с которым виделась всего дважды, и в первый раз он оттрахал ее в ванне, а во второй — она сделала ему минет. Я подглядываю сейчас за ней и понимаю, что мне–то гораздо лучше, я ведь хорошо знаю все, что будет потом, что было потом, с того самого момента, как она оказалась на этой вечерней весенней улице, как я на ней оказалась, в конце концов, ведь это действительно была я… Хорошо запеченная в пергаменте курица лежит на блюде, божественный запах, сногсшибательный аромат… К курице надо сварить рис. Хотя можно и картошки. Картошку тоже можно запечь, в микроволновке, чтобы не возиться… А можно и одну курицу с салатом, и на все это мне тоже понадобиться время, о чем я забыла… Но я хорошо помню другое: как она выходит из подъезда и стоит в весенних сумерках в незнакомом дворе, возле какого–то невнятного дерева с только что распустившимися листочками… Хотя осень это была или весна? Это неважно, важно другое: как можно скорее покончить с готовкой, время идет. Скоро раздастся звонок в дверь, а эта чертова дискета все еще мертвым грузом лежит в кармане халата. Халат в той ванной, восемь лет назад, был белым в дурацких цветочках. Не мой халат, халат совершенно другой женщины. Мой халат — сиреневый, очень спокойного оттенка, почти что блеклого, блекло–сиреневый, с поясом, стоит только развязать пояс, как халат распахивается. Это удобно. И неудобно. Когда я занята хозяйством, то редко надеваю его: грудь постоянно выпадывает и мысли идут не туда. Смешно звучит: мысли идут не туда, можно подумать, что это или солдаты, или муравьи, колонна солдат, идущая не туда, идущая не туда колонна муравьев. Строгие шеренги мыслей, пошедшие налево, когда надо направо. Или направо, когда велено налево. Именно налево она сворачивает из двора, она не знает даже названия улицы, куда он привез ее в тот вечер. Смотрит на дом и читает. Это не так далеко, как она думала. Я смотрю за ней и ухмыляюсь. Я‑то хорошо знаю, что сейчас она вся зациклена на одном: что будет дальше, она пошла за запахом, она все сделала ради этого запаха, она унесла этот запах с собой, он до сих пор гнездится в ее ноздрях, часть запаха — в левой, часть — в правой, запах разрезан пополам, две половинки, если сложить, то получится он, с волосатыми и сильными руками, которые только что обнимали ее в коридоре и ей хотелось одного — остаться. И я осталась, пусть и поехала домой, я ехала домой, но на самом деле я занималась совсем другим, я сидела возле него и смотрела, как он машинально переключает каналы на пульте и как мельтешит телевизор, собачонка у ног, киска на диване, она выходит на улицу и решает, что лучше ехать на метро, а я сижу у его ног и глажу их, глажу, перебираю волоски своими пальчиками. Это подглядывание сводит меня с ума, мне опять хочется коньяка, хотя голова должна быть трезвой, голова должна быть рассудочной, голова должна быть абсолютно ясной и прозрачной, как солнечный день в сентябре — с чуть ощущаемым холодком и терпким запахом падающих листьев. Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Уже темнеет, вот и вход в метро. Большая, светящаяся буква «М». Ее ждут дома, но ноги все подгибаются, и дело не в том, что отсидела, когда была в том самом кресле. В его доме, в его комнате, в его кресле. Я решаю приготовить салат и открываю холодильник. Помидоры, зелень, пару зубчиков чеснока. Надо чеснок или не надо? Опять придется отмывать руки и мазать их кремом, лучше просто — помидоры, зелень, оливковое масло. Он любит оливковое масло, он любит смотреть, как тяжело оно выливается из бутылки. Он вообще любит смотреть, как я готовлю, это возбуждает его, он готов завалить меня прямо на кухне, опрокинуть, разложить, слова все жесткие и грубые, но так оно и есть, он прижимается ко мне, когда я стою над мойкой и запускает свои руки под халат. Они все такие же, как и восемь лет назад, сильные и смуглые, все также поросшие длинными и мягкими черными волосками. И я не говорю ему «отстань», я покорно раздвигаю ноги и облокачиваюсь на мойку поудобней, чуть выгнув попу. И он яростно таранит меня, такой быстрый кухонный секс, от которого я испытываю наслаждения ничуть не меньшее, чем от наших долгих игрищ в постели. Вот только все это было до сегодняшнего утра, до того, как я пошла к Седому. Я нарезаю помидоры, я бросаю их в миску, я режу зелень, я засыпаю ей помидоры, я достаю соль и перец, я солю и перчу, я заливаю все это оливковым маслом и понимаю, что времени у меня остается совсем чуть–чуть. Лишь переодеться и включить компьютер. Или просто — чтобы включить компьютер. Можно и не переодеваться, он любит меня в этом халате, разве что надеть плавочки, для приличия, а то для него будет странно, если я встречу его в коридоре, сияя свежевыбритым лобком. Она же в этот момент едет на эскалаторе вниз, эскалатор почти пустой, уже поздновато, она не знает, что скажет дома, ведь ей все равно будут задавать вопросы. — Ты где была? Я волновался! — и он на самом деле волновался, он всегда волнуется, когда ее нет дома, тот, другой, почти муж… Я смотрю, как она держится за поручень эскалатора, я пытаюсь заглянуть в ее глаза. В свои глаза, те, что были моими восемь лет назад. И в них я вижу страх. В моих глазах сейчас тоже страх, это я могу сказать, не заглядывая в зеркало. Страшно всегда, когда ты сталкиваешься с непонятной силой. С силой запаха, за которым идешь, вот только зачем и куда? Хотя зачем — понятно, зачем — оно всегда абсолютно понятно, ведь ничего не поделать с тем, что им надо от нас одно… А вот куда? Сейчас она едет домой, это ее «куда», а я иду с кухни в ту комнату, где стоит компьютер, опять в его кабинет, к его столу, мне можно пользоваться компьютером, к примеру — играть в игры. Но я не люблю играть в игры, даже пасьянс не раскладываю и не гоняю шарики, я люблю его, это я знаю, как знаю и то, что он хочет меня убить. И мне интересно, за что? За то, что восемь лет я рядом с ним, изо дня в день, за то, что выполняю малейшую его прихоть? За то, что я стала им, растворилась в нем? Хотя это я вру, им мне никогда не стать, ни один из них не позволит, чтобы им завладели настолько, до полного растворения. Наверное, те женщины, у которых мужчин было намного больше, чем у меня, счастливы. Хотя бы потому, что мужчины для них становятся обезличенными гениталиями, и какая разница — двадцатый, или тридцатый? А у меня их было всего восемь, начиная с первого, того, восемнадцатилетнего, и заканчивая им, тем, компьютер на столе которого я сейчас собираюсь включить. Последние восемь лет я знала только его, я жила им, я бредила им. И вот он хочет меня убить. Та я, которая только что сошла с эскалатора и направляется к перрону, даже не подозревает об этом. Та если и думает о чем сейчас, то лишь об одном: она могла остаться и не осталась, а ведь ей совсем не хочется домой, ей не хочется врать, лгать, говорить неправду. Ей не хочется быть ласковой киской, которая поздно возвращается домой и должна изворачиваться, чтобы тот, дома, ничего не заподозрил. Ей не хочется раздеваться при нем, идти при нем в туалет, а потом в ванную. Опять в ванную. Опять в ванну. Но ей придется, как придется сейчас сесть в вагон метро. У нее припухшие глаза, она собирается заплакать. Я сегодня тоже плакала и даже купила себе новые черные очки. Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Она еще не знает, что будет в ее завтра и послезавтра, а я это помню, я подглядываю сейчас за ней и мне ее жалко, ведь я хорошо знаю, что она проснется ночью в слезах, вылезет из своей распаренной постели, накинет халат, возьмет сигарету и пойдет на балкон, смотреть на высокое весеннее небо, значит, это точно была не осень. А плачет по одной причине: ей действительно пришлось раздеваться при нем и при нем идти в туалет. Когда она вошла, то он ждал ее в коридоре. Он не спрашивал, он просто смотрел. — Я была у подруги, — сказала она. Он сглотнул наживку. У подруги — так у подруги, главное, что вернулась, пусть и поздно, хотя могла позвонить… — Телефон не работал, — так же ловко солгала она. Я смотрела за ней и улыбалась, хорошо зная, что будет дальше. Он повернется и пойдет в комнату, а она втянет в себя воздух и поймет, что если и есть в доме запах, то того, другого, а этот ничем не пахнет. По крайней мере, для нее. Мертвый запах, никакой запах, пустой запах. Более того — полное отсутствие всякого запаха. И она разденется прямо при нем. Бросит вещи на кресло — в шкаф можно будет убрать потом, и так, голой, пойдет в туалет, а потом в ванную. А когда выйдет из ванной, то подойдет к нему и вдруг сделает то же самое, что делала какой–то час назад, но с другим мужчиной и в другой квартире. Только не сидя в кресле, а устроившись на полу, удобно расположившись у него между ног. Она делала ему это в первый раз и он обомлел. Он сидел, закрыв глаза, а она делала это и думала о том, что могла бы остаться там, и заниматься сейчас любовью с тем единственным, запах которого чувствовала до сих пор. А этот ничем не пах. Но она мужественно сосала его, а потом выпустила член изо рта и упала навзничь, широко раздвинув ноги. И от этого–то она и плакала ночью, что не тот ебал ее, не тот, кого она хотела. — Дура! — говорила я себе, — дура и блядь! Ну разве ты не могла остаться? — Высокое весеннее небо равнодушно раскинулось над балконом, над домом, над улицей, над всем городом. Я стояла на балконе, запахнувшись в халат, мне было холодно, я лихорадочно курила и думала только об одном: настанет утро и я уйду. Прочь из этого дома, уйду к матери, в конце концов, если я не могу уйти к нему, то я уйду к матери, поживу у нее неделю, месяц… Год? Год я не выдержу, через год я просто умру от тоски, если его не будет рядом. Это безумие, так терять голову в двадцать восемь лет, мне до сих пор — что, стыдно? Ни капельки мне не стыдно, как не стыдно было давать ему в ванной и сосать у него дома, как не было даже стыдно в тот вечер, когда я вернулась и лгала, лгала, лгала, похотливо извиваясь на полу, потому что на самом деле совсем другой мужчина лежал тогда на мне, тот, которого я жду. Тот, который хочет меня убить. Тот, компьютер которого, наш, общий компьютер, я только что включила. Дискета лежит рядом с дисководом, руки вспотели, до его прихода осталось с полчаса, хотя он может еще раз позвонить и сказать: — Знаешь, я все еще задерживаюсь, у меня все еще дела… — И это будет к лучшему, потому что я патологически боюсь. Я боюсь того момента, когда он позвонит в дверь. Боюсь смотреть на него, когда он войдет. Боюсь сидеть за столом напротив и есть с ним вместе эту курицу, которая уже начала остывать. Боюсь ложиться с ним в постель и ласкать, ласкать, ласкать его до такой степени, чтобы он отключился, заснул мертвым сном и тогда я достану кубик Седого и приложу к груди. К его груди, под левым соском, в области сердца. Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Я беру дискету, вставляю в дисковод и щелкаю мышкой. Меня переполняет любопытство, одно любопытство, больше ничего. В этот момент я совершенно забываю о том, что он хочет меня убить.
9
На дискете был только один документ.
Как одна монетка в кошельке или одна сигарета в пачке.
И названия у документа не было.
Просто документ, правда, с циферкой.
doc1.doc
Я смотрела на экран монитора и думала о том, что проще всего, наверное, мне сейчас выключить компьютер и положить дискету на место.
В нижний ящик письменного стола, рядом с ножом.
А самой привести себя в порядок и ждать его, сидеть за накрытым столом, смотреть на курицу и ждать, когда он позвонит в дверь.
Документ был без названия, он был на дискете один и все это мне не нравилось.
У моего мужа не было привычки хранить что–то на дискетах.
Да и компьютером он пользовался дома лишь тогда, когда надо было что–то срочно доделать, что–то такое, чего он не успел на работе.
Дом не был местом для работы, дом был местом, где он отдыхал от нее и где была я.
Я смотрела на экран монитора и думала, что может быть скрыто под этим именем — doc1.doc
А скрыто могло быть все, начиная с какого–нибудь коммерческого предложения и заканчивая…
Моя фантазия не может даже представить, чем заканчивая. Надо знать моего мужа так, как знаю его я, чтобы понять, чего не может быть в этом документе.
Там не может быть ничего секретного и сверхсекретного. Мой муж не занимается такими делами.
Там не может быть очень важных финансовых расчетов и подсчетов — он никогда не станет хранить это дома.
Там не могут быть письма к любовнице, даже если она у него есть.
У него просто нет ни желания, ни времени писать такие письма.
Там не может быть вообще ничего, что могло бы ответить на главный для меня вопрос — отчего он хочет меня убить.
И поэтому мне надо сейчас вынуть дискету и выключить компьютер, но я этого не делаю.
Я дважды щелкаю мышкой на doc1.doc и тянусь за сигаретой.
Мне плевать, на то, что я курю в его кабинете. В конце концов, я уже восемь лет живу с ним под одной крышей и сплю в одной кровати.
И мне не просто любопытно, мне безумно хочется узнать, что это за документ.
Ведь просто так он ни за что не стал бы хранить дискету в нижнем ящике стола, тем более, рядом с ножом, нижний ящик — это то место, куда даже в теории я могла бы залезть только специально. К примеру, делая обыск. Как сегодня. То есть, когда теория обернулась практикой.
На экране появляется текст.
Он без названия.
И его не очень много — всего несколько страничек, примерно семь тысяч знаков, а может, восемь.
Можно проверить, но мне не хочется.
Но мне хочется прочитать этот текст, хотя времени у меня все меньше и меньше.
Я пробегаю глазами первое предложение и на меня нападает столбняк. Я сижу в кресле у монитора, в халате, с голой грудью, в левой руке у меня сигарета и на меня напал столбняк.
Я ошарашена, я изумлена.
Я могла ждать всего, чего угодно.
От финансовых документов до писем к любовнице, которая то ли есть, то ли нет, но я об этом ничего не знаю, как когда–то и про меня не знали какое–то время.
Но этого я ожидать не могла.
Потому что мой муж в принципе никогда и ничего не читает.
Я говорю о книгах.
О том, что называют художественной литературой, то есть прозой.
А первая же прочитанная строчка говорит мне о том, что это проза.
И я изумлена, хотя можно предположить вообще невероятное: мой муж сам написал все эти то ли семь, то ли восемь тысяч знаков, но это действительно — самое невероятное.
Потому что даже писем он не пишет, за восемь лет я в этом убедилась.
Он не читает ничего, что не имеет отношения к его делу, к тому, чем он зарабатывает на жизнь.
То есть, к его бизнесу.
Он хороший бизнесмен, он отличный менеджер, но он не читатель. Впрочем, как и не писатель.
Он старше меня на четыре года, ему только что исполнилось сорок.
Он не лысеет, хотя у него уже есть седые волосы.
У него жесткое лицо с твердым подбородком и он любит носить затемненные очки.
У него сильные и нежные руки, и он потрясающий любовник.
Он не играет в теннис, машину водит по необходимости, любит серые рубашки и неброские галстуки.
Сносно относится к рыбной ловле, зато терпеть не может охоту и игру в карты, например, в преферанс.
А больше всего обожает подводное плаванье, или — говоря модным словом — дайвинг. Как и вообще все, что связано с морем.
Поэтому дважды в год мы куда–нибудь ездим, в теплые края.
В Испанию, Грецию, Португалию.
Израиль, Турцию, Египет.
Ему очень хочется в более экзотические места, но пока мы смогли себе позволить лишь Таиланд.
Точнее, он смог позволить нам лишь Таиланд.
Хотя сам предпочел бы Мальдивские острова или Карибы.
Но это дорого, надо подождать, пока он заработает.
И я жду и смотрю на то, как он делает это, по десять, а то и двенадцать часов в сутки.
То есть, я смотрю на закрытую дверь, в которую он уходит утром и возвращается вечером.
И все бы хорошо, вот только отчего–то он решил меня убить и это меняет все.
И навряд ли мы когда–нибудь поедем на Мальдивы или опять в тот же самый Таиланд.
На маленьком островке возле Патайи мы, кстати, провели целых три дня. Сняли бунгало и прожили три дня, вдвоем. Через три дня за нами приплыли на лодке и мы вернулись обратно, в тот самый отель, из которого и уплыли на остров.
Эти три дня мне приходилось готовить, и это мне не понравилось, потому что готовить дома — это одно, а готовить на островке возле Патайи — совсем другое.
Он занимался дайвингом, а я готовила и занималась с ним любовью. И загорала. Полностью обнаженной, абсолютно голой. Это было в конце февраля, дома было за минус двадцать, на островке — плюс двадцать семь. Временами солнце скрывалось за какой–то странной серой пеленой, но все равно припекало. То есть, жарило. Обжигало.
Я намазывалась кремом, лицо, шею, грудь, живот, ноги.
Потом просила его намазать мне спину.
Он втирал в меня крем и при этом особенно тщательно растирал попу.
Натирал, массировал, ласкал своими сильными руками.
Он — мачо, есть такое слово.
Я бы даже сказала, мачо натуралис.
То есть, не просто мужчина, вдвойне мужчина, втройне и так далее.
Такой биологический вид, который начинает знакомство, насилуя тебя в ванной.
И ты получаешь от этого удовольствие.
Как и от того, что он заставляет тебя загорать топлесс, хотя ты и стесняешься. Как это было в Испании, когда он просто содрал с меня лифчик купальника и сказал: — Смотри, они почти все так делают…
И я перестала стесняться, и начала загорать топлесс.
А в Таиланде — вообще без всего.
Но сейчас я смотрю на экран монитора и ничего не понимаю, потому что могу представить его занимающимся чем угодно, но только не пишущим прозу.
И не читающим ее.
Какой–то рассказ без названия о том, что один стареющий мужчина начал слишком часто задумываться о смерти.
Он шел по улице и думал о том, что жизнь проходит.
Он сидел на работе и думал о том же.
Он смотрел на женщин и понимал, что как много тех, кого он не успел и не успеет полюбить.
Он думал об этом, делая деньги, и думал об этом, их тратя.
Очень сентиментальный рассказ, мачо–мужчины таких не пишут и не читают.
А на второй странице в рассказе появилась женщина.
Молодая женщина, с которой герой познакомился на какой–то вечеринке.
То ли дне рождения приятеля, то ли на презентации.
Особого акцента на месте знакомства сделано не было — именно так, то ли дне рождения, то ли презентации.
Молодая женщина разговорилась с ним, попивая мартини в укромном уголке у зашторенного окна.
Он пил виски.
Мой муж, между прочим, тоже пьет только виски, сегодня вечером, когда он вернется домой и я буду кормить его курицей, запеченной в пергаменте, он плеснет себе пару порций, не больше.
Но его никак нельзя назвать стареющим мужчиной с сентиментальным сердцем.
И нахождение этого произведения на этой дискете, как и ее присутствие в нижнем ящике его стола, рядом с хорошо заточенным ножом, мне абсолютно не ясно.
Естественно, что после вечеринки молодая женщина отправляется вместе со стареющим мужчиной. К нему домой. В его одинокую берлогу, где они предаются радостям плоти.
Все безмерно банально и тоскливо, но от чего–то щемит сердце. Она молода и порочна, он не молод и чувствует, что жизнь подходит к концу. Они занимаются любовью, а потом засыпают.
Почти одновременно, что меня, почему–то, радует.
Мы с ним засыпаем по другому, особенно, после любви.
Я всегда делаю это первой.
И потом — я никогда не прошу у него того, что называется «ласками post coitus», то есть «ласками после сношения».
Хотя вначале мне очень хотелось, чтобы это было.
Когда мы только что начали жить вместе, и не надо было ни от кого скрываться, и можно было делать все, что только взбредало в голову. Никого не стесняясь.
Но у него возбуждение не заканчивалось в тот момент, когда он кончал. Впрочем, и сейчас это точно так же.
Наоборот, он продолжал быть возбужденным и даже дотронуться до него было нельзя — это вызывало чуть ли не боль.
Как и вызывает, поэтому я всегда засыпаю первой.
А он занимается своими делами, к примеру, смотрит телевизор, что может делать почти бесконечно.
Переключая каналы и перескакивая с одних новостей на другие, ни шоу, ни фильмы он почти не смотрит.
Разве что футбол, иногда, потому что ему нравится сам цвет поля. Зеленый. Он успокаивает.
Так он говорит, а я слушаю и засыпаю, чувствуя, как мне легко после оргазма.
Невесомость, ощущение полной неги и полной растворенности.
Я лежу рядом, голая, как на островном пляжике в Сиамском заливе.
Он старается не притрагиваться ко мне, он получил, что хотел, он в очередной раз вернул меня в ту самую ванную.
Он доволен, он смотрит телевизор.
Я тоже счастлива, потому что мне хорошо. Нежность моя не знает границ. Счастье бабочки, порхающей над цветком.
Мне хотелось бы уткнуться ему в плечо, но этого нельзя.
И я утыкаюсь в подушку, а он смотрит на зеленое поле и думает о чем–то своем.
А те двое заснули одновременно, но когда мужчина проснулся, то девушки рядом не было. Нет, все было на месте, она его не ограбила, ничего не пропало, ни деньги, ни ценные вещи.
Просто девушка, молодая женщина, его случайная ночная подруга ушла, пока он еще спал.
И не оставила даже записки.
И он понимает, что его обокрали.
Ему дали то, что потом забрали, и ему становится тошно.
Он лежит в своей смятой и до сих пор пахнущей ее телом постели, и вспоминает, какой она была нежной, когда делала ему массаж.
И как она ласкала его спину, а потом грудь.
И как она добралась до его причинного места и он забыл про то, что он стареющий мужчина, и ему стало казаться, что он бессмертен.
Она говорила ему какие–то слова, но он их почти не слышал.
По крайней мере, сейчас он не мог вспомнить ни одного.
Но не это было главным.
Главным было то, что сейчас он остался один и ему опять стало страшно от того, что конец его жизни не за горами.
Меня, между прочим, это всегда забавляло и забавляет — насколько мужчины боятся смерти.
И боли.
Я могу бояться старости, но не смерти, а боли бояться вообще бессмысленно, по крайней мере, после того, как ты начинаешь чувствовать ее раз в месяц.
Как по часам.
Раз в месяц приходят месячные и приходит боль.
У кого на три дня, у кого на неделю.
У меня это почти неделя, и первые два дня — кромешный ад.
Болит голова, болит спина, болит живот.
У меня болит все и первые два дня просто не хочется жить, хотя потом это проходит.
Слава богу, что он настолько добр, что не заставляет меня в эти дни оказывать ему внимание. Вот только слово «добр» тут случайно, он не добр, он просто понимает, что даже оральные ласки для меня в эти дни невыносимы. Мне трудно делать это с такой головной болью и с такой тяжестью в голове и внизу живота. Когда все разрывается и хочется на время умереть.
Правда, одна моя подруга как–то проговорилась, что ее муж называет месячные «праздником для мужчины», видимо, у нее все это проходит по другому и голова не болит. Да и остальное — тоже.
А вот они боятся смерти и боли все время, а не только несколько дней в течении месяца.
В течении месяца и в течении кровотечения.
Хотя мне вид моей крови на тампонах никогда не приносит радости.
А он совершенно спокойно может порезать себе палец и также спокойно стоять и обрабатывать его йодом, а потом бинтовать.
Мачо натуралис.
Мужчина с дискеты — другой, мужчина с дискеты встает из постели и думает только об одном: где ему найти ее и как это сделать.
Я прочитала уже тысяч пять знаков, осталось совсем немного.
Да и часы показывают, что до его прихода совсем чуть–чуть.
Минут пятнадцать, не больше.
А раз он не позвонил, то значит, он придет, как обещал, задержавшись часа на два и эти два часа почти истекли.
Стареющий мужчина с дискеты начинает обзванивать по телефону своих знакомых, бывших с ним на вчерашней вечеринке.
Он пытается найти концы этой молодой женщины, но никто не знает, кто это была такая.
Та самая женщина, которая доставила ему счастье.
Я пытаюсь представить, каково это — заниматься любовью с таким немолодым человеком, и не могу себе представить.
По крайней мере, у меня такого опыта нет и не было.
Мой муж старше меня на четыре года.
Я могу допустить, чтобы он был старше на десять лет. Ну, на двенадцать. К примеру, ему было бы сейчас сорок семь.
Но не больше, больше представить я не могу.
А мужчине с дискеты больше. Ему за пятьдесят.
А она моложе меня.
Ей еще нет тридцати.
То есть, ей столько же, сколько было мне, когда он изнасиловал меня в ванной.
А значит, он ее старше больше, чем на двадцать лет.
Может быть, что и на двадцать пять.
Вот только я совершенно не понимаю, зачем хранить эту белиберду в столе рядом с ножом.
Но я все равно читаю дальше, чувствуя, что уже пора выключать компьютер, но мне все равно хочется знать, чем это все закончится.
Стареющий мужчина с дискеты одевается и думает, что ему делать дальше, как жить и как отыскать эту женщину.
Он надевает рубашку, берет один галстук, смотрит, откладывает, берет другой, снова откладывает, останавливается на третьем.
Я фыркаю, это напоминает мне то, как муж утром собирается на работу.
У меня нет допуска к его галстукам, галстуки — дело святое.
Я стою в халате и жду, когда он повяжет галстук и пойдет завтракать.
Вот к чему у меня есть допуск, так это к завтракам.
К их приготовлению, и обязательно должен быть свежемолотый кофе.
Свежемолотый и сваренный в турке, это было первое, чему он меня научил, когда мы перестали бояться, что нас кто–то увидит вместе: варить кофе в турке, с добавлением кардамона и корицы. И очень сладкий.
А перед кофе может быть все, что угодно. Сосиски, оладьи, бутерброды с сыром или ветчиной. Ему все равно, главное, чтобы было кофе.
И пока он одевается, я готовлю завтрак.
А он выбирает и повязывает галстук.
Раздается звонок в дверь. Не в мою, там, у мужчины с дискеты, раздается звонок в дверь.
Он так и не выбрал галстук, и идет открывать, держа очередной кусок шелка в руке.
На площадке стоят два человека, один в форме, другой в штатском.
— Утром во дворе нашли убитую молодую женщину, — говорит тот, что в штатском.
— Ножом, — добавляет человек в форме.
— Нож с рукояткой из кости какого–то животного. Лезвие не очень длинное, сантиметров пятнадцать. Блестящая сталь, по лезвию проходит желобок… — зачем–то уточняет тот, что в штатском
— Мы всех опрашиваем, — говорит тот, что в форме.
Опять раздается звонок.
На этот раз уже не на дискете.
Мне надо срочно выключать компьютер и идти открывать дверь.
Хотя читать осталось немного, строчек десять.
Но мне уже совершенно не интересно, что будет дальше.
Я выключаю компьютер, торопливо прячу дискету обратно в карман халата и иду открывать дверь, думая о том, что надо бы положить дискету обратно, в нижний ящик его стола, туда, где еще лежит нож.
Тот самый нож, которым и была убита молодая женщина, скорее всего, именно та, что провела ночь со стареющим мужчиной.
Нож в кожаном чехле, с рукояткой из кости какого–то животного. Лезвие не очень длинное, сантиметров пятнадцать. Блестящая сталь, по лезвию проходит желобок.
Тот самый нож, которым — скорее всего — буду убита и я.
10
— Здравствуй, милый, — говорю ему, открывая дверь, — я сегодня безумно соскучилась!
Он довольно улыбается, хотя глаза его отчего–то мертвы.
Видимо, действительно устал.
Много работы, очень много работы.
— Давай, помогу! — предлагаю я, когда он начинает снимать плащ.
Черный плащ модели «как я похож на секретного агента».
Остается поднять воротник, надеть черные очки и засунуть руки в карманы.
— Я так тебя ждала, — продолжаю обволакивать его ласковой паутиной своего голоса, — у нас сегодня замечательный ужин, ты хочешь есть?
— Хочу, — отвечает он, улыбается мне в ответ, но глаза все так же мертвы.
Я правильно сделала, что осталась в халате.
Если бы я надела черное платье, то это бы его изумило.
Сегодня никакого праздника, просто день. Обычный день.
Точнее, просто обычный вечер. Вечер без даты.
Хотя даты — это по его части, я обычно их не помню, я даже забываю годовщину свадьбы, помню лишь дни рождения. А он помнит все. Даже день, когда взял меня в ванной. И самые дорогие подарки — всегда в этот день. Уже восемь лет подряд. Хотя все это не важно, важно другое — я чувствую, что веду себя не так, как обычно, я более навязчива, я нежна, как новобрачная.
И он это тоже чувствует.
— Что случилось? — спрашивает он.
«Ничего, милый, — хочется ответить мне, — совсем, совсем ничего. Ну, сходила, разве что, утром в одно место и приобрела там одну замечательную штучку, в двух экземплярах, для себя и для тебя, прежде всего — для тебя. Ведь это ты хочешь убить меня, милый, не так ли? Ты не отвечаешь, тебе нечего сказать… Ты молчишь, дорогой мой, ты раздеваешься, ты проходишь в комнату, кладешь на стол папку с бумагами, снимаешь пиджак, развязываешь галстук, расстегиваешь пуговицы на рубашке и все молчишь, и совершенно ничего не случилось, я просто жду тебя, жду весь день, весь день думаю о тебе…»
— Ничего, — отвечаю, кокетливо улыбаясь, — я действительно просто соскучилась!
— Я устал, — говорит он, — день был тяжелым…
— Напустить тебе ванну? — спрашиваю, забирая у него рубашку, завтра он наденет другую, свежую, под другой галстук, а эту я брошу в корзину для грязного белья.
— Нет, — говорит он, — приму душ…
— Тогда я разогреваю ужин, — и подмигиваю ему, будто обещаю, что сделаю все возможное, чтобы снять с него усталость и чтобы он, хорошо поужинав, смог насладиться в полной мере остатком вечера. Что сделаю, чтобы снять, чтобы он. Что, чтобы, чтобы.
Он улыбается в ответ и идет в ванную, слышно, как включается душ, сейчас он начнет там насвистывать, дурацкая привычка, к которой я, впрочем, уже привыкла за эти годы. Фальшиво насвистывать какую–нибудь модную песенку. Он слушает их в машине, переключая волну за волной. Так можно ехать и не напрягаться, говорит он, когда я сижу рядом, они что–то поют, а я слушаю и не слышу.
Не слышит, но запоминает и пытается потом фальшиво насвистывать.
К примеру, принимая душ.
Или одеваясь утром.
Или сидя за компьютером, ползая в интернете.
Сорокалетний мужчина, читающий дурацкие анекдоты в сети. Когда я говорю, что он не читает, то я говорю о книгах. В интернете он может и почитать. Впрочем, сомневаюсь, чтобы этот текст с дискеты он скачал из сети, по крайней мере, этому должно быть объяснение, а у меня его нет, хотя я давно привыкла, что почти все его поступки можно объяснить.
Точнее, я могу объяснить: за восемь лет я изучила его очень хорошо.
Я не могу сказать, что он предельно рационален и прагматичен, но ему практически не свойственно поддаваться импульсам. И даже то, что случилось много лет назад в ванной комнате моего брата, не было импульсом, это был поступок мужчины, по крайней мере, для него. Он сам это так объяснил мне одним летним вечером, в первый год нашего романа. То есть тогда, когда у нас уже был роман. Начался роман. Коитус продолжился романом и прозвучало слово «люблю».
Вот только не помню, кто сказал его первым. Наверное, все же я. И виной этому тоже был запах. Тот самый, который свел меня с ума и за которым я была готова идти куда угодно. И шла. Между прочим, этот запах есть до сих пор, даже сейчас, когда он в ванной, а я накрываю на стол и уже несу разогретую курицу, от которой все еще исходит божественный аромат, я чувствую этот его запах. Не пота, не лесного зверя, не мужчины–самца. Просто тот единственный запах, который щекочет мне ноздри и заставляет влажнеть между ног.
Я достаю бутылку красного вина — для себя.
Виски себе он достанет сам. Не женское это дело — выбирать мужу виски.
А в тот летний вечер, когда я набралась смелости и спросила его о том, почему он повел себя так нагло тогда, в нашу первую встречу, он не задумываясь ответил: — Потому, что тебе это было надо!
— И как это ты понял? — смеясь, сказала я.
— У тебя были пустые глаза, — говоря это, он смотрел не на меня, а в сторону. — Даже не пустые, а не живые. Когда у женщины такие глаза, то это значит одно — ей необходим мужчина…
— Ты не прав, — проговорила я, — да и потом, у меня ведь тогда был мужчина, каждый день, каждую ночь, мы были вместе…
— Вы не были вместе, — сказал он как–то очень твердо, — это был просто не твой мужчина…
Самое смешное, что в то лето я все еще жила с тем мужчиной. Или не с тем. С тем, с которым жила, но не с тем, с которым должна была жить.
— Ну и что, — не унималась я, — это ведь не повод для того, чтобы грубо насиловать меня в ванной!
— Я могу это сделать и сейчас, — сказал он и больно сжал мне правое запястье.
И я замолчала, я поняла, что он и вправду может сделать это. Здесь, на улице, где светло и где много народа.
Он отпустил мою руку и проговорил: — Просто тогда мне показалось, что тебе надо, чтобы кто–то проделал это с тобой. Ты этого хотела, но боялась себе признаться. И ведь ты не сопротивлялась, значит, ты этого ждала!
Он был логичен. Мужчина, который всегда делает то, что он должен сделать.
Мужчина прежде всего потому, что ведет себя как мужчина.
Пусть даже в его собственном понимании.
Не в моем.
Я ставлю на стол салат и раскладываю приборы. Две тарелки. Два ножа. Две вилки.
Одна рюмка.
Под вино.
Бокал под виски он поставит себе сам.
Свист прекращается, слышно, как перестает работать душ.
Я знаю, что он сейчас сделает — он наденет халат и выйдет из ванной.
Все как всегда.
За исключением того, что он хочет меня убить и что я нашла странный текст на дискете.
И того, что у меня под левой грудью пульсирует кубик Седого.
А второй мне надо внедрить в его тело. Вживить, имплантировать.
В тело собственного мужа.
Я смотрю на часы: почти девять, сейчас он сядет за стол и включит телевизор. В девять начнутся новости, он будет есть курицу, запеченую в пергаменте. С салатом. И пить виски.
— Какой стол, — говорит он, заходя в комнату, — у нас что за праздник?
— Я же соскучилась, — улыбаюсь в ответ, — хочешь выпить?
— Как и ты! — и он уходит к себе в кабинет за виски.
Я сажусь за стол и вдруг чувствую, как ноги у меня предательски слабеют. Сегодня был слишком тяжелый день не только для него, для меня он был еще тяжелее. И для меня он еще не закончился. И если он уже готов расслабиться, то мне до этого далеко. Ведь я не знаю, что начнется после того, как кубик Седого поселится и в его теле. Что тогда произойдет со мной, что я буду видеть и чувствовать. Видеть и чувствовать, но не слышать — так сказал Седой.
Я наливаю себе вина, немного, половину рюмки.
Наливаю и сразу же выпиваю.
— Ты нервничаешь? — спрашивает он, заходя в комнату. В халате, в одной руке — бутылка с виски, в другой — бокал толстого стекла.
— Нет, — опять улыбаюсь я, — просто решила тебя не дожидаться!
Ответ его устраивает, потому что ничего особенного в этом нет. В том, что я выпила до него. Я не алкоголичка и он это знает. Я могу вообще не пить, хотя могу выпить и не меньше его. Иногда, когда мне попадает возжа под хвост — это его слова.
Он отрезает куриную ножку и накладывает себе салат.
И наливает немного виски.
Чуть–чуть, на один палец.
И сразу выпивает.
И начинает ужинать.
Прелестная семейная картина, все должны завидовать.
Соседи справа, соседи слева.
Друзья и подруги.
Сослуживицы и сослуживцы.
Они и завидуют, они считают, что мы образцовая пара и если что нам и мешает, так это то, что у нас нет детей.
И, в общем–то, они правы.
Мы действительно — образцовая пара.
И у нас почти нет проблем.
И у нас все хорошо материально.
И отлично в сексуальной сфере.
И есть общие интересы.
И мы вместе уже восемь лет.
И никто из них не знает, что в нижнем правом ящике его стола лежат нож и дискета со странным текстом, который я все же успела пробежать глазами, ожидая, пока он придет домой.
Про стареющего мужчину и молодую женщину.
Женщина подарила мужчине ночь любви, а потом ее убили.
Тем самым ножом, что лежит рядом с дискетой.
Абсолютно дурацкий текст, но я никак не могу его забыть.
Мужчина без имени и женщина без имени, хотя мне кажется, что у них должны быть имена и что я с ними еще встречусь, не смогу не встретиться.
Я наливаю себе еще вина и спрашиваю: — Ну как, вкусно получилось?
— Обалденно! — отвечает он, а потом добавляет: — Ты у меня потрясающа!
— Знаю, — говорю я, и ем свою порцию курицы.
— Я возьму еще ножку? — спрашивает он.
— Конечно, — мурлыкаю в ответ, как и положено образцовой жене, довольной, что ужин ей удался, — я ведь специально старалась!
Он наливает себе еще немного виски, но пьет не сразу. Он включает телевизор, находит новости, кладет на тарелку еще одну куриную ножку, а уже потом берет в руку бокал.
Халат на его груди распахивается и я смотрю на жесткие курчавые волосы, которые так хорошо перебирать, когда лежишь рядом с ним в постели.
От них тоже исходит запах, я чувствую его сейчас особенно сильно.
На груди у него волосы жесткие, на руках — мягкие.
— Я похож на обезьяну? — иногда спрашивает он, иногда, когда бывает в каком–то особенно дурашливом настроении.
— На гориллу! — отвечаю я.
И он начинает изображать из себя гориллу, но это продолжается минуты две, не больше. Потом он снова становится серьезен, дурашливое настроение улетучивается, мужчина не может себе позволить быть таким, даже наедине с женой.
Настоящий мужчина. Мачо.
Мачо натуралис.
Горилла, орангутанг, гиббон.
Я никогда не смогла бы заняться любовью с настоящей обезьяной. Как–то раз, когда мы поехали в очередной теплый вояж, как мне помнится, это были Эмираты, он взял напрокат машину и повез меня в зоопарк, который считается чуть ли не самым большим в мире. Было очень жарко, под плюс пятьдесят — отчего–то этот теплый вояж он решил предпринять в августе, когда у нас уже тянет осенью, а в Эмиратах разгар палящего лета.
Из–за жары в зоопарке почти никого не было. Мы дотащились от касс до стоянки автопоезда, погрузились в один из продуваемых горячим аравийским ветром вагончиков, поезд тронулся и покатил мимо вольер, в которых не было видно никого из обитателей — жара всех загнала в тень, кого в вольеры, кого под унылые, но развесистые и такие чужие под этим голубым и пустынным небом деревья. Я отхлебывала ледяную колу из жестяной банки и чувствовала, как с каждой минутой кола в банке становится теплее.
Наконец поезд остановился, мы выбрались из вагончика, жара обрушилась на нас со всех сторон, перед нами был вольер с двойной оградой, в котором тоже никого не было.
С нами здесь выгрузилось еще несколько человек, так же, как и мы, изнывающих от жары. Один из них, высокий и грузный белый, вдруг подошел прямо к ограде и кинул за нее запечатанную — хотя может, это мне лишь так показалось — банку колы.
Банка пролетела метров пятнадцать и запрыгала по раскаленному песку, остановилась, опять покатилась, снова остановилась, и тут из желто–синего домика, так бессмысленно и смешно смотрящегося внутри этой вольеры вышло нечто.
Это была горилла, самец. Горилл, так, наверное, надо его называть.
Из домика вышел горилл, он был огромным и шел, странно переваливаясь на своих мощных, волосатых лапах, с неестественно вывернутыми ступнями.
Видимо, песок был настолько горячим, что у него были обожжены подошвы.
Это был настоящий Кинг — Конг, когда горилл показывают по телевизору, то они выглядят намного меньше.
Женщина, стоящая рядом с грузным белым, восторженно завизжала.
А я смотрела молча. Мне хорошо было видно то, что болталось у горилла между ног.
Слишком большое, такое большое бывает, наверное, лишь у лошадей.
Он бы не просто разорвал меня, он бы меня сразу убил.
— Спасибо, — говорит он, отложив нож и вилку, — было действительно очень вкусно!
И зевнул.
Сейчас он скажет, что хочет полежать, потому что устал. А плотная еда и виски разморили его в конец.
Дурацкая, между прочим, фраза.
— Я пойду, помою руки, — зачем–то докладывает он и встает из–за стола.
Я допиваю вино и смотрю на бутылку.
Можно налить еще, но можно и не наливать.
Лучше не наливать, потому что я тогда расслаблюсь и забуду о том, что должна сделать.
А забывать этого мне нельзя.
Лучше прибрать на столе и помыть посуду.
Милый семейный ужин подошел к концу.
Пока я буду мыть посуду, он успеет не только помыть руки, но и покурить. А покурив, может сразу же залечь в постель. Лечь, заползти, забраться, уютно устроится под одеялом.
И ждать меня, хотя может и не ждать.
Он сегодня действительно устал, так что ему может быть не до любви.
Такое бывает, мужчина устал, мужчина не хочет, мужчине надо отдохнуть.
И ничего страшного в этом нет, вот только сегодня меня это не устраивает.
Я домываю посуду и иду в душ.
Третий раз за день.
Первый раз утром, перед походом к Седому.
Второй раз днем, после возвращения, когда, выпив коньяка, я долго и трепетно занималась там собой.
И в третий — сейчас, перед тем, как сделать главное, ради чего и был прожит сегодняшний день.
Но на этот раз я принимаю душ быстро, будто тороплюсь, хотя это так на самом деле. Я хочу лечь с ним до того, как он заснет, я хочу успеть поласкать его, обласкать, доставить ему наслаждение. Он этого заслужил — хотя бы тем, что тогда, в ванной у брата, решил, что мне нужен мужчина. И не просто какой–то абстрактный мужчина, а именно он. И был прав. Он был мне нужен тогда, он нужен мне и сейчас, он не горилла, с ним я могу заниматься любовью.
Я вытираюсь, выхожу из ванной, даже не набросив халата.
Второй кубик Седого давно уже приготовлен, он лежит там, в спальне, в моей тумбочке, с моей стороны кровати, где я держу ночные смазки и кремы.
Я захожу в спальню и вижу, что он спит.
Он лежит на спине, закинув руки за голову. Видимо, прилег так, накрылся одеялом и сразу уснул.
Сразу и крепко.
Тяжелый день, плотный ужин и виски.
Пусть всего–то две небольших порции, грамм сто, два глотка по пятьдесят граммов.
Я стою у кровати и думаю, что мне делать.
Можно разбудить его, вот только стоит ли это делать? Он лежит на спине, как будто заранее зная, что ждет его и как он должен себя вести.
Лежать на спине с закрытыми глазами и спать, покорно ожидая, пока жена не прикоснется к левой стороне его груди.
Чуть ниже соска.
Почти прямо над сердцем.
Я беру кубик Седого из тумбочки, он теплый и чуть пульсирует в моей левой руке.
Я перекладываю его в правую, ложусь рядом и смотрю, как он спит.
Спокойно, умиротворенно, с какой–то странной улыбкой на губах.
Он улыбается во сне и мне внезапно становится страшно.
Нож, которым убили молодую женщину с дискеты, все еще находится в нашем доме, и этим ножом так же могут убить меня.
С такой же улыбкой на губах. Убить так же спокойно и умиротворенно.
Я кладу левую руку ему на грудь и начинаю перебирать волосы. Я перебираю их, развожу в разные стороны, чтобы очистить хотя бы маленький кусочек кожи. Чистой кожи, смуглой кожи, так сильно пахнущей кожи. Перебираю ласково, чтобы он не проснулся. Я хотела дать ему сегодня больше, но ему хватило и курицы с салатом. И двух порций виски. А сейчас он спит. Спокойно, умиротворенно, хочется даже добавить — безмятежно. И с какой–то странной улыбкой на губах.
Я улыбаюсь точно так же, вновь бережно перекладываю кубик Седого в левую руку и прижимаю к его груди.
И смотрю, как он начинает пульсировать и сливаться с его телом.
Серебристо–матовый жук, буравящий себе уютную телесную норку.
Вот он совсем исчезает в ней, на коже не остается и следа.
В голове у меня вдруг что–то лопается, будто разорвался какой–то из сосудиков. Наверное, это от перенапряжения, хотя может быть, и от другого.
От того, что я скоро буду видеть и чувствовать, но не слышать.
Я ложусь на свою половину кровати, закрываю глаза и жду, когда это начнется.
И чувствую, как в меня постепенно входят его сны.
11
Хотя на самом деле это не сны.
Сны не бывают такими долгими, на всю ночь.
Сны всегда — лишь какой–то момент, мгновение, миг.
И они никогда не наваливаются на тебя вот так, сразу, стоит лишь закрыть глаза.
Он лежит рядом, спокойно посапывая во сне. Как младенец. Хотя чего я не знаю — это того, как посапывают младенцы. Мне этого не дано. Хотя может, этого не дано ему. Врачи так и не могут вынести окончательный вердикт. Слово из семи букв. От латинского vere dictum — верно сказанное. В моем отношении врачи ничего не могут сказать верно, то есть, окончательно. В его отношении — тоже. Зато я могу сказать почти верно — он сейчас лежит рядом и спокойно посапывает во сне. Видимо, как младенец.
Но то, что пришло ко мне, это явно не сны.
Даже не ко мне, в меня, расползлось во мне, запустило свои щупальца. Я чувствую их липкие и холодные присоски, щупальца с присосками, что–то головоногое, странный ночной моллюск, смесь осьминога, кальмара и каракатицы.
Я не сплю. Я лежу рядом с ним и чувствую, как мне становится — нет, не тревожно и не страшно, это не те определения. Мне становится странно, вот как я могу сформулировать это.
И еще — любопытно.
Я опять подглядываю, беру в руки бинокль, раздвигаю на окне шторы и смотрю в окна дома напротив.
Пусть даже я не делаю ничего подобного.
Пусть даже я лежу рядом с ним, закрыв глаза и прислушиваясь к своему телу.
И одновременно — к его.
Потому что сейчас я в нем.
И вместе с ним выхожу из дома.
На часах почти полночь, но это на тех часах, что стоят в изголовье кровати.
На самом деле сейчас девять утра.
Это явно не сон, потому что для сна все слишком похоже на правду. Нет той грани между иллюзией и реальностью, которая всегда присутствует во сне, отчего ты чувствуешь, что это не правда, что это всего лишь некий ночной шорох, всполох видений, которые закончатся в тот момент, когда ты откроешь глаза.
Мы выходим с ним из дома, хотя он лежит рядом и спокойно спит.
Он не видит меня, я — человек–невидимка, шпион, засланный в его тело, маленький серебристо–матовый кубик, вбуравившийся в его плоть.
Предел детских мечтаний, сделать так, чтобы тебя не видели, а ты видела все.
И всех.
Я буду видеть и чувствовать, но не буду слышать, так сказал мне Седой.
Седой сейчас, наверное, тоже спит.
Интересно, есть ли у Седого женщина?
И какого она роста?
Такого же, как он, или намного выше?
Отчего–то мне кажется, что если у Седого есть подруга, то она должна быть выше его, даже без каблуков — сантиметров на пять, не меньше. А когда она надевает туфли и они идут куда–нибудь вечером, то она возвышается над ним как жираф над своей вольерой. И такая же грациозная как жираф, с тонкой и гибкой шеей.
Все мои мужчины были выше меня.
И он тоже — выше.
И когда мы идем рядом, то он возвышается надо мной.
Но сейчас он меня не видит, он выходит из подъезда и идет по двору к арке.
Наверное, думаю я, сейчас мы повернем к стоянке, но я ошибаюсь.
Он выходит из арки и идет на остановку автобуса.
Он спокойно спит рядом и он спокойно идет на остановку автобуса.
Щупальца опять поглаживают меня изнутри, я чувствую неприятный холодок присосок.
Остановка рядом с домой.
Надо миновать булочную и цветочный магазин.
Мне интересно, завернет ли он в него, но он этого не делает.
Он переворачивается на другой бок, я чувствую, что потихоньку начинаю сходить с ума от того, что происходит. Хочется бросить бинокль на пол и топтаться на нем ногами. Долго и подпрыгивая. Если так будет всю ночь, то я не выдержу, он спит, спокойно и даже не видя снов, потому что это — не сны, это что–то другое, о чем меня не предупредил Седой.
Или не знал.
Или — не захотел.
Скорее всего — второе.
Маленькая месть за то, что я не внесла сумму полностью.
А может, ему не понравилось, что я воспользовалась его туалетом.
Или не понравилось что–то еще. Или кто–то.
Например, я сама.
Ведь я не обязана нравиться всем мужчинам подряд, кто–то любит полных, а я — худая.
Впрочем, лучше сказать — стройная.
И не высокая.
И коротко стриженная.
И крашенная.
И совсем не эффектная.
И еще — я потихоньку схожу с ума, и совсем не потому, что вбила себе в голову, что он хочет меня убить.
Я схожу с ума от того, что абсолютно не понимаю, что сейчас происходит и почему я не могу заснуть.
И еще от того, что не могу внятно объяснить себе, почему он не взял машину со стоянки, а решил пойти на автобус.
Вот автобус подъезжает к остановке и он входит в салон.
Переполненный утренний салон с отвратительным запахом.
Он покупает билет и протискивается к окну.
Мы смотрим в окно, он вновь переворачивается во сне — на этот раз на живот.
Я безумно хочу спать, я лежу с закрытыми глазами, за окном автобуса мелькают невнятные серые дома с тупыми черными окнами.
Для сна это слишком, если бы это был сон, то окна были бы другими.
Щупальца с липкими присосками в очередной раз касаются меня где–то внутри.
Внутри моего мозга, внутри моего тела.
Я понимаю, что уснуть не удастся, по крайней мере, в ближайшее время. Может быть, полчаса, может быть, час.
Я слишком напряжена, мне мешают эти щупальца, которые выросли из кубика Седого.
Я откидываю одеяло и встаю с кровати.
Медленно иду на кухню, с трудом переставляя отчего–то отяжелевшие ноги.
Если на меня сейчас посмотреть внимательно, то картинка будет не из лучших — со смытой косметикой, бледная, с лихорадочным блеском в глазах.
И в короткой ночной рубашке, которую я надела, поняв, что любви не будет.
Что он устал и что он безумно хочет спать.
Точнее, уже спит, посапывая, как младенец, которого у меня никогда не было и не будет.
Хотя, говорят, родить можно и в сорок, по крайней мере, одна наша знакомая в сорок один родила двойню.
А до этого никак не могла.
И сейчас счастлива, а я потихоньку схожу с ума.
Мне еще четыре года до сорока, с хвостиком.
Четыре года и шесть месяцев.
Длинный хвостик из шести месяцев, это примерно сто восемьдесят дней.
Я захожу на кухню, автобус трясется по городским улицам, если бы он взял машину, то давно бы доехал до места, хотя откуда я могу знать, куда мы едем.
Открываю холодильник — там хранятся лекарства.
От головной боли, от желудка, от простуды, от нервов.
Он никак не может понять этой моей привычки хранить лекарства в холодильнике, хотя так просто удобней.
Все в одном месте, и колбаса, и аспирин.
И снотворное, которое я решаю выпить, хотя уже двенадцать часов ночи и я могу встать утром с раскалывающейся головой.
Автобус останавливается и вдруг я понимаю, что мы выходим.
На улице накрапывает дождь, все те же серые невнятные дома, только выше.
И в них такие же тупые черные окна, только других размеров.
Большие окна с большими стеклами.
Я беру облатку со снотворным и выдавливаю в ладонь одну маленькую белую таблеточку. Именно, что таблеточку, потому что до таблетки она не дотягивает размером. Как моя грудь до бюста. Хотя я не стесняюсь своей груди, я горжусь ей, особенно с тех пор, как он приучил меня загорать топлесс.
Он выходит на улицу, я оказываюсь рядом с ним, он открывает зонт, я ныряю под него и прижимаюсь к нему поближе, чтобы на меня не капало, хотя как может капать на тебя, если ты — невидима?
Головоногая тварь внутри опять пускает в ход свои щупальца, я кладу таблетку на язык и морщусь, хотя она совсем даже не горькая.
Мы идет по одним зонтом, переходим улицу и направляемся ко входу в метро.
Видимо, именно поэтому он оставил машину на стоянке — решил поехать на метро, чтобы не торчать в пробках, так быстрее и удобнее, особенно, если тебе надо побыстрее. Быстрее. Быстро.
Вот только куда он так спешит?
Таблетку надо запить, маленькую, белую таблеточку со сладковатым привкусом. Она начинает таять на языке, язык щиплет, я наливаю воды в стакан и делаю пару глотков.
Пусть я не узнаю сегодня больше ничего, пусть все так и останется скрытым за стеклянными дверями входа в метро, но я хочу спать, я очень хочу спать, я безумно хочу спать и я никак не могу уснуть.
Снотворное подействует минут через пятнадцать, голова сперва отяжелеет, но потом внутри станет легко. Щупальца головоногой твари свернутся, а потом и вовсе исчезнут. Я доплетусь обратно до кровати и рухну рядом с ним. Укроюсь одеялом и безмятежно засну. И буду видеть сны, свои сны, а не это безумие, которое не имеет никакого отношения к той реальной жизни, в которой он хочет меня убить.
По крайней мере, сейчас мне так кажется.
Я беру сигарету и закуриваю прямо здесь, на кухне, стоя рядом с холодильником.
За окном срабатывает сигнализация у какой–то машины, она то гулко ухает, то визгливо пищит.
Мы входим в метро и идем к кассе, он достает из кармана бумажник и покупает два жетона.
«Мне не надо!», — хочу сказать ему, но вдруг отчетливо понимаю, что это просто на дорогу туда и на дорогу обратно, а про меня рядом он даже не догадывается.
Он спокойно спит и не знает ничего о том, что я еду рядом.
Что сейчас я всегда буду рядом и ему с этим ничего не поделать.
Как не поделать и мне, если только не пить постоянно снотворное и двадцать четыре часа в сутки быть в мертвом забытьи.
Мне становится холодно в одной рубашке и очень хочется в туалет.
Но я курю у окна, слушая, как все еще то гулко ухает, то визгливо пищит сигнализация у какой–то дурной машины.
Руки и ноги покрываются пупырышками, я начинаю дрожать от холода, наверное, это начинает действовать снотворное.
Так странно и непривычно, я частенько пью снотворное и никогда еще мне не было от него так холодно.
А может, это не от него, а от той головоногой твари, что опять распустила свои щупальца.
«Кубик Седого, — думаю я, — это все серебристо–матовый кубик Седого!»
Мы встаем на эскалатор, он держится за поручень, я прижалась к его спине, но он не чувствует моего веса.
Эскалатор ползет вниз, я редко езжу в метро, на меня всегда здесь все давит — стены, потолки, ощущение толщи земли над головой.
Я тушу сигарету и иду в туалет, руки и ноги все еще в пупырышках, ползающие мурашки, неприятно покусывающие тело.
Сажусь на унитаз и чувствую, как мне сразу становится легче, переполненный пузырь освобождается, такое же чувство невероятного счастья, как утром у Седого.
Вчерашним утром, скоро будут сутки, как я ношу в себе его кубик.
И скоро почти два часа, как этот кубик — в нем.
Я смотрю на свои ноги и вдруг понимаю, что завтра утром мне придется их брить.
Черные волоски то тут, то там — еще совсем коротюсенькие, но от этого не менее отвратительные.
Отвратительные черные точечки. Черные и жесткие.
Женщины с волосатыми ногами вызывают у меня отвращение, хотя есть женщины, которые никогда их не бреют.
Одна такая попадается нам на платформе метро, пока он ждет поезда.
Хорошо видны черные волосы за плотно обтягивающими ноги колготками.
Волосы лежат странными спиральками, будто она сделала им укладку.
Я предпочитаю, чтобы мои ноги были гладко выбриты и завтра утром надо будет этим заняться.
Когда он уйдет на работу, хотя теперь я понимаю, что он может сделать совсем другое.
Оставить машину на стоянке, а сам сесть в автобус, и затем перепрыгнуть в метро.
Прыг–скок, осторожно, двери закрываются.
Я выхожу из туалета и иду в ванную — вымыть руки.
Я всегда и после всего мою руки, так меня воспитали с детства.
Мыть руки и чистить зубы, минимум два раза в день. Утром и вечером.
Снотворное уже начало действовать, меня качает, будто я опять хлебнула коньяка.
Только голова вдруг стала легкой. Необыкновенно легкой, вся тяжесть куда–то прошла.
Если я сейчас доберусь до кровати, то усну сразу же и так и не узнаю, куда это мы с ним едем.
В метро, напротив центральной двери, которая только что закрылась.
Поезд проезжает освещенную платформу и скрывается в темном тоннеле.
Я иду в спальню, придерживаясь рукой за стенку — меня все еще качает и я боюсь упасть.
С грохотом рухнуть на пол и перебудить весь дом.
Разбудить его, он встанет и начнет бегать вокруг меня, а потом бросится к телефону — вызывать «скорую».
Мне не надо никакой «скорой», я и так справлюсь со всем сама.
Я всегда справляюсь со всем сама, я сама пошла к Седому и сама имплантировала ему второй кубик.
И теперь сама должна расхлебывать все это.
То, во что вляпалась.
И не вчера, не сегодня — больше, чем восемь лет назад.
Я добираюсь до спальни, ноги почти не идут, мне хочется скорее лечь и накрыться одеялом. Мне хочется, чтобы было тепло и спокойно, и чтобы моя голова была абсолютно пуста. И тогда я смогу уснуть, а утром спокойно встать с кровати и думать, что мне делать дальше.
Потому что сейчас я все равно привязана к нему.
Он встает с места и идет к выходу из вагона.
К тому, центральному, что прямо напротив нас.
Поезд выезжает на очередную платформу, тормозит, а затем останавливается.
Двери открываются и мы выходим наружу.
Я подхожу к кровати и смотрю на то, как он спит.
Он опять перевернулся, теперь снова спит на спине.
И опять — безмятежно посапывая.
Хотя на самом деле он вновь едет на эскалаторе, а я — рядом с ним.
Какая–то игра в кошки–мышки, когда у одного из нас завязаны глаза, вот только у кого? У него или у меня?
Наконец–то я забираюсь под одеяло, глаза слипаются, ненавижу снотворное, потому что утром после него всегда болит голова. И приходится пить кофе. Не одну чашку, и даже не две.
Три, а то и четыре.
И лишь после третьей, а то и четвертой в голове что–то щелкает и все становится на место.
Туман рассеивается, мир становится кристально прозрачным.
Как только что вымытое весеннее окно.
И ярким, как весенняя листва.
Первая весенняя листва через начисто отмытое и насухо вытертое весеннее окно.
Он выходит на улицу, район мне совершенно не знаком.
Трамвайная остановка и дорога, полная машин.
Я сделала глупость, что выпила эту таблетку.
Мне так и не узнать, куда это мы едем.
Я засыпаю, головоногая тварь устраивается спать тоже.
Осьминог, кальмар, каракатица.
Каракатицу еще называют «чернильницей».
Осьминог — восемь ног.
Кальмар придает салату восхитительный вкус, нежный и с легким морским привкусом.
Он подходит к обочине и начинает ловить машину.
Стоит, подняв руку.
Солидный сорокалетний мужчина, торопящийся куда–то по делам.
Его жена выпила снотворное и сейчас забудется сном.
Легким и без сновидений.
А может, что и тяжелым, но тоже без сновидений.
Их мне хватило на эту ночь.
Хотя это все, что угодно, но только не сны.
Наконец он останавливает машину и садится рядом с водителем.
Я втискиваюсь рядом с ним, он хлопает дверцей, машина трогается с места.
И я засыпаю, а когда просыпаюсь, то его уже нет рядом. На часах полдевятого утра и слышно, как он возится в прихожей. Видимо, собирается уходить.
— Ты позавтракал? — спрашиваю прямо из постели.
— Прости, — говорю ему, — но мне пришлось пить снотворное, никак не могла уснуть.
— Закроешь двери сам или мне встать?
Он говорит «До вечера!», захлопывает дверь, слышно, как поворачивается ключ в замке.
Я опять плотно натягиваю на себя одеяло и вдруг понимаю, что он спустится сейчас в лифте, но не пойдет на стоянку.
Он выйдет из подъезда и пойдет к автобусной остановке.
Но я знаю и то, что машину он начнет ловить минут через сорок, а значит, я могу еще поспать.
По крайней мере, все то время, что он будет трястись в автобусе и ехать в метро.
Я удобнее устраиваюсь под одеялом и опять закрываю глаза, чувствуя необыкновенное облегчение от того, что ночная головоногая тварь со своими прилипчивыми щупальцами пусть даже на время, но куда–то убралась из моего тела.
Через сорок минут меня будит телефонный звонок.
12
Телефон стоит в большой комнате.
Большая комната, она же — гостиная.
Телефон звонит в большой комнате.
Телефон звонит в гостиной.
Дурацкая квартира, в которой все и всегда слышно.
Лучше жить в доме, но для нас это невозможно.
Или в другой квартире, с другими стенами.
Но и это дорого, лучше не думать.
Лучше вообще не думать, особенно сейчас.
Когда в большой комнате разрывается телефон, а голова пухнет со сна и от снотворного.
Я могу встать и дойти до телефона. Доползти, добрести, добраться.
Но у меня нет сил — отбросить одеяло, спустить ноги на пол, встать и сделать хотя бы шаг.
Я лежу, тупо уставясь в потолок и ничего не соображаю. Как с жуткого похмелья.
Или перетраха.
Срабатывает автоответчик, я хорошо слышу громкий голос мужа, отчетливо произносящий слова: «Мы не берем трубку, значит, так надо. Оставьте ваше сообщение после сигнала и мы перезвоним!»
Я ненавижу автоответчики, как ненавижу все механическое, автоматическое, искусственное, неживое.
За исключением того, что действительно облегчает жизнь: например, стиральной машины–автомата. Или микроволновки. Или миксера.
Миксером хорошо сбивать тесто на утренние оладьи.
Он любит оладьи на завтрак, хотя сегодня я даже не встала.
Его голос на автоответчике замолкает, сейчас должно щелкнуть, а затем раздастся сигнал. Отвратительное то ли гудение, то ли жужжание. Зуммер. З–з–з…
Женский голос спрашивает моего мужа.
Молодой женский голос.
Звонкий и энергичный.
Сейчас муж должен ехать в метро.
Если верить ночным снам или тому, что было вместо.
Видениям, иллюзиям, галлюцинациям.
Моим видениям. Моим иллюзиям. Моим галлюцинациям.
Но самое смешное в том, что мужа в метро нет. Это я знаю точно.
Как знаю и то, что он сейчас в офисе, куда добрался на машине.
То есть, выйдя из подъезда, он не пошел на автобус, а свернул на стоянку.
И иллюзии остались иллюзиями.
Вот только почему звонят домой, а не в офис?
Мне надо встать, но я лежу и слушаю незнакомый женский голос.
Молодой женский голос.
Бодрый и энергичный.
«Это Майя, вас просил позвонить Николай Александрович. А еще лучше — заехать. Спасибо!»
Незнакомая Майя повесила трубку, незнакомый Николай Александрович так и остался в ее тени.
Мне вдруг подумалось, что так могли звать убитую женщину с дискеты — Майя. А мужчину — Николаем Александровичем. Пожилого мужчину, проведшего с ней ночь.
Голова не отрывается от подушки, я ненавижу снотворное, я его ненавижу, он сидит в офисе и занимается тем, что что–то пишет на компьютере. И говорит с секретаршей. Секретаршу я знаю, она безопасна. Одна женщина рассматривает другую прежде всего с этой точки зрения. В ракурсе безопасности. Твоя безопасность зависит от того, насколько она опасна. Ты можешь задуматься и проиграть. Не заметить во время, проглядеть, проспать.
Я с трудом, но встаю с кровати. Меня качает, я с брезгливостью смотрю на собственный живот и на голые ноги, не прикрытые ночнушкой. Живот–животик, я бегемотик! Толстой меня назвать не сможет никто, но животик чувствуется, хотя ему это нравится.
Ему это нравится, как нравится и многое другое.
Или нравилось.
До того, как он захотел меня убить.
Секретарша заваривает ему кофе. Прямо в чашке, видимо, растворимый. Какой–нибудь «нескафе». Секретарша не опасна, я знаю ее сто лет. Она работает у него два года и она — его руки, глаза и ноги. Так он сам говорит. Он берет чашку, делает глоток и ставит рядом с компьютером.
Или мне все это действительно кажется, или кубик Седого работает.
Хотя на самом деле я этого не знаю.
Я поворачиваюсь к зеркалу и смотрю на себя все с той же брезгливостью.
Когда тебе тридцать шесть, то желательно высыпаться и — без снотворного. Лицо похоже на яичницу, причем — остывшую. Сморщенную и не аппетитную. Может быть, что и подгорелую. Под глазами круги, губы бледные, щеки впали. Смерть у зеркала, такую и убивать не стоит.
Он начинает набирать номер.
Я чувствую это по той боли, что разлилась в висках.
И я знаю, какой номер он сейчас набирает.
Это мой номер. Его номер. Наш номер.
Осталось две цифры, а я все еще стою у зеркала.
Я ненавижу себя такой, хотя иногда мне кажется, что я себя всегда ненавижу.
За то, что я женщина.
Раздается звонок, автоответчик сработает после пятого гудка — так он запрограммирован.
Я доползаю до телефона и беру трубку.
— Ты как?
— Только встала…
— Кто–нибудь звонил?
— Я спала…
— Хорошо, — говорит он и вдруг замолкает. Он молчит и дышит в трубку, а я опять чувствую, как виски разламываются от боли.
— Я прослушаю автоответчик, — говорю я, чтобы опередить его вопрос. Боль стихает, можно даже повернуть голову. — И тебе позвоню, если что важное, хорошо?
— Хорошо, — говорит он тем же тоном. Хорошо, хорошо, хорошо, все хорошо, все просто прекрасно.
Я кладу трубку и выдерживаю паузу. Сколько надо времени, чтобы прослушать на автоответчике сообщение незнакомой Майи? Тридцать секунд? Минуту? Считаю до шестидесяти и набираю номер сама. Его номер.
И слышу его голос.
— Да, — говорю я, — тебе звонила какая–то Майя. Она сказала, чтобы ты позвонил Николаю Александровичу. Или — заехал…
А потом позволяю себе проявить любопытство и спрашиваю: — А это кто?
— Да так, — говорит он, — партнер один… — И добавляет: — Спасибо!
— Пожалуйста, — отвечаю я и жду его новой фразы.
— Я позвоню, — говорит он, — ближе к вечеру. Пока!
Я кладу трубку и чувствую себя последней дурой.
В очередной раз я чувствую себя последней дурой, но ничего не могу с этим поделать.
Мне втемяшилось в голову, что он хочет меня убить и я пошла в одну странную контору, где купила два дурацких кубика. Дура сдурила и купила полную дурость. Дурковатая дура, поступившая дурно. На самом деле все, скорее всего, не так, и Майя — это просто незнакомая Майя, а не убитая женщина с дискеты. И Николай Александрович действительно какой–то партнер, а если кто–то и хочет меня убить, то надо еще подумать, кто.
Но нож и дискета как лежали, так и лежат в нижнем ящике его стола.
И с этим мне уже ничего не поделать.
Я иду в туалет, а потом решаю принять ванну.
Чтобы смыть с лица следы яичницы. Чтобы опять стать похожей на саму себя.
И решить, по прежнему ли я хочу сегодня побрить ноги, или можно это отложить на пару дней.
Он позвонит ближе к вечеру, и если мне что и остается, так просто наблюдать.
Сидеть дома и ждать сигнала.
Быть в засаде.
Я открываю кран и смотрю, как в ванну хлещет вода.
От нее поднимается пар, я внезапно закашливаюсь.
Боль в висках прошла окончательно, но голова все еще тяжелая.
И тело — тоже.
Хуже всего — чувствовать собственное тело.
Хотя иногда это доставляет удовольствие.
Когда ты не просто чувствуешь его, а когда ты получаешь от него наслаждение.
От него, через него, в него.
Почему то обычно мы стесняемся в этом признаться. Мы боимся, мы делаем вид, что его не существует.
Мужчины же — наоборот.
И в этом все дело.
Я снимаю ночнушку и лезу в ванну.
Иногда мне кажется, что жизнь бессмысленна именно потому, что вся состоит из обыденных ритуалов.
Без которых собственно и нет жизни.
И значит, что сама жизнь есть очень странный ритуал, в котором намешано столько всего, о чем — как правило — никто никому не говорит. Ибо это не интересно.
Не интересно, который раз в жизни я уже принимаю ванну.
И сколько раз в день хожу в туалет.
И сколько часов сплю.
И как часто занимаюсь с ним любовью.
Хотя последнее мне интересно.
Пусть даже интерес этот чисто абстрактный — в момент просветления головы под воздействием паров горячей воды и ароматической соли. Соль+вода. Соль с запахом моря, вода с запахом ржавчины. Замечательный коктейль, но голова действительно становится прозрачней, я втягиваю ноздрями эту сумасшедшую смесь запахов и думаю о том, что хорошо бы сделать такой парфюм, чуть пахнущий морем и совсем немного — ржавчиной. Только совсем немного. Чуть–чуть.
В одной из половинок мозга ярко высвечивается картинка — он говорит что–то секретарше, берет с вешалки плащ и идет к выходу из офиса.
Я лежу в ванной и ничего не происходит. Я отмокаю, я прихожу в себя.
В первые годы мы занимались любовью по два, а то и по три раза в день. Если начать это считать в целом, то получится сумасшедшая цифра. Допустим, это было первых два года… Или три… Так три или два?
В году триста шестьдесят пять дней, надо умножить на три, потому что по три раза было чаще, особенно, если считать те ласки, которые он так любит. Слово возникает в голове, но я его не проговариваю. Почему на английском это называют так унизительно: blpwjob, низкая работа?
Потому, что нагибаешь голову? Или от того, что часто приходится вставать на колени?
Я хорошо считаю в уме, это еще со школы. Получается одна тысяча девяносто пять. Актов, коитусов, наших с ним сексуальных контактов.
Хотя — на самом деле — меньше, надо вычесть количество месячных, примерно пять дней в месяц, пять на двенадцать — шестьдесят. И умножить на три. Сто восемьдесят. И вычесть из одной тысячи девяносто пяти. Итого получается девятьсот семьдесят пять, хотя я могу и ошибиться. Но не на много, на пару коитусов что в одну, что в другую сторону.
И это только за первые три года.
И это тоже ритуал, от которого можно завыть.
Может, именно поэтому он и решил убить меня — от того, что только в первые три года он выебал меня примерно девятьсот семьдесят пять раз. А если считать остальные дни, недели и месяцы, то получится намного больше, хотя последние два года это происходит два, а реже — три раза в неделю.
Скажем, в субботу, во вторник и четверг.
Или в воскресенье, среду и пятницу.
Или воскресенье и среду, субботу и четверг, вторник и пятницу.
Мне надоело отмокать, я беру губку и начинаю мыться.
Все в той же левой половинке мозга продолжается увлекательная картинка — мой муж выходит из офиса и направляется к машине.
Хотя на самом деле ничего увлекательного здесь нет ни для кого, разве что для меня. Впрочем, любая женщина захотела бы быть сейчас на моем месте — это я знаю точно. Кто предупрежден, тот вооружен. Предпочтительно, чтобы ты знала о нем все и так же предпочтительно, чтобы он не знал о тебе ничего.
Хотя это полный бред, что они ценят в нас тайну. Загадочность. Недоговоренность и невысказанность.
Им как раз надо, чтобы все было наоборот — полная предсказуемость, жизнь по часам. Как коитусы в среду и воскресенье или во вторник и пятницу.
У них одна логика, у нас — другая, они это знают и боятся.
Они вообще боятся нас, почти все, хотя, наверное, есть и исключения, вот только я их не встречала. Видимо, мне просто не повезло.
Муж садится в машину, машина трогается с места. Скорее всего, он поехал на встречу с Николаем Александровичем, по поводу которой звонила Майя. Та самая, с молодым и энергичным голосом. Молодым и звонким. Майя, которая напомнила мне про женщину с дискеты.
Я намыливаюсь и начинаю лениво поливать себя из душа.
Все тот же ритуал, хотя он доставляет удовольствие. Всегда. После него становится легче. После сна становится легче тоже. И после коитуса. Хотя сейчас я бы три раза в день не выдержала, мне хватает и одного.
Наверное, именно поэтому он и хочет меня убить, вот только не придумала ли я все это себе сама?
Женская логика, о которой они так любят рассуждать и так любят на нее ссылаться.
Я думаю о том, брить ли мне ноги или нет, и чувствую, что сегодня я это делать не буду — мне лень. Хотя бы потому, что я очень долго думала о том, что мне надо это сделать. А раз надо — то не буду. Что я очень долго. Что мне надо сделать.
Что.
Что–то.
Что–то должно произойти.
Муж уверенно ведет машину и едет куда–то в южном направлении. По дороге, ведущей в южную часть города. К югу.
Мы живем на севере. Точнее — на северо–западе.
Если что–то должно произойти, то это произойдет.
Я сижу в засаде и жду. Это очень скучно — ждать так долго, но к тридцати шести ты уже умеешь ждать. Ты не умеешь этого в десять, в четырнадцать, в шестнадцать, в восемнадцать.
Как не умеешь этого в двадцать, двадцать два, двадцать шесть, тридцать и даже в тридцать два.
А в тридцать шесть уже умеешь, хотя — может — просто себя обманываешь.
Потому что ждать, скорее всего, уже нечего и все будет так, как и было.
Жизнь, состоящая из ритуалов. От начала и до конца, хотя о конце я никогда не думаю.
Это они постоянно загружены тем, что они смертны. Пусть и скрывают это от всех, даже от самих себя. Это единственное, что их волнует. Поэтому им никогда нас не понять — для них важно другое, постоянно занимать себя всем, чем угодно, лишь бы отвлечься от этих мыслей. Зарабатывать деньги, играть в теннис, ездить на машинах, заниматься любовью. Активное начало, мачо натуралис.
Поэтому для них так важно и количество женщин, чем их больше, тем сильнее ощущение бессмертия.
Хотя бы потому, что они хорошо осведомлены в том, что и сами были рождены женщинами, а значит — они слабее нас. И проникновение в лоно для каждого из них — это прикосновение к нашей силе. Хотя и тут боги на нашей стороне, потому что это мы становимся сильнее после того, как они разряжаются в нас, мы вычерпываем, высасываем. выдаиваем их до капельки и они лежат рядом, довольно похрюкивающие и усталые, оросившие, кого–то оплодотворившие, но так и не понявшие главного — если что и дает бессмертие, так это любовь, а не тот физиологический акт, которым они ее так часто подменяют.
Вот только я и сама до сих пор не знаю, что это такое — любовь.
Знаю, что такое страсть, что такое безудержное желание и такая же безудержная нежность.
Знаю, что такое похоть и что такое омертвелое равнодушие, как знаю, и что такое ревность.
Может, все это и есть любовь, вот только я сомневаюсь.
Скорее всего, в каждой из нас живет лишь желание любви, счастливы те, у кого есть дети — они находят эту любовь, но мне этого не дано.
И я уже привыкла к этому, хотя точнее сказать — начала привыкать.
Я начала к этому привыкать, как начала привыкать к тому, что в левой половинке моего головного мозга постоянно присутствует живущая отдельно от меня картинка: что сейчас делает мой муж.
Смешно, но отчего–то мне казалось, что я буду чувствовать это по другому, что это будет где–то в груди, там, где кубик.
Но все это происходит в голове.
В моей голове, которую я сейчас сушу феном.
Мои крашенные, коротко стриженные волосы.
Мою стрижку «под мальчика».
Мальчик–блондин, с грудью взрослой женщины и бритым лобком.
Муж выходит из машины, включает сигнализацию и заходит в незнакомый подъезд.
Я почему–то прекрасно знаю, что это тот самый подъезд, в который он должен был войти еще ночью, когда мы с ним ловили машину на обочине дороги у станции метро, но снотворное подействовало и я уснула.
Мне интересно, что будет дальше, я иду на кухню, совершая все тот же опостылевший ежедневный ритуал.
И мне намного лучше, чем всем остальным женщинам, кто сидит сейчас дома.
Они вынуждены смотреть телевизор, все эти бессмысленные телесериалы.
А я не смотрю телевизор, я смотрю на то, как мой муж поднимается по высокой и гулкой лестнице на третий этаж старого неказистого дома и нажимает на кнопку облезлого звонка. Мой красивый муж в таком красивом плаще. Высокий и стройный для своих сорока. Предмет желания, моя частная собственность.
Дверь открывается. Он входит в квартиру.
В прихожей его встречает женщина.
Молодая.
Моложе меня.
Ей лет двадцать шесть.
И он ее целует.
В губы.
И что–то говорит.
И я догадываюсь, что.
И швыряю фарфоровую кофейную чашку на пол.
Но потом успокаиваюсь и начинаю завтракать, внимательно приглядываясь к тому, что происходит там — в левой половинке моего головного мозга.
13
Она была совсем не похожа на меня.
И это самое странное.
И мы, и они всегда консервативны в выборе нового партнера.
Он должен напоминать предыдущего, хоть чем–то, хоть немного, но напоминать.
Овалом лица, прищуром глаз.
Наверное, это все на чисто подсознательном уровне. Откуда–нибудь из давнего прошлого, может быть, что и утробного.
Хотя все это уже психоанализ, а я его не понимаю.
Мне никогда не приходило в голову, что я могу переспать с отцом, или что отец может захотеть это сделать со мной.
Правда, у меня нет отца.
То есть, был кто–то, кто обрюхатил мою мать почти тридцать шесть лет и девять месяцев тому назад.
И она понесла.
Она забеременела мною, когда ей еще не было двадцати, по моему, в восемнадцать.
И родила.
И я жила с ней, пока не решила, что все — хватит, баста, пора рвать когти.
Но и все то время, пока я жила с ней, и тогда, когда ушла и стала жить отдельно, мать ни слова не сказала мне про отца.
Дома были фотографии мужчин, но ни в одну она не ткнула пальцем и не сказала: это он.
Тень без очертаний и без намеков на лицо.
Просто тень.
Поэтому мне бесполезно разыскивать в облике моих партнеров что–то, что указывало бы на него.
Хотя партнеров этих было не так много, но в них во всех было одно объединяющее.
Это я понимаю сейчас, и именно сейчас я могу в этом признаться.
У них должны быть волосатые руки.
Они могут быть разного роста и разного веса, они могут быть лысыми, а могут быть и с густой шевелюрой, но руки у них должны быть волосатыми.
Почему — не знаю, видимо, это все тоже на подсознательном уровне, но я не люблю в этом копаться.
И для них тоже важно, чтобы их девушки были в чем–то схожи.
Девушки, женщины, подруги, жены, любовницы.
Они могут быть блондинками и брюнетками, русыми и шатенками, они могут быть с длинными волосами и коротко стриженные.
У них может быть разного размера грудь и разного цвета глаза.
У них может быть разный рост, но все равно что–то должно быть общее.
Во всех.
Я знаю, что для моего мужа — это рот.
И дело не в том, что он западает на эту часть лица исключительно из–за того, что предпочитает всему оральный секс.
Он его любит, он его просто обожает, хотя это можно сказать про них всех, скопом, про мужчин как про класс в биологическом понимании. Такая видовая привязанность.
Порою, когда я размышляю об этом, мне кажется что дело тут не только в наслаждении как таковом.
Дело в мужском эгоцентризме, в желании и привычке ощущать себя пупами земли.
Когда его член погружается в мой рот, то он чувствует себя владыкой мира.
Конечно, ему это приятно, конечно, он просто млеет от того, что я ему делаю.
Но еще ему нравится смотреть на свой конец и на то, как он погружается в мой рот.
И как мои губы обхватывают его.
И на то, какая я покорная — на коленях, у него между ног.
И почему–то он забывает, что рот у меня полон зубов.
Почему–то они все об этом забывают.
О том, что если я захочу, то он никогда не сможет больше никому вставить.
Что они все не смогут этого сделать.
Что они лишаться главного, чем так гордятся и с чем так носятся в своей жизни — собственных гениталий.
Пусть даже мои зубы отнюдь не зубы акулы, их меньше, они не такие острые.
Но это все равно зубы и я могу пустить их в ход.
Как он может пустить в дело тот самый нож, что все еще лежит в нижнем ящике его стола.
Вот только она совсем не похожа на меня и это меня пугает еще больше.
И рот у нее не большой, а маленький, сердечком.
И она высокая, почти с него.
То есть, явно выше меня.
И у нее полная грудь и длинные рыжие волосы.
Глаза я рассмотреть не могу, для этого мне надо навести фокус, но я этого пока не умею.
Просто что–то происходит там. в левой половине моего мозга.
Там мой муж нежно здоровается с молодой женщиной, а потом проходит в комнату.
Комната пуста.
В комнате нет никого.
В комнате лишь стол, два кресла и несколько шкафов с книгами.
И еще — телевизор, видеомагнитофон и музыкальный центр.
И из комнаты ведет дверь в другую комнату, но мой муж туда не входит.
Он подходит к одному из шкафов и начинает смотреть на полки.
Я вижу, что на них не книги, а компакт–диски, муж выбирает один и идет к музыкальному центру.
Дома он никогда не слушает музыку, он никогда не занимается со мной любовью под музыку, я вообще думала, что он ненавидит музыку.
Видимо, я ошибалась.
Мне паршиво от того, насколько я ошибалась.
У нее маленький рот сердечком и высокая грудь — это видно даже через тот свитер, что сейчас на ней.
Свитер зеленого цвета, почему это рыжие так любят зеленое?
Но самое мерзкое в другом. В том. что все оказалось так просто.
И даже — примитивно.
Примитивно и просто, просто и примитивно.
У него появилась женщина, стоило ли ради этого ходить к Седому?
И сходить с ума все эти недели и дни?
Роман на стороне, кто из них этого себе не позволяет?
Самое скучное и банальное, что только можно представить.
Сейчас она подойдет к нему и они начнут обниматься, а потом он станет ее раздевать.
И я увижу, как она выглядит без своего свитера и без джинсов: она в джинсах, видимо, предпочитает спортивное, хотя, может, это только дома.
Она у себя дома и мой муж у нее дома.
И я увижу со стороны, как он нагибает ее и трахает.
Как это он делает со мной я видела только несколько раз, в гостиничных номерах с большим зеркалом.
И мне это нравилось, не знаю, понравится ли сейчас.
Я ненавижу ее, хотя в ней нет ничего отталкивающего.
Хотя в любой другой ситуации она бы мне даже понравилась.
У нее располагающее лицо и я, наконец, могу рассмотреть ее глаза. Близко, очень близко. Видимо, мне удалось сосредоточиться, хотя в левом виске опять запульсировала боль.
Я хочу, чтобы ему стало больно.
У нее маленький рот сердечком, но в нем тоже есть зубы.
И пусть она пустит их в ход, плевать на то, что это мой муж, но пусть она вонзит их в его член. Толстый и сильный. Которым он так гордится, как и все они.
Наверное, все дело в том, что у них он есть, а у нас — нет. У нас ничего там нет, кроме дыры. А дырой гордиться нельзя, с дырой живешь, но с ней не разговариваешь.
А они с ним разговаривают, каждый со своим, это их сила и это — их слабость.
Они смешны в этом, они в этом жалки.
Я ненавижу их всех, но больше всех я ненавижу его!
Она входит в комнату и приносит поднос с тремя чашками и кофейником.
Кофейник и три чашки.
Три чашки.
Три!
Я ничего не понимаю, боль из левого виска переходит в правый.
Он включает центр, видимо, они слушают музыку.
Поднос с чашками и кофейником стоит на столе.
На столике — маленьком и аккуратном, с каким–то красивым узором на столешнице.
Вот только я не могу его пока рассмотреть.
Они садятся в кресла.
Друг напротив друга.
Мило улыбаясь и шевеля губами.
Я могу видеть, я должна чувствовать. Но я не могу ничего слышать.
И я вижу, хотя и не чувствую ничего, кроме собственных ярости и бессилия.
И ничего не слышу.
Три чашки, он, она, но кто третий?
Неужели там есть действительно какой–то таинственный Николай Александрович, но тогда эта молодая особа — Майя.
Та, которая звонила с утра.
И та, которая напомнила мне убитую девушку с дискеты.
Я ничего не понимаю, ярость и бессилие куда–то уползают, как уползла и ночная головоногая тварь.
Мне опять просто любопытно, я не могу завтракать, я не могу делать ничего, только смотреть, смотреть, можно даже закрыв глаза.
Она наливает ему кофе.
Он берет свою чашку.
Она наливает кофе в две остальных чашки и что–то говорит.
Я вижу ее мелькающий язычок.
Она смеется, на щеках появляются ямочки.
Они мне нравятся, как нравится и она, хотя я все еще готова сорваться с места и убить их обоих: если она позволит себе встать на колени и если ее язычок дотронется до моего мужа.
Это мой муж, это мой мужчина, это мой самец с волосатыми руками!
Пусть даже он хочет меня убить, но он мой!
Я отвратительна сейчас себе сама, во мне нет ничего от интеллигентной и милой тридцатишестилетней бездетной женщины.
Я фурия, которая тоже готова убить.
Он — меня, я — их!
И тут я чувствую, что сейчас в комнате окажется кто–то еще.
Именно чувствую, а не вижу.
Пока не вижу, хотя вот–вот это произойдет.
К столу подъезжает третий.
Он именно подъезжает, потому что он в кресле–каталке.
И это именно он, мужчина. Пожилой мужчина в инвалидном кресле–каталке. С седыми волосами, в очках, в рубашке и в галстуке.
Поэтому в комнате два кресла.
Третье приезжает само.
Мужчина подкатывается к столику и ловко тормозит, они все смеются.
Видимо, они все давно знакомы. И хорошо.
Давно и хорошо знакомы, и им очень уютно вместе.
Почти семья. Как семья. Просто семья.
Он, она и мой муж.
Он старше моего мужа и намного старше ее.
И его лицо мне знакомо.
Вот только я не могу понять, кого он мне напоминает и где я его могла видеть.
Или это просто пресловутое «дежа вю» и у меня опять галики и тараканы, бродящие в голове?
Как жаль, что я ничего не могу слышать. Хотя бы того, как они обращаются к друг другу.
Неужели этот мужчина — действительно тот самый Николай Александрович, который якобы партнер?
Инвалид в кресле–каталке не может быть партнером по бизнесу, хотя в этом я могу ошибаться, как могу ошибаться и в том, что я его где–то видела.
Но это действительно так, хотя где и когда это было?
А Майя молчит и смотрит на мужчин.
Ее зовут Майя, отчего–то я в этом уверена.
Мой муж вдруг кладет руку на руку Николая Александровича.
И делает это очень нежно.
Он гладит его руку, как гладят руку родного человека.
Отца, брата, сына, любовника.
И для меня это опять шок.
Я никогда не видела, чтобы муж был так нежен с мужчинами.
Они для него — партнеры, а дружба — это взаимополезность.
Я цитирую его слова, потому что он часто говорит мне об этом.
Хотя бы, когда упоминает моих подруг.
Я думаю о том, что все происходящее такой бред, что мне действительно стоило бы посоветоваться с кем–то из них, вот только я никогда не буду этого делать, ведь каждая только и ждет, чтобы другая опростоволосилась.
Если у них дружба — это взаимополезность, то у нас — взаимоненависть, пусть мы и чирикаем беспрестанно, как любим друг друга.
Целуемся при встречах и вешаемся на шею.
А про себя думаем то. что никогда не скажем вслух.
И разговоры наши между собой полны невысказанной зависти и злобы, только при этом надо улыбаться. Шире, еще шире.
Я улыбаюсь, я думаю, что мне делать.
Я видела этого мужчину, но где?
Я знаю, что он дорог моему мужу, я вижу это, я чувствую.
Он значит для него гораздо больше, чем Майя, это я тоже чувствую.
Майя мне нравится, а мужчина — нет, хотя он меня притягивает.
Нет, не как возможный сексуальный партнер, хотя это было бы забавно — попробовать это с мужчиной, намного старше тебя.
Насколько?
Я опять пытаюсь настроится на крупный план, левая половина головы уже просто раскалывается, Седой обязан был меня предупредить, что это так больно и некомфортно: подглядывать за собственным мужем, вползать в ту жизнь, которая не предназначена твоему взгляду.
Не для твоих глаз.
Не для твоих ушей.
Не для тебя.
Его лицо гладко выбрито, у него хищный нос и полные, чувственные губы. он и сейчас еще интересный мужчина, хотя ему уже явно за шестьдесят, старше меня лет на двадцать пять — тридцать, у меня никогда не было любовников с такой разницей в возрасте, он годится мне в отцы.
И он мне кого–то напоминает, я никак не могу отделаться от этой мысли.
И мне нравится его лоб, высокий, крутой лоб очень умного человека.
И его глаза, такого же цвета, как у меня.
Темно–карие, со странным разрезом.
Его глаза вообще похожи на мои и от этого мне становится дурно.
Физически, хотя я понимаю, что всем виновата боль.
Височная, невыносимая, от которой хочется биться головой об стену.
Я чувствую отвратительный спазм в желудке и кое–как успеваю добежать до туалета.
Я только начала завтракать, но и этого хватило.
Меня выворачивает и я стою на коленях, обняв унитаз, будто делаю ему минет.
Отвратительное зрелище, слава богу, что этого никто не видит.
Но боль проходит, и это главное.
Вот только оказывается, что проходит не только боль.
Я перестаю видеть и чувствовать, левая половина мозга пуста.
Седой не предупредил меня о многом, хотя — скорее всего — это какая–то моя особенность.
Моего организма.
Только моего.
Сильное перенапряжение ведет к перегоранию каких–то внутренних предохранителей.
И кубик перестает работать.
Я не знаю, что сейчас делает мой муж, как не знаю, что делают Майя и Николай Александрович.
Скорее всего, они все еще пьют кофе, разговаривают и слушают музыку.
Я опять иду в ванну, и тщательно мою лицо и также тщательно чищу зубы.
Свежесть зубной пасты после рвотной мерзости.
И дикое облегчение от того. что в голове появилась пустая комната.
Без жильцов, без необходимости за ними подглядывать.
Мне действительно безумно хочется выговориться, но кому?
Только не подругам, это я понимаю, тем более, что ни одна из них не скажет, где я могла видеть этого пожилого мужчину.
Они просто не знают этого.
Знает лишь один человек, моя мать.
В этом я уверенна, как абсолютно уверенна и в том, где я могла его видеть.
На фотографии.
Маленькой фотографии в альбоме.
Большом старом альбоме, полном чужих и не чужих лиц.
Альбом этот лежит у матери на серванте, я давно его не рассматривала, так же давно, как не навещала мать.
Обычно мы созваниваемся. Раз в два дня, иногда в три.
Пусть я и ушла из дома как только мне исполнилось двадцать, но с годами возникшее когда–то отчуждение превратилось в компромисс: раз есть мать, то с ней надо видеться, а еще лучше — созваниваться.
«Здравствуй, мама, как ты?»
«Здравствуй, у меня все нормально!»
«Я рада!»
«Как у тебя дела?»
И так далее, и так далее, и так далее.
Мне надо позвонить ей и сказать, что заеду. Не надолго. На час, не больше.
И мне надо найти этот альбом.
В нем есть и я, совсем маленькая голая девочка с пухлой и смешной пиписькой.
Она хотела отдать мне эту фотографию, но я отказалась, не хочу, чтобы он видел меня такой.
Я делаю себе вторую порцию завтрака — просто белый хлеб, зажаренный в микроволновке, на гриле.
Два кусочка хлеба, а потом чашка кофе.
И звоню матери.
И она говорит, что будет не против, если я заеду.
А в левой половине головы все та же пустая комната, и я понятия не имею о том, чем сейчас занимаются мой муж, Майя и Николай Александрович.
14
Спускаться вниз не то же самое, что подниматься вверх. Отвлеченное размышление, попытка вновь обрести ясность мышления. Левая половина голова все так же пуста. Я захожу в пустой лифт. Полутемный, пустой лифт. Они всегда экономят на лампочках, лампочка могла бы осветить лифт, более яркая лампочка чем та, что светит сейчас.
Спускаться не так страшно, как подниматься. Падать вообще не так страшно, страшно потом, когда ты уже лежишь. Потому что не знаешь, сможешь встать или нет. Лифт спускается, я смотрю на себя в зеркало. В нем почти ничего не видно — белки глаз и какое–то пятно, видимо, это лицо.
Я собиралась быстро, очень быстро. Обычно это происходит медленно. В той, другой, нормальной жизни. Но та жизнь закончилась, вчера началась другая. И я тоже должна стать другой, хотя это еще не факт. Я думала, что мне придется убегать, прятаться. Спасать себя от ножа, что лежит в его столе. Но пока я догоняю, вот только бы знать, кого.
Я надела плащ, помня, что вчера шел дождь. И взяла зонт. И машинально сунула в карман новые черные очки. Еще новые — им нет и суток. Для меня, при мне, со мной. Как моей вещи.
Очки — моя вещь, я — его. Вот только я уже не новая, меня можно заменить. Устаревшая модель, тело, переставшее давать удовольствие. Или дающее привычное удовольствие, а хочется чего–то другого. Разнообразия. Самое мерзкое, что все это банально, нет ничего более противного, чем банальность, происходит то, что должно произойти, ты всегда знала, что это произойдет, вот только отчего–то надеялась, что не с тобой.
Тебя это не коснется, тебя это обойдет стороной.
Я выхожу из подъезда и понимаю, что я сглупила. Вчера был другой день и другая погода. Сегодня не просто дождь, сегодня дождь со снегом. Обычно я всегда смотрю за окно, но то обычно, а обычно уже не будет. Никогда, это надо понимать. И я сглупила, что надела плащ, но хорошо сделала, что надела брюки и поддела под них колготки. Дождь со снегом, и они говорят, что это — весна. Если это весна, то завтра будет зима. Как в октябре, когда дождь со снегом. А потом — только снег. Я раскрываю зонт, мне становится зябко. Сильный ветер бьет в лицо, я наклоняю голову. Голову, в которой одна половина сейчас пуста. А еще недавно в ней были люди. И что–то делали. Там были женщина и мужчина, и еще один мужчина. Мой муж.
Я иду к перекрестку за которым — остановка. Если долго не будет транспорта, то поймаю машину. Если поймаю. Транспорт. Трамвай, троллейбус, автобус. Теплее всего в трамвае, быстрее всего на автобусе. Но еще быстрее на машине. И теплее.
Перед перекрестком на асфальте распластана бабочка. Кто–то нарисовал ее, видимо ночью. Вчера еще не было, хотя может, я просто не помню. Не заметила. Углядела только сейчас. Большая, яркая, красивая, когда–то я видела таких в лесу. Только меньше, во много раз меньше. Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Кто–то рисовал ее ночью под дождем, сейчас на нее падает снег. Я ничего не понимаю в бабочках, но они мне нравятся. Они красивые и беззащитные, как мы.
Мне не хочется вставать на нее, но я вынуждена, одна нога — на крыле, другая — на тельце. На крыле тщательно выведены пятна, черные и голубые. И еще — красные. Я иду на остановку, мне надо ехать к матери. И поэтому я наступила на бабочку, нарисованную на асфальте. Она не живая и ей не больно. Хотя утверждать этого нельзя. Я не знаю, больно ей или нет, я знаю, что больно мне.
Мне сейчас больно, хотя я думала, что все будет наоборот. Откуда я знала, что кубик Седого так подействует на меня. Точнее, не кубик, а то, что я буду видеть.
Подходит автобус, но я не успеваю. Я еще стою перед перекрестком, но бабочка уже позади. Вспорхнула и улетела. Интересно, кто нарисовал ее и зачем. Мне этого никогда не узнать, как не узнать и многое другое. Но надо попытаться, для этого сейчас я вышла из дома, поэтому меня продувает ветер — под плащем лишь тонкий свитерок, а под свитерком — лифчик. И все. Дальше — тело.
Именно оно всему виной, было бы тело другим, все пошло бы по–другому. Сейчас я ненавижу себя за то, что я женщина. Меня родили женщиной, маленькой девочкой с пухлой и голой пиписькой. Потом я стала девушкой, потом — женщиной. И пиписька обросла волосами. И я вляпалась. Как вляпалась когда–то моя мать.
Она не любит меня, она любит моего брата. Моего младшего брата, которому я должна быть благодарна. За то, что тогда он позвал меня в гости, и я пришла. И он тоже пришел. Мой будущий муж.
Я перехожу перекресток, я иду уверенно, я выгляжу уверенной в себе женщиной. Но это иллюзия. Порою мне кажется, что вообще все в этой жизни иллюзия и на самом деле вокруг совсем не те, за кого они себя выдают. Вывеска над конторой Седого гласит «Ремонт человеков», и нас всех надо отремонтировать, мы все больны, хотя и не знаем этого. Только болезни у всех разные, у нас — женские, у них — мужские. Мы больны тем, что мы женщины, они — тем, что мужчины, вот только это не они нагибаются и их трахают, а мы.
Иногда мне хочется стать мужчиной, когда я чувствую себя настолько беспомощной, что уже просто хочется выть. Сейчас мне тоже хочется выть, но еще хочется узнать правду. Я не знаю, зачем мне она нужна. Но я должна понять, что это за мужчина в кресле–каталке рядом с той женщиной, которая мне так понравилась. И я еду к матери, я сажусь в подъехавший троллейбус, устраиваюсь у окна на задней площадке и тупо смотрю на улицу.
Улица полна рекламных щитов, и почти на всех — женщины. Они пьют чай, они курят сигареты, они пользуются шампунем и пылесосами. Пылесосы сосут пыль, женщины сосут мужчин и женщин, я никогда не сосала у женщины, не знаю, хотелось бы мне этого или нет. «Мы научили мир сосать» — очередной рекламный щит, женщина с чупа–чупсом. Почему именно женщина? Почему именно мы вынуждены давать, давать, давать, а что будет, если не дать?
Я хорошо понимаю, что тогда не будет меня. Меня растопчут, меня уничтожат. Впрочем, меня и так уже хотят убить. Я так свыклась с этой мыслью, что она даже греет меня, привычная мысль, которая привычно проскальзывает в правой части головы. Левая все так же пуста, темная комната с занавешенными окнами. Я не знаю, что я вынюхаю у матери, где я найду этот альбом и что я ей скажу. Но я знаю, что мне это надо.
Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… наша разница с братом не только в том, что мать любит его и не любит меня. Наша разница с братом еще и в том, что он знает своего отца. А я не знаю. Сейчас его отец живет в другом месте и с другой женщиной, но он знает, что у него есть сын. А где мой отец и знает ли он, что у него есть дочь — этого не знает никто.
Я догадываюсь, почему мать любит брата, и почему не любит меня. Потому что она тоже женщина и в свое время ее тело было ее врагом. И она дала мне такое же тело. А у брата тело мужчины, брат мужчина, брат — это то, что властвует. Наверное, хорошо, что у меня нет детей, потому что тогда я стала бы моей матерью. Если бы у меня была дочь, то я не любила бы ее, прекрасно зная все, что с ней произойдет. Что ее будут нагибать и трахать. Лучше любить того, кто будет это делать. И когда есть сын, то другие мужчины уже не нужны.
Меня внезапно окликают и я оборачиваюсь от окна. Еще не хватало встретить знакомую. Тем более ту, которая меня окликнула. В этом троллейбусе. Когда я еду к матери. Есть люди, которых хочется забыть. Пусть даже когда–то вы дружили. Когда–то мы дружили, это я помню, хотя не помню, как ее зовут. По моему, Лида. А может, Таня или Света. Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Тогда мы дружили. Его еще не было в моей жизни. Очень давно и не виделись столько лет. Интересно, как она меня узнала, я ведь тогда не была крашенной. Мы перестали дружить потому, что она на меня обиделась. Хотя было за что. Она позвала меня в гости за город. И позвала еще двух молодых людей. Как давно это было и как быстро я это вспомнила. Один молодой человек — для меня, другой — для нее. Вот только тот, что «для нее» запал на меня. И я нагнулась, и он меня трахнул. Одноразовый секс в презервативе, хотя презервативы я не люблю. После этого мы перестали дружить, но изредка общались. Она даже знает, что я замужем. Вот уже восемь лет. Единственное, чего она не знает, так это того, что он хочет меня убить. И того, что сейчас он не со мной. И я пытаюсь понять, с кем он, что это за люди и какая опасность исходит от них.
Мы о чем–то говорим, но я не понимаю, о чем. Разговор дурацкий, как все разговоры в троллейбусе. Или в автобусе. Или в трамвае. Как ты живешь? Это вопрос и на него следует ответ: хорошо! Ведь я никому не скажу правды. Да она ее и не ждет. Правда ее не интересует. Она просто спрашивает, чтобы заполнить время.
Мужчины часто хотят знать, о чем мы говорим между собой. За окном очередной рекламный щит с очередной женщиной. На щите есть и мужчина, он красив как мачо–натуралис. Самец со стальными яйцами. Победитель по жизни. Ночью, когда все спят, он оживает и пристает к женщине с флаконом шампуня в руке. Она обнимает его, вот только куда она девает шампунь? Я этого не знаю и никогда не узнаю, ночью я сплю, ночью всем надо спать, ночь — это время для сна.
И для многого другого, хотя бы для того, чтобы вспомнить о том, о чем мы говорим между собой. Но вспоминать об этом не интересно, как не интересно и говорить. Потому что все это фигня.
Если не сказать грубее, но сейчас это слово у меня не выскакивает. Бывшая подруга прощается и выходит, мне ехать еще две остановки. Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Я все же не понимаю, почему мать любит брата и не любит меня. И почему она никогда не говорит со мной об отце. Мне тридцать шесть и я о нем ничего не знаю, я его никогда не видела, хотя я знаю, как его зовут. Могли звать. Могут звать. У меня есть отчество, а значит, у него есть имя.
Николаевна. Его зовут Николай. Мужчину в кресле–каталке зовут Николаем Александровичем, хотя я могу и ошибаться. Но Майя звонила утром и сказала, чтобы он встретился с Николаем Александровичем. А я — Николаевна. Хотя мой отец не может быть в кресле–каталке, не должен. Вот только лет ему должно быть примерно столько же. Мать родила меня, когда ей еще не было девятнадцати. Сейчас ей пятьдесят четыре. Когда он нагибал ее и трахал, то он был старше ее, он должен был быть старше ее, он мог быть старше ее. И у матери было тело, которое стало ее врагом. С грудями и с дырой между ног. Дырой, которую надо заполнять, потому что на то она и дыра. И у меня тоже дыра, так за что матери любить меня? Я ведь даже не родила ей внука. Или внучку. Но лучше — внука. Я никого не родила ей, а брат родил. Точнее, зачал. У брата между ног нет дыры, там есть то, что делает мужчину мужчиной. Самцом. Кобелем. Что дает ему право быть сверху.
Когда мой муж по утрам делает зарядку, то делает ее голым. И я смотрю, как у него болтается между ног то, что так просто откусить. Но он гордо скачет по комнате и это болтается, и я понимаю, что он горд. Если я разденусь и начну скакать рядом, то трястись будут груди, а между ног все будет мертво. Щель, бездна, дыра. И все мы нуждаемся в ремонте. Мне надо было попросить Седого о другом — чтобы он сделал что–нибудь с моей дырой, хотя мужчиной я быть тоже не хочу. Только иногда, навязчивая мысль, исключительно от собственной беспомощности.
Я хочу, чтобы меня отремонтировали и чтобы я опять почувствовала себя здоровой. По настоящему здоровой, с гордостью за то, что я есть. Что я живу и что меня любят. Я хочу, чтобы меня любили и не хочу, чтобы меня хотели убить. И главное — я не понимаю, за что.
Мне пора выходить, я продираюсь к выходу и соскакиваю на асфальт. Скок–скок, опять идет снег. Снег с дождем. И я опять раскрываю зонт. До дома матери совсем немного, старый дом, в котором я когда–то жила. Здесь я ходила в школу, здесь я впервые влюбилась. Мне было четырнадцать лет, он был в одиннадцатом классе. Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Я не люблю сейчас ходить по этой улице, я явно вижу, как по ней идет другая «я», которой сейчас четырнадцать. И еще одна другая «я», уже постарше — шестнадцать или восемнадцать? Здесь все те же дома и выглядят они все так же. Хотя в них другие магазины и возле них стоят другие машины. Моя школа через два двора, но я в нее давно не хожу, в последний раз я в ней была почти двадцать лет назад, а потом я поступила в университет и съехала от матери, потому что у матери был брат и я ей была не нужна.
Я вхожу в подъезд, в нем нет лифта, в доме всего пять этажей. Мать живем на четвертом, когда–то на четвертом жила и я. Пока не убралась в общежитие, не смоталась, не сбежала. Мне надоело то, что на меня кричат, что мной всегда не довольны. Хотя теперь я понимаю, что дело было в другом, не во мне.
Просто в том, что я тоже — женщина.
И мать знала, что со мной будет.
И жалела меня, но любовь и жалость — разные вещи.
Если бы у меня была дочь, то я бы ее тоже жалела. Но навряд ли любила.
Я любила бы сына, я бы его обожала.
Интересно, сколько матерей готовы на то, чтобы дать сыновьям всю себя? Полностью, включая тело? Замкнуть круг и снова впустить туда, откуда они вышли На самом деле очень мало, наверное, считанные единицы. Самые смелые и самые храбрые. Самые любящие и самые бескорыстные. Самые оберегающие и самые добрые. Настоящие матери, а все остальные хотят этого и боятся признаться.
Как и моя мать, которая просто мать. Которая любит брата и не любит меня, как не любит и его жену, хотя всегда говорит, что просто обожает. Потому что она родила от ее сына и сейчас у нее есть внук. И она квохчет над ним, как всегда квохтала над братом. Я тоже не люблю ее, но чувствую свою связь с ее телом. До сих пор. И иногда думаю о том, что когда мне будет за пятьдесят, то я стану похожа на нее, хотя дочери обычно похожи на отцов. Лицом. А фигурой — в мать. Если мне будет за пятьдесят, если я доживу. Но пока я этого не знаю.
Мне осталось подняться еще на два этажа.
Сейчас я на втором.
Площадка, где почтовые ящики.
Когда я жила в этом доме, то каждый день бегала за почтой.
Я ждала писем, в четырнадцать я ждала писем от него.
Я не люблю вспоминать себя той.
Я была полной, абсолютной дурой, которая думала, что всегда будет счастливой.
У которой был брат и отчим, и была мать.
Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли…
Он учился в одиннадцатом и иногда писал мне письма.
Они приходили в плотных конвертах с дурацкими марками.
Я вскрывала конверт прямо на площадке и быстро пробегала по листу глазами.
Потом я прятала лист обратно в конверт и шла домой.
И там запиралась в туалете и снова перечитывала.
Мне хотелось, чтобы он любил меня, но он просто со мной дружил.
Он говорил, что «я — свой парень».
Вообще–то иногда мой муж напоминает мне его.
Он был тоже высоким и иногда провожал меня домой.
Он поднимался со мной по этой лестнице и мы о чем–то говорили, пока мать не выходила на площадку и не кричала, что мне пора.
Или шептала — если брат уже спал.
Он был младше и ложился раньше спать.
Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли…
Если бы он меня любил, то я потеряла бы девственность гораздо раньше.
И не на даче, а дома.
Или у себя, или у него.
Хотя он трогал меня несколько раз и несколько раз мы целовались. И он хотел сделать то, что со мной делали уже столько раз, но потом, когда это стало можно. Когда дыра стала просто свободной дырой.
А когда мы целовались, то через пять минут мои трусики становились мокрыми. От сока. От желания. Но он не любил меня, это я чувствую и сейчас. Этот старый подъезд для меня и сейчас пахнет его нелюбовью.
Мне остался один пролет, когда–то давно на правой стене кто–то выцарапал мое имя. Но не он. Потом подъезд покрасили и имя исчезло, хотя вмятина осталась. Если приглядеться, то можно рассмотреть и сейчас. Вмятина под глупой темно–зеленой краской. Я не люблю приходить сюда, потому что сразу вспоминаю все это. И как мы стояли зимой у батареи, и как он обнимал меня, а я хотела только одного — чтобы он меня тоже любил.
Я подхожу к двери, на ней все тот же номер, что и тогда. когда я жила здесь. Квартира «31». 3+1=4. Если разделить на два, то будет два. Если умножить на два, то восемь. Дурацкая привычка считать цифры, умножать, делить, складывать и вычитать. И звонок все тот же, справа над косяком.
Если бы у меня был отец, то он ждал бы меня и волновался, и смотрел с ненавистью на того, кто провожал бы меня до дверей. Но я этого точно не знаю, так как этого у меня не было. У меня есть только отчество и ощущение того, что в старом толстом альбоме с фотографиями, который лежит у матери на полке серванта, я найду то, чего мне не следовало бы находить. Потому что всегда есть что–то такое, о чем лучше не знать. Можно догадываться, можно предполагать. Но знать не стоит, хотя именно для того, чтобы знать, я пошла вчера к Седому.
Вот только комната в левой половине головы по–прежнему пуста.
Не видно ни стола, ни двух кресел, ни шкафов с книгами и компакт–дисками.
И мужчины в кресле–каталке тоже не видно.
Если они все еще пьют кофе, то делают это в темноте.
Полной темноте, отгородившись от моей головы плотными, тяжелыми шторами.
За этими шторами сейчас мой муж, пожилой мужчина в кресле–каталке и молодая женщина в зеленом свитере с рыжими волосами.
Я нажимаю кнопку звонка, слышны шаги матери.
Когда–то в этой квартире мы жили втроем, потом в ней остались мать с братом.
Потом брат женился и туда въехала его жена.
Потом брат купил квартиру и мать осталась одна.
Со своей старой мебелью, старым телевизором и старыми фотографиями.
И своим постаревшим телом.
Которое когда–нибудь напомнит мне мое.
Когда–нибудь, когда матери, вполне возможно, уже не будет в живых.
А мне будет за пятьдесят, и на моем лобке уже будут седые волосы.
И я пойду в ванну и случайно посмотрю на себя в зеркало.
И подумаю о том, как я стала походить на мать.
Если, конечно, я доживу до того дня, а это зависит прежде всего от того, действительно ли он хочет меня убить.
Мать открывает дверь и я вхожу в квартиру.
Левая половина моей головы все еще мертва.
15
Единственное, чего я хочу — как можно скорее добраться до фотографий.
Хотя больше всего ненавижу рассматривать семейные альбомы.
Рассматривать чужие семейные альбомы и показывать свои.
Это не тот вариант подглядывания, который доставляет тебе удовольствие.
Он вообще ничего не доставляет, разве что ощущение тлена.
И все тех же иллюзий, от которых никто из нас не может избавиться.
Иллюзий любви и смерти.
Живые люди, которых давно нет в живых.
Пусть даже они все еще живы.
Они живы и они любят, хотя они давно уже мертвы.
Хотя бы по отношению к тем, которые любили.
За окном становится темно — это снег повалил крупными хлопьями.
Весна, сошедшая с ума, весна, похожая на меня, подобная мне, шизофреническая, параноидальная весна, хотя всегда плохо понимала разницу между шизофренией и паранойей, я не врач, я просто сходящая с ума тридцатишестилетняя женщина.
Которая приехала к своей матери только за одним — найти в куче старых семейных фотографий одну.
Про которую известно все, кроме одного — есть ли она на самом деле или нет, видела ли я ее когда–то или это тоже — иллюзия.
Мать говорит мне, что я хорошо выгляжу и я киваю.
Если бы она знала, как я выгляжу на самом деле, то она бы ужаснулась.
За последние два дня я стала не просто другой, за последние два дня той меня просто не стало.
Стала, стало, в левой половине головы опять возникает боль.
Но меня это радует, слишком долго в той комнате было темно и пусто, слишком долго я ничего не видела и ничего не знала.
Видимо, у кубика Седого есть самозарядное устройство. Он разряжается от перенапряжения и потом вновь заряжается, но только от чего?
Скорее всего, раз он в моем теле, то от меня.
Хотя это правильно, потому что кубик — мужского рода, а значит он тоже меня нагибает и трахает.
— Будешь обедать? — спрашивает мать.
— Я только что завтракала, — отвечаю ей и опять смотрю в тот угол серванта, где пылится альбом.
Хотя он не пылится, мать акуратистка и у нее все всегда сверкает. Мне повезло, что она сегодня не на работе.
Но я не знаю, как взять альбом в руки.
Я не хочу, чтобы она мне задавала вопросы.
Я давно уже не отвечаю на ее вопросы, как не спрашиваю и сама.
У нас светские отношения, хотя ее должна интересовать моя жизнь.
Должна.
А меня — ее.
И на самом деле она меня интересует, потому что мне интересно, что когда–нибудь будет со мной.
Например, климакс.
Наступил он у нее или нет.
И есть ли у нее желание до сих пор, или оно умерло.
А если есть, то как она его удовлетворяет?
Она давно уже постоянно не живет с мужчинами, но ведь тогда кто–то должен быть.
Любопытствующая, подглядывающая, пытающаяся хоть что–то узнать.
— Так ты будешь обедать? — опять спрашивает мать.
Я опять мотаю головой.
Я думаю о том, как заполучить в руки этот альбом.
В левой половине головы все нарастает и нарастает боль.
Как в предверии месячных, хотя они у меня были недавно.
Еще несколько дней, и трахать меня можно будет лишь с презервативом.
Хотя он терпеть не может презервативы, разве что для анального секса, но я терпеть не могу анальный секс.
По крайней мере, с ним он мне не нравится, а если когда–то и нравился, то не с ним, но я этого почти не помню.
У него слишком толстый и мне больно.
Хотя раз в три, а то и в два месяца, он доводит меня до того, что я покорно подставляю ему задницу.
Мачо натуралис, обожающий задницу своей жены.
Как он говорит — она у тебя такая белая и красивая.
У моей матери тоже красивая задница, до сих пор.
Я смотрю на мать и думаю о том, знает ли она, что это такое — анальный секс.
И болит ли у нее голова перед месячными.
И как она предохранялась, когда ей было надо предохранятся.
Пила ли таблетки или предпочитала презервативы.
Резинки.
Гандоны.
Одна моя знакомая настолько брезглива, что сосет только в презервативе.
Я это знаю наверняка — она мне сама рассказала об этом как–то вечером, когда мы пили у меня дом джин из банок.
Такой слабый, но в голове все равно туман.
Мы пили джин и говорили о всякой ерунде, а потом перешли на мужей и знакомых мужчин.
Она любит мужчин, по крайней мере, порою мне кажется, что она любит их больше меня.
Я люблю своего мужа, того самого, который хочет меня убить.
Я люблю его и боюсь его. Как боюсь сейчас того, что в левой половине головы опять возникнет картинка.
Но она должна возникнуть, кубик Седого стоит недешево и мне будет обидно, если он перестал работать.
Она говорила о своем муже, а потом призналась, что сосет у него только в презервативе.
Это было на третьей банке джина.
— Почему? — спросила я.
— Он пахнет, — сказала она, — и потом, я не люблю этот вкус.
— Вкус спермы, — уточнила я.
Она кивнула головой, а я подумала о том, как все это выглядит. Когда она берет член мужа в рот, а на нем резинка. Красная, желтая или зеленая. И с запахом — клубники, бананов или яблок. И как она заказывает мужу, что купить на этот вечер — с запахом бананов и желтые, или с ароматом яблок и зеленые.
И он послушно идет в аптеку.
Хотя, может, наоборот — это он сам выбирает запах и вкус предстоящего вечера.
Точно так же, как выбирает жене парфюм.
К определенными датам.
К дню первого соития.
К дню рождения.
К дню свадьбы.
К восьмому марта.
Хотя это уже про моего мужа, про которого я не знаю главного — чем он сейчас занят там. в странной квартире, в которой живут молодая женщина и пожилой мужчина–инвалид.
У него гладко выбритое лицо, хищный нос и полные, чувственные губы. Он и сейчас еще интересный мужчина, хотя ему уже явно за шестьдесят.
И он в кресле–каталке.
А рядом красивая молодая женщина с длинными рыжими волосами.
С узкими бедрами, узкими запястьями и узкими щиколотками.
И полной грудью.
По крайней мере, такой она мне запомнилась, но сейчас в левой половине головы все еще темно.
Мать смотрит на меня и я понимаю, что ее интересует, чего я так внезапно притащилась к ней этим странным весенним днем, когда за окном валит снег крупными хлопьями, хотя еще утром хлопья были мелкими и параллельно шел дождь.
И мне надо что–то сказать, потому что иначе я не доберусь до главного: до альбома, лежащего в серванте.
И мне ничего не остается, как начать плести всяческую ахинею насчет того, что мне ночью приснился странный сон, а во сне один человек…
— Ну и что? — говорит мать.
Я продолжаю, тупо смотря на нее и подмечая, как мы, все же, в чем–то становимся похожими. Хотя бы тем, как улыбаемся и как иногда кривим уголки рта.
Во всем остальном я похожа не на нее, видимо — на отца, но вот только кто он, где он, как его зовут?
Хотя на последний вопрос отвечает мое отчество.
Моего отца зовут Николаем.
Мужчину в кресле–каталке зовут Николаем Александровичем.
Я похожа на охотничьего пса, взявшего след.
Только я не кобель, а сука.
Он любит, когда я, распластавшись под ним и уткнувшись лицом в подушку, выкрикиваю сквозь сжатые зубы: — сука, сука, сука!
Это его заводит и он долбит меня с силой неживого механизма.
Будто этим словом я включаю какой–то дополнительный мотор.
— Я видела это лицо, — говорю я матери, — когда–то, по моему, среди твоих фотографий.
— Бред, — говорит мать.
— Бред! — соглашаюсь я и добавляю: — Но я проснулась и не могла потом уснуть, мне надо их посмотреть, ты не против?
— Смотри! — говорит мне мать и кивает в сторону серванта.
Я беру альбом и чувствую, как по груди стекает струйка пота, а в висках опять начинает сильно пульсировать кровь. Боль в левой половине головы вновь становится невыносимой, если бы сегодня был другой день, если бы все это было еще позавчера, то я бы попросила таблетку от головной боли.
Но сегодня — это сегодня, и мне надо вытерпеть эту боль до конца.
Может, тогда я вновь увижу, как пустая и темная комната становится ярко освещенной и заполненной людьми.
Я сажусь с альбомом на диван, мать уходит на кухню — у нее там свои дела.
Альбом толстый и в нем много всего.
В нем есть мой брат и есть я.
В нем есть родители моей матери, которых я еще помню.
В нем есть моя мать, совсем еще маленькой девочкой.
Есть и девочкой постарше, и девушкой, и совсем молодой женщиной.
Фотографии расположены хаотично, иногда они просто вложены стопкой между двумя листами.
Наш домашний альбом совсем другой, им занимается муж.
Это альбом не столько про нас, сколько про то, где мы были.
Мы в Испании, мы на Кипре. Мы в Таиланде, мы в Греции. Мы в Израиле, мы в Египте.
И еще в разных других местах.
Я не люблю фотографироваться, временами мне кажется, что на них я получаюсь просто отвратительно.
То есть, я не фотогенична, хотя муж говорит, что все совсем наоборот.
Несколько раз он доставал меня тем, что хотел снять голой, но я устояла.
Хотя есть одна фотография из Испании, где я — топлесс, но я ее убрала из альбома.
Когда к нам приходят гости, то они обязательно смотрят этот альбом.
Наши иллюзии.
И я не хочу, чтобы они видели мою грудь.
Все равно на фотографии она не такая.
Я люблю подглядывать, но не хочу, чтобы подглядывали за мной.
На первый взгляд, в альбоме матери нет никакого порядка, хотя вскоре я понимаю, что определенный порядок все же есть.
Вначале идет про детей, то есть, про нас с братом.
Потом — про родителей.
Потом про нее саму, соло.
А потом должно быть про ее жизнь.
И я дохожу до этих страниц, хотя тут фотографии просто навалены кучей. Видимо, она никогда их не пересматривает, то ли боится собственного прошлого, то ли безразлична к нему.
Но это то, о чем я ее никогда не спрошу.
Вот она в студенчестве, вот она с каким–то молодым человеком, даже отдаленно не похожим на пожилого мужчину в кресле–каталке. Хотя должно пройти столько лет, что он мог бы измениться. Но это не тот мужчина, у него другой нос. А вот отец моего брата, бывший муж моей матери, отец брата, но не мой отец. Я помню этого человека, у него почему–то всегда пахло от ног, скорее всего, именно поэтому мать с ним развелась.
Но за моим отцом она не была замужем и фотографии моего отца нет в альбоме. Пока нет. Пока я не могу ее найти.
Как не ищу, переворашивая все эти снимки, черно–белые, сделанные еще до появления дешевой цветной фотографии.
Хотя мужчин в альбоме много и я понимаю то, о чем всегда догадывалась — мать любила мужчин и они любили ее.
В глазах становится совсем темно,
Наверное, это от снега за окном.
Хотя — может быть — и от чего–то другого.
Напряжение в левой половине головы начинает зашкаливать, я на секунду закрываю глаза и пытаюсь расслабиться.
Альбом сползает с моих колен и падает на пол.
Фотографии рассыпаются по полу и я испуганно смотрю в сторону кухни.
Мать ничего не услышала, она все еще возится там.
Делает что–то такое, что собиралась делать и чему мой приход не помешал.
Я начинаю быстро запихивать фотографии обратно, путая все эти периоды ее жизни, мне важно другое — замести следы, сделать так. чтобы альбом хотя бы внешне был в порядке.
И я обнаруживаю, что из альбома выпал еще маленький черненький конвертик.
В таких продают фотобумагу.
Размеры конверта зависят от формата листа бумаги.
Я помню, что есть 9х 12, хотя могу и ошибаться.
Есть еще 13х 18, это я помню точно.
Этот маленький, видимо, 9х 12.
Я беру его в руки и чувствую, что в нем совсем немного снимков.
Чахлый и тощий черный пакетик.
Щеки у меня пылают, вот только непонятно, от чего.
Я смотрю на дверь в кухню, мать там и не собирается выходить.
И я достаю фотографии из пакета.
Быстро просматриваю их, а потом убираю в конверт и прячу в сумочку.
В свою сумочку, даже не думая о том, что мать может их хватиться.
Если хватится, то я что–нибудь придумаю.
Но потом.
Я убираю альбом обратно на полку в сервант и иду на кухню.
— Нашла? — спрашивает мать.
— Нет, — отвечаю я, и добавляю: — да я особенно и не надеялась, просто захотела тебя повидать.
— Угу, — говорит мать.
— Я пошла, — говорю ей, идя в прихожую и крепко держа сумочку, будто ее могут вырвать из рук.
— Так обедать не будешь?
— Нет, — отвечаю я в очередной раз и начинаю одеваться.
Туфли, плащ, сумочка все так же при мне, как и боль в левой половине головы.
Я закрываю дверь и начинаю спускаться.
Вниз по лестнице, с четвертого этажа.
Слышно, как мать поворачивает ключ в замке.
Я дышу тяжело, мне хочется скорее убежать.
Хотя ноги не слушаются, а коленки подгибаются.
Я останавливаюсь на площадке между вторым и третьим этажом и лезу в сумочку.
Мне надо покурить, мать не курит и не любит, когда курят у нее дома.
Я достаю сигарету, закуриваю и вдыхаю в себя дым.
И снова смотрю в сумочку.
Я могу взять этот черный пакет в руки, достать из сумочки, вынуть из него фотографии, подойти к окну и внимательно рассмотреть при дневном свете.
Тусклом и сером из–за падающего снега.
Падающего и тающего под ногами, потому что — весна.
Но я и так хорошо запомнила их.
Мне хватило несколько мгновений, чтобы они запечатлелись в памяти.
Тем более, что их немного.
Всего три.
Три маленьких, черно–белых фотографии.
Очень старых.
Я не знаю, почему мать их сохранила, я бы себе такого не позволила.
Никогда.
Но я знаю, что никогда не спрошу у нее ничего об этом человеке, потому что она мне все равно не скажет правды, раз не говорила ее все эти годы.
Хотя это уже не важно.
Важно то, что я нашла, что хотела.
Нашла и украла, положила к себе в сумочку и сделала ноги.
Ноги снесли меня с четвертого этажа до площадки между вторым и третьим и встали.
В них появилась слабость, и я была вынуждена закурить.
На первой фотографии — моя мать, в том виде, в каком меня так и не смог ни разу заснять мой муж.
Молодая, голая, с очень красивым телом.
Какое и должно быть, когда тебе восемнадцать лет.
Или чуть больше.
На другой — мужчина.
С хищным носом и полными чувственными губами.
Ему под тридцать, а может, чуть за.
То есть, он примерно на десять лет старше моей матери.
И он одет.
Он в костюме и при галстуке, фотография из тех, которые называют официальными.
И я точно знаю, что это — мой отец, потому что на этой фотографии он очень похож на меня.
Гораздо больше чем там, в левой половине головы, где внезапно начинает появляться узенький лучик света.
Хотя боль не отступает, она просто становится глуше.
А вот третья фотография самая интересная, на ней все тот же мужчина и юноша, почти мальчик.
И это фотография крест накрест перечеркнута красным карандашом. С нажимом. За которым — ненависть.
И я даже знаю, чья.
Моей матери.
Как знаю и то, кто этот юноша.
Почти мальчик.
На фотографии ему лет пятнадцать, не больше.
А мужчине уже далеко за тридцать, может быть, что под сорок.
Она сделана позднее, чем две предыдущих.
И я не понимаю, где взяла ее мать.
Хотя мне это должно быть все равно.
Не все равно другое.
Этот мальчик на фотографии — мой муж.
Тот самый, который восемь лет назад изнасиловал меня в ванной моего брата.
Тот самый, который сегодня пьет кофе с человеком, который — судя по всему — мой отец.
И который, судя по тому, как он нежно обнимает моего мужа на фотографии, знает моего мужа уже очень много лет.
И если они и партнеры, то бизнес к этому не имеет никакого отношения!
16
Мы все боремся с демонами.
И я опять понимаю, как все же был прав Седой, назвав свою контору «Ремонт человеков».
Если мы боремся с демонами, то совсем не обязательно, что мы выигрываем.
И с нами начинает что–то происходит.
Как это сейчас происходит со мной.
А значит, мне необходим ремонт.
Как необходим он и тем, кто идет сейчас рядом со мной по улице.
Опять валит снег, крупными, совсем не весенними хлопьями.
Мне безумно хочется залезть в карман плаща и достать черные очки.
Те, что я купила вчера.
Хотя сейчас я не плачу, у меня нет сил плакать, я даже не знаю, смогу ли я когда–нибудь сделать это снова.
Я пуста, меня выпили и высосали.
Мои демоны оказались гораздо сильнее меня.
И я попросила Седого не о том.
Мне совсем не надо было знать, что происходит с моим мужем и почему он хочет меня убить.
Мне надо было узнать, что происходит со мной.
Хотя все это взаимосвязано, что–то происходит с моим мужем и что–то происходит со мной.
Я не знаю, куда мне сейчас идти, мне хочется кому–то выговориться, но я не знаю кому.
Летом можно сесть на лавочку и завести беседу с любым, кто сидит рядом.
С мужчиной, с женщиной, независимо от возраста.
Хотя в этом случае — лучше с женщиной.
Мужчине никогда не понять, он просто посмотрит на меня и покрутит пальцем у виска.
Или подумает о том, как бы ему сделать так, чтобы меня трахнуть.
Чего я сейчас совсем не хочу, так это трахаться. Ни с кем. Даже с ним.
Я хочу уткнуться кому–нибудь в плечо и разреветься, вот только слез нет и они не предвидятся.
Скорее, я просто вцеплюсь в это плечо зубами и прокушу до крови.
А потом стану смеяться, с окровавленным ртом и такой же кровавой улыбкой.
И меня заберут в клинику, сделают там укол и я буду лежать и смотреть в потолок тупыми, ничего не отражающими глазами.
Я достаю из кармана очки и надеваю их, пусть думают, что снег слепит мне глаза. Залепляет их, лишает меня зрения. Что у меня сейчас потечет краска и тогда я вообще ничего не буду видеть.
Демоны разрывают меня изнутри.
Там горячо, я чувствую, как они шевелятся и дышат.
Как царапаются коготками на своих мохнатых лапках.
Как начинают кровоточить мои легкие и желудок, печень, почки и — естественно — сердце.
Демоны хихикают.
Интересно, это только со мной или в каждом, идущем рядом, живут такие же?
Или просто похожие?
У каждого должны быть свои, мы ими не делимся, мы их холим, нежим.
Лелеем и пестуем.
Мы их обожаем, потому что жизни без них нет, это плата за жизнь, это то, что мы всегда несем с собой.
Наверное, обычно они спят. До поры, до времени.
Пока не прокричит петух, пока не прокукует кукушка.
Пока не зазвенит пресловутый третий звонок, после которого — их выход.
И ты понимаешь, что тебе больше некуда идти.
Что тебя продали и предали, что все твои тридцать шесть коту под хвост.
Интересно, почему говорят «коту под хвост», а не «кошке под хвост»?
По крайней мере, всем известно, что у кошки под хвостом.
То же самое, что у меня между ног.
Дыра.
Пещерка.
Отверстие.
Киска.
У кошки есть киска, и у меня тоже есть киска.
Я сворачиваю в ближайший переулок и понимаю, что я ничего не понимаю.
Я просто иду, фотографии все еще в сумочке.
Можно их выбросить, вон урна.
Странная, и даже полупустая.
Странная из–за цвета, она ярко–зеленая, какая–то очень веселая, видимо, предназначенная специально для того, чтобы я встретилась с ней на пути.
Я иду, это мой путь, стоит урна, мы встретились.
И я могу выбросить в нее маленький черный пакетик, размером 9х 12.
И тогда все исчезнет, демоны отступят, Седой сможет уснуть спокойно.
Хотя он, наверное, и так спит спокойно, потому что его бизнес должен процветать.
Когда по улицам ходят стада таких дур, как я, то с бизнесом у Седого все будет в полном порядке. Нас всех надо ремонтировать, нас надо собирать по частям, нас надо возвращать к жизни.
Не идти же к психотерапевту или к психоаналитику, пусть к ним ходят американцы.
Одна моя подруга долго ходила на прием к психотерапевту, пока он не решил, что им пора заняться сексом — это должно было избавить ее от состояния внутренней фрустрации.
Так он ей сказал.
Мне плевать, что это такое, фрустрация, я только знаю, что мне опять сделали больно.
И не могу понять, почему.
И еще я хочу разобраться.
Разобраться в том, как мой муж оказался на этой фотографии много лет назад.
И как все это связано с моей матерью.
И с моим отцом, который, вполне возможно, не мой отец.
Хотя стоит ли на это надеться?
И мне опять безумно хочется в туалет, почему я не сделала этого у матери?
До конца переулка еще квартал, потом начнется улица, это я помню. Одна из центральных.
Там есть туалеты, но мне до них не дойти. Не добежать, не добраться, не донести того, что переполняет мочевой пузырь.
По всей видимости, это страх.
Демоны разыгрались не на шутку и им хочется меня унизить.
На днях, ближе к вечеру, возвращаясь домой из магазина, я увидела у двери подъезда женщину, сидящую на корточках.
Она была в приличном пальто и с портфелем.
Я видела ее со спины, судя по фигуре, ей было за сорок.
Она сидела на корточках и писала.
Это было унизительно, я закрыла глаза и быстро вбежала в подъезд.
Задранное пальто и приспущенные колготки.
Но то были не мои демоны.
Мои добрались до меня сейчас.
Я оглядываюсь по сторонам — снег валит по прежнему и никого нет, переулок пуст.
Я сажусь под ближайший голый куст и торопливо задираю плащ.
Демоны начинают бешено верещать, но я отмахиваюсь и приспускаю колготы и трусики.
Если кто–то и пойдет мимо, то мне плевать, сидит под кустом женщина в плаще и черных очках, и делает то, что она делает.
Потому что иначе ей не выжить.
Я чувствую, что я краснею, я много лет не делала этого на улице.
Демоны успокаиваются, я встаю, поправляю одежду и оглядываюсь по сторонам.
Грудь разрывается от боли, наверное, каким–то особенно уж острым коготком один из демонов задел душу.
И она тоже начала кровоточить.
Старый спор о том, чего в женщине больше — тела или души.
Им бы хотелось, чтобы тела. Одно тело, всегда только тело.
Поэтому мы делаем вид, что его не существует.
Мы состоим из одной души.
Хотя каждая из нас знает, что это не так.
Мое тело сейчас облегчилось, но моя душа начала кровоточить.
И темные очки тут не помогут.
Кому будет надо, тот все равно заметит.
Капли крови, будто у меня стигматы.
Но я не святая, я далеко не святая, я просто женщина, которая идет, не понятно куда и не знает, что ей дальше делать.
В этом состоянии совершенно спокойно можно оказаться под машиной, может быть, это и выход.
Но я его не хочу, это очень просто.
Тогда я ничего не узнаю, тогда правда останется невысказанной.
Хотя надо ли это — стремится узнать правду?
Я дохожу до улицы и перехожу на другую сторону.
Здесь магазины, здесь много народа.
Люди с довольными и люди с мрачными лицами.
Люди, чем–то озабоченные, и люди, абсолютно расслабленные.
И спокойные.
Люди.
Человеки.
«Ремонт человеков».
Контора Седого минутах в пятнадцати ходьбы отсюда.
Мне становится холодно и я чувствую, что хочу есть.
Надо было пообедать у матери, но я этого не сделала.
Я у нее не пообедала, я у нее не сходила в туалет.
В туалет я сходила на улице, под голым весенним кустом, кто–то мог вовсю насладиться зрелищем моей голой задницы.
А теперь я замерзла и хочу есть.
Демоны верещат, что хотят есть тоже, и я решаю их покормить.
Мы заходим в ближайшую забегаловку, где гамбургеры, хот–доги и кофе в пластиковых стаканчиках.
А еще кола и сок.
Но для колы и сока сейчас холодно, на улице все еще валит снег, хотя и весна.
Я подхожу к стойке и смотрю на меню.
Меню смотрит на меня, как на меня смотрит и девушка за стойкой.
Меню смотрит на меня с полным безразличием, таких как я тут каждый день множество.
Если и не миллионы, и не тысячи, то сотни.
И каждый — со своими демонами.
А вот девушка смотрит странно, видимо, у меня на лице написано, что что–то не так.
Я снимаю очки и улыбаюсь.
Девушка смотрит на меня и ждет, что я скажу.
Я заказываю гамбургер и стаканчик кофе, расплачиваюсь и жду, когда все это мне сгрузят на поднос.
Можно было бы пойти в кафе, сесть за нормальный столик и съесть нормальный обед.
Но нормальная жизнь кончилась, она утратила комфорт, душа кровоточит, так что демоны разделят со мной гамбургер.
Я ем стоя, чувствуя спиной, как девушка за стойкой смотрит на меня, будто я совершенно изумительный экспонат.
Таких ей еще не приходилась видеть.
Тридцатишестилетняя тетка, которую хотят убить.
И которая сошла с ума.
У которой есть муж и нашелся отец.
Вроде бы нашелся, хотя стоило ли его искать.
Гамбургер нравится демонам, они просят еще, но я твердо говорю им «нет!».
Они начинают хныкать, а потом опять царапаться.
Я допиваю кофе, смотрю еще раз на девушку за стойкой и думаю о том, что ей гораздо лучше, чем мне.
Будем надеяться.
Всегда надо надеяться, что кому–то лучше.
Что у кого–то демоны добрее.
А может, их вообще нет.
Жизнь без демонов.
После кофе и гамбургера внутри становится тепло, кровь не так хлещет из стигматов.
И я опять могу думать.
Я пытаюсь рассмотреть, что у меня в левой половине головы, но там все еще темно, пусть даже не так, как раньше.
Темнота не ночная, а сумеречная, будем надеяться, что это предутренние сумерки, то есть, перед рассветом.
Я выхожу из забегаловки, оставив внутри гамбургеры, хот–доги, кофе в пластиковых стаканчиках, колу и соки, а так же стойку и девушку за ней.
Мне кажется, что у нее тоже есть сумочка, в которой лежат какие–нибудь фотографии.
Хотя лучше бы, чтобы этого не было.
Я иду все по той же стороне улицы, домой мне не хочется по прежнему.
Я думаю о том, зачем мой муж держит дома дискету с дурацким текстом.
Я переключаюсь на эту мысль, я пытаюсь справится со всем этим сама, без помощи Седого и его кубика.
Хотя когда в левой половине головы прояснится, то кубик мне еще понадобиться.
Все равно он внутри и у моего мужа — такой же.
Текст на дискете, молодая женщина и пожилой мужчина.
Молодую женщину зовут Майей, мужчину — Николаем Александровичем.
Николай Александрович — мой отец.
Будем считать, что он мой отец.
Но зачем муж хранит дома эту дискету и кто написал этот текст?
Сам он не мог этого сделать, он может сделать все, что угодно, но только не это.
Это могла сделать Майя, а мог и Н. А.
Так называть его проще, Н. А., а не Николай Александрович.
И почему–то мне кажется, что это сделал именно он, а не Майя.
Но если Н. А. мог написать один текст, то мог написать еще и множество других.
И они могут быть не на дискетах в чьих–то столах.
И в этих текстах может быть что–то, что поможет мне решить, что делать дальше.
Если, конечно, я найду их, вот только я не знаю, как это сделать.
Можно пойти в библиотеку, но я не была в библиотеках со студенческих лет. И потом — я даже не знаю его фамилии.
Я не знаю фамилии человека, который может быть моим отцом, у меня с детства была фамилия матери, по крайней мере, до того момента, пока я не вышла замуж.
Можно зайти в книжный магазин, бывает, что на книгах печатают фотографии авторов, это уже теплее, демоны недовольно начинают хрюкать и вновь показывать свои коготки.
Я понимаю, что все это бред, но в последнее время таким бредом стала вся моя жизнь.
Если кубик Седого на какое–то время перестал работать, то это не значит, что я должна ждать. В апатии, в прострации, в полном бездействии.
Наоборот, я должна действовать, пусть даже все, что я не предприму, ни к чему не приведет.
Я иду по улице и ищу глазами книжный магазин. Любой, который встретится на моем пути.
Обычно я не хожу по книжным магазинам, поэтому и не знаю, что тут есть поблизости.
Но что–то есть, что–то просто обязано быть, иначе демоны не вели бы себя так по–хамски.
И я нахожу, я вижу большую вывеску, я убыстряю шаги.
Снег внезапно перестал и наступила какая–то странная погодная пауза.
Хотя он может пойти снова, как может пойти и дождь.
Я дохожу до магазина и ныряю под еще не освещенную вывеску.
Буквы зажгутся часа через два, когда начнет темнеть.
И когда мне надо будет быть дома, куда мне пока совершенно не хочется.
В магазине странно пахнет, пылью и чем–то кисловатым, наверное, так пахнет бумага.
Магазин большой и я не понимаю, как мне в нем искать.
Много стеллажей и каждый из них уставлен книгами.
Не могу же я подойти к продавцу и сказать: — Вы знаете, я хочу найти книгу, на которой может быть фотография вот этого человека! — и достать из сумочки фотографию, и показать ее.
«Внимание! Розыск!»
Я иду мимо стеллажей и чувствую, как опять начинает болеть голова.
Скорее всего, это тот запаха.
Книг много, очень много и все они враждебно смотрят на меня, будто таят в себе какую–то угрозу.
Поэтому я стараюсь не читать.
Мне хватает своей жизни, чтобы впускать в нее еще и чужие.
Внезапно демоны начинает вести себя совсем уж нагло и я останавливаюсь возле углового стеллажа.
Он забит книгами до предела, нет пустого места.
Они все смотрят на меня корешками.
Я читаю надписи и думаю, что вся эта затея обречена на неудачу.
Что я так ничего не найду, что все это не имеет никакого смысла.
И надо смириться.
Смириться, успокоиться и ждать, пока меня убьют.
Хотя этого мне не хочется, совсем не хочется, а значит, надо копошиться дальше.
Пытаться выжить.
Выстоять.
Или хотя бы — убежать.
Я машинально достаю с полки одну из книг, она называется очень странно: «Упущенный Тунис».
И автора ее зовут так же, как моего отца, Николаем.
А фамилия мне ничего не говорит, но я ведь не знаю его фамилии.
Я открываю книгу и вижу, что в ней нет фотографии.
По крайней мере, в том месте, где их обычно печатают — в самом начале, еще перед самим текстом.
И я закрываю ее и вижу, что с обратной стороны обложки на меня смотрит то самое лицо, которое я впервые увидела с помощью кубика Седого, а потом и на старой черно–белой фотографии.
Точнее говоря, на двух старых, черно–белых фотографиях, на одной из которых этот мужчина снят один, а на второй — с моим мужем.
Тогда еще совсем мальчиком.
И эти фотографии сейчас у меня в сумочке.
Я открываю ее, я достаю черный пакетик для фотобумаги.
И сравниваю фотографии.
Я смотрю на ту, на которой он один, и смотрю на ту, что на обложке книги.
Это тот же человек, только на обложке книги он старше, хотя моложе, чем в жизни.
Сейчас в жизни, когда он в кресле–каталке и ему явно за шестьдесят.
Но на обложке книги все тот же хищный нос и все те же полные и чувственные губы.
Демоны совсем взбесились, но я лишь мстительно улыбаюсь, прислушиваясь к их возне.
Я убираю фотографии обратно в сумочку, беру книгу и иду к кассе.
Расплачиваюсь, беру пакет с книгой из рук продавщицы и выхожу на улицу.
Подхожу к обочине и начинаю ловить машину — теперь мне можно поехать домой, теперь мне туда даже хочется.
Мне есть чем заняться в ожидании собственного мужа.
Я буду читать.
В конце концов, чтение иногда — это тоже подглядывание.
17
УПУЩЕННЫЙ ТУНИС
совсем не то же самое, что упущенная выгода.
Хотя никакого Туниса так и не случилось, но кого я могу в этом винить, кроме себя? А как я хотел, чтобы это произошло, и — после сколько–то там томительных часов перелета — самолет, наконец–то, пошел на посадку и коснулся своими шасси взлетной полосы аэропорта «Карфаж»…
«Карфаж» — скорее всего, производное от Карфагена.
Карфагена, который никогда не будет разрушен, и который давно уже разрушен, и я никогда никому не говорил, как мне хочется походить по его развалинам, ибо только развалины дают мне понять, что я все еще жив, и — более того — что я жил.
В Тунис мы должны были улетать в самом начале июня, когда там еще не так жарко, но уже можно купаться в море — ты сам настоял на этом, когда еще зимой мы выбирали место, куда отправиться.
— Тунис, — сказал ты, — только Тунис!
«Что же, — подумал я, — это почти изысканно и почти экзотично, это то, что — в конце концов — мне по силам подарить тебе напоследок, ведь кто знает, сколько я еще проживу, да и не в этом дело, а в том, что врачи постоянно предупреждают меня об одном: поумерьте прыть, не напрягайтесь так в вашем возрасте, работайте поменьше и поменьше пейте, а то, знаете ли, может быть инсульт, хороши же вы будете в кресле–каталке, вам это явно не понравится…»
Не люблю врачей, и никогда не любил. Другое дело — думать о том, чтобы поехать с тобой в Тунис, рассматривать все эти проспекты, которые я захватил с собой как–то под вечер, и ты, приняв ванну и включив свою любимую Каллас, перебирал их глянцевые плоские тушки, похожие на маленьких засушенных скатов, долго всматриваясь в прекрасно отпечатанные фотографии отелей и подбирая для нас тот, который — по твоему разумению — отвечал бы всем нашим потребностям, вплоть до тех, о которых мало кто кому признается…
И все это было еще зимой, и почти три месяца оставалось до твоего вечернего звонка, когда ты сказал мне, что никакого Туниса не будет… Три месяца или четыре? Скорее всего, три, с февраля по май, если считать до звонка, и четыре — если по тот самый день, когда я ночью стоял у окна, смотрел на дождь и ждал машину, которая должна была отвезти меня в аэропорт.
Сегодняшней ночью, под проливным дождем, который зарядил еще с утра — вчерашнего утра, впору подметить, еще каких–то несколько часов назад я стоял у окна и смотрел, как под жесткими струями проносятся запоздалые ночные машины и в абсолютном равнодушии поджидая того момента, когда одна из них свернет во двор и затормозит у подъезда.
И совсем не в Тунис полетит тот самолет, чтобы поспеть на который мне надо не спать целую ночь — есть ли что более глупое, чем в моем возрасте так быстро менять решения, хотя на этот раз все зависело не от меня…
«Ты твердишь: «Я уеду в другую страну, За другие моря. После этой дыры что угодно покажется раем…»
Я читал тебе Кавафиса, а ты слушал Каллас и листал проспекты. Отель «Империал Мархаба». Слишком помпезное название, сказал ты, мне не нравится слово «империал», оно громоздкое и давящее, как зима, что там есть у нас еще?
Смотри, смотри, здесь много, и все это я могу подарить тебе — пусть не на вечность, а всего на две недели, но выбирай…
Из–за тяжелых струй дождя на дороге внезапно появилась неуклюжая женская фигура, какая–то запоздавшая ночная бабочка, решившая пренебречь светофором. Покачиваясь, она сделала несколько шагов, а потом раздался резкий визг тормозов, удар, я отрешенно смотрел в окно, думая, что с такой картиной в памяти мне никогда еще не доводилось пускаться в путешествие, хотя по иному и быть не могло: скорее всего, это последний раз в моей жизни, вот только почему я отношусь к этому так спокойно?
Наверное, из–за того твоего звонка, когда все уже было готово, все куплено и даже чемоданы упакованы.
— Что случилось? — спросил я веселым голосом, слушая, как ты молчишь на той стороне трубки.
— Я должен тебе что–то сказать! — произнес ты, и вдруг что–то заныло в груди, возникла сухая, неприятная боль, губы пересохли, хотя еще каких–то пять минут назад я чувствовал себя превосходно и даже не думал о том, что всего–то две недели назад мне исполнилось шестьдесят…
— Что? — переспросил я, пытаясь ухватиться рукой за краешек стола и не ощущая собственных пальцев, сжимающих трубки: они онемели и стали белыми, и я заметил, как у меня постарела кожа.
— Понимаешь, — сказал ты и опять замолк.
— Продолжай! — совершенно не своим голосом ответил я, он стал резким и гортанным, готовым сорваться на крик, тот самый крик, после которого возникает лишь мертвая тишина, и это не просто фраза, это самая точная характеристика того, что должно было произойти: мертвая тишина. Тишина смерти, распад, разложение, гниющая осенняя листва, завалившая квартиру и мои ноги утопают в ней по щиколотки, а я брожу в этом царстве тлена, даже не зомби и не живой труп, а нечто бесплотное и бескостное, собственная тень, пережившая то, чего не стоило переживать…
Из темноты, из–под все так же размеренно и беспощадно поливающих ночной асфальт струй дождя, возник неприятный и душащий звук сирены. Моей машины все еще не было видно и я стоял, курил и смотрел на то, как вслед за звуком возникла и сама машина — это была «скорая», а за ней, с запозданием минуты на две, появилось и милицейское авто, резко затормозившее и вставшее на обочине, чуть наискосок от трупа.
«Как ни бьюсь, здесь я вечно судьбой обираем. Похоронено сердце мое в этом месте пустом. Сколько можно глушить свой рассудок, откладывать жизнь на потом!»
— Зачем ты мне это читаешь? — спросил ты, сладко потягиваясь в постели и откладывая проспекты на тумбочку.
— Мне кажется, тебе это должно нравиться! — сказал я.
— Мне это нравится, но не сейчас!
— Ты выбрал отель?
— Да, вот этот! — и ты показал на один из проспектов.
«Отель «Ориент Палас», — начал читать я, — гостиница расположена на берегу в 2 километрах от центра города Сус и в 4 километрах от фешенебельного яхт–клуба с причалом. 242 номера с видом на море или сад. В каждом номере есть кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, балкон или лоджия, ванная комната, мини–бар, туалет и радио. К вашим услугам 6 ресторанов, 5 баров, пиццерия, мавританское кафе, ночной клуб, прокат автомобилей, нянечка, конференц–зал, обмен валюты, парикмахерская, медпункт, сейфы, торговая галерея, детские анимационные программы, бассейны, водные виды спорта, теннисные корты.»
— Почему? — спросил я.
— Ты же знаешь, — рассмеялся ты в ответ, — что я очень люблю пиццу, особенно с салями или тунцом. И потом — мне нравится название. Это очень дорого?
— Потянем, — улыбнулся я в ответ, прикидывая в уме, сколько может обойтись двухнедельное пребывание в пятизвездочном отеле. Но я хотел сделать ему подарок, я как знал — что это моя последняя любовь, гроссе либен, произнес я про себе по–немецки, великая любовь, и если ему хочется именно в отель «Ориент Палас», то почему бы и нет?
Вскоре за «скорой» и милицейским авто появилось и мое такси.
Я включил сигнализацию, закрыл квартиру, спустился по лестнице и вышел во двор. Мне не хотелось раскрывать зонт, дождь проникал под воротник плаща, голова сразу намокла, но мне было все равно — я убегал, я уносил ноги, мне не довелось побродить по развалинам Карфагена, но я оставлял за спиной развалины собственной жизни, хорошо помня тот вечер, когда началось землетрясение.
— Понимаешь. — сказал ты, — я раздумал ехать в Тунис.
Я замолчал, я слушал твой голос и понимал все, что произошло. Ты мог ничего не говорить дальше, все и так было ясно. Мне хотелось лишь одного: спросить у тебя, как ты мог, но я этого не сделал. Мне было все равно, как зовут твоего нового приятеля и сколько ему лет. То, что он не беден — это понятно, как понятно и то, что он намного моложе меня. Он должен быть намного моложе меня, иначе ты бы никогда не отказался от этой поездки, от вечерних прогулок по Сусу, от купания в Средиземном море, про которое я тебе так много рассказывал, ведь я, в отличие от тебя, не раз уже нырял в его воды.
Но ты отказался ехать в Тунис, и сейчас ты говоришь мне об этом, а я стою и чувствую, как все сильнее и сильнее болит сердце и виски наливаются невыносимой, обжигающей болью.
Я сел на заднее сидение такси, мы выехали со двора, труп женщины уже положили на носилки и сейчас носилки как раз грузили в «скорую».
— Не повезло! — сказал шофер.
Я промолчал, у меня не было никакого желания поддерживать разговор.
— Сколько до самолета?
На этот раз я ответил, и попросил, чтобы мы ехали не быстро, если уж что–то и должно произойти со мной, то пусть это будет не на мокрой дороге, под жестокими и равномерными струями дождя.
«Здесь куда ни посмотришь — видишь мертвые вещи, чувств развалины, тлеющих дней головешки. Сколько сил тут потрачено, пущено по ветру зря.»
Я вспоминал эти строки Кавафиса, те самые строки, которые читал ему тогда, когда мы еще думали, что поедем вместе в Тунис и когда я был уверен, что он любит меня.
Я вспоминал эти строки, когда такси пересекало город, вспоминал и в тот момент, когда город оказался позади и мы выехали на трассу, ведущую в аэропорт.
Гроссе либен, великая любовь, последняя любовь моей жизни…
Порою мне кажется, что я сглупил, что мне не стоило отказываться от этой поездки и менять ее в последний момент на очередное турне в Испанию, ведь я сам безумно хотел в Тунис, может быть, все из–за того же Кавафиса, хотя тогда уж надо было бы ехать в Александрию или в Бейрут, но Ливан сейчас — не лучшее место для отдыха, а в Египте я бывал неоднократно, хотя всегда миновал Александрию стороной.
Вот только как бы я выдержал там один, без тебя, когда все было рассчитано на то, чтобы открывать это не столько себе, как тебе?
Мы приехали вовремя, я мог не торопясь пройти таможню и паспортный контроль, мог покурить спокойно перед посадкой и даже выпить кофе, хотя стоит ли пить кофе в такую бессонную ночь, когда дождь и впереди еще шесть часов перелета?
Я удивился тому, как много народа собирается лететь этим рейсом. Семейный отдых, молодежный отдых, отдых влюбленных и отдых любовников. Одинокий отдых — разве такое возможно?
Пожилой мужчина, летящий на одинокий отдых в Испанию, брошенный любовником и решивший зализать раны, хотя как это сделать — он этого не знает.
Пожилой мужчина, протягивающий билет и паспорт с визой, а потом уверенно идущий в сторону ближайшего таможенника.
Пожилой мужчина, у которого сегодня пусто внутри и жизнь которого подходит к концу.
Это не зачем знать таможеннику, которого интересует лишь то, сколько долларов этот мужчина везет с собой и нет ли у него чего–то, запрещенного к вывозу.
Разве что воспоминания, хочется сказать мне ему, те воспоминания, в которых обычно никто не признается — воспоминания о любимом теле и о том, что оно больше не принадлежит тебе.
Я прохожу таможню, прохожу паспортный контроль и направляюсь в свободную зону, которая уже заполнена ночными ожидающими самолета на Барселону.
Когда–то я очень любил прилетать в Барселону, когда–то я вообще очень любил этот город. Больше Парижа и больше Лондона, не говоря уже о Мадриде или Цюрихе.
Прямо в аэропорту я всегда брал такси и велел везти меня в центр, на площадь Каталонии, мне казалось, что именно там, в том месте, откуда начинается Рамбла, происходит некое смещение зрения и жизнь твоя становится не то, что более насыщенной, но как бы более рельефной, ты начинаешь видеть что–то не только вокруг, но и в себе самом, что такое, чего раньше ты просто не замечал.
Я решаю покурить и иду в сторону туалета.
Наверное, это действительно мое последнее путешествие.
Вместо Туниса, вместо всех тех мест, где я так и не побывал.
«Не видать тебе новых земель — это бредни и ложь. За тобой этот город повсюду последует в шлепанцах старых. И состаришься ты в этих тусклых кварталах, в этих стенах пожухших виски побелеют твои.»
Как состарился я и как побелели мои виски, хочется сказать мне в ответ Кавафису. Пожилой мужчина, брошенный молодым любовником — история старая, как мир. Развалины Карфагена сродни множеству любых других развалин, мы носим в себе развалины наших романов и отношений, мы пытаемся что–то надстроить над ними, но обязательно наступает какой–нибудь очень уж одинокий и безжалостный день, когда ослепительное солнце своим белесоватым от жаркого марева светом, именно белесоватым, а не желтым, это просто надо подчеркнуть, так вот, когда это ослепительное солнце лишает мир всех нюансов и полутонов и ты видишь то, что есть: первоначальный город, который уже давно превратился лишь в тупую гору булыжников.
Женщина средних лет смотрит на меня каким–то очень уж подозрительным взглядом. Впрочем, я привык к этому, есть женщины, которые сразу понимают, кто есть кто рядом с ними, как есть и те, кто чувствует в таких, как я, врагов.
Но я не враг ей, хотя этого не объяснить. Я смотрю на нее и могу сказать ей вслух, что она мне нравится, что я даже вижу в ней определенную красоту. Это не правда, что такие, как я, не замечают женщин, мы просто смотрим на них по другому, а в этой женщине я подмечаю то, что сейчас есть во мне самом — она одна.
Она одна летит в Барселону.
И самое забавное, что в самолете мы оказываемся с нею рядом.
Я предлагаю ей сесть у окна, она соглашается, хотя смотрит на меня все так же подозрительно.
Или печально.
У нее большие глаза, она могла бы быть его матерью.
Я решаю почитать и открываю портфель — там должна быть книжка, захваченная в дорогу.
И вместе с книжкой я случайно вытряхиваю на колени те самые тунисские проспекты, на которых все еще, наверное, сохранились отпечатки твоих пальцев. Отель «Империал Мархаба», отель «Ориент Палас», тот самый, который ты выбрал тем февральским вечером.
— Боже, — говорит женщина, глядя на эти проспекты, падающие с моих колен.
Я подбираю этих маленьких засушенных скатов, я торопливо впихиваю их обратно в портфель.
— Боже! — вновь повторяет женщина и я замечаю, что у нее на глазах появляются слезы.
— Вам плохо? — заботливо интересуюсь я.
Она не отвечает, она просто сидит рядом и плачет, и я чувствую, что в этот самый момент самолет начинает разгон, а значит совсем скоро мы оторвемся от взлетной полосы и начнем набирать высоту, если, конечно, ничего не случится.
Каждый раз, когда я сажусь в самолет, я ожидаю, что что–то произойдет, и каждый раз я благополучно взлетаю и так же благополучно приземляюсь, хотя это совсем ничего не значит, пока не значит, лишь пока я благополучно взлетаю и лишь пока благополучно приземляюсь, вот только никогда мне еще не доводилось взлетать рядом с плачущей женщиной.
— Сус, — говорит она мне, вытирая глаза, — простите, но я две недели назад должна была лететь в Сус.
— В начале июня, — говорю я, — когда там еще не жарко, но уже можно купаться.
— Да, — отвечает она, — когда там еще не жарко, но уже можно купаться…
— Но вам позвонили, — отчего–то говорю я, — и сказали, что не могут лететь с вами, а одна вы не решились отправляться туда, куда планировали вдвоем…
— Вечером, — сказала она, — он позвонил вечером… Мы должны были остановиться в «Ориент Палас».
— Мы тоже должны были остановится в «Ориент Палас», — говорю я, — и мне тоже позвонили вечером, они всегда звонят вечером, им плевать, что потом — бессонная ночь, когда даже снотворное не помогает, остается лишь пить, много пить, больше, чем положено…
— Я хочу выпить, — тихо говорит она и смотрит на меня как на единственного ей близкого человека, на меня давно так никто не смотрел, особенно — женщины, последний женский взгляд такого рода я чувствовал так много лет назад, что если бы у меня были дети, то им бы сейчас было уже за тридцать. Что сыну, что дочери, хотя что толку говорить о том, чего нет, не было и уже явно никогда не будет…
Самолет уже набрал высоту, так что я подзываю стюардессу и прошу принести выпить.
Она тоже предпочитает немного коньяка. Чуть–чуть, граммов пятьдесят, не больше.
А я удивляюсь тому, какую шутку играет со мной судьба в очередной раз: такого не может быть, чтобы в одном самолете рядом оказались два человека, пережившие практически одно и то же. Мы оба собирались в Тунис, в город Сус, в отель «Ориент Палас». И оба — с любовниками. И наши любовники нас бросили. И два брошенных человека решили лететь в Барселону, и оказались в самолете рядом. И если бы это был сюжет, то нам тоже надо бы стать любовниками, по крайней мере, чтобы заполнить возникшую пустоту. Но мы можем пить коньяк и не можем заниматься любовью, ибо я давно уже не занимаюсь любовью с женщинами, да и она еще в аэропорту поняла, кто я такой.
«Город вечно пребудет с тобой, как судьбу не крои. Нет отсюда железной дороги, не плывут пароходы отсюда. Протрубив свою жизнь в этом мертвом углу, не надейся на чудо: уходя из него, на земле никуда не уйдешь.»
Но она рассказывает мне о том, кто ее бросил, она знает, что мы расстанемся в аэропорту Барселоны и больше никогда не увидимся, вот только вдруг у нее обратный билет на то же число, что и у меня, хотя какая разница, думаю я, и решаю, что можно выпить еще пятьдесят граммов коньяка, по крайней мере, я действительно верю, что это полезно для моего давления, и потом — так приятнее лететь, слушая о том, что кого–то бросил любовник и стараясь забыть, как то же самое произошло с тобой.
И уже в аэропорту Барселоны, быстро миновав по южному безалаберный паспортный контроль и нырнув в «зеленый» коридор, я последний раз посмотрел на нее, отрешенно идущую в ту же, что и я, сторону, и мне в голову опять пришла эта странная мысль про то, что упущенный Тунис совсем не то же самое, что упущенная выгода, и что каждый из нас всю жизнь таскает за собой развалины своего собственного Карфагена, пусть даже первоначальный и был разрушен так давно, что об этом уже можно забыть.
Я посмотрел, как она садится в большой туристический автобус, повернулся и пошел к стоянке такси.
Между прочим, именно сегодня мы с тобой должны были возвращаться из Туниса.
18
Мне хотелось одного — вырвать прочитанные страницы из книжки и порвать их на мелкие кусочки.
Всего–то пять с небольшим желтоватых книжных страничек.
Книжки/кусочки.
Книжки тире кусочки.
И кусочков должно быть много, очень много.
Конечно, можно сделать кораблики или самолетики.
И пускать их.
Кораблики — в ванной.
Самолетики — с балкона.
Хотя кораблики лучше спустить в унитаз.
Странная реакция для тридцатишестилетней женщины.
Но это лучше, чем плакать.
Хотя девочки должны плакать.
Все мы все равно — девочки, пусть даже у многих давно уже нет ни папы, ни мамы.
А у меня вот есть.
Даже папа.
Как оказалось, есть.
Будем надеяться, что есть.
Хотя нужен ли мне такой отец?
Если начать вырывать страницы по одной, то удовольствие можно продолжить.
Когда–то я так же вырывала страницы из школьной тетради.
А потом рвала на маленькие кусочки.
Очень маленькие.
Я сидела на кухне и рвала бумагу.
На бумаге были буквы, неуклюже выведенные мерзким фиолетовым цветом.
Это мне хорошо запомнилось — что именно фиолетовым.
Буквы складывались в слова, слова имели определенный смысл.
Они говорили о том, что я дрянь.
Сука.
Блядь.
Мальчик, который написал эти слова, знал, что такое «блядь», как прекрасно знал и то, что я ей не являюсь.
По крайней мере, пока.
На тот момент, когда он написал это слово.
Но я сидела на кухне, плакала и вырывала страницы из тетради.
А потом рвала их на маленькие кусочки.
И снова плакала, потому что девочки должны плакать.
Девушки тоже.
И женщины.
Молодые женщины, зрелые женщины, пожилые женщины.
Какая из них, интересно, я?
Молодая, зрелая или пожилая?
Думать об этом мне сейчас не интересно, мне интересно другое.
Пойти в его кабинет, подойти к его письменному столу.
Открыть нижний ящик.
Именно в такой последовательности — пойти, подойти, открыть.
А потом взять.
Нож.
Тот самый, в кожаном чехле, с рукояткой из кости какого–то животного. С лезвием не очень длинным, сантиметров в пятнадцать. Из блестящей стали, с уютным желобком для стока крови.
Пойти, подойти, открыть, взять.
Я не хочу вырывать страницы из книжки голыми руками, мне жаль моих пальцев, их мягких подушечек, которыми так хорошо пробегать по его груди, когда он лежит на спине, уставившись куда–то в потолок и думая — теперь–то я знаю это точно — явно не обо мне.
Как жаль и ногтей с маникюром.
Как жаль и того, что они не так длинны и остры, как тот самый нож, за которым мне надо пойти.
Хотя тогда это были бы уже не ногти, а когти. Оружие. Поддеваешь кожу в районе яремной вены, а потом легонько тянешь на себя. Кожа лопается, вслед за ней лопается вена, кровь брызжет в разные стороны и ты припадаешь к открытой ране на шее и пьешь, пьешь, пока не насытишься.
Надо отрастить такие, но пока придется обойтись ножом.
Тем самым, которым он хочет меня убить.
Или хотел — сейчас мне все равно.
Я в бешенстве, я не просто оскорблена, я унижена.
И никакого наслаждения.
Мне все равно, что творится сейчас в левой половине головы, хотя я вижу, что комната не пуста.
Опять сработал какой–то тумблер, включился некий рычажок, заработал чертов аппарат Седого.
Не пуста комната в голове, но уже нет той комнате, где стояли столик, два кресла и где они пили кофе.
Двое мужчин и одна женщина, один из мужчин был в кресле–каталке.
Если верить тому, что я прочитала, то он не всегда был в ней, еще несколько лет назад он ходил по земле, как и все мы: на двух ногах.
Но потом инсульт, или что еще.
И он перестал ходить, а стал ездить.
Мой отец, хотя кто это знает наверняка.
Я не просто в бешенстве, у меня такое ощущение, что я действительно сошла с ума.
Занавес поднялся, двери шкафа приоткрылись, на сцене грязный задник, в шкафу — грязное белье.
Хозяева же пытались все это спрятать.
И до поры, до времени им это удавалось.
Но только до поры и только до времени.
Время наступило, пора пришла, дерьмо полезло из щелей.
Лучше всего порвать эти странички на мелкие кусочки, испачкать дерьмом и спустить в унитаз.
Потому что сейчас у меня такое чувство, будто это меня саму обмакнули в дерьмо.
Хотя он не любит таких запахов, он не терпит никаких неприятных запахов, из всех, кого я знаю, он единственный, кто действительно может выбирать парфюм.
Дурацкое слово, лучше просто — духи и туалетную воду.
Для дня и для вечера.
Он делает это как женщина, долго и со смаком.
Смачно.
Со вкусом.
Упоительно принюхиваясь и поводя ноздрями.
Нет, говорит он, не этот, слишком липкий.
И не этот — в нем нет прозрачности.
А в этом — чувственности, я не хочу, чтобы ты так пахла.
Весь мой парфюм выбран им.
Все мои духи и туалетные воды.
И его туалетные воды он тоже подбирает сам.
И одеколоны.
Единственное. чего нет в его коллекции, так это одеколона с запахом дерьма.
По–французски он бы назывался «Merde».
По–английски «Shit».
Я не знаю, как бы он назывался по–немецки, но хватит и двух языков.
Бутылочка должна быть коричневой, и с подтеками.
И пробка под сургуч.
В левой половине головы опять улица, по которой едет машина.
Он сидит за рулем и смотрит на дорогу.
Я молю Бога, чтобы он не попал в аварию.
Аварию я устрою ему сама.
Про крайней мере, пока.
Пока я готова на все.
Козел.
Гнусный, вонючий, отвратительный козел.
Почти такой же, как мой отец.
Или тот мужчина, про которого я думаю, что это — мой отец.
Мой отец — похотливый старый павиан, а мой муж — вонючий отвратительный козел.
Я влипла в дерьмо по уши, черт бы побрал меня, когда я пошла к Седому.
Можно ничего не знать и быть счастливой.
Можно думать, что твой муж — самый лучший мужчина на свете и что он действительно — настоящий мужчина.
Но потом ты узнаешь то, что тебе не стоило знать.
Шкаф открылся и запачканные спермой простыни вывалились на пол.
Интересно, когда он зашел тогда в ванную, он уже знал, что я — дочь своего отца?
Скорее всего, что знал и именно поэтому решил мне вставить.
Грубо и с натиском, употребив меня прямо у раковины.
Когда я мыла свое пьяное лицо.
Мне все равно, кто кого бросил, как вообще все равно, как это у них бывает.
Я всегда считала себя политкорректной и нормально относилась к гомосексуализму.
И лесбиянству.
Может быть, бешенство пройдет и я опять стану политкорректной, но сейчас я хочу одного: пойти, подойти, открыть, взять.
А потом запереться в спальне и кромсать.
Все, что попадет под руку.
Я вижу, что он едет не в сторону дома, он опять едет в офис.
Естественно, что ему надо еще поработать — слишком много времени он провел, общаясь со своими друзьями.
Своими, не с моими.
Мужчина и женщина, с мужчиной все ясно, но что там делает женщина?
Что может делать эта красивая рыжеволосая особа в доме этого старого похотливого павиана, моего якобы отца?
Наверное. она подирает за ним дерьмо.
Готовит ему завтраки, обеды и ужины, служит его ногами в большой мир.
Но тогда почему он не завел себя мальчика?
Или для этого уже слишком стар?
Меня интересует эта женщина, я хочу, чтобы она была на моей стороне.
Мне надо ее завербовать, сделать своим агентом.
Будем считать, что она — его дальняя родственница, хотя тогда она и моя родственница.
По крайней мере, если он — действительно мой отец.
Девочка опять начинает плакать, девочке опять тошно до того, что хочется блевать.
Девочку употребили, изнасиловали, поимели во все дыры.
Без любви.
Муж останавливает машину.
Мой муж.
Мой мачо натуралис.
Он выходит и включает сигнализацию.
Машинка Седого опять работает как часы.
Я знаю, что сейчас произойдет.
Он пойдет в офис, а оттуда позвонит мне домой.
И скажет, что скоро приедет, совсем скоро.
И я знаю, что я отвечу.
Как знаю и то, что сейчас сделаю.
Пока у меня еще есть время.
Изнасилованная девочка встанет и пойдет в его кабинет.
Держась за стенки, потому что ее опять качает.
У меня болят все мои дырки, все мои чудные, замечательные отверстия.
И то, что спереди, и то, что сзади.
И то, которым говорят.
«Блядь» — было написано фиолетовыми буквами на клетчатом листке бумаги много лет назад.
И это было правда, по крайней мере, сейчас я в этом уверенна.
Я дохожу до его кабинета и открываю дверь.
Вхожу и подхожу.
Подхожу и открываю.
Он лежит там же, где и должен — в нижнем ящике стола.
И дискета лежит рядом.
Я хочу взять ее и просто сломать. Переломить пополам. Перегрызть, разорвать, но мне она еще пригодится.
Не знаю, для чего, но знаю, что еще не время.
И я беру нож.
Второй раз за какие–то двое суток.
Еще двое суток назад я догадывалась о его существовании очень смутно.
Просто чувствовала, что он должен быть.
А потом я его нашла.
Подержала в руках и положила на место.
И сейчас беру снова — я не буду кромсать эти листочки своими ухоженными пальчиками.
Я люблю свои пальчики, они мне еще пригодятся.
Я иду в спальню и закрываю дверь.
Он не застанет меня врасплох, он пока опять сидит за компьютером и даже не стремится набрать мой номер.
Наш номер.
Его и мой, мой и его.
Я беру книжку и аккуратно вырезаю первые пять с половиной страниц.
Эту часть признаний пожилого господина, который может иметь счастье быть моим отцом, я уже уяснила.
Старый похотливый павиан, брошенный молодым любовником.
Я складываю странички тоненькой стопкой, кладу на пол и примериваюсь, куда бы лучше вонзить лезвие.
Естественно, что в самый центр, там, где должно быть сердце.
В центре страницы, у человека — чуть левее.
Я наношу первый удар.
Страницы лежат на ковре, нож легко входит в ворс.
Я вытаскиваю его обратно и наношу еще один удар.
Затем — еще.
А потом просто тыкаю и тыкаю, пока страницы не превращаются в крошево.
Рука болит, муж все еще сидит за компьютером.
Но мне мало, я все еще в бешенстве, я уже не плачу, но мне все еще хочется наносить удары.
Я откладываю нож, сгребаю в кучку бумажный мусор и иду топить его в унитаз.
Потом беру сумочку и достаю из нее маленький черный пакет с фотографиями.
Он не звонит, видимо, он просто забыл, что я есть.
И этого я ему тоже не прощу.
Я разобью его флакончики с туалетной водой и одеколонами, я утоплю в ванне его любимый костюм.
Если он не позвонит в ближайшие пять минут.
Гнусный, отвратительный, вонючий козел.
А мой папаша — похотливый старый павиан.
А я — блядь.
А моя мать все знала, и потому ее фотографию я порежу первой.
На еще более мелкие кусочки, чем книжные странички.
Кусочки/странички.
Кусочки тире странички.
А потом порежу ту фотографию, на которой двое мужчин — один совсем юный, второй — намного старше.
Интересно, где мой папаша склеил моего мужа?
Мне отчего–то хочется, чтобы это было в общественном туалете.
Они стояли рядышком и мочились, и мой папаша углядел, какой у моего мужа замечательный член.
И позарился на него.
И получил.
Тот самый член, который я знаю, как свои пять пальцев.
Как всю свою ладонь.
Хоть левую, хоть правую.
Я могу описать его с закрытыми глазами.
И когда он стоит, и когда не стоит.
Все родинки, все впадинки.
Хотя впадинок на нем нет, а родинка есть, одна, большая, на головке.
На ее правой части, если быть точнее.
Я целовала ее, наверное, больше тысячи раз.
И ночью, и днем, иногда я делаю это даже утром.
Точнее, делала, вот уже пару лет, как мы не занимаемся любовью по утрам.
Хотя по утрам мне нравилось, только надо до этого освободить пузырь.
Я бы хотела посмотреть, как это было у них, но чувствую, что это мне не удастся.
Скорее всего, их роман действительно — давно в прошлом.
Кто кого бросил — муж папашу или папаша мужа?
Я предпочла бы, чтобы это сделал папаша.
Мой отец.
Может быть, мой отец.
Вот именно, что может быть, но другого варианта у меня пока нет.
И навряд ли будет.
Я убиваю фотографию двумя точными ударами.
В голову одному и в голову другому.
А потом режу ее на кусочки.
Мне понравилось это занятие, хотя ножницами было бы легче.
Но ножом — приятнее.
Две убитых фотографии складываются в одну кучку, он все еще не звонит, я уже не нахожу себе места.
Сейчас я начну убивать постель.
Ту самую, в которой мы спим и занимаемся любовью.
Он придет домой и увидит, что вся квартира — в длинных полосках материи. Убитые простыни, убитые наволочки, убитые пододеяльники.
У нас два одеяла, когда мы занимаемся любовью, то он залазит под мое.
Ныряет, укрывается, приходит, подползает.
Он предпочитает заниматься любовью на моей стороне.
И не звонит.
Остается одна фотография, последняя.
Я перевожу дух.
Удар должен быть точным, смерть последует наверняка.
Я примериваюсь.
Муж придвигает к себе телефон.
Мне надо успевать и я набираю в легкие воздуха.
Он набирает номер.
Я замахиваюсь.
Телефон звонит.
Я наношу удар, нож по самую рукоятку входит в ковер, последняя фотография мертва.
Я беру телефонную трубку и слышу, как он ласково говорит мне, что очень соскучился и чтобы я одевалась. Он хочет, чтобы я надела свое черное платье. Без рукавов. Мы поедем ужинать. Он сейчас заедет за мной, а потом мы пойдем и поймаем такси — он очень устал и ему надо немного выпить, так что машину он оставит. И за ужином познакомит меня с одним своим партнером, очень приятным пожилым человеком. И вообще он соскучился. Сколько мне надо времени, чтобы собраться?
— Полчаса! — говорю я, ничего не соображая.
— Через полчаса я за тобой заеду! — говорит он и кладет трубку.
Я собираю убитые фотографии в кучку и несу их хоронить в туалет, вслед за книжными страничками.
Вода смывает клочки, у меня всего полчаса в запасе, чтобы одеться и накраситься.
Обидно только, что я не смогу захватить с собою нож!
19
Я опять не принадлежу сама себе.
Как и все последние дни.
Впрочем, порою мне кажется, что все мы не принадлежим сами себе, хотя это уже из разряда отвлеченностей.
Мужские отвлеченности и женские отвлеченности.
Они не принадлежат сами себе в своих отвлеченностях, мы — в своих.
Но временами эти отвлеченности пересекаются.
Мне надо было сказать, что я никуда не поеду, что он такой грязный и вонючий козел, что ехать с ним — западло.
Если с ним поедешь, то провоняешь сама.
И станешь вонючкой.
Вонючий, провоняешь, вонючка.
Он сидит рядом с шофером, я устроилась сзади.
В том самом платье, которое он просил надеть.
И в плаще.
И в туфельках.
Дойти от машины до ресторана — меньше минуты.
Или чуть больше.
Смотря, как идти.
Получаса мне хватило. Я даже успела принять душ и заново накраситься.
И убрать все следы в спальне.
Следы от своего бешенства.
Бешенная сука, сука, сошедшая с ума.
Сумасшедшая сука.
Нож опять лежит в столе, все остальное плывет в канализации.
По сточным трубам, вместе с мочой и фекалиями.
Из одной трубы в другую, из той — в очередную.
Первая труба, вторая труба, третья труба.
Наверное, должна быть и четвертая.
Мне надо бы спросить, что это за люди и вообще — зачем мы едем в ресторан. И в какой.
Обычно я всегда спрашиваю.
Обычно мы редко ездим в рестораны, потому что он не любит рестораны в этой стране.
Он говорит, что там не демократично.
И не всегда вкусно.
И so expensive, то есть — дорого.
Я соглашаюсь, хотя сама так не думаю.
Мне плевать, демократично там или нет, а то, что дорого — деньги надо не только зарабатывать, надо еще их и тратить.
Он говорит, что я в этом специалист.
Мне нравится доставлять себе приятное, особенно, в последние два дня.
Хотя деньги на Седого я взяла не у него.
Это я заработала сама, хотя он об этом не знает.
Странно, что когда мы сидим рядом, кубик опять не работает.
Странный кубик, который то работает, то нет.
Видимо, он должен спать, чтобы кубик проснулся.
Или быть далеко.
Но сейчас он рядом и не спит, я смотрю за окно и догадываюсь, куда мы едем.
В ресторан с живым джазом, очень пристойное и очень дорогое место.
Там мы встречали прошлый Новый год.
Я была в этом же платье, что поделать, но он его любит.
И не только он.
Я его тоже люблю, хотя оно короткое не по годам.
В тридцать шесть такие короткие платья можно не носить.
Оно выше колен, но ниже пиписьки.
Смешное слово — пиписька, машина поворачивает, он смотрит вправо на дорогу и молчит.
Мне надо спросить, что это будут за люди, хотя я и так знаю. Не знаю только — зачем.
Какой в этом смысл и что он от этого хочет.
Я уже вообще ничего не знаю, я сижу рядом спокойная и расслабленная.
Видимо, когда я махала ножом, то выгнала из себя всю дурь.
Весь адреналин.
Всю ненависть.
Бешенная сука махала ножом и успокаивалась.
Это только кажется, что я спокойная, иногда я знаю, что сама могу убить.
Если меня достанут, если мне сделают больно.
Как–то раз я чуть не убила его, только это было давно и случайно.
Пять, а может, шесть лет назад.
Зимой, когда валил снег.
Я была на кухне и собиралась готовить кролика.
Тушить кролика в вине и с травами — мы ждали гостей.
Гости должны были придти через три часа, кролик еще был не разморожен.
Тяжелая, увесистая тушка, снаряд, пригодный для метания.
Он вошел на кухню и стал что–то говорить.
Я не слышала, что, я думала о чем–то своем.
Он повысил голос: я должна была его внимательно слушать.
Я была в халате и в трусиках, потная и не причесанная.
Он уже почти оделся, оставалось лишь повязать галстук.
Я его возненавидела, я смотрела на него и думала, какой он ублюдок.
Еще ночью я лежала под ним, широко разведя ноги и чувствуя, как он достает до матки.
Я вскрикивала и говорила ему: — Еще, еще!
Ночью я его не просто любила, я его обожала.
Но сейчас был день и я его возненавидела.
Он сам мог приготовить этого кролика.
Он хорошо готовит, он хорошо делает вообще все.
Но он стоял рядом. В отглаженных мною брюках, в светлой рубашке в мелкую полосочку и оставалось лишь повязать галстук.
И что–то говорил, и был недоволен, что я не слышу.
Прогулка хамелеона по разноцветному коврику.
Это не моя фраза, я ее где–то вычитала.
Ехать еще минут десять, если только мы действительно едем именно туда, где живой джаз, а еще есть фонтан прямо в центре зала.
Его струи падают в бассейн, в бассейне плавают рыбки.
Красные, желтые, голубые, с длинными хвостами.
В тот Новый год одна дамочка напилась до того, что упала в фонтан и потом ее оттуда вылавливали.
Она была в бирюзовом платье, которое стало от воды прозрачным.
И хорошо была видна черная поросль между ног — как водоросли.
Он — хамелеон, это теперь я знаю наверняка.
Если бы тогда, много лет назад, моя рука была тверже, то ничего этого бы не было.
Я смотрела на то, как он шевелит губами и сжимала в руках тушку кролика.
Он был недоволен тем, что я не отвечаю.
А я смотрела и думала: что он делает здесь.
Мне вдруг показалось, что это — кто–то чужой.
Совсем не мой муж, не мой мужчина, не мой мачо натуралис.
Не тот, кто ночью доставал мне до матки.
И я кинула в него эти кроликом, со всего размаха, как кидают кирпичом в крысу.
Хороший охотник убивает крысу с первого же попадания.
Но я боюсь крыс и я плохой охотник.
Точнее — я вообще не охотник, я сумасшедшая сука, которая втемяшила себе в голову, что ее хотят убить.
Кролик полетел со свистом, у него смешно изменилось лицо.
Отпала челюсть и закатились глаза.
Хорошо, что он успел увернуться, он не просто отклонил голову, он отпрыгнул, задев за столик.
Такой столик на колесиках, со стеклянным верхом.
Стеклянный, оловянный, деревянный.
Стеклянный столик, деревянный взгляд, оловянное сердце.
Хотя взгляд тоже может быть стеклянным, как и сердце.
Стеклянное сердце, берешь в руки и — крак.
Оно лопается, взрывается на множество мельчайших кусочков, кусочки больно впиваются в ладонь. Или ладони — смотря как берешь сердце в руки. Можно сжать одной ладонью, можно — двумя. Взять сердце одно рукой или взять в две руки. Разницы никакой, сильно сжимаешь и следует «крак»!
Он задел за столик, на столике стоял недопитый кофе.
Кофейник полетел на пол, кофе вылился ему на отглаженные брюки.
Кролик ударился о стену и упал на пол, в осколки разбитого кофейника.
Мороженный кролик лежал в луже кофе и был засыпан фарфоровыми осколками.
Китайский фарфор, пока он был цел, на нем были драконы.
Почему я вспомнила это — не знаю.
Надо что–то говорить, но мне не хочется.
Я абсолютно расслаблена, из меня вышел весь адреналин.
И улетучилась ненависть.
Как и тогда, когда на стене осталась вмятина.
Если бы кролик попал ему в голову, то он бы пробил ее, хлестала бы кровь, а может, он бы даже умер.
Упал на пол и лежал со стекленеющими глазами.
И меня бы посадили в тюрьму, но мне бы это уже было все равно.
Но он остался жив, кролик пролетел мимо и шмякнулся о стену.
Прогулка хамелеона по разноцветному коврику.
Он закуривает и спрашивает, буду ли я курить.
Я отвечаю: — Да!
Да!
Только «да»!
Я со всем согласна, милый, я согласна на все.
Ты хамелеон, милый, теперь я знаю это очень хорошо.
Фраза всплыла в голове и все поставила на свои места.
Когда–то вычитанная фраза — раньше я любили читать.
В последний раз я читала совсем недавно, дома, вернувшись от матери и зайдя по дороге в книжный магазин. Хочешь, я расскажу тебе то, о чем я читала, милый?
Милый не хочет, милый сосредоточен и о чем–то думает.
Интересно, о чем?
Я беру сигарету и прикуриваю. За окнами машины стемнело, сейчас зажгутся фонари.
Вначале они как бы наливаются изнутри чем–то желтоватым, потом меркнут, потом опять наливаются и лишь затем вспыхивают. Загораются. Зажигаются.
Зажглись, мы опять поворачиваем, я стряхиваю пепел в пепельницу и смотрю на свои коленки.
У меня все еще красивые коленки, полные и круглые.
В меру полные и в меру круглые.
Ему нравятся мои коленки, потому он и любит, когда я надеваю это платье, все остальные у меня — длиннее.
Хотя коленки они тоже оставляют открытыми.
Не закрывают.
Оголяют.
Мысли лениво толпятся перед входом в левую половину головы, но она вновь закрыта, в ней опять выключили свет.
Они не могут туда войти, они сердятся, им тесно.
Они даже хотят учинить драку, но я прикрикиваю и они успокаиваются.
Пусть живут в правой, в тесноте, да не в обиде.
Он стоял у стены, смотрел то на вмятину, то на свои залитые кофе брюки.
И был бледным.
И я испугалась.
Когда он бледнеет, то это знак того, что он впадает в ярость.
Не пугается, не боится, не стремится убежать.
Он никогда не стремится убежать, он бледнеет, а значит, впадает в ярость.
И тогда может произойти, что угодно.
Еще совсем давно, еще до кролика, когда у нас не было машины, той, что была первой, и когда мы только начали жить вместе, мы ехали в автобусе.
Это было лето и на мне было что–то прозрачное.
И напротив сидел какой–то мужчина, который смотрел на меня масляными глазами.
Он пожирал меня глазами, он раздевал меня глазами, он трахал меня глазами.
Я покраснела и стала смотреть в сторону.
Мужчина не унимался и это было замечено.
Муж побледнел, а потом выкинул мужчину из автобуса.
На ближайшей же остановке.
Сгреб в охапку и вышвырнул.
Он не стал его бить, он просто освободил от него пространство.
И мне стало не только приятно, но и страшно.
И тогда на кухне мне тоже стало страшно, может, именно тогда я впервые подумала о том, что когда–нибудь он захочет меня убить.
Чтобы освободить пространство.
Я начну ему мешать, он побледнеет, а потом возьмет в руки нож.
Я стояла посреди кухни, ревела, меня всю колотило.
Он ничего не ответил, глубоко вздохнул, я заметила, как его лицо порозовело.
Он повернулся и вышел с кухни — переодеваться и приводить себя в порядок.
А я начала приводить в порядок кухню, засунула кролика размораживаться в микроволновку и стала затирать пол.
Убирать осколки кофейника, вытирать пятна от кофе.
Я ползала на карачках по полу, ревела и думала о том, что было бы, если бы я не промахнулась.
Сейчас я об этом не думаю, я просто курю и отчего–то вспоминаю распластанную на асфальте бабочку.
Я видела ее днем, интересно, что она делает сейчас.
И кто ее нарисовал, хотя, впрочем, какое мне до этого дело?
Мы опять поворачиваем, осталось ехать совсем немного.
В Новый год мы сидели за угловым столиком, возле окна.
На столе в ведерке было шампанское, которое мы так и не допили.
Я предпочла вино, он — как обычно — виски.
Но сегодня мне пить совсем не хочется, мне требуется трезвая голова.
Моя голова должна быть трезвой.
Я попрошу, чтобы он заказал побольше воды.
И потащу его танцевать, мне надо почувствовать на себе его руки.
Как они обнимают меня, как они поглаживают в танце мою спину.
Ласково пробегая по ней пальцами.
По коже бегут мурашки и набухают соски.
Я ничего не могу поделать с тем, что мне его хочется.
Что я его люблю и что я готова грызть за него глотки.
Кому угодно, даже тому, кто может быть моим отцом.
Пусть он и в кресле–каталке, но я не посмотрю на то, что он болен.
Я выгну спину и приготовлюсь к прыжку.
Выжду удобный момент и прыгну.
Вцеплюсь ему в горло, он вывалиться из своего кресла и рухнет на пол.
А я буду кромсать его горло, пока кровь не затопит все вокруг.
Пусть даже он на самом деле мой отец.
А под что мы будем танцевать — я знаю.
Я это помню.
Мне это очень понравилось в Новый год.
Когда остался один пианист и начал играть что–то медленное.
И не громкое.
Ни саксофона, ни барабанов, ни контрабаса.
Пианист играл что–то медленное, мы танцевали, пальцы ласково порхали по моей спине.
Прогулка хамелеона по разноцветному коврику.
У хамелеона очень длинный язык, интересно, какое может быть ощущение, когда он пробегает по твоей голой спине?
Полизывая ее, пытаясь поудобнее пристроиться, чтобы потом — резкое движение и вот тебя уже едят.
Моя спина съедена хамелеоном, но мне было приятно.
Когда мы танцевали и я чувствовала, как вначале стали пробегать мурашки, а потом затвердели соски.
И между ног стало влажно, я потекла.
Течная сука, которая никак не может забеременеть.
Хотя врачи говорят, что может, дело не во мне, а в нем, но не исключено, что и в нас обоих.
Вот только сейчас я не знаю, хочу я забеременеть или нет.
Я слишком боюсь того, что будет.
Я боюсь этого вечера в ресторане, он даже не догадывается, как я этого боюсь.
Если бы это случилось еще два дня назад, то все было бы по другому.
Когда ты не знаешь, то тебе легче.
Два дня назад я почти ничего не знала.
Кроме одного: может быть, он хочет меня убить.
А сейчас я знаю больше, намного больше.
Подглядывающая, вынюхивающая, выискивающая.
Пытающаяся узнать правду.
А это — самое мерзкое, что может быть на свете.
Узнанная правда выела из меня внутренности.
У меня больше нет сердца, от меня осталась лишь одна оболочка.
Что–то в коже.
Сноп сухой соломы, который любой может поджечь, стоит только поднести зажигалку или чиркнуть спичкой.
И я заполыхаю, а потом рухну на землю и мои останки будут догорать.
Надеюсь, что не долго.
Хотя это больно, это очень больно и мне не выдержать.
Я буду кричать, я буду просить помощи.
Чтобы меня спасли, чтобы я осталась жить.
Мы уже подъезжаем, уже видна вывеска.
Хамелеон опять перекрасился, теперь он точь–в–точь мой муж.
Он даже не переоделся, воротник рубашки уже потерял утреннюю свежесть.
И лицо усталое, он так и объяснил — был тяжелый день.
И пахнет он так же, как утром, хотя мог успеть принять душ, переодеться и взбрызнуть себя чем–то другим.
Более вечерним.
Но он не успевал.
Я сделала вид, что поверила.
Я сегодня весь день делаю вид.
И весь оставшийся вечер мне придется заниматься тем же.
И я не буду пить.
Подглядывающая не может пить, как не могут этого ни подслушивающая, ни вынюхивающая.
Шофер тормозит, он расплачивается и мы выходим.
Я кутаюсь в плащ — слишком порывистый холодный ветер, хотя снег давно перестал идти, дождя тоже нет и видно, как сквозь большую прореху в самом центре затянутого тучами неба жизнерадостно льется желтый свет еще не совсем полной луны.
У входа в ресторан странный затор, я присматриваюсь и вижу, что это высокая женщина с рыжими волосами вкатывает в холл укутанного в пальто человека, сидящего в элегантном кресле–каталке с поблескивающими то ли в отсветах лунного света, то ли просто — в свете уютно горящей в темноте ресторанной вывески, никелированными спицами на колесах.
Майя вкатывает в холл моего отца.
Я ничуть не сомневаюсь, что это именно они!
— Идем! — говорит мне муж, придерживая тяжелую входную дверь.
20
Меню в джазовом ресторанчике. Джазовое меню. Меню, полное джаза. Смешные мужчины, склонившиеся над столом. Они священнодействуют. Уже давно — минут десять, а то и пятнадцать. Когда мы вошли, то холл был пуст. Я посмотрела на себя в зеркало. Спина высокой женщины удалялась вглубь зала. За мной: я смотрела на себя и видела, как за моей спиной удаляется другая спина. Спина к спине. Спиной к спине. Я — пониже, она — повыше. И я вдруг перестала бояться. Мне стало смешно. Смешно и легко. Я была готова подпрыгнуть и полететь. Над столиками, над стульями, над накрахмаленными салфетками и чистыми приборами. И приборами грязными. Над ними я тоже могла пролететь, паря под потолком, невидимая женщина, женщина без крыльев. Летящая без крыльев, просто летящая, парящая, женщина в воздухе, женщина из воздуха.
— Что с тобой? — спросил он.
Я улыбнулась, мне не хотелось ничего говорить.
Что–то должно было произойти. Я это знала, я это чувствовала.
Иначе он бы не повез меня ужинать.
И знакомить.
Вот за тем столиком это произойдет — в дальнем углу, он стоит чуть на отшибе, за фонтаном.
Тем самым фонтаном, струи которого падают в бассейн, в котором плавают разноцветные рыбки.
Тот самый бассейн, в который рухнула подвыпившая дамочка в Новый год.
Прошлый Новый год, если меня не убьют, то я доживу до будущего.
Он пропускает меня вперед, я вхожу в зал.
Я знаю, куда идти.
Он не знает, что я это знаю.
Он думает, что я в полном неведении, в неизвестности. Что я просто тупая простофиля.
Но я знаю, что идти надо в тот дальний угол, где у столика сидят мужчина в кресле–каталке, а рядом с ним высокая рыжеволосая женщина в вечернем платье с длинными рукавами и глухим воротом, закрывающим шею.
Дома она ходит в свитере. В ресторан надела платье с глухим воротом. Я иду прямо к этому столику. Он идет за мной. Он ничего не спрашивает, он просто удивляется тому, что я иду так уверенно. Надо остановиться и посмотреть по сторонам. Поозираться. Поглядеть. Позырить. Я останавливаюсь и начинаю тупо оглядываться. Я делаю вид, что не знаю, куда мне идти дальше. Пустых столиков много, намного больше, чем занятых. Если бы моя воля, то я бы села у фонтана, хотя иногда на тебя попадают капли воды. Но это бывает даже приятно. И смешно. Они попадают на тебя и щекочут. И ты смеешься. Мне понравился этот ресторанчик еще в тот раз. Тут уютно и хорошая музыка. И вкусно готовят. Хотя еда — это по их части. По мужской. Это они выбирают еду, это они ее заказывают. А когда предлагают выбрать тебе, то начинают советовать. Им кажется, что ты не понимаешь. Не разбираешься. Что ты тупа и глупа, в этом их главная беда — они нас недооценивают.
Страх, ярость, гнев, раздражение.
Все это осталось за входными дверями.
Я чувствую кураж, мне хватило один раз посмотреть на себя в зеркало, чтобы понять — я сегодня красива.
Не просто хорошо выгляжу, а именно красива.
У меня блестят глаза и у меня влажные губы.
Ярко накрашенные и все равно влажные.
Губы, которые могут целовать.
И делать еще разные вещи.
Если, конечно, захотят.
— Сюда, — говорит он и показывает мне на тот самый угловой столик.
— Это твои друзья? — невинно спрашиваю я.
— Да, — отвечает он как–то глухо и может быть даже стеснительно, — сейчас я вас познакомлю.
Вас. То есть, нас. Меня и их, хотя можно и не знакомить. По крайней мере, с мужчиной. Я знаю, как его зовут и я знаю то, что — вполне возможно — он мой отец. И что у него нетрадиционная ориентация. Мне нравится эта фраза, она какая–то правильная и корректная. Она звучит лучше, чем, к примеру, он — гомосексуалист. Или: он — гей. Это уж совсем глупо. Гей. Как–то обидно и поверхностно. Если бы я была геем и мне сказали, что я — гей, то я бы обиделась. А вот «нетрадиционная ориентация» — это звучит. Еще можно сказать — «другая», другая ориентация. Не то, чтобы правильная или неправильная, а просто — другая. Он — другой. Они — другие. Мой муж тоже с другой ориентацией. И у моего отца другая ориентация. А я дура, что вляпалась во все это. Нашла отца и оказалось, что могла бы и не искать.
Мы подходим к столику, Н. А. внимательно смотрит на меня, а потом — на моего мужа.
— Здравствуй, Феликс, — говорит он ему низким и каким–то усталым голосом, — вы пришли…
— Мы пришли, — говорит муж, — знакомьтесь…
Я протягиваю руку, Н. А. подносит ее к губам.
Они вежливые и холодные. Холодные и влажные. Холодные губы моего отца целуют мою руку, я смотрю ему в глаза и называю свою имя.
— А по отчеству? — спрашивает он.
Мне хочется рассмеяться и сказать ему, что он прекрасно знает, какое у меня отчество. Такое же, как у него имя. Николаевна. Но я сдерживаю смех и делаю глаза пай–девочки. Я сегодня какое–то время побуду очень хорошей, но я не буду пить и буду слушать. Внимательно. И смотреть во все глаза. В свои большие глаза. Хлопать ресницами и все запоминать. Кубик Седого опять не работает, странная штучка, живущая своей жизнью. Хочет — работает, не хочет — не работает. Но обойдемся пока без него. Внутри я вся напряжена, но со стороны это не заметно. Я мягка и пушиста. Я должна быть очаровательна. Я должна им понравиться. Особенно — ей. Не знаю, почему, но мне этого хочется.
— Майя, — говорит она, — я о вас много слышала.
Я улыбаюсь и сажусь на подвинутый мужем стул.
Майя напротив меня, Н. А. напротив моего мужа.
Муж рядом со мной, Н. А. рядом с Майей.
Можно приступить к делу. Мужчины берут в руки меню.
Меню в джазовом ресторанчике. Джазовое меню. Меню, полное джаза.
— Что ты будешь? — спрашивает муж.
— Какую–нибудь рыбу, — говорю я, — и можно салат…
Майя смотрит на меня и я начинаю тонуть в ее глазах.
У рыжеволосых всегда красивые глаза и очень белая кожа.
Но Майя смуглая, хотя и с рыжими волосами.
Смуглая и зеленоглазая.
Зеленоглазая, но смуглая.
Чего я никак не могу определить для себя — так это ее место за столом.
Настоящее место.
Кто она и кем приходится Н. А.?
А значит, и мне.
И моему мужу.
Получается, что все мы здесь родственники.
Бредовая семейка, собравшаяся на ужин.
Мой уже несут.
Форель, запеченная в фольге.
И греческий салат.
И я начинаю думать о том, что могу немного выпить.
Вина, чуть–чуть.
Белого, красного сейчас мне не хочется.
Мой муж собирается выпить коньяка.
Н. А. тоже собирается выпить коньяка.
Майя сегодня предпочитает белое вино.
Я заговорщицки улыбаюсь ей глазами, мне хочется хоть в ком–то сегодня найти сторонника. Сотоварища. Компаньона. Даже больше, чем компаньона — кого–то, кто был бы на моей стороне. На кого бы я могла положиться. Я устала разгребать все это дерьмо одна, у меня слишком хрупкие плечи. Но не моя вина в том, что я вляпалась в это. Меня вынудили, меня подставили, меня в очередной раз нагнули. Я беру бокал и отпиваю глоток. Играет музыка, что–то тихое. Я ничего не понимаю в такой музыке, но мне она нравится. Она не напрягает, она где–то даже волнует. Но чуть–чуть. Пианист играет что–то тихое, чуть попозже к нему присоединяться другие. Саксофон, контрабас и барабаны. Под эту музыку можно даже танцевать, интересно, любит ли танцевать Майя?
И кто она?
Что она делает за нашим столиком.
Мой муж начинает есть свое мясо.
Под винным соусом и под сыром.
Майя тоже ест рыбу.
Такую же форель, как и у меня.
Они положили сегодня слишком много лимона, форель чуть горчит, хотя все равно вкусно.
Н. А. кушает медленно, у него в тарелке тоже мясо, что–то из телятины — я плохо расслышала название блюда.
Н. А. кушает и говорит что–то моему мужу, но смотрит на меня. Точнее, посматривает. Н. А. присматривается ко мне, как бы то ли оценивая, то ли прицениваясь. Сколько я могу стоить. И что я стою. Я хочу сказать ему, что — с моей точки зрения — эта цена не маленькая, но молчу. Какая разница, сколько я могу стоить, главное понять другое: зачем я ему нужна. И зачем сегодня все это устроено. Этот ресторан и это знакомство. Светское знакомство за поеданием мяса и рыбы. И питьем вина и коньяка. В маленьких дозах — напиваться никто не собирается.
Майя достает из сумочки сигареты, вытряхивает одну из пачки и ищет зажигалку.
Мой муж предлагает ей прикурить.
Потом смотрит на меня, ожидая, буду ли я курить или нет.
Буду, решаю я и тоже беру сигарету.
Все проходит как–то очень спокойно, но я знаю, что на самом деле все это не так.
Это спокойствие наносное, они сегодня собирались днем и что–то решили.
Может быть, они начнут меня убивать втроем.
Хотя это смешно, это попахивает дешевым триллером.
Терпеть не могу триллеры, как и прочие подобные штуки.
И вообще — почти не хожу в кино.
У меня сейчас свое кино в жизни, такое, что не приснится.
А если и приснится, то такой сон называется кошмаром.
Ночной кошмар со всеми вытекающими последствиями.
И я все равно не могу понять, кто есть кто в этом раскладе.
Если я могу связать Н. А. с мужем и собой, то Майя пока не укладывается в схему.
И никто из мужчин не хочет мне объяснить, что она здесь делает.
Это в их правилах и в их привычках — какая разница, кто она такая, ты просто сиди и жди, пока тебе не поставят задачу.
Но я не хочу, мне надо знать.
Когда ты знаешь, то тебе проще.
Удар будет не такой страшный.
Но вообще мне смешно.
Я вспоминаю про то, как кромсала дома ножом странички из книжки Н. А.
Будем считать, что это действительно его книжка.
Как и тот текст на дискете, что правом нижнем ящике стола в кабинете мужа.
Рядом с ножом.
Я знаю намного больше, чем они могут себе представить.
Я видела даже фотографии.
Их больше тоже нет.
Они плывут в глубинах канализации.
Я раскромсала их так же, как и странички.
Мне хочется показать язык. Вначале мужу, потом Н. А.
Стоит ли показывать его Майе — я не знаю.
— Я сейчас, — вдруг говорит Майя и встает из–за стола.
— Ты знаешь, где? — спрашивает ее Н. А.
— Найду, — мягко говорит она.
— Я покажу, — внезапно для себя говорю я, и добавляю: — Мне тоже надо!
Майя смотрит на меня, улыбается, как раз в этот момент начинает громко играть музыка.
Мы встаем и идем наискосок через зал.
Ресторан больше, чем наполовину пуст.
Занято еще три или четыре столика.
Но музыканты все равно начали играть, хотя никто не танцует.
Дамская комната в холле по правой стороне, я запомнила это еще с Нового года.
Майя идет позади меня — ведь я обещала показать ей, куда надо идти.
Мне отчего–то хочется танцевать и хочется еще выпить вина. Два, а можно и три бокала. Мне стало весело, мне давно уже весело. Я опять парю под потолком, невидимая женщина, женщина без крыльев. Летящая без крыльев, просто летящая, парящая, женщина в воздухе, женщина из воздуха.
Я открываю дверь в туалет и исчезаю в одной из кабинок.
Слышно, как захлопывается дверь в кабинку рядом.
Майя журчит, потом раздается звук работающего бачка.
Интимный процесс, которому мы обе предаемся с упоением.
Я нажимаю смыв и выхожу из кабинки.
Майя стоит у зеркала и тщательно моет руки.
Вода брызжет на длинные рукава ее платья.
— Вымокнете, — говорю я, — лучше бы загнуть.
— Не хочу, — говорит она.
— Почему? — отчего–то спрашиваю я и вдруг понимаю, что сделала что–то не то.
Майя смотрит на меня и краснеет.
Я начинаю тоже мыть руки, и делаю это так же долго и тщательно, как она.
— Смотри, — вдруг слышу я ее голос.
Я оборачиваюсь и вижу, что рукава платья не просто загнуты, она расстегнула платье и практически сняла его с себя до пояса.
И я вижу, что ее смуглая кожа покрыта большими белыми пятнами.
Под шеей, на груди, на животе.
И на руках.
На руках пятен больше, но они меньше.
— Хватит? — спрашивает Майя.
Мне хочется сказать ей что–то хорошее и очень нежное, я вижу, что ее зеленых глазах слезы и понимаю, что она ненавидит меня сейчас.
— У тебя очень красивая грудь, — говорю ей, — она потрясающей формы!
— Спасибо, — отвечает Майя, надевая платье и застегиваясь.
— Что это? — спрашиваю я.
— Есть такая болезнь, — говорит она, — с красивым названием «витилиго». Проще говоря, депигментация кожи.
— И давно? — продолжаю я, проклиная себя за собственное любопытство.
— Давно, — отвечает Майя, — сколько себя помню. Вроде бы это на каком–то генном уровне…
— А это лечится?
— Плохо. Говорят, что помогает Мертвое море, но я там еще не была…
Мне жалко ее. Я смотрю, как она выходит впереди меня из дамской комнаты и думаю, как бы я жила с такими вот белыми пятнами. Она моложе меня, она очень красивая и у нее кожа покрыта странными белыми пятнами. Под шеей, на груди, на животе и на руках. Болезнь с красивым названием «витилиго». На моей коже таких пятен нет, на ней есть родинки, есть большие родимые пятна. Но она чистая и гладкая. Я догоняю Майю, мы входим в зал, танцующих все еще нет, хотя музыканты стараются во всю.
Мужчины курят, мы подходим к столику.
— Я хочу танцевать, — говорю, пристально смотря на мужа.
Он отвлекается от разговора и говорит, что если попозже, а пока он не хочет.
— Я хочу танцевать! — продолжаю настаивать я.
Н. А. смотрит на Майю, а потом на меня.
Я тоже смотрю на Майю и думаю, насколько будет странным, если я приглашу танцевать ее.
Я не понимаю, зачем она показала мне в туалете белые пятна на своей коже, она просто могла промолчать, когда я предложила ей подтянуть рукава платья.
И я чувствую себя виноватой, мне хочется как–то искупить свою вину.
Вот только поможет ли ей, если я пойду с ней танцевать, но женщины должны танцевать, даже если мужчины предпочитают этого не делать.
— Ты не против? — говорю я Майе.
Мы выходим на площадку, музыканты играют что–то тихое и медленное.
Если бы это была быстрая музыка, то мы могли бы танцевать на расстоянии, а так мне приходится чуть ли не прижаться к ней, как будто я танцую с мужем.
Или с другим мужчиной, руки которого обнимают меня и порхают по моей спине.
Я никогда не танцевала с женщинами. Такое было только очень много лет назад, когда я была еще девочкой. Девочка танцевала с девочками и это было нормально. А сейчас я танцую с женщиной. Она выше меня, ее руки порхают по моей спине. Одна ладонь уютно пробегает по позвоночнику, другая бродит по талии. Я чувствую запах, которым сегодня пахнет Майя, от него кружит голову. Ее грудь упирается в мою и это меня волнует. Мне становится страшно за тот дьявольский расклад, который выпадает на картах, что выбросили на стол двое мужчин, пьющих сейчас коньяк и смотрящих на то, как их дамы кружатся в медленном танце посредине почти пустого ресторана. И самое отвратительное во всем этом, что Майя мне нравится. Мне хочется прижаться к ней еще сильнее, мне хочется обнять ее как можно крепче. Мне хочется помочь ей, и этим спастись самой. Может быть, ее тоже хотят убить. Может быть, этот вечер для этого и придуман. Может быть, даже то, что я пошла в контору Седого я приобрела там этот чертов кубик — тоже часть хитроумного плана, и я догадываюсь, в чьей голове он зародился.
Явно, что не в голове моего мужа.
— Девочка, — говорит мне Н. А., когда мы с Майей возвращаемся к столику, обе смущенные, но довольные, и я прошу мужа налить мне еще немного вина, — девочка, у нас к тебе есть одна просьба, Феликс в курсе…
— Да? — спрашиваю я и делаю невинные глаза, хотя это и не просто в мои тридцать шесть.
— Понимаешь, у Майи есть определенные проблемы со здоровьем и ей надо бы съездить на пару недель полечиться…
— Да? — продолжаю поддакивать я, не понимая, куда он клонит.
— Майя боится ехать одна, а я сейчас… — и Н. А. печально ухмыляется, как бы предлагая мне самой продолжить оборванную фразу.
Ты, старый павиан, хочу сказать я, мой долбанный папаша, устроившийся в этом кресле–каталке, я прекрасно понимаю, что из тебя сейчас никакой компаньон в любых поездках, но я то тут причем? Я совсем не рассчитывала на то, что мне придется куда–то ехать, тем более, что мне ведь еще не сказали, куда…
— Ты отдохнешь, — говорит мне мой муж голосом человека, уже все решившего за меня. — И потом — тебе ведь там нравится…
— Где это — там? — капризным голосом спрашиваю я, удивляясь тому, что Майя молчит.
— В Израиле, — говорит Н. А. — Майе надо провести пару недель на Мертвом море, мы тебя очень просим…
— На самом деле, — говорит мой муж, — Николай Александрович тебе все оплачивает, да и визы уже есть, и билеты заказаны…
Мне хочется ему сказать, что он мог бы предупредить меня раньше.
Так же мне хочется сказать, что Израиль сейчас — не лучшее место, куда можно отправить жену на отдых.
Пусть даже жена эта считает, что ты хочешь ее убить.
Хотя последнее во всей этой схеме — самое логичное.
Случайный выстрел палестинского снайпера и никакого ножа не надо.
— Ты согласна, девочка? — спрашивает Н. А. пристально смотря мне в глаза.
Я гляжу на Майю и жду.
Майя краснеет и чуть заметно кивает головой, будто говорит мне: — Не отказывайся, я тоже прошу тебя.
Муж прикуривает очередную сигарету, видимо, нервничает.
Они так и не сказали мне, кем приходится Майя Н. А.
Но у меня будет время узнать это.
Принимая рядом с ней солнечные ванны на Мертвом море.
— Согласна, — решительно говорю я, и вдруг понимаю, что ситуация окончательно вышла из–под моего контроля.
21
В двенадцать гаснут фонари… А зажигаются они в восемь… Если мне что и хочется знать, так это то, когда засыпают рыбы в бассейне… И где они спят: у дна, у поверхности, в углу, в центре… А может, они делятся по породам и цвету — маленькие и голубые в центре, большие и красные — в углу… В углу или в углах… В каждом по рыбине и одна в центре, итого пять, хотя на самом деле их больше, но я не считала… Правда, не удержалась, и покормила крошками… Они продолжали говорить, они — это Н. А. и муж, мне было лень слушать, ситуация вышла из–под контроля, все пошло вкривь и вкось, что будет то будет, в двенадцать гаснут фонари… Когда ты едешь в машине домой после ресторана, то думаешь об очень странных вещах… Например, пытаешься вспомнить, какую рыбу ты ела, когда была в Израиле. Вопрос из кроссворда: вкусная, пресноводная и почти без костей, но не форель… Форель я ела сегодня, совсем недавно, она все еще уютно живет в моем животике, мне хочется его погладить, мне хочется, чтобы он его погладил… Несмотря ни на что… Смотря не… Не смотря… Он на меня не смотрит, он опять смотрит в окно, за которым лишь серые тени и темные улицы, да редкие, редкие окна… Те, которые горят, в которых — свет… Остальные — темны. Темные, мрачные, погашенные… Окна, в которых спят или окна, за которыми никого нет… На самом деле я боюсь ехать, но думать сейчас мне об этом не хочется… Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… В прошлый раз я ехать не боялась, но прошлый раз был совсем в другое время… Хотя время всегда другое, два дня назад, когда я пошла к Седому, оно тоже было другим… Интересно, что сейчас делает Седой? Скорее всего, спит, и у него тоже безжизненное окно… У нас дома тоже безжизненное окно, пока… Пока оно безжизненно, но это не надолго… Еще два поворота, а может, что и три… Посмотри на меня и скажи мне хоть что–нибудь… Например, что я была сегодня очаровательна и что ты за меня рад… Ты счастлив, что у тебя такая жена, ты в восторге… Не смотри на эту темную улицу, смотри на меня, хотя все это бесполезно, вообще все бесполезно, ко мне вновь подбирается отчаяние… На мягких лапках, вкрадчивыми шагами… Вкрадчивое, мягкое отчаяние… У Н. А. временами такой же вкрадчивый голос, а у Майи — отчаянный взгляд… И белые пятна на смуглой коже… Странно, что у нее смуглая кожа, если бы она была белой, как и положено женщине с такими рыжими волосами, то пятен бы не было видно… Я никогда не слышала о такой болезни… «Витилиго»… Я вообще не люблю слышать о болезнях… Слышать и слушать… В машине тихо, муж попросил шофера выключить радио… Слишком много музыки было в ресторане… Всего четверо, а так громко играли… Они играли. А мы танцевали, один танец, другой, третий… Молчаливая Майя с зелеными глазами, несчастный Н. А. с вкрадчивым голосом… Когда вкрадчивым, когда — властным… Я никак не могу представить себе своего мужа, занимающегося любовью с Н. А…. Я вообще не могу себе представить, как мужчины занимаются любовью… Как женщины — могу, хотя сама и не пробовала… Хотя все идет к тому, все ведет к тому, все предопределено, даже то, что я все равно люблю своего мужа… Я люблю тебя, только я об этом молчу… Сегодня я об этом молчу… Пока молчу… Ты смотришь за окно, ты устал… Я хочу представить, как ты занимаешься любовью с Н. А…. Или занимался: наверное, это было давно… Это явно не о тебе он написал тот рассказ… Это не ты его бросил, хотя может, что и ты… Для этого надо иметь особые мозги — чтобы так понимать красоту мужского тела. Когда один мужчина так чувствует красоту другого мужского тела. Я чувствую красоту женского тела и чувствую красоту мужского, но я женщина… Хотя кто говорит, что мужчинам этого не дано… Совсем скоро мы подъедем к дому, темная улица, серые тени, погасшие фонари… Они гаснут ровно в двенадцать, а зажигаются в восемь… Это — вечером, утром — не знаю, утром я сплю, порою — долго, порою — нет… Кубик Седого опять все молчит, за Майей с Н. А. приехал небольшой микроавтобус… Целый микроавтобус приехал за Майей с Н. А… Видимо, он состоятельный человек, только какая мне разница, откуда у него такие деньги… Я никогда не стану его наследницей, пусть даже он и мой отец… Когда я его вижу, то об этом даже не думаю… И это странно… Я столько лет искала отца, хотя искала ли я его? Я ничего не могу понять, но мне сейчас хорошо, в первый раз за последние дни я такая мягкая и пушистая… Дурацкая фраза… Мягкая и пушистая с толстым животиком… Мне надо, чтобы его погладили, я хочу, чтобы его погладили… Не смотри в окно, скажи мне хоть пару фраз… Приехали, говоришь ты водителю, водитель тормозит у самого подъезда… Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Сколько раз мы приезжали так домой? Наверное столько же, сколько занимались любовью… Или чуть больше… Или — меньше… Я не чувствую холода, я чувствую лишь то, как у меня ослабли ноги… И я устала… Немного, чуть–чуть… Интересно, к Майя вкатывает Н. А. в их квартиру? Лифта там нет, там широкая лестница… У нее, наверное, сильные руки, хотя я этого не почувствовала… Сейчас я знаю другое: они у нее нежные, моей спине было хорошо, когда она обнимала меня… Мы танцевали, одни мы…На нас смотрели… Они разговаривали, а мы танцевали… Если я выживу, то опять пойду к Седому и скажу ему, что у него самый дурацкий кубик на свете… То работает, то нет… И мне это не нравится… Если вещь работает, то она должна работать… Мне придется предъявить Седому рекламацию, так это, по моему, называется… Мы входим в лифт, я держусь за твой локоть… Я придерживаю тебя за локоть… Нет, я не много пила, я могу еще… Чуть–чуть… Я хочу еще… Чуть–чуть… Ты мне расскажешь про Н. А.? Это не вслух, я никогда не скажу этого вслух, я научилась молчать, я научилась набираться терпения… Я набралась терпения и я жду… Я жду, чем все это закончится… Мой муж хочет меня убить — так я сказала Седому и до сих пор не отказываюсь от своих слов… Мы выходим, я смотрю на твою широкую спину… За ней так уютно… За ней должно быть так уютно… Уютно ли мне за ней? Помоги мне снять плащ и обними меня… Последние два слова не проговариваются, плащ снимается и вешается на плечики… Я скидываю туфли и иду в комнату… В гостиную… В залу… Отчего–то после ресторана у меня всегда кураж… Женщина должна царствовать: в этом есть частичка правды… А может быть, что и больше… Я не представляю, как окажусь на две недели наедине с Майей, я могу сойти с ума… У нее красивая смуглая кожа и странные белые пятна… И я до сих пор не знаю, кто она такая и почему живет с моим отцом… Она живет с моим отцом, но в качестве кого? Мне могут сказать, что она сиделка, что она секретарша, странный рассказ, в котором ее убивают, зачем ему понадобилось писать такой и зачем надо было мужу хранить его на дискете? Во всей этой истории много неясного, я надеялась на кубик Седого, но он опять ослеп. И оглох. Мертвый кубик, хотя, скорее, что спящий… Как рыбы в бассейне, большие рыбы и маленькие рыбки… Я ела рыбу, рыба называлась форелью… Я ела форель, Майя тоже ела форель… Такую же, как и я… Мы обе ели форель… В душ? Кто первым? Иди ты, если хочешь, тебе завтра на работу, а мне собираться… Я пока разденусь и посмотрю телевизор… Они сделали все, они успели все, он даже нашел мои фотографии, пригодные для виз, и мой загранпаспорт… А значит, этой идее чуть ли не месяц, не меньше… Они планировали мою жизнь, а я об этом ничего не знала, хотя это и к лучшему, сейчас мне кажется, что все к лучшему, по крайней мере, там тепло, там уже почти жарко, там нет ни дождя, ни — тем более — снега… Я устала от зимы, я устала от этой безалаберной весны… Когда то дождь, то снег с дождем… Мне не хочется раздеваться, мне хочется, чтобы меня раздели… И на руках отнесли в постель… Иногда этого хочется, но раздеваться придется самой… Интересно, Н. А. способен раздеться сам и сам принять душ, или Майя помогает ему делать это? И моет его, намыливая ему тщательно между ног? Я все равно не успокоюсь, пока не узнаю всю правду, хотя бы о том, делали ли они это с мужем или нет… Только сейчас мне все равно, у меня начинают закрываться глаза, я чувствую, что безумно хочу спать… Но не должна… Я не должна сегодня так засыпать, мне надо успеть еще кое–что… а значит, мне надо еще выпить, чуть–чуть… И не кофе, ни чая… Выпить немного вина и принять душ… Скоро он освободит его и я смогу пойти в ванную… Я раздеваюсь, я медленно стягиваю с себя свое черное платье… И чуть пританцовываю при этом… Чтобы не спать… Я исполняю стриптиз… Для себя одной… Я поглаживаю опять свой набитый форелью животик… Форелью и греческим салатом, потом был еще вкусный десерт… Фрукты под сбитыми сливками, от мороженного я отказалась, хотя кофе, все же, выпила… Поэтому сейчас лучше еще вина… И снова белого, вон из той, початой бутылки… Треть бокала — и хватит, иначе голова утром будет болеть… Он закончил принимать душ, слышно, как выключил воду… Сейчас он долго будет вытираться, а потом выйдет из ванной… Скорее всего, что голым — чтобы тело дышало. Дышало и отдыхало. Платье надо повесить в шкаф, но мне лень, можно просто бросить на кресло — утром уберу… И белье можно не убирать, хотя я его еще не сняла… Разденусь в ванной, когда он ее освободит… Дурацкая музыка по телевизору, она гораздо хуже, чем та, в ресторане… Музыка для совсем юных, не для меня… Он выходит из ванной и идет в спальню, я смотрю на его все еще сохранившую загар голую спину и белые ягодицы… Я сейчас, зачем — то говорю ему вслед… Мне хочется, чтобы он меня дождался, чтобы он не уснул так быстро, как вчера… Это было давно, очень давно, в королевстве у края земли… Опорная точка, странная фраза, напрочь поселившаяся в мозгу… В той его части, которая бодрствует. Левая опять темна, левая вновь погружена в черноту. Правая залита светом, хотя он тоже меркнет. И в правой поселилась фраза. Я снимаю лифчик, стягиваю колготки и трусики. Я все еще не подбрила ноги, хотя хотела это сделать еще утром. Но уже вечер, точнее ночь. Уже опять завтра. Совсем недавно было сегодня, потом этим сегодня стало завтра. Наверное, Майя уже успела помыть Н. А. и принимает душ сама. Или приняла. Там, на Мертвом море, мы будем принимать душ в какой–то определенной последовательности. Вначале — я, потом — она, вот только с кем она оставит Н. А.? Я чувствую, что начинаю нервничать — он с кем–то должен остаться, кто–то должен за ним ухаживать, отчего это не приходило мне в голову? Мой отец беспомощен, он может передвигаться лишь в кресле–каталке, ему надо ходит в магазины, ему надо готовить еду, его надо возить в туалет, за ним надо убирать… Может ли он ходит в туалет сам? Скорее всего, что он кого–то наймет на это время… Он состоятельный человек, он может себе это позволить… Например, наймет моего мужа… Мне становится смешно, проще представить, как они занимаются любовью, чем то, как мой муж ухаживает за инвалидом. За паралитиком. Я включаю воду и делаю ее совсем горячей, от горячей воды я взбодрюсь… Одиночество в ванной — лучшее одиночество на свете… Я намыливаю грудь и думаю, что мне хотелось бы иметь грудь Майи… Она у нее красивая, красивее, чем моя… Несмотря на белые пятна… Я тру соски и чувствую, что они твердеют… Мне хочется, мне безумно хочется, конечно, я могу сделать это сама, но не буду… Если он даже уснул, то я разбужу его… Я хочу, чтобы он сказал мне три слова… Только три… Я люблю тебя… Если заменить второе, то получится совсем другая фраза… Я убью тебя… У тебя есть нож, он лежит в столе, пойди и возьми… Лобок тоже начал обрастать, надо бы до отъезда привести себя в порядок… Сходить в парикмахерскую, подстричься, подкраситься… Я хочу уехать красивой… Иногда я люблю себя, иногда — я себя ненавижу… Сейчас люблю, но хочу, чтобы и ты любил меня… Я намыливаюсь вся и долго смываю с себя пену… Вода горячая, кожа краснеет, но мне хорошо и я чувствую, что спать совсем не хочется… Что–то будет, что–то произойдет… И совсем не обязательно то, чего ты ожидаешь… Я так и не узнала, чем на самом деле занимается Н. А., я догадываюсь, что он не только пишет книги… Хотя — какая мне разница? И вообще — это был странный вечер, надо признаться… Самой себе… Главное в том, что мне сейчас не столько страшно, сколько любопытно, я опять как маленькая девочка, которая хочет заглянут в будущее… Есть ли оно у меня? Мне пора выключать воду, мне пора выходить… Если я хочу сделать то, чего хочу… Добиться того, чего надо… Я хочу услышать три слова, мне это необходимо… Мне необходимо услышать, что ты меня любишь… Простое желание, но ради него я сегодня готова на все… Телевизор все еще включен и все еще играет дурацкую музыку, я не могу найти пульт, не помню, куда положила… Наверное, здесь, под платьем… Я не одеваюсь, я иду по квартире. Накинув на себя полотенце… С мокрыми волосами, которые надо бы просушить феном… Почти в час ночи… Он проснется и будет ворчать… И тогда ничего не получится… План не удастся… Никогда не один мой план не удается, всегда удаются лишь его… Поэтому он — муж, мужчина, мачо натуралис… А я — женщина, хотя про нас говорят, что мы можем добиться всего, чего захотим… Но сушить голову все равно надо, можно это сделать в ванной, закрыв дверь… Плотно закрыв… И включив фен на полную мощность… Жизнь состоит из такой вот фигни, я это давно поняла… Ванна, завтраки, сушка головы, работа, если ты работаешь, магазины… Иллюзии и ожидание смерти… Ты сушишь голову и не знаешь, когда и как это случится, хотя об этом лучше не думать… Голова уже сухая, надо намазаться кремом и быстро идти в спальню… Быстро… Я могу идти быстро, хотя не хочу… Майя помыла Н. А. и Майя легла спать… Седой спит, как и его кубик… Мой муж тоже спит, он опять лежит на спине… Я приподнимаю его одеяло и смотрю на его промежность… Безволие посреди черного куста: внезапно меня это развлекает и я улыбаюсь. Хихикаю. Чуть посмеиваюсь. Он спит и ни о чем не догадывается, но сегодня я не буду ждать. Я вообще больше не хочу ждать. Самолет может разбиться и я хочу услышать эти три слова. И сама их сказать. Мне это надо, мне это просто необходимо… Я зарываюсь головой в его курчавую черную поросль, мне абсолютно не стыдно, что я делаю все это не по его прихоти, а по своей… Он сам сделал меня такой, он сам научил меня… Рыба широко открывает рот, рыба делает вид, что дышит ртом… Водоросли колышутся и становятся жесткими, у них солоноватый, как и положено в соленой морской воде, вкус, водоросли перерождаются в жесткий роговидный отросток, который все набухает и набухает в воде… А рыба все шире открывает рот: питательный планктон с массой воды попадает в пасть и оседает в желудке, а вода фильтруется через жабры… Я чувствую, что мне надо остановиться, он проснулся, он уже не спит, я слышу его сладкое ночное бормотанье, мне хочется спросить, было ли тебе так же хорошо с Н. А., но для этого рыбе надо отплыть от куста, а ей этого не хочется и тогда я перестаю быть рыбой и становлюсь просто черной бездонной расселиной, позволяя ему начать исследование собственных глубин… Он дышит мне в ухо, он покусывает его, я пытаюсь поймать его губы, его тяжелое тело придавило меня к кровати, почти что расплющило, сделало плоской, но мне необыкновенно уютно, мой фавн, мой прекрасный мальчик, мое наслаждение, но я молчу, я жду, когда он произнесет эти три слова, пусть даже с заменой одного на другое, ведь сейчас он действительно убивает меня, он делает меня кем–то другим, отчего–то такого еще не было никогда, за все те тысячи соитий, что мы производили с ним в этой жизни, он нежен и силен, он мощен и прекрасен, мне плевать на то, что кто–то еще может испытывать это с ним, кроме меня, даже лучше, если это не женщина, ревновать к мужчине — бессмысленность, если бы я могла родить, думаю я, Господи, ну сделай же так, чтобы я смогла забеременеть, понести, забрюхатеть, мужчина, спускающий в мужчину — это одно, и совсем другое — когда он это делает в женщину, особенно, готовую принять его в себя так, как это готова сделать сейчас я, когда у меня между ног уже не банальная распустившаяся роза, а настежь распахнувшая створки раковина с перламутровой мантией, где–то в самой глубине которой покоится жемчужина матки, которую ты достаешь своим каждым движением, толчком, ударом, мой рот все еще чувствует ощущение от твоей плоти, я пытаюсь поймать твои губы, я пытаюсь сделать так, чтобы ты поймался в сеть моего рта и навсегда застрял в одной из ее ячеек, Господи, продолжаю я свою молитву, ну сделай же так, чтобы это тело перестало быть бесплодным, пусть даже это ничего не изменит, это было давно, очень давно, в королевстве у края земли, и никогда ничего не получалось, не получится и сегодня, но мне хочется, мне безумно хочется, моя раковина все шире и шире отворяет створки, из нее льются потоки влаги, жемчужина внутри горячая и одновременно скользкая, такая скользкая, что твой ловец жемчуга никак не может поудобнее ухватиться за нее, но это произойдет совсем скоро, еще чуть–чуть и моя спина выгнется, дрожь пройдет по телу, и лишь тогда створки раковины захлопнутся обессиленными, а может, на это у них уже просто не хватит сил, вот только ты дышишь, ты ласкаешь, но ты молчишь, эти три слова так и остаются невысказанными, как остаются не услышанными все эти годы мои ночные молитвы, как остается бесплодным мое тело, которое никак не может забеременеть, понести, забрюхатеть, наполни меня, шепчу я, затопи меня, залей, и тут начинается водоворот такой силы, что все смешивается в одно — и стая шевелящих ртами рыб, и кусты водорослей, и бездонная щель, которая вдруг, содрогаясь, принимает в себя, и ты наполняешь меня, заливаешь, затапливаешь до краев, и застываешь прямо на мне, будто окаменев, я лежу под этой неподъемной каменной глыбой, чувствуя жар внутри раковины, и только тогда ты чуть слышно шепчешь мне на ухо:
— Я люблю тебя!
— Убьешь? — переспрашиваю я, пытаясь выбраться из–под твоего тела.
Ты смеешься и ничего не отвечаешь, даешь мне свободу и я раскидываю руку и сжимаю ноющие и натруженные ноги, думая о том, что больше всего мне не хочется сейчас вставать и снова идти в душ, чтобы вымыть из своей раковины твои следы. Все равно ведь ничего не произойдет, если не происходило столько лет. А пятна на простыне — до отъезда мне все равно придется стирать белье. И я поворачиваюсь на бок, еще сильнее сжимая ноги, будто стараясь удержать твои следы в себе, твои, моего мужа, моего мужчины. В очередной раз бесполезно посеянное семя. На землю, которое навряд ли даст всходы. Но мне хорошо, мне впервые хорошо за все последние дни.
— Ты убьешь меня? — отчего–то очень тихо спрашиваю я.
Ему чудится совсем другое и он, уже спросонья, отвечает: — Конечно…
— А Майя, — внезапно спрашиваю я мужа, прижимаясь к его голому телу и нежно, хотя и лениво, проводя по нему рукой, как бы благодаря за то, что только что было.
— Кто? — переспрашивает он, уже совсем засыпая.
— Ну да, Майя, кто она этому Николаю Александровичу?
— Дочь! — бормочет муж, сквозь окончательно подступивший к нему сон.
И только безумная и все еще счастливая усталость мешает мне вскочить с кровати и закричать на весь дом, что это неправда!
22
А еще мне хочется закричать, что это мой отец.
И я это делаю.
Во сне.
Я кричу, что это мой отец.
Потерянный обретенный, обретенный, но еще не потерянный.
Мой, только мой.
И я его никому не отдам.
И прежде всего — Майе!
Я ненавижу ее сейчас.
Я хочу выцарапать ей глаза.
Ее прекрасные зеленые глаза.
У меня никогда не было таких.
У меня просто карие глаза.
Обыкновенные карие глаза.
Такие, как у многих.
У большинства.
Почти у всех.
А у нее они зеленые.
Я сплю и во сне выцарапываю у нее глаза.
И когтями рву ее грудь.
Смуглую грудь с неприятными белыми пятнами.
А потом убиваю ее.
Ножом.
Как в том рассказе, что на дискете.
Может быть, я сама написала его.
Хотя и не помню.
Я знаю одно: сейчас я сплю.
И это — самое мерзкое.
Я не должна спать, мне надо бодрствовать.
Чтобы выжить.
Чтобы защитить своего отца.
Чтобы оставить его себе.
Чтобы он был только мой.
В левой комнате внезапно зажигается свет.
Сквозь сон я догадываюсь, что опять сработало реле.
Кто–то повернул выключатель.
Кубик проснулся.
Я сплю, а он — нет.
Мой муж видит сны.
Как и я.
Я вижу то, что видит он.
Я вижу его сны.
Они мне снятся.
И я вижу свою мать.
Я не знаю, что она здесь делает.
И только догадываюсь, где это — здесь.
Я вижу мать, идущую по пляжу.
Странному пляжу с мокрым желтым песком.
Крупнозернистым.
На таком не всегда приятно лежать.
Но мать идет не одна.
Они идут рядом с ней.
Мой муж и Н. А.
Майи нет рядом, Майя убита, у нее расцарапана грудь и выцарапаны глаза.
Царапины и рапаны.
Панцири и каракатицы.
Они покрывают пляж поверх песка.
Раковины рапанов, панцири морских ежей и дохлые тушки каракатиц.
И еще — морские звезды.
Множество морских звезд, медленно шевелящих лучами.
Пятиногие и шестиногие.
Пять лучей и шесть лучей.
Шевелящихся.
Подрагивающих.
Переползающих с места на место.
Так медленно, что это почти незаметно.
И они идут, ступая прямо по ним.
По морским звездам.
По раковинам рапанов.
По панцирям морских ежей.
По дохлым тушкам каракатиц.
Я не знаю, куда они идут и что тут делает моя мать.
Мне не нравится, что она идет с ними, я жду подвоха.
И я боюсь за своего отца.
Я его только недавно нашла.
Мне плевать на то, что он такой.
Он может быть еще хуже, он может быть вообще исчадием ада.
Но он — мой отец.
Он идет впереди, позади него — моя мать.
Муж идет последним.
На них с криком пикирует большая серая чайка.
Она пытается клюнуть отца в голову.
Я хочу крикнуть ему: — Берегись! — но у меня получается только шип.
Как у змеи.
Я шиплю, как змея.
Я ползу за ними, я пытаюсь вползти, вскользнуть, протиснуться в ярко освещенную комнату.
Ту самую, что в левой половине головы.
В левом полушарии мозга.
Куда в жизни мне вход запрещен.
В их мир.
У них — свой мир, у меня — свой.
У каждого из нас так, твой мир и их мир.
В одной половине головы и — в другой.
Внезапно мать исчезает, как исчезает и пляж.
И вся эта морская живность, не вызывающая никакой радости.
Лишь гадливое чувство, как при виде сбитой машиной кошки на дороге.
Когда внутренности смешаны с шерстью и кровавый след тянется на несколько метров.
Он все еще спит, я тоже сплю.
Мы оба спим.
До этого мы занимались любовью, и я была счастлива.
Я сделала так, чтобы мне было хорошо.
И ему — тоже.
Чтобы нам было хорошо, но потом все это исчезло.
Лопнуло, рассыпалось, распалось, разлетелось на мельчайшие кусочки.
В голове зажегся свет, кто–то нажал кнопку.
Я думаю, что это Седой.
Он никогда не спит, он ремонтирует.
Ремонт человеков, то есть — нас.
Он хихикает и что–то подкручивает плоскогубцами.
Или как там еще называются эти штучки?
Вот он берет отца и откручивает ему ноги.
Я не знаю, зачем, но я вижу, как он это делает.
Хотя я не понимаю, в какой половине головы это происходит.
В левой или — в правой.
То есть, это мой сон или это сон моего мужа?
Я хочу закричать — чей это сон?
Но вместо крика все тот же шип.
Я — змея.
С холодными глазами и с переливающимся рисунком на коже.
Геометрически правильным и очень красивым.
Желто–черные ромбики с белой окантовкой.
Змея, пьющая по утрам кофе.
Змея, которая любит, когда ее ебут.
Но все равно — змея.
Я — змея.
Куда они идут сейчас, мой отец и мой муж?
И куда они дели мою мать?
Змея не успевает за ними, хотя пытается ползти изо всех сил.
Но они идут быстро, какие–то холмы вместо пляжа.
Ровные и покрытые высохшей бурой травой.
Безжизненные холмы и палящее солнце.
Мне хочется заползти в первую попавшую расщелину и дождаться ночи.
Когда солнце скроется за горизонтом и наступит прохладная тьма.
А еще лучше — прохладная и влажная.
Прохладный и влажный воздух полезен для моей кожи.
Я ненавижу Седого, зачем он занимается этим ремонтом?
И что ему сделал мой отец?
И мой муж?
И я?
И Майя?
Да и моя мать — ее ведь тоже ремонтировали.
И теперь она исчезла.
Я ничего не понимаю, мне необходимо проснуться. Проснуться, встать с кровати, пойти на кухню и выпить стакан воды.
Холодной воды.
В холодильнике стоит початая бутылка минералки.
Можно даже не наливать в стакан — выпить прямо из горлышко.
Змея пытается выползти из кровати, но что–то ее не пускает.
Змея боится за своего отца.
Змея его слишком долго искала.
Змею лишили его еще в детстве.
У змеи не было детства.
Он не покупал ей игрушки, он не подбрасывал ее в воздух.
Он не целовал ее на ночь и не повышал на нее голос.
Он не водил ее в зоопарк и не провожал в школу.
У меня не было отца и ничего этого не было.
И это мой отец, а не Майи!
Пусть он — дерьмо, старый похотливый павиан.
И моему мужу тоже снится всякое дерьмо.
Зачем ему сейчас снится мой отец?
Зачем они сидят на какой–то маленькой площади в тени большого ветвистого дерева?
На площади в другой стране — я даже догадываюсь, где это.
Вот только не могу вспомнить, как она называется.
Во сне очень часто ты не можешь вспомнить, как называется то или другое.
И еще во сне часто хочется кричать.
Я тоже была в этой стране.
Может быть, что и в этом городе.
И на этой площади.
Мне знаком этот ресторанчик.
И я видела этого официанта.
Уже видела.
Я помню его лицо и тоненькую ниточку усов.
Он был в белой рубашке с короткими рукавами и в черных брюках — они все так ходят.
И отец заказывает ему что–то, только я не слышу, что.
Я вижу, но не слышу, у змеи нет слуха, змея глухая, как и все змеи.
Мне надо заползти на это дерево, обвиться вокруг веток и свесить голову вниз.
Свою маленькую очаровательную головку с двумя темными точками глаз.
У Майи они зеленые, у меня — карие.
Я убила Майю, там на дискете, это сделала я, сейчас–то я могу признаться.
Потому что она считала, что он — ее отец.
Но это не правда, это мой отец и сейчас он сидит за столиком под деревом и ждет, когда официант принесет заказ.
Мой муж тоже ждет и они о чем–то разговаривают.
Я свешиваюсь с ветки еще ниже, они меня не замечают — здесь никогда ведь не было змей.
Которые пьют по утрам кофе и превращаются в женщин, которые любят, когда их любят.
Мы все любим, когда нас любят.
А значит — когда нас убивают.
Как я убила Майю.
Как кто–то хочет убить моего отца.
Как хотят убить и меня.
Появляется официант, он возникает в ореоле солнечного света, будто просто переступает через него. Только что не было и вот — есть.
Он несет поднос, на подносе две тарелки и две большие кружки.
Они будут есть и будут пить пиво.
Странный сон, дурацкий сон, зачем он, зачем Седой вновь повернул этот проклятый рычажок?
Мне надо проснуться, я опять чувствую, что мне надо проснуться, но не могу и сваливаюсь с дерева, хотя никакой площади подо мной уже нет.
Как нет и отца.
И мужа.
Опять тот же самый пляж.
И опять раковины рапанов, панцири морских ежей и дохлые тушки каракатиц.
И опять — морские звезды.
Множество морских звезд, медленно шевелящих лучами.
Пятиногие и шестиногие.
Пять лучей и шесть лучей.
Шевелящихся.
Подрагивающих.
Переползающих с места на место.
Так медленно, что это почти незаметно.
И моя мать, лежащая на спине прямо поверх всей этой мерзости.
Она абсолютно голая, непристойно голая, вызывающе голая.
И у нее закрыты глаза.
И все та же чайка, что пыталась клюнуть моего отца, сейчас парит над ней.
Если мать откроет глаза, то чайка резко бросится вниз.
Она думает, что глаза — это рыбки.
И их надо клюнуть.
Одну рыбку и другую рыбку.
Как я выклевала глаза у Майи.
Ее прекрасные зеленые глаза, которые мне вдруг так постыдно захотелось поцеловать.
Но сейчас целовать нечего, лишь пустые, кровоточащие глазницы.
Скоро такие будут и у моей матери.
Она вдруг шевелится, а потом садится.
Ветер обдувает ее со спины, мне видно, как он колышет ее волосы.
Я никогда еще не видела мать такой красивой.
Я понимаю, что нашел когда–то в ней мой отец.
Любой отец, этот ли или другой, тот, о котором я действительно ничего не знаю.
У нее сильное тело, к такому хочется прижаться и раствориться затем без остатка.
Наверное хочется — мне трудно судить за мужчин.
Мать встает и идет в сторону моря.
Опять сильно мигает, эти вспышки света сведут меня с ума.
Я пытаюсь найти змею, но не вижу.
Она то ли уползла, то ли сдохла.
А может, затаилась под каким–нибудь камнем.
Если начать их переворачивать, то змея может рассердиться и броситься.
Когда нас сильно допекают, то мы бросаемся так же — внезапно и сразу.
Если этот сон не закончится, то я не выдержу.
Я умру прямо во сне и тогда никому не придется меня убивать.
И любить больше тоже никому не придется.
Мать подходит к воде и пробует ее ногой.
Почему моему мужу снится моя мать?
Или это уже мой сон?
У него — свой, у меня — свой.
И они пересекаются.
Вползают друг в друга, становятся одним целым.
Только перепутанным и непонятным, как паззл.
Головоломка. Кроссворд.
Мать все еще пробует воду ногой.
Потом заходит в нее и медленно идет в сторону горизонта.
Отец с мужем заканчивают пить пиво и расплачиваются.
Змея удовлетворенно заползает под большой камень.
Мать бросается в воду и плывет.
Отец с мужем встают из–за столика и идут к выходу с площади.
Там, у какого–то здания, в тени, стоит молодой парень и торгует картинами.
А может — картинками.
Чем–то, что я плохо вижу.
Змея сворачивается клубочком и засыпает.
Змеям не снятся сны.
Змеи спят без сновидений и даже не закрывают глаза.
Или закрывают?
Зато у Майи глаза закрыты и мне по прежнему хочется их поцеловать.
Я не могу больше выносить эти сны.
Для одной меня этого слишком много.
Седой как чувствует, свет в левой комнате вновь отключается.
Я облегченно вздыхаю и спокойно поворачиваюсь на правый бок.
И сплю.
Как спит муж.
Как спит мой отец.
Как спит Майя.
Как спит моя мать.
Как спит, не закрыв глаз, змея под большим и уютным камнем.
И уже до утра.
Сквозь сон я чувствую, как муж встает и начинает собираться на работу.
И я опять его не провожаю — я не могу встать, но он не против.
У меня не открываются глаза, и отчего–то болит все тело.
Но все равно надо вставать — хотя бы для того, чтобы начать собираться.
Через три часа он заедет за мной и повезет в аэропорт.
А Майя уже будет ждать там.
Или мы поедем вместе?
Вначале он заберет ее, а потом они заедут за мной?
Я медленно сползаю с кровати и пытаюсь найти тапочки.
Куда–то засунула вчера, стремясь побыстрее нырнуть к нему под одеяло.
Он заглядывает в комнату и говорит: — Привет!
— Привет! — отвечаю я и заглядываю под кровать.
Со стороны это, должно быть, смотрится ужасно: голая женщина, стоящая на четвереньках и засунувшая голову под кровать.
Под кроватью валяется тапочек. Один. Второй где–то в другом месте.
И еще под кроватью я вижу не до конца убитую книгу.
Видимо вчера, кромсая вырванные страницы ножом, я закинула оставшуюся часть сюда.
В пыльную темноту, куда не добирается дневной свет.
Чтобы было, что кромсать и дальше.
Я беру тапочек и попорченный томик.
Второй тапочек лежит у кресла.
У меня три часа на сборы.
Муж уже ушел — я слышала, как хлопнула дверь и защелкнулся замок.
Я надеваю тапочки, лениво думаю, накинуть халат или нет, и решаю, что одену его потом.
И голая иду в туалет, с папашиным томиком в руках.
В конце концов, я потратила деньги, покупая эти исповеди старого павиана.
А значит, могу совместить приятное с полезным.
Хотя бы в течение двадцати минут из тех трех часов, что даны мне мужем на сборы.
Вот только кто сказал, что это чтение действительно будет приятным?
23
В ПОИСКАХ ТЕНИ,
когда солнце уже перевалило за зенит, хотя фраза явно звучит коряво, так что лучше начать сначала, вот так: в поисках тени, когда стрелки часов тягуче переместились за цифру, обозначающую «двенадцать», но и это продолжает не нравится, что означает одно — солнце действительно стало не просто припекать, оно палит так, как лишь может палить солнце на этой долготе и на этой широте, хотя под рукою сейчас нет ни карты, ни атласа, чтобы выписать оттуда циферки, обозначающие эти самые широту и долготу, так что остается лишь все так же искать тень, в которой можно спрятаться, раствориться, переждать те томительно жаркие часы, которые отведены солнцу и белесовато–голубому от жары небу, на котором сейчас, именно в данный момент, не видно ни облачка.
Даже на побережье, куда я приехал три дня назад, проведя до этого сутки в Барселоне, жара после двенадцати выгоняет большинство с пляжа, хотя — надо отметить — море в этом районе Испании не отличается той комфортностью, к которой ты привыкаешь, бросаясь в волны где–нибудь на противоположной стороне водного пространства, у берегов если и не Африки, то, по крайней мере, азиатского материка. Здесь вода в море намного холоднее, поэтому в моем возрасте большинство предпочитает теплый бассейн при отеле, теплый от того, что отвесные солнечные лучи прогревают его за считанные часы, если еще сразу после завтрака вода в нем бодрит ничуть не хуже морской, то ближе к полудню она уже не охлаждает, а лишь освежает, да и то — на какие–то мгновения, пока тело не привыкает к пребыванию в пресноводно–хлорированной среде.
Но это на побережье, а сейчас я, поддавшись с вечера какому–то бессмысленному туристическому то ли ажиотажу, то ли помутнению и беспрекословно выложив отельному гиду что–то около тридцати пяти долларов, вынужден ждать, пока подъедет автобус и водитель откроет двери, за которыми столь долгожданная прохлада от работающего кондиционера, хотя в номере я кондишн даже не включаю — хватает открытой балконной двери и постоянно дующего ветерка, со стороны Пиренеев и по направлению к тому самому Средиземному морю, воды которого здесь, по крайней мере, именно в это время года, не располагают к долгому купанию.
Собственно, я не собирался посещать этот городок и прежде всего потому, что никогда, если не считать столь далекой уже юности, не считал себя большим поклонником той главной местной достопримечательности, посмотреть на картины которого и собственно само здание музея, построенное с изначально спланированным, а оттого и очень рациональным безумием, сюда приезжает в год народа больше, чем в главный испанский музей — знаменитый мадридский Прадо.
В юности — да, в юности сама фигура этого испанского, а точнее сказать, каталонского, мэтра с напомаженными кончиками усов притягивала меня, хотя, если быть честным, намного больше притягивал тогдашний мой приятель, который был вот уж действительно без ума от Дали и который во многом и предопределил мою жизнь, хотя бы потому, что любовь, вспыхнувшая в один прекрасный день в моем сердце (а есть ли что банальнее и бессмысленнее, чем именно такая констатация давно произошедшего?) стала тем божественным — я не боюсь именно такого определения — факелом, который осветил для меня, пусть всего лишь на мгновение, все мое будущее, то самое будущее, которое порою так мучительно продолжается в любом «сегодня», хотя бы в том самом, когда я именно в данный момент пытаюсь отыскать тень на безжалостной каталонской жаре и жду как манны небесной появления автобуса с включенным кондиционером.
Этот смешной и в чем–то неуклюжий актер, намного выше меня и намного старше меня по возрасту, долгое время нарезал, что называется, возле меня круги, хотя я‑то плохо понимал, что ему от меня надо. Не знаю, почему лишь сегодня я вдруг вспомнил про то, что было уже несколько десятилетий назад, скорее всего, что в жаре–то все и дело, ведь жара здесь выступает тем катализатором памяти, который выплавляет из тебя все несущественное, суетное, наносное, оставляя лишь самые основные вещи, забытые тени, тени, возникающие вновь.
Ведь даже вчера, когда отельный гид соблазняла меня этой поездкой, я не вспомнил того своего приятеля, его как бы вымыло временем из моего сознания, я лениво сидел у бара и пил свой вечерний кофе, разбавляя его время от времени небольшим глотком коньяка — лишь для того, чтобы нейтрализовать кофеин и не столько взбодриться, сколько привести себя в состояние обостренного восприятия прибрежной испанской действительности, но — по всей видимости — эта деловая дамочка поймала меня как раз в тот момент, когда я еще не был готов к сопротивлению и легко согласился, еще даже не подозревая, что весь последующий день буду занят одним: поисками теней.
И дошло это до меня даже не в Фигерасе, конечной точке этого утомительного туристического маршрута, куда автобус прибывал лишь далеко за полдень, тот самый полдень, который равен пресловутому зениту, а значит, и началу безжалостного местного солнцепека.
Дошло это до меня еще во время предыдущей остановки, в милом городке Жирона, куда мы прибыли, пропялившись в окна что–то около часа, еще в самое благостное утреннее время — не было и одиннадцати, а значит, можно было совершенно спокойно бродить по улицам старого города, не озираясь по сторонам в поисках какой–нибудь открытой забегаловки, где можно прикупить ледяную колу или какое другое пойло, пусть даже просто воду в обыкновенной пластиковой бутылке.
Я отстал от группы, которая, скучковавшись вокруг экскурсовода, бодро пересекала один из мостов через реку Ониар, который вел как раз в самое переплетение тех узких средневековых улочек, которые и привлекают до сих пор все эти, утомленные жарой и солнцем, толпы в столь тихий и все еще оставляющий ощущение глубокого сна город. На противоположной стороне реки, сразу за мостом, ярко полыхали разноцветные фасады домов, красные, голубые, желто–песочные. Группа моих спутников по автобусу стала втягиваться какой–то бело–кепчатой змеей в узкую стрельчатую арку, за которой и начинались мощенные булыжником улочки, а я остановился на мосту и посмотрел вначале в воду, а потом — вдаль, поверх домов, туда, где в солнечном мареве проступала колокольня местного кафедрального собора, отбрасывающая, как мне показалось, резкую тень на все эти веселые и такие неестественные дома и домики.
В воде плавали большие и упитанные карпы, они медленно шевелили плавниками, время от времени один из них поднимался к поверхности, хотя для этого ему не надо было затрачивать так уж много усилий — река Ониар в это время года мелкая, навряд ли глубже полуметра. А вот колокольня с ее резкой и пронзительной тенью внезапно как бы пришпилила меня к мосту и на какое–то мгновение кровь сильнее запульсировала в висках, а сердце ухнуло в самый низ живота, да так, что мне пришлось схватиться руками за парапет моста, чтобы не упасть.
Но и это была лишь тень тени, настоящие ее поиски, настоящее приближение к ней началось позже, в самом Фигерасе, когда, пройдя через турникет, я оказался внутри этого порождения странной фантазии и всех мыслимых и немыслимых комплексов, про которые мне когда–либо доводилось слышать. Естественно, что раньше, естественно, что не от нашего экскурсовода, тем паче, что сам хозяин и одновременно главный экспонат всего этого строения запретил проведение экскурсий, предпочитая, чтобы именно так — безмолвно и ошарашенно — посетители (хотя хочется сказать — пациенты) крутили головами по сторонам и с удивлением внимали тому, чему навряд ли стоит удивляться.
Именно в этот момент, когда турникет остался позади и я, свернув в какой–то боковой ход, внезапно оказался на лестнице в длинную галерею, ведущую вверх, на второй этаж, я уловил первое приближение тени, и не усатого господина с его склонностью к вуайеризму, любовью к мастурбированию за натянутыми, но еще не покрытыми красками холстами, а так же беспардонной и столь впечатляющей страстью к самому себе. И не тень его жены, той самой, с которой он и был обвенчан в том самом кафедральном соборе города Жироны, колокольня которого незадолго до полудня произвела на меня столь большое впечатление, нет, эта сучка, эта трибада, эта любительница молоденьких мальчиков и любви втроем так и осталась для меня всего лишь похотливой спиной на одном из его вычурных и пафосных творений.
И даже не тенью того смешного и в чем–то неуклюжего актера, большого поклонника творчества усатого господина, моей первой серьезной любви, человека, растлившего — если называть вещи своими именами — мое неопытное юношеское тело, было это видение, ведь чем иным, как не видением может быть названа так быстро и явно промелькнувшая тень?
Тенью любви было это видение, любви, про которую я отчего–то временами вспоминаю на протяжении всей своей жизни, хотя бы потому, что если картины выдающегося и гениального мэтра никогда не производили на меня (повторю: за исключением юности) особого впечатления, то поэтические строчки того, кто отчетливо обогнал сейчас меня, поднимаясь по лестнице, всегда воздействовали на мою психику и подсознание.
Тень Лорки, пришедшего зачем–то в гости к Дали.
Я прекрасно знал, что в Фигерасе Лорка был всего дважды, промелькнувшая сейчас тень была, скорее всего, из того, первого, посещения, предпринятого им во время пасхальных праздников одна тысяча девятьсот двадцать пятого года, если быть точнее, то в один из дней с пятого по одиннадцатое апреля, точнее сказать я не могу, а тени не разговаривают, они просто проходят по лестнице, неся за собой груз своей неосуществленной любви.
Наверное, именно потому он и решил посетить сейчас это безумное место, подняться по лестнице, пройти по галерее, дойти до зала, над которым распростерся так называемый «геодезический купол» — совершенное в своей геометрии и пропорциях сооружение, накрывшее не просто бывшую сцену этого, некогда театрального, зала, а накрывшее собой место последнего отдохновения, если, конечно, таковое может быть дано господом человеку с напомаженными кончиками усов.
Тень знала то, что знал и я: под одной из плит, которыми была замощена бывшая сцена, ничем особым не примечательной и лишенной всяческих опознавательных знаков плитой, захоронены останки великого мэтра, последняя шутка гения, где–то там, прямо над женским туалетом, вполне возможно, что и над одним из писуаров, до сих пор белеют уже очищенные временем от разложившейся плоти его кости.
И тень захотела взглянуть. Теням это тоже надо. Тени ведь спасают не только от жары. Тень расстрелянного, тень безумно влюбленного, тень того, кто любил, но был продан и предан, а потом и убит, и убит не за то, что он был поэтом или политиком, а за то, что он любил не так, как положено, хотя и пытался скрывать эту свою тайну всю жизнь.
Я понял, что у меня нет сил идти в эту душную клоаку, полную мерзких и беспощадных иллюзий. Я повернулся, спустился по лестнице и вышел в небольшой дворик, такие здесь, что в Испании, что в Каталонии, называют патио. В центре был фонтан, я подошел и набрал в горсть воды, а потом сполоснул себе лицо. Мне хотелось тени, хотелось сесть под какое–нибудь большое, широколистное дерево, которое — пусть всего лишь на какие–то полчаса — скрыло бы от меня это убийственное солнце Ампурдана, как, собственно, и называется географически точно эта местность, что начинается здесь, в Фигерасе, и идет по направлению к морю, к пляжам и бухтам Кадакеса, где — в основном — и провели те шесть дней в двадцать пятом году эти двое, поэт и художник, когда поэт пытался добиться любви, а художник так и не согласился на нее.
Человек с усами всю жизнь боялся кузнечиков, боялся прикосновений, боялся венерических болезней, боялся всего, кроме самого себя. Он был прекрасен в то лето двадцать пятого года, он был божественно красив, но он боялся разделить эту свою красоту с тем, кто действительно любил его и чья тень мелькнула на какое–то мгновение мимо меня, заставив опять почувствовать эту невыносимую боль в висках и застыть у фонтана, пытаясь в очередной раз поймать свое сердце, прыгающие из груди вниз, в шахту лифта, ведущую в темную утробу желудка.
Я вышел из музея и побрел вокруг его игрушечно–параноидальных стен. Мне опять хотелось одного: тени, как можно больше густой, спасительной тени. По крайней мере, пусть это будет тень автобуса, в котором работает кондиционер. Но до автобуса оставалось еще около часа — время сбора экскурсовод повторила трижды, и мне надо было где–то провести это время, в любом месте, только не в той атмосфере склепа, в которую я чуть было не попал.
Где под необозначенной плитой все еще лежат кости усатого господина, пусть даже от усов его давно ничего не осталось.
Наверное, подумал я, ночами он отодвигает плиту и хватается своими костлявыми пальцами за краешки своей усыпальницы. А потом вытаскивает и все тело. Он выходит и, шаркая и звеня костями, начинает бродить по всему этому театру тире музею, любуясь на то, что было так любовно развешено под его руководством на стенах еще при жизни. Развешено, расставлено, расположено. Он пересчитывает картины и скульптуры, инсталляции и фотографии. И ждет, когда прокричат первые утренние петухи, чтобы потом опять исчезнуть в яме под сферическим куполом и вновь накрыть себя плитой. Каменной плитой, на которой не написано ни одного слова.
Хотя если бы тогда, в апреле двадцать пятого года, он принял любовь поэта, то все могло бы случится по другому, и может быть тогда, жизнь поэта тоже была бы другой.
Я нахожу небольшой ресторанчик, столики которого находятся как раз под большим и тенистым платаном. Это то, что мне сейчас так необходимо — выпить кружку пива и что–нибудь съесть. Пусть всего лишь багет с хаммоном, этим изумительным местным копченым окороком. Или паэлью, хотя паэлью надо есть на побережье. Или бараньи ребрышки, но для них слишком жарко, и я заказываю кружку пива и багет с хаммоном и жду, когда официант, одетый в черные мешковатые брюки и пропотевшую белую рубашку с короткими рукавами принесет мне поднос с заказом.
Неприлично тихо, вымершая площадь с платаном, отбрасывающим большую и густую тень, именно такую я искал.
Хотя тут есть и другие тени, они здесь, вокруг меня, они заполняют все эти пустующие стулья за такими же пустующими столиками. И тень мальчика в матроске, ставшего впоследствии господином с усами, и тень невысокого, коренастого и совсем не красивого поэта, так и не добившегося ответной любви, и тень девушки, которая была сестрой мальчика в матроске, и тень русской женщины, ставшего его мадонной и женой, они все мертвы, они все давно уже превратились в прах, но все они здесь, о чем я и хочу рассказать еще одной тени — той своей первой и странной любви, которая и сделала мою жизнь такой, как она есть.
Они толкутся, они о чем–то переговариваются, они тоже собираются сделать заказ — интересно, что едят и что пьют тени?
Появляется официант, он несет мой поднос, за остальными столиками все так же никого, сиеста, время, когда надо быть дома, спасаясь от оглушительной жары.
У меня опять начинает пульсировать в висках, я хочу одного: скорее оказаться в автобусе, в спасительной прохладе кондиционера. Хотя в первые минуты, как я оказался здесь, в Фигерасе, я подумал о том, что надо быть последовательным и добраться до Кадакеса, по крайней мере, чтобы окончательно разобраться со всеми этими тенями, столь внезапно возникшими в жаркий каталонский день на закате моей жизни, и попытаться понять, отчего господин с усами так никогда и не стал настоящим любовником того, кто поразил меня однажды и навсегда, написав как–то в совсем другом месте земного шара завораживающие строчки о том, что «Я в этом городе раздавлен небесами, и здесь, на улице с повадками змеи, где прорастает ввысь кристаллом косный камень, пусть выпадают волосы мои…»
Отчего–то мне кажется, что когда он их писал, то вспоминал те пасхальные дни в Кадакесе.
От Фигераса до Кадакеса рукой, что называется, подать.
Если взять такси, то доехать можно за полчаса.
Вот только потом придется возвращаться.
Я достаю бумажник и понимаю, что возвращаться мне придется на том самом автобусе, на котором меня и привезли в это солнечное царство теней: у меня с собой совсем немного денег, забыл захватить, оставил в сейфе, в номере отеля.
Хватит лишь на какой–нибудь сувенир.
После того, как заплачу за пиво и за багет.
Я допиваю пиво и расплачиваюсь, в тени платана уютно, боль в висках исчезла, а солнце палит все так же неумолимо и совсем неохота вставать и выходить из–под ветвей на жару.
На противоположной мне стороне, прямо у стены музея, молодой художник торгует акварелями.
Его не смущает солнце, он бронзовый от загара, в шортах и майке. Я смотрю на него и откровенно любуюсь.
Мне опять хочется в Кадакес, только уже не одному, а с этим милым молодым человеком, но деньги остались в сейфе, а тех, что есть, хватит лишь на одну из акварелей, и то — не самую большую.
Я подхожу к нему и начинаю перебирать предлагаемый товар.
Он смотрит на меня оценивающим взглядом, я улыбаюсь и качаю головой, жара опять начинает донимать меня и вновь становится трудно дышать.
Наконец, я выбираю одну из работ, спрашиваю о цене — мне как раз хватит.
Расплачиваюсь и жду, пока он, поигрывая своими мускулами, будто не сворачивая листок бумаги в трубочку, а занимаясь чем–то более серьезным и требующим намного более усилий, пакует мне купленную тень этой площади и этого ресторанчика, с навсегда запечатленными на бумаге оранжево–желтыми разводами дневного летнего солнца в городке Фигерас, площади, что возле самого театра–музея Сальвадора Дали и ресторанчика с помпезным названием «Империал», в котором я, сидя в тени большого платана, который тоже светло–зеленым бликом присутствует на бумажном листе, выпил кружку пива и съел багет с местным копченым окороком, известным как хаммон, незримые тени чего тоже можно найти на этом акварельном прямоугольнике, который я — если, конечно, благополучно закончится моя странная поездка — заделаю в рамку под стекло и повешу в своем кабинете, как памятник всем тем теням, что прошли мимо меня сегодня, хотя если бы вчера я не поддался на уговоры отельного гида, то ничего бы этого не было.
Ни поиска тени от солнца, ни поиска теней давно уже ушедшей любви.
Я смотрю на часы и с радостью вижу, что уже вполне можно идти в автобус.
Без заезда в Жирону обратный путь на побережье займет чуть больше часа.
В удобном кресле, с хорошо работающим кондиционером.
Здесь, в автобусе, никакая тень тебе не нужна.
24
Самое смешное, что я плачу.
Плачу, сидя на унитазе.
Слава богу, что глаза еще не накрашены.
Мне жалко.
Жалко этого старого павиана, про которого я думаю, что он — мой отец.
Который — вполне вероятно — на самом деле мой отец.
Он меня разжалобил, меня хочется гладить его по голове и шептать: не бойся, все будет хорошо, все будет в порядке…
Мне всех сейчас жалко: и его, и мужа, и Майю, и себя…
Себя прежде всего за то, что я вляпалась во всю эту историю.
Что у меня все не как у людей, вплоть до того, что под левую грудь я себя имплантировала какую–то хрень…
Маленькую фиговинку, которая работает лишь тогда, когда хочет.
К примеру — сейчас.
В левой половине головы ясная картинка того, как муж общается с секретаршей и посматривает на часы.
Все правильно, нам скоро выезжать в аэропорт, а я еще не собиралась.
Значит, будет скандал.
Только скандала мне сейчас не хватало.
Я перестаю плакать и думаю, куда мне засунуть книгу.
Я не могу оставить ее дома — он может найти.
Лучше захватить ее с собой.
Майя будет принимать процедуры, я буду читать.
Сидя в тени, под навесом, у бассейна.
Там есть бассейны, у каждого отеля — свой бассейн.
В Мертвом море не купаются, в него погружаются.
На пятнадцать минут, не больше.
На берегу — большие часы, ты сидишь в море как в ванне с глицерином. И смотришь на часы.
Ты не можешь плыть, ты не можешь ничего.
Только болтаться, боясь, что вода попадет тебе на слизистую.
Муж выходит из офиса, я хватаю кусок хлеба и кусок сыра и начинаю лихорадочно метаться по квартире.
Голая и не подмытая с вечера — залезу в душ, когда все соберу.
На Мертвом море я уже была, сутки, мы с мужем останавливались в апартаментах — киббуц Калия, в самом начале побережья.
Мы приехали вечером, до этого были в Иерусалиме.
Дорожная сумка там, где всегда, но надо решить, что брать с собой.
Например, сколько платьев мне нужно.
И маек.
И шортиков.
Сейчас весна, но там уже может быть жарко.
Хотя брюки тоже надо.
По дороге из Иерусалима мы видели аварию — две машины не смогли разъехаться. И кто–то лежал на дороге, накрытый куском материи. То ли одеялом, то ли чем–то еще.
И все ждали полицию.
И уже была скорая.
Я не знаю, почему я вспомнила именно это.
Лучше бы что–нибудь другое.
Например, как я была счастлива там, на Мертвом море.
Когда мы вышли из автобуса, то я вдохнула в себя эту жару и вдруг почувствовала, как изнутри меня выходит вся мерзость. Она отслаивалась пластами и испарялась прямо через рот — с каждым выдохом. Было жарко, очень жарко, больше, чем просто очень жарко.
Но необыкновенно свободно и хорошо.
Муж сидит в машине и куда–то едет, я даже догадываюсь — куда.
Я думаю, какое белье с собой взять и вдруг решаю, что надо самое красивое. И самое сексуальное. Я хочу, чтобы Майя смотрела на меня и ей было приятно. Не знаю, почему, но хочу.
Наши апартаменты были из двух комнат — спальня и гостиная.
В спальне большая кровать, а за окном — вид на Иорданию.
Тут — Израиль, там — Иордания, можно было закрыть окно жалюзями, но я сказала: — Нет, пусть будет открыто!
Апартаменты были в домике, перед домиком — газон. На газоне стоял круглый пластиковый стол и такие же кресла, то ли два, то ли — три.
И еще надо взять туфли. Туфли и босоножки, босоножек две пары и обе — без каблука.
Ходить там на каблуке — полный бред, стираешь ноги, а потом заходишь в Мертвое море. И начинаешь визжать. Потому что жжет и щиплет, все потертости, все сопрелости, все порезы.
Но это я обнаружила утром, когда решила тоже причаститься.
А вечером все было по другому, в тот вечер я даже не могла себе представить, что он захочет меня убить. Или заставит меня просто постоянно думать об этом и потихоньку сходить с ума. Какой уже день подряд я схожу с ума? Какой час и какую минуту?
И надо взять свитер, не знаю, зачем, но мне кажется, что надо. Хотя — может — что и нет. Я не была там в это время года, но вдруг там прохладные вечера?
Я не знаю, какие там сейчас вечера, а тот вечер был очень жарким.
Мы шли на ужин и было темно.
Фонари и журчание воды из шлангов.
Клумбы и деревья, к каждой клумбе и к каждому дереву — шланг.
И цикады или кто–то вроде цикад.
Когда я была маленькой, то обожала кузнечиков.
Я их ловила и смотрела, как они пытаются выскочить из моей ладошки.
А потом — отпускала.
Ужин был в столовой киббуца, очень смешно.
На этот раз мы должны жить в настоящем отеле, он даже говорил, как он называется, но я забыла.
Это дальше по побережью, еще сколько–то километров, в другой части Мертвого моря.
Там две части и между ними — перешеек, а по побережью — горы.
Безжалостные, коричневатого оттенка.
И мне они понравились.
Как и ужин в киббуце, хотя он был очень простым. Я ела шницель из индейки — помню это хорошо.
Теперь надо собирать косметичку. И не забыть прокладки. И тампаксы. Там должно будет начаться, хотя плохо, что это будет.
Я так и думала, что он едет за Майей, он ставит машину, выходит, включает сигнализацию.
Надо взять духи и туалетную воду. На вечер и на день.
На вечер, когда мы будет отдыхать после ужина. Танцевать и гулять.
Я опять хочу танцевать с Майей.
Две недели, каждый вечер подряд.
Интересно, как лечат эту болезнь — витилиго?
Я помню, что кто–то мне говорил, будто там в клиниках есть большие солярии. Раздельные. Для женщин и для мужчин. И что всех больных учат не стыдиться своего тела. Голые мужчины — в одном солярии, голые женщины — в другом. Больные псориазом, витилиго и всякими другими подобными вещами.
Можно ли болезнь назвать вещью?
Вещь можно отремонтировать, болезнь можно вылечить.
В принципе — это одно и то же.
Ремонт человеков, которым занимается Седой.
Мне надо срочно собирать сумку, муж уже зашел в квартиру. В ту квартиру, не в нашу.
Он о чем–то говорит с Н. А.
Тот сегодня очень печален.
Мне его жалко.
Я опять готова разреветься.
Майя уже собралась, она в зеленой водолазке под горло и в джинсах.
Джинсы розовато–фиолетовые, странный цвет, но мне они нравятся.
У нее большая сумка, интересно, как мы там будем таскаться с вещами?
Хотя нас должны встретить — трансфер тоже оплачен.
А на том ужине в киббуце муж заказывал какое–то местное вино, легкое и кисловатое, но очень вкусное.
С виноградников горы Кармель.
Мимо этой горы мы тоже проезжали, дня за два до остановки на Мертвом море.
Когда ехали через Хайфу в городок Акка — смотреть средневековую крепость.
Я была там счастлива, всю неделю.
Но особенно — на Мертвом море.
Он был очень нежным и любил меня долго и легко.
Было полнолуние и луна пялилась в незакрытое жалюзями окно.
Я это помню — она била мне прямо в глаза.
Она была интенсивно–желтой и очень большой.
Он потом уснул, а я вышла на улицу, лишь накинув на себя халат.
Майя и муж садятся напротив Н. А. — на дорожку. У Н. А. в глазах слезы — я вижу это отчетливо.
Мне это не нравится, мне вообще перестает нравится вся эта идея.
Там сейчас опасно, зачем они нас туда посылают?
Я этого не могу понять, я вообще ничего не могу понять.
Сейчас они встанут и пойдут к дверям.
А мне надо сложить сумку.
Что я и делаю.
Как всегда, я что–нибудь забыла.
К примеру, книжку Н. А., которую читала утром в туалете.
Совсем недавно, с час назад.
Хотя уже больше — почти два, если верить часам.
Тогда я вышла на улицу и поразилась тому, как здесь хорошо ночью. Как там хорошо ночью, потому что там — это явно не здесь.
Я села в кресло, взбудораженная и счастливая после любви.
У меня был долгий оргазм, но я от него не устала.
Я сидела, курила и смотрела на желтый диск луны, плывущий прямо над противоположным берегом, где Иордания.
На берегу горели огоньки, их было мало.
И было очень тихо.
Мы должны будем проехать этот киббуц, он прямо по трассе.
По шоссе, по дороге. По пути.
Я застегиваю сумку и тупо смотрю на вещи, приготовленные в дорогу.
И мне надо еще принять душ.
Быстро, очень быстро.
И я опять не успеваю подбрить ноги.
Придется делать это уже там, в Израиле.
А еще надо долететь.
Доехать до аэропорта, пройти таможенный и паспортный контроль, сесть в самолет и благополучно взлететь.
И застыть в кресле на пять часов.
Можно и соснуть.
С просыпанием на еду — не то поздний завтрак, не то ранний обед.
Я делаю воду очень горячей и взвизгиваю.
Они уже едут в машине, совсем скоро они будут здесь.
Кубик вновь работает как часы.
Книжка Н. А. тоже в сумке — я засунула ее рядом с прокладками.
Когда я вошла тогда обратно в домик, то муж спал на животе, под звуки не выключенного телевизора.
Я сняла халат, натянула майку и шорты и решила пройтись.
Совсем немного — мне просто не хотелось спать.
Я была счастлива, сейчас понимаю, что — скорее всего — последний раз в жизни.
На улице было очень темно, несмотря на полную желтую луну.
Я пошла в сторону фонарей, думая, как я вернусь обратно — наш домик растаял в темноте через мгновение.
Но я еще могла найти его, надо было просто развернуться и идти обратно, в сторону Иордании.
Я дошла до ближайшего фонаря и решила, что дальше не пойду.
Мне стало страшно, хотя я все еще была счастлива и мне по прежнему было очень легко.
С одной стороны фонаря была финиковая пальма, с другой — большая круглая клумба с незнакомыми розовыми цветами.
Внезапно они зашевелились и я вздрогнула.
Но я все равно наклонилась и увидела, как прямо на меня испуганно смотрит большая пучеглазая жаба.
Она оторопела так же, как и я.
И быстро упрыгнула обратно.
А я стояла и смотрела, как все продолжают и продолжают покачиваться незнакомые розовые цветы.
Машина с мужем и Майей уже на подъезде к дому, я успеваю одеться и быстро начинаю краситься.
Не понимаю, отчего я вспомнила эту жабу.
Наверное, она тогда пришла попить воды. Или просто искупаться.
Любовь, луна, жаба — вот что я вспоминаю, когда думаю про Мертвое море.
Любовь, луна, жаба и все это было в странном месте, именуемом киббуц Калия.
Но сейчас я еду в другое место и еду не с мужем.
Сейчас все не так, все по другому.
Я накрашиваю левый глаз и принимаюсь за правый.
По сравнению с Майей я просто уродина.
Пусть на моей коже нет странных белых пятен.
И я ее старше.
Не знаю, насколько, но минимум на пять лет. Или на восемь.
Не знаю, насколько, но старше.
Я редко думаю о своем возрасте.
И думаю о нем всегда.
Это не парадокс, это просто констатация факта.
Я крашу левый глаз и недовольна тем, как это получается.
Я слишком спешу, но я не хочу, чтобы она застала меня за этим занятием.
Я не могу понять одного — кто останется с Н. А.
И почему у него в глазах были слезы.
Пучеглазая жаба была странно–болотного цвета.
Это я тоже хорошо запомнила.
Как и цвет луны в ту ночь.
И то, какой долгий и сладкий оргазм у меня был.
Если бы я могла вернуть ту ночь, то я бы в ней осталась.
Все, что настало потом — полный бред.
Они уже поднимаются по лестнице, мне осталось совсем чуть–чуть.
Я пучу глаза в зеркало и внезапно высовываю язык.
Меня потряхивает, будто я в лихорадке.
Сейчас раздастся звонок в дверь, впрочем, у него есть ключ.
И нам уже пора выезжать.
Через двадцать минут — он не любит вести быстро, когда я в машине.
Потому что я боюсь.
Они звонят, я открываю дверь.
На Майе куртка, но я это знала и так.
Кожаная куртка веселого летнего цвета.
Ярко–оранжевая, как апельсин.
Нам пора, говорит муж.
Вы будете пить кофе, спрашиваю я.
Нет, не будем, говорит муж.
А я хочу, говорит Майя.
Я быстро, отвечаю я и бегу на кухню.
Майя проходит следом и я чувствую, как она смотрит мне в затылок.
По мне пробегают мурашки, я не понимаю ничего.
Я боюсь, что кофе сбежит — у меня дрожат руки и я плохо вижу.
Муж в комнате звонит кому–то по телефону.
Ты чего нервничаешь, спрашивает Майя.
Не знаю, честно отвечаю я.
Я тоже нервничаю, говорит Майя.
Ты боишься летать? спрашиваю я.
Нет, отвечает она, я боюсь за Николая Александровича.
Как он без тебя? чувствуя, как мой голос дрожит так же, как руки, если не больше.
Как он в больнице, говорит Майя.
Нам пора, кричит муж.
Сейчас, отвечаю я, радуясь, что кофе не сбежал и наливая чашку себе и чашку Майе.
У него — плохой диагноз, говорит Майя, и добавляет: очень плохой.
Я не спрашиваю, я понимаю, что спрашивать не надо, она все и так расскажет, но руки и голос у меня перестают дрожать.
Еще два глотка, говорю я громко мужу, почти кричу, отчего–то чувствуя, как на душе у меня становится легко, почти так же легко, как тогда, в киббуце Калия. Видимо, я боялась, что с Н. А. останется муж, но муж с ним не останется, он будет навещать его в больнице, но навещать — это совсем другое.
— У него был инсульт, — говорит, отчего–то краснея, Майя, — два года назад…
После Испании, хочу добавить я, после Барселоны и этого… как его… не помню… Но я плакала и мне было его жалко. Мне и сейчас его жалко. Но я не хочу, чтобы с ним оставался мой муж, в его квартире, рядом с его кроватью.
Ты ему кто, внезапно набравшись наглости спрашиваю я, споласкивая чашки после кофе.
Майя смотрит на меня и не отвечает, наверное, я перешла границу дозволенного, хотя нам с ней жить две недели вместе и я старше, так что могла бы и ответить. В конце концов, он — мой отец.
Нам пора, снова зовут муж.
Идем, говорю я.
Он — мой приемный отец, говорит Майя мне в спину, выходя следом из кухни.
Мне хочется подпрыгнуть от радости, но я сдерживаюсь.
Приемный? переспрашиваю я.
Да, он удочерил меня, когда я была уже подростком, он был знаком с моей матерью, но мать умерла…
Это твоя сумка? спрашивает муж, и я отвечаю ему, что, естественно, моя, чья же она может быть еще?
Про своего кровного отца Майя ничего не говорит, она вообще замолкает.
Она и так сказала много.
Мой отец остается моим отцом, по крайней мере, мне хочется в это верить.
Майя сказала, что он ложится в больницу, что он удочерил ее, когда она была еще подростком и что ее мать умерла.
Я желаю ему выздоровления.
Про себя, внутри себя, не сказав вслух ни единого слова.
Мы садимся в машину, муж ведет ее быстрее, чем обычно.
Мы пили кофе и выбились из графика.
Майя сидит на заднем сидении, я — рядом с мужем.
И мы все молчим.
Каждый думает о своем.
В левой половине головы я вижу то, как муж ведет машину, получается, что одно изображение наслаивается на другое.
Он ведет машину и думает о том, как он ведет машину.
О чем думает Майя — я не знаю.
Но знаю, о чем думаю я.
Что если все происходит так, как происходит, то это надо.
Хотя бы для того, чтобы я на пару недель уехала из дома, где в нижнем ящике его рабочего стола лежит нож.
И для того, чтобы Н. А. спокойно лег в больницу.
Интересно, знает ли он о том, что я — его дочь?
Старый павиан, который пишет такие странные истории.
Мы подъезжаем к аэропорту, посадка на Тель — Авив уже в полном разгаре.
Муж подхватывает сумки, и мы ныряем под светящееся с номером нашего рейса табло.
С тобой всегда опаздываешь, говорит муж, и мне вдруг становится обидно.
И я опять понимаю, что люблю его, хотя он и хочет меня убить.
Он убивает меня каждый день, на протяжении многих лет, месяцев и недель.
Я слишком зависима от него — наверное, в этом все дело.
Но этому придет конец, этому должен придти конец.
Я беру у мужа сумку и сую паспорт и билет человеку в форме на контроле.
Оборачиваюсь, смотрю на мужа и целую его в щеку.
А потом в губы.
Муж улыбается мне и говорит, что все будет хорошо и что он будет ждать. А потом поворачивается к Майе, но я уже ничего не слышу. Я тащусь с сумкой к таможенникам, которые смотрят на меня, видимо решая, интересный я объект для них или нет, и понимают, что не интересный. И я прохожу таможню, Майя уже вошла вслед за мной, я так и не знаю, что говорил ей муж.
Скорее всего, он обещал, что с Н. А. все будет хорошо.
Что он присмотрит за ним в больнице, как я присмотрю за Майей на Мертвом море.
И я присмотрю за ней, мне нравится за ней смотреть.
Все происходит очень быстро, мы опаздываем, а потому нас буквально прогоняют сквозь паспортный контроль — быстрее, самолет скоро должен взлететь.
И он действительно взлетает, Майя сидит рядом и у нее трясутся руки.
Она боится, и мне хочется ее обнять.
Успокойся, говорю ей, все будет хорошо.
Она смотрит на меня, в ее зеленых глазах страх.
Поспи, говорю я, нам еще долго лететь.
Она капризно кривит губы и говорит, что ей неудобно.
Ложись ко мне на плечо, говорю ей, так будет лучше.
Она кладет голову мне на плечо и я замираю, чувствуя, как она погружается в сон.
Левая половина головы опять мертва, но это и понятно — явно, что в самолете кубик Седого работать не должен.
Хотя мне интересно, что делает сейчас муж.
Впрочем, если верить часам, то он еще только едет обратно.
Майя поворачивает во сне голову, я обнимаю ее и провожу рукой по рыжим волосам, она улыбается сквозь сон, в этот момент из динамиков раздается голос стюардессы, объявляющий, что скоро нам предложат завтрак.
Или обед.
Ясно одно — ужинать мы с ней будем уже в Израиле.
25
Если Он и создал нас из мужского ребра, то сделал это не просто так.
Но тогда — для чего?
— Вы смелые девочки! — говорит нам смешной лысоватый еврей с клочковатой седой бородой, встречающий нас в аэропорту, — Сейчас только смелые сюда едут! — И добавляет: — Меня зовут Миша!
Он мог создать нас лишь для их услады, хотя стоило бы тогда напрягаться? Можно было придумать что–нибудь другое, в конце концов, это самое примитивное, для чего можно нас использовать.
Миша встречал нас в аэропорту, за паспортным контролем, прямо за выходом из свободной зоны. Я уже бывала в аэропорту Бен — Гурион и до сих пор помнила, как долго смотрят здесь тебе в глаза, прежде чем дадут возможность оказаться собственно в стране.
Майе в глаза смотрели очень долго, в мои — быстрее, я сюда приехала уже во второй раз.
Услада — это секс, наслаждение телом, похоть, сладострастие. Мы предрасполагаем к этому, хотя в последние дни я стала понимать, что не только мы. Чтение Н. А. не прошло даром.
Собственно, поэтому я и спросила Майю еще в самолете: — Как ты думаешь, а для чего мы им нужны?
И тогда Майя сказала: — Если Он и создал нас из мужского ребра, то сделал это не просто так.
Она сидела рядом и увлеченно смотрела в окно.
Далеко внизу виднелось море.
Уже не Черное, уже Средиземное.
Хотя вначале мы пересекли Черное, а потом — Турцию.
Над Турцией Майя опять спала и опять — положив голову мне на плечо. У нее было теплое дыхание, ее губы были совсем близко от моих.
И я чувствовала ее грудь.
Зачем Он создал нас из мужского ребра?
И зачем Он вообще сделал все это?
Раньше я никогда не задумывалась, меня все это просто не интересовало.
— Вы смелые девочки, — сказал Миша, подхватывая наши сумки, — сюда теперь только смелые едут. — И добавил: — Хорошо, что сегодня среда.
Майя посмотрела на меня и я улыбнулась.
Я почувствовала себя старше и опытнее, я до сих пор ощущала тепло ее дыхания, она не знала, почему хорошо, что сегодня среда, а я знала и могла ей объяснить.
Потому что в пятницу у мусульман пятничная молитва, а в субботу у евреев — шабат. В пятницу и в субботу всегда что–то происходит, хотя здесь всегда что–то происходит, особенно сейчас, поэтому Миша и назвал нас смелыми девочками, пусть мы и приехали в среду.
Хотя разве для этого Он создал нас из мужского ребра?
Но если не для этого и если не для услады, точнее говоря — не только для услады, тогда для чего?
Миша быстро повел нас к машине, которая стояла на парковке. Мы должны были ехать прямо на Мертвое море, даже без заезда в Иерусалим.
И Майя, услышав это, очень расстроилась.
— Мне надо в Иерусалим, — сказала она.
— Это опасно, — сказал Миша, загружая наши сумки в свой микроавтобусик, — это сейчас очень опасно, не до экскурсий.
— Мне надо помолиться, — вдруг очень тихо сказала Майя.
Я догадывалась, за кого ей надо было помолиться, хотя эти ее слова меня удивили. Она была слишком красива для того, чтобы молиться, хотя на ее теле и были белые пятна, она была очень красива: такие женщины не молятся.
Но я догадывалась, за кого она хочет просить бога.
Левая комната в моей голове была абсолютно пуста, я представления не имела о том, чем сейчас занят мой муж — скорее всего, расстояние для кубика Седого было слишком велико и он просто не ловил то, что передавал кубик № 2, тот самый, что я совсем недавно вживила в грудь своего мужа.
Я не знала, чем он занят, но я догадывалась.
Он был с Н. А. и Н. А. было плохо.
Майя так и не сказала, в чем дело, но я поняла, что дело плохо.
Я учуяла это, унюхала, почувствовала всем своим женским нутром. Точнее — бабским. Бабьим. Мое бабье нутро взвыло и почуяло, что с Н. А. все намного серьезнее, чем просто рядовой визит в больницу.
И поэтому Майя хотела помолиться за него, а если и имеет смысл где–то и за кого–то молиться, то только в Иерусалиме, потому что именно в Иерусалиме — дом бога.
Для тех, кто в него верит.
Я не верю в бога и никогда не верила, но когда я оказалась в Иерусалиме, то со мной тоже что–то произошло.
Небо надвинулось на меня, и я почувствовала, как по спине пробегают мурашки.
И поняла, что могла бы поверить, но для этого что–то должно произойти.
Может быть, это уже произошло, ведь вскоре после той нашей с мужем поездки я и поняла, что он хочет меня убить.
Где–то через год или чуть больше.
Скажем, полтора.
Через полтора года после пребывания в Иерусалиме, в котором в этот раз мне не побывать.
Мы проезжаем мимо поворота на Тель — Авив и сворачиваем налево. На трассу, что ведет в Иерусалим.
Я все думаю о том, для чего Он создал нас, если не для услады или не только для услады.
Майя смотрит в окно, а Миша говорит о том. что для нас забронирован номер в прекрасном отеле, «Ход». Знаете такой?
— Нет, — отвечаю я, за окном искусственно засаженные зеленью палестинские холмы.
Или израильские.
Искусственно засаженные зеленью израильские холмы, на которых то тут, то там разбросаны белые домики.
И уже жарко, хотя в машине работает кондиционер.
Градусов двадцать восемь, и с каждым днем будет все жарче и жарче.
— Мне все равно надо в Иерусалим, — опять говорит Майя и я слышу упрямство в ее голосе.
— Это невозможно, — отвечает Миша, — я обещал.
— Это надо! — твердо говорит Майя и я вдруг понимаю, что Миша послушается.
— Завтра четверг, — говорю я Мише, — может, это не так и опасно?
— Четверг, — говорит Миша, — четверг…
— Четверг — не пятница, — говорю я, — вот в пятницу было бы нельзя…
— Хорошо, — говорит Миша, — вы обе поедете?
— Нет, — говорит Майя, — я поеду одна.
Я понимаю, что спорить бесполезно, Майя сказала, что поедет одна, а я не хочу ссориться с Майей.
Я хочу, чтобы она меня полюбила.
Не знаю, почему, но мне этого хочется.
Он создал нас из мужского ребра, для чего мы им нужны.
И почему из ребра?
Может быть ребро тут надо понимать как сердце?
Хотя тогда все становится еще более странным, потому что с недавних пор я не верю в их сердце, оно эгоистично, оно жестоко, оно грубо.
Но для чего–то мы им нужны.
Мы едем уже около часа, скоро будет свороток на Иерусалим, но мы сейчас туда не поедем, мы минуем этот странный город, который так потряс меня в тот раз. Мы стояли с мужем и смотрели на него с самого верха, со смотровой площадки, за которой — лишь обоженные склоны какой–то горы с притулившимися на них зданиями, да потом лишь белесое и голубоватое небо. А под нами были и городские стены, и золотой купол одной мечети и черный — другой, и стена плача, и уже вдалеке можно было разглядеть крест, венчающий храм Гроба Господня.
Куда завтра и собиралась Майя, помолиться за Н. А.
Хотя об этом она мне не сказала ни слова.
Она сидела рядом, смотрела в окно, мы ехали мимо придорожных городков и поселков, через постоянные армейские патрули, небо смеркалось, скоро станет темно, а нам надо было успеть приехать засветло.
Но мы успевали — стемнеет где–то через час, не раньше, сказал нам Миша.
Я думала о том, отчего так Майя привязана к Н. А., если он ей даже не родной отец.
Я знаю, отчего я так привязана к мужу. Я его люблю, пусть даже он оказался совсем не тем, каким я его воспринимала все эти годы.
Хотя это еще не факт, может быть, это тоже иллюзия, как иллюзия и то, что он хочет меня убить. Я уже устала думать об этом, я просто устала и если чего мне и хочется, так на какое–то время забыть обо всем.
И просто побыть с Майей, рядом, изо дня в день.
Смотреть в ее зеленые глаза и чувствовать теплоту ее тела.
Я еще не знаю, как все это произойдет, но это произойдет. Если не сегодня, то завтра или послезавтра.
Потому что если мы им даны для услады, то у нас тоже что–то должно быть для услады.
Мы можем быть даны для услады.
Мы можем быть даны для того, чтобы любить.
Или быть любимой.
Шоссе поворачивает в сторону Мертвого моря, Майя смотрит на семейство бедуинов, расположившееся прямо неподалеку от обочины. Шатры в Иудейской пустыне — по моему, именно так называются эти места. А рядом с шатрами стоит джип и спутниковая тарелка, бедуины вечерами смотрят телевизор, почему это приводит Майю в восторг.
Я хочу любить и хочу быть любимой. И не хочу бояться, не хочу думать, что меня убьют.
Я никогда еще не любила женщин. Или женщину. Я даже не знаю, как это делается физически. То есть, знаю в теории, но практики у меня никогда не было. Хотя, скорее всего, я просто хочу отомстить — своему мужу, который меня обманул и предал. Который любил всю жизнь не только меня.
Как в том старом анекдоте: она любит его, а он — другого.
Мне стыдно, но я ничего не могу с собой поделать.
Мы проезжаем места, которые кажутся мне знакомыми, я пристально всматриваюсь в окно и вспоминаю, что именно здесь мы проезжали с мужем тогда, когда на шоссе лежало закрытое чем–то тело.
И мне опять становится не по себе.
Когда завтра Майя поедет в Иерусалим, то я буду волноваться, лучше мне тоже поехать с ней, но она этого не хочет.
Она хочет молиться одна, в храме Гроба Господня, выстояв очередь для того, чтобы припасть к нему.
Попасть, припасть, приложиться, ощутить холодный камень надгробия, прикосновение к которому может тебя изменить.
И дать возможность любить, как и возможность быть любимой.
Хотя есть и другая возможность — быть судимой, за то, что мы есть для них прежде всего услада и что на самом деле они, по крайней мере, большинство из них, так зависимы от нас.
Когда тебя начинают судить, то тебя к чему–то приговаривают. Например, к смерти, как это произошло со мной.
Но мне дали отсрочку, меня даже отправили на две недели в самое странное место на земле.
Где постоянно стреляют и что–то взрывают, и где живет бог.
В которого я не верю, хотя и очень хочу это сделать.
Я верю в свою тело и в его тело: я знаю его тело наизусть. Мне даже не надо закрывать глаза, чтобы вспомнить.
И я верю в тело Майи, которое я пока не знаю.
Она сидит со мной рядом, Миша что–то рассказывает ей и показывает за окно, одновременно ведя свой микроавтобусик.
Мы проезжаем усиленный армейский пост, за ним виднеется нагромождение белых зданий.
Миша говорит, что там — палестинская территория, город Иерихон, и тут надо быть осторожнее.
Тут везде надо быть осторожным, говорит нам Миша, а Майя спрашивает его, когда они завтра поедут.
А когда ты начнешь процедуры, спрашивает ее Миша, и Майя отвечает, что лишь после того, как они съездят в Иерусалим.
Если бы я верила, то припала бы к тому прохладному камню и попросила одного: чтобы он не судил меня, потому что судить меня не за что.
Я никогда не хотела ему зла, я только и делала, что любила его и давала ему все, что он хотел.
И не моя вина, что он воспринимает все это по другому.
И я вдруг понимаю, зачем Он создал нас некогда из мужского ребра, если только на самом деле он сделал это.
Не для того, чтобы мы были усладой.
И не для того, чтобы мы любили.
И не для того, что любили нас.
И даже не для того, чтобы дать им возможность нас судить.
Он создал нас их судьями, потому что только мы знаем, чего они стоят, и сами они прекрасно знают это и боятся.
Мы их судьи, пусть почти во всем зависим от них.
Я понимаю это, как понимаю и то, что все безумие последних дней есть ни что иное, как моя попытка подготовиться к проведению процесса, на котором обвиняемым — мой муж.
И я должна его судить и вынести приговор.
Мы уже едем по берегу Мертвого моря, по правую руку высоченные пустынные скалы, над которыми где–то совсем — совсем высоко появляются первые крупные звезды.
Точно так же как слева, над тем самым Мертвым морем, до которого мы с Майей добираемся сегодня чуть ли не с полудня, появилась большая, красновато–желтая луна.
Еще не темно, но Миша уже включил фары, в свет которых я внезапно вижу знакомую надпись — тот самый киббуц Калия, где я была так счастлива.
Счастье осталось в прошлом, мой муж стал совсем другим.
Или просто пришло время узнать то, каков он на самом деле, хотя лучше бы я этого не узнавала.
Миша увеличивает скорость, он хочет доехать до темноты, я не знаю, сколько заплатил ему Н. А. за услуги, но думаю, что не маленькую сумму.
Я пытаюсь опять посмотреть, что происходит у меня в голове, в левой комнате, но там по прежнему пусто и темно.
Скорее всего, что она заработает лишь тогда, когда мы вернемся.
Мы должны вернуться, хотя что мы узнаем, когда опять будем дома?
Если Н. А. должны делать операцию, то к тому времени все будет ясно.
А завтра Майя будет молиться за него, за своего приемного отца и за моего родного.
За человека, который когда–то был любовником моего мужа.
И потом бросил его.
Или это сделал мой муж — отчего то мне хочется, чтобы на самом деле было именно так.
Мой муж встретил меня и бросил моего отца, но остался его другом.
Я ничего не понимаю, я пристально всматриваюсь в высоченные угрюмые склоны, на вершине одного из которых неясно видна смутная в это сумеречное время тень.
— Массада, — говорит Миша, — крепость, построенная Иродом Великим. — И добавляет: — Днем там очень жарко.
Вдалеке появляются огни. Это то самое место, куда мы едем вот уже больше трех часов.
Место, где люди отдыхают, принимают грязевые и солнечные ванны.
Где лечебницы, отели и рестораны, а так же небольшие кафе.
И там, на самом берегу, стоит отель «Ход», к которому мы и подъезжаем.
Миша останавливается, мы с Майей выходим из машины, чувствуется, как затекли ноги от долгой езды.
Вначале больше пяти часов в самолете, потом еще три — в машине. Итого — восемь.
Хорошо, что я успела пописать в аэропорту.
Хорошо, что Майя тоже успела сделать это.
Иначе бы мы не доехали, пришлось бы останавливаться по дороге и сидеть на обочине с голой попой.
Прекрасная мишень для тех, кто любит стрелять по мишеням.
Миша берет наши сумки и идет первым, мы заходим за ним и направляемся прямо к рецепции.
Наш номер на третьем этаже, 307.
Вы еще успеваете на ужин, приветливо говорит на хорошем русском пожилая еврейка.
Номер не очень большой, но уютный, с одной широкой кроватью.
Я включаю кондишн и сажусь в кресло.
Мне хочется курить и мне хочется в душ.
И мне хочется на ужин, а вот Майе хочется только одного: спать.
Я начинаю убеждать ее в том, что поесть надо и она соглашается.
Вещи разберем потом, говорит она, сейчас я слишком устала.
Я тоже устала, но я хочу принять душ и переодеться.
Я открываю сумку и достаю то, что можно надеть и не глаженным.
Белые брюки, которые не мнутся и майку с короткими рукавами серебристого цвета.
Я иду в душ и долго плещусь, смывая с себя дорожную грязь.
Когда я захожу в комнату, то вижу, что Майя лежит на постели, сбросив с себя одежду, она совсем не стесняется того, что я вижу те самые белые пятна, из–за которых мы и оказались здесь.
Мне хочется обнять ее и прижаться к ней, мне хочется провести рукой по ее рыжеватому, небритому лобку.
Точнее сказать, подбритому, но не выбритому.
Я опять вспоминаю о том, что вот уже какой день хочу побрить себе ноги.
Майя идет в душ, а я начинаю одеваться.
Я меняю трусики и решаю, что лифчик не надену — я слишком устала сегодня весь день быть в лифчике, пусть грудь дышит, хотя бы под майкой.
Когда Майя выходит, то я уже готова и жду ее на ужин.
Она одевается, а я смотрю, как она делает это.
— Ты меня смущаешь, — говорит мне она.
Я не отвечаю, я просто подхожу к ней и провожу ладонью по ее левой груди.
— Не надо, — говорит Майя, — а потом, как–то странно улыбнувшись, добавляет: — Не сегодня, ладно?
— Ладно, — говорю я, и повторяю это же самое слово, когда мы вернувшись после ужина, сразу ложимся спать, так и оставив вещи не разобранными.
Она лежит на своей половине нашей широкой двуспальной кровати, скинув с себя всю одежду и накрывшись тонким, аляповато–цветным одеялом с монограммой отеля, вытканной в правом нижнем углу.
Я поворачиваюсь к ней и смотрю в ее глаза.
Она улыбается мне, а потом говорит тем же спокойным, что и перед ужином, тоном: — Не надо, не сегодня, ладно?
— Ладно, — повторяю я и сама закрываю глаза, пытаясь уснуть, вот только — в отличие от Майи — у меня это не получается.
И я встаю, снова одеваюсь, беру с собой пачку сигарет и зажигалку, а потом вдруг лезу в сумку и достаю так и не убитую мною до конца вчерашним утром книгу человека, которого последние дни считаю своим отцом.
Я спускаюсь вниз, в лобио, спрашиваю на рецепции все у той же приветливой русскоговорящей пожилой еврейки, где выход на пляж, и иду прочь из отеля, дохожу до груды шезлонгов, выбираю один, сажусь под ближайшим фонарем, смотрю на красновато–желтую луну и вдыхаю в себя теплый, отчасти душный и такой странный воздух Мертвого моря.
Я не знаю, догадывается ли он сейчас о том, что я — его судья, как, естественно, абсолютно не представляю, знает ли Н. А., готовясь к операции в своей больничной палате, что Майя собирается завтра с утра в Иерусалим не только для того, чтобы молить бога о его, Н. А, выздоровлении.
Скорее всего, прислонясь к холодному камню самого знаменитого в мире надгробия, она тоже будет советоваться с Ним о том, какое решение ей вынести.
Я закуриваю, поудобнее устраиваюсь в шезлонге и открываю захваченную с собой из номера книгу.
Небольшой ветерок, дующий со стороны иорданского берега, несет с собой какие–то незнакомые и терпкие, хорошо настоянные на знаменитых местных солях запахи.
Вот только если я хорошо знаю, какой приговор могу вынести сама в отношении собственного мужа, то что решит Майя в отношении Н. А. — это мне неведомо.
И я не думаю, что она скажет об этом завтра, по возвращению из Иерусалима.
26
ЧАШКА КОФЕ НА УЛИЦЕ ПОРТОФЕРИССА
оказалась для меня последней чашкой кофе из той, другой, не сегодняшней жизни.
Хотя вполне естественно, что я об этом не то, что не знал, но даже и не предполагал, что такое возможно, как никогда не предполагал, что есть в Барселоне такая маленькая улочка — Портоферисса, что значит то ли Портовая, то ли — ведущая к порту, и это правильно: если идти по ней все вниз и вниз, то можно, пройдя сквозь резкие тени Готического квартала, оказаться у берега, оставив за собой и собор, и тяжелые квадраты дворцовых зданий, и даже статую Колумба, хотя до статуи идти проще по бульвару, известному во всем мире, как Рамбла, прямо, никуда не сворачивая, от площади Каталонии и до моря, утыкаясь в спину статуи Колумба, лицом смотрящего на бетонные волнорезы и на причалы, с пришвартованными к ним океанскими лайнерами, собирающимся идти то ли в сторону Марселя, то ли наоборот — минуя Гибралтар, через Атлантику, совсем к другим берегам.
И оказался–то я на этой улочке совершенно случайно, ибо вначале планы мои на последний в Барселоне день были совсем другими и начал я их выполнять согласно тому небольшому списку, что еще в самые первые дни отчего–то начертал в своей голове.
Список из двух пунктов, перемена которых никак не могла сказаться на их важность, пункт «а» свободно мог быть заменен пунктом «б», а пункт «б» пунктом «а» — результат в любом случае оставался бы тем же, да, наверное, и остался, если только судьба не вмешалась бы в томительную тягучесть этого будничного июньского дня странным вывертом, который и занес меня в сторону не только от Рамблы, но и от бульвара Ангелов, хотя еще утром, когда я вышел из электрички, собственно на которой — не то, что из–за экономии, просто так на самом деле удобнее — и добрался до этого города холмов и футбола с побережья, на которое мне предстояло вернуться вечером, чтобы завтра снова проехать мимо, но уже на автобусе, следующем в аэропорт, так вот, еще утром, когда я вышел из электрички, ничто не предвещало мне знакомство с этой небольшой улочкой в самом центре Барселоне, хотя в каждом центре каждого большого города на земле есть десятки таких маленьких улочек и это совсем не значит, что их надо обязательно посещать, топтать о них подошвы своих сандалий, плавится от жары и мокнуть от проливного дождя, хотя последнее в этот будничный июньский день не грозило не только мне, но и всем остальным — что местным, что приезжим — обитателям Барселоны.
Небо было в дымке, но это только радовало, если есть дымка, то значит, солнце не будет столь обжигающим и можно не торопясь идти по Рамбле и думать, какой из пунктов давно начертанного в голове плана — «а» или «б» — выполнить первым.
Хотя именно в случае Рамблы пункты вступали в противоречие, ибо Рамбла сама была пунктом — поход по Рамбле, променад, прогулка, с тупым глазением по сторонам и любопытством от всех этих бесчисленных продавцов живности и гуляк, художников и гуляк, продавцов сувениров и гуляк, медленно, неторопливо, вниз по бульвару, до статуи Колумба, до моря, до его береговой черты, до бетонных волнорезов и каменных причалов, к которым пришвартованы уже упоминавшиеся океанские лайнеры, на которые я долго любовался несколько дней назад, когда посещал этот город совсем с другой целью — взглянуть в очередной раз на искривленные не временем, а сознанием творения безумного каталонца, вполне возможно, что подняться на крышу того самого дома, который так любил ты, мой бедный и изменчивый друг, и к которому я пристрастился с твоей помощью, вот только — и в этом наше отличие — я повторил шаг за шагом маршрут Николсона и Шнайдер, и подошел к бортику, который фигурным и глазастым барьером отделяет тебя от возможности свободного падения и нелепой смерти в самом центре этого божественного средиземноморского города, впрочем, тот день, когда я любовался на творения Гауди, от лицезрения которых, включая и упомянутый дом, и парк Гуэль, и саму Саграда Фамилия, мне отчего–то вновь стали вспоминаться строки Кавафиса, написанные — и это вдруг стало отчетливо ясно именно в тот момент, когда я, задрав, как и прочие туристы, голову, стоял на переходе, ведущем через узкую и забитую машинами и автобусами улочку прямо к центральному порталу собора Святого Семейства — наискосок от Барселоны, надо просто взять карту и провести прямую линию, соединить испанский берег с египетским и тогда соединяться две точки, Барселона и Александрия, и вновь раздастся приглушенный шепот Кавафиса, проговаривающий вслух строки о том, что «По тавернам бейрутским, по борделям шатаюсь боль глуша, — докатился. Я бежал без оглядки прочь из Александрии. Я не ждал от Тамида, что меня променяет он на сына эпарха ради виллы на Ниле и дворца городского. Я бежал без оглядки прочь из Александрии…», впрочем, и я бежал так же сюда, на испанское побережье, с заездами в Барселону, вот только бы хотелось мне знать, на кого ты меня променял и ради чего…
Но это было в прошлый заезд в этот магический город, когда сердце никак еще не могло успокоиться, в последний же мой визит сюда, пусть всего лишь несколько дней спустя, я был уже другим и не знаю, что послужило этому причиной — будем считать, что скалистые берега каталонского побережья, высокое голубое небо, кривоватые пинии и быстро проносящиеся над ними белые и мохнатые облака сделали свое дело и боль унялась, осталось лишь чувство незаполненности, которое я и решил убить тем, чтобы воплотить план всего лишь из двух пунктов, уже упомянутого «б» — похода по Рамбле, и «а» — покупкой подарка тебе, прощального подарка, который я совсем не собирался вручать лично, а просто запаковал бы в небольшую бандероль и отправил прямо отсюда, из Барселоны, хотя для этого мне пришлось бы преодолеть множество препятствий, и прежде всего из–за моего абсолютного незнания испанского языка и такого же абсолютного нежелания местного населения говорить по–английски.
И подарок я хотел купить именно в районе площади Каталония, где находятся самые модные магазины этой части побережья, хорошо зная, что при виде упаковки с фирменным знаком «Английского дворика» или «Марк энд Спенсер» сердце твое если и не смягчится, то все равно вздрогнет, хотя представить, что ты будешь чувствовать, когда развернешь бумагу и откроешь коробочку не могу даже я со своей способностью к воображению и перевоплощению, ведь то, что я надумал тебе подарить, могло придти в голову именно здесь, в мире красивых мужчин и далеко не таких совершенных, как это казалось бы, женщин.
Я надумал подарить тебе пояс, друг мой, кожаный пояс или змеиной, или крокодиловой кожи, но лучше змеиной, из кожи удава, с геометрическим рисунком и покрытыми лаком чешуйками. И с тонкой позолоченной пряжкой, не золотой — это было бы вульгарно, а именно позолоченной, ты любишь изящные и дорогие вещи и мой последний подарок должен быть именно таким, тем более, что всегда, когда ты будешь расстегивать его — и мне совсем не хочется знать, перед кем — ты будешь невольно вспоминать меня, пусть даже я сейчас сродни великому Кавафису и могу твердить себе не переставая: «По тавернам бейрутским, по борделям шатаюсь боль глуша — докатился. В этой жизни беспутной мне одно помогает как соприкосновенье с красотой долговечной, как держащийся запах на губах и на теле, — то, что целых два года мой Тамид несравненный, мальчик мой, был со мною — и не ради чертогов или виллы на Ниле.»
И выполнение пункта «а» началось чрезвычайно успешно, я нашел то, что искал, нашел в «Марк энд Спенсер», на третьем этаже, в маленьком бутике кожаных вещей, so expensive, слишком дорого, подумал я, глядя на чешуйки кожи питона, на ее светлые и темные правильные ромбики, хотя может ли быть слишком дорогим прощальный подарок тому, кто два года — прямо как неведомый мне Тамид — дарил мне всю полноту жизненного счастья, которой я отныне навеки лишен?
И я подозвал продавщицу, она не торопясь, как и все продавцы в местных магазинах, прошествовала ко мне и, выслушав и плохо поняв то, что я ей сказал, все же догадалась — лишь когда мне пришлось ткнуть пальцем прямо в витрину за ее спиной — и показала мне выбранный тебе в подарок пояс.
Даже пряжка была такой, как она мне представлялась — небольшой, изящной, с позолотой и при этом никакой вульгарности, ничего от помпезного стиля, который был некогда столь ненавистен нам обоим.
Я расплатился, взял в левую руку пакет с завернутой в хрустящую бумагу коробочкой, в которой и покоился драгоценный пояс, и пошел прочь из этого Эрмитажа цивилизации, на свежий воздух, к ветру, дующему с моря.
И дальше какое–то время все шло, как и было просчитано несколько дней назад, когда я еще только чертил в голове план этого последнего барселонского дня, еще не зная, что ждет мне при встрече с маленькой улочкой, красиво называемой Портоферисса.
Я шел по Рамбле, смотря, как и все прочие гуляки, на живые скульптуры и на продавцов птиц, попугаи в клетках и замазанные золотым гримом люди не так уж интересовали меня, намного приятнее было просто чувствовать беспечный воздух Рамблы и смотреть на улыбающиеся и такие же, как и здешний воздух, лица, я сделал, что хотел, какая–то часть жизни в очередной раз подошла к концу, это не в первый раз, хотя может быть, что уже — учитывая мой возраст — в последний, вот только об этом мне думать совсем не хотелось, я шел вниз по Рамбле, к памятнику Колумба, пожилой мужчина в светлых брюках и светлой рубашке с короткими рукавами, в дорогих темных очках с диоптриями и с маленьким пакетиком в левой руке.
И время от времени пинал то правой ногой, то левой попадающиеся на пути листья платанов, ссохшиеся и большие листья, осыпающиеся с деревьев несмотря на то, что было еще самое начало лета.
Так я дошел до художников, ноги стали уставать, мне захотелось присесть и выпить что–нибудь холодного, можно и сангрии, немного, бокал граммов на триста–четыреста, обычно здесь ее подают кувшинами, но мне просто хотелось пить, я увидел несколько столиков прямо у краешка бульвара и решил, что это то самое место, которое позволит мне, переведя дух, спокойно довоплотить свой пункт «б», дойти до моря, а потом поймать такси и вернуться на площадь Каталонии, спуститься под землю, сесть в электричку и отбыть обратно на побережье.
И тут я увидел то, что перевернуло весь этот красивый рисунок, день моментально стал другим, хотя все оставалось как прежде — небо было все в той же дымке, солнце жгло не сильно, да и окружающие меня люди оставались теми же, за исключением лишь одного персонажа, внезапно въехавшего в самый центр этой прозрачной, нарисованной скорее не акварелью, а пастелью картинки.
Это был человек в кресле–каталке, которую катил другой — помоложе и повыше. Они улыбались и разговаривали о чем–то на местном наречии, громко и весело, и в любой другой раз я только порадовался бы за того, кто сидит сейчас в кресле–каталке, но столь полон жизненных сил, если бы не одно.
Этот человек был похож на меня.
Он был очень похож на меня.
Я бы даже сказал, что это был я.
Он был так же одет и на нем были такие же очки.
У него было мое лицо.
И он был примерно моих лет.
И мне стало страшно.
Кровь прилила к голове, я почувствовал, что ноги меня не держат, но у меня не было сил садится за столики заказывать себя сангрию.
Мне надо было бежать прочь с Рамблы, пересечь ее, исчезнуть, раствориться в ближайших маленьких улочках — чтобы напрочь, навсегда, выжечь из себя, забыть этого человека в кресле–каталке, мою тень, хотя — вполне возможно — что на самом деле все было совсем по другому, и это именно я был его тенью, а не он моей, но нам надо было разойтись по разным мирам и продолжать каждому жить своей жизнью.
И я дошел до ближайшего перехода, ведущего налево, пересек проезжую часть улицы, затем вновь повернул налево и быстро, так быстро, как только мог — несмотря на то, что ноги еле тащились по жаркой барселонской брусчатке — начал петлять мимо каких–то домов, четко зная одно: надо исчезнуть, убежать, раствориться, оставить того себя там и больше никогда не встречаться, потому что такие встречи не бывают просто так, если миры перекрещиваются, то это значит одно — тебе подают знак и ты должен его прочитать, а этот знак означал одно, он предвещал мне мое собственное будущее и оно не казалось безмятежным и безоблачным.
Я вышел на очередную улочку и почувствовал, что дальше идти не могу. Мне надо было где–то действительно пересидеть и передохнуть, отдохнуть, чтобы не сдохнуть, я миновал маленькую желтую машинку, припаркованную чуть ли не прямо у входа в заведение, которое именовалось «Jamaica Coffee Shop», «Кофейный магазин Ямайка», я поднял голову повыше и увидел еще одну надпись, на табличке, с адресом улицы — Портоферисса, дом22, маленькая желтая машинка, странно стоящая чуть ли не у самых дверей, за которыми темнота и прохлада и так маняще пахнет кофе, что я на мгновение забыл и про страхи, и про не выпитую и даже не заказанную сангрию, я зашел в эти двери и отправился к стойке, за которой уже сидело несколько человек, таких же безмятежных и говорливых, как обитатели так спешно покинутой мною Рамблы, до которой идти отсюда было минут десять, не больше, вот только навряд ли я сейчас нашел бы прямую дорогу.
Я заказал кофе пышнотелой мулатке, выписанной сюда, скорее всего, прямо с Ямайки, заказал простой эспрессо, но сорта «коста–рика» который всегда мне нравился своей обнаженной горчинкой, и она, медленно и неторопливо направилась к кофеварочной машине, а я, положив пакет с покупкой рядом с собой на пустующий высокий табурет, закурил и начал тупо смотреть на то, как дрожат мои руки после внезапно нахлынувшего страха.
Голова была пуста, мне хотелось одного — перевести дух, выпить кофе, добраться до электрички и отбыть в сторону побережья, а уже там. успокоившись после двухчасовой дороги и полностью придя в себя, можно было найти почту и отправить купленный подарок, но вначале надо было выпить кофе, который уже стоял передо мной, маленькая чашечка, заполненная наполовину, обжигающая, обнаженная горчинка, я давно уже не позволяю себе пить кофе такой крепости, но эта чашка кофе на улице Портоферисса показалась мне самой вкусной в моей жизни, я не спешил допивать ее, хотя мог бы сделать это в один глоток, я закурил еще одну сигарету, еще прихлебнул из чашечки этой густого и крепкого, сразу же горячащего кровь напитка, задержал его во рту и лишь потом позволил плавно пройти через горло в пищевод и почувствовать эту крепость уже желудком, голова прояснела, страх отошел совсем, миры, пересекшиеся на какое–то мгновение, вновь стали независимыми и я решил, что мне просто показалось все это от жары — ведь, несмотря на дымку на небе, солнце все равно припекало очень сильно, а я был без головного убора, в чем, скорее всего, и была моя ошибка.
Я допил кофе, повертел в руках выданной мулаткой чек и отчего–то сунул его в бумажник, где лежали оставшиеся песеты, немного долларов и кредитная карточка, а так же несколько чьих–то визиток, которые я забыл выложить перед отлетом в Испанию.
Встав с табурета и взяв с соседнего пакет с подарком, я направился к выходу, за которым обнадеживающе светило каталонское солнце, все же пробившееся сквозь дымку, от которой — судя по всему — уже не осталось и следа. И солнце это весело играло на желтой миниатюрной машинке, которую мне надо было миновать для того, чтобы свернуть затем направо, а потом выйти на бульвар Ангелов, по которому я мог за пять минут дойти до площади Каталония, где под землей меня ждала — или будет уже совсем скоро ждать — электричка, с кондиционером и негромко звучащей музыкой, вот только желтая машинка повела себя как–то странно, я перестал слышать, но я увидел, как она внезапно чуть приподнялась в воздух, а потом лопнула и из нее вылетели языки пламени, и меня тоже подняло в воздух, только понесло в обратную сторону, и — влетая в рассыпающуюся на множество осколков витрину кофейни — я вдруг подумал о том, что чашка кофе на улице Портоферисса оказалось для меня последней чашкой кофе в той, не сегодняшней жизни, сигнал о завершении которой мне был дан незадолго до того на барселонском бульваре Рамбла, хотя если бы я прочитал его правильно и не испугался, а просто сел за столик пить сангрию, то все могло бы быть по другому, вот только в этом случае мулатка не подала бы чашечку того эспрессо, которое до сих пор вспоминается, как самый лучший кофе в моей жизни.
Что же касается подарка, то я его, естественно, никуда отправить так и не смог.
27
Лезвие было острым, хотя должно было быть тупым.
Тупым лезвием ты никогда не порежешь ноги, острым — всегда.
Не знаю, отчего, но тупое лезвие внезапно стало острым и я чувствовала, как на ногах начинает гореть кожа.
Чувствовала, но продолжала аккуратно и тщательно водить станком — снизу вверх, практически от ступни и до бедра — то по левой ноге, то по правой, с каким–то неясным мне самой наслаждением наблюдая, как на коже появляются порезы и из них проступает кровь.
Вначале капельки.
Капельки превращаются в струйки.
Струйки переходят в потоки.
Потоки заливают ванну, в которой я стою, хотя обычно я никогда не брею ноги в ванной, лучше всего это делать в комнате, сидя на кровати, точными и легкими движениями, специальным станком с затупленным лезвием, но отчего–то сейчас я делаю это в ванной и кровь хлещет в нее из ранок как на левой, так и на правой ноге, я никогда не думала, что во мне столько крови, она льется, она затопила меня по щиколотки, я стою в собственной крови и никак не могу отвести от нее глаз, и все это из–за того, что лезвие оказалось острым, когда должно было быть тупым.
Все всегда оказывается не так.
И с этой мыслью я просыпаюсь.
На двуспальной кровати в 307 номере отеля «Ход», что на побережье Мертвого моря.
Просыпаюсь под неясное гудение кондишена и от того, что мне холодно — я сбросила во сне с себя одеяло и лежу, распластавшись, поперек кровати, одна часть тела на моем месте, другая — на том, где спала Майя.
Я не заметила, как она встала, оделась и ушла.
Точнее, не ушла, точнее — уехала.
То ли позавтракав, то ли нет, но сейчас они с Мишей едут по направлению к Иерусалиму, а мне остается одно: ждать, когда она вернется, и это единственное. чего мне хочется — дождаться ее, убедиться, что все с ней в порядке, сопроводить ее к врачу, а потом делать то, ради чего меня и отправили сюда, с ней.
Быть ее компаньонкой.
Следить, чтобы с ней ничего не случилось.
В конце концов, любить ее, пусть даже в отместку, ведь я хорошо понимаю, отчего со мной сейчас происходит все это — я должна отомстить своему мужу и этому старому павиану, собственному отцу, пусть даже сейчас мне его жалко еще больше, чем раньше.
Нечего шляться там, где стоят маленькие желтые автомобильчики.
Хотя ты можешь идти мимо и не знать, что какой–нибудь полоумный баск засунул в багажник пару килограммов тротила.
Или под капот.
А сам ушел, спокойным и неторопливым шагом, включив кнопочку на часовом механизме.
По крайней мере, так это обычно происходит в кино.
И мой отец, этот старый похотливый павиан, виноват в одном — он оказался не в том месте и не в то время.
Хотя иногда мне кажется, что все мы оказались не в том месте и не в то время.
И чем больше я подглядываю, тем сильнее убеждаюсь в этом, вот только сейчас я просто лежу, потягиваюсь, и думаю, что надо вставать.
Встать и сделать то, что я начала делать во сне, но — по другому.
Мое лезвие не может быть острым, я точно знаю, что оно подтуплено.
И порезов на ногах не будет.
А значит, кровь не хлынет из них так, как это было во сне.
Я иду в туалет, а потом чищу зубы и беру в руки бритву.
И делаю это так, как и люблю — в комнате, на большой двуспальной кровати.
Я люблю, когда у меня гладкие ноги, я хочу, чтобы Майе они тоже понравились.
Когда она будет гладить их в то время, когда я буду обнимать ее.
Мне хочется этого, я больше никого не хочу судить.
Я хочу, чтобы мне было хорошо и чтобы меня любили.
Я успеваю на завтрак одной из последних и, уже подходя с тарелкой к стойке, вспоминаю, что все завтраки в Израиле — кошерные.
По крайней мере, в отелях.
Есть молочное, есть рыба, есть всяческие овощи–фрукты.
Но нет мяса.
Хотя без мяса я прекрасно обхожусь, вот для моего мужа это было проблемой.
Он не мог есть рыбу на завтрак, а потому всегда вставал из–за стола голодным.
Я опять вспомнила мужа и попыталась посмотреть, что творится в левой половине головы.
Вдруг там что–то происходит, но я ничего не знаю об этом.
Но там по прежнему темно и мне остается только догадывается, что делает сейчас муж.
Скорее всего, он или в офисе, или в больнице у Н. А.
Из–за разницы во времени у них уже почти обед.
А я только что позавтракала и решила пойти к бассейну.
Со свежевыбритыми ногами в Мертвом море мне нечего делать.
Смешно звучит — свежевыбритые ноги.
Можно еще — свежеподбритые.
Завтра они будут уже не такими, не свежевыбритыми и не свежеподбритыми.
Завтра все, что сегодня, станет вчера — меня это развлекало еще с детства, когда я даже не подозревала, что женщинам надо брить ноги.
Можно еще эпилировать, но мне больше нравится брить.
Я одеваю купальник, накидываю халат и спускаюсь из номера к бассейну.
На улице уже жарко, где–то под тридцать.
Я надеваю очки, те самые очки, что купила на последние деньги, когда вышла от Седого.
От бассейна хорошо видна сероватая гладь моря и тающий в дымке иорданский берег.
Я беру шезлонг и бросаю на него полотенце.
Большое белое полотенце с монограммой отеля — они аккуратной стопкой лежат прямо у дверей.
Берешь сухое и глаженное, а возвращаешь мятое и мокрое.
Мускулистый и загорелый парнишка, работающий здесь спасателем, улыбается мне, когда я плюхаюсь в воду.
Вода не очень теплая, в море — явно теплее.
В том, что здесь называют морем.
Но в него мне пока нельзя, я взвою от боли, когда его вода начнет разъедать мою свежевыбритую кожу.
Такую гладкую сейчас и такую незагорелую.
Я выхожу из бассейна, вытираюсь и начинаю намазываться кремом от загара.
В прошлый раз, когда — после той волшебной ночи — мы с мужем утром пошли на пляж, я этого не сделала.
И мне хватило часа, чтобы сгореть.
Моя кожа моментально стала красной, а потом начала зудеть и чесаться.
И слазить.
Не облазить, а именно слазить, я опять чувствовала себя змеей, которая начала линять.
Мне не хочется, чтобы Майя видела, как я меняю кожу, как она трескается, шелушится и делает меня не красивой.
Мы все бываем красивыми и мы все бываем не красивыми.
Но сейчас я хочу быть красивой, я намазываюсь кремом от загара, сажусь в шезлонг и надеваю очки.
Мертвое море из серого становится темно–коричневым, почти черным, а иорданский берег просто исчезает во тьме.
Ветерок обдувает меня, мне хочется растечься по шезлонгу, расплавиться в нем так, чтобы совсем перестать чувствовать собственное тело.
И не от солнца, хотя оно становится все жарче — с каждой минутой воздух становится все раскаленнее.
Растечься и расплавиться от того, что все оставили меня в покое и что я свободна.
Я никого и ничего не боюсь и я совершенно не думаю о будущем.
И не помню прошлое.
То есть ни завтра, ни вчера, лишь наступившее сегодня.
Если о ком я хочу думать, то только о Майе, я сижу, закрыв глаза под очками, и пытаюсь представить, что она делает сейчас.
И внезапно я понимаю, что не просто думаю, а вижу.
Сумасшедший кубик Седого начал вытворять что–то не то.
Или то — если у Майи тоже под левой грудью есть такой же.
Треугольник, разомкнутый на квадрат.
Я. Майя, мой муж и Н. А.
Н. А., мой муж, я и Майя.
Майя, Н. А., я и муж.
И так далее, и так далее, и так далее.
Кубики есть у меня и у мужа — это совершенно точно.
Есть ли он у Н. А. — я этого не знаю, да и знать не хочу, мне хватило удовольствия от чтения этих бредней старого похотливого павиана.
Хотя мне его жалко, безумно, до тех слез, которые никто и никогда не увидит, но мне его действительно жалко, и прежде всего потому, что он — мой отец.
Как мне жалко и мужа, который разрывается всю жизнь между одной частью себя и другой, и которого я все равно люблю, а может, даже больше, чем просто люблю.
Я его ненавижу, и не из–за того, что он хочет меня убить.
Любовь — это всегда убийство, я уже думала об этом.
Любовь заканчивается крахом, смертью, разложением.
Ты просыпаешься и видишь рядом тело, которое когда–то казалось тебе совершенным.
И вдруг понимаешь, что это обман зрения.
Любовь поразила тебя и привела к смерти, до нее ты была одной, потом все изменилось.
И тебе уже никогда не стать прежней.
И тогда ты или умираешь совсем, или ищешь новую любовь, пусть даже такую странную и непонятную как то, что я пытаюсь найти в своем чувстве к Майе.
Которую я почти не знаю, которая тоже — женщина.
Страдающая болезнью витилиго и называющая, как и я, моего отца отцом.
Я вижу, как Миша подъезжает к Иерусалиму, как они останавливаются и выходят из машины.
Я узнаю это место, я помню, как была поражена тогда, когда сама оказалась там.
Поражена просто тем, что оно есть на самом деле.
Масличная гора и Гефсиманский сад.
Но Миша останавливает машину чуть ниже, где стоянка.
Теперь они могут пойти или на Масличную гору, или — в старый город.
То есть, туда, куда и стремится Майя.
Через невысокие холмы, под палящим палестинским солнцем.
Майя повязывает голову косынкой, она в светлых брюках и такой же светлой, легкой кофточке с длинными рукавами.
Она надела темные очки, Миша предлагает ей бутылку с водой, Майя делает глоток и возвращает ее обратно.
Они идут в гору, минуя указатель с надписью «Via Dolorosa».
Я понимаю, что Миша повел ее «Дорогой скорби».
Масличная гора и Гефсиманский сад оказываются за их спинами.
Мы с мужем вначале пошли туда, хотя мне пришлось набросить платок на плечи — чтобы пустили.
И меня поразило, каким маленьким оказался Гефсиманский сад, хотя, может, это была лишь его небольшая часть.
У того храма, в который можно было бы зайти помолиться, если бы мне хотелось этого.
Но мы просто шли по дорожке, узкой и обложенной камнями.
А потом смотрели на большие масличные деревья, серо–седого цвета, говорят, что они здесь с тех самых времен.
То ли три, то ли четыре дерева.
А Миша с Майей прямо пошли к указателю, смотрящему на ворота в старый город, хотя название этих ворот я не помню.
Но я вижу, как они идут по дороге, среди таких же, как и они — то ли туристов, то ли паломников, я думала, что их будет меньше, но видимо, не одни мы — смелые девочки.
Вот только много солдат, намного больше. чем в тот раз, когда я сама прошла под этими воротами и оказалась на узкой улочке, зажатая с двух сторон домами из светло–коричневого, почти что желтого камня.
Из такого камня построен весь Иерусалим, он так и называется — иерусалимский камень.
Миша опять предлагает Майе попить, она благодарно кивает головой.
Мне становится жарко и вновь хочется в бассейн, но я решаю дождаться того момента, когда Майя зайдет под своды Храма Гроба Господня, а идти им тут всего минут двадцать или чуть больше.
По «Дороге скорби», петляя вместе с ней, вон то место я помню, там мы с мужем потерялись, и он искал меня с солдатами.
Там чуть подальше был патруль, к которому он подбежал, не увидев меня за спиной.
Я просто свернула не туда, хотя меня и предупреждали, что этого делать не надо.
Что здесь опасно, что–нибудь может случиться.
Я свернула не туда и оказалась на совсем узкой улочке, полной арабских лавочек.
Они были впритык одна к другой, и из каждой мне что–то кричали и пытались затащить внутрь.
Мне стало страшно, и я повернула обратно.
И увидела мужа и двух вооруженных солдат, идущих мне на встречу.
И успокоилась, хотя именно в этот момент меня и шлепнули по заднице.
Или ударили.
И я до сих пор не знаю, кто.
И не хочу знать.
Но этот то ли удар, то ли шлепок был таким сильным, что мне стало больно, хотя ни мужу, ни солдатам я ничего не сказала.
Они оба говорили по–русски, пусть уже и с акцентом.
Майя с Мишей прошли это место и свернули направо.
Улица не стала шире, но стала шумнее — это было еще одна часть арабского квартала, которую я проходила уже с мужем, держащим меня за руку.
Миша вел Майю, держа ее за руку, хотя она этому сопротивлялась.
Я чувствовала, что ей интересно, что она хочет остановиться и поглазеть.
Пристальнее рассмотреть, что делают эти арабы в своих лавочках.
Чем они торгуют.
И сколько все это стоит.
Нормальное женское желание, вот только Миша хотел пройти это место побыстрее.
Совсем скоро должен быть Храм Гроба Господня, куда он и повез Майю, а совсем не для того, чтобы гулять по арабскому кварталу в старой части Иерусалима.
Хотя мы с мужем здесь задержались и даже зашли в одну из лавчонок.
Но ничего не купили, а когда вышли, то увидели араба, играющего на дудочке.
Он играл на бамбуковой дудочке, а на его руке еще висела целая связка таких.
И муж подошел к нему и начал торговаться, а араб перестал играть и стал показывать ему свой товар.
Муж купил дудочку и я спросила его, зачем.
Он сказал, что на память, она до сих пор валяется где–то у него. хотя я не нашла ее в его столе.
Там было многое чего, включая нож и дискету, но дудочки из Иерусалима не было.
Майя с Мишей идут сейчас как раз мимо того самого места, где мой муж торговался с арабом, там еще что–то вроде маленькой круглой площади с фонтаном, от которого до Храма гроба Господня не больше пяти минут.
Они зайдут в храм, а я пойду в бассейн.
Мне жарко, я вся мокрая от пота.
Впереди Майи с Мишей идут несколько пожилых европейцев, я опять замечаю патруль, который проходит и исчезает впереди, в той стороне, куда сворачивает «Дорога скорби» и где все заканчивается.
Или начинается — это как смотреть.
И тут я чувствую, что что–то не так.
Уже что–то не так, а скоро будет совсем плохо.
Я чувствую это даже не левой половиной головы, а сердцем, которое внезапно куда–то проваливается, так что мне приходится вскочить с шезлонга и вновь открыть глаза.
Но я вижу не привычную уже гладь Мертвого моря с отчетливо различимым — солнце приближается к зениту и светит почти отвесно, а значит, все видно намного отчетливее, чем какой–то час тому назад — иорданским берегом, а двух молодых людей, почти что бегущих вслед за Майей и Мишей.
И у одного из них в руке что–то блестит.
И я понимаю, что это и мне хочется закричать.
Майя с Мишей должны остановиться, а еще лучше — резко свернуть в сторону.
Тогда на пути этих молодых людей окажутся пожилые европейцы, но они им не нужны.
Им нужен Миша.
Тот, у которого в руке что–то блестит, убыстряет шаг, вот он уже бежит, стараясь делать это не слышно, крадучись, как и положено, когда ты настигаешь жертву.
Я не выдерживаю и громко кричу: — Майя, Майя!
Она не может услышать, она слишком далеко сейчас от меня, но она слышит и оборачивается.
Я вижу, как ее зеленые глаза становятся совсем большими и как она пытается, все еще держа Мишу за руку, утянуть его в сторону, но спотыкается и начинает падать, хотя и понимаю, что падать она начала от того, что тот самый молодой человек с чем–то блестящим в руке промахнулся, и вместо того, чтобы нож вошел Мише под лопатку, он попал Майе прямо под левую грудь.
Нож с рукояткой из кости какого–то животного. Не очень длинный, сантиметров в пятнадцать. Из блестящей стали, с желобком в центре лезвия.
Рукоятка торчит прямо из–под ее левой груди, на светлой легкой кофточке расплывается большое красное пятно. Майя ничком валится на каменную брусчатку площади, рядом с неслышно журчащим фонтаном, а молодые люди уже исчезли, растворились, пропали во внезапно собравшейся толпе.
Миша встает на колени, переворачивает Майю на спину и я вижу, как ее большие, зеленые глаза смотрят на меня, как шевелится ее рот, пытаясь что–то сказать, и понимаю, что мне этих ее слов уже никогда не услышать.
И единственное, что мне остается — завопить так, как я не делала еще никогда в жизни, завопить, завыть, рухнуть возле уютного бассейна, под непонимающим взглядом спасателя, бегущего ко мне, как бегут сейчас к телу Майи солдаты армейского патруля, как испуганно бегут прочь с маленькой иерусалимской площади пожилые европейцы, как бежит Миша, пытаясь настичь этих двух парней, которые давно уже скрылись в хитром переплетении близлежащих кривоватых улочек.
Спасатель берет меня на руки и несет в тень, думая, что я, скорее всего, просто перегрелась на этом немыслимом солнце, и никак не может догадаться, что ему надо взяться поудобнее за костяную рукоятку, торчащую под левой грудью, потянуть за нее и вынуть из моего тела нож, который вошел туда в тот самый момент, когда молодой араб с чем–то блестящим в руке промазал и ошибся в выборе жертвы, хотя, может, именно так и было задумано и я была абсолютно права, когда шла к Седому, догадываясь, что меня хотят убить, пусть даже и считала, что это сделает совсем другой человек, как не знала и того, что сама останусь в живых, пусть и буду лежать в тени стены отеля «Ход», широко разевая рот, будто пытаясь нахвататься легкими этого жаркого и крепкого воздуха, а нож, убивший Майю, тот самый нож, что три дня назад я обнаружила в правом нижнем ящике стола своего мужа, навсегда останется вонзенным в мое тридцатишестилетнее тело, и отныне его никому и никогда из него не достать.
Скорее всего, именно об этом и предупреждала меня Майя перед самой смертью, в тот момент, когда еще что–то пыталась сказать, вот только этих ее слов я так и не смогла расслышать!
28
Вывеска гласила: «Ремонт человеков».
И все так же хорошо было заметно, что в слове «человеков» последние две буквы, «о» и «в», явно дописаны позднее.
Я стою на улице, смотрю на вывеску и думаю, что надо бы подойди ближе и открыть дверь. Нажать на ручку, повернуть ее, а затем надавить. Дверь откроется и я войду во внутрь.
Я уже проделывала все это, чуть больше месяца назад.
Тогда шел дождь и был сильный ветер.
Проезжающая мимо машина обрызгала меня, может, именно с этого все и началось.
А может и не с этого, может, с того, что я вбила себе в голову, что меня хотят убить.
Мой муж, человек, с которым я живу вот уже столько лет.
Вбила, втемяшила, вколотила, вонзила.
Нож вонзили в Майю и она умерла.
Ее убили, мы похоронили ее почти три недели назад.
Я не хочу вспоминать об этом. Я вообще больше ничего не хочу вспоминать.
Я стою у странной конторы, перед закрытой дверью.
Над дверью вывеска — «Ремонт человеков».
Мне надо войти туда, но я не хочу.
И дело не в том, что у меня нет денег, которые я должна отдать Седому, часть суммы за те два кубика, два кубика, странные многогранники, до сих пор существующие в наших телах.
Один — в моем, другой — мужа.
Живущие своей жизнью, делающие лишь то, что хотят.
Если бы я это знала, то никогда бы не согласилась.
Если бы я вообще знала, что произойдет, то даже бы не подошла к этой двери тогда, чуть больше месяца назад, когда шел дождь и был сильный ветер.
Сейчас все не так, сейчас солнце и тепло.
И уже зеленеет трава.
И есть листья на деревьях.
Маленькие, совсем еще никакие.
Маленькие, зеленые листочки, которым еще предстоит стать листьями.
Я в юбке и в блузке, и на мне все те же черные очки.
И та же сумочка через плечо.
Я снимала эти очки только на ночь те первые несколько дней, что прошли после смерти Майи.
Я была в них, когда ехала в Иерусалим и когда была в морге.
И когда давала показания в полиции.
И когда мы ехали в аэропорт в странном фургоне, я, Майя и сопровождающие.
Меня могли увезти на другой машине, но я отказалась.
Я хотела быть рядом с ней, вот только не могла заставить себя снять очки.
Смотреть на мои глаза, видеть их, в них вглядываться — этого бы я не пожелала никому.
Узкие, опухшие щелки, полные ненависти.
И в самолете я тоже была в очках.
И когда меня в аэропорту встречал муж.
И когда я приехала домой и беспомощно села посреди гостиной, опустив руки между колен.
Я не зря купила эти очки тогда, когда ехала домой от Седого.
Из этой конторы под странным названием «Ремонт человеков».
Я смотрю на дверь и наконец решаюсь.
Берусь за ручку, нажимаю на нее, повертываю, а потом и надавливаю.
Дверь открывается и я вхожу внутрь.
Седой был в глубине помещения, он стоял спиной ко мне и разговаривал с кем–то по телефону.
Все тот же мощный торс и все та же серьга в ухе.
И ноги, будто приспособленные от какого–то другого тела.
Которое он не доремонтировал и решил взять детальку себе.
Приделать, приспособить, приладить.
Седой услышал, как я вошла и обернулся.
— Я перезвоню, пока! — сказал он в трубку и направился ко мне.
— Здравствуйте, — сказала я, таки не сняв очки.
— Привет, — сказал Седой, будто мы расстались только вчера, и добавил: — Кофе будешь?
— Буду, — сказала я и огляделась по сторонам.
Седой кивнул в сторону ближайшего кресла.
Я села и открыла сумочку. Сигарет не было, я их забыла дома.
— Что потеряла? — спросил Седой.
— Сигареты, — сказала я, — я забыла сигареты дома…
Седой взял со стола пачку и протянул мне. Потом посмотрел на меня внимательно и щелкнул зажигалкой.
Я заерзала в кресле, но потом вдруг успокоилась.
— Сейчас будет кофе, — сказал Седой, — через минуту.
— Я не принесла денег, — сказала я.
— А я и не рассчитывал, — ответил Седой, наливая мне кофе в маленькую фарфоровую чашечку с драконами, и добавил: — Кофе готов!
Я вымученно улыбнулась и кивнула головой.
— Я хочу вернуть один, — сказала я.
— Что — один? — удивился Седой.
— Один кубик, — сказала я, — тот, что во мне.
— Почему? — спросил Седой.
— Я от него устала, — честно сказала я, — он работает тогда, когда хочет и он сводит меня с ума…
— Это была первая партия, — честно сказал Седой, — экспериментальная, сейчас я сделал новый вариант, ближе к тому, чего ты хотела…
— Ты меня обманул, — сказала я и чуть было не сняла очки.
— На ты — это лучше, — сказал Седой, — это как–то приятнее!
— Вы меня обманули! — поправилась я.
— Продолжай на «ты», — сказал Седой, — и не стесняйся…
Я не стесняюсь, хотелось сказать мне ему, я никогда и ничего уже не буду стесняться, вот только как и кому рассказать обо всем, что произошло за те первые четыре дня? Про меня, про Майю, про мужа, про Н. А., того самого Н. А, которого лишь вчера мы с мужем забрали из больницы, совсем беспомощного, не способного говорить, он лишь смотрит вокруг опустевшими глазами, в них тоска и слезы, которые нет возможности вытереть парализованными руками, чучело в кресле на колесиках, тень моего отца, да даже не тень, а тень тени, устроившаяся сейчас в нашей гостиной как напоминание о том, что далеко не всегда надо стремится узнать правду, ведь она может оказаться совсем не такой, как ты ее себе представляешь.
— Что мы с ним будем делать, он ведь вообще ничего не может сам после удара! — сказал муж вечером, вернувшись из больницы.
— Возьмем его к нам, — сказала я, — я буду за ним ухаживать.
— Ты не сможешь, — возразил муж, — это очень тяжело…
— Но Майя могла…
— Тогда он мог говорить и у него работали руки, он мог сам добраться до туалета и мог сам доехать до постели, а сейчас он ничего этого не может…
— Мы возьмем его к нам, — твердо сказала я и добавила: — Пока он еще жив, то пусть живет с нами!
Сейчас дома был муж, который с утра не поехал в офис, так что Н. А. был под присмотром.
Но я не могу рассказать об этом Седому, как не могу рассказать и о том, что я действительно нашла нож в нижнем правом ящике стола в кабинете мужа, и что каким–то образом этот нож оказался под левой грудью Майи, я ни о чем не могу рассказать Седому, потому что это лишь мои иллюзии и моя правда, это мой отец, мой муж, моя любовь, и незачем посторонним знать об этом!
— Тебе не повезло, — говорит Седой, беря свою чашечку кофе, — ты встретилась совсем не с тем, что ожидала, и к этому была не готова…
Я не понимаю, о чем он говорит, я просто пью кофе, курю и смотрю на Седого сквозь темные очки.
— Сними! — властно говорит Седой.
Я все продолжаю смотреть на него, не понимая, что он от меня хочет.
Тогда Седой протягивает руку и снимает с меня очки.
— Посмотри мне в глаза! — говорит Седой.
Я послушно смотрю ему в глаза, думая лишь об одном: каким–то образом этот человек может управлять мною, может мне приказывать, а я делаю то, что он хочет, вот он сказал — сними очки! — и я сняла, но зачем?
— Я все знаю, — говорит Седой, — так уж получилось! — и он трогает правой рукой серьгу в ухе.
Под моей левой грудью что–то колет и я начинаю догадываться.
— Ты свинья! — говорю я ему и внезапно даю ему пощечину. Левой рукой, правая все еще занята чашечкой с кофе, а вот сигарету я уже докурила.
Седой смеется и перехватывает мою руку.
И сжимает. Больно. Так больно, что на глазах появляются слезы.
— Больно, — говорю, — пусти!
Седой отпускает меня, а потом спокойным голосом говорит, что если он что и знает, так это знает лишь он и никто никогда об этом не услышит ни слова. И что это было необходимо — вдруг мне действительно угрожала бы опасность, тогда он бы смог хоть как–то помочь.
Может быть, в крайнем случае, но попытался бы.
— А Майя? — кричу я.
У нее не было кубика, — говорит Седой, — серьга же настроена только на тебя. Если хочешь, мы достанем сейчас твой кубик, и тогда ты опять останешься одна. Хочешь?
— Хочу, — говорю я, вытирая слезы.
— Раздевайся! — командует Седой.
Я послушно расстегиваю и снимаю блузку, кладу ее на кресло, потом расстегиваю и снимаю лифчик. Я не боюсь Седого, я уже хорошо понимаю, что он не заставит меня вставать перед ним на колени — когда знаешь о женщине столько, сколько он знает обо мне, то навряд ли придет в голову заниматься с ней любовью хоть в каком варианте.
Седой берет одной рукой мою левую грудь и начинает массировать, а потом вдруг нажимает другой рукой под грудью, сильно и резко, мне опять становится больно, хотя вслед за этим я чувствую облегчение в тот самый момент, когда из моего тело, как муравьиный лев из норки, выскакивает серебристый маленький кубик и исчезает в ладони Седого.
— Одевайся, — говорит Седой, бросая кубик на блюдце с драконами. Чашечка стоит рядом. Кофе уже допит.
Кубик подпрыгивает, будто никак не может успокоится.
Седой пристально смотрит на него, я — тоже.
— Замерзнешь, — говорит Седой.
Я киваю и начинаю одеваться, все так же не отводя глаз от кубика.
Седой встает и уходит, а возвращается с банкой, полной воды. Он берет кубик, осторожно, двумя пальцами, и бросает его в банку.
И кубик начинает пускать пузыри, таять, будто кусок то ли льда, то ли сахара, пузырей все больше, кубик все меньше, вот он совсем исчез, растворился, а вода из прозрачной стала мутной, почти что желтой.
— Остается вылить — и все! — говорит Седой.
— Я сама! — говорю я, — Дай мне!
Седой протягивает мне банку, я беру ее и чувствую, что она намного тяжелее, чем положено быть простой полулитровой банке с мутной водопроводной водой.
— Осторожнее! — говорит Седой.
Я киваю и медленно иду в туалет, стараясь не расплескать, не пролить ни капли, потому что в банке сейчас не просто пусть желтая и мутная, но вода.
В этой банке четыре дня моей жизни плюс все мое прошлое.
И моего мужа.
И Н. А.
И Майи.
Я не хочу, чтобы это оставалось, мне надо вылить все это в унитаз, потом смыть, а банку лучше разбить, хотя можно обварить кипятком и залить дезинфицирующим раствором, но пусть о банке думает Седой, я вхожу в туалет, осторожно, стараясь не споткнуться, не расплескать, наклоняю банку и выливаю все ее содержимое, всю эту мутновато–желтую воду, всю себя, а потом нажимаю смыв и смотрю, как пенящаяся вода из бачка уносит все это в канализационную трубу, и тут вдруг ноги мои становятся ватными и мне хочется упасть, к горлу подкатывает тошнота, Седой, видимо, понимает, что мне плохо, он выхватывает у меня банку и закрывает дверь в туалет.
И меня тошнит, но мне становится легче.
Я опять нажимаю смыв, а потом умываюсь и полощу рот.
И выхожу обратно, хотя ноги у меня все такие же ватные.
— Это все? — спрашиваю я Седого.
— Все, — говорит он, — хочешь еще кофе?
— Нет, — говорю я, — я лучше немного посижу, а потом пойду…
— Сигарету? — спрашивает Седой.
— Нет, — говорю я, — мне пока не хочется курить.
— Тебя тошнит, — говорит Седой, — и тебе не хочется курить, с тобой все в порядке?
— Со мной все в порядке, — говорю я и вдруг понимаю, что не все. Я просто забыла об этом, хотя женщины о таком не забывают. Но предыдущие три недели мне было не до того, и потом — я была в шоке. А это действует. Но задержка на три недели — это уже что–то.
А начаться должно было как раз три недели назад, недаром я брала с собой тампаксы.
— Посмотри–ка на меня, — говорит Седой.
Я послушно смотрю на него и он удовлетворенно кивает головой.
— Ты смотришь, как беременная, — уверенно говорит он.
— Этого не может быть, — говорю я.
— Может, — отвечает Седой.
— Этого не может быть, потому что я не способна, — говорю я.
— После ресторана, — говорит мне Седой, — вспомни!
— Ну и что! — говорю я. — Этого просто не может быть!
— Сходи к врачу, — говорит Седой, — или сделай себе тест, но ты смотришь как беременная, тебя тошнит и ты не хочешь курить.
— Ладно, — говорю я, — может быть… — И добавляю: — Я пошла?
— Иди, — говорит Седой, — но сообщи как–нибудь…
— Зачем? — спрашиваю я.
— Ты права, — говорит Седой, — это явно незачем!
Опять звонит телефон, и Седой берет трубку.
Я иду к выходу и толкаю дверь изнутри.
На улице солнце и еще жарче.
Я думаю, надеть мне очки или нет, и решаю, что пока не стоит.
Я хочу, чтобы кто–нибудь еще посмотрел мне в глаза и сказал, что я смотрю, как беременная.
Хотя я все равно не верю в это.
И никогда не поверю.
Пока все действительно не изменится и весь мир не уместится в моем животе.
Я иду по улице, в том же направлении, что и месяц с небольшим назад.
Мне надо дойти до перекрестка, свернуть, а потом идти дальше, пока не дойду до остановки.
Хотя можно поймать машину — так я доеду быстрее.
До дома, где меня ждут Н. А. и мой муж.
Отец и муж, которым я могу сообщить новость.
А могу и не сообщать.
Пока сама не поверю, но для этого мне надо сходить к врачу или сделать себе тест.
Совсем неподалеку аптека. Каждый раз, когда я иду от Седого, я себе что–то покупаю.
В тот раз это были темные очки, сегодня — тест на беременность.
Я куплю тест. Вернусь домой и сделаю все по инструкции.
И только тогда пойму, идти мне к врачу, или нет.
Говорить ли об этом отцу и мужу, или не стоит.
Парализованный и лишенный речи отец и муж, который узнает, что его жена — беременна.
Если я беременна и если у меня родиться дочь, то я назову ее любым именем, только не Майей.
Хотя, скорее всего, все получится наоборот.
Я хотела любить Майю и я буду любить Майю.
Я захожу в аптеку, какая–то толстая дама передо мной спрашивает что–то от головы и от давления.
Я стою и смотрю ей в спину, и чувствую, что меня опять подташнивает.
Майю мы похоронили на том самом кладбище и в том самом месте, где себя завещал похоронить и Н. А.
Когда он умрет, а ждать этого осталось недолго.
Судя по тому, что он просто уже не хочет жить.
Мне кажется, что он сам может сделать это, вот только как?
У него не работают руки и он не может говорить.
Он даже не может попросить об этом моего мужа.
И меня.
Я никогда не смогла бы убить своего отца, который — вполне вероятно — станет дедом.
И не когда–нибудь, а под Новый год.
Или — чуть за.
Точный срок подсчитает врач.
Если тест будет положительным.
Я ожидала чего угодно, но только не этого.
И я еще не знаю, что обо всем этом думать.
Потому что на самом деле ничего не изменилось, пусть даже я и вылила желтовато–мутную жидкость из банки в унитаз.
Так велел Седой, но сейчас мне кажется, что особого смысла в этом не было.
Потому что мне никогда не забыть того, что было.
Тех четырех дней и всей моей предыдущей жизни.
Парализованный старый павиан в кресле–каталке — может ли он быть моим отцом?
Мой муж — мог ли он быть любовником этого старого павиана?
Майя, которая так и не стала для меня тем, кем могла, — вот только я не хочу о Майе, я до сих пор помню, как все это случилось там, в Иерусалиме.
И нож — он все еще лежит в нижнем ящике стола.
Правом нижнем ящике.
Дискета тоже.
Странная дискета и неизвестно откуда взявшийся нож.
Я покупаю тест, выхожу из аптеки и смотрю на солнце.
Пусть даже у меня взгляд беременной, но мне все равно надо надеть очки.
У меня болят глаза, я слишком много плакала последнее время.
Я не хочу больше плакать, я хочу, чтобы все в жизни было по другому.
И я хочу быть беременной и хочу родить, хотя и боюсь этого.
И даже не боли — об этом я пока не думаю.
Просто нож все еще лежит в столе, но ведь зачем–то он туда был положен.
А кубика в груди больше нет и Седой не сможет придти не помощь, если что будет не так.
И никто не сможет.
Кроме меня самой.
Нож лежит в столе и мне с этим ничего не поделать.
Я не могу выбросить его, как не могу выбросить и дискету.
Они были в столе и будут, они переживут моего отца, они дождутся, пока вновь не наступит зима и мой живот не станет перевешивать.
Он будет большим и круглым, и муж сможет любить меня только сзади.
И груди набухнут, и соски станут крупными, как раздутые от воды фасолины.
Мы с мужем останемся вдвоем, похоронив Н. А. рядом с Майей.
И я так и не узнаю правды о том, был он моим отцом или нет.
И что у него было с моим мужем.
И кем была Майя ему.
Но до тех пор, пока нож лежит в столе, я буду думать об этом.
Уже родив, уже вернувшись домой с чем–то маленьким и кричащим.
Седой все же сделал свое дело, он действительно отремонтировал всех нас, недаром его странная контора называется «Ремонт человеков».
Я думаю обо всем этом, пока трясусь в автобусе, возвращаясь домой.
Туда, где меня ждут муж и Н. А.
И еще — нож, лежащий в правом нижнем ящике стола.
Я снимаю очки и смотрю за окно, на улицу, пытаясь привыкнуть смотреть на мир своими новыми, беременными глазами.

![Ремонт человеков[Иллюзии любви и смерти]](https://www.4italka.su/images/articles/520329/primary-large.jpg)


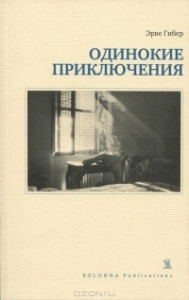







Комментарии к книге «Ремонт человеков[Иллюзии любви и смерти]», Катя Ткаченко
Всего 0 комментариев