Анатолий Лернер ТРЕМПИАДА Роман
Часть первая
1
Меня нет. Умер я, что ли? Или сплю? Но сквозь тьму и небытие — слышу резкий, отвратительный сигнал. Так оповещает о почтовом сообщении мой мобильник. Какой еще мобильник? Что за сигнал? Кто я? И кому это понадобилось возвращать меня из легкости и беззаботности небытия?
Постепенно прихожу в себя. Дымок иного мира еще плыл перед глазами, а черная дыра уже закрылась, свернулась смерчевым потоком, заполнила пустоту пространства воронкой. Когда все завершилось, я опять был в полном уме и здравой памяти. И знал, что сигнал этот — из моего мобильного телефона, и сообщение пришло от друга. Вот только друг — пребывал где–то там, в далекой своей, нереальной Англии.
Как сказал он, так и случилось. И теперь друг блуждал среди руин собственных иллюзий, изображая из себя англичанина. Искателя. Изгнанника. Беженца…
Не знаю как ему, но с тех пор как он оказался вдали от земли обетованной, где снискал себе доброе имя, мне не хватало его.
Можно было рассуждать. Например, о том, что твердо устоявшееся в сознании словосочетание «ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН», не только скрывает в себе нечто мистическое, но и обладает еще одним мудрым смыслом. ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН — это почти нигде… и совсем ничто… Для моего сознания его не существовало…
«Никогда я не был на Босфоре».
Вот и я никогда и нигде не был. Так что мысли о чопорной Англии были вне моей досягаемости. Эта самая Англия была столь далека от меня, сколь близка та самая Черная дыра, чей дымок растаял вместе с моим, уже выветрившимся из памяти, сном. Немногим дольше задержалось ощущение, что где–то во Вселенной есть близкий тебе человек, который сумел оторваться от земли обетованной; сумел нарушить законы притяжения, и теперь парит, согласно иным законам существования, оттягиваясь где–то без тебя по полной своей программе…
И, судя по сообщению, ему, в свободном от привязок полете, все еще помнится обо мне.
Тяжело вздохнув, я нажал на кнопку мобильника. Экран засветился изумрудным огнем. Друг прислал новый адрес и настойчивое приглашение в Англию.
Что ответить ему? Как сказать то, что не успел, когда друг был еще рядом? Ответа не было. Да его и не могло быть. На встречу с истиной приходит молчание. И хотя я знал, что друг еще не отошел от своего мобильника, я все же победил искушение позвонить.
Что? Что не позволило мне нарушить наше с ним молчание? Молчание, помноженное на обе стороны короткого, как телеграмма, сообщения?
Я сонно выкурил сигарету и побрел в спальню. Хотелось сразу взлететь с матраца. Куда? Туда, куда устремляются ночами в сопровождении стартового храпа и газов собственного тела, непостижимые нами души. Уж они–то запросто достигают той самой воронки, что сливает в Черную дыру остатки нашего сознания.
Отключив мобильник, я снова улегся на стартовую площадку сексодрома. Жена давно носилась из сновидения в сновидение, и я пожелал нам только одного — не столкнуться в полете.
Мне снился Млечный путь, а вернее — дорога. По эту сторону стоял я, а по другую — мой друг. Дорога была живая. Она состояла из просветленных лиц друзей и знакомых. Из обличий недругов и врагов. Из просоленных образов, размазанных по лицу брызг, в которых отражались глаза. Глаза всех, кого оставил в этом мире я… Глаза тех, кто оставили меня…
Брызгами электросварки разлетались они по пути шва нескончаемой трубы, именуемой Млечной дорогой. И сыпался шлак, и гасли искры, и коробило металл.
Млечные брызги растекались в разные стороны шариками ртути. А потом собирались в тяжелый, неровно дышащий шар, чтобы снова взорваться и рассеяться. То ли семенем, то ли прахом, развеянными в лучах Солнца… То ли звездами и народом, избранным этими звездами на собственное испытание под ними.
И мы, разрозненные, брошенные в этот мир брызги, теперь снова устремлялись к всепоглощающей силе, призванной объединить капли, павшие на эти берега молока и меда, с самим Млечным путем. И только потому вольны утратить себя. Испепелить свое я. Не быть собой. И значит — непостижимо как, стать самим народом единого переживания, имя которому — ЛЮБОВЬ.
Снились ступеньки эскалатора, пробегающие через дорогу, за которой стоял у причала красавец–парусник. Но дорожки эскалаторов пересекались во всех мыслимых и немыслимых направлениях, на самых разных уровнях и скоростях. И стоило отвлечься, как тебя поглощали несчастья, уводящие от вожделенной пристани, от красавца–парусника.
И кто–то рассудительный, зализывающий раны, говорил о невозможности перейти эту дорогу, а мудрый, но бесшабашный, весело толкал на этот путь…
— Это безумие! — бунтовал прагматичный ум. — Посмотри правде в лицо.
И тогда всплывала никому неинтересная, пересидевшая в девках баба — злобная мстительная правда. Она честно рассказывала неприятные вещи и от этого испытывала моральное удовлетворение, которое заменяло ей неприличный оргазм.
— Кончила? — перебил я ее старания.
— Нет еще, — честно отвечала смущенная правда, глядя исподлобья и продолжая мастурбировать.
— Ты так никогда не кончишь, — сочувственно произнес я. — И знаешь почему?
— Советчиков потому что много вокруг, — злобно прохрипела правда.
— И это правда, — согласился я. — Но главная причина в ином. Ты отвлекаешься… на правду.
И тогда глаза ее погасли, и правда вспыхнула, как оскорбленная школьница, о которой впервые при всех сказали правду. Зарыдав, правда выбежала из моего сна. И правильно сделала. Каким–то образом я оказался в кабинке крошечного лифта, в саркофаге каменной капсулы базальтового разлома, заполненного талыми водами Хермона.
Благодаря лифту мои сновидения перенеслись к хрустальной чистоте озер, точно истиной наполнявшихся, водой ручья Завитан.
Сон высветил для меня лучшие переживания. Они имели конкретный адрес, и я прибыл по этому адресу.
Странно, именно бархатные воды волшебных озер, теперь разделяли нас с другом. Он по прежнему оставался на том далеком берегу все еще туманного для меня Альбиона, а мой сон вынуждал к остановке.
Возражать не имело смысла. Ведь это не жизнь, где на каждом шагу приходится стоять на своем. Отождествляя себя со сном, приходится жить по его законам, в согласии с которыми развивается сюжет.
Но во сне мне является откровение, что, оказывается, я и не подозревал о том, что и после пробуждения, живу беспросыпно чужой, нездешней жизнью, все больше похожей на сон.
И вот этот бред я почему–то называл существованием?..
Но не пример ли это волшебства, с большими оговорками допускаемый спящим разумом? Не мы ли это с моим другом — те две ничтожные брызги, что снова и снова выплескиваемся на разные берега? И пусть мы сохнем, пусть страдаем от одиночества и пребываем в меньшинстве, но мы не должны никогда забывать, что мы — не просто капли, а часть океана. И едва мы не следуем за собственной личностью, как забываем о себе. И только тогда становимся единым океаном любви…
А потом появились мысли. Они сообщили, что все поняли, но не согласны. Так наметилось размежевание.
Мысли принадлежали кому–то, кто выплеснулся с новой волной, перестав быть огромным, непостижимым и величественным.
— Одинокие капли, чтобы не сгинуть, не засохнуть, обязаны мыслить. Так, неосознанно, выходя из воды, появляется человек, отдаляя от себя океан.
Я вздыхаю во сне по Млечному океану, думая о том, что человек, вовсе не звучит гордо, что он там, где его мысли. А мысли уже разрушают целостность, создавая из ничего никому не нужную личность…
«Мы разбросаны», — думаю я, и меня швыряет все дальше от океана, в котором плавает в свободном полете лишенный личности друг.
— Мы разбросаны и несобраны. Мы аморфны и потому перетекаем из состояния в состояние, из одной реальности в другую, из сна в сон, из жизни в смерть. Даже перед лицом смерти мы редко просыпаемся. Ну, разве когда несущаяся по серпантину машина выходит из повиновения и мы теряем управление. И собою и машиной.
И новая ступенька эскалатора подхватывает меня и несет на невиданной скорости. Это иная скорость, отличная от той, которой почти всегда хватает, чтобы проснуться и остановить мгновение перед тем, как разбиться насмерть.
Это скорость самой смерти, из которой состоят наши сны. Те самые видения, что наслаиваются фрагмент за фрагментом в оскорбленную невниманием правду…
…Пробуждение оказалось тяжелым. Я ощущал себя каплей, оторвавшейся от непостижимого. И я не знал пути туда, где мне было легко и бесшабашно. Над головой протекал тот самый Млечный Большак, а под ногами змеилась пыльная, каменистая дорога, пробитая среди скал Голанского плато.
«Кто–то снова должен пройти ее, — думаю я, выдвигаясь в путь, — но кто? Кто осилит ту дорогу, если ни здесь, ни там меня нет?»…
Так началась моя тремпиада.
2
«Дорогу осилит идущий», выплыло откуда–то из памяти, тогда как пересохшие губы, ломаясь резиной на сорокоградусной жаре, шептали безо всякой надежды:
…………………………………………………………………………………
— Эй, эй!! — Еще одна машина пронеслась мимо, обжигая жаром круто заваренный воздух. Если эту волну напасти мне удавалось отбить, то от напора ненависти, выпущенного из «Фольксваген–транзит», я отшатнулся, и меня снесло взрывной волной к автобусной остановке.
Б…ство!
Денег на автобус нет. Безысходность положения снова кидает меня в водоворот машин. Здесь люди–оборотни, сами того не замечая, оборачиваются в куски бесчувственного металла.
Помню. По выжженной солнцем земле Голанского плато, по колючкам, с золотым миражом колосьев налитого хлеба, шли мы с женой и трехлетним сыном. Пацан капризничал, сидя у меня на плечах. А я шел, тупо повторяя движения, и безразлично взирал просоленными потом глазами на базальтовое полотно дороги. Раскаленные камни, — каждый — соперник солнца — смыкались с выжженным, безнадежно бесцветным небом. Там лишали не только надежды, но и самой сути обрести ее.
Жена пыталась «голосовать», но глаза проезжавших в машинах двуногих еще меньше моих были способны что–то увидеть. И не пот их выел, не слезы, а нечто загадочное, непостижимое, что оставляет лишь видимость человека, лишая самой человечности.
Шоссе уходило все дальше от населенных пунктов, а мы шли, совершенно потеряв любую надежду на чудо. Сын плакал, капризничал, хотел пить.
А что я мог? Создать для него из пустыни оазис? Но у меня не было ни машины, ни прав, ни денег… Тогда о каком таком чуде могла идти речь?
Я злился на себя, продолжая механично идти вперед. Но сын категорически воспротивился. Я снял его с шеи, целуя в соленые щеки.
— Не плачь, папа тебя любит, и мама тебя любит.
— Машина не любит меня, — не по годам серьезно сказал мой сын. Я слегка опешил. Неожиданно я понял, что не обиженный ребенок, а сам перст Руки Мистерий указывает мне на что–то пальцем моего малыша.
— Машина… — повторил я вслед за сыном, рассматривая небольшой рабочий грузовичок. — Машина не любит меня…
Машина не любила и меня, машина вообще никого никогда не любила… Но кто эти люди, придержавшие стремительный бег своего грузовичка?
Остановились они по злому умыслу не любящей нас машины, или это все же отклик человека на зов души?
Я смотрел на открытые дверцы пикапа и ожидал. В машине сидели рабочие арабы. Широко распахнутая дверь давала возможность разглядеть всех троих. Шофер пальцем поманил нас. Наши глаза встретились. Наступил момент истины. Они смотрели на нас, мы смотрели на них. И тут сын побежал к машине. Мгновение, и он подхвачен сильными руками строителей. И вот уже сын сидит рядом с ними, болтает ногами.
Жена, не раздумывая устремляется за сыном. Последним в кабину грузовичка взобрался я.
— Маим! — потребовал воды сын, и в его руках оказалась запотевшая бутылка с минеральной водой «Мэй Эден».
— Пожалуйста, сигарету, — с мольбой во взоре произнесла жена. Кто–то протянул ей пачку «Мальборо».
— Ну, а мне тогда, для полного счастья не хватает только чашечки кофе, — сказал я по–русски. Арабы, услышали слово «кофе» и вот в моих руках пенопластовый стаканчик. Джином струится из термоса, напоминавшего собой волшебную лампу Аладдина, неповторимый аромат чудодейственного напитка.
А сын уже перемазан арабскими сладостями, и жена жадно глотает кофе и сигаретный дым, а я все никак не решаюсь захлопнуть дверцу грузовичка.
— Куда направляетесь? — спросил на иврите строитель.
— Киббуц, — сообразила жена. — Мером Голан.
— Нет, — закачал головой тот, что был помоложе. — Нам в другую сторону.
— Беседер, — оборвал его старший, и включил передачу…
До последней минуты я отказывался верить в происходящее. Но чудеса скоротечны и маленький грузовичок арабов–строителей уже остановился у массивных электрических ворот киббуца.
И вот мы уже выходим.
И благодарные улыбки еще не сошли с наших лиц.
И стоим не по ту, а по эту сторону забора, — там, где дорога — реальность, а не часть пейзажа…
— Как же так? — неизвестно у кого спрашивал я, идя по киббуцной аллее. — Как случилось, что вот эти вот, улыбающиеся нам теперь люди, не захотели нас увидеть на дороге?
Но мир оказался шире киббуцного двора, а пришедший мне ответ — проще. Арабы увидели то, чего не пожелали видеть в них самих, евреи: увидели отчаявшихся и потому свершающих ошибку за ошибкой людей, без надежды обрести свое место под безжалостным солнцем Палестины.
Я так и остался в долгу, а точнее — в плену у той самой дороги, по которой умчался, словно растаял в терпкой и вязкой, как оливковое масло жаре, мираж того самого грузовичка. И десять лет спустя, все у той же дороги, уходящей расплавленным асфальтом в выгоревшее небо, я снова ловлю тремп.
И едва я понимаю, что остановка в пути — это вовсе не чья–нибудь обязанность, а лишь возможность человека откликнуться на зов души, как рядом со мной возникает старенький «Ситроен», и набожный мальчишка, с улыбкой распахивает дверцу.
Я падаю на сиденье под леденящие струи кондиционера и пристегиваю ремень безопасности.
— Кама зман ата ба арэц? — зачем–то спрашивает водитель и, хохоча, резко рвет вперед, словно вырывая меня из безвременья, в котором я застрял на своей вынужденной остановке.
3. КОТ БАЮН
Первый день праздника Рош–а–шана, тот самый день, что венчает собой будущий год, застал меня в пути. Я был предоставлен самому себе и моя собственная судьба, была в моих же руках. Закинув рюкзак за плечи, я шагал по нескончаемому черному коридору, чем представлялась километровая аллея от мошава Кидмат Цви к перекрестку трех дорог. Была ночь новолуния, одна из таинственных ночей, когда небо теряло из виду ночное светило. Говорят, сбежавшая в эту ночь с неба Луна чудит необыкновенно.
Я смотрел на огромные новогодние звезды в небе и полной грудью вдыхал предутренний воздух, вытеснявший с каждым глубоким вдохом все мои обиды и страхи.
Споткнувшись, я понял, что коридор — это не только звезды и не одно лишь бескрайнее небо, но и земля с ее камнями и коростой асфальта под ногами. А еще я понял, что, увы, снова не витаю в облаках, а, как–то незаметно приземлен и опять озабочен своими мыслями.
Те мысли уже костерили кого–то, кто забыл прислать за мной машину, они рисовали ужасные подробности гибельной сцены, где мое предутреннее путешествие, заканчивалось трагически в сплошной пелене безымянного подвига.
Страх одиночки на ночной и безлюдной дороге, в то время как по всей стране происходят убийства и террористические акты, а, по сути — идет необъявленная война, то порождал, то трусливо отметал чудовищные фантазии. Но главной среди них был «коридор смерти», в конце которого притаился конец всего, либо всего начало. Впрочем, если отбросить философию, для меня это было одно и тоже.
Ноги несли вперед, а глаза не видели, да и не могли видеть ни конца пути, ни самой дороги. Вот и шел я, с виду, беспечно размахивая руками, но так, что правый локоть терся о рукоять «парабеллума». Шел, понимая, что в новогоднее утро, которое вовсе и не утро еще, а скорее — еще ночь, рассчитывать на попутную машину — просто неразумно.
Военная патрульная машина пронеслась у далекого перекрестка, породив очередную фантазию. Из собственного опыта я знал, следом за фантазиями приходят ожидания. Ох, не доводят до добра ожидания… Ну их! Пусть будет, как будет!
Я нацепил наушники, включил радио, настроенное на станцию «Коль — а — Кинерет». Что нужно в пути, чтобы скоротать дорогу? Конечно же, попутчик, и вдвойне прекрасно, когда попутчиком становится музыка! А еще — звезды в новогоднем небе…
И с каждым шагом все меньше понимал кто я, куда иду и я ли это вышагиваю в кромешной мгле сентября по приграничным дорогам северных Голан, где дыхание войны ощущалось в ночных перемещениях военной техники и особой жизни самих воинских баз. Проходя мимо блокпоста, я помахал часовому фонариком, и он сонно ответил мне, покосившись на мой рюкзак и пистолет, под джинсовой курткой.
В наушниках звучало что–то ирландское. На ум шла другая война. Вспоминался почему–то Ольстер, хотя он был еще дальше, чем далекий теперь Иерусалим. А ведь именно там, в Городе мира взрывались сейчас автобусы и машины, гибли начиненные тротилом и гвоздями террористы, унося вместе с собой жизни евреев, арабов, русских, эфиопов, таиландцев…
Думать не хотелось. Расслабленное тело, предоставленное самому себе, экономно выбирало движения, волочась по направлению к дому, туда, где вожделенная кровать уже распахнула свои объятия.
Мой ум отсутствовал напрочь. Иначе как объяснить, что нормальному человеку тут же бросилось бы в глаза: мой год начинался с весьма странного путешествия.
«Хорошенькое начало!», — поворчал бы я в другой раз, суеверно боясь загадывать: чем это все может закончиться. Но теперь я был далеко. Я дал своему уму отдохнуть. Я взял от него отпуск. И предоставив дорогу телу, выпустил душу проветриться.
Когда тело с пристегнутым животом рюкзака болталось по дороге, а душа воспарила вслед за музыкой к высям небесным, во мне оставался кто–то, кого можно было без всякой натяжки назвать наблюдателем. И этот наблюдатель сообщил мне свои соображения. А, попросту говоря, события нынешней ночи вернули меня из небытия. Нежданно–негаданно явилась бабушка Фира.
…Внезапный стук в железную дверь мошавной сторожки, в два часа ночи, переживет не каждый. А тут еще ты знаешь наверняка, что сейчас встанешь из–за стола, повернешься спиной к включенному телевизору, с беззвучного экрана которого, кривляется, машет, угрожая кому–то, то ли дирижерской, то ли волшебной палочкой, кто–то страшно знаменитый, — и безвольно откроешь эту железную дверь.
С порывом ветра в сторожевую будку врывается охапка сухих сентябрьских листьев, и стая комаров. Но спина чует то, что не видно глазами. Спиной я чувствовал что там, где кривляется, паясничает демонического вида дирижер, есть теперь некто, кого сам я не вызывал, но постарался ощутить безо всякой тревоги.
Предубеждения и суеверие панически звали бежать по пути страха, но то, что я чувствовал, несколько успокаивало меня.
Ведь, явился мне не злобный дух колдуньи. В мою сторожку постучалась память о моей бабушке. И если я сейчас обернусь и не увижу ее, я все равно буду знать, что это она, моя бабка Есфирь пришла рассказать своему внуку о сбежавшей с неба луне, о колдовской ночи, о самой дороге и, быть может, о пути к дому…
Я обернулся, но, как и следовало ожидать, в сторожке, кроме меня и все еще безумствующего дирижера, не было никого. Однако, словно в детстве, я почувствовал ее, бабкино присутствие, проявляющееся непонятным образом в предметах и явлениях природных сил. Теперь я знал, что какое–то время буду находиться под ее опекой. И если уж Есфирь, дочь Моисея, заглянула в этот мир, то уж видно, что не простой это был случай.
Может быть, явилась она напомнить мне о том, как мало я все–таки знал о ней самой, своем деде Леоне, — да и вообще, об отцовской линии?
Быть может, пришла она, чтобы увидел я, понял и что–то осознал из того, что досталось мне в наследство просто так, по праву моего рождения? Может быть теперь, через много лет, оглянусь я без предубеждения на свое детство и то время, когда меня со всех сторон окружали странные люди, от влияния которых хотелось избавиться и поскорее? Может быть теперь, взирая непредвзятым взглядом, наконец–то увижу я то сокровище, которым привычно владел, не осознавая его ценности?..
Изредка, но всегда в охотку, оставался я ночевать у бабушки Фиры. Черноволосая, усталая женщина с пронзительным взглядом смоляных, точно греческие оливки, глаз, была не лишена привлекательности.
Я запомнил ее в широких цыганских юбках, казавшихся жутко тяжелыми, но танцующими при каждом движении. Я засматривался на эти юбки, и тогда она размыкала всегда плотно сжатый рот, чтобы улыбнуться одному только мне. А когда улыбка стекала с ее лица, губы снова плотно сжимались, и в глазах поселялся лед.
Мама побаивалась своей свекрови, потому ходили мы к ней и деду Леону редко, и каждый раз я вымаливал у матери позволения остаться ночевать в скрипучем доме стариков. И когда мама сдавалась, я оглядывался на бабку и видел, как добреют ее колючие, пронизывающие все на своем пути, черные глаза колдуньи.
Потом, многим позднее, я понял, что уступала мама не моим уговорам, а сдавалась под холодящим в жилах кровь, взглядом свекрови.
Сильная была бабка, Есфирь, упокой Господь ее душу. Да и то, справиться с четырьмя детьми и мужем, которого она держала, как сама говорила «в вожжах», сила нужна была необыкновенная.
Мне рисовалась обычная для детского восприятия картина: старая телега с деревянными колесами, и — точь–в–точь как на железных подстаканниках — тройка взбесившихся лошадей, несущихся по мощенной булыжником, еще екатерининской кладки, дороге. А на месте кучера — мой дед, смешно упирающийся ногами в козлы, тянет изо всех сил поводья. И тогда, словно из стихотворения поэта Некрасова, возникала моя бабка.
Почему–то всегда, каждый раз, когда я слышал некрасовские строки о женщине, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», я знал, я был просто уверен, что написаны они о моей бабке Есфири, моей бабушке Фире, которая, именно войдет в горящую избу, а не вбежит. Это она, державшая в одних руках вожжи, сдерживающие моего деда, вместе с конями, что несли его, не разбирая дороги, пьяного, но не от лихости, а от переполнявшей его тяжести жизни, явилась мне этой ночью.
…Мне нравился тот дом. Он был большой, просторный.
Ну и что, что воду нужно носить из колонки?
Ну и что, что туалет во дворе? Это было даже интересно.
Деревянная лестница скрипела каждый раз, когда кто–то из жильцов дома поднимался по ней с ведрами, наполненными водой, или спускался, с такими же цинковыми ведрами, только уже полными помоев…
Мне нравится этот скрип лестницы, мне нравится скрип половиц. Нравится, что в каждой комнате он разный. И я нарочно хожу не по длинным дорожкам ряднушек, которыми устланы полы в доме, а мимо, по половицам.
И то, что вызывает у всех привычное раздражение, во мне порождает восторг первооткрывателя. Нет, ну надо же, — поющие половицы! Наконец, бабка не выдерживает моих хождений кругами, и зовет к себе, на кухню. Кухня принадлежит всецело ей. Здесь она топит углем большую русскую печь, здесь она готовит для всех еду, здесь шьет и перешивает, штопает носки, здесь, у раскрытой форточки, ее младшенькая дочка Майя, читает нам с бабкой волшебную книжку сказок.
Здесь, на кухне, в кладовке, и произошла наша единственная встреча с котом Баюном.
Это был огромный, лохматый кот. Его черная шерсть вспыхивала голубым огнем, и беспорядочные искры, бегали в разные стороны, очерчивая запаленным бикфордовым шнуром силуэт кота–великана.
А когда бикфордов шнур сгорал, происходил медленный беззвучный взрыв. То открывались глаза кота–великана. И, конечно же, он не мог не увидеть меня, ведь сидел я в той же кладовке, верхом на ведре, которое заменяло мне горшок.
Кровь ударила в голову и я, не дожидаясь больше раската взрыва, с криком выскакиваю из кладовки и несусь в бабкину комнату. Я прыгаю под огромную панцирную кровать с железными спинками, на которые накручены хромированные шарики. Я закрываю глаза. Я испугался. Мне страшно. И я лежу, как неживой, и закрытые мои глаза, смотрят теперь не наружу, а внутрь. Они заворожено глядят туда, где снова и снова появляется страх в образе чудовищного кота Баюна.
Борясь со сном, я жду, что вот–вот появится бабушка Фира и прогонит этого злого кота. Но бабушка не появляется, а страшный кот уже насылает на меня дрему, и я незаметно засыпаю под кроватью, так и забыв натянуть спущенные штаны.
…Проснулся я от ощущения чьего–то присутствия. Оглядевшись, я понимаю, что по–прежнему нахожусь в мошавной строжке, которая почему–то обрела очертания давно несуществующего дома. Реальность и сон прошли сквозь меня двумя параллельными потоками, и каждый из них был доступен моему пробудившемуся сознанию.
Я видел себя маленьким пацаном, выбравшимся из–под кровати, и я также как он знал, что бабушка Фира где–то поблизости…
Следом за пацаном я выхожу из темной комнаты на свет, туда, где в звенящей тишине, глядя в окно, сидит на табурете, поджав ноги, моя тетка Майя. Она еще не сменила коричневую школьную форму, с черным передником, на домашнее платье, и кажется мне строгой и красивой.
Майя улыбается мне, а я почему–то опускаю виновато голову и иду следом за мальцом, по направлению к бабкиной резиденции.
Меня всегда удивляло бабкино умение быть незаметной. Она умела исчезать. Исчезнет, словно бы ее нет, а все предметы вокруг как–то сами собою становятся одушевленными, словно вдохнула в них бабушка Фира какие–то сказочные чары. Иногда мне казалось, что эти заколдованные предметы несли в себе не только характер своей хозяйки, но и становились ее глазами и ушами.
Словом, предметы прекрасно замещали ее, создавая эффект бабкиного присутствия.
Не могу сказать точно, был ли воспринят мною горящий электрическими зарядами кот, как бабкино преображение, или нет, но передо мною реально возник не просто страшный кот, а именно Кот Баюн. Тот самый, что сошел со страниц книги, читанной нам с бабкой Майей.
…Кот покинул сказочную книгу с картинками, переложенными пергаментом, и сейчас я знал почти наверняка, что не там, не в волшебной книге, не на странице плотно захлопнутой тяжелой обложкой, находился зловредный кот Баюн, а здесь, рядом.
Он спрыгнул в мою реальность со страницы, переложенной вощеным пергаментом, и теперь зачем–то пугал меня.
… И я снова становлюсь ребенком, что идет, ступая по привычке не на мягкие дорожки, а на предательски скрипящие половицы. И прежде чем переступить порог кухни, в конце которой страшная дверь в страшную кладовку, в которой сидит и зазывает страшным голосом, страшный кот Баюн, — едва дотягиваюсь до выключателя, и те же искры пробегают по электрическим проводам, огибая керамические изоляторы, торчащие из стен ржавыми шляпками гвоздей.
Я не вижу проводов, а только бикфордов шнур, с очертаниями кота. Мы оба — малец и наблюдатель — зажмуриваемся и даже приседаем от страха, но вместо взрыва двух страшных кошачьих глаз, со звоном загорается электрическая лампочка. Уф!
…Лампочка озаряет кухню тусклым, но всепобеждающим светом. Тени страха убегают не оставив и следа, и я сильно захлопываю двери кладовки, стараясь не глядеть в приоткрытую щель. Все! Дело сделано. Подражая кому–то, я как взрослый потираю ладони, и жутко гримасничаю.
Перемещаясь взад–вперед по кухне, я натыкаюсь на ведро с углем, переворачиваю его, а затем поспешно заталкиваю куски антрацита назад.
Подняв голову, я как–то по–особому гляжу на картину, висящую прямо надо мной.
Тетя Майя говорит, что это русский с нерусским сражаются. И, хотя у каждого за спиной по войску, дерутся только эти двое. А мне не понятно: зачем тогда столько народу согнали?
— Кто это? — спрашиваю у бабушки Фиры, выросшей за моей спиной.
— Пересвет с Кочубеем, — говорит она непонятные мне слова, словно заклинание, и идет в кладовку. И я их тихо повторяю, те слова, чтобы запомнить их, потому что они, кажутся мне, преисполненными смысла.
— ПЕРЕСВЕТСКОЧУБЕЕМ, — говорю я, запоминая их навсегда слитно, а рядом уже так и останется теткино: «русский с нерусским сражаются».
— Бабушка, а я кто — Пересвет? — спрашиваю я.
— Нет, — говорит она, — скорее — Кочубей.
Но как же так? — не понимаю я. Мне обидно, что я — страшный кочубей, с которым сражается весь пересвет.
— ПЕРЕСВЕТСКОЧУБЕЕМ, — твержу я как урок бабкино заклятие, не желая становиться кочубеем, сражающимся со всем пересветом.
— Я не хочу! — со слезами на глазах кричу я бабушке Фире.
— Никто не хочет, — говорит она, и зачем–то добавляет:
— Старость не радость.
А я, уткнувшись в подол ее цыганской юбки, молча соглашаюсь, потому что радость не может быть старостью. Ведь старость — это что–то совсем другое. А радость — так она и есть радость.
Думая об этом, я забываю о картине, где пересветскочубеем сражаются не на жизнь, а насмерть, и пристраиваюсь к бабке сзади, прячась за ее широкой юбкой. Мне очень надо заглянуть в кладовку с котом, которая почему–то оказывается пустой…
Я давно покинул свое убежище, словно малец, вылезший из–под кровати. И теперь медленно, шаг за шагом, точь–в–точь, как это происходит во сне, перемещаюсь туда, куда влечет меня помимо собственной воли. И пусть, порой, мир обретает черты воинствующего Пересвета, пусть за спиной Кочубея сгрудилось бессмысленное войско, я знаю, что у перекрестка трех дорог, повстречаю исчезнувшую с неба Луну.
И точно Кот Баюн, нашепчет мне она о том, как любил я топать по старому бабкиному дому и слушать мудрые сказки, ничего не боясь из того, о чем скрипели мне поющие половицы…
Быть может, именно затем и явилась в эту сентябрьскую ночь праздника Рош–а–шана, моя бабка. Пришла, чтобы придержать меня, злобно пьянеющего от военной дороги, явилась осадить во мне хмельной напор деда, превращающего любую накатанную колею, в бездорожье. Быть может, явилась она, чтобы наподдать вожжами, и разбудить меня, освободив от старых чар кота Баюна, опутавшего мою жизнь вещими, но все–таки, снами, рассказанными моей теткой Майей…
4. НЕОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА
…Скандал вспыхнул как–то на ровном месте. Мужу захотелось женской ласки, а жена в субботнее утро оказалась уже на ногах. И не просто встала, но сбросила с себя очарование утра и погрузилась с головой во вчерашний день, полный суеты, забот и… творческого вдохновения. Это была ее духовная работа. Проявлять дух через творчество.
Сейчас она сидела за начатым холстом и пыталась воссоздать нечто неуловимое, что вчера она ощутила, но зафиксировать на холсте еще не могла. И вот такую ее застал муж. Вместо того чтобы наслаждаться свежестью этого утра, жена устремляла свое сознание куда–то туда, где не было уже, ни самого утра, ни его очарования, ни того, кто выдохнул его в тот миг.
А настоящая жизнь, по мнению мужа, заключалась именно здесь, в их отдельно снятом домике под оранжевой крышей, где он иногда изображал из себя писателя, а жена — художника. И дело было не в том, что оба они были людьми творческими, что представляли свою близость как возможность постижения любви в более высоких сферах, а в том, что, именно сейчас на них щедро обрушивались потоки той самой любви, как подарок посланной в наш неуютный, безрадостный мир.
Он закрыл глаза и прислушался к тому, как откликалось его тело на игру тех потоков. Казалось, весь организм изошел в сладкой истоме. Но мысль ловко опередила реакцию тела, и то уже подчинялось неведомой силе, что переполняла собою этот момент. Расслабления не происходило. Вместо него свершалась какая–то ужасная трансформация.
Мысль оторвала мужа от самого момента и породила собою иллюзию другого мгновения, следующего туда, где в любовной игре наслаждались друг другом двое. И в той иллюзии, в несуществующем мгновении, эти двое становились чем–то одним, кем–то единым…
И тело его напряглось. И руки сжали стеганое одеяло, чтобы по команде отбросить его. И ноги уже ощущали прохладу мраморного пола, а расслабленный, как у Будды живот, точно щитом черепашьего панциря прикрылся буграми мышц. Он готов был предстать во всей своей красе. Предстать перед той, с кем хотел разделить свою радость пробуждения в солнечном мире. И жезл тантрического воина вывел его к ней.
А жена сидела в салоне на ковре, уставленном подносом с кофе, пепельницей, переполненной окурками, полупустой пачкой сигарет, зажигалкой, тюбиками масляной краски, белилами и банкой с кистями, залитыми вонючим растворителем.
Перед ней стоял холст с картиной, которую, вот уже не первый год, пыталась завершить эта удивительная женщина, неосознанно совмещающая в себе талант художника и мистика.
Муж все еще с нескрываемой нежностью смотрел на ее полуобнаженное тело, а в нем, казалось, так и застыло нереализованное ожидание того, что уже нарисовало его живое воображение.
— Привет! — кивнула ему женщина, едва оторвав взгляд от холста. — Доброе тебе утро.
— Доброе утро, — еще улыбаясь, произнес мужчина, наблюдавший за сменой собственного настроения. Теперь он, кажется, начинал жалеть себя. Да, он жалел себя. Жалел за то, что в это прекрасное солнечное субботнее утро, его жена оказалась не с ним. Что момент очарования испарился, а на смену ему явилось нечто неприглядное, что с каждой минутой приобретало все более уродливую форму обиды — венец разочарования собственными фантазиями.
Все еще сопротивляясь надвигающейся катастрофе, он подсел к ней и губами попробовал ее прохладное плечо.
— Пожалуйста, ты мешаешь мне. — Сказала женщина. — Я должна это закончить.
Это было последнее, что зафиксировалось у него в памяти. Не было уже ни неба, ни утренней тишины, ни тихой радости, ни легких ощущений чуда. Черная туча обиды поглотила его, наслав туман раздора и отчаянья.
А когда туман рассеялся, и окно позвало его через чистоту умытого дождем утра взглянуть на ясное небо; когда гроза уступила место явившейся из, Бог весть каких глубин мирозданья, тишине, а сердце все еще колотилось в пылу недавнего сражения собственных желаний, он понял, что проиграл.
Его внимательный взгляд был снова обращен в себя. Нет, не было ему ни уютно, ни вольготно на этом поле брани, с которого в открытую дверь вышел в свой неповторимый мир художника воин–победитель. Его жена.
Глядя на сотворенный им же хаос, мужчина впервые ощутил свое одиночество. Острая боль пронзила его солнечное сплетение, словно бы он наткнулся на острый обломок разломанного подрамника, с которого, точно с ветки дерева, был сорван лист уже помертвевшего, увядшего холста, так и не ставшего картиной…
И сейчас, где бы я ни был, я с любовью и радостью воскрешаю в себе все ту же картинку:
Опущенные жалюзи, за которыми бушует новое утро, придают ее комнате тот необходимый сумрак, в котором зажженные женой свечи еще сильней подчеркивают рассеянные по сумраку лучи солнца.
5. ВЫХОД ИЗ ЕГИПТА
Жена застыла в медитации, а я вышел на кухню. Первое марта. Первый день весны. Это теперь я сожалел, что не купил цветов… А тогда я стоял у цветочного базара, скреб подкладку пустых карманов куртки и думал о невыплаченном мне пособии прожиточного минимума, о неоплаченных мной счетах за квартиру, свет и телефон, не говоря об алиментах. Словом, тогда я думал о чем угодно, лишь бы побороть в себе вспыхнувшее чувство безрассудства.
А как хорошо было бы, если бы в сегодняшнее утро первого весеннего дня, в ее жизнь, жизнь дорогого мне человека, вошел бы цветок хризантемы. — Я бросил взгляд в комнату, где дорогой мне человек впервые, за много дней, почувствовал себя именно человеком.
Опущенные жалюзи, за которыми бушевало утро, придавали комнате тот необходимый сумрак, в котором зажженные женой свечи еще сильней подчеркивали рассеянные лучи солнца. Жена сидела посреди нашего двуспального некогда ортопедического матраца, укрывшись одеялом с головой, но так, что нос и рот оставались снаружи. Рядом с ней горела свеча, на которую наткнулся, словно мотылек, солнечный луч.
Маленькая радуга сияла над кристаллом кварца. Казалось, что это камень породил радугу, едва лишь впитал в себя свет солнца и свечи. Из комнаты едва долетал до кухни ленивый голос флейты, вслед за которым, так же лениво, тянулся дымок благовоний. Цветов явно не доставало.
Было стыдно за себя, знавшего, что под карманами куртки есть еще карман, в котором я хранил заначку — полсотни шекелей.
Израильская зима в этом году оказалась холодной, дождливой и затяжной. Обмелевший за десять засушливых лет Кинерет жадно насыщался водой, а гора Хермон плотно укуталась в снежную шубу.
Мокрый запах снега долетал и до нашего городка, который затерялся в буйной, нетерпеливо спешащей жить зелени запоздавшей весны.
Этот город я называл Городом магов и мастеров.
Для меня и тех, кто понимали, о чем речь, не было в этом названии ничего необычного. Я и сам себя видел колдуном, носящимся из мира в мир, и то и дело таскающим за собой контрабандой то прежние свои стихи, написанные в ту эпоху, когда процветали не только рыцарские поединки, но и поэтические турниры; то знания и вещи, принадлежащие мне, но принадлежащие мне в будущем…
Словом, моя неосознанность подвергала меня всевозможным испытаниям, обильно сыплющимся на мою голову, как из Рога изобилия.
Порой, я задаю себе вопрос: «Боже, зачем ты все это наворотил»?
И сам себе отвечаю: «А чтобы не спал на морозе — замерзнешь».
Возможно, что для окружающих я и был кем–то вроде колдуна или мага, от которого одни хоронились, другие безотчетно искали встречи, только сам я точно знал: я очень быстро устаю быть человеком, а потому, становлюсь кем–то иным, кто с высоты своего сознания помогает сохранить человеку человеческое достоинство.
Но едва я выкарабкиваюсь из очередной жизненной ситуации, как расслабляюсь, засыпаю, забывая, что сам по себе ничего не значу.
И в этом своем сне я с восторгом играю энергиями, я меняю реальность и создаю миры.
Я соперничаю с Творцом, — и во мне отсутствует сомнение. Какое сомнение во снах?
Я запросто демонстрирую свою силу, я изгоняю духов, я становлюсь воином и тогда в пылу битвы, на краю, где кончается жизненный прилив, а смерть уже застыла в начальной тишине отлива, приходит ко мне новое пробуждение.
Да, понаставил ты мне, Господь, будильников на моем веку.
Чтобы избегать крайних мер я придумал для себя другой вид вхождения в осознанность. Не скрою, такому пробуждению обязан я магии. И то, что на пути восхождения к самому себе, мне приходится обращаться к некогда тайным магическим техникам, сохраненным в разных религиях, меня это нисколько не смущает.
Алхимическая формула придумана не мной, и не мне ее менять.
Пакетики «Липтона» — в чашки. На поднос кладу пепельницу, пачку «Ноблеса», зажигалку. Заливаю кипяток. Окидываю взором кухонный стол: ничего не осталось лишнего?
Я готовлюсь к творческому акту, словно бы усаживаюсь за бортовой компьютер, чтобы писать, пока, это будет возможно, описывать то, что еще способен описать.
Я сяду за компьютер, чтобы свалиться с кресла и рухнуть на пол, от невыносимой боли в позвоночнике.
И эта боль мне — новый сигнал будильника: новое пробуждение в мире осознанности. И не окажись в бортовом компьютере моих собственных переживаний, сложно было бы понять: где это я и я ли это.
Неслышно вхожу в спальню и ставлю поднос рядом с женой. Подкуриваю сигарету, надеваю на шею кулон с обсидианом, беру свою чашку и ухожу в кабинет, к компьютеру, чтобы записать вытащенные из прошлого стихи.
Ты посмотри, какое утро! Ты утро силы нам утрой. В душе удачи ощущенье Разделим пополам с тобой. И это нежное свеченье, Снежинок томное вращенье, И… благосклонная зима Нам дарит грехоотпущенье…Стихи были из того времени, когда я, студент советского ВУЗа, мечтал о Литературном институте, и писал стихи даже во сне.
И не успел я подумать о том, что не спроста же я запомнил именно эти стихи, как словно лазутчик явился в свое прошлое.
Это было то самое прошлое, где инженер из меня получился, скажем, прямо — не Бог весть какой.
Зато поэт получился одиозный. И даже капризный.
Своенравный был поэт. Обидчивый.
После института получил направление в Харьков, но сбежал оттуда.
Устроился слесарем на металлургическом заводе. Триста рублей зарабатывал, а тут меня как–то в отдел кадров вызывают.
Ты, мол, молодой специалист, а работаешь простым слесарем.
Мы тебе костюм дадим, и галстук повяжем, и платить будем, аж сто пятнадцать рублей!
А я им: мне и так не плохо — без галстука и без костюма.
И зарплата выше, и отвечаю только за себя.
Нет, говорят мне старшие товарищи. Тебя не для этого страна учила. Иди, работай, где говорят.
И стал я изображать из себя конструктора. Пока американский экскаватор в доменную печь не уронил.
Ты посмотри, какое утро! Ты утро силы нам утрой. В душе удачи ощущенье Разделим пополам с тобой. И это нежное свеченье, Снежинок томное вращенье, И… благосклонная зима Нам дарит грехоотпущенье…Едва я записал эти стихи на бланке ремонтных работ, как в вагончик, именуемый Штабом, где инженеры–наблюдатели, к которым в то время принадлежал и я, предпочитали проводить ночную смену, вошли несколько рабочих в сопровождении инженера монтажного участка. Из разговора я понял, что рабочие настаивают на присутствии инженера на существующей стадии ремонта.
— Пойдешь? — спросил меня пожилой инженер.
Я пожал плечами, высказывая вслух ту радость, которая может последовать на предложение оставить теплый, уютный вагончик и выйти в только что описанное в стихах морозное утро.
Я зябко запахнул полы брезентового плаща, чей капюшон никак не желал натягиваться на кроличью ушанку, и распахнул двери вагончика, приглашая рабочих на выход.
— Да посиди еще, — сказал пожилой инженер, — есть время.
Но посидеть не удалось.
В распахнутую дверь ворвался личный шофер нашего начальника.
— Американский экскаватор в печь уронили, — смеясь, сообщил он. — Все уже здесь. Ищут, кто проектировал траверзу для спуска краном.
На душе моей похолодело.
Еще не веря в то, что это моя траверза загубила американский экскаватор, я спросил шофера: — Пострадавшие есть?
— А как же! — весело отозвался он. — Экскаватор и пострадал. Вытащить его из печи невозможно, да и нечего уже вытаскивать. Шеф распорядился: порезать то, что осталось автогеном, и пустить на переплавку.
Тайная надежда, что экскаватор можно вытащить из доменной печи, растаяла под огнем газорезчика.
— Пострадавшие еще будут, — мстительно подал голос кто–то из рабочих.
— Можете не сомневаться, — пригасил возбуждение рабочего пожилой инженер, — проектировщик — это всего лишь бумага, чертеж. А есть еще и те, кто подписали эту бумагу к исполнению. Подписали чертеж своими именами и фамилиями…
— Они тоже пострадают? — спросил я, понимая, как глупо звучит мой вопрос.
— Комиссия разберется, — продолжал почему–то веселиться шофер шефа. — Верно, товарищ Берия?
Он смеялся, рабочий злился, пожилой инженер заваривал чай, а я казнил себя, становясь безжалостным прокурором. Но как только мои мысли приближались к моменту определения меры наказания, как мой внутренний прокурор превращался в изощреннейшего адвоката, и уводил высокий суд в дебри спасительной — во имя души — схоластики.
… — Вот так я попал в театр, — смеюсь я вместе с моими гостями, всплывшими, Бог весть, откуда, в канун Песаха, попутчиками и героями моего настоящего сюжета.
Во дворе все того же домика, снимаемого мною за двести двадцать долларов, на бетонной площадке среди буйной травы, ухоженных кустов розы, нескольких стрелочек льна, и маленького душистого кустика конопли, готовилось пиршество.
Все та же весна, звала нас куда–то, а полная луна месяца нисана, взывала к осознанию.
И приходила какая–то уверенность, что, не взирая ни на что — это случилось!
Мы сделали это. Мы вышли из своего Египта.
Каждый вышел по–своему. Кто как умел. И потому — в пасхальный седер заповедано молодым евреям слушать рассказы своих отцов.
Но до начала праздника еще ночь осознания и весь день. И не кому–то, а самому себе, хочется устало, но не без гордости сказать: парень, ты вышел из своего Египта… По крайней мере, ты повернулся к нему спиной…
Я оглянулся. Жены рядом не было.
Ну что ж… ей тоже, есть о чем подумать на кануне. Таков уж этот день.
А точнее — ночь новолуния. Каждый там, где он должен быть.
И не надо пытаться понять почему: так надо. И если кто–то еще пребывал мыслями в своем Египте, то я оказался среди людей, которые везде чувствовали себя дома.
Последним предпраздничным ужином занимался, непонятно как, и из каких миров, явившийся гость.
И привезенная моим гостем Шаем из арабского, бывшего русского магазина «Книги», баранина, готовится на раскаленных огнем углях. И купленная им водка «Абсолют» стынет в морозильнике.
Сегодня я гость на его ужине. И я гляжу в слезящиеся глаза кавказского шамана, в чьих жилах течет кровь мудрецов Иудеи, и вижу то, как он священнодействует над жертвенным бараном, тем самым бараном, чью плоть вот–вот поглотит огонь наших желудков.
Но прежде Шай насыплет много перца, соли и польет мясо уксусом — да помогут они желудку принять эту жертву…
Дым разъедает глаза и заполняет собою дом.
— Как тихо тут у вас! — удивляется Шай, на мгновение, прерывая свой магический процесс.
— Мне нравится, — говорит он с сильным кавказским акцентом. — Я грешник и места тихие люблю.
Я смотрю на этого грешника с лицом разбойника, и мне он почему–то люб.
Может быть, его визит в мой дом потому и стал возможен, что встретились мы с ним не через парадный вход наших личностей.
В его руке оказывается маленькая бутылка с насыщенным солевым раствором, которым он сбрызгивает мясо.
Клубы дыма, сопровождаемые треском расколовшихся кристаллов соли, скрывают на какое–то время этого удивительного, странного, понятного и непредсказуемого человека.
А когда дым рассеивается, то я вижу себя в арабской деревне среди людей, сидящих в машине и терпеливо ждущих травы.
И пока один из них — Петя — ведет с кем–то переговоры по мобильнику, мы с Директором взираем на Шая.
— Смотри, как Петя хорошо сохранился! — кричит, слегка покашливая, Шай. И уже только для нас:
— Тринадцать лет за три ходки.
Петя слышит и оскаливает рот в улыбке. Золотая фикса вспыхивает дьявольским огнем. Петя поворачивается к нам спиной доходяги, продолжая односложно вести с кем–то переговоры: «НУ!».
— Тюрьма консервирует людей, — заключает Шай. — Внешне сохраняет, а изнутри разъедает совсем…
— Офигеть, — протяжно пропел мне на ухо Директор, — продюсер и русский писатель посреди арабской деревни в одиннадцать часов ночи в поисках отравы. Вы будете это описывать, Анатолий? Что скажешь, Шай?
— Мы у себя дома, — с сильным кавказским акцентом произносит Шай. — Это, Саша, моя территория.
— Вот он! — Петя захлопывает дверцу машины и обращается к Директору. — Езжай за тем пацаном.
Фары выхватывают из темноты сонную физиономию малолетки.
Деревня утонула во мраке. Редкое явление, когда в населенном пункте можно рассматривать звезды. Но не звезды рассматривать явились мы сюда. Нам сейчас важно, чтобы этот молодой араб не скрылся где–нибудь в сарае с нашими шекелями.
Фары пристально всматриваются в темноту, высвечивая перед нами фигуру подростка, прикрывающего глаза от слепящего света.
Подросток издали машет нам рукой с мобильником, и указывает направление движения.
Когда машина выехала на погребенный мраком пустырь, арапчонок снова возник в лучах фар.
— Са ахора, — произнес он, и Директор стал сдавать назад. — Од, од, од типа. Ацор! — Командовал подросток.
Машина оказалась у одиночного куста, в который ткнул рукой арапчонок, извлекая огромный веник, обернутый посредине газетой.
— Беседер? — спрашивает малолетка у Пети. А тот перенимает в свои руки конопляный веник, и свирепый оскал перетекает в некое подобие улыбки.
— Беседер, — отпускает малолетку Петя, сверкнув для острастки зубом. — Но смотри!.. Паам аба!
— Ийе беседер! — весело заверяет Петю арапчонок, нисколько не боящийся ни Пети, ни его угроз. — Ийе тов!
А веник уже гуляет по машине. Каждый оценивает количество и внешний вид товара.
Веник огромен. Не менее килограмма. Хранился, и это видно по перьям и помету, в курятнике.
— Я его маму жевал! — Восклицает Петя. — Такой херни еще не было ни разу.
— Да, — соглашается Директор, — шесть часов потратили, чтобы накуриться отравы. А еще назад выбираться.
— Едем ко мне, — говорит веско Петя, и мы едем к нему, нам всем необходим праздник.
Вот и арабская деревня уже за спиною, а наше приключение еще только начинается.
В предбаннике, отделяющем входную дверь от салона, работает телевизор. Но никого сейчас особо не интересуют российские новости.
Рывок за травой оказался таким резким, что даже перезнакомиться не успели. Просто, заскочив за травой в этот город, мы с Директором были вовлечены в жизнь Шая.
Несколько часов мы мотались по городу в надежде накуриться. И очень разборчивая судьба капризно подбирала участников этого события.
Судьбе угодно было, чтобы я сегодня покурил в кругу именно этих людей, собранных Шаем. И теперь, отвалившись от трех банок, я молча улегся на полу. Впервые за несколько дней меня отпустила боль.
— Спина не держит, — пояснил я Пете, и он сочувственно кивнул, подкидывая от себя несколько хороших конопляных головок в мой пакетик.
— Ухудшение после операции на позвоночник, — заученно, как приговор, произнес я и добавил, — Боржом пить поздно.
— Анатолий писатель, — говорит Директор своему дворовому товарищу по Баку Шаю. Шай и Петя молча переглянулись.
— Это мы из Цфата все никак не доедем, объясняет Директор, а в это время Петя весьма пристально рассматривает его светлую рубашку и темные брюки на поясе.
Дорогие туфли. Модная прическа. Гладко выбрит, — словно сканирует Директора опытный Петин глаз и, признав за своего, перекинулся на меня.
— Анатолий подавал документы на инвалидность в Битуах Леуми. — Продолжает Директор. — По дороге несколько раз останавливались. Он вставал, разминался, прохаживался, лежал… Ахуеть!
Петя набивает баночку и протягивает ее мне.
— Нет, — говорю я. — Мне хватит. Уже хорошо.
Я встаю с пола свежим, отдохнувшим человеком и улыбаюсь Пете. И Петя перенимает мою улыбку, и кивает на меня Шаю, и говорит: «Вот это люди. Не то, что мы».
Он кивает головой и поясняет мне:
— Эти не разойдутся, пока пятьдесят грамм не скурят. Шай согласно кивал, основательно набивая травой длинную, как кларнет папиросную гильзу.
В дверь постучали. В комнату вошел какой–то марокканец.
— Ну?! — Спросил у него Петя и протянул мне мой пакет с травой. Я спрятал пакет под рубашку и вышел на улицу. Следом за мной вышел и Директор. Вы довольны, Писатель? Едем домой?
— Едем, — вздохнул я облегченно, и включил мобильник. Тут же раздалась трель. Звонила жена.
— Ты собираешься домой или нет? — спросила она. — И вообще: у тебя есть совесть?
Что я мог ответить ей? «Не волнуйся, мне хорошо»?
Или: «у меня не болит спина, потому что я покурил травы, на розыск которой ушел целый день, а теперь, судя по твоему тону, накрылась медным тазом и предназначенная для любви ночь»?
А может быть, нужно было рассказать ей о нашем наскоке на арабскую деревню?
Нет, она всего лишь хотела знать: есть ли у меня совесть? И я сказал что есть.
Но она не поверила.
— Есть шансон? — спрашивает меня Шай, и я киваю, ставя диски с французами, но Шай смотрит на меня непонимающе и снова просит: — Поставь шансон, а?! Кричевский есть?
Я захожу в дом, где суетятся, готовя к мясу салаты, очаровательные малышки, подружки моих новых знакомцев.
Вчерашние школьницы, они мечтают о шоу–бизнесе, как о красивой жизни, и украшают собою любые тусовки молодого и красивого мужчины, которого, как и они, я теперь называю Директором.
Это время нельзя было назвать лучшим в жизни Директора. Как–то вдруг он оказался не у дел, и, стало быть, без средств к уже привычному, безбедному существованию…
Он, словно Бендер наших дней, готов был идти за золотым Тельцом. И почему–то решил, что этот теленок — я.
Я и сам был не прочь вырваться из унизительной бедности. И так же, как Директор, рассчитывал использовать мои связи, а вернее связи моих братьев, в мире российского бизнеса, так и я в некоторой степени связывал свое будущее финансовое благополучие с его опытом плавания по зеленому морю израильского шоу–бизнеса.
Дело оставалось за малым. Я должен был представить братьям «товар», которым владел Директор. Но это было не главное. Предлагая им поучаствовать в проекте, я просил у них денег, а денег на ненужный им проект давать они не хотели. Поэтому велись долгие затяжные переговоры по телефону, когда я из Израиля доставал их где–то в Украине, на строительстве собственного игорного дома.
Все свободные деньги, по словам братьев, были вложены в строительство, а строительство приостановлено из–за того, что кто–то на самом верху уже захотел войти в долю, но для начала применил власть: показал свою силу.
Словом, им мои проблемы до одного места. У них своих полон рот.
Наша с Директором концессия разваливалась на глазах, но надежду на то, что однажды раздастся спасительный звонок из Украины, мы оба пока еще не теряли.
Оказывается, Шай приехал в Кацрин жениться.
Он в свежей, выглаженной белой рубашке и сером, несколько старомодном костюме. В дорогих, но неуклюжих — по последней моде — ботинках.
Черные, лаковые, с длинными и тупыми носами, загибающимися вверх, эти ботинки больше чем что–либо другое говорили мне о той гремучей смеси, что гуляла в крови этого жениха.
— У вас невест много? — интересуется Шай, покончив с готовкой мяса.
Он усаживается за широкий стол, сразу же возглавляя застолье и заполняя собою все пространство в округе.
Он шумно весел, он в ударе. Он ведет себя так, словно хочет понравиться невесте.
И хотя невесты нет и вряд ли, когда и появится, но она, все равно, как будто бы есть для Шая. Только она незрима. А так — все девки невесты!
И эта игра нравится ему и нравится она всем, потому что человек приехал с серьезными намерениями. Жениться.
Мы сидим с захмелевшим Шаем у разоренного стола. Мы ночь напролет, говорим о Боге.
А начали, как и ведется, с разговора о понятиях. Так мы вернулись к разборке, участником которой случайно стал я.
Криминальная разборка на «русской улице» Кармиэля. И втирал «соплякам» «по понятиям» не кто иной, как Шай.
А сопляками были не просто обнаглевшие малолетки, а уже мужики. Те самые быки, что не заметили, когда в телятах проходили. Быки, которые, как жестокие дети ранят живых людей, демонстрируя свою недюжинную силу русских богатырей.
Я видел молодого мужчину, бывшего мастера спорта международного класса по борьбе, который, как нашкодивший мальчишка держал ответ. И даже не перед Шаем, а перед своим двором. Тем самым двором, что дал ему прозвище Красавчик, хотя мог прилепить и Отморозка.
Шай объяснял Красавчику, что кроме него в городе, живут и другие люди. Покруче его, Красавчика. Он говорил, что здесь живет он — Шай, которого тоже не устраивает тот экшен, который «этот мастер спорта устроил мне тут в городе!»
Шай был не против того, чтобы тот, сидя дома, тихо смотрел свой «Криминальный Петербург». Но Шай был против того, что этот красавец привнес в мирную жизнь бандитов, ушедших на покой, криминальный Петербург, невероятным образом сошедший в Израиле с телеэкрана.
Теперь же Шай втолковывал красавцу, промышлявшему, ради богатырской удали, ночными разбоями с применением армейского оружия и техники, что это значит: «жить по понятиям».
Он безжалостно предъявлял штрафы и устанавливал сроки оплаты.
И я видел, как боялся Шая Красавчик.
И я видел уважение на лицах трех других головорезов, приехавших на крутую разборку.
Одним косяком своего волшебного кларнета, этот человек разыграл великолепный спектакль, в котором против своей воли играли люди, назначенные им на роли жертв…
И этот человек был сейчас у меня в доме, и мы говорили о понятиях, уголовных кодексах и о Высших Законах.
Говорили о том, что соблюдай человек все Высшие законы, оно, глядишь, и государственные будут ни к чему.
Шай ходил в синагогу, соблюдал шаббат, и, верил в Бога, как в пахана.
На том его еврейство переходило в язычество уголовных понятий, и варварских обычаев.
Но на вопросы, которые возникали в нем самом и не давали покоя, не мог ответить ни его варвар, ни язычник, ни иудей…
— Ну, как дела? До чего договорились? — Спрашивает Директор, вызванный нами поутру по телефону из теплой постели от жены, ребенка и отцовских обязанностей.
И Шай, затягиваясь очередным кларнетом, резюмирует наш ночной разговор.
— Дядя Толя, — говорит он, прищуривая орлиный глаз, и вкусно щелкая языком, — не хочет жить по законам. И знает как…
6. НОЧЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
Как заказывал, так оно и получилось. Свалился я.
Сломался. Не выдержала спина электрического напряжения. Упражнения Кастанеды по перемещению внутренней энергии пришлось оставить. И как видно, на долго.
Рухнул я.
В буквальном смысле упал.
Боль в спине перекрывала дыхание и заставила сжаться мышцы в паху так, что извлеченная из промежности застоявшаяся энергия разрывала тело пополам. И новая волна боли вырывала меня из той реальности, в которой моя плачущая от страха жена, кинулась в поликлинику, за необходимым для вызова Скорой помощи, врачебным направлением в больницу Цфата.
Я мало что помнил.
Помнил только всепоглощающую боль и судорожную тряску тела, когда зубы стучали друг о друга, и хотелось только одного: закрыть глаза, чтобы не видеть свою боль, отраженную в глазах жены, водителя и медсестры Скорой помощи, вызывающих на помощь команду пожарных.
Помню растерянные лица этих парней, извлекших меня из дома на какой–то доске через оконный проем.
Помню тепло рук Иры. Помню ее непоколебимую веру в то, что все обойдется, пришедшую на смену моему: «все, допрыгался, колдун недоделанный».
Это потом я осознаю всю степень опасности своего тогдашнего положения. Это потом, свое непостижимое выздоровление, я назову чудом и узнаю, что моя встряска совпала с природным катаклизмом, когда трухнуло нас обоих: меня и Северо — Анатолийский разлом. И если разлом трясло как следствие на только что завершившуюся Иракскую кампанию, то о себе я знал, только то, что меня трясло от болевого шока. Что–то очень болезненное происходило в мире, что–то очень болезненное вершилось в моей судьбе, и эта боль как бы делала меня соучастником событий, которыми жил мир, на какое–то время оставленный моим вниманием.
Можно ли сказать, что боль вернула меня к жизни? Наверное, нет. Но эта, уже пережитая в физическом плане боль, помогла мне справиться с другой, не менее разрушительной болью — душевной.
И вот я снова вернулся в мир. И я снова в нем один.
Свободный человек. Один в трехкомнатном коттедже. Я слушал Демиса Руссоса, слонялся из комнаты в комнату и мечтал о рабстве.
Конечно, легко на праздничном ужине рассказывать детям о том, как народ вышел из Египта. Гораздо сложнее осознать, что ты пока еще не с теми о ком ты говоришь, как о народе.
Ты, оказывается, еще не вышел из своего собственного Египта. И ты еще раб. Но ты уже на пути к своему освобождению. И это уже не мало.
Но почему так получается: в своем пути к самому себе, я все дальше и дальше от той, к которой прикипел всем своим сердцем.
Настолько я прочувствовал ее своей, что, порой, мне казалось: она и была мною. Только это было не так. Это не могло быть так. Она не была мною и никогда не стремилась стать. Она была сама по себе, и у нее была своя собственная жизнь…
И эта ее жизнь тоже нравилась мне…
Но как, как я мог выйти из своего собственного Египта, если не мог уйти от этой своей такой привлекательной привязанности?
Мне проще было покинуть этот мир, чем представить себе, что когда–то это я должен буду уйти от своей единственной, неповторимой женщины, своей любимой героини, воина и чародея, жены и возлюбленной. Что?
А теперь вот она ушла от меня.
Ушла после того, как при помощи своей любви и магии кристаллов вытащила меня из больницы.
А волшебная музыка Демиса все вливалась и вливалась в уши, наполняя сердце светлой печалью, а я все ходил и ходил по пустым комнатам, и выглядывал в окно, и смотрел, как растет мой кустик, и может быть, впервые за несколько дней, в пришедшей душевной тишине, мне посчастливилось осознать последние события.
Я прислушивался к той тишине, что стояла за переливающимися мелодиями Демиса, я прислушивался к своей внутренней тишине, которая означала не только то, что меня оставила моя прежняя жизнь, но и то, что впереди предстоит все та же жизнь, которую мне уже сейчас хотелось назвать своей.
И начиналась она, как и положено жизни, с чуда.
«Что случилось?» — спрашивают друг у друга евреи в пасхальную ночь, и рассказывают соседям и друзьям о пережитом чуде.
«Что случилось?» — спрашиваю я себя. И сам себе отвечаю: «Случилось чудо».
Месяц нисан, конец апреля. Больница Цфата. В палате трое: араб–христианин — строитель, йеменский еврей — бывший полицейский, и я — ни то, ни се.
У каждого — своя история. Об арабе я знаю из рассказа мента–пенсионера, что ему сорок лет, что он христианин и что на днях у него умер отец.
Красивое, гладко выбритое лицо сорокалетнего мужчины украшали глаза. В них читалось столько боли, что смотреть в них, было порой невыносимо.
Но еще была причина, по которой я не мог долго выдерживать его взгляда. В нем присутствовало то, чего всегда недоставало мне — смирение.
Сидя на коляске, при помощи которой он перемещался по палате, мой новый знакомый сообщил мне о смерти своего отца.
«Пришел в йом шиши в больницу проведать меня. Красивый пришел. Выбритый, в белой рубахе, пиджаке.
Побыл у меня часа два. Приехал домой. Выпил стакан воды из холодильника. Сел в кресло и умер».
Говорил он об этом событии как–то необычно, светло говорил он о факте смерти. И то, что его отец умер именно так, порождало в его взгляде дополнительную глубину, так необходимую для личного переживания смерти.
В том взгляде не было ни страха, ни паники, а читалась некая гордость, преисполненная достоинства печаль о близком ему человеке.
И если это вызывало во мне к нему симпатию, то непрекращающиеся ни днем, ни ночью посещения его родственников, соседей, знакомых и незнакомых, не знающих ни чувства меры, ни такта, мягко говоря, утомляли не только меня.
Компанейский йеменец, болтавший легко по–арабски, к полуночи начинал выскакивать из палаты, и требовать у медперсонала «освободить его палату от посетителей, мешающих ему полноценно выздоравливать».
Но к восьми утра палата снова набивалась визитерами, и йеменец снова помогал своему христианскому приятелю принимать многочисленную армию его гостей.
Я же, скрывался от них за тряпичной шторой. Задергивая ее, я как бы проводил границу, утверждая свое право на автономность. Такой мой жест нисколько никого не смущал, и только лишь у меня самого возникали всякого рода неловкости.
Наконец, найдя в себе силы кое–как укрыться одеялом, я закрывал глаза и начинал медитировать на звуки.
Голоса восточного базара, раздражавшие меня, куда–то утекали, а на смену им приходила человеческая речь. Эта речь теперь воспринималась мною, как часть тех природных звуков, что окружали меня в мире, сузившимся до размеров одной больничной палаты.
Я больше не вслушивался в их речь. Она была обыденна, сладка, слегка чудаковата, и переполнена смехом и тревогой.
Их речь бушевала будничными заботами повседневности. И тогда она становилась понятным мне фоном, ничем не отличающимся от фона моей жизни, с той лишь разницей, что все это происходило на фоне моей собственной боли.
Боли, на которую нельзя было даже злиться: она была непременным условием моего нынешнего существования. Того самого существования, что привело меня в эту палату, где я лежал обколотый обезболивающими препаратами, напичканный наркотиками, в окружении волшебных камней и кристаллов, оберег, талисманов и крестиков, принесенных мне в помощь женой, и выставленных на тумбочке.
Казалось, все составные на месте, но боль по–прежнему не отступала, заставляя сомневаться как в самих предметах, так и в силах, которые за ними значатся.
Похоже, мне чего–то недоставало. Что–то было не осознанно мной. Что–то упущено. Упущено такое, без чего не возможно было запустить алхимическую реакцию, где сам я должен был выступить лишь в качестве одного из ингредиентов.
«Не хватает любви?» — спрашивал я себя, прислушиваясь к своему состоянию.
Да нет. С любовью все обстояло превосходно. Я любил жену, детей, близких… Любил кошек и собак. И они отвечали мне тем же.
«Должно быть, недостает мне веры» — размышлял я, но что–то изнутри подсказывало мне, что недостающее нечто не является просто философской категорией. Недоставало какого–то конкретного шага. Не хватало каких–то знаний, какого–то практического опыта.
И этот опыт пришел.
Он явился вместе с ночными визитерами моего христианского товарища по боли.
Я пережил в своей жизни не мало прекрасных моментов, и жизнь мне предоставила еще один.
Совершенно неосознанно я вошел в поле действия каких–то вибраций. Чья–то размеренная речь расширяла мое сознание.
«Читают» — подумал я. «Молитва!» — осенила меня догадка.
Это и впрямь оказалась молитва.
Молитва, произносимая кем–то над больным. Довольно поздно я это понял. Но когда понял, то у меня, как–то само собой, увязалось все: и камни с кристаллами, и любовь к ближним своим, и воля к жизни. А тогда… Тогда я всего лишь медитировал на звуки.
Словом, та самая алхимическая реакция была запущена. И была запущена словом. И когда я это понял, то вместе со всеми гостями, а их было в ту ночь рядом со своим другом не менее трех миньянов, я произнес «Аминь».
И ночь воскресения явила мне чудо. Утром я встал с кровати и совершенно осознанно потребовал выписки.
7. ТРОЯНСКИЙ КОНЬ
Когда счастливая жена привезла меня на такси домой, и я высидел всю дорогу без особых болей, иначе как чудом представить это было нельзя. «Что нового?» — спросил я, все еще прислушиваясь к своему самочувствию. Спина не болела. Я чувствовал, что энергия переполняет меня.
— Ты уж прости, — произнесла жена, — но я жду звонка. Звонить будут тебе.
— Чего же ты просишь прощения? — недоумевал я.
— За то, что не сдержалась я и позвонила сама твоему брату. Я просто испугалась. Я сильно испугалась за тебя. И я в истерике позвонила ему, и сказала все, что думаю. Как он отфутболивает тебя с твоей просьбой помочь тебе, и как ты весь от этого напрягаешься. Какая спина такое выдержит? Сказала, чтобы не унижал тебя. Я рассказала ему все, что видели мои глаза, постаралась передать весь свой ужас, и он растерянно как–то спросил у меня: «Так что же делать?»
…Сегодня у меня день рождения. Нет, правда. С утра позвонили мои американские родственники, сказали, что выслали в подарок двести долларов.
Ну что ж, как только закончится забастовка — сразу же получу их. А моя уставшая жена преподнесла мне абонемент в Кантри Клаб на пятьдесят посещений бассейна.
И еще был один утренний подарок. Я подошел к кустику, и он угостил меня едва обозначенной головкой, принесшей мне легкость и приятное опьянение.
Я попросил жену улыбнуться мне, и мой праздник закончился…
— Да несерьезно это все, — после длинной и сосредоточенной затяжки произнес Директор, — скажи им, что Директор не понимает, как это у таких крутых братьев, у которых своя фабрика, нефтяной бизнес, казино, вдруг настолько нету денег, что нельзя откуда–то вынуть четыре тысячи и сказать: приезжайте, познакомимся.
Директор чистил трубочку банки, как чистят жерла орудий.
— А мы привозим отменных артисток, — весьма взвешенно произнес он, — профессионалов. Их не стыдно не только на сцену пускать в большие залы, но и на презентации, на званые какие–то вечера.
…Я слушал Директора и соглашался с ним. Вот уже много дней я веду переговоры со своим старшим братом и пытаюсь добиться его понимания.
Но контакта у нас не происходит. Не дожидаясь от него звонков, я ловил его по мобильной связи и говорил о своем желании заняться шоу–бизнесом. Здесь я видел возможность применения своих проявляющихся талантов. Здесь я видел возможность обрести финансовую свободу и перелететь через Ла — Манш, навестить Матвея и, посмотрев ему в глаза спеть вместе с сестрами Райфер, где ни будь в Лондоне «Кружится, вертится шар голубой» или что–нибудь из того, что написал Матвей, ну, хотя бы «Эдуарда и Унигунду». И обнять его, а вслед за ним кинуться обнимать всех–всех своих друзей. И плакать. И просить у них прощения. Просить прощения за то, что не успел признаться им в любви. А если и успел, то не часто об этом помнил.
Гордыня.
Словом, я собирался положить свой талант писателя на рельсы шоу–бизнеса, оставаясь при этом все тем же писателем. Правда, кое–кто видел во мне эдакого колдуна, который неразлучен с удачливым продюсером.
— Так вот, — кричал я о Директоре брату, — чтобы ты понял, при всей его безденежной ситуации, а мы все очень тесно сейчас общаемся, он может сделать концерт на восьмое марта для женщин города в Кацрине. А сейчас на мой день рождения он устраивает концерт в Кармиэле. Будут петь сестры Райфер и Вовка Фридман, а после концерта все вместе завалимся в кабак, и отметим: кто первое мая, а кто мой день рождения.
Понимаешь? Мне очень хочется с ним работать, хочется, чтобы вы познакомились с ним и поняли, что он может быть полезен не только мне, но и вам. И я, чтобы заинтересовать его собой, рассказал о своих братьях. А сейчас у него я читаю легкое недоумение и понимаю, что он мне хочет сказать, но считает нетактичным. А если озвучить это мной, то на сегодняшний момент у него сложилось впечатление, что я слишком переоценил своих родственников, а если нет — то вы этим просто не хотите заниматься, или, по каким–то непонятным причинам, не занимаетесь.
— Девчонки отработают три–четыре концерта, — говорил я, копируя Директора, — так мне было проще.
— Если надо, сделаем чес по областям, заработаем кучу денег, но сначала надо кому–то сделать так, чтобы мы приехали и привезли сестер. Есть выход на Кобзона. Показать ему сестер и сказать, что есть готовый проект «Звезды Израиля», и показать ему видеокассету с выступлениями остальных — это будет круто. А еще есть еврейский театр ШАЛОМ в Москве. Театр Левенбука, автора «Кота Леопольда». Саша с ними работал. Тоже хотят вернуться к нему. Потому что после тех, триумфальных, Сашиных гастролей их перехватил другой продюсер. И новый продюсер поднял цены на билеты. И все. Пролетели гастроли. Работы полно. И мы с ним в паре. Нужно только нам с ним к вам приехать. Познакомитесь. Прикольный пацан…
Но нашим планам с Директором не суждено было сбыться.
…Я лежал на полу, на расстеленном одеяле, на котором валялись подушки, смягчающие трение в локтях, служивших мне опорой во время печатания на дистанционной инфрадоске.
Монитор стоял по–прежнему на письменном столе и, чтобы увидеть напечатанное и перечесть, приходилось сильно задирать голову. Глаза уставали неимоверно, и это несмотря на то, что шрифт я задал на 18 пунктов.
Тут же на одеяле валялись бусы из тигрового глаза, пепельница с тремя последними сигаретами, стояли три чашки с холодным недопитым чаем и две с горячим, только что заваренным Earl Grey Dilmah.
Я завалился у компьютера и собрался записать кое–что себе на память. Я все еще не верил, что начал писать. И то, чем я занимался, представлялось мне скорее дневниковыми записями, нежели литературным произведением.
Хотя в глубине души я все же лукавил. Я знал, что пишу нечто значительное. Что пишу роман, который изменит мою жизнь. И не тем фактом, что предстоит ему счастливая судьба бестселлера, а самим фактом присутствия в нем новой реальности. Той самой реальности, которую я воспринимал не всегда адекватно. Но всегда — лишь как дар самого существования. Ибо как объяснить ту историю, внешние очертания которой я все еще собираюсь вам слегка приоткрыть.
Для меня обрушился мир, когда выращенный из конопляной семечки куст был сорван чей–то злодейской рукой. И тут к самым разным эмоциям приходила эмоция одна, словесно которую можно было выразить приблизительно так.
— Как это так?! — вопило у меня все внутри, а снаружи я изображал легкое недоумение, подкрепляя его эдакой мудростью: Бог дал и чьими–то руками взял.
Это потом я пойму и понимание придет как озарение, что на смену тем, чьими руками Он изъял от меня ослепительно зеленый, тяжелый куст, даже на смену самому кусту, Он шлет что–то иное, невероятное.
Но тогда я переживал боль расставания с другом. Чем, скажите, можно возместить подобную утрату? Ведь вся его короткая жизнь прошла у меня на глазах. Мы обменивались взглядами, мы устремляли свои симпатии навстречу друг другу…
И не я выращивал этот куст. Это куст, преисполненный отваги, преподносил мне уроки мужества. Двух недель не хватило ему, чтобы взорваться волшебной силой!
Я связывал с этим кустом свои надежды на выздоровление в физическом плане. Магия входила в меня при каждой затяжке банга, и силы волшебного растения, содержащие в себе магический треугольник, проявлялись в моем обличье сами собой. Без особенного моего участия. А скорее — полного отсутствия меня.
И когда мне удавалось не отождествлять себя с этим, заполонившим меня, колдуном, я видел, что сила его огромна. И эту силу он пытался сдержать, а она бунтовала в нем и все же покорялась его воле.
И битва была столь стихийной, что на лаве вулкана, направленного ему навстречу, была унесена не только моя идея заняться шоу–бизнесом, но разбросало всех, кто окружал меня в моей безумной затее: совместить несовместимое — навести мосты с братьями–бизнесменами.
Вот так оно и получилось, что канули братья в раструб телефонной трубки.
Их так же, как и многих других людей, вырвало из моей действительности. Вырвало с такой же легкостью, как и неких случайно приблизившихся ко мне братьев, уготовивших мне в своей истории роль тельца. Да к тому же золотого.
Сам же я, при помощи Волшебника, все чаше вселявшегося в меня, увидел себя в роли Троянского коня.
8. НОЧНОЙ ГОСТЬ
Тем временем Волшебник расчистил мне путь, переплавив дорогу и спутников. А я со своей больной спиной остался разгребать его завалы.
Денег на съем жилья у меня не было. Собственно, денег не было ни на что, и когда в конце мая закончился договор на съем коттеджа, мы с Ириной оказались по разным углам.
Она вернулась в свою квартиру, к своим детям, кошкам и собаке. А я съехал к отцу, который оставил прежнее жилье и теперь переезжал в многокомнатную квартиру коммунального дома.
Среди всеобщего разора двойного переезда под руку попалась бумага.
«…Декларация о мирном сосуществовании двух антагонистических систем, — прочел я наш с Ириной недавний договор. — Люди доброй воли и разных систем, проживая на одной территории в параллельных мирах, обязуются соблюдать добрые, миролюбивые отношения…»
Бред. Я взглянул на часы. 22. Время, когда вечер обретает силу ночи. Пора укладываться. Ира сегодня уже не придет. Сразу после работы она ушла на старую квартиру, согласно с договором о съеме, побелить стены и вымыть полы. Завтра, в 4 часа 30 минут будильник поднимет ее на работу. А меня никто поднимать не посмеет. Буду спать. Спать при отцовском хламе. И я буду спать в этой пустой квартире, как спят ночные еврейские сторожа.
Веселый дверной звонок пробудил во мне жизнь. Сон сняло как рукой.
«Ирка!» радостно пело в душе, а ноги уже шлепали тапочками по мраморным плитам пола, неся меня навстречу любимому человеку. Я отворил дверь… О-па… и замер на пороге. Жена привела гостя…
Ну надо же!
Первое, что выхватил мой взгляд, — глаза. Глаза светились в темноте подъезда и сами излучали веселящий сердце свет. Я знал эти глаза, но не помнил, кому они принадлежали. Седая, окладистая борода гостя тоже показалась знакомой.
Его незатейливый наряд состоял из большой, на всю голову, белой кипы с надписью. Под ней — рожки. Но не чертика, а рожки антенн инопланетянина, общающегося с Космосом. И выражение лица такое, точно сейчас ему сообщили оттуда нечто невероятно веселое.
Белая рубашка, под которой угадывался талес, темные брюки, носки и туфли.
Мы разглядывали друг друга, и пока он не произнес: «Не узнал, брат?», — я так и не понял, что передо мной Моше.
— Винокур! — выдохнул я всю неловкость, понимая, что мой сюжет стремительно обретает нового героя.
И вместо рассудительного, зализывающего боевые раны шамана, не верящего, что возможно одолеть ту дорогу, что отделяет каждого из нас от причала, где призрачный парусник, все еще никуда не ушел, — появился некто другой. И этот другой постучал в мою дверь. Быть может, пришел он за мной, чтобы какой–то отрезок пути к манящему и его причалу пройти вместе?
И все, кто не верит в чудеса, рассказанные смешными фраерами, кто называет это сказками, придуманными лохами для лохов, — остались далеко, далеко: за линей горизонта, отсекающей все лишнее.
Писатель, переступивший порог моего дома, виделся мне мудрецом, переступившим порог писательской мудрости. Да он и был таковым. И правду свою он черпал из Торы и почитал ее как Закон…
Грустный сказочник переступил порог моего дома. И несмотря на то, что все было плохо, бесшабашный волшебник легко и весело подбивал на весьма заманчивый для меня и соблазнительный путь воина: хозер бе тшува, — путь возвращения к ответу.
— Я поймал эти волны, — сказал Моше так, что я сразу же поверил.
А сам Моше припухал на выселках в Кирьят — Шмоне, под судом. И женщина, ухватившая его с первой встречи за бороду, в трепете прижавшаяся к нему вся; женщина, произнесшая: «дорогой ты мой человек, я же тебя столько ждала…»; женщина, нашедшая слова, которые смогли вскружить голову Моисею, что твоя Ципора; эта талантливая, а потому запутанная художница, три года украшавшая жизнь одинокого волка, водителя танковоза, тренера малолеток по боксу, писателя и сына этой страны, — неосознанно подвела его к этой черте…
Ну что ж. По ту сторону колючки Винокур уже успел написать один сильный документ: повесть «У подножия Тайного Учения», каждая глава которого начиналась словами: «Сидели в тюремной синагоге. Под замком».
Но это было, когда он проходил по статье «террор», а с его двора унесли противотанковую ракету «ЛАУ».
Но теперь?! Нелепость. Женщина, сумевшая заставить блестеть каким–то особым светом его глаза, сама оттолкнула его. Да так сильно, что сидит ее Бен Шломо в в Кирьят Шмоне, на выселках и все еще находится под судом.
— Это я…
— Ты, ты Моисей Зямович! Ты, который вывел нас, блядей, из Египта! — проорал я знаменитую «декларацию» писателя, и несколько смущенно посмотрел на жену.
— Ну что, приглашай, хозяин, в дом, — сказала жена, улыбаясь странной улыбкой. Похоже, она тут же приняла его безоговорочно, со всеми матами, едва мы с гостем разомкнули объятия.
И потом, когда в Интернете появился Мотя со своим дурацким письмом, я ему ответил просто:
«Мотя! Иди сюда! Здесь Моше Винокур на выселках в Кирьят Шмоне. Стукнулся в технику иудаизма и, как говорит, летает на этой волне. Два года в июле, как он бросил пить. Превратился в крепкого Деда Мороза, который опять под судом, но за которого вступилась марокканская община, куда он обратился в своем возвращении к ответу. И знаешь, что они о Моше написали в полицию? Что не отдадут его в тюрьму, потому что они давно ждали такого человека. Вот и все.
И когда этот зверь вынимает на ночь свои зубные протезы, он и впрямь превращается в доброго волшебника: и я понимаю того режиссера, что догадался снимать Винокура. Можешь себе представить, Мотя: Винокур. Устные рассказы. С Моше произошло то же, что ощутили несколькими годами раньше мы с тобой, но не удержали. Мы только притронулись, коснулись и — сошли. А он в этом — здесь и сейчас. И тащится, как утверждает, от самого процесса очищения письмом. Он написал очень сильные рассказы, как прощание с самим собой. И поклялся, как всегда сгоряча, что ничего из написанного больше никогда сам не опубликует. Хотя, при такой чистке себя, страдают, как правило, те, кто рядом. Пора отбирать у Винокура вторую часть твоей книжки. Ну, той, где тот был еще черт, и художник рисовал его с копытами. Вторая книга, изданная тобой, будет еще круче, потому что у этого Сатира выросли крылья. Ну что, нагулял львенок Мотя на аглицких лужайках бока? Пора и честь знать. Тем паче, зовет Винокур пожить небольшой коммуной, по типу ашрама. Как тебе, свободному человеку, эта идея?
А ПИСЕМ, гад, не дождешься!».
Вот такое письмо отправил я Матвею, в ответ на его интернетовский привет.
>
> Привет!
> Чавой–то ты неразговорчивый какой–то. Молчишь, понимаешь,
> как некошерная рыба по имени Простипома. Написал бы ты мне
> письмо — боЛшое и крЫсивое, да не печатными буквами в
> компЮтере, а собственной рученькой на бАмажке в конвертике
> по адресу
> Gorsedene Road
> Whitley Bay
> Tyne and Wear
> NE00 АAH
> А в письме бы написал, что не советуешь мне возвращаться в
> И. и почему.
> Пока все.
> Всем привет.
> Целую
>
Это все.
Но одно дело — это написать эпатажное письмо в ответ на Мотину просьбу, другое дело — если ему и впрямь нужна помощь в виде письма, которое он мог бы предъявить каким–то там английским ребятам, представляющим власть.
Со своей стороны я дал ему понять, что просто писать письмо не нахожу нужным. Но если ему необходимо такое письмо, то в качестве такового готов уступить ему любой свой рассказ.
«Мы с тобою литераторы, — написал я Матвею, и поступать соответственно должны. Я высылаю тебе роман, а ты уж сам решай, какие делать выводы».
Но посылать его обычным путем через израильскую и английскую таможни я не хотел. Не буди лихо, пока оно тихо. Тем более, что чувствовало мое любящее сердце: сегодня моя «Тремпиада» как никогда близко свела меня не только с Матвеем, но и со всеми моими друзьями, чьи лица и образы вновь и вновь возникают предо мною, как из того сна, ставшего предвестником ТРЕМПИАДЫ.
9. ВИНОКУР
Сам рав из Кирьят Шмоны предоставил мне тремп, любезно согласившись потесниться в своем авто. Наверное, водить машину он не любил и потому приглашал в дальние поездки своего подопечного. Теперь у него был свой личный шофер. Бывший водитель танковоза и тренер не одного поколения израильских боксеров. Такому можно было доверить не только машину. Впрочем, большего не требовалось, и Моше Винокур заглянул в мой кабинет, предложив прокатиться к нему.
— Я тут своего рава на пикник привез, так что часа полтора у нас есть, — сказал Моше и посмотрел на мой компьютер.
— А место в машине найдется? — несколько хитрил я, помня, что два неотложных дела у меня в Кацрине: очередь к стоматологу на удаление зуба и — свидание с собственной женой.
— Я думаю, все обойдется без проблем, — улыбался змеем–искусителем Моисей Зямович.
— Пойду тогда вырывать зуб! — решительно сказал я, тяжело вздыхая. Теперь я знал наверняка, что на свидание с женой не попадаю и что сообщить ей об этом никак не смогу.
Но по закону какого–то внутреннего жанра, я не имел права отказываться от путешествия, и я сел в машину рава.
Вот и теснимся мы с равом и его дочкой на заднем сиденье, потому что на переднем, рядом с водителем, сидит еще один тремпист, и я дышу ему в затылок, вернее — в кипу, непонятно как сидящую на его стриженой макушке.
В машине были все свои, и атмосфера была такой, как и положено ей быть после приятного пикника с шашлыками. Тем более, что происходило все на природе. А природа у нас на Голанах — воистину, божественная… Но когда я уселся рядом с равом, то невольно ощутил в нем настороженность. Это была все та же настороженность, что возникла тогда, когда после витиеватой езды по арабской деревне, мы оказались в Петиной прихожей, куда стекался весь криминал города как следует оттянуться. А тут, как выяснилось, на хвосте у них оказались два фраера: продюсер и писатель. Но если за того, в чистой рубашке и глаженых брюках мог подписаться Шай, то этого все равно было недостаточно, чтобы верить его рекомендациям на счет писателя.
Впрочем, я скоро отогнал эти мысли и был вознагражден состоянием уверенного покоя. С этим чувством я глядел в окно, и природа с таким же чувством заглядывала в меня, даря красоты своих пейзажей.
Мы съезжали с высот по нескончаемому серпантину, который воспаленным ртом хватал речную прохладу Иордана и тут же, по накату, поднимался вверх, оставляя за собой дребезжащий мост через реку, а, стало быть, и сами Голаны. Не доезжая до Хацора Галилейского, машина притормозила на перекрестке Маханаим, и здесь была произведена рокировка. Тремпист–юноша покинул машину и на его место пересел рав. Поворот направо — и мы мчимся со скоростью сто десять по трассе, лежащей вдоль долины с названием Хула. Впереди видны Галилейские горы, справа возвышаются Голаны, а мы спустились в низинную часть этого великолепия, мы несемся в Кирьят Шмону, на встречу то ли с судьбой, то ли друг с другом, то ли — каждого с самим собой.
С Богом!
— С Богом, — сказал я в два часа ночи, когда уставший хозяин, вздремнув с полчасика, умылся, надел свежий талес, белую рубаху, черные брюки, и отправился в синагогу.
— На утреннюю молитву возьмешь? — спрашивал я Моше.
— Если хочешь — пойдем, — довольно улыбался он, ставя кассету с фильмом о себе.
А вот теперь… Теперь он идет в синагогу один, а я могу лишь сказать ему «С Богом!».
С Богом, говорю я, выключая в комнате свет и укладываясь поперек кровати так, что ноги остаются на полу. Нащупав баночку с жидкостью от комаров, я смазал щиколотки, руки и лоб. Меня одолевают противоречивые желания: разобраться в том, что все же произошло между нами. И второе — не думая ни о чем, просто досмотреть кассету.
Я снова встал и включил свет. Кассету заело. Я немедленно вытащил ее из видака и выключил телевизор.
Ну что ж, решил я, значит, попробуем разобраться.
Итак.
Кассета остановлена.
Я не выдержал массированного прессинга и, буквально раздавленный мощью и многоликостью хозяина, представшего предо мной сразу в двух мирах, — выскакиваю на улицу.
Я вырываюсь из плавильной печи его дома, где горит и страстно безумствует его эго, и расплавленным металлом растекаюсь по бетонным ступенькам его жилища. Мне, чтобы выжить, необходимо немного остыть.
Там, в мире кино, он оставался счастливым и любимым, удачливым и все таким же страстным. В мире кино он представал и страстным бойцом, и пристрастным мыслителем, и, едва его оставляли эмоции и сердце орошалось тишиной, — он превращался в мудреца.
— Меня нет, — говорил он. — Однажды Моисей Зямович лег спать, а проснулся кто–то другой.
И этот другой пребывал сейчас в мире, где над ним навис еще один суд, где уже не могла появиться ни одна женщина, где, то ли четвертым, то ли пятым инфарктом, пережил он расставание с Дусей, Дусенькой…
И слова об улыбке оставались порой только словами. И казалось, что безбожник и шпана, стареющий хищник, или как он сам и в шутку и всерьез говорил: «примат после встречи с коноплей», — изображает в том своем мире то ли набожного еврея, то ли мудреца, еще не пережившего до конца свою страсть.
Теперь он страстно разрушал память о той, с которой взлетала его душа над суровым бытом повседневной жестокости. Но что–то не давало ему покоя, и он смотрел кассету с самим собой и нравился себе. Нравился, ибо кассета возвращала его к тем временам, в которых он знал о себе не как о писателе, связавшим свою жизнь с художником. Кассета запечатлела его ощущающим или — вспоминающим себя Моисеем, а ее — Ципорой. Но даже там, где, казалось бы, не должно было оставаться места ни для чего, кроме слов благодарности, прорывалось огромное, непомерное эго писателя. Да, он говорил скупые слова благодарности и в редкие мгновенья, которые, слава Богу, оказались запечатленными на пленке, он приходил в себя.
Одно из его воспоминаний помогло понять мне истоки того винокуровского феномена, который, как визитная карточка события из раннего детства, всю жизнь предъявлялся им каждому, кто стоял на его пути:
«Сначала хук левой, потом разговоры».
С присущей только ему, уникальнейшей лексикой, очаровывая своей неожиданностью и пробуждая от спячки одновременно, он поведал мне с телеэкрана историю, название которой дал я, пересказав ее по–своему.
10. РУБИНОВЫЕ ПЕТУШКИ
Кто скажите мне в своей жизни, хотя бы один раз, не переживал восторга при встрече с сахарным петушком?
Гордо выпятив грудь, и заносчиво распустив свой хвост, Петушок сидел на палочке, как сидит на своем шпиле кремлевская рубиновая звезда. И не цыганки заманивали нас, а рубиновый взрыв тягучей сладости, заключенный в хрупком тельце сахарной игрушки.
И малец, четырех лет отроду, попавший под магический луч рубинового света, застыл там, где стоял. Теперь он был навсегда очарован Петушком.
Он стоял посреди огромной лужи, в обход которой шла молодая, красивая женщина, его мать. Мать держала в руках продуктовые карточки, и безрадостные мысли ее были заняты тем, как лучше распорядиться этими карточками в голодную пору сорок восьмого послевоенного года. А дети, предоставленные сами себе, как могли, волочились за нею, не поспевая и ноя.
Наверное, тишина, пришедшая на смену нытью, тишина, наступившая так внезапно и отчаянно, — отогнала тяжкие мысли женщины, уступив место материнскому инстинкту.
«Где дети?» — спохватилась она, все сильнее сжимая в кулаках распроклятые продуктовые карточки.
Дочь оказалась рядом. Она была немногим старше маленького Миши, который, как вкопанный, застыл напротив цыганок–колдуний, стоя посреди огромной лужи. Он был не в силах противостоять чарам, исходящим, казалось, из самого сердца Рубинового Петушка. И десница ребенка, с вытянутым вперед перстом, указывала матери на цыганок.
Можно только догадываться, что произошло в душе у матери. Быть может, именно памяти своей женской сути, обязана она тем, что потом произошло. Ибо, на какое–то мгновение, увидела она тот же перст, что теперь принадлежал ее сыну. И указывал он не на Рубинового Петушка и цыганок, а был тем перстом, что стал Рукой Мистерий для целого народа. Но было ли это когда? Где и в какой жизни она была матерью того, кто получил в свои руки Закон и осудил целый народ на скитания, называя сорокалетнее безумие «Выходом из Египта»?
И она посмотрела на своего четырехлетнего сына, и увидела его жест, и угадала в нем что–то, что и объяснить себе не могла…
А он смотрел на мать, продолжая стоять в луже и ожидая ее приближения.
И мать подошла. И то, что произошло потом, запомнилось на всю жизнь.
Женщина стала в боксерскую стойку. Наклон вправо, влево и — хук с левой.
— Классика! — восклицает Моше, сидя за столом своего израильского жилища, талантливо отснятого оператором.
— Все, — смеется он, выдыхая облако дыма, — стало на свои места. Я не просто стал бояться этой женщины, я зауважал свою мать. В четыре года я начал заниматься боксом. И с тех самых пор жизнь моя определилась как: сперва — трахнуть, а потом уже разговоры.
… И все же. Были в жизни Моше не только очарование силой. Были и минуты, когда он становился маленьким пацаном, лохом, позволяющим себя околдовать красотой. Была не только та, знаменитая лужа, посреди которой он получил материнский урок, но был и рубиновый петушок, память о котором и по сей день не оставляет его…
И пусть нам где–то почудилось что–то не то, и, быть может, оказалось несколько неуютно друг с другом, пусть воин и мистик Винокур знает: за горизонтом, отсекающим все лишнее, есть другой писатель, выступивший по тому же пути. И все заблуждения этого писателя и его откровения также останутся с ним, пока не растеряет их в своем пути к тому единственному причалу, где ждет и его все тот же белый небесный парусник, с командой близких по духу людей…
Часть вторая ПРИШЕЛЕЦ
1. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ
— Новая глава о Тое? — устало спрашиваю я у себя. И писатель не без издёвки мне отвечает:
Конечно!.. ведь Той возвращается.
И, конечно же, все, кроме меня это заметили, — недовольно бурчу я.
— А если я вам всем скажу… что он никуда и не исчезал вовсе?.. что… он это и есть я?!
Ха! — приседает от неожиданности писатель.
Кого ты лечишь?! А то я не знаю разницы… вот вернется Той, тогда и начнется настоящая работа.
Да ты на себя посмотри! — писатель явно ёрничает, — посмотри, посмотри… хочешь сказать, что вот это брюхо и есть расслабленный живот будды?.. не морочь голову!.. оставайся с Тоем и не мешай ему… и всем будет хорошо… и мне, и тебе… и Тою…
Той вернулся… и я понял это только что… рано утром… едва проснулся…
В это хмурое утро я проснулся совершенно счастливым человеком. И этот человек не знал еще ни сомнений, ни тревог, ни страхов. На его плече мирно досматривала свой сон женщина. И волосы её были огненно рыжими. И имя её было — Лика.
И Лика нежилась среди тепла и уюта. И уютный домик с оранжевой крышей, что ее стараниями был приведен в живой и праздничный вид, уже просыпался вместе со своей хозяйкой.
Начатое с вечера волшебство продолжалось. Первые лучи восходящего солнца, пробивались сквозь толщи туч, заглядывали в большие окна дома и касались рыжих волос Лики. Волосы то вспыхивали, то искрились, и свет их озарял лицо ее, просачивался между век, гладил, прикасался осторожно и нежно, пока не вызвал ответной улыбки…
— С новосельем, Той, — говорит мне Лика, сладко потягиваясь со сна. А я зачем–то провожу ладонью по подбородку:
— С новосельем, Лика, — и трусь бритой щекой о ее руку. — С новосельем, солнечная моя! — говорю я и вдруг понимаю, что всё в моей жизни становится на свои места. И происходит это само по себе, без видимого усилия. Именно так в моей жизни чудесным образом появился этот замечательный дом, с участком земли, на котором произрастали зеленые пальмы и свекольного цвета касторовые деревья, с ёжиками киевских каштанов…
подумать только!.. какой малости было довольно, чтобы на маленьком клочке моего присутствия, смогла бы приземлиться Лика… чтоб признала во мне Тоя… и без страха, по–хозяйски, срубила воинственные кактусы… а на их место посадила сирень… выдернула плющ, и воткнула герань… посадила папоротник… и тутовые деревья!. и заселила дом мелкими, но приятными безделушками… от которых становится уютней и веселей… и наш семейный праздник… словом, он стал разрастаться… как разгорается огонь… заполняя собой пространство… и друзья уже притащили огромную гроздь из десятков воздушных шариков… и в каждом шарике — их вдохновенье и улыбка на выдохе[1]…
и мы снова радуемся друзьям… усаживаем их… и никому не тесно за огромным деревянным столом…
Лика любила праздники… она их умела создавать сама… легко и грациозно… с достоинством и любовью…
и сейчас, чувствуя ее рядом с собой… ощущая радость ее пробуждения… я вдруг… увидел… как далеко всё это время был от тропинки, по которой счастливо ходила она…
я казался себе старым, толстым и неуклюжим… а моя травмированная спина?.. а руки?.. а ноги, утратившие былую силу?.. с трудом я представлял себя в хрустальном городе Лики!.. и в те редкие минуты, когда навещал её… этот её мир воплощенных иллюзий… конечно же, я казался себе неуклюжим медведем!.. слоном! заскочившим в посудную лавку!.. ведь чтобы запросто перемещаться в ее пространстве… наверное, нужно было стать либо принцем на белом коне, либо, рыцарем Ордена Голубой Розы и Креста!.. и то и другое было одинаково… нереально…
ничего умней, чем сбрить бороду, я не придумал… я попытался изменить свою внешность… а когда сбрил бороду, то с сожалением обнаружил, что за нею… в общем, за бородой скрывалась всё та же прежняя личность… только теперь она выглядела значительно моложе…
Я потянулся за пачкой сигарет. Моя принцесса что–то пролепетала спросонок и повернулась ко мне спиной. Солнце только успело взойти, а неистовый ветер уже нагнал тучи.
Устроившись поудобней на подушках я закурил. Выпустив струйку дыма, прислушался к завыванию январского ветра… самого промозглого… сырого и неуютного…
теплое дыхание двух ясных дней, выдавшихся как раз на новоселье, теперь выдувалось свирепым ветром… неистовый пастух небес!.. он перегонял с юга на север тучные стада дождевых туч…
и столкнутся облака и горы… и просыплются искры из глаз Хермона… и магия кристаллов поразит Голаны и Сирию… и эти снежинки… эти межпланетные корабли будущего! Они услужливо унесут меня в какое–то забытое прошлое… но и там, в этом уже однажды пережитом прошлом, не перестану я удивляться!.. удивляться тому, как сказочно совершенна природа! и сколь проста!.. насколько она технологична… меня всё ещё поражает это… и моё прошлое кивает мне, соглашаясь с тем, что всё это — сказка… а я всего лишь… присутствую в ней… а сказка, как известно, не обходится без волшебства!.. ни одна!.. вот и сыпались из сказки в сказку снежинки… ссыпались сверху вниз, волшебными кристалликами… чудеса!.. небесные бриллианты!.. сокровища на миг… я смотрел как алмазные россыпи догоняли друг дружку в полёте… как они соединялись… складывались… собирались в снежинки… самых причудливых форм!.. и невесомые… слой за слоем… они расстилали широкий и неподъёмный саван!.. подумалось о чём–то вечном… иногда… когда под ногами саван… думается о чём–то таком… но на душе легко и радостно!.. значит, снова продолжается игра… и уже в этой игре ворожит надо мной геометрия… и из сугробов… как на подмостках театра… зарождается нечто доверительное… угадывается нечто… что сокрыто от непосвященного ума… что не видимо глазу… и не нуждается в определении…
…была у Ириски такая зимняя картина… рождественская… а рядом висела совершенно другая… и было на ней запечатлено состояние… прекрасное состояние!.. состояние, которое однажды… нам довелось испытать вдвоем!.. так получилось, что мы оба не смогли умолчать о происшествии… вот мой рассказ… рассказ очевидца об истории возникновения одной картины…
2. ПРЕДВЕРИЕ
1
В машине у Танки тепло и кайфово. На шнурке, подвешенном к зеркальцу заднего видения, болтаются цветные стекляшки, оправленные согласно тибетскому учению в символ мира. Под ногами Тоя, в багажнике и на заднем сидении, где приютилась его жена Лика — огромные каменные «яблоки» с кристаллами кварца.
Перегруженная, запотевшая за ночь машина, трудно петляет по каменистым окрестностям Цфата. Волшебная ночь полнолуния незаметно перетекла в не менее странное утро кануна Песаха, отмеченного тем, что взошедшее над горою Мерон солнце скорее напоминало тусклую луну, а ночная гостья, зависшая над горизонтом, всё еще сияла так, словно бы и впрямь превратилась в солнце.
Мистический туман окутал гору, и только отдельные вспышки кристаллической породы прорывались сквозь дымку, словно редкие всплески сознания.
— Ты посмотри туда! — указывает куда–то в сторону Танка, и ее смех над жадностью, обуявшей друзей, собирающих камни, только раззадоривал Тоя.
— Тормози! — настаивал он, и вываливался из машины, чтобы снова забраться в нее с увесистым куском расколотого «яблока», на срезе которого застывшим взрывом торчат в разные стороны кристаллы кварца.
— Это последний, — обещает Той, но едва в глаза бьет новая вспышка отраженного кристаллами света, он снова просит притормозить, и очередное «яблоко», весом в несколько килограмм, исчезает в ненасытном чреве багажника.
— Зачем тебе столько камней? — спрашивает Танка.
— На память, — говорит он. — Молчаливая память об этой ночи.
— На память и одного довольно.
— Ну да, Таночка, — отзывается Лика, — это ты только говоришь так, а приедем — все камни себе и заберешь. А оставшиеся мы у себя в саду разбросаем.
— Ну, все я, конечно, не заберу, — смеется Танка. А самые лучшие камни, без сомнения, оставлю себе на память. Ночь и впрямь была волшебная!..
Трудно с ней не согласиться. Ночь выдалась странной и удивительной. И даже как–то страшно теперь представить, что такую ночь можно было запросто проспать. А ведь всё складывалось именно так.
…Лика выставила будильник на полночь и улеглась спать, чтобы ночью с Танкой поехать куда–нибудь медитировать. Будильник не сработал, и Лика проснулась сама, когда стрелки часов показывали почти час ночи.
— Все! — отчаянно воскликнула она, глядя на кем–то подброшенную под дверь веточку белой сирени. — Ничего уже не будет.
— Чего не будет? — пытался понять Той, но Лика не могла ничего объяснить, и оттого становилась еще печальней.
— Бог с ней, с этой поездкой в Цфат! — пытался урезонить жену Той. — Мы и в саду своем посидеть можем. Луна везде одна.
Но тут шумно подъехала машина, за рулем которой сидела молодая женщина в газовой накидке.
— Танка! — вырвался радостный вопль Лики. — Приехала… Но ведь уже поздно. Мы опоздали…
— Никуда мы не опоздали! — не выходя из машины, кричит подруга. — Поехали! Вы только посмотрите, кого я вам привезла…
Рядом с ней в машине сидел кто–то бородатый, в широкополой шляпе, из–под которой закрученной спиралью антенн свисали пейсы.
Той смотрел на этого немолодого, пухлого мужчину, и не мог представить себе, что он — и есть тот самый учитель, толкователь каббалы и знаток здешних мест. И хотя он сидел рядом, как–то мало верилось, что этой ночью всем им предстоит пробыть вместе и даже встретить рассвет…
Между тем духовный наставник Танки, одетый в черный костюм и белую рубаху, пристально всматривался в расстеленную на коленях карту здешних мест, делая в ней какие–то пометки.
Ехали молча, но молчание не было тягостным. Наконец, где–то на краю леса за Цфатом, учитель попросил остановить машину. И пока он, крупный, полный, выбирался из тесной коробочки Танкиного «пежо», Той думал о той отваге, что, несомненно, присутствовала в этом человеке. Той честно пытался дать себе ответ: а смог бы он сам, вот так, запросто, по доброй воле, без компании и добрых друзей, остаться в ночном лесу? И он не нашел что себе ответить.
— Вы посмотрите, какую сумку он тащит в лес! — смехом прерывает Танка мысли Тоя. Она разворачивает карту, оставленную ей каббалистом, на которой тот сделал карандашные отметки энергоемких мест.
— А знаете, что у него в той сумке? — Танка включает первую передачу, и машина медленно ползет в гору. — Никогда не догадаетесь! Полная сумка книг!
Той чувствует, как растет в нем уважение к их попутчику. Это было не просто восхищение каббалистом, это было признание его бесстрашия, с которым он запросто вошел в ночной лес…
Той снова вспомнил его белые, пухлые, как у ребенка руки, и подумал, что, пожалуй, дело не в отваге. Отвага, скорее, присуща воину. Этот же раввин воином не был. Пожалуй, тут присутствовало нечто иное.
— Вера? — почти пропела сияющая от счастья Лика.
— Возможно, — тут же согласился Той, прислушиваясь к собственным ощущениям. Веры, о которой говорила Лика, он в себе не ощущал. А ведь Лика права: именно вера делает человека бесстрашным.
Танка остановила машину:
— Все, — сказала она, — дальше дороги нет. Идем пешком.
2
Луна била во все свои барабаны шаманской ночи. Сердца колотились в унисон с лунной музыкой, размазавшей по небу охапку звездной пыли.
«Могилы праведников», — прочла Танка сияющую фосфором табличку. Ее голос показался Лике странным, нездешним… Впрочем, так бывает всегда, когда думаешь о чем–то своем.
— Ты о чем думаешь? — шепотом спросил жену Той.
— Ну, о чем еще можно думать в такую ночь?! — удивилась Лика. — Я думаю о том, что эта ночь, позволяет нам безбоязненно совершать эту прогулку вдоль кладбища. А еще… еще я думаю о Боге. В общем, о своем.
В нос ударил тлетворный запах. Еще один знак ночи. Все остановились.
— Это должно быть где–то рядом, — сказала Танка. — Но явно не здесь.
— А в каком ухе у меня звенит? — спросила Лика. И Той не задумываясь ответил:
— В правом.
— Как ты угадал?
— Я тоже слышу этот звон… Никакого сомнения! — уверенно произнес Той. — Это голос камня.
Этот же голос позвал и Танку, и она уже перелазила через ограду из колючей проволоки. Супруги переглянулись и последовали за ней.
— Здесь! — счастливо выдохнула Танка. — Все. А теперь я пойду, погуляю… Где вы будете?
— Вот здесь и будем, — сказал Той, и Лика просто почувствовала, как ему тяжело устоять на ногах. Казалось, почва ушла из–под ног Тоя, и он буквально упал рядом с деревом. — Всё. Я остаюсь под этим дубом.
— Ну, все! — Помахала рукой Танка. — Я пошла. Бай!
— С Богом, — улыбнулась Лика подруге. И тут же присела на камень.
…Шелестящая пергаментом ночь… Ярко–желтая, словно солнце, луна… И лунные камни, разбросанные по земле… В этом и впрямь, было что–то сказочное.
Лике казалось, что всё это уже было. Было в нездешних ее снах. Именно это ощущение Света… Ощущение Гармонии… Она вздохнула, и на глазах у нее заблестели слезы. Мечты оказались реальностью И то, что явилось во сне — случилось!
«Так что же теперь? Теперь никаких высот больше?», — испугалась она, и бросила беглый взгляд на Тоя. Он сидел на камне и смотрел в звездное небо, высоко запрокинув подбородок. Лике даже показалось, что Той пьет эту ночь. И лишь одно мгновение отделяло его от глотка, когда ружейным затвором передернется его кадык…
Сквозь пробки потревоженной памяти доносилось до Лики мычание коров, и казалось, закрой она глаза, как тут же ощутит и запах дыма, и гарь печи, и карамельный вкус детства на разукрашенной шелковицей улыбке.
Это было ощущение своего места, на своей земле. Это было ее время на земле, где был ее дом, ее дети, ее кошки и собаки. Где рос ее сад…
3
Некто коснулся ее души. Лика замерла. Должно быть ветер. Конечно, ветер. Но ветер был всего лишь снаружи. Внутри же у Лики происходило то, что можно было бы назвать наполнением. Покойные потоки наполняли ее чем–то огромным…
Потом пришло осознание того, что кто–то указывает ей на какую–то дверь. Дверей было много, но внутреннее знание подсказывало ей, что именно это и есть та, единственная дверь, которую ей надо открыть. И она толкнула ее и за этой дверью показалась карта Таро, из колоды ОШО, где маленькая девочка стояла у прикрытой на замок калитки. А за калиткой — большой и таинственный мир. И нужно только увидеть, что калитка не заперта на замок! Что замок висит просто так. И нужно было толкнуть ту калитку. Сделать это незначительное усилие!.. И Лика решилась. И толкнула калитку. И молния осветила небо.
— Когда просверкала молния, — говорила Лика Тою, — я поняла, что меня нет, что это ты… Мне трудно сейчас сказать, что это означает, только мне захотелось тебя обнять… Словно бы ты — облако…
4
Той ощущал себя музыкой, гремящей слаженным оркестром. Он снова вспоминал каббалиста, скрывшегося во тьме леса, и чувство благодарности к нему переполняло всё его существо.
Радость души изливалась на мистическую ночь, где Луна праздновала что–что свое, интимное, а он был соучастником этого действа.
Неожиданный всплеск эмоций сменился торжественным погружением в глубины молчания, и как–то сама собой сорвалась с уст молитва. Она поразила его смыслом, и когда он осознал всю глубину той молитвы, он прочел ее вновь.
— Отче наш, — неслось в предрассветное небо, — сущий на небесах!.. да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
И озарила небо молния.
— Он услышал! — вскричал Той Лике. — Я не знаю, что произошло, только мне очень захотелось, чтобы это же почувствовала и ты… И я не знаю: где я, что со мной… Мне важно прикоснуться к тебе. И когда мои пальцы нащупали твою ладонь…
— …ты спросил меня, почувствовала ли я что–нибудь? — Лика влюбленно смотрела в глаза мужа. — А я не только почувствовала, я это все видела. Я видела этот свет. — И едва она произнесла это, как небо прорвалось у нее над головой, и такая же молния озарила предутреннее небо.
5
— Ребята! — Услышали они далекий голос Танки. — Вы где?!
Той протяжно свистнул. Взявшись за руки, Той и Лика молча пошли навстречу Танке. Подол Ликиной юбки сметал с волшебных камней следы их ног.
— Ребята! — Кричала издали Танка. — Я здесь! Я с вами!! — Она перепрыгивала с камня на камень, то и дело, глядя под ноги, чтобы не запутаться в полах длинного индийского сари. Ее белые одежды и золотистые волосы, перемотанные ярким газовым шарфом, нарисовали Тою некий известный образ.
— Ой, ребята, как я рада, что вас нашла! — Танка обняла Лику. — Как хорошо, что вы здесь!.. Просто замечательно.
— Сижу я себе, никого не трогаю, — взволнованно рассказывала Танка, — читаю мантру: «ОМ МАНЕ ПАДМЕ ХУМ!»… И вдруг! Опа!! Озарение! Все! Меня здесь нет! Я там! Чистой воды шактипат… Я на небесах! Я с Богом! И мне так захотелось, чтобы рядом были вы, что я вскочила и закричала! — Счастливо и немного смущенно хохотала Танка.
Смеясь они обнимались, и над лесом, там, где их ночной проводник читал «Шма Исраель», вновь раскололось небо. И другое свечение другой молитвы радостно озарило предутренние сумерки…
3. ЗЕЛЁНЫЙ ГЛАЗ ДРАКОНА
Голаны молчаливы, тихи и даже торжественны… словно на приёме высоких гостей… а те, казалось, кружились в снежинках–планерах, раскачиваясь и садясь в мокрое месиво… несколько промозглых дней сыпались они с небес… сыпались и таяли! а потом робкими струйками стекали к озеру… в Киннерет… туда, где, словно бы по веревочной лестнице, поспешно спускается кто–то…
и, то ли ветер правил этим некто, то ли он сам повелевал ветром, только нагнал этот… Гость? Пришелец? …пурги на Голанах… так что… вся страна на выходные устремилась поваляться в снегу…
в нашем прошлом мы бродили по пояс в снегу… но сейчас?… даже для страны чудес, это было слишком!..
словно в забытом детстве, затравленном о–би–да-ми… выжаренном хамсинами… ты-ы!.. мы лепили веселых и смешных снеговиков!.. и забрасывали проезжие автомобили снежками!.. а потом съезжали на задницах с пологих горок… и наш нескончаемый санный поезд вдруг с хохотом рассыпался!.. как взорвавшийся изнутри снеговик!..
я поёжился… переживание обжигающей влагой липкого снега влетело за шиворот … сигаретный пепел оживил зеленый глаз Дракона… казалось, помнил еще Дракон те времена, когда не служил пепельнице… когда властно хлопал крыльями… и затмевал собою полнеба… и лес страшился его тени… и море покрывалось мелкой рябью… и дрожь поселялась в груди от ветра машущих крыл… и страх выстуживал душу…
Но не огнедышащий Дракон — иное… чудо спускалось с небес… и оно летело стремительно… и полет этот никого не пугал… лишь завораживал… пугаться было невозможно!.. некого было пугаться!.. сражаться не с кем… потому что кроме тебя — никого!.. только ты и нездешняя тишина… и всё застыло… даже снег прекратил круженье…
А потом… сквозь мелкую дрожь стужи, через защитный войлок тумана, прорвалось воображение… оно бесцеремонно выволокло меня из сугроба… очистило от чар и немедленно вернуло всему смысл…
холодные мурашки пробежали по телу… сквозь толщу ватного марева далёким эхом прозвучали: то ли мысли, то ли слова Дракона…
— Сомнений быть не могло… он сам к себе спускается с небес… — так говорил Дракон…
и что же это будет за встреча?.. я глядел в зелёные зрачки своего Дракона… своей вещи… дымящейся пепельницы… и мысли овладевали мной…
— Что несет тебе эта встреча? — не унимался ящур, принимая форму боевой машины… и вопрос его отзывался во мне и переполнял все пространство… а я смотрел в его мутные глаза и угадывал что–то… угадывал то, что не произносилось им… что возникало в его зрачках… вслед за молниевой вспышкой кварца и Черной Меткой обсидиана…
— Впереди тебя поджидает неизведанное и смерть! — говорил Дракон… и этого оказалось довольно!.. этого было достаточно, чтобы я уже не мог, не хотел его слышать!.. я закрылся, защищаясь… и вторая половина фразы пролетела мимо… она не достигла своей цели… не вошла в мое сознание… а жаль… жаль!.. потому что Дракон произнёс очень, очень важные слова… конечно!.. если бы у меня хватило духу хотя бы выслушать… но у меня не было ни сил, ни желания… не понятно? тогда сами внемлите живому огнемёту… в крокодильей коже… и тогда… я не стал себя сдерживать… за внешним бунтарством, я видел свою и его покорность судьбе… и, в отчаянье, я ткнул в чудовище сигаретой…
— Впереди тебя ожидает новое рождение! — взвыл Дракон… но я не верил ему!.. я просто уже не слышал его!.. не слушал!.. с меня было довольно и того, что… эта скотина предрекала мне близкую смерть!..
и Дракон съежился… сдулся… сложился до размеров пепельницы… и его зелёный глаз закрылся…
…А по канатной лестнице уже спускается некто… и новая волна ощущений накрывает меня… и снова мои страхи… такие уже привычные… исчезают!.. а с ними — оставляют меня мысли, иллюзии, желания… просто… вернулось сознание…
Словно вышел ты из беспамятства.
И обрёл дар видения, а стало быть — прозрел.
И пришла ясность момента.
Я был самим собой… и я был всем… был тем… кто висит на переплетённых канатах паутины… и я заглядывал туда… по ту сторону паутины… по ту сторону реальности… по ту сторону бытия…
я и был пришельцем… и не было мне нигде покоя… мой вечный путь снова звал меня в дорогу… что–то тонкое, но настойчивое требовало смены пейзажа за окном… манила за собой тремпиада…
и канули эпохи… и забылись разделившие людей языки… и рухнули расчленившие их законы… и тянуло вслед за дымком… в заснеженный лес… туда, где было хорошо… где царство первозданной чистоты… олицетворял снег!.. где не могло быть места не только для страха… там не возникало и мысли о нём… здесь не было места и для самой мысли!.. мысли, как таковой… Всепоглощающая Чистота… задумай что–то… и тот час сбудется… да будет Свет!..
4. ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
… подумав о том, как сложно удержать камертон всеобщей настройки, звучащий с горних высей… я понял что меня унесло… я точно знал, что попал в иной мир… на занятом иллюзиями троне, здесь воцарилась Мысль!..
— Условия необходимо создать, — говорила коронованная иллюзия.
И память услужливо подсовывала мне ситуации…
Вспомнился последний визит к иеромонаху Эринарху.
Едва он оправился от ночного вторжения полиции, как в утренних сумерках под его окнами возникли два левантийских приятеля.
— Вы на ослах? — спросил он.
— Конечно, дружище! — Обнимал его тот, которого звали Александром. — И для тебя ослицу прихватили… Только подкрепимся маленько… и осликам чего–нибудь…попить и хлебушка… — Суетился во дворе Александр, снимая с ослов поклажу.
— Я вас забыл познакомить, — кричал он со двора. — Ну… Вы уж, как–нибудь сами!
— Сергий. — Гость протянул руку с гостинцем… пакетик травы…
— Рад! Спасибо!.. приятно и неожиданно. Особенно после сегодняшней хрустальной ночи…
— Ты знаешь, а я ведь читал твои труды… И честно признаюсь… — гость замялся. — А вот папа мой — твой поклонник…
— ну это он зря… хотя… приятно!.. благодарю.
— И папе было бы очень приятно, если бы ты подписал что–нибудь для него.
а потом гость пил… и они курили… и говорили, и готовились выступить на рассвете…
— Волшебные места! — восхищался Александр, восседая на своём осле…
— Да, — соглашался Сергий, уставший с дороги и вставленный по саму сахасрару!.. — мне нравится у вас в Сирии. Я даже подумываю, а не прикупить ли мне здесь землицы?
— Выкупи для меня Голанское плато… — Друзья дружно расхохотались.
— А вы удачно прибыли, друзья! — Веселился он. — Как раз у меня дело в Кфар — Нахуме к одному монаху. Хочу податься в монастырь… — смеясь говорил он о серьёзном своём решении….
— И не думай! — Поддал пятками своего осла Александр. — Зачем тебе это нужно? Это не твой путь, — совершенно серьезно отговаривал он приятеля. А тот смеялся!.. и смеялся его друг Санька!.. и друг друга Сергий тоже смеялся!.. и смеялась, помахивая хвостом, ослица Таки… и всем было легко и безоблачно на душе.
Я застал своего друга за необычным занятием: в саду, в подотканной сутане, монах ворочал камни. Отстёгнутый ковш бульдозера, в который он складывал камни, был наполовину полон.
— Время собирать камни? — Спросил я Эринарха, и мы оба рассмеялись, распахнув объятья навстречу друг другу.
— Брат, — всё еще улыбался я, глядя во внимательные глаза послушника… — я тоже грешен… и пришел к тебе… и вот почти стою пред тобою на коленях… и если мне дано будет снять с твоей души камень!.. со всем сердцем!.. а сейчас не откажи!.. я пришел к тебе с тяжёлой ношей… в моем сердце не меньше камней, чем в твоем ковше…
Я стал на одно колено и, переняв увесистый камень базальта, потащил его к бульдозерному отцепку.
— Да, — ухмыльнулся началу разговора Эринарх, — беседа намечается серьезная.
Не давая ему опомниться, следуя за логикой, понятной только мне… и еще, может быть, настигшим меня мыслям… я выпалил:
— …а ты знаешь, почему твои братья сегодня идут в молитвенные дома иудеев?!
Я вернулся от ковша и от взгляда, которым меня удостоил монастырский осёл… и сам ответил:
— Потому, что они ищут!.. ищут!.. там ищут, там… и приходят к тебе… и как брата просят: «помоги»… ведь не чужой… да тут уже и не важно, кто спасёт… свой или чужой… когда цепляешься за жизнь… с бедой бегут к тем, кто ближе!.. и друг — это тот, кто первый протянет руку!.. дающая рука уже не может оставаться чужой… ты по–прежнему остаешься мне братом… но всё больше друзей у меня там… должно быть, это правильно!.. наверное, так мир приобретает единство… и, того что я не найду у брата… я найду у друзей!.. ежедневная мистическая практика синагог сегодня мне ближе… понятней и — главное — доступней, брат…
Во рту пересохло. Ужасно хотелось пить. Эринарх жестом указал на флягу с ледяной водой. И пока пил, я наблюдал за тем, как монах проглотил горькую пилюлю. Я передал ему флягу… запить горечь… и произнес изменившимся голосом:
— Мне плохо, Эринарх!.. я чувствую, что обязан обратить свое внимание… нет! мой разум здесь становится бессильным… скажи, мне действительно нужно измениться?..
Послушник молчал.
— Мне нужно стать другим… — вздохнул я. — Дай мне техники! научи любить! покажи, как сделать своих любимых счастливыми!.. — требовал я невозможного у монаха, зная одно: мне требуется очищение…
Мне нужно было очиститься… но как?.. как очистить тело и душу? как очистить организм? Я просил монаха: научи, брат… покажи, что пост — это не сорок дней изнурительной голодовки и очищения кишечника… что пост — это напряженная духовная работа…
— Позволь трудиться в твоей обители… предоставь мне приют в пути… дай мне техники… ты же знаешь, Эринарх, я не боюсь физической работы…
— Извини, — односложно отказал монах… — мне нужно удалиться…
— Надеюсь, мы вернемся к этому разговору? — уже в спину ему прокричал я.
— Как будет угодно… — Эринарх учтиво поклонился на полуобороте… и направился к выходу из сада…
— Но почему?!. лишь потому, что кто–то однажды сокрыл их от непосвященных?.. а кто–то нарёк это тайными знаниями?!..
я смотрел на груду камней, собранную послушником… смотрел и с лёгкой улыбкой думал о том, что неспроста монах самолично подверг себя вот такой пытке… как, то бишь, у них это всё называется? эпитимии! не просто ему сейчас… закрылся… и — ошибся!..
Бог с ним!.. ну, его!.. да я и не злюсь на него… видно, и впрямь, я не вовремя припёрся!.. когда не в духе, не то что с Богом… с людьми общаться не хочется!.. это я знаю хорошо…
Направляясь к выходу из монастырского сада, в сторону Тивериадского моря, я еще раз оглянулся на груду камней… хотелось думать, что один из них был мой… камень, сброшенный мною с сердца… мерещился Гермес[2]… но за спиной уже маячила другая реальность… и она звала… и была настойчивей и соблазнительней этой…
5. ПОЛИЦЕЙСКАЯ НОЧЬ
Когда–то из этих вод выходил тридцатилетний Иисус. А теперь, вот — мой друг, Санька.
Это он вырвал меня из лап полицейской ночи. Он вызволил из разорённого, как после еврейского погрома, дома, где перепуганные старики со мною вместе переживали последние часы этой хрустальной ночи. В эту ночь от Тоя и улетела Лика.
Полночи держали меня в участке, обыскивая тем временем и дом Иры. И если у стариков, в моей мастерской, предъявить мне было нечего, то пятнадцать грамм дряни в зелёной коробочке, подброшенной ментами в нашу спальню, пришлось взять на себя… эти граммы пошли в нагрузку к тому злополучному косяку, что заначила старшая Ирина дочка… надо же! видно, ночь и впрямь была черна… отыскали менты тот косяк в девичьем будуаре!.. теперь он предъявлен маме… и мама в отрубе… то есть, на ногах… но реальности, как таковой, не ощущает…
Но всего этого я тогда еще не знал. Я сидел в полицейском участке и видел, как мимо меня провели Иру и ее подругу. Видел суету полицейских, а после — бегущих с носилками санитаров Скорой помощи.
И я спросил у дежурного… мол, кому это вызвали Скорую? и он сказал, что женщине, той, что постарше… и захотелось, чтобы этот бред наконец–то закончился… захотелось оказаться рядом с Ирой… и чем–то… как–то помочь… своим присутствием, что ли?
Странно, но меня тут же выпустили из участка… составили протокол, в котором значились пятнадцать подброшенных грамм… косяк милостиво скостили… сняли отпечатки моих пальцев… взяли подписку о невыезде и отпустили.
Я торопился домой, но дома уже не было… женщина из разоренного полицейскими гнезда мне указала на дверь.
6. МАТВЕЙ СО ТОВАРИЩИ…
— Изумительная вода! — кричал сияющий Санька, снова вырывая меня от невесёлых дум.
— Просто — волшебная вода! Иди, искупнись, не пожалеешь!
Санька развязал мешок и вынул из него свежее полотенце. Из недр мешка торчал банг.
— Тут, такой эпизод случился, — говорит Санька, выделяя греческое происхождение слова. При этом он недвусмысленно получает удовольствие от прикосновения к телу пахнущего свежестью полотенца.
— Только что прибыл небезызвестный тебе Матфей… со товарищи… они вчера друзей своих провожали в Россию… и, как положено эпикурейцам, того… перебрали лишнего…
— И что теперь? — вяло отреагировал я, все еще переживая разговор с Эринархом.
— Как это, «Ну и что»? — искренне удивился Санька. — У них «трубы горят»… со вчерашнего. А тут корабль швартуется к монастырскому причалу.
— И они уверены, что в трюме этой посудины специально для них припасено несколько амфор с нектаром? — я уже рассматривал тот несчастный корабль, и мысленно жалел его пассажиров… появление в корабельном буфете нетрезвой компании… желающей опохмелиться!.. это могло испортить впечатление от прогулки по святому озеру кому угодно… особенно, если из буфета, после их появления, исчезнет всё пиво.
Я смотрел в сторону причала и видел насколько обмелело озеро. Пожалуй, причал Кфар — Нахума был сейчас единственным местом на Киннерете, где могли швартоваться суда. Для монастыря — это была приличная статья дохода.
Садилось солнце, и в его закатных лучах возникла слегка нетрезвая компания… в монастырь друзья проникли по кратчайшему пути… через забор!.. сопровождала друзей капризная болонка… ну!.. из всей компании особенно выделялся один… худой!.. с длинными, распущенными волосами цвета вороньего крыла… и — крамола!.. по пояс голый!.. Матфей!.. голый Мотька!.. возглавляет группу… и направляется к нам с Эринархом… а перед ним семенит безобидная шавка… и тут беспородная собака послушника молча снимается с места и без особых прелюдий бросается им наперерез.
— Ах, как неприятно!.. — оценивает ситуацию Эринарх, спеша разнять двух сцепившихся друг в друга сук… Матвей же, разгадав маневр собаки послушника, уже поймал ее за ошейник… та в прыжке кинулась на спесивую болонку!.. и перепуганный хозяин уже сам поскуливал… двесобаки повисли у него на руках… и тут Мотя рванул монастырскую суку за ошейник!.. и вырвал из капкана ее зубов хвост болонки… а та орала дурным голосом… и пока монастырская сука снова не расцепила залепленную шерстью пасть, Мотя он попросту придушил её!.. ну, не то чтобы совсем… не как последнюю суку… но прижал всем своим весом к земле… и не отводя глаз, ласково приговаривал:
— Нельзя так, не хорошо…
— Мир вам, — произнес подоспевший послушник …
7. ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ …
Тоска одолела его. Натренированное тело опустилось на траву монастырского двора и, чертя какие–то фигуры тут же на земле, предоставило свободу его духу.
Этот грек, рожденный на сирийской земле, чье рождение было предсказано Дельфийским оракулом, уже обладающий тайными знаниями еврейской каббалы и пропитанный духом греческих мудрецов, инициированный многими Мистериями, прибыл в Египет.
Его Путь был отмечен удивительными открытиями и провидениями. Казалось, он постиг разумом все, что доступно было разуму. И теперь, стоя у ворот с плотно сжатыми челюстями неприступного вала, он видел не вход в храм науки, а плотно сжатые после отказа рты жрецов Фив.
Улыбнувшись этой мысли, и оценив ее как поэт, он едва не сделал выводя одну из самых изящных своих теорем. Но чей–то прутик опередил его:
— Вот так.
Он поднял глаза и его взору предстал облик старца, одного из тех жрецов Фив, что, вот уже в который раз, отвечают ему отказом.
— Это ваше право, — сказал он, — но мое право знать: почему?
— Потому, что пришел Пифагор, — услышал он ответ.
— Говорят, — внимательный глаз старца слегка сощурился, — ты скромно называешь себя философом?
— Это так.
— Почему? Ведь люди, обладающие твоими знаниями, в миру почитаются за мудрецов?
— Я не мудрец, я всего лишь тот, кто пытается найти. Именно этот смысл я вкладываю в слово философ.
— Твоя скромность похвальна, — жрец ничем не выдавал своих эмоций. — И будучи посвященным в Мистерии, ты пришел сюда? Изучив тайные традиции Моисея, ты припадаешь к стопам жрецов Фив? И что ты говоришь? Ты говоришь: «Я пришел!», и ты говоришь: «Я готов принять знания!». — Старец начертал на песке фигуру. Пифагор улыбнулся и подхватил игру. И пока он чертил, жрец тихо произнес:
— Я помогу тебе. Но помни. Я помогаю не Пифагору. Пифагора отныне нет. И еще. Ты должен будешь пройти через сорокадневный пост, непрерывно дышать определенным образом с определенной осознанностью некоторых моментов… — Жрец встал, давая понять, что говорить больше не имеет смысла.
— Иди. Я дам тебе необходимые техники. И помни, никакие знания не являются знаниями, пока за ними не стоит твой собственный опыт переживания.
Иди и очисть свое тело от скверны и ядов, голову от мыслей, а сердце от страстей и желаний, и тебе откроются врата Мистерий.
Провести сорокадневный пост в стенах монастыря!.. это было бы прекрасно!.. но Эринарх мне отказал… «это место надо заслужить»… — ответил настоятель… и я видел как судорога гордыни пробежала по его всё еще милому лицу…
«впрочем, — говорил он, — никто не мешает тебе обратиться в другие монастыри, где набирают послушников… там можно пройти весь курс подготовки к постригу… но это не всегда приятная процедура… я имею в виду… ну… — грек подыскивал русские слова, — «эго»!.. нашёл он верное слово… — это очень болезненно…
— И потом, надо хорошо подумать, так ли уж это нужно тебе?.. ведь монастырская жизнь — это не только общение с Богом… это и многие лишения… и часто — добровольные… и всё это… нужно будет пройти… а по существу, монастыри готовят батарейки… аккумуляторы… тебе это уже не нужно…
он был прав!.. мне это было не нужно!.. нет!.. ну я же летал, Господи!!! а подзаряжаться, думал я, можно где угодно… и потом…я не собирался становиться затворником… и, стало быть, роль монаха, не способного использовать свою энергию на радость мира… меня не очень–то и прельщала тогда… и я по–прежнему пребывал в миру… и жил, и учился любить…
8. СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА…
к этому периоду относятся мои воспоминания о маленьком, восьмиугольном храме… они прекрасны… но все же… сторожевая будка, в охраняемом мною поселении… храмом никогда не была… мне было хорошо в ней! настолько хорошо, что как–то в порыве восторга сорвалось с уст слово «храм»… И закрепилось это слово за сторожкой. И была она мне длинными ночами и крепостью и домом и храмом….
…до конца месяца оставалась еще одна смена, но выходить я больше не хотел… долгие месяцы мучительного недосыпания доведут кого угодно до сумасшествия… это было моё последнее дежурство… я так решил….
когда–то в юности я читал о жестоких китайских пытках… лишение сна была одной из таких пыток… помнится, я тогда с удивлением подумал… что, наверное, и впрямь, это сложно не спать… собственного опыта бессонных ночей у меня тогда не было… зато теперь — хоть отбавляй!.. Вот я и решил пригласить подменщика на последнюю ночь… я и напарника предупредил!.. сказал, что забираю вещи домой… и чтобы после смены тот подъехал не как обычно к воротам мошава, а прямиком к моему «храму»…
Напарник не скрывал своей иронии, говоря об этой будке, как о восьмиугольной гайке, отлитой из бетона с прорубленным окном и массивной дверью, как в бункере… куполообразная крыша, была покрыта оранжевой черепицей… точно кипой… в ней застрял сноп сена… русый завиток торчал из–под кипы…
в жару это строение раскалялось до невероятности!.. а с началом сезона дождей, ее бетонные стены отсыревали… и сквозь зарешеченные окна, сквозь прорванную пыльную сетку от гнуса, врывался сырой ветер… злой и холодный!.. Ветер набрасывался на паутину и храмовые пауки, к которым я был снисходителен всё лето, в ужасе разбегались!.. хоронясь, таили обиду: мол, что это их не предупредили, что лето уже закончилось!..
их тщетные усилия противостоять стихии!.. и мне становилось жаль их… моих храмовых пауков… я брал веник и сворачивал паутину… как сворачивают декорации… и тогда, на смену летней сеточке паутины пришли свежие потоки сквозных дождей… запыленный, раскаленный израильским солнцем храм, задышал зимой… одиноко стоя на въезде в «намоленный» религиозный мошав, он тонул в красотах живописнейших мест юга Голанских высот… я любил эти места… мне нравились сосны и кедры… я любил кипарисы и эвкалипты… полюбил ночной запах туи… мне было хорошо от сытого фырканья коней… от мычания телят…
а выслушивать целые хоровые композиции шакалов!.. отправляясь на водопой, те взбадривали себя ритуальными завываниями… я любил одинокий брех бездомной пастушьей собаки… и даже навозный запах, изредка накрывающий мой маленький храм…когда было совсем уж невтерпеж, я бросал прощальный взгляд на низко натянутые в звездном небе облака… подсвеченные ночным солнцем!.. и словно прислушиваясь к тишайшей глубине, именуемой небом!.. закрывал тяжелые!.. железные!.. воистину, храмовые ворота!.. двери сторожевой будки… включал свой рабочий компьютер…и поджигал благовония…
Эти волшебные палочки попадали ко мне через учеников Мастера… они привозивших на Голаны его книги, благовония и многочисленные рассказы о своей жизни в ашраме…
Танцовщиком не знающим устали, хитро извивался дым, обволакивая ароматом тибетских композиций, и привнося в маленький храм дух просветленного Учителя…
Дымок коснулся потрескивающей рации… опасливо обошел выключенный вентилятор… потёк мимо рукомойника… и задержался на рабочем столе… где рукой настоятеля храма уже были разложены блокноты с малопонятными записями трансляции…
я любил это колдовство… это состояние, когда сам становишься частью какого–то едва уловимого процесса…
наблюдая, я позволял случаться странным и всё больше удивительным историям… эти истории потом записывал писатель… а я их редактировал, соизмеряя все со своим пониманием чуда…
За пять месяцев я накопил не только опыт недосыпания, но и нечто более существенное… и если мои опыты по расширению сознания привели к выводу, что сама личность, без участия сущности, не является таковой, то моё наблюдение за собственной личностью, дало неоценимый опыт переживания… и как бы при этом не хорохорился писатель, все же он — только описывал!.. а переживал всё это я!..
«О, — говорил писатель, — это была полноценная жизнь с осознанием присутствующей в нём сущности»…
а я шизел!.. потому что всё это очень походило на «глюки»… а он, писатель, меня потом успокаивал, говоря, что только вырываясь за пределы сознания, откликнувшись на зов сущности, можно подробно, лицом к лицу распознать то Единое… то Непостижимое… то, не произносимое всуе…
Вот это и было то самое. То существенное, что являлось ко мне этими ночами. Теперь я ощущал, как в моей личности застрял осколок Единого. И ради этого осколка, ради этой едва тлеющей искорки, я готов был совершать и глупости и подвиги.
С любовью, преисполненной благодарности, смотрел я на свой маленький храм. Может быть именно тогда, в ту самую ночь прощания с ним… мне захотелось пригласить своих старых и добрых друзей!.. может быть именно тогда и возник замысел Тремпиады…
— Прекрасная пора сменяет цепь невзгод, — пел Дольский.
— И зрелые плоды порой приносит праздность, И что же за беда, ошибки эпизод? Успехов и потерь лишь мизерная разность. На критиков ворчливых века и идей, Смотрю как на мальчишек старых и лобастых. Копилка доброты и мудрости людей, Пришелец из миров, где заблужденье — пастырь. Оставить ли теперь, искать, не находя, — Или опять копаться в душах и природе? А март в окно стучит лукавый негодяй, Беспечный хулиган, всегда на взводе…Той вернулся… Вернулся в мир, в котором жила Лика. И он снял замечательный домик с крышей, под оранжевой черепицей. И уж, коль скоро сторожевая будка, в которой он просиживал ночами, превращалась в храм, то снятый им домик был призван стать тем местом, где не могла не появиться возлюбленная. И дом, в который влетела его богиня, сразу же превратился в их храм…
— Храм любви, — обнимая Лику, говорил он. И они стояли посреди просторного салона своего нового жилища и были оба молоды и счастливы.
— У нас давненько не было медового месяца, — несколько смущенно лепетала Лика, и ему становилось хорошо…
Что касается человека безработного, только приступившего к оформлению пособия, то меня несколько волновала вся финансовая сторона проекта. Но, прикинув навскидку, я и сам понял, что временные проблемы с деньгами, не могут затмить тот мир, в котором обещан медовый месяц!
Тогда–то и созрело решение: не спорить с происходящим. Так перестал существовать вопрос денег.
Едва прозвучала увертюра, а необходимые суммы стали выплывать самым непостижимым образом. В день заключения договора с владельцем дома, отец вручил мне тысячу шекелей — на новоселье. Эта тысяча и была отдана в уплату за первый месяц. Месяц счастливой и беззаботной жизни под оранжевой крышей. А потом появилась подработка на подрезке цветов и виноградной лозы. И, наконец, участие в съемках фильмов. Как–то мой приятель… Роже… пригласил поучаствовать в съемке эпизода для исторического фильма… эти фильмы снимали в Старом Городе… австралийцы снимали… американцы… русские…
— Кинозвезда, — веселилась Ира, а я пожимал плечами, как бы говоря: «Да я здесь, вроде, не при чём».
Встреча статистов с киногруппой была назначена у входа в парк, окружавший развалины древнего городища. Здесь, на руинах синагоги талмудистских времен, киношники снимали эпизод, связанный со строительством Храма. Маленький трюк, и вот уже нет руин, а есть возведенные строителями стены. А мы, как–бы, и есть те самые строители. По крайней мере, изображаем их.
Я окинул взглядом группу и рассмеялся. Мне нравились эти хипповые старики и молодежь. Мне нравился их облик, в коем сохранялось присутствие духа свободы. И выражалось это не только посредством длинных волос, седых, а то и просто — бесцветных бород, но и внешним пренебрежением к стилю одеваться. В них было нечто неуловимое, что делало их привлекательными, что выделяло из общей массы. Я говорю так, потому что сам смотрел на них, глазами режиссера. Я пытался угадать в них нечто. И то, что угадывал, нравилось мне. И почему–то захотелось остаться в этой команде. Хотя, признаться, шансов поучаствовать в этой игре, было у меня маловато. Сбритой по варварски бороды, мне явно не хватало.
Я еще раз с восторгом осмотрел красующихся новым имиджем стариков и мужчин… а ревнивый глаз художницы по костюмам остановился на мне. От этой очень изящной и эмоциональной женщины, сорока с небольшим лет, статисты получали пропуск в мир кино. Она выхватывала человека в свое полное распоряжение и делала его соучастником общего дела… это удавалось ей с такой же легкостью, с какой выхватывала она из шкафа подходящую для платья вешалку!.. Ее руки в массивных серебряных браслетах, возвращали новоявленных актеров назад… на несколько тысячелетий… сама Рука Мистерий направляла их туда, где они были мастерами… строителями Храма.
всё та же рука указала и мне направление… я прошел вдоль каменных ворот древней синагоги, задержал взгляд на высоких, массивных колоннах, некогда удерживающих своды храма Старого Города, и проник вглубь построек.
Возгласами одобрения встречали кинематографисты каждого статиста, преображенного руками художницы… нас встречали как настоящих героев… но мы были только материалом в чужом кино…
десятки раз поднимались и опускались тяжелые каменные блоки… стучал по древнему зубилу огромный молоток… высекались из камня искры… и мелкие осколки… и ступали по январской луже босые ноги… обутые в сандалии… корзины, в которых строители бережно переносили глыбы базальтовой породы … и ловко летающие перед камерой руки костюмерши… то накидку одёрнет… то джинсы повыше закатает, когда те явно вылезут перед объективом… она вымарывала роскошную бороду камнетёса… грязью из лужи мазала ноги каменщикам… в лохмотья превращала чистенькие тряпки, из которых только что ловко соорудила нам одежду…
— Сниматься в кино чертовски интересно! — восклицает писатель. И я соглашаюсь с ним.
— Но физически это бывает трудновато, — говорит он, и я опять соглашаюсь с ним, поскольку бутафорский камень, присутствовавший на короткой репетиции, мне заменяют базальтовым монолитом. Но и этого оказывается недостаточно режиссеру. И тогда он взлезает на второй уровень и притормаживает блок, через который перекинута веревка… а веревку эту тащу я… изо всех сил…
После съемок я попрошу приятеля Роже сняться вместе под аркой древней синагоги. Мысль о том, что эти ворота уже однажды выпустили нас в дальний путь странствий… не дает мне покоя!.. я думаю, что Роже тоже ощущал, как за его спиной, вместе со вспышкой фотоаппарата, вспыхивало морским сиянием небо!
Я видел как сквозь старательные тучи струился белым корабликом сизый дым мистического тумана… и я знал… я был уверен, что скоротечен будет этот праздник!.. Что отголоски того мира, где у причала стоит парусник, снова уведут нас в разные стороны, чтобы снова и снова пробудить в нас воспоминания!.. чтобы снова свести вместе… и… кто знает?.. быть может снова в парке Старого Города…
9. ИЛЛЮЗИИ КИНО
Какие–то специальные агрегаты поддавали таинственного тумана; и горели в мониторах костры, зажженные внутри строений храма.
От этих костров становилось хорошо. Так хорошо, словно, и впрямь, строил Храм… в душе своей.
красивая иллюзия… кино подарило возможность увидеть героев своих книг в несколько иных обстоятельствах… сейчас они все так и останутся строителями Храма.
Кино привнесло в жизнь этих людей сказку… которая как–то незаметно, буднично вошла в их жизнь… на правах подработки… тогда как в сотворенной сказке, они навсегда останутся ее героями… и будут они на экране не безработными статистами… а строителями… Мастерами… Мудрецами, возводящими стены своего Храма… на Святой для них земле… мой народ строил тот Храм… и я строил со своим народом!.. строил с азартом… раскрытым сердцем… строил так, как легко и радостно строят свою жизнь!.. строил, всеми своими знаниями, опытом… прошлыми жизнями!.. строил, как строят свою реальность добрые волшебники!.. те, что достигают в своих молитвах врат небесного Иерусалима!..
я строил храм с мыслями о своей женщине… строил, как вьют гнездо для голубки… и сердце моё переполнялось любовью и благодарностью… Это не я нашёл эту женщину… это Он мне её дал!
Женщину, рядом с которой я ощутил свободу полёта. Для такой… да где бы она ни появилась… на любом месте… мне казалось, я мог бы выстроить храм…
Но она не хотела храма. Она хотела деревенский дом где–нибудь в России и тихой, без разговоров о духовности жизни праведницы.
И мне на мгновение показалось там, на съемочной площадке, что не храм это я строю, а тот самый деревенский дом, о котором мечтала моя жена. И рядом — мои друзья и соседи. И мы строим все вместе. Строим так же легко и радостно, как некогда возводили свой Первый Храм, во дни Моше Рабейну.
Земные жилища богов. Дыханием своим и благодарностью в сердце, что зовется молитвой, выдыхал народ строителей в камни имя Его.
И потому, вовсе не был мне тяжек тот камень, который таскал я на второй уровень несчетное число раз перед объективом камеры.
И не было на лице моём ни усталости раба, ни тени усилия наёмника. Я смотрел на моих знакомых, приятелей, друзей, а они на меня. И мы, видели друг в друге не только соседей, жителей нашего городка. Мы были те самые строители. Волшебники. Мастера.
А потом… потом мы расхаживали по съемочной площадке, подшучивали друг над другом и подставляли себя под зоркий глаз фотоаппарата Роже. А тот уже запечатлевал другие моменты…
— вот я…
— это мы под аркой ворот древней синагоги… Строим ее. Возводим стены… будто… а это нам открылась маленькая тайна строителей… ишь, как ржём!..
— это мы с Роже… а это вся наша группа… Вот такие вот простые еврейские мордахи… Мастера, блин… строители…
с того самого дня, прочно вошла в меня мысль о земном доме… чтобы в большие, светлые его окна, в любое время могла бы впорхнуть моя Ирка…
10. НА ПОДСТУПАХ К «ПЕРЕХОДУ»
Неопрятный пес новой мысли снова загнал меня в угол… я и впрямь видел, как он смотрел на меня… умными такими глазами… и дружелюбно вилял хвостом… он как бы говорил:
— Сам видишь, дергаться не имеет никакого смысла… наблюдай и будешь цел…
Возражать не хотелось. И я наблюдал. А тупая игла прошила меня от макушки до пят.
я ощущал, как чьи–то властные пальцы извлекали меня из какого–то всеобщего собрания… гербарий, что ли?.. и зачем–то выволокли меня… на свет… ощущение шанса… еще ничего не понятно, кроме самого ощущения, что это — шанс!.. тем временем, из гербария, один за другим, извлекались все новые и новые персонажи непонятной, а потому устрашающей, пьесы… и хотя я уже был отшпилен, а стало быть — свободен!.. я, как дурак стоял и заворожено смотрел туда, откуда опять, и опять, и опять извлекались зловещие и мало смешные герои… и мне не нужна была эта опасная свобода!.. мне захотелось назад… в гербарий… под шпильку… где обо мне всё было ясно… где всё было на своих местах…
здесь же… как ни силился, ну не мог я припомнить ничего о себе … то есть — абсолютно!.. абсолют, в котором я пребывал сейчас, не имел ни памяти, ни времени…
какое–то мгновение я еще жил памятью о своём прошлом, которого был лишен… всё же оно где–то оставалось!.. пусть и в ином мире!.. и эту память о недавнем моём прошлом приносили лучи света… того света… потустороннего… мое прежнее существование перестало иметь смысл… оно превратилось в ИЛЛЮЗИЮ.
я тяжело вздохнул… ведь знал!.. знал я!.. хорошо знал, что эта Иллюзия будет являться ко мне во снах!.. а я буду бежать от нее, сломя голову… бежать, пока не оставит меня разум… или… пока не положусь на интуицию…
но что это? что происходит?.. ведь я — всего лишь наблюдатель… вон и пёс согласно зевнул… ишь, какие клыки! порядком съеденные, но еще крепкие!.. у нас с ним — пакт… мы — наблюдатели… он не вмешивается… я не вмешиваюсь… и если он всего лишь чья–то мысль… то я наблюдаю чужие мысли!.. я уже смирился с тем фактом, что и сам — ничто иное, как плод воображения… хотя и мнил о себе, как о части чего–то большего… но если для осознания того, что я не есть мысли, нужно было наблюдать их… я готов был наблюдать за мыслями… и то и дело… словом, влетал в такие дебри… что и пёс, вон, облизал шершавый нос, и, поджав хвост, удалился…
Мне стало немного грустно… и стыдно за себя… я успел привыкнуть к этому нечесаному, словно грязное облако, увальню… и я смотрел в небо, куда вел его туманный след… и судорожно улавливал отдельные обрывки мыслей, нахлынувших прощальным дождем… и радужные мысли… словно цветные лоскутки кружились вокруг одного слова… и это слово: «ПЕРЕХОД».
Но что такое, этот «переход»?.. что это за место такое?.. что за шлюз?.. как отыскать тот нужный причал, через который отошёл за пределы жизненных границ… разбрызганный закатом по небу… пёс… вселявший, если не страх, то, по крайней мере, уважение… и тут… что–то тихое… разлетающееся в алом… уплывающее вслед за кровавым потоком заката… струящееся в неизвестном направлении… куда уносились души… и откуда нисходили великие откровения и стихи… слагаемые великих книг… составные величайших открытий…
Сделав несколько шагов, я наткнулся на труп собаки. Склонившись над трупом, вспомнил небесное видение.
— Переход, — произнес я, и снова посмотрел в затухающее, словно сознание, небо.
… Огненная голова солнца, смазав горизонт чем–то алым, закатилась за горы… а мне привиделось, что молодой месяц незаметно взмахнул своим послушным палашом.
Скоротечные сумерки, молчаливо рухнули и перетекли в ночь… а уж та внезапно замерцала, заиграла мириадами огней… вспыхнули… на склоне горы Мерон кристаллы… и как–то сразу погасли… навсегда… как навсегда закатилось за горизонт небесное светило… как пёс, безжалостно зарезанный кривым, точно месяц, тесаком!.. голодного нелегала!.. таиландца!.. и поливочная система парка смывала щедрыми потоками воды следы насилия… и память о кровавом, как интефада, закате… И откуда–то из самой глубины всплыли, ощущения из детства…
Вечер. Огни. Дождь. Запах прибитой пыли, Ивы, И тихая дрожь, И слова: «Облака проплыли»…11. ПЕЛА НЯНЕЧКА В ХОРЕ
Все же злодейская штука память!.. на каждого щегла у нее по манку имеется… сейчас память неожиданно выпустила из своих глубин то, что, казалось, забыл окончательно… к чему не хотелось возвращаться… в страшных кошмарных снах, да не привидится такое!..
Наш старый двор… сколько песен!.. а сколько стихов я посвятил тебе!.. сколько тепла и любви находил в тебе! и вместе с тем, никогда не забывал холод… страх и ненависть, наполнявшие твои сквозняки…
Наш старый двор составляли два четырехэтажных кирпичных дома в три подъезда… с одной стороны они были огорожены вереницей сараев, с другой — забором от цементного склада… забор обступали ветхие сараи… в одном из таких сараюшек, уставленном снаружи баками для мусора и пищевых отходов, жили странные и вечные, как сами сараи, люди… муж и жена… дворники… татары…
когда взрослые произносили эти слова, было в них что–то пугающее… Но когда Дворник залазил на обветшалую крышу какого–нибудь сарая, чтобы достать оттуда начищенный ваксой тяжеленный, на шнуровке из сыромятной кожи, футбольный мяч… мы смотрели на Татарина с нескрываемым восхищением!.. и благодарностью!..
Крыши этих сараев проваливались даже под весом откормленных Дворничихой котов… потому–то нам, мальчишкам, запрещалось залазить на крыши сараев… запрещалось под угрозой показательной порки… другого языка мы, наверное, тогда не понимали… то и дело, мы нарушали этот запрет… и потому знали, какой опасности подвергал себя Дворник, возвращавший нам с прогнивших крыш не просто мяч…
Трудно сказать, почему наши родители пугали нас этими людьми… я по сей день, помню кисло–сладкий запах их жилища… запах овчины и нафталина… я помню, и то тепло, и какой–то не домашний покой, манивший нас, пацанов, как манит к себе все иное, незнакомое…
Я в сереньком своем пальто с пришитыми к нему настоящими погонами… и с мусорным ведром в руках… я появляюсь во дворе… утро!.. солнце светит!.. из черных тарелок, висевших на каждой кухне, звучит единый слаженный хор.
— «Союз нерушимый…», — старательно вторю я хору!.. а Дворник, завидев меня, машет издали рукой… но я делаю вид, что мне, нынче не до него… и потом, что это значит: махать рукой человеку с офицерскими погонами?..
я прохаживаюсь прогулочным шагом взад–вперед, в надежде, что кто–то из пацанов, случайно выглянет во двор и приметит эти мои полевые погоны с двумя зелеными звездочками…
Мало–помалу я приближаюсь к Дворнику, не переставая удивляться его повадкам… Татарин смешно суетится… он хватает метлу… забавно так перехватывает ее обеими руками!.. и неожиданно… с командой «смирно»!.. замирает, уронив метелку… а тут и вовсе… как прокричит:
— здравия желаю, ваше благородие! — и прислушиваясь к непонятным мне словам, тихо добавит:
— господин лейтенант желает морковку?..
я сижу в дворницкой и, болтая ногами, грызу сладкую морковку… я рассказываю темному Дворнику, отсталому Татарину, человеку из другого мира!.. что лейтенант — вовсе не «благородие»!.. а наоборот — товарищ всем солдатам!.. а дворник кивает головой и докуривает ароматную «козью ножку»… а потом сплёвывает на ладонь и о слюну гасит окурок…
завидев отца, я едва сдерживаю себя, чтобы не помчаться вприпрыжку… и чрезмерно медленно… с достоинством… прощаюсь с Дворником… и только теперь мчусь в детский сад!..
пацаны обступили меня со всех сторон… еще бы!.. На моих плечах самые настоящие погоны!..
— офицерские, — говорит Сашка…
— ага, офицерские! — со вздохом подтверждаю я… — товарища лейтенанта…
— Ты что ли, товарищ лейтенанта?.. — смотрит на меня обиженно Сашка… и все почему–то смеются… и я смеюсь… мне весело!.. и всем нам весело! и даже Сашка смеётся!.. и вот мы уже играем… Мы играем в войну, потому что хор из репродуктора поет «вставай, страна огромная»… и мы — встаём!.. на Священную войну!.. хотя и не знаем, что это такое… но у меня настоящие погоны!.. и у Сашки — настоящая пилотка!.. мне очень хочется поиграть в этой пилотке!.. но я вовремя вспомнил, что на моих плечах офицерские погоны…
мы играли в войну и, как положено, побеждали… мы боялись нашего невидимого врага и широко раскрыв глаза безбожно врали друг дружке о его силе и коварстве! а когда выходило, что такого–то и победить невозможно, мы придумывали в себе волшебные качества, которые, — и мы были в том уверены, — помогут справиться с нашим общим врагом… ведь наша война — «народная», «священная война»…
…Тойка стоял на часах… в кино про войну он видел, как нападают на часовых… но он — товарищ лейтенанта, он не проспит врага…
из кино он научился вглядываться куда–то вдаль, выискивая далекого врага; из кино он знал, как нужно себя вести, если фашисты появится рядом… но фашисты ни разу не появлялись… играть становилось все трудней, потому что появилась скука… и тогда Тойка прогнал ее веселой песней!.. подхваченной из репродуктора… теперь стоять на часах, ему стало намного веселее…
«Край родной на век любимый» — пели детские голоса, и Тойка с восторгом подхватывал:
«где найдешь еще такой!
где найдешь еще такой?» — спрашивал он… и вместо ответа на него накатывалась волна восторга и гордости за край березок и рябины… за куст ракиты над рекой… и за то, что он, пацан, стоит на страже этого так горячо любимого края, о котором поет далекий хор детей… может быть даже, из самой Москвы!..
— Ты что тут делаешь один? — ухнуло в сердце у Тойки… проходившая мимо калитки сада женщина, наморщив лоб, сурово разглядывает его…
— небось, мёртвый час прогуливаешь?
— что?! — гулко оборвалось сердце… а с ним и радостный детский хор… Тойка почувствовал себя покинутым… игра уступила место страху… и был он с этим страхом один на один… во дворе, где не сложилась игра, он был один… один в мире, где ему почему–то было не весело…
ну чему веселиться?.. лн опоздал на обед и на мёртвый час… провинился… и теперь, должен будет предстать перед нянечкой и воспитательницей для экзекуции… так положено: провинился — снимай штаны… а снимать штаны стыдно… а не снимать их нельзя, потому что ты же все–таки провинился…
с другой стороны… попробуй тут не провиниться, когда столько вокруг всего интересного!.. но он знал, что объяснять это будет некому… как знал и то, что при экзекуции уже никто ему не поможет… словом, нечего и ждать никакой помощи… и он не ждал ее… не ждал, потому что он, Тойка, маленький пацан, назначивший себя главным в совсем недетской игре, вдруг увидел: нет никого, кто бы смог сейчас ему помочь… нет никого в целом мире!.. все исчезли!.. все!.. есть только он… и его вина!.. И еще — страх!..
и, как–то по–взрослому охнув, кинулся Тойка бежать… предчувствуя что–то нехорошее… он боялся, трусил, но бежал… бежал навстречу страху… бежал на встречу с ним!.. Тойка несся напропалую! стремглав к небольшому особняку, в котором и располагался злополучный детский сад!..
он бежал, шлёпая ботинками по лужам… он видел как подолгу зависали в воздухе черные брызги, прежде чем успевали стать грязью…
озябшие ноги, в промокших, приспущенных чулках, пестиками болтались в огромных солдатских сапогах…а заколдованные сапоги несли в настоящую атаку… не игрушечного боя… неизвестной войны…
и Тойка бежал… и сердечко его билось тревогой… но ощущение игры пока еще не отпускало его… игра все еще не отдавала пацана в распростертые лапы страха… и тогда страх вполз в саму игру…
Страх вполз змеиным шипением деревенской бабы, подвязывавшей челюсти цветастым платком… она сидела на детском стульчике, широко расставив свои сморщенные колени, и шипела… и шипение её подавляло в детях волю… и те, превращались в кроликов… маленьких, безвольных… напуганных… жмущихся друг к дружке зверьков… с кроликов уже содрали их стыдливые мягкие шкурки… но кролики все еще пели слаженным хором: «Не надо, нянечка, прости…»
Некоторые, из раздетого донага хора, соскакивали со скамеечек, норовя спрятаться за спинами других детей… но воспитательница, стоящая рядом со стулом, на котором раскорячилась нянечка, тихим и вкрадчивым голосом объясняла, почему это делать не нужно…
— Сейчас, — одинаково округляя рот и глаза, сообщала она, — перед нами пройдут нарушители дисциплины… для порядка их облили бензином… если не хотите сгореть вместе с ними, когда они будут беситься, стойте так, чтоб не замазаться бензином!.. оставайтесь на своих местах, дети!.. всем будет видно!..
— Т-ссссссс! — устрашало нянечкино заклинание… и, словно по команде дирижерской палочки, детский хор захлебнулся криком!.. плакали, мелко дрожа от холода, от страха, оттого, что видели, как плачут другие… но громче и искренней дети плакали, когда перед ними нескончаемыми кругами проходили провинившиеся мальчик и девочка, от которых пахло бензином… Тойка чувствовал как покрывается «гусиной кожей»…
наверное, тогда он и вспомнил, что когда–то умел летать!.. он подумал, что был ангелом… и что теперь у него только и осталась «гусиная кожа» от ангельских крыльев…
А дети плакали, дети кричали, дети боялись… боялись что «замазанные» запачкают их чем–то, что обязательно их убьет!.. дети плакали… выли!.. дети не хотели умирать! они не желали никому смерти!.. и прежде всего — себе самим!..
Страх торжествовал над миром…Тойка вжался спиной в дверной проем, когда мимо него проходили раздетые до гола мальчик и девочка…ему казалось, что они, невиновные, сейчас обнаружат его!.. истинного нарушителя!.. и вопьются в него своими перепуганными глазами!.. и всё их страдание укажет на него!.. опоздавшего на обед… и на мёртвый час… не раздетого… не облитого бензином!..
А увидят, то уж непременно накажут… должны будут наказать…иначе не бывает… провинился — отвечай… и это, наверное, правильно… только… ох, как страшно!.. всегда страшно, когда тебя обливают бензином…
Но никто не замечал его… все не сводили глаз с провинившихся… вот они… худенькая, ссутулившаяся девочка… она устала плакать и теперь страшно выла, выдувая носом большой зеленый пузырь…
Он вспомнил ее на новогоднем представлении… она была в костюме зайчика… и ему почему–то стало неловко, что сейчас он видит ее голой… и что в носу у нее этот зеленый пузырь… поэтому Тойка перевел взгляд на мальчика… он чесался и кричал дурным голосом: «больно! больно! печёт!!» и тут он кинулся куда–то бежать… но дети, окружавшие его со всех сторон, сами затолкали беглеца обратно… в круг… никто не хотел вспыхнуть вместе с ним… и когда Тойка увидел глаза этого раздетого, обезумевшего от страха ребенка, он понял, что не боится ведьмы нянечки!.. он даже не был раздет!.. а значит — был защищен!.. и не только одеждой… на его плечах топорщились настоящие полевые погоны офицера!.. а на них — зеленые звездочки!.. и он почувствовал, как звездочки взметнули его вверх! погоны стали крыльями!.. а когда он приземлился… солдатские сапоги снова понесли его в атаку!..
когда Тойку выписали из больницы, мать зачем–то повезла его на кладбище… на свежей могиле, рядом с кустом сирени, за наскоро спиленным столом, сидели какие–то мужики и выпивали… Тойка долго смотрел на них… смотрел, как они молча пьют… молча закусывают… как рассматривают его и мать… среди мужиков узнал Тойка Дворника.
— Кто знает, — жуя сказал Татарин, когда мать взяла Тойку за руку, и они направились к выходу, — не взорви малец канистру, быть может, еще пела бы нянечка в хоре… Царствие ей небесное…
Часть третья ПЕРЕХОД ИЗ МИРА ФОРМ
1. SOS
Сладкие сны… беспечные грёзы… по утрам они смущали своей откровенностью… и… смущенный герой пробуждался!..
Он очнулся… темные от влаги тучи промыли его глаза… взгляд стал внимательней… слух острее… а сам он — осознанней… терпимей… и сейчас… его чуткий радар улавливал из непостижимых разумом глубин, звуки нездешнего беспокойства!..
Там что–то металось и звало!.. скреблось!.. и захлебывалось!.. тащило!.. несло!.. разрывая, бросало в разные стороны!.. там прощальный призыв о спасении, вырывался из груди… и превращался в разрастающийся пузырь… Пузырь устремлялся вверх!..
2. БАРДО ТХЁДОЛА…
Липкая жара августа… безработица… ИНТЕРНЕТ!.. и я, лавирующий между реальностью и виртуальным миром… у телевизора, в кресле, постанывающий во сне отец… а в телевизоре — беспредел!.. новости из района Баренцева моря… не вникая в суть очередной страшилки, жму на кнопку пульта… отключаю звук… отец несогласно мотает головой… а я заскакиваю на кухню… вытаскиваю из морозильной камеры обледеневшую бутылку с водой… возвращаюсь к себе… по пути бросаю взгляд на экран онемевшего телевизора… те же картинки, что и в Интернете… атакованная незримым противником атомная подлодка «Курск»… на морском дне…
Отец продолжает выказывать несогласие во сне… он спал… потому что мог спать всегда… везде… в самых неподходящих местах и позах… большую часть своей жизни… лучшую ее часть!.. он провел во сне!.. он спал сидя. стоя… спал в пути… это было его бегством от реальности… сны… форма иллюзии земного существования!.. ведь во снах папа всё еще летал!.. и переживал свои полеты… словно, никогда и не покидал военной авиации…
Меня тогда в помине не было… и кто знает, родился бы я или нет, не свались он однажды на грешную землю… просто, однажды… зимой… после деревенской свадьбы… когда из баков был слит практически весь спирт… военный самолет, на котором тогда летал мой папа… при заходе на посадку не выпустил шасси!.. И тогда обледеневшая машина тяжело опустилась на ледовую дорожку застывшего в ужасе озера!.. Летающий дракон, воняя перегаром, упал на брюхо!.. полгода госпиталя… и — прощай авиация!.. навсегда… вот тогда на свет появился я… и сколько помнил себя, мечтал летать!.. мечтал о небе!.. как папа…
А теперь я живу с отцом под одной крышей… на его пособие по старости… я раздражаю его бездействием… я мечтаю о своем собственном доме… о мире в нём… и в душе… я пишу роман…
Грот был мрачен, сыр и неуютен… его стены были влажны от сочащейся воды… казалось, известковые наросты рисовали здесь таинственные символы, олицетворяющие историю самой земли… на ум приходили легенды, мифы и аллегории… они обретали непостижимый смысл… становились формулами… проливали свет на тёмные стороны собственной жизни… огненный поток Шамаим[3], сносит меня туда, где чернеет, зияющая страхом Неизвестность… Смерть…
… но довольно было одной свечи!.. и тьма отступала… и дым иллюзии оставлял человеческий ум!..
… когда–капля–отделялась–от–известкового–кратера…
… оглушительный взрыв сотряс дно океана!!!
… взрыв заглотил гул водопада!!!
… между человеком и океаном… уже не существовало никаких преград!.. не было человека!.. не было океана!.. они стали едины!..
наступила тишина… и в тишине… молитва!.. как песня, рождённая на Земле… как слово на выдохе!.. в небо!!! сквозь тёмное облако теней… сквозь дымные круги фантазий… всё выше устремлялось слово… всё глубже отзывалось оно… вопреки страху и боли!..
… и простые слова людей, в незатейливых одеждах… и треск негаснущего костра… и нелепая ночь… и тоска души по невозвратному…
— беги… — говорил старик… и душа воина вздрогнула… готовая к побегу… она ждала сигнала!.. а вот теперь… она не знала куда ей бежать…
— беги… — от жажды жить…
но душа всё ещё отождествляла себя с телом… душа скорбела над ним…
— беги… — от самовлюбленности… невежества и развлечений… старик говорил простые слова… оставленные ученикам Буддой…
— не будь рабом… только так положишь конец своим страданиям… — наставляет душу монах… и душа воина замирает… притаилась душа… где–то рядом… и оплакивала душа тело… но всё настойчивей звучал призыв сбросить цепь рождения и смерти…
— Ты знаешь, что это иго… — говорил старец, — и тогда… освободившись в этой жизни от страстей… путь свой продолжишь ты… исполненный спокойствия и мира…
и слова, произнесенные монахом, достигли цели!.. по бескровному лицу пробежала слеза… неприсущая воину при жизни…
обряд провожания души воина!.. — вспомнило нечто в сознании… — отречение!..
… старец подсыпал хворосту в костер…
— появились признаки погружения земли в воду… — монах сообщал затухающему сознанию, один из трех признаков смерти…
… тяжесть размазала тело… тяжесть угнетала… выдавливала, как из тюбика… выворачивала наизнанку… толкала куда–то туда… назад… и жизнь проносилась сквозь него… летела встречной электричкой… и уже не принадлежала ему…
… старцы ещё сидели у костра… и этот затухающий костёр уродливо освещал распластанный труп… а сознание… оно всё еще оплакивало его!.. это были метания!!! оно устремлялось к телу, не зная как войти в него снова!.. и оно готово было бежать! Бежать без оглядки!!! но не знало куда!.. и тогда оно превращалось в слух… и слух ревниво схватывал любой звук!.. на лету!.. и похоже… старцы знали это!.. особо себя не утруждая, они нашептывали в мёртвоё ухо свои предложения… сознанию предлагалось всего лишь вспомнить!.. вспомнить, как достойно уходить из жизни… как пройти сквозь ловушки иных миров… вспомнить путь к себе!.. путь домой!.. вспомнить путь к своему дому!!!
пар струился от подошв их сандалий… время луны сошло на нет… а они продолжали распевать… от их мантрического пения становилось тоскливо… даже мертвому…
отяжелевшее тело лежало у подошв колдунов… а сознание… сознание сражалось с ними за право вернуться в оставленное тело!..
телу было непросто… тяжесть подавляла озноб… прах земли погружался в холодную воду… мгновение… не больше… потом вода стала соединяться с огнём… и сознание видело как тело воина пронзило жаром лихорадки!.. и парящий в небе орёл, очертил круг… и… как–то медленно… нехотя… вяло так… начал падать…
если орёл обнаружил добычу, ему следует быть проворней… а если он захлебнулся встречным потоком?.. тогда пора ему придти в себя…
но орёл всё ещё падал… птица была опытным охотником… и в логике не нуждалась… орёл — охотник… но как не хотелось становиться добычей!..
в перекрестии прицела отчётливо виделся пропитанный тоской наконечник… и ядовитая капля страха… и сочащаяся из отверстия боль…
… выстрел на поражение… небесный снайпер свинчивал с винтовки оптику…
раскаленный нещадным солнцем августа камень… пустая фляга валяется где–то неподалеку… и воин… запрокинул к высокому небу подбородок… магическая мандала, кружащего над ним орла… и… глубокая шахта, пробуравленная всей его жизнью!!! и волна… готовая хлынуть из груди!.. и он ждал ее… и не был готов!.. и когда хлынул поток… когда забурлило в шахте и понесло!.. не водопад, и не цунами!.. Океан… ворвался в него!..
… липкий, навязчивый бред… тяжелый запах собственного пота… и неподъемный груз памяти…
и снова он один пред небом… один на один с самим собой… с тем, с кем столько лет сражался в себе… но не было сил оторваться от Земли…
— не надо!.. не надо отрываться от земли!.. — настаивал бред… и чьи–то сильные руки подхватили его… и уложили в грот… изнуряющие солнечные лучи здесь были бессильны…
— … я добыча орла… — всё ещё колобродило сознание… и эхо отзывалось на эхо:
— ты не стал добычей — слышалось сквозь гул водопада… и чье–то отражение еще долго колебалось на дне котелка с теплой, безвкусной водой…
и новая иллюзия, уже рисовала другие образы…
— наблюдай за собой, воин, — слышал он в горячечном бреду знакомый голос…
— ты знавал это чувство и прежде… это
— Страх… — спохватилось сознание… — животный страх… воин зачем–то оглянулся и посмотрел вниз, где под сводами грота лежало его неподвижное тело… точно кожаная одежда… этот страх стоил всех других!..
Кружит орёл… чертит мандалы… неустанно… играючи… стережет добычу… играючи падает…
орёл падал легко… изящно, и неторопливо…
— … неотвратимо… — ждёшь смерти целую вечность… это было невыносимо… но сама мысль что он ждёт свою смерть… что сейчас орёл… унесёт туда, откуда ни один смертный не возвращался!.. непостижимо!..
догадкой!.. предощущением!.. он почувствовал себя… крошечным!.. зернышком… семенем… взорванным изнутри!..
… многострадальное тело валялось кожаными одеждами в долине Смерти… а над ним… где–то невдалеке… новый колосок уже тянулся к Свету… «что белее белого… белее снега зимой»…
колосок тянулся к свету, и не было в нём ни страхов, ни сомнений… может, по воинским понятиям… это и была отвага… возможно, кто–то назовет это бесстрашием!.. но не было ничего такого!.. просто — состояние счастья… «домой!» — выдыхает сознание… и оставляет тело… повернувшись лицом к свету… сознание подхватывается… и — тремпом!.. вперед!.. туда, где дом!..
орел затмил собою небо… хищные крылья издали хлопок, оглушивший воина!.. и прежде чем жертву оставило сознание… сноп света пронзил и охотника, и его добычу!..
их разнесло на атомы!.. расплавило!.. и слило в одну форму!.. он растворился, расплавился в хищной птице!.. стал ею!.. наделив своим сознанием!!! теперь эта птица могла думать!.. и говорить!.. на языке ощущений…
и кто же он теперь?.. человек?.. птица?.. душа?.. да нет же!.. он мертв… это — бесспорно, кончено… его уже нет… орел убил его… а то, что он чувствует теперь… так это ни его… ни человека… уже не касается!.. и потом… это ощущение полета!.. точно в снаряде… в ракете… или… в колодце шахты!..
странная смерть… и… не смерть вовсе… а приглашение к путешествию!.. приглашение, от которого не имеешь права отказаться!..
— ты готов? — послышалось где–то рядом.
— готов, — механично отозвалось в нём…
— тогда вперед, — скомандовал невидимый штурман… — слушай меня, и я помогу скоротать тебе путь…
— а разве это еще не всё?.. разве это еще не конец?!.. — наивно спросил он…
— Эйн Соф[4]. — обронил некто в вечность, — нет ни начала, ни конца… время было в том мире, где ты пребывал воином… и время остановилось там, где ты перестал быть человеком…
— эйн соф!!! — выдохнул он жизнь…
— аум!!! — встречным приветствием новому вдоху, неслось из иной реальности…
3. НА ВОЛНЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ…
Тогда, чтобы настроиться на волну Баренцева моря, я вынужден был обратиться к древней технике… старой и испытанной инструкции полётов… Ища проводников, я не собирался спорить с двуногими… Через Интернет я предлагал людям попробовать стать сталкерами!.. авиационными диспетчерами!.. проводниками душ… душ ста восемнадцати красивых и здоровых мужчин!.. душ, почти мгновенно изъятых из трагической реальности!..
Русская Православная церковь молилась «За спасение душ всех погибших и моряков»… Я же предлагал пойти дальше… используя технику «Бардо Тхёдола». Техника подробно описана в Тибетской книге Мертвых. Я рекомендовал держать её всё время под рукой… вместе с Библией, Торой, Кораном, Ведами… и чтоб — никакой литературы!.. одни эмоции!!!
«Потеряны девять дней, — писал я на форум ителлектуалов, — что происходило с душами в этот отрезок их пути мы лишь приблизительно можем узнать, из Тибетской Книги Мёртвых, путеводителя… подробного изложения посмертного состояния на протяжении сорока девяти дней… положившись на этот путеводитель, можно встать на путь спасения… провести души, как это делают лоцманские буксиры… проводить, как провожают из порта суда… снабдить не только подробной картой, но и напутственным словом… обращая к ним наставления тех, кто там уже побывал… кто использовал эту технику для перехода из мира в мир… кто оставил мир форм и снова возвратился на Землю…»
сейчас я могу всё это заново перечесть… и вспомнить… заново пережить свой опыт… но тогда… когда страсти еще не улеглись… не утихала и моя паранойя!.. я улетел в Интернет, подбивать людей проделать технику мистиков… не выходя из дому — побывать в мирах, описанных в Тибетской Книге Мёртвых!.. и попытаться сделать то, ради чего эта Книга оставлена нам в наследство!.. помочь душе… чтоб… комфортно добраться до станции назначения!.. доставить страдалицу домой!.. чтоб не блуждала в мирах… не ныряла со страху обратно в матку… а чтобы… погулять по раю прошлась… по саду своему… с родными… с корешками своими… побыть… и побыть самой собой… и побывать там, где её любят!.. без всяких условий… где не надо бояться, что накажут… не поймут… или осудят…
форум интеллектуалов, возглавляла Оксана… эта всезнайка обзавелась личным консультантом… ну… этот… знал всё!.. начитанный был очень… и умный!.. не в меру… уважал не веру, а религии… зато тайные знания религий — называл путём в ад… ну что ж… с позиции человека твёрдо стоящего на земле… и полностью погружённого в материю… для человека, не знающего что такое «откинуть на дуршлаг»!.. не познавшего вдохновения!!! [5] Для спящего и видящего сны… мои призывы, конечно, были губительны… они были опасны!.. от сладких снов, от иллюзий, они звали прямиком… в смерть!.. словом, я написал на форум Оксаны… приблизительно так…
«… назовут ли это Фантазиями, поймут ли это, как обращение к третьему глазу, так ли уж это важно? Важно, чтобы вы просто знали: есть такая техника… техника вхождения в самое невероятное… самое… страшное и запретное для человека… и самое сладкое… для души его… сама техника — это инструкция для умирающего… для его сознания!.. для Пхо или… души!.. и первая ступенька в постижении этого опыта, — пройти через самоочищение… пост… интенсивная промывка кишечника… очистка печени… почек… и — молитва… Подробно об очищении тела можно найти у Геннадия Малахова (Генеши).
А сейчас, нужно постараться наверстать упущенное время. Бардо осуществляется в течение сорока девяти дней со дня первого признака смерти.
Я ищу проводников. Павел, я бы был рад видеть Вас в своей команде. Впрочем, каждый решает сам. Есть сверхзадача. Мир получил сигнал ”SOS»! И чем просто… убивать время в и-нете… Оксана, приношу свои извинения!.. я призываю воинов… искателей приключений!.. откликнуться на сигнал беды!.. SOS — всегда означало одно: спасите наши души!.. и здесь, на земле; и в океанских глубинах; и в высоких сферах, — SOS означает одно!.. «Спасите наши души»!!!
Я зову туда, где вы сможете применить все свои лучшие качества!.. где вы обретете неоценимый опыт… опыт переживания!.. опыт переживания собственной смерти!!!
И вот тогда… тогда, вы, возможно, и сотворите чудо… а пока… пока лишь примите на веру: чудеса свершаются!.. и свершаются чудеса нами самими!.. и еще запомните: тот, кто не умеет отдавать, никогда не сумеет принять… и последнее… постарайтесь осознать… чтобы нести в себе свет… нужно, как минимум, стать фонарём…»
Никто не откликнулся на призыв… никто не желал верить в эту страшную шутку! Меня обвиняли в чём угодно!.. лишь бы не поверить во что я их вовлекал… а я писал им на форум:
«… приношу свои извинения, господа, но прошу отнестись к этому вполне осознанно. У меня нет ни малейшего желания обидеть, или оскорбить Ваши личности. Просто посмотрите на технику, от которой и вы, Павел, и вы, Елена, и вы, блуждающий Путник, увы, попытались отказаться…
Ну же, господа!.. Лена!?. Вы с нами?..
И едва вы очнетесь, едва сознание вновь посетит вас, вы увидите иную реальность… и там, в этой реальности… явится некто под видом писателя… и вовлечет вас в водоворот событий, от которых вы, почему–то, упорно бежите!.. в интернет… наверное потому, что в сети еще можно рассказывать какие вы все крутые!.. ну просто колдуны заправские!.. злые и добрые волшебники!.. а там, где можно проявить себя… вас нет!.. ну почему еще никто из вас, колдунов и головодумов?!.. не проорал о «Курске»!!!
Вы замкнуты на себе… вы выпали из общего… а теперь не знаете что делать в своей свободе… включайтесь!.. не спите!.. чтобы не разделить участь тех парней, чьи красивые и сильные тела, сброшенными «рябчиками» тельняшек… разделили единую судьбу с потопленной подлодкой… они совместно вошли в Смерть… их души можно сориентировать… и тогда они войдут в Бессмертие…
мы все терпим бедствие!.. и чтобы спасти себя… не нужно стыдливо умалчивать о Смерти… нужно что–то постараться понять и о ней и о себе…
собственно, я по–прежнему «тот сумасшедший писатель», который набирает команду отважных парней!.. тех, кто готов поиграть со смертью!.. но сначала пусть каждый заглянет в себя… так ли уж чисты намерения!.. а пока, предлагаю заглянуть в моё сообщение «Курск»… чтобы было понятно: не с чем столкнулась атомная подводная лодка, а с чем столкнемся мы с вами…
Это обращение я вынес на Форум, с названием Причина и Карма… Мне нравился этот Форум. Здесь не стеснялись задавать вопросы и не краснели за свои ответы.
«я попрошу уделить немного времени и внимания этому тексту», — писал я на третий день своего поста… подробное его описание, как древней мистической техники, названной техникой Иисуса, я нашёл в неоценимых трудах Генеши (Геннадия Малахова)… сорокадневный пост в пустыне… физическая сторона очищения… очищение организма во время поста… то, за чем я стучался в двери монастыря!.. и главное — описаны состояния!.. состояния на каждый день!.. и это только первая ступень…
… я призывал сосредоточиться на канве текста… постараться воспринять его осознанно… больше ничего не нужно!.. просто… в состоянии повышенного сознания… можно ощутить любой текст… который, по сути своей, является медитацией…
«то, что произойдёт с нами в пути… можно назвать как угодно… наш Павел называл это: «Свет», «Путь»… затем это был «глюк»… и наконец — «сорванная крыша»… это его градация и знание о предмете… его опыт… дальше Павел не пошёл… и честно сообщает нам на форуме, что испугался… испугался того, что становился ребёнком!.. есть очень маленькая сноска… в тибетской Книге Мертвых, посвященной технике осознанного перехода из одного мира (этого) в мир иной… в сноске говорится, что это, всего лишь только начало…
… истинная цель переноса души — это не только сохранение сознания во время всего перехода… но и непрерывность сознания при новом перевоплощении!.. молитва, произнесённая медитативно, может достичь «волны» Баренцева моря… и быть уловлена и правильно воспринята…
я предлагал обсудить технику медитации, которую в течение года практиковал один из участников Форума, Павел… с ним стали происходить удивительные изменения… а он испугался и назвал это психическим расстройством… он получил подарок свыше!.. но расценил это как зло!.. и он испугался… испугался своей детской наивности… испугался чистоты восприятия мира… испугался, что так и останется пятилетним ребенком… а тут кто–то, кто зовёт… приглашает и его и других участников пойти дальше… за пределы…
Я не пугал людей!.. не прессовал их… я давал настройку… я говорил им: это стоящая штука!.. это стоит проделать!.. стоит хотя бы попробовать!.. и я обращал их внимание на то, что предлагаемую технику, как наставление дает муж своей возлюбленной жене!..
они боялись смерти, а я им предлагал — Тантру!!!
на коленях мужчины сидит не просто жена!.. а — возлюбленная!.. и муж нашептывает своей женщине техники… она продолжает ласки… и становится для тебя воплощением самой женственности!.. она твой чистый сосуд, который заполнен твоей любовью!.. она — тысяча и ещё одно!.. сладостное переживание… и ты — её возлюбленный!.. и вы на любовном ложе… и ты шепчешь ей слова, не предназначенные для других…
тем, кто уже отправился в Путь… тем, кто избрал Путь ПРИНЯТИЯ… тем, кто не пошёл по Пути ОТКАЗА… Шива подарил эти техники…
Он дал эти техники тем, кто еще не достиг своей вершины… кто, говоря о любви, продолжал сражаться… и огрызаться… он дал эти техники… своей возлюбленной… Дэви… дал их на ложе любви… при свечах и тихой, обволакивающей дымком благовоний, волшебной музыке… музыке тысячи… и еще одной сладостной ночи!..
Дэви донесла эти знания в Мир людей. Они дали основу Науки о ЛЮБВИ. Так хотел Шива. Так в мир двуногих пришла Тантра.
Я предлагал объединить Тантрические техники ОШО с тибетским Учением о Смерти (Бардо)… Тантра учит использовать сексуальную энергию… Тантра помогает вывести спутников на орбиту… достичь седьмого неба!.. Тот же путь — до седьмого неба блаженства… и дальше… описывает Бардо…»
Мне хотелось самому взглянуть на всё по–иному… другими… не перепуганными глазами… в которых застыл отпечаток чего–то неведомого и ужасающего… мне захотелось взглянуть обретшими видение глазами… на себя!.. и всех нас!.. и на события, случающиеся с нами!.. здесь!.. сейчас… и эти же глаза направить в себя…
… то, что предупреждениями о смерти изобилуют все без исключения Священные Писания, мои форумцы знали… образованные… начитанные… но когда… до дела доходит… тут стопор… сразу всё объявляется колдовством и мракобесием!.. а тут само всё случается… без чьих либо предположений, предупреждений и сценариев с неблагоприятным исходом!.. и случается… даже не «как по писанному»!.. а именно — ПО ПИСАННОМУ!!!
«Ну, как тут, Елена, без волшебства и магии?
все вы бесстрашные бойцы и воины и готовы отстаивать свои заблуждения…
я прошу вас о небольшой измене… о небольшом адюльтере… измените своим заблуждениям!.. оставьте с ними всё самое ценное… ваши мысли!.. и давайте уже перейдём к технике… и будем рассматривать её, как карту… на которой отмечен путь… путь домой!..
Я надеюсь, Оксана, как хозяйка форума, обеспечит чистоту эксперимента
И тут следует коснуться самого понятия чистоты. На мой взгляд, лучше, нежели это сделал Мастер ОШО, сказать невозможно:
«Перед выполнением этих практик следует очиститься. Чистота не является моральным понятием, чистота является существенной — поскольку если вы сфокусированы на третьем глазе и ваш ум нечист, то ваше воображение может стать опасным: опасным для вас, опасным для других… человек путешествует по очень опасным местам. Поскольку где сила, там и опасность, а если ум нечист, то где бы вы ни получили силу, ваши мысли тотчас же завладеют ею»…
4. ПЕРЕХОД
… Он вспомнил: «От смерти к смерти идет тот, кто отличает этот мир от другого».
Так говорили Учителя.
Он помнил, что знать, как умирать, — единственная ценная наука. Наука, превосходящая собою все иные науки.
Так говорил ему Учитель.
И теперь, здесь и сейчас, в этой точке вселенной, где его метко подстрелил Небесный Снайпер… к нему снова возвращались древние техники… возвращались они причудливым образом… в виде погребального ритуала… который свершали над ним!.. колдуны, склонились над телом… они вели трансляцию!.. беспрерывно!.. Их голоса оживляли в нем… что–то основательно забытое!.. и душа, откликалась…
дремучие леса символов перестали страшить… он превращался в наблюдателя… и символы были ясны и понятны… как дорожные указатели на пути к Дому… хотя сам путь был весьма не прост…
стараниями магов он избавился от страха… и теперь внимательно прислушивался к голосам, читающим трактат Бардо Тхёдола вслух…
… физические страдания уступили место куражу!.. теперь это походило на состязание… единоборство со Смертью…
— Смерть — очень тонкое состояние, — последнее, что он отметил про себя прежде, чем его взметнуло вверх!.. и уже перемещаясь в иных пространствах, добавил: — её стоит пережить…
… и если кто–то потом захочет собрать осколки угасающих «Фантазий» об освобождении «жизненного потока» из умирающих тел… могут прихватить и эту… тремпом!..
… атакованная лодка рухнула на дно… признаков жизни она лишилась почти мгновенно. И только несколько кормовых отсеков еще распирало от аварийно созданного давления. Здесь еще продолжалась жизнь. Здесь готовились встретить смерть.
— Запомни, — тихо, но отчетливо произнес голос, — эта техника — техника перемещения принципа сознания. Она применяется исключительно с одной целью… — Голос умолк. В кромешной мгле молчание становилось тягостным… Любое слово, оброненное здесь, становилось осознанным.
— нельзя допустить прерывания потока сознания с момента смерти — и до нового воплощения…
слова были произнесены… и тот, кто услышал… воспринял их, как руководство к действию!..
Он помнил: эта техника осознанного контроля над всеми психофизическими процессами организма. Ему, хранящему в себе память об этом состоянии, переходящем из медитации в медитацию, довольно будет только вспомнить о самой технике… Вспомнить… в момент смерти… Вспомнить, как состояние… Не более… Это уже и будет равносильно применению самого метода… А результат незамедлительно явится сам…
Он помнил: Учитель рассказывал удивительные истории… Одну из таких он наивно записал… Когда Учитель узнал об этом, он попросил взглянуть… Грустно улыбнувшись, старик снял с полки свои труды и легко, словно подкинул дров, опрокинул их в костер камина. Свитки обожгло пламя, но они не загорались.
— Следуй моему примеру, — сказал Учитель. — Бери от живого и иди к живым…
Старик согнулся у решетки камина и извлек из пепла рукописи.
— Не горят, — улыбался он. — Знаешь почему? Здесь нет ничего от ума.
Он был тогда молод и заносчив. И, хотя его никто не просил об этом, он незамедлительно подверг такому же испытанию свои листы. Его описания весело занялись пламенем, и через минуту от них остался один обгорелый шнурок.
— Твоя рукопись прошла испытание. — Учитель, расплываясь в улыбке, протянул ему обе руки. — По крайней мере, она прошла очищение… Огнем!..
он лежал, ощущая себя в глубоком соляном колодце, и, не сдерживая потоков слез, смотрел туманными глазами в какую–то точку, расположенную у него между бровями… потом… он перенес затухающее сознание на игру светового фонтана, который он почему–то назвал «праной»… всё происходило точно по инструкции… всё в своё время… последовательно… и то, что случилось сейчас… сейчас он осознал, что физическое дыхание ему больше не обязательно… воздух не являлся единственным транспортным средством праны… он был не нужен!.. и — сноп света!.. и — выдох: — спасён!..
Он стоял пред вратами, за которыми зеленела лужайка… перед собственным домом… и, конечно же!.. было огромное желание войти!.. но, он не входил в те врата… ожидая пока не подтянется весь экипаж… И тогда он заново пережил свой ПЕРЕХОД.
… хитрая улыбка Учителя… и его слова: «Твоя рукопись прошла очищение… огнем!..».
— Ну что ж, — улыбнулся он недоуменным привратникам, усаживаясь за чистые листы белой бумаги, — этой рукописи предстоит испытание водой…
— Что–то случилось! — подумал он, приходя в сознание… легко встал… и ощутил от этого удовольствие… удовольствие доставляло любое движение тела… огляделся… тёмно–синее небо… и свет, вспыхнувший в этой синеве… и — никакого цвета!.. — свет!.. белый до слепоты!..
… белый свет обрушился на него накрахмаленной простынёй… там, куда он теперь глядел, на такой же светящейся простыне, в объятьях друг друга… двое… он и она… страсть давно пролилась из них наружу, и теперь они пребывали в состоянии тихой неги, и молчаливых ласк…
и едва наблюдающий распознал лица своих будущих родителей… и даже слегка поддался вперед… как возникли пред ним из синевы признаки власти!..
— Менты!.. — он попытался защититься от них бегством, но они остановили его… и швырнули к трону, украшенному резными львами…
точно снимок, проявленный кем–то, явилось из ниоткуда Любопытство…
Любопытство оглядело трон… на котором, в домашнем кресле у телевизора, сидел отец!.. он держал в руках велосипедное колесо… спиц в колесе было восемь…
Отец был молод и счастлив… и тело его было белым… и не было на нем никаких одежд, кроме синевы, наброшенной небрежно, чтобы слегка прикрыть его сияние… да отец и не старался что–то прикрывать… его не беспокоила собственная нагота…
— А я?.. сиял ли я когда–нибудь так же от счастья? — думал он, разыскивая взглядом мать…
он щурил глаза… сияние отца отводило его взгляд от любовного ложа… места, где он ждал и боялся увидеть мать… А мать оказалась надежно сокрыта от любопытных глаз наблюдателя… она была надёжно защищена!.. Бронёй света!.. сиянием!!! Сиянием, которое исходит от двоих…
глазам стало так больно, что не сдержал взгляда… смутился наблюдатель… отвернулось любопытство… опустило глаза ханжеское…
привычней было глядеть туда, где свет был не столь ярок… где обычные предметы привычно бросали знакомую тень… бросали тень и та становилась мерилом чистоты…
и здесь… в теневой части событий… метался тусклый свет фонарика… и в мутных от пыли лучах карманного светлячка… сами собой всплывали очертания отдельных предметов… и если там, снаружи, еще продолжался карнавал, праздник, любовные восторги и очарование моментом… то здесь, за кулисами этого брачного ложа, куда проник лучик фонарика коварного дэва… наблюдатель лишал себя сказки ненужными подробностями… он долго смотрел то на демона… то на диковинные аксессуары дамского туалета… то на пляшущую тень матери!..
тут отец сразу становился, как бы ни причём… а он готов был забожиться, что знал теперь в себе то место, где прятался тот самый… долбанный Эдипов комплекс!..
— Неужели, — Бог весть кого, вопрошал он, — нельзя не вожделеть мать и не пытаться сразиться с отцом?!.
боль в позвоночнике становилась невыносимой… искры сыпались из глаз… но они терялись в сиянии… исходившем от отца!..
быстро, словно спецназовцы, мысли овладевали его вниманием… они скрутили его, связали и швырнули на съедение осам!..
не осы, а настоящие асы… асы из «Фоккевульфа»… они атаковали целыми эскадрильями!.. вгоняя в несусветную панику!.. и когда жертвы старались укрыться от нескончаемого пулеметного огня!.. когда падая, прикрывали руками головы!.. осы с полного лёта вгрызались в тела, вырывая куски живого мяса!..
… приняв бой, он лишь чуть разметал ос… едва оправившись от первого сражения… он был готов к новому… ибо почувствовал в себе новое влечение… его снова влекло туда, откуда уже однажды его удалили власти…
… но его, разгоряченного в битве с гигантскими осами!.. воина с мечом в руке!.. этого безумца!.. безудержно тянуло туда, где были отец и мать… где они любили друг друга… где на брачном ложе…
нет!!! для него это было слишком!!! этот пристальный свет был для него чересчур ярок… синий… яркий… сияние непорочной любви!..
скрипя зубами, он снова обнажил меч… в тусклом свете карманного фонарика уродливо выплывали, готовые к услугам маски… а чёртов дэв предлагал сразиться с этой поганью… с каждой!.. из этой погани…
— Почитай власть и ее законы!.. — говорил дэв…
— Ты воин… ты здесь непобедим… стань на сторону силы, и власть оценит тебя!..
… льстило быть воином… хотелось испытать силу!.. но только обнажи меч!.. и на грубом окрике в темной подворотне… могло бы всё и закончиться… и слава кукольного воина… и всё его путешествие… он и так уже позабыл слова о стремлении к свету!.. погрязая в мелочных разборках и собственных бесчинствах — терял камертон!.. Сияние оставляло его!.. оно затухало в нём… и гасли, как гаснут уличные фонари его ориентиры… и лучи синего света последними вспышками облетали с теней… как листья с осенних деревьев…
«осторожно, листопад!» — произнёс он вслух, бросая клинок в ножны…
его окликнули снова… на этот раз он не почувствовал никакой угрозы!.. Может быть, впервые за много лет, не смутил его чей–то окрик… не насторожил чужой голос… потому и услышал он… и должно воспринял напутствие:
— Ты устал быть воином, — говорил доверительный голос. — Ты устал наблюдать яркий свет. Но пусть не привлекает тебя тусклый белый… он удобный… но всё же — тусклый… это свет дэва. И когда глазам станет привычно и легко… вспомни, что есть иной Свет. Ты видел его. Пока он для тебя невыносим. Но не привязывайся и к свету дэва. Я не говорю: будь сильным. Я прошу не быть слабым. Если ты привяжешься к нему — то станешь блуждать в мире дэва. Если привяжешься к тусклому свету дэва, — ты будешь втянут в водоворот шести лока.
Над его головой еще звучали слова молитвы, и в ушах еще стоял голос проводника… а он уже рухнул в неосознанность!.. Страх повелел обнажить меч… кто знает, что несёт в себе это новое сияние?.. что, или кто, стоит за ним…
В сиянии радужного света и впрямь всплыл образ… Она!!! И не испытывал он желания сильнее… эта… жажда… страсть!.. вожделение!!! только слиться с возлюбленной… только войти в неё… и он кинулся к ней!..
но не признала!.. увидела лишь бегущего на неё Воина!.. и ужаснулась его вида!!! И стыла в жилах кровь от вида его меча!..
долго горевал он… несчастье сгущало тьму… а когда пришёл просвет… когда чащобы сознания осветили первые лучи солнца!.. припал воин к знобящему чистотой роднику… и узрел отражение!.. и увидел всё, что предстало пред взором возлюбленной…
Гневная рука воина все еще сжимала рукоять окровавленного в битве меча!.. и бесполезная сталь сама не выпадала из рук!.. необходимо было усилие… издав звон, меч неловко пал рядом с обескровленным телом женщины… и долго ещё покачивался… точно прощался с нею…
это была серьезная задержка на пути к Освобождению…
… — Прямо сцена из рыцарских времен! — непонятно как, он сидел на синих волнах… Бог знает, какое свечение озаряло его!.. но было не до того… он рассматривал печальные результаты падения…
меч и доспехи пришибли его, едва он осознал их неуместность… кто–то извлёк его из завала… разоруженный предстал пред окружением кого–то, кого называли труднопроизносимым именем…[6]
дело пахло преисподней!.. а голос разума молчал… он смотрел на всё это… слегка ошалелыми глазами!.. он видел крутых мужиков!.. атлетов!.. богов!.. и он смотрел на явленный ими свет… и с ужасом понимал… что воспринять всё это было выше его человеческих сил!.. а свечение его собственного тела?!. Этого… «принципа сознания»… странного, загадочного агрегата, сияющего так, словно кто–то запустил в нём реактор!..
нет!.. воспринять это было весьма затруднительно!..
Но сияла белым светом чистая форма воды… а из темно–синей Восточной обители Бесконечного Блаженства уже струилась синяя тишина… синяя–синяя… и в синем сиянии он снова увидел мать… Точнее, он ощутил ее объятие… Объятие Матери…
И он обернулся!.. но Мать обнимала не его! Мамака… она заключала в свои объятия кого–то Невозмутимого, легко восседающего на троне. Мать льнула к тому, чей мраморный лик вызвал в нем один из жесточайших приступов ревности!.. такая ревность прожигает черные дыры во вселенной!..
И он отвёл глаза… но сетчатка была исцарапана оскорбительным видением…
… потупясь, обследовал конструкцию трона… подробно… каждую мелочь!.. но несогласие всё ещё кипело!!!
Трон принадлежал Непоколебимому!.. и весьма отличался от того, в котором отдыхал отец… трон был украшен изображениями слонов… и держал Несокрушимый в руках не колесо, с которым почему–то запомнился ему отец… а пятиконечные дордже[7].
Рядом с Держителем скипетра был некто, кого называли Лоном Земли… и тот, которого называли Любовью… и две девушки, две тибетские красавицы, кокетки с охапками цветов!…. они тут же, при виде нового мужчины, стали глядеться в маленькое зеркальце!.. прихорашиваясь прямо на глазах…
они пребывали в сиянии, эти девчонки, и сияние их было столь велико, что ослепило его!.. вызвало слезы!.. и… обиды… И сквозь дрожание одной слезы болью всплывало отражение… преломленное в кристаллике соли… а там Невозмутимый… всё ещё продолжал обнимать мать… и та отвечала ему взаимностью… и ее нисколько не заботило его присутствие!.. и… тогда он фанатично… свой гнев!.. своё исступление!!! обрушил на красавиц… на спутниц Невозмутимого!.. на этих… сучек!.. шлюх… кишечниц… в которых мог высморкать себя каждый!..[8]
он плакал… и плакало его отражение… и казалось, довольно увиденного… но новая слеза… и новое отражение… и горек вкус того зеркала…
глаза застило… голос, дававший наставления, стал несносен!!! и, как ни пытался, а не сумел признать он ни Будды, ни того, который силою божественной любви будет призван спасти человечество…
он видел одно: кто–то в синем… трахает мать!..
шесть фигур, шесть сущностей, шесть богов переплетенных друг с другом… в едином акте…
и он отвернулся… и сделал шаг, чтобы уйти…
Мертвые волосы зашевелились у него на голове. Там, куда был устремлен его взгляд… там, куда был устремлен его шаг… там свинцово поблескивали притворы Чистилища.
поспешно оглянулся!.. но — тщетно… Сияние исчезло… не было больше никакого сияния!.. и блядские видения исчезли… и гнев с бешенством тоже…
не в силах воспринять урок Зеркальной Мудрости, он расплескал весь свет!.. Даже сияние гнева погасло в нем, превратившись в серую покорность… и теперь… стоя у врат ада… он обреченно выслушивал чьё–то последнее наставление!..
— Поступай так, чтобы тебя не страшил яркий, ослепительный… чистый… белый свет…
золотой фиксой поблескивал монорельс Русских горок…
— Верь в Мудрость… верь искренно… со смирением…
— Это свет милости… — проскрипело над головой… и лязгнул последний крюк, который мог бы стать для него спасительным… проводив пустой крюк, он вздохнул… и решительно шагнул вперед!.. тележка монорельса покачнулась, и он сам на себе пристегнул ремни…
сильно раскачиваясь, он несся куда–то!.. И сквозь грохот тележки слышал вопли спасённого!.. тот повис на одном из крюков, и теперь висел над пропастью… на самом дне которой… петлял он вместе с монорельсом Русских горок…
— меня не привлекает тусклый свет преисподней!!! — кричал обезумевший от радости… кричал ему!.. несущемуся прямиком в ад!.. он орал это тому, кто сам на себе пристегнул ремни…
Винить было некого.
где–то рядом прозвучали слова молитвы… неожиданно прозвучали… понятно, искренне и светло…
«Блуждая, увы, в сансаре из–за подверженности безудержному гневу, я обращаюсь с молитвой к тому, кто поведёт меня к Зеркальной Мудрости по пути света сияющего. И пусть Божественная Мать Мамаки будет моей защитой на этом пути. Да избегну я опасностей Бардо И достигну всесовершенного состояния Будды».С последними словами он слился с сиянием радужного света и был принят в Бесконечное Блаженство Восточной обители…
— Приехали, — донеслось до сознания… Русские горки оставались за спиной. В лицо смотрело ЧИСТИЛИЩЕ…
Кто–то щёлкнул рубильником… и воцарился мрак…
5. Я И АЛХИМИК
теперь потерпевший катастрофу самолет его тела… походил на развороченную подлодку, из которой кем–то невидимым извлекались какие–то агрегаты… —
— Разворовывают, — вскипела обида!.. — грабят… гады!..
жёлтым было всё, что касалось агрегата осязания… тусклый жёлтый свет прожектора… он, приближался со стороны мира людей… автономный аппарат, похожий на хищную рыбу, осветил обломки… «Splendid», — равнодушно прочел он[9].
Я и Алхимик работали в «спарке». Я — чуть повыше, Алхимик, — сам избрал себе перекрестие во вселенной, — соответственно, пониже. В самой что ни на есть Материи.
Алхимик, следящий за метафизическим превращением, обычно погружал себя в гипнотическое состояние… по его предположениям, подобное состояние давало весьма приблизительный… но всегда ошеломляющий результат…
— Сейчас ты пропускаешь нечто интересное, — обронил я в сторону Алхимика. Но тот был занят земными делами. Алхимик скручивал свой утренний «джойнт»…
Я посмотрел на него снисходительно и подумал, что всему свой час. Все придет в свое время… алхимический процесс запущен… происходит реакция… и мы с Алхимиком здесь — не просто наблюдатели…
Первородная форма элемента земли сияла, как и положено, золотом, когда… из Южной обители Блаженства пришел и озарил меня своим сиянием Бхагван Ратнасамбхава.
Он был жёлт, как улыбка дыни!.. как долька солнца в стакане южанина… как прокуренные пальцы стариков, греющих свои суставы морским песком… песком, до желтизны прокаленным солнцем…
Золото текло… струилось и проникало во всё… оно играло везде… золото… Рожденный из камня снискал себе прозвище Украшателя. Он был щедр на драгоценности и особую слабость испытывал к самоцветам…
Шею его могучего тела обвивали нежные руки Божественной. Имеющей глаза, не было нужды выглядывать из–за спины возлюбленного, чтобы видеть, как сиял тот от восторга!.. как рад был он ей, своей женщине!.. и как переносил эту радость на своих друзей!.. а Бхагван Ратнасамбхава радовался даже тому, какое неотразимое впечатление произвели они своей компанией на встречного…
— Посмотри, — довольно сказал он, и выпустил из рук драгоценный камень, поставив его на подлокотник трона, украшенного резными конями.
Я отметил, что и камень, и резные кони, и резвые лошади Украшателя были великолепны. Должно быть, у него была лучшая из конюшен. И сбруя на его лошадях была дорогая… крепкая была сбруя… надежная и красивая… золото… камни… жемчуг…
Зато колокольчики — простые… медные…
Его попутчики, Лоно неба и Всеблагой, были со своими двумя красавицами, жрицами и хранительницами карт Таро…
Эти цыганки были веселы безудержно, но и строги в меру… Одна из них держала четки из изумрудных горошин, другая — благовония. Только что подожжённая палочка, распространяла приятный аромат сандалового дерева…
— Хочешь, все про тебя расскажу? — Лукаво смеялась в лицо Алхимика цыганка, поигрывая волшебными картами. А я смотрел в ее иудейские глаза и никак не мог вспомнить ее имени на санскрите.
— Ее зовут Дхупема, — сказала цыганка, держащая четки. — А меня называй Махлаймой…
— Очень приятно, — промямлил Алхимик, не сводя глаз с сияния радужного гало у них над головами.
— А это…
— … мы знаем, — перебила Алхимика Дхупема, — это твой союзник. Но когда–нибудь вы всё равно расстанетесь… и потеряете друг друга…
— Ты его потеряешь, — лукаво сообщила мне Махлайма… — однажды… сюда приходят навсегда!..
— И каждый приходит поодиночке, — кокетничала Дхупема, появляясь из–за спины Алхимика.
Ее лицо было так близко!.. а радужное гало так переливалось!.. что не сдержался Алхимик… протянул руку… прикоснуться к ее радуге…
девушка снисходительно улыбнулась… когда, приоткрыв глаза, увидела, что он не ею любуется, а… рассматривает… и даже не её, а только её радужное гало. Почувствовав, что за ним наблюдают, Алхимик смущенно отдернул палец…
— Это агрегат осязания в его первичной форме, — улыбаясь, объяснила Махлайма. — Его первичная форма является в желтом свете Мудрости Равенства, — вышколенно говорила она, закатывая к небу подведенные охрой глазки.
Девушка улыбнулась. Она взяла его за руки, и в это мгновение могло показаться, что сама она стала превращаться в поток света. Да она и была им. Она была самим украшением света.
Она смотрела на Алхимика, а тот потел, таял и растекался в улыбке. И читал он в глазах Махлаймы: «Ну вот, видишь, урок я выучила, а теперь — давай поиграем»…
наблюдатели едва не упустили Воина, который уже давно маячил на горизонте. ослепленные!.. они всё ещё купались в лучах счастья Рожденного из камня!.. смущённые… эти тантрические танцы!.. эти его спутники!..
А Воин, не выдержав силы сияния, устремил своё внимание к тусклому… голубовато–жёлтому свету… тоскливо и неуютно отражал мутный прожектор тот свет… свет, хорошо знакомый по миру людей… такой привычный…
Видел Алхимик, как пал на колени Воин… Видел, как скорбно… с какой тоской он глядел туда… откуда тянулся хищный свет прожектора… видел, как в глубинах мирозданья крутился подводный агрегат–пиранья!.. приняв сигналы «SOS», он не души устремился спасать!.. а тайно проследовал к месту аварии… на запах крови!.. чтобы выпотрошить железные туши подлодок…
сознание Алхимика занимало иное… ему была любопытна и по человечески понятна готовность Воина вернуться назад… один привет из того мира… и тоска звала назад!.. в ад!.. где тусклый свет прожектора «пираний» сменялся сиренами и миганиями полицейских машин…
Но не завладела сердцем тоска!.. и озарилось сердце желтым светом!.. И постиг Алхимик тот свет Мудрости Равенства. И заключалось оно в праве на выбор. Выбор — вот истинное равенство…
6. «КАЧЕЛИ»
Зимним вечером вышли мы из полуподвала центральной городской синагоги… Этот бетонный сарай с низким, всё подавляющим потолком железобетонной подушки фундамента был превращён Винокуром в солдатское жильё… в келью аскета… исповедальню… куда к Моше уже не могла заглянуть ни одна женщина!.. Эти бетонные стены слышали молитвы и русский мат… звериный рык его раненого эго!.. и… задушевные беседы…
— Мой Золотой! — обращался любящий сын к Пахану, — за что мне всё это?..
— А разведи мне сам… — говорил Отец, — а я послушаю…
… и тогда я впервые услышал его рассказ «Качели»[10]…
качели
посвящается дуське
Мадемазель по кличке людка акулина не кривя душой просто никто… бипедальное семь ступеней вниз… после Ничтожества. Так я ЕМУ и сказал: кишечница… трупоедина… лесбиянка.
— ТЫ мне её Сам подогнал… Ты хотел, чтоб я в неё втрескался… то, что с нами случилось — это ж не с нами случилось… это ж Ты так развёл, чтоб с нами такое случилось!.. Оно и случилось.
И честно тебе говорю: да, втрескался. Полный комплект. Как говорится, с полного ходу… и по брызговики.
Но это ж не я в неё втрескался, Б-же ты мой!! Это Ты мне велел в неё втрескаться самовольно! И то, что случилось с нами, и то, что случится с нами потом, — ты знаешь. Только ты хочешь, чтобы я развёл. Историю. Чтоб не ей развёл. Не для себя… И, тем более, не для её подельницы… Коблихе протруханой. Уголовнице. Бандарше. Вуз дэ вылст и стояла перед скотом… в предосудительных и развратных позах… Бестия. Преисподняя. албына. Погоняло такое: албына. Мусорская подстилка… Ашкелонский синдром. Клипа…
… Я даже не себе буду разводить. Даже не самому себе. Ибо, разводя самому себе, существует шанс оказаться самообъёбанным. Знаешь ведь, мемуары двуногие строчат. Творческие биографии. Сочувствуют люди самим себе. Надеются на сочувствие. Это они современникам своим пишут. Такое средство общения… бормотургия…
Но у нас разговор на четыре глаза… конкретно… Я — всё знаю, и Ты — всё знаешь. Ты даёшь мне шанс, чтобы я разводил. А Ты послушаешь. Вот я буду эту историю рассказывать, а Ты, наизусть её зная, Будешь меня внимательно слушать. Так?
— Так.
… — Начнём с того, что я говорил про то, что я говорил в криминальном суде в Реховоте, заклявшись на Торе святой и на собственном саване?
— Нет, мой золотой. — Сказал мне Мой Золотой. — Ты уж начни, сначала… с качелей… Расскажи, как тебя качнуло и куда вознесло–понесло. Расскажи с улыбкой. Расскажи о своём полёте… о полёте с Ней… И с улыбочкой… да такой, чтоб на перегрузках не опоганить рылом безумца вывеску…
Мордашку обиженного не вздумай Мне корчить. Рыло невиноватого… н-да… йани, невиноватого?.. Улыбайся… помни с кем говоришь… Небесам улыбайся. Никогда не забывай улыбаться… Это — Закон. Ага… А теперь, давай — «разводи». Вот, по–Б–жьи возьми — разведи. Угадай! Я желаю тебе удачи.
И фильтруй базар по поводу злоязычия. Это ни правому, ни виновному не позволено. Асур…
7. ЗАВЕЩАНИЕ
— Фильтруй базар!.. — Моше грозит пальцем, который неприятно мечется у меня под носом… И поясняет: это Он своему любимчику говорит… Всё!.. всё, что я хотел… Он давал!..
— Хотел француженку в исполнении русской драматической актрисы?!.. Получи!!!
— А мне же хотелось всегда… чтоб не просто блядь… а… звеньевая в публичном доме!.. и чтоб в вестибюле!.. на пьедестале стояла!.. первая среди передовиц производства!..
Моше веселится… он оправдан судом… закай!.. не виновен… а кто виноват?.. но четырнадцать месяцев ссылки на север страны… четырнадцать месяцев под домашним арестом… четырнадцать месяцев без средств к существованию!.. и четырнадцать месяцев осознания чуда: живой!.. поставили точку на последней странице его «французского романа»…
— Мой Золотой! — сын оглаживает седую бороду, — спасибо! Порадовал напоследок!.. вырвал из чужих объятий!..
Кто читал Кастанеду, тот поймет, что за прыжок совершил Винокур… это не был прыжок в пропасть… это был прыжок из горизонтали… где всё было мерзко и плоско, как лист бумаги, на котором сочинила донос в полицию любимая… обезумевшая женщина… их совместный маятник качнулся далеко–далеко… и, прыгнув, он оказался в другой системе координат!.. в существовании по вертикали!.. от секса!.. его развернуло в веру… в состояние религиозного человека… от похоти и агрессии — швырнуло к любви… Но это была любовь иного качества… это была любовь сына к Отцу… любовь вспомнившего себя!.. любовь еврея, прозревшего не на Гималаях… а среди своего народа!.. в тюрьме…
И всё чаще он вспоминал Зямочку… отца своего.
Зямочка завещал… перед эвакуацией сына в государство Израиль, он сказал: «Здесь тебя мусора прессуют… так это ж — гои… а там… свои так кислород перекроют!.. и больно будет… и не на кого будет пенять…»
И всё же — дал разрешение!.. браху[11] на выезд… благословляя меня… он сказал: «Есть оплошность… за неё расплачиваются горькими, горькими слезами… Есть преступления… за них платят годами тюрьмы… это и есть расплата… И только за ошибки не платят… Ошибку исправить нельзя… Ошибка — это на иврите «таут»… вот что значит ошибка. За «таут» — «мот тамут»… в смысле — сдохнешь!.. вычеркнут из Живой Книги народа… и вот, чтобы ты не ошибся… слушай меня ушами!..
Первое. Не убивай ради наживы…
Второе. Не стань пидарасом…
Третье… и — не бегай за двуногими с наручниками…
Моше бен Шломо Ейнан (Винокур) от себя добавляет… Йонатану Шломо бен Моше Винокуру…
«Пусть повыздыхают!.. ты! и весь наш род!. Если одному из вас… лишь блудливая мысль взбредёт в ваши косые бошки, подать на человека жалобу в полицию… это Ошибка!!! ошибка с большой буквы… ошибка, за которую не расплатишься… и пиздец нам всем… ага… всему винокуровскому отродью!..
— Впрочем… это заповедь только Йонатану… моему сынишке… и листателя ни к чему не обязывает…
8. ВОПРОС ЕЙНАНА…
— В Тель — Авиве!.. на Аленби… сидит Гитлер!.. и попрошайничает… блядина, и собирает медяки… побирается… а ви идёте, своими ногамы, как ни в чём не бывало… и ни о чём себе таком не думаете!..
Один вопрос… можно, а? вы подадите милостыню?! Или же… ви пройдёте мимо?.. как ни в чём не бывало…
Правильный ответ на обороте…
9. ОТВЕТ НА ВОПРОС
— Я бы хотел задать этот вопрос не только на семинаре… — смеется Моисей Зямович. — Я бы хотел задать этот вопрос в день Катастрофы еврейского народа!.. или в день Победы над фашистской Германией… Я имею право задать вопрос?!!
Фантазия!.. Жюль Верн… на Блюммельфельде ему дали стадион!.. и это был уже Обер! блюммель!!фельд!!! Сенсация!!! И он попросил бы всех присутствующих на стадионе почтить минутой молчания павших от зверств фашизма… а потом задал бы свой вопрос… и попросил бы его тоже почтить минутой молчания…
— Чего ты ржёшь? — качает головой Моше, облокачиваясь о стол… его глаза смотрят в мои:
— Чего ржёшь, падлюка?!.. вопрос касается и тебя!.. И времени на размышление нету!.. ни минуты… Здесь и Сейчас… ты идешь по Аленби или Дизенгофу… и Гитлер протягивает к тебе за подаянием руку… Подашь или нет?
— Подам…
— Это же — Гитлер!!!
— Это голодный нищий, который… только похож…
И мы расцеловались. Это и был ответ на вопрос…
10. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Я рассматриваю забавные картинки, в спартанском жилище человека, чей возраст входил в пору, когда господь призывает к себе… сначала сердце… а после — душу… На старых картинках были изображены сценки из еврейской жизни… это были благословенные времена, когда Б-г пребывал среди своего народа… в седобородых евреях, мудрецах и законниках я видел кого–то, как две капли воды похожего на сегодняшнего Моше Ейнана… Винокуровский двойник был преисполнен достоинства и… тихой радости… радости, которая бывает от служения заповеданному… ему и народу его… при Торе… и молитвах…
— И всё же, падлюка… — обращается он ко мне, возвращая от настенных картинок к столу, — скажи… почему ты выбрал эту фотографию?..
Он переворачивает снимок тридцатилетней давности… карточку, еще только приближенную к цветной… и на ее место кладёт другую… но я по–прежнему вижу тридцатилетнего романтика, в армейском хермоните на фоне гор… в ливанскую кампанию… где сражался он добровольцем… «как в Испании»!!!
И я снова вынимаю старое фото, протягивая Моше недавний снимок бородатого еврея, в религиозной униформе…
— Б-г привел тебя таким в Кацрин… я вижу тебя таким… каждый день… Эта твоя фотография, Моше, может быть запросто перенесена на картинку, с цадиками… и любой персонаж, мог бы запросто поменяться с тобой местами…
А на этом снимке, где ты в хермоните… я вижу не только Винокура… Моисея Зямовича… я вижу себя… и то, что объединяет и делает нас непохожими…
— Подпиши, — говорю ему я, протягивая фотографию тридцатилетней давности. — Здесь ты еще не думаешь о завещании… здесь ты — победитель… «испанец», и вся жизнь у тебя впереди…
— Ты выбрал, — говорит он, подписывая фото, — тебе считается… от Б-га…
Мы выходим из намоленых стен синагоги… мы направляемся к скверу…
— Тихо как… — шёпотом говорит Моше… и вдыхает свежий, с запахом морозца, воздух… — Кацрин…
— Город воды и вина… — говорю я… — тихий город… но не всем по душе эта тишина… у многих срывает крышу… особенно у тех, кто долго не может найти себе работу…
Мимо проносится нечто ужасающее… как иллюстрация к сказанному… омерзительное видение!!! Кровь в жилах стыла, когда мимо проходило… непонятно как еще живое существо… заблудившееся!!! пьяное… раздетое донага животное!.. нелюдь, вырвавшаяся из ада!.. оно бежало мимо синагоги… от тишины… от благости… мимо… бежало куда–то туда, куда были устремлены безумные мысли… куда глядели, покрытые пеленой ненависти, глаза…
— Он в аду!!! — проорал Винокур… и его развернуло спиной к видению…
— Он — в аду… — повторил Моше почти шёпотом, ладонями прикрываясь от масок Театра Теней…
Видение же… оно прошлёпало мимо нас босыми пятками… и растворилось во тьме декабря…
С трудом я сумел оторвать взгляд… с трудом смог оглянулся… Существенное усилие потребовалось чтобы понять: эти двое — не видение. Мужчина и женщина… шли от дверей центральной синагоги… по выражению их лиц было понятно, что зловещая тень коснулась и их взора… они тоже увидели её… увидели блуждающий ужас!.. увидели Тень… Тень, потерявшую самого человека!.. и теперь безумными глазами, полными всё такого же ужаса и страдания… эти двое смотрели туда, где, на мощённой кирпичом дорожке, еще не остыли следы босых ног изгоя…
Моше приблизился к ним.
— Шалом… произнёс он слегка наклонившись
— Шалом, шалом!!! Моше! — лица разгладились в улыбке… Слава Богу!!! такая же улыбка, стёрла страшную маску с лица Моше… Выдох облегчения… И я, никогда не знавший этих людей, почему–то улыбаюсь им… Улыбаюсь людям, распознавшим во мне человека… не видение из ада!!! А такого же, как они, человека… и как человеку, мне было хорошо в их присутствии… видение нелюди уже позабылось… стёрлось из памяти увиденное… и люди, глядя в глаза друг другу, просто улыбались другим людям… и те снова улыбались… и отвечали улыбкой на улыбку…
Мы продолжили нашу прогулку. Моше, всё ещё улыбаясь, довольно разглаживает бороду и рассказывает мне об этой паре… о своих «шаббатних родителях»… это были они… это им улыбался я, когда наблюдал их встречу с Моше. И стало немного не по себе, когда я подумал, что этой встречи могло и не произойти… что могли не увидеть их!.. а привычно кинуться… в другую сторону… туда, где скрылась потерявшаяся тень заблудившегося человека… человека, пребывающего в аду… Но что–то свыше указало другое направление… направление, где человек улыбался человеку… И мы оба с улыбкой и без зазрения совести оставили тени теням, и пошли своим путём. И нам было хорошо… хорошо от того, что нам было по пути.
11. ЛИЦОМ К ИЛЛЮЗИИ
… и стоял Воин лицом к Иллюзии. И была за спиной Воина Истина. И исходила она Сиянием… и по мере того как угасало свечение… меркли и сами черты воина… да и в нём самом словно бы затухал огонь… И становился он прозрачным и совершенно рассеянным. Его почти не оставалось. Так, — пёрышко облака… глядя на которое… просто… перестаешь быть!..
Ну как?!. Как он мог подсказать Воину?!. что вон тот!.. розовый свет… на этом облачке!.. и есть сияние его собственного ума?!
А ведь Воину это нужно было не только услышать!.. это необходимо было еще и осознать. И он осознавал… Сначала предстояло осознать то, что его нет… что есть что–то… единое со вселенной… И тот, в ком не было ни смирения, ни веры, ни молитв… обрёл их!..
Впрочем, все осознания Воина были еще впереди. Ему еще только предстояло увидеть в себе Свет и то, как Божественное тело и Свет сливаются воедино в нем самом…
Ему еще предстояло осознать Божественность своего тела…
А сейчас…
Здесь и сейчас, в этой точке вселенной, Алхимику хотелось кричать! Кричать, что хватит, хватит всего бояться!.. что, воин не имеет права на страх! Даже тогда, когда тело его мертво!..
Ему хотелось кому–то доказывать, что, в общем–то, поздно уже бояться!.. что… ничего страшного произойти уже не может!.. если…
… если ты не захочешь укрыться от яркого, ослепительного, чистого, желтого цвета Мудрости.
— Это свет Милости! — кричал я в сторону Воина.
— Техника! — подсказывал Воину Алхимик. — Молись же! Читай молитву!! — кричали голоса во вселенную… кричали что было сил… Но Воин не слышал…
Алхимик лишь наблюдал за тем, как Воин погружался в собственные чувства… как он прислушивался к далеким голосам во вселенной, что–то говорящим ему наперебой.
Воин умирал от страха… ничего божественного… только ужас непонимания!..
— Ни формы тебе!.. ни тела мне!.. ни духа… грустно… один страх…
Обхватив себя руками, дрожа на вселенском ветру, сжимался он в зародыш, который, то и дело, вскакивал, оглядывался зачем–то по сторонам и сокрушительно вздыхал… должно быть всё еще сокрушался по своему собственному, растерзанному телу. Где–то оно сейчас? На дне какого океана?
И, словно ныряя в пучину, шагнул он в неизведанное.
Со словами: «Прости меня грешного»… Трудно дался ему этот шаг… словно сдался на волю победителя… точно совершил акт суицида… как в омут… с головой… и, не успел он ощутить леденящей прохлады океана, как был подхвачен, словно багром, лучами…
— Благодать!.. — расплылся он…
— Храни веру в этот свет, — тихо произнес я, и посмотрел на остолбеневшего Алхимика. А тот мгновение спустя уже находился у компьютера… и кто–то диктовал ему опыт медитации Дня Третьего[12].
«Пусть тебя не привлекает тусклый голубовато–желтый свет», — писал он то ли инструкцию, то ли наставление… писал, сам не зная для чего!.. кому он это писал?! ну не для себя же самого!..
«… свет, исходящий из мира людей. Ступить на его дорожку, встать на этот путь толкают приобретенные тобой и укоренившиеся наклонности твоего эго. И если ты последуешь вслед за ними, тебе вновь придется родиться в мире людей… тебе вновь предстоит пережить своё рождение, старость, болезнь и смерть… этот тусклый свет вновь приведёт тебя в трясину мирского существования… не привязывайся к нему… не будь слабым… Верь лишь в яркий, ослепительный свет!.. откуда бы он ни исходил!..
и, молясь, с глубоким смирением и верой, ты сольешься с окружённым радужным сиянием сердцем и достигнешь состояния будды в любой из обителей блаженства»…
12. В ПЛЕНУ СЛОВ
Я смотрел на Алхимика и видел, как слова повелевали им. Он был в плену слов. Да это и понятно. Им овладел сам Повелитель слов. Когда–то Поэма Эратосфена, в коей великий александриец изобразил Гермеса, потому и оказалась утеряна, что было так угодно Повелителю. А потом целые поколения писателей, приписывали Гермесу открытия собственной мудрости и подписывали его именем все свои сочинения. Так тоже было угодно Повелителю.
Теперь времена изменились. Сегодня Ему было угодно, чтобы Алхимик извлек урок… постиг мудрость. И Алхимик сидел за компьютерным столом… в кресле, на спинке которого разложился урчащий кот…
Он положил кота на колени… и кот приготовился слушать сказки…
Писателю всегда не хватало слушателей. И, кто знает, насколько меньше было бы изведено бумаги в мире, если бы у всех пишущих был такой замечательный кот… Кот, умеющий слушать…
С котом Маркесом ему и вправду повезло. Кот с таким именем умел не только урчать свои нескончаемые мантры, но и слушать чужие сказки…
Кот Маркес умел и любил сидеть рядом с писателем, когда тот усаживался у компьютера. А когда его брали на колени, это означало, что сейчас, только ему одному!.. и то, как коту!.. будет рассказано нечто…
знал кот и то, что это нечто в писательские произведения не входило. И, по мнению кота Маркеса, читавшего из–за плеча все опусы, это было совершенно несправедливо.
Впрочем, кот не был критиком. Кот был слушателем. За эту мудрую позицию он был выделен писателем из прочих домашних котов, и особо приближен к кухне…
Сегодня, едва Маркес приготовился слушать Алхимика, как ощущение присутствия кого–то незримого встревожило его… голубая шерсть заискрилась, а из мягких подушечек лап, выткнулись лезвия когтей.
— Ты что, Габрик? — потирал он проколотое до крови колено. Но Маркес соскочил, не желая делить присутствие с кем–то ещё…
— Знаешь, Гарсиа, — говорил писатель коту, занявшему удобную для обороны позицию, — как я устал от этих игр Эго!.. И разве сочинять учил нас Повелитель слов?! Сочинять — всегда означало: быть в плену иллюзии. Той единственной писательской иллюзии, чья магическая сила была всегда известна под именем Майя[13].
— Иллюзия. Майя. Проникновение, — согласно замурлыкал Маркес.
— Именно, — радовался пониманию кота писатель. — Проникновение. Оно всегда являлось высшей формой Герметического искусства… Мистическое, интуитивное проникновение. Проникновение в суть всех вещей… в самую душу… в печёнку!..
Искусство Гермеса учило одновременному осознанию иллюзорности и полной реальности мира. Мир, в котором человек получал божественный дар, в силу своего подобия богам был столь же реален, сколь и тот, в котором он сомневался… и, страдая от раздвоенности, менял и себя и своего героя…
13. БОЕВАЯ МАШИНА ТЕЛА
Получавший наставление, каким бы слабым ни был его ум, неизменно достигал Освобождения. Он знал: есть люди, которые накопили в течение всех своих воплощений много плохой кармы. К их числу относились и те, кто нарушил обеты, и те, кто, лишив себя стремления к Высшему, уже не были способны распознать Реальность.
И никакие наставления здесь не помогали. Затемненное сознание вызывало образ Страха, а тот уж находил средства, чтобы заставить бежать… от реальности… от Любви, ее тишайших и нежнейших звуков… бежать от Сияния!.. бежать, сломя голову, к самому черту… да на рога! Бежать!!
Снова терял сознание… и в обморочном бреду предстал пред светом дня Четвертого. Потом узнал, что это был день Златокудрого Меркурия.
Тот уже был здесь. Он явился в образе Безбрежного… и красный огненный шар озарял небеса… и свет восхода был непостижимым… и было это олицетворением самОй вечной жизни.
Облака же отливали тусклым светом прета–лока… они насылали мысли… а те порождали зависть… Это была зависть к легкости, с которой рождалось и умирало Светило. Медитируя на восход, впустил мысли о закате… и тогда тусклый прета–источник мгновенно стал поглощать внимание… А он… он подкармливал прямо с руки… как подкармливают птенца!.. свою ностальгию!.. вскармливал по крохам… и неистово страдал по иллюзиям, так милым его сердцу…
Но тот, что пришел из Красной Западной Обители Счастья… тот, что сейчас восседал на своем павлиньем троне… взмахнул!.. то ли скипетром, то ли кадуцеем… то ли — волшебной палочкой, увенчанной цветком лотоса… взмахнул!.. и иллюзия заката исчезла…
Новый взмах посохом!.. и вспыхнуло сияние зажженной Зари!..
женщина в роскошном белом белье, повелела приблизиться. И когда оказался рядом с нею, она протянула руку… и ввела в Красный Свет[14].
— Что это?..
— Первичная форма твоего агрегата чувств, — услышал прощальные слова удалявшейся женщины, чье сияние даже здесь в Красном Свете, оставалось неизменно белым…
И, то ли оттого, что осознал что–то, то ли потому, что вдруг увидел тот самый агрегат чувств… только теперь, за телом закрепилось названье: машина… привычный… удобный и слаженный организм… запрограммированный на саморазрушение…
И вот уже Сверкающая Форма, наполненная Красным светом, обретает невиданную свободу. И в радости этой формы, в капле, отдавшейся во власть падения, свистит пространство… оно разворачивается водяной воронкой… И там, за чёрной дырой домотканого ковра с изображением небесного океана, зажигаются новые звезды… и сияние их ослепительно… и прекрасно… это сияние, исходящее из самого сердца… смотреть на него — никакой возможности.
Испытывая приближающийся страх перед аллергией, вдохнул запах нарциссов!
— Нарциссы? — удивился… Этого было довольно, чтобы всё вокруг изменилось. Одной мысли… вопроса было довольно, чтобы изменилось не только состояние духа, но и место моего пребывания. И если, как говорили мудрецы, ты там, где твоя мысль, стало быть, закинуло меня достаточно далеко.
В мире, где любая мысль становилась пищей для внимания, наблюдал я за тем, как мой Страх утолял свой голод.
… Писатель устал от сражений. Каждый раз, удивительным образом превращаясь в Алхимика, он ощущал сопротивление со стороны жены.
Она боялась его состояний. Видя внезапные изменения в своем муже, она не верила в то, что все призванные им силы готовы служить ему на благо.
Она не верила, что кто–то вообще может или имеет право использовать какие–либо потусторонние силы, и что силы те могут служить на благо.
Она не верила ему! Не верила, что он делает это во благо… Ведь сколько раз он разочаровывал ее! Это происходило каждый раз, когда он объявлял мобилизацию своих сил. И, вышедшая из–под власти его чар, она смотрела на него испуганными глазами женщины, которую бросил, разлюбил, предал мужчина.
В жене успешно совмещались мягкость женщин, сияющего солнцем Востока, и суровость барышень, хрустящей под снегом, как Русь под татарином, Бугульмы.
Восставший в жене Воин был бесстрашен, безжалостен и жесток. Ведь не случайно ее подруга–чернокнижница, потомок великого Тамерлана, всегда льнула к ней. И тогда, из кроткой, нежной и ласковой жены, она превращалась в Воина, дошедшего до ворот Иерусалима…
Разгневанной Исидой метала она в мужа шаровые молнии, и нужно было обладать чем–то от Осириса, чтобы по–прежнему оставаться от нее без ума.
14. ПРОВОЗВЕСТНИК СКОРБИ
Спасательные крюки баграми шарили в пространстве… он же… он бежал от них… ему виделся сноп спасительного света, а память выставляла это как вспышки фотохроникёров… и он бежал от объективов… прятался… знал репортерскую братию… чувствовал… даже на таком расстоянии… чувствовал, как профессионал… за обшивкой «Splendid» было достаточно таких парней… эти могли потопить не одну подводную лодку…
… теперь же… когда это случилось… когда произошло непредвиденное… и на дне океана действительно валялись обрубки душ огрызнувшихся чудовищ… он с чувством глубокой вины за случившееся бежал… бежал от ужаса!.. горя!.. бежал от нежелания становиться объектом чужих вспышек… чужих объективов… а натиск становился всё невыносимей… и софиты окончательно ослепили его!.. это было сафари наоборот!.. впервые он не был охотником!.. впервые охота шла на него!.. и он обхватил голову руками!.. прикрыл глаза… уши… нос… и замер… как замирает на дороге птица, ослеплённая фарами джипа… невероятной мощи вспышка прекратила все его страдания… исчезло всё… исчезла вонь… исчезли репортеры… улетучились видения… но оставался страх…
он боялся… боялся Того Света… и он бежал от него… наивно полагая, что можно убежать от смерти!.. и яркий тот свет, перекрывший все видения, снова ужасал его… и хотелось туда, назад!.. где глаза видят привычные образы!.. где призывным маячком мерцает красный луч сигнального прожектора…
и он несся туда!.. по ту сторону собственной реальности!.. где люди плакали и смеялись… где скорбь давно воцарилась на троне… где он был провозвестником скорби…
15. ВСПЫШКА СПИЧКИ
— Осознай ту мудрость, — говорил я себе, стоя у зеркала, перед тем, как отправиться в путь.
— Исполнись смирения… слейся с тем светом… достигни состояния будды…
Я вслушивался в собственный голос и не мог ни осознать, ни прочувствовать ничего из того, что произносило моё отражение…
Отражение говорило справедливые вещи… и я понимал это головой… как понимал и то, что это необходимо сделать… и желание было огромно!.. и техники под руками… и все Святые писания переложены закладками… и расположение звезд благоприятное… и фазы луны совпадали!.. и все компоненты для алхимической реакции были соблюдены!.. но чего–то не хватало!!! Чего–то недоставало Алхимику… быть может, веры?..
веры не хватало… трудно… почти невозможно было поверить в то, что это!.. возможно!.. сделать!.. здесь не достаточно было знать как!.. здесь нужно было уметь!!!
Повторяя вслед за кем–то непонятные фразы… о спасительных лучах благодати… исходящих от Бхагавана Амитабахи… что давали прибежище… никак не мог взять в толк фразу: «И молиться со смирением».
В моём арсенале не было этой практики… приходилось полагаться лишь на опыт отражения… ясно было одно: молитва должна изливаться из самих недр существа… душой… но всей своей душой он был сейчас там…
«где ходики стучат старательно на кухне… где милая моя и чайник со свистком»…[15]Он даже улыбнулся этой песне… внезапно посетившей его угасающий разум… и хотя у него никогда в жизни не было ходиков!.. и чайника с таким замечательным свистком тоже не было!.. он был счастлив этими строками… словами… так точно передающими его собственное состояние… бежать туда, где милая!..
И он бежал назад!.. туда, куда была устремлена душа… бежал, не зная, что нельзя!.. невозможно убежать от спасительных лучей Благодати!..
… а лучи неотступно следовали за ним… и он всё ещё страшился их… теперь он видел в них мигающие полицейские машины… слепящие красными и синими огнями, обложившими его со всех сторон…
и он убегал от власти света… так же, как бежал от любой из властей… и он несся сломя голову!.. мчался в ту сторону, откуда долетали едва различимые красные лучи прожектора… прямиком в прета–лока.
А по ту сторону его реальности стояли толпы сочувствующих. Толпы тех, кто лично переживал его судьбу, словно свою собственную. И, как ни странно, он был благодарен им. Благодарен за скорбное молчание… за их слезы по нему, по его душе… За их молитвы… И он с благодарностью тянулся к ним опять и опять…
… кого привлёк путь Сансары, попадал в мир несчастных духов. Эти духи страдали от невыносимых мук: голода и жажды. И тот, кто встречался с ними… если, конечно, хотел остаться невредимым… обязан был утолить их жажду впечатлений…
Но обо всём по порядку… сначала эти джинны требовали утолить их животный голод… потом их голод становился интеллектуальным… и только пресытившись пережевыванием знаний, наступал голод духовный…
Сейчас духи жадно курили наргилу и никак не могли накуриться. А он смотрел на них… и сам мечтал о единственной затяжке… дымок не накуривал джиннов, но это ничего не значило… он сочувствовал им… и его собственное желание становилось непреодолимым препятствием на пути… и он остался… остался в той точке вселенной, где джинны курили… где струился сизый дымок… где ему предстояло ублажать этих ненасытных… и другого выхода не было… но по ту сторону реальности… звучали диковинные слова неведомого языка… молитва?.. и что–то отозвалось в нём… и не было уже ни ненасытных джиннов… ни глубин сансары… только слова… неведомые, волшебные заклинания… слова, волшебным образом составленные в молитву!.. слова, готовые изменить всё!
Войдя во власть этих слов… он едва не достиг Освобождения… и когда он был уже готов слиться с радужным сиянием… кинул он прощальный взгляд туда, где оставалось то, что называл он своей жизнью… и на какое–то мгновение… его вниманием… завладела… вспышка спички!.. должно быть, он позавидовал невидимому курильщику… иначе бы он удержался на спасательных крюках… и достиг Западной Обители, называемой Счастливой… но вместо этого… он рухнул в День Пятый…
16. ОБЪЯТЬЯ ЛЮБЯЩЕГО СЕРДЦА…
«Блуждая, увы, в сансаре из–за страстной привязанности,
Я молюсь о том, чтобы Бхагван Амитабха
Повел меня по сияющему пути Всеразличающей Мудрости.
Пусть Божественная Мать, Одетая в Белое Одеяние,
будет мне защитой на этом пути.
Да избегну я опасностей Бардо
И достигну всесовершенного состояния Будды», — читал Алхимик молитву из тибетской книги с наставлениями о состояниях потусторонней реальности.
«В Пятый День перед умершим предстает Всемогущий Победитель с божествами своего круга».
Алхимик читал вслух о том, что явятся боги. И озарят сущность зеленым светом… светом первородной формы элемента воздуха…
… из Зеленой Северной Обители Совершенного Благочестия… на движущемся по небу троне, украшенном изображениями бородатых гарпий… явился Некто… и был этот Некто в объятиях той, которую называл Долмой. Алхимик читал, что эта Спасительница имела поразительное сходство с портретом королевы Виктории, отчеканенным британцами на своих монетах… Должно быть Преданная Долма и впрямь когда–то правила ими…
чтобы не углубляться, я перевел внимание на гарпий… таких тварей с мужскими головами я видел впервые… обычно греки изображали чудесных птиц исключительно с женскими лицами. Эти же имели накладные волнистые бороды, которые вызывали у меня улыбку. И едва появлялась улыбка, как тут же исчезал страх, явившийся по зову хищного слова.
Я огляделся… один из спутников Победителя держал в руках дордже. При помощи этого нехитрого инструмента он пытался обрести равновесие в пространстве, и это ему удавалось с видимыми усилиями.
Второй спутник стоял в самом центре невозможного изумрудного сияния. Одним только своим видом рассеивал он любой мрак. Радужное гало венчало чело пришельцев… а свет их лиц озарял собою все вокруг… непомерное для смертных сияние…
… новая реальность заявляла о себе уже Пятый День, а я неизбежно убегал от нее. И поводом служили гнев, гордыня, жадность и зависть.
я наблюдал, как от асура–лока отделился вялый пучок болотного сияния и как зависть несла тот пучок… словно желая вручить его мне в награду…
А я смотрел на все безразлично… безучастно принимая то, что составляло эту реальность… изумрудное сияние окружало меня… и не было в нем ни страха… ни ненависти… ни кровавой жажды мести… ни желания восстановить справедливость… Не было и во мне всего того, что представляло собой эмоциональный заряд асура–лока… весьма эмоциональный!..
… словно боясь потерять его… окликнула… поманила из–за спины уже иная реальность… та самая реальность, в которой происходили войны… столкновения людей и техники… военные перевороты и жестокие подавления мятежей. А он пока еще стоял по другую сторону. Стоял, до краев переполненный веры… и очищался… ополаскивал себя в потоках сияния… и свечение его было изумрудным… как слова, озарения!.. слова Молитвы… творимой им смиренно… с любовью…
Он молился!.. и это не была иллюзия!.. он молился словами, что отыскала в недрах его сути душа… нашла… и высвободила… и указала путь…
И слова неведомой ему молитвы… непонятного ему языка ангелов… снова вели его по Лучезарному Пути Всеисполняющей Мудрости… и обращались к Божественной Матери… и просили ее о защите в том пути… и знали, что путь тот вел к Обители Накопленных Благих Деяний…
И едва сила мудрости ума привела его в состояние великого беспристрастия, — шесть бодхических форм, словно шесть сопел взлетающей в небо ракеты, зажгли над ним своё радужное гало!.. и первичная форма его агрегата воли засияла светом Всёисполняющей Мудрости…
… не было слышно ни рева старта!!! ни взрыва!.. — только чистый, ослепительно чистый, мерцающий свет… Свет, поражающий своим великолепием!..
Свет, так страшивший своей мощью… теперь нежно и заботливо… переносил его в ту реальность, где и сами светила и их спутники, и все сидерические тела, являлись живыми… одушевленными!..
они жили своей жизнью!.. эти живые формы звезд и планет!.. жили точно так же, как жили люди… их человеческие формы… и каждый знал, что все они — вместе… едины!… что каждый является носителем единого!.. невидимого!.. духовного!.. организма!!!
это был бесстрашный старт в нескончаемые небеса!.. распахнутые, как объятья любящего сердца!..
17. КОЛЕСО НЕВЕДЕНИЯ…
в этот день попадали те, кто пребывал во власти укоренившихся наклонностей, кто не познал Мудрости и не питал чистой любви к ней. В День Шестой посмертного состояния падали те, кто под влиянием своих привычек отступил от пути, повернув назад. Здесь оставались те, кто, невзирая на многочисленные наставления, испугался Того Света, кто не принял, оттолкнул от себя спасательные крюки его лучей.
Падение было страшным. Оно длилось вечность. Но оно было конечным. И когда любое движение внутри умирающего прекратилось, сонм богов пяти орденов, со своими спутниками, окружили его. Рассеянный свет шести лока исходил где–то поблизости. Наверное, по ту сторону реальности.
он видел, как стартовали космические корабли… он восхищенно наблюдал за их взлетами!.. но он не сразу осознал, что эти, устремленные в иные пространства ракеты… и есть те самые снаряды, начиненные атомной энергией, принадлежащего ему агрегата чувств!.. теперь же… и атомы, некогда составлявшие его тело… стали самостоятельно в нём взрываться!.. его покидало всё!.. и уносилось силой ядерного взрыва!!! Всё, что некогда было им… всё это возвращалось в соответствующие состояния материи… газы улетучивались газами… вода обращалась водой… а прах осыпался прахом… но это уже никак не заботило его… животная глупость получила свободу… она была освобождена от сознания… и, хотя кто–то незримый… Бог знает!.. из каких глубин или высот… называл его высокородным… это уже не слышалось им… не воспринималось…
… он опускался… и это не было снижением высоты!.. скорее — погружение… всё ниже и ниже… и не зависело оно ни от количества богов, явившихся его поддержать… ни от звучащих отовсюду наставлений… он уже не прислушивался ни к чувствам… ни к здравому смыслу… просто падал!.. падал, намеренно ввергая себя в пучину опасностей посмертного своего состояния…
Так пролетели семь дней…
Семь дней Колесо Неведения с натянутыми спицами Иллюзии продолжало вращаться в руках Отца.
Семь дней, словно на круге сцены старого театра выплывали, приходя на смену друг другу, декорации и действующие лица.
Семь дней вращались буссоли перископов, ищущих и находящих в своих перекрестиях одни только цели.
И едва красная, слегка маслянистая пленка смывалась просоленным языком океана, как возникала новая майя.
И лики богов искажались Маской Гнева.
А сами боги пребывали в гневном пламени, мечущимся след в след за тем, кто неудержимо продолжал свое падение в страх.
Словом, немудрено, что на смену благодушию явили боги Маску своего пламенного гнева. Описывать это Алхимик отказался. И правильно сделал. Впрочем, это уже другое Бардо. Другая история.
Это уже другое путешествие. Может быть, кто–то сумеет осилить тот путь, который значится как ЯВЛЕНИЕ ГНЕВНЫХ БОЖЕСТВ С ВОСЬМОГО ПО ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ? Не знаю. Не уверен. Как не уверен я и в том, что эта книга сможет кому–либо помочь. Я не уверен, что ее, как «Тад–хол» можно использовать в качестве талисмана для умершего[16]. И хотя здесь и описаны многие практики, я не уверен, что кто–либо захочет их испытать на себе и своих близких… во–первых, — хлопотно… а во–вторых… зачем?!. Ведь все мы — люди разумные…
Послесловие
9 января 2001 года… в ПОЛНОЛУНИЕ… я закончил роман… и сидел в ночном саду… на ступеньках дома… зябко кутаясь в плащ… не мигая смотрел я на огромный!.. красивый!.. думающий череп луны!.. и видел, как внимательные звезды глядели на меня…
а тень Земли убегала с ночного неба!.. убегала, словно преступник… а череп повешенного в ночном небе… смотрел мне в глаза!..
— Последняя Мистерия Луны, — подумал устало…
— впрочем, — об этом уже тоже написано…
Август 2000‑март 2001…
Кацрин…
Голанские высоты…
Примечания
1
улыбнись, улыбнись Винокур! Слова не принадлежат нам… они, либо всходят в нас, либо, умирают…
(обратно)2
Существует легенда, что когда Гермес убил Аргуса, он предстал пред судом богов. Не желая себя осквернять прикосновением к богу, пролившему кровь, боги кидали в него камушками. С тех пор набросанные в кучу камни называют гермами, веря в то, что поблизости с гермами обязательно присутствует Гермес.
(обратно)3
Иврит. Буквально Небеса. В алхимия Шамаим — сфера Божественной Огненной воды, ставшей первоистоком Слова Бога, той самой пламенеющей реки, что вытекает из Вечности.
(обратно)4
Эйн Соф — ивр. Буквально — Нет конца.
(обратно)5
— Перед тем как познать вдохновение (вдохнуть дым травки), — говорил Моше, — траву откидывают на дуршлаг, чтобы отделить от семян.
(обратно)6
Ваджрасаттвой
(обратно)7
Дордже — ламаитский скипетр.
(обратно)8
Это выражение я бессовестно позаимствовал у Моше Винокура, которому бесконечно благодарен за то, что позволил мне приблизиться к себе в пору заточения… когда по ложному доносу он был сослан на север страны и под домашним арестом жил в подвале центральной синагоги Кацрина.
(обратно)9
16 декабря 2000 года в Интернете появилась новая версия гибели «Курска», тут же названная фантастической. Автор статьи, капитан первого ранга запаса Сергей Дмитриев сообщал, что «убийца «Курска» — английская лодка «Сплендид», но и она погибла рядом».
(обратно)10
Возможно, что Винокур так и не закончил свой рассказ, отрывок из которого застрял у меня в компьютере… возможно, он написан целиком… публикуемый мною отрывок служит лишь живой иллюстрацией, образчиком винокуровской прозы…
(обратно)11
Благословение
(обратно)12
Следует иметь в виду, что День Первый Бардо отсчитывается с момента, когда умерший осознает свою смерть, как и то, что находится на пути к новому рождению, а это происходит через три с половиной — четыре дня после смерти. (См. Вводное наставление о познании реальности на третьей ступени Бардо, называемой Чьёнид Бардо).
(обратно)13
Майя — так звали мать Гермеса. Майя наделила своего сына всеми своими качествами, которые потом стали выражаться в понятиях иллюзорности, чудесного, метафизического превращения, колдовства и грёзы.
(обратно)14
Красный Свет — состояние Всеразличающей Мудрости.
(обратно)15
Песня Ю. Визбора.
(обратно)16
Тад–хол — небольшое собрание мантр, произносимых во время чтение «Бардо Тхёдола». Очень важное примечание содержится в примечаниях к «Тибетской Книге Мёртвых». если умерший знал эти мантры при жизни, они, как сильные талисманы, будут служить ему защитой во время пребывания в Бардо и обеспечат счастливое новое рождение.
(обратно)


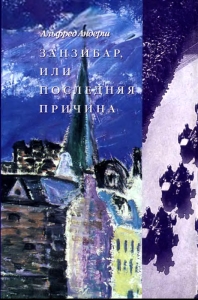



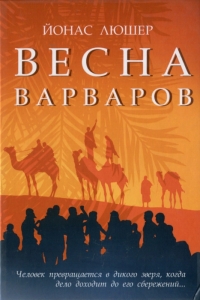


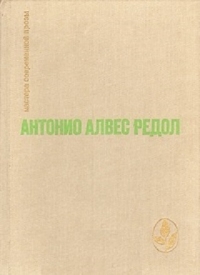
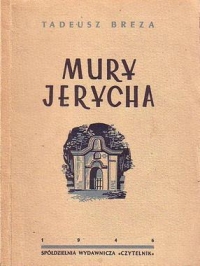
Комментарии к книге «Тремпиада», Анатолий Игоревич Лернер
Всего 0 комментариев