Михаэль Эбмайер Холодные ключи
Перевод с немецкого Нины Бескровных
Матрас не продаётся, мы им столько лет пользовались. Его можно только так отдать, даром. Но я не отдам. Вам–то, может быть, и да, ну а мне, знаете ли, это не всё равно. Я его оставляю себе, а вы новый матрас уж где–нибудь подыщете. Так на следующий день в ушах Матиаса Блейеля звенел его собственный голос. Что он не мог перестать об этом думать, было ещё понятно. Но вот почему в голове застряли именно эти несуразные слова? «Уж где–нибудь подыщете», какой–то глупый, мещанский тон. Молодые люди пожали плечами, подхватили и потащили днище кровати через узкую прихожую в подъезд, вернулись за каркасом и заглянули ещё разок, попрощаться. Двое молодых людей, хотя молодыми они и не смотрелись. Один — с жидкими волосами, другой — пышногривый, но со скверной кожей и в затемнённых очках с очень толстыми стёклами. Матиас Блейель ни о чём их не спросил, уж не студенты ли они, к примеру, и они тоже ничего не спрашивали. Говорили только по делу — вот кровать, бук, как и обещано, все детали здесь, можете проверить, вот каркас, вот днище, всё как в газетном объявлении. Торговаться они не пытались, хотя он наверняка пошёл бы навстречу. Когда они ушли, он взял с телефонного столика деньги, две купюры по пятьдесят и одну двадцатку, и спрятал их в бумажник, а бумажник — во внутренний карман пыльника. Потом снова зашёл в спальню и уставился на осиротевший матрас, метр шестьдесят шириной, косо лежавший на ламинатном полу рядом с новой, узкой кроватью. Один угол задрался на стену. Как небрежно брошенный на пол матрас для гостей. Как будто те ребята вернутся переночевать. Что за нелепая мысль. Матиас Блейель невольно улыбнулся, обрадовался, что ещё может улыбаться, и наклонился над матрасом. Пятна. На матрасы всегда садились пятна, даже в идеальном хозяйстве, они закрадывались исподволь и не выдавали своего происхождения. Он снял длинный чёрный завитой волос. Илькин? Его грудь сжалась. Может, это того молодого человека в очках с толстыми стёклами. Как там его, он и забыл, скорее всего, даже и не услышал, как они представились.
Матиас Блейель направился в кухню, не выпуская из пальцев волос (куда он делся потом, вспомнить уже не удалось). На полке с пряностями, склянками с маслом и уксусом откопал бутылку виски, подаренную коллегами на сорокалетие, откупорил её и, хотя время ещё было раннее, принял стаканчик, прямо на голодный желудок. Безо всякого аппетита, стоя у стола, сжевал два ломтя хлеба с ветчиной, подлил в стакан ещё и взял бутылку с собой в спальню.
Квартира без Ильки. Ему показалось, что он заметил это только теперь — увидел матрас и впервые почувствовал, как её не хватает. Он постоял на пороге, опустился на матрас и прижался спиной к стене. Там, за шторами, вяло тянулся тусклый июньский день, и не тёплый, но душный, небо недвижимое, сероватое. А Блейель видел перед собой Ильку. Так явственно он не видел её с развода, а может, и вообще никогда. Как она постоянно приглаживала волосы, даже когда они и не лезли в лицо, останавливалась на прогулке, если хотела сказать что–то важное, как, расхохотавшись, запрокидывала назад голову, и оттопыривала нижнюю губу, когда плакала. А сидя с ним за столом, искала его ногу и зажимала её своими. Но зачем ему сейчас эти картины? За что такое мучение? Тогда всё было не напрасно, всё шло хорошо, они были вместе. Илька, когда она впервые села листать каталог «Фенглер» и всё хихикала, что такая одежда пришлась бы по вкусу её престарелой тетушке. Илька в плетеном кресле, Илька со специальной кастрюлькой для спаржи, которую ей непременно сдалось купить, Илька в постели, больная, Илька в постели, здоровая, восемь лет с Илькой, два из них — в этой самой квартире, на этом самом матрасе. Что толку теперь от этих картин? «Матиас, ты самый кошмарный тупик в моей жизни». Что только ни скажешь в пылу гнева. Но если потом ничего другого не сказали, или, по крайней мере, ничего существенного, то под чертой оставались именно эти слова. А потом они увиделись уже на суде.
Квартира не изменилась, если не считать пары вещей, которые она забрала с собой. Картины так и остались на стенах, фотография — они вдвоём на пляже — на шкафу в гостиной, её посуда в буфете, её плетёное кресло, косметика на полочке в ванной. И другие вещи, каждая на своём месте, как будто она просто на минуточку вышла. Самый кошмарный тупик её жизни жил себе дальше, один–одинешенек, оставив всё так, словно они не расставались. Утром уходил на работу, ранним вечером возвращался, почти в полном душевном спокойствии. Без злости, без слёз, без размышлений. Жил себе и жил, будто ничего не случилось.
И вот сегодня, в этот непримечательный июньский день, восемь лет совместной жизни неожиданно, болезненно оборвались. Двуспальная кровать, они нарочно купили её для новой квартиры. Он долил в стакан виски.
Почему же его так подкосил этот момент? Напугал так, что даже за бутылку ухватился (вообще–то он никогда не пил, разве что кружку пива после работы, и то в порядке большого исключения) — ведь он сам дал объявление в газету? Кровать, два престарелых молодых человека. Разыграл театр, чтобы перехитрить самого себя, иначе он так и не признал бы, что всё кончено. В шкафу гостиной стояла пухлая папка, набитая бумагами с бракоразводного процесса, а за фотографией с пляжа валялась записка, на которой она неохотно и неразборчиво нацарапала новый адрес в Мюнхене. Вроде бы та квартира принадлежала её родителям. Мюнхен, район Швабинг. Почему же он не позвонил и не спросил, не нужна ли кровать ей? Сколько раз они говорили по телефону в последнее время, раза три? Не больше. Холодно и сквозь зубы. Когда же он, наконец, переоформит договор по съёму квартиры. Должно быть, счета так и приходили на её имя. Конечно, если бы у них был ребёнок, разговоров было бы куда больше. Но если бы ребёнок был, может, они и не развелись бы. Если бы Илька не потеряла ребёнка. Потеряла, да. Он однажды тоже использовал слово «тупик» в несвоевременной ситуации (постоянный контроль цикла, настырный гинеколог, вечные анализы крови, содержание прогестерона, её одержимость). Что ему и вышло боком. Он плеснул ещё. Конечно, думать об этом периоде теперь уместнее, чем о соприкосновении ног под столом или спаржевых кастрюлях. Несколько выкидышей (спонтанные аборты, комментировал настырный) — это серьёзное испытание для любого брака, вот так и получилось. Горе, разрушенная надежда стать матерью (или продолжать жить и после смерти), наверное, в этом и была причина. Но всё–таки вспоминать тяжёлое время было горько и тошно, настолько тошно, что даже потрясение от проданной кровати — не повод ворошить прошлое. Может быть, кому–то в Мюнхене и удастся сделать Ильке ребёнка, несколько лет у неё в запасе ещё оставалось — не говоря о решимости и силе воли. Он будет за неё рад. Только не надо тонуть в жалости к самому себе. В доме, полном Ильки, но без Ильки. В доме, который вдруг сделался невыносимым. Как ему прожить здесь хоть день? Как он прожил здесь последний год? Скорее, скорее найти милосердное забвение, хоть бы и в стакане виски. Последний глоточек — и он встанет с матраса.
Удалось это ему или нет, он не помнил. Наутро бутылка так и стояла в спальне, опустошённая, к счастью, всего на одну треть. Кто знает, что сталось бы с дикой головной болью, поднимающейся с затылка, если бы он увидел, что бутылка пуста. Или ополовинена. Он почистил зубы, выпил кофе — но ощущение, как будто язык натёрли щёткой для обуви, так и не прошло. И он не мог исключить, что, переезжая со старого матраса на новую кровать, он пролил слезу — к счастью, этого момента память не сохранила.
И, к счастью, в тот день можно было соотнести работу с состоянием здоровья. Утром он занялся делами попроще. Просмотрел счета–фактуры швейных предприятий из Румынии и Турции, с которыми уже несколько месяцев не возникало никаких проблем; фрау Велеску в Яши и герр Кемал в Анкаре вели дела профессионально. Пообедал жареной рыбой с картошкой — как всегда по вторникам, с коллегами из отдела логистики. Ничего особенного на повестке дня не намечалось, всё шло благополучно. Их фирма считалась одной из самых преуспевающих, благодаря развитию отношений с бывшим Восточным блоком,[1] как ни странно такое слышать о производителе модной одежды из Баден — Вюртемберга[2].
Вещи Ильки. Пора убрать их из квартиры. Кровать — это только начало, признак того, что наскоро залепленная рана вскрылась и нужно ею заняться по–человечески, и поживее. Весь хлам надо срочно выбросить, держать его вокруг себя — нехороший, опасный самообман, так жить нельзя больше ни единого дня. А может, это ему самому, Блейелю, пора вылететь из квартиры?
«Счёт, пожалуйста», услышал он сам себя, когда над ним склонилась официантка, и все остальные поглядели на него с недоумением, ведь коллега Томас Хюнинг только что предложил всем по десерту за его счёт, в честь грядущего дня рождения. «Извините, я задумался про гам… гамбургеры… про Гамбург», — пролепетал Блейель, за что прекрасно настроенный Хюнинг обозвал его обжорой. Притом он, конечно же, имел в виду партнёров по грузоперевозкам из Гамбурга, которые нежданно–негаданно огорошили его новым тарифным планом — этим дельцем он намеревался заняться после обеда. «Да я сегодня что–то ничего не соображаю», — отмахнулся он, отговорился сенной лихорадкой и заказал у терпеливой официантки яблочный пирог с ванильным мороженым.
Только он закончил беседу с директором гамбургской фирмы, которого, как ему показалось, он вполне поставил на место (ведь вы не единственный на рынке, герр Келлеборг), как ему сообщили, что с ним хочет поговорить Фенглер. В семнадцать часов, если найдётся минутка, это не по службе.
Минута в минуту Блейель вышел из лифта верхнего этажа и двинулся к широкой, обитой тёмно–зелёной кожей двери в конце коридора. Почему–то ему втемяшилось, что «неслужебный» разговор пойдет о продаже супружеского ложа. Новый матрас уж где–нибудь подыщете. Ну что за галиматья. Он и не помнил, когда Фенглер в последний раз вызывал его к себе. Наверное, в прошлом году. И вот сегодня.
Фенглер, патриарх, который скоро уйдёт из дела на давным–давно заслуженный отдых. Торговлю по почте он ввёл пятьдесят лет назад, сразу после того, как перенял дом моды, основанный его отцом. Через окна анфилады комнат — приёмная, конференц–зал и собственно его кабинет — открывалась панорама на Теодор — Хойс-Штрассе, но отсюда казалось, что это немой фильм о городской толчее и суматохе. Стены обшиты широкими панелями из тика, понизу шла обивка из такой же тёмно–зелёной кожи, как и дверь. Все три комнаты пропахли старомодным запахом шефа — натуральная кожа и сигары. В приёмной фрау Виндиш приветствовала его дежурной секундной улыбкой. Не выпуская из руки фломастера, она махнула, чтобы он проходил. На шкафчике за её спиной кофейный агрегат недавно заменили на блестящую чёрную эспрессо–машину. Дверь в конференц–зал стояла нараспашку, а к герру Фенглеру только чуть приоткрыта. Блейель всё–таки постучался. «Давайте, проходите», тут же откликнулся старик. Как обычно, Блейель подумал, что правильнее было сказать «входите» или «заходите». Но предложение «давайте, проходите» было такой же частью Фенглера, как дюжина пожелтевших щетинок под носом и золотая печатка на пятнистой от старости правой руке.
— Присаживайтесь, герр Блейель.
Фенглер указал на овальный стол недалеко от двери — как и прочая мебель в кабинете, из тика, и нетерпеливо взмахнул рукой, чтобы Блейель, наконец, занял место и не вздумал ждать, покуда старик, опираясь на палку, не выберется из–за своего стола и не усядется рядом. Говорили, что его кабинет — единственный во всём здании, где нет ни одного каталога «Фенглер». Зато вся стена над кожаной панелью была увешана оригиналами рекламных плакатов в красивых рамах, за всю историю дома моды. Сначала под лозунгом «Так современно!», тёмно–красными буквами со штриховкой, над аккуратно прорисованным семейством из четырёх человек на пастельном фоне. В конце шестидесятых перешли на оборонительное «Мне нравится!», с фотографией озабоченной брюнетки со сложной причёской в виде башни баклажанного цвета. Дольше всего продержался слоган «Мода, которая мне по душе!», с различными мотивами, прерванной фазой «То, что нужно!» около 1980‑го года. Несколько лет назад патриарх в приступе апатии допустил «My way of fashion!»[3], а теперь вернулись времена «Моды, которая мне по душе!». Посередине, за письменным столом Фенглера, висела единственная среди плакатов картина маслом — портрет отца.
Фенглер опустился напротив Блейеля, фрау Виндиш внесла поднос с кофе, печеньем и минеральной водой. Перед стариком она поставила полчашки кофе и полстакана воды, к которым он не прикоснулся. Блейелю вручили капучино. Фрау Виндиш ретировалась и закрыла за собой дверь.
— Герр Блейель, — Фенглер разгладил левую манжету, — сколько лет вы у нас работаете?
— Думаю, лет двенадцать.
— Двенадцать лет и четыре месяца.
Он улыбнулся и покивал сам себе головой, и Блейель сделал то же самое.
— В личной жизни у вас всё в порядке?
Это что ещё за вопрос?
— Не могу жаловаться, — пробормотал Блейель.
— Вы не женаты, не так ли?
Он сглотнул. Конечно, они знали о его разводе, хоть он и не любил о нём распространяться. Со стариком он эту тему никогда не затрагивал. Видимо, какой–нибудь формуляр, на котором было помечено изменение семейного положения, попал в руки к Фенглеру, хотя вообще–то этим занималась фрау Виндиш.
— Да, уже несколько месяцев.
Он не удивился бы, если бы Фенглер сообщил, сколько именно месяцев и недель. Но старик только кивнул, тихо вздохнув. Он опёрся о край стола, сложил руки, составил большие пальцы домиком.
— Вы интересуетесь Россией?
Причём здесь Россия, почему именно сегодня?
— Ну… да, конечно… то есть, производства у нас там нет, но рынок значимый, даже очень значимый, и наверняка мы могли бы ещё поднять, может быть…
— Нет, герр Блейель, не поймите меня неправильно. Я вполне доволен положением наших дел в России. Даже очень доволен.
Фенглер добыл сигару из светлого ящичка, который захватил с собой со стола, и прикурил от длинной чёрной спички.
— Когда мужчина моего возраста заговаривает о России, то часто это предмет деликатный.
На всякий случай Блейель сделал серьёзное лицо.
— Но ничего страшного, мне тогда повезло, меня не взяли. — Он взмахнул рукой с зажатой сигарой. — Россия, Сибирь. Эти места очень меня притягивают, герр Блейель, очень, очень притягивают. Но по другим причинам.
Он улыбнулся и затянулся. Матиас Блейель решил, что начеку быть не нужно; он спокойно подождёт и узнает, что у Фенглера на уме. Боль в голове почти улеглась. Осведомиться, какие именно причины имел в виду Фенглер, он, конечно, не посмел. Зато старик снова продолжил допрос:
— Вы слыхали о городе Кемерово?
— Честно говоря, с ходу не скажу…
— Это город с населением в полмиллиона человек, герр Блейель. И представить невозможно, сколько сегодня в мире городов подобного размера — и тем не менее никто про них ничего не слыхал. Как вы полагаете, несколько дюжин? Или больше ста?
— Нет–нет, я что–то слышал. Кемерово.
Фенглер рассмеялся и покачал головой.
— Постарайтесь произнести по–русски: Кьеммерава.
— Кьеммерава.
— Это главный город Кузбасса, одного из крупнейших угольных регионов России. Южная Сибирь, пара сотен километров от Новосибирска. Если вы прочертите линию от Москвы до Владивостока, то Кемерово придётся точно посередине.
Впервые Блейель задался вопросом, почему в кабинете Фенглера не было карты мира. Наверное, она не сочеталась с плакатами. Но уж хотя бы для глобуса место нашлось бы. Ведь посылторг охватывал всю планету.
— К сожалению, часто пишут об ужасных несчастных случаях на шахтах в том регионе.
— Да, припоминаю.
— Герр Блейель, у вас есть планы на отпуск?
Он снова начал заикаться.
— Н-нет, ничего конкретного.
— Значит, в начале августа на вас можно рассчитывать?
— Да, пожалуй.
— Хотели бы поехать в Кемерово?
Да что за чертовщина? Блейель и так подбит, Блейель в зубах прошлого (или, скорее, унылого настоящего), Блейель на исходе сил, Блейель истерзан виски; мало того, теперь его ещё и в Сибирь сошлют. Двенадцать лет он проработал на фирме, не подозревая о влечении Фенглера к России.
Сибирь. Огромная. Неимоверная. Неимоверно далёкая, неимоверно устрашающая, неимоверно холодная. В Сибирь ехали телекорреспонденты, вышедшие на пенсию. Дождавшись, когда сойдёт снег, они сплавлялись по широченным рекам и снимали беззубых бабусек в передниках, которые вопреки всему разводили крошечные огородики за кособокими халупами. А потом многосерийные репортажи шли на рождество или на пасху, покуда бабуськи, вопреки всему, коротали свой век дальше, под метровой толщей снега.
Но нет, в эту Сибирь его вроде бы не пошлют. А в русский аналог Рурского района[4], туда, где горняки с фатальной регулярностью дюжинами и сотнями гибнут в обрушивающихся шахтах. И вдруг он вспомнил, что те места, где прошла бóльшая часть его детства, шутливо называли Бадской Сибирью — городишка Мокмюль, к северу от Хайльбронна.
— Если вы не возьмётесь, я спрошу герра Хюнинга.
— Нет–нет, прошу вас, извините, я сегодня немного не в себе — чувствую себя не очень, я… вообще–то…
— Можете не отвечать сразу. Подумайте, поразмышляйте, время терпит. А потом скажете. Может быть, это вообще не для вас. Ну, а если вы пока не отказываетесь, я мог бы вам порассказать, в чём будет состоять дело.
— О да, прошу вас.
Фенглер совсем уже старик. Никогда Блейель не видел это так ясно, как теперь. Старческое тело, старческий череп — при ближайшем рассмотрении казалось, что только тёмно–серый костюм привязывает его к этому миру. Если бы не костюм, то его можно было бы вообразить на больничном одре. Или в кресле–каталке, перед остывшим кофе в кафетерии дома престарелых. Светящееся лицо, как у младенца, а не у взрослого; сигара и жидкие усишки казались маскарадом. Кинутое дитя. Ну что за мысли. Хотя головная боль рассеялась быстрее, чем он ожидал, в обозримом будущем Матиас Блейель не возьмёт в рот ни капли, это точно.
— Как вы знаете, во многих странах у нас имеются связи с местными агентствами, которые принимают заказы из каталога и присылают их нам. Эта торговля за несколько лет стала важной составляющей нашего оборота. Недавно я повнимательнее пригляделся к нашим партнёрам в странах бывшего СССР. Вот, взгляните.
Он примостил сигару на ободке пепельницы и передал Блейелю визитную карточку. «Catalog Services», стояло сверху, пониже — прямоугольный зелёный значок «Fengler Profi Partner», потом имя и адрес кириллицей.
— Вы понимаете русские буквы?
— Па… Палн–ха…
— Галина.
— А-а. Галина. Галина Капло…
— Даму величают Галиной Карповой. Она работает в Кемерово, вот здесь, видите.
Кемепобо, прочёл Блейель.
— И ведёт свое дело с большим успехом. За последние четыре года — стабильно наибольшее количество заказов по сравнению с другими агентствами бывшего СССР. И цифры постоянно растут.
— Звучит действительно внушительно.
— Вот–вот. Вы, может быть, посмеетесь над сентиментальностью старика, герр Блейель, но мне хотелось бы отблагодарить фрау Карпову. Ах, она там осталась, — он повернулся к своему столу, — не могли бы вы передать мне вон ту папку?
Блейель вскочил и принес ему большую, формата А 3, бордовую кожаную папку. Сигара на краю пепельницы потухла, а Фенглер вытащил из папки желтоватый лист сделанной вручную бумаги. Грамота, возглашала подпись с завитушками, занимающая всю верхнюю треть листа. «С благодарностью фрау Галине Карповой и её коллективу за отличную работу, от Ганса В. Фенглера». Внизу, рядышком, фирменный знак «Фенглер» и логотип «Профи–партнёр». Потом — Штутгарт — Кемепобо, август 2007 и изящная подпись Фенглера.
— Вы вручите ей эту грамоту. Конечно, её вставим в рамку. В начале августа как раз неплохое время для поездки, так мы договорились с фрау Карповой. Месяц отпусков там июль, в августе работа уже кипит ключом. Погода ещё вполне летняя. Поступайте, как вам заблагорассудится, поезжайте на пару дней, неделю или дольше. На всё время пребывания у вас будет переводчик, и фрау Карпова предложит культурную и туристическую программу. Взамен от вас, в сущности, требуется лишь передать нашу благодарность. Знаете ли, я бы с радостью поехал сам, но, видите, — он театрально приподнял дрожащие руки над столом, — совсем обветшал.
Блейель кивнул и озадачился, а допустимо ли было кивать на таком месте.
— Подумайте. И вот ещё, — он снова полез в папку, — фрау Виндиш подобрала материал по Кемеровской области. — И он вручил своему логистику пачку бумаг.
— Благодарю вас. Пожалуй, я определился.
— Вот как?
Фенглер снова склонился над столом, сложив на столешнице руки.
— Я возьмусь. Передам фрау Карповой грамоту.
— Вы уверены? Можете ещё спокойно поразмышлять. Вы же сами сказали, что нездоровы.
— Нет, нет, всё в порядке. Даю вам слово.
— Очень, очень рад, герр Блейель. Очень рад. Знаете, из всех сотрудников вы кажетесь мне самой подходящей кандидатурой для этого поручения. — И старческое лицо просветлело ещё больше. Опираясь на палку, он встал и засеменил к своему столу. — Фрау Виндиш! — позвал он в переговорное устройство и снова обернулся к Блейелю, — у вас заграничный паспорт, случайно, не при себе?
Фрау Виндиш уже стояла в дверях.
— Визу, пожалуйста, на герра Блейеля.
— Нет, — ответил Блейель, имея в виду паспорт.
— Тогда будьте добры, занесите мне его завтра с утра, — сказала фрау Виндиш.
Домой этим вечером идти совсем не хотелось, мысль о матрасе была невыносима, как, впрочем, и все иные мысли. Ну что он наделал? В Сибирь. Это он–то. При вручении грамоты надо будет что–то говорить. Ему дадут речистого переводчика. А может, косноязычного переводчика. Но наверняка и вполовину не такого косноязычного, как сам Блейель. Матиас Блейель, который ни разу в жизни не произносил речей, ну какой из него представитель фирмы? «Из всех сотрудников вы кажетесь мне самой подходящей кандидатурой для этого поручения». Да что за чёрт вселился в старикана? Самой подходящей кандидатурой был бы кто–нибудь приветливый, опытный, кто знаком с нравами народов Востока. В головном офисе почти шестьдесят сотрудников, среди них наверняка кто–то знает хотя бы несколько слов по–русски. А даже если таких и нет, значит, нужен тот, кто на корпоративных вечеринках имел успех в роли конферансье. Но только не Блейель. Даже Хюнинг подошёл бы куда лучше. Может, старик просто выжил из ума?
А сам–то он каков? Никто не заставлял его соглашаться, запросто мог бы отказаться. Боюсь летать в самолётах. Да мало ли что, от него и не потребовали бы объяснений. Он сказал бы — большая честь, но, к величайшему прискорбию, мне это не подходит. Ему предлагали подумать. Старикан, конечно, огорчился бы, но уж никак не обиделся, это точно. Матиасу Блейелю, видите ли, не хочется идти домой, так нет бы, наконец, взять свою жизнь в руки! Но нет. В состоянии аффекта он соглашается на ненормальную командировку. Не командировку даже, а ссылку. «Спасибо за поздравления, герр Блейель, а теперь соизвольте пройти в камеру к герру Ходорковскому, ночи в Гулаге короткие». Ну что за бред. Он сам себя не узнаёт. Завтра же утром он вернётся, поднимется на лифте на последний этаж, постучится к фрау Виндиш и скажет, нет, паспорт я не принёс, к сожалению, у меня всё–таки не получится. И ведь именно это он ни за что не сделает. Он послушно сдаст паспорт и пустит всё на самотёк. Матиас Блейель, который вмешивается в ход событий, появляется только тогда, когда можно во что–нибудь вляпаться.
Сибирь. Ещё шесть или семь недель, и он будет стоять столбом, с парализованным кишечником, на полпути между Москвой и Владивостоком. За тысячи километров отсюда. Интересно, а сколько именно тысяч? Может быть, ответ кроется в бумагах фрау Виндиш. Заикаясь, передаст грамоту — эта сцена не давала ему покоя, как предстоящий экзамен или операция. Нет, не видать ему ни покоя, ни исцеления.
Он уже на Кёнигштрассе. Идёт смехотворно широким шагом, как будто у него есть какая–то цель, по направлению к Дворцовой площади. И вдруг остановился — уголком глаза он заметил движение. Резко повернув голову, он успел увидеть, как за переполненной урной, прикреплённой на фонарном столбе, скрылась стрекоза. Переливчато–синяя, наверное, вылетела из Дворцового сада. Большое дело, стрекоза на Кёнигштрассе — но он всё–таки удивился. Однако стрекоза больше не появлялась, а без неё урна выглядела омерзительно, поэтому Матиас Блейель отвернулся и вошёл в первое подвернувшееся кафе. Названия он не разобрал, неоновая вывеска над входом возвещала только «Segafredo»[5]. Узкое помещение, перед изогнутой стойкой светлого дерева жались четыре столика. Посетителей не было, официант с зализанными назад чёрными волосами полировал стойку. Когда Блейель сел, он прекратил посвистывать и спросил: «Что будете заказывать?»
— Мне… мне… — Блейель сам на себя разозлился за заикание, — имбирного эля, — выдавил он торопливо. И сам удивился, как до такого додумался. Он хоть когда–нибудь заказывал имбирный эль? Может быть, он заказал эль потому, что он такого же цвета, как и виски? Он откинулся назад, тут же отпрянул, потому что затылком прикоснулся к стене, и взял в руки пачку бумаг о Кемерово. Рассеянно пробежал глазами цифры и сводки о горной промышленности, химическом производстве и безработице. Прочёл два абзаца о первом человеке, который вышел из космического корабля и воспарил в космосе на верёвочной страховке, потом полстраницы о «бэнди» (что–то вроде хоккея), и поглядел на размытый снимок веб–камеры: «площадь перед театром драмы», с роскошным фонтаном, освещённым солнцем.
Он отложил листки и пригубил напиток, который оказался довольно пресным. Кемерово. Это ничего ему не говорило, вообще ничего, и он никак не представлял себя в Сибири. Но себя он не мог представить и в собственной квартире. Зато на ум пришло предложение из русской классики, которую он читал в восемнадцать. То ли Достоевский, то ли Гоголь. «В гарнизонном городе К., в волости…»; но нет, К. не гарнизонный город, К. — губернаторская резиденция, так стояло в бумагах. А река, протекавшая через город, называлась Том, но была женского рода.
Блейель вдруг обнаружил, что глаза у него слипаются. Он упёрся затылком в стену, гарнизон с губернатором растворились в полумраке, и мимо пролетела стрекоза. Пролетела и исчезла за урной. И ещё раз. И ещё. А потом над ним грянул голос официанта: «Извините, мы закрываемся». Блейель поглядел на часы. Начало девятого. Он сунул бумаги в портфель, расплатился и поспешил прочь.
Застоявшийся вечерний воздух, как будто он весь день просидел на совещании в душном кабинете. Он вспомнил, что с обеда так ничего и не ел. Голода он не ощущал, но побоялся, что если станет поститься, то ночью снова разболится голова, и снизошёл до гамбургера. И поскольку он всё равно был на вокзале, то сел в метро седьмого маршрута и вернулся домой. А куда же ещё. В гнёждышко, как когда–то его называла Илька. Под конец, в период выкидышей, она так говорить перестала. Задержав дыхание, Блейель поставил портфель под вешалкой в прихожей. Вымыл руки, вошёл в гостиную и собрал фотографии со шкафов. В каморке рядом с кухней он завернул их в кулёк и засунул его поглубже, в темноту за пылесосом, гладильной доской и ведром со шваброй. Записку с адресом Ильки он после долгих дум выбрасывать не стал, а упрятал в выдвижном ящике. Её номер все равно был записан в памяти телефона. Захотелось ей позвонить, но он сдержался.
В спальне новая кровать благоухала свежим деревом, и старый матрас показался ему огромной дохлой медузой, растёкшейся по полу. В ближайшее время придётся попросить дворника помочь унести его в подвал. Вот кому стоило бы теперь позвонить — тем ребятам, не заберут ли они матрас, бесплатно — от передумал. Но их телефона у него не было. И имен он не знал. И только теперь он понял, что покупка новой кровати, в отличие от продажи старой, не стала важным событием.
Всего–то пятнадцать минут одиннадцатого. Усталость испарилась, и не приходилось надеяться, что получится заснуть. Но он всё–таки приготовился ко сну. Надел пижаму и пошёл в спальню, стараясь не смотреть на матрас на полу. В новой кровати отвернулся к окну. «А вы новый матрас уж где–нибудь подыщете», раздалось у него в ушах. В Сибирь, подумал он.
На следующее утро они с фрау Виндиш сошлись на том, что визой он займется сам; иначе всё было бы слишком сложно, ведь бумаги ему в любом случае придётся подписывать лично.
— Герр Фенглер просил передать, что он счастлив, что вы согласились, и если у вас возникнут какие–то вопросы, то обращайтесь прямо к нему, — сказала фрау Виндиш, балансируя колпачком фломастера между пальцев, и Блейель кивнул.
Первому русскому, которого Блейель видел новым взглядом, было за тридцать. Круглоголовый, с короткой стрижкой, глаза — водянисто–голубые, ироничная ухмылка на губах. Блейелю показалось, что его акцент, одновременно вялый и поющий, не подходит к лаконичным, сухим предложениям.
— Посылторг? Я напишу «Отдел сбыта дизайнерской моды», о’кей?
— Но…
— Да–да, мы всегда так пишем. Всё нормально.
Он что–то впечатал на компьютере и от руки переписал рабочий адрес с визитной карточки Блейеля в мелко испечатанный бланк.
— Поедете куда, в Москву?
— В Кемерово.
— В Кемерово?
Только теперь стриженый по–настоящему на него посмотрел. Блейель невольно уклонился от водянисто–голубого взгляда и уставился на карту России. Кемерово, маленький, тонко подписанный чёрный квадратик между жирными названиями других городов — Новосибирск, Томск и Красноярск. В самой середине бескрайности, недалеко от места, где сходились четыре государства — Российская Федерация, Казахстан, Монголия и Китай. Хотя что значит недалеко в этом измерении? Километров тысячу, не меньше. Стриженый придвинул к нему бланк.
— Пожалуйста, подпишите вот здесь. Недели через три будет готово. О’кей?
— И забирать тут у вас?
— Конечно.
— А билеты?
— Вы же сказали, насчёт билетов позвонит ваша секретарша. Вот и пускай звонит. Вы едете в начале августа, так? Времени ещё полно, через три недели и займемся. С вашей секретаршей.
— Это секретарша герра Фенглера.
— Да хоть ваша тётя. О’кей?
Молодцеватый жест, которым собеседник с этими словами сложил формуляр, прежде чем подколоть его к паспорту, поднял Блейеля на ноги и погнал к двери. Но пришлось ещё выложить шестьдесят евро за оформление визы.
— Майснер.[6]
— Илька?
Зависло молчание.
— Матиас, зачем ты звонишь?
— Ну, потому что… ну, как ты там?
— Зачем ты звонишь?
— Тут твои вещи. Я как раз всё разгребаю.
Она молчала.
— Тут вот ещё картины твои, например. И плетёное кресло. Посуда вот. Бельё постельное.
Она молчала.
— Понимаешь, я решил всё это убрать. Чтобы не… так если хочешь, я тебе это всё пришлю. Или скажи, что оставить. Ты ведь ещё в Мюнхене?
— Матиас!
— Что?
— Мы уже восемь месяцев не живём вместе. Восемь месяцев. Что всё это значит, зачем ты пристаёшь ко мне с этими вещами?
— Просто я… мне… у меня раньше не было…
— Ты болен, Матиас.
— Нет, не болен.
Ему показалось, что она презрительно цокнула языком. А может быть, вообразил, что услышал, ведь он так хорошо знал это цоканье.
— Если бы мне что–то было нужно, я бы сказала тебе ещё тогда. Неужели неясно?
— Гнёждышко, помнишь?
Он не хотел, само вырвалось. Она промолчала.
— Значит, и кресло не нужно.
— Матиас, ради бога, оставь меня в покое.
— Илька, это… знаешь, мне кажется, мы могли бы…
— И прекрати говорить «знаешь».
— Мы могли бы говорить друг с другом по–человечески.
Теперь он услышал её дыхание. Хоть что–то.
— По–человечески? На это у тебя было время раньше. Много лет. И тебе это было не нужно.
— Ты разве не думаешь иногда…
— Всё. Я вешаю трубку.
— Я лечу в Сибирь.
Она промолчала. Но и трубку не повесила.
— Ровно через две недели. У меня уже и виза есть, и билеты. В Кемерово. Когда–нибудь слышала?
Она вздохнула и, казалось, перелистнула страницу.
— Ясно. И что ты будешь делать в Сибири?
— Да так. Грамоту передам. Фенглер попросил.
— Ты теперь на выезде работаешь?
— Вообще–то нет. Сам не знаю, что это со стариканом. Что–то ему взбрело в голову.
— Матиас Блейель, посол царя моды.
Она пошутила. Его сердце подпрыгнуло.
— Что ж, неплохо, — продолжала она, — посмотришь мир.
— Илька. Хотел спросить. Перед отъездом у меня будут выходные. Может, мне приехать в пятницу или субботу в Мюнхен?
— В Мюнхен, значит. Это ещё зачем?
— Потому что я… Илька, ты знаешь… восемь месяцев…
— Так ты для этого звонил?
— Ну, я же сказал, я тут, это…
Она вдруг расхохоталась. И отрезала:
— Забудь.
— Но мы же…
— Что?
— Нам же было…
— Ошибка, Матиас. Это была ошибка. Точка. И мы в разводе. Хоть это–то тебе понятно?
— Да. Да, конечно.
— Вот и оставь меня в покое. Поезжай себе в Сибирь, а меня оставь в покое. Тут и без тебя, — она помедлила, потом решилась, — тут и без тебя тошно.
И когда он не нашёл ничего лучшего, чем пробормотать «да я знаю», она сразу же бросила трубку, а он как раз собирался ещё разок переспросить насчёт плетёного кресла, точно ли оно ей больше не понадобится, можно ли его выбросить или кому–нибудь отдать. В тот вечер он ещё дважды пытался ей дозвониться, но оба раза его сбросили после третьего гудка.
В четверг перед отлётом фрау Виндиш выдала ему в лощёном пухлом конверте грамоту, вставленную в рамку, и, сверх того, с наилучшими пожеланиями от герра Фенглера, книжечку «Русский язык шаг за шагом». В тот день Блейель чувствовал себя совсем неважно, и ему было стыдно, что он снова явился в жалком состоянии. На этот раз причина была вовсе не в алкоголе. Ему приснился кошмар, кошмар про Ильку. Ничего сексуального, за это, конечно, спасибо, потому что после того разговора с ним регулярно происходило нечто постыдное. Такого и раньше–то никогда не бывало. А уж после развода и подавно. Ему снилась Илька, обнажённая, в постели, она с ним, и всякие подробности, о которых он не смел потом вспоминать, и каждый раз он просыпался в глубочайшем смущении от своего возбуждения. На этот раз сон был совсем другой. Илька сидела напротив, за грубым столом в неопределённом месте. Они разговаривали. При этом ему мешало сразу два обстоятельства. Во–первых, какой–то громкий шорох и треск не давал ему понять ни слова из того, что она говорила. Во–вторых, как он ни напрягал связки, он не мог издать ни звука. Ильке его потуги совершенно не нравились, и она бесилась на него всё больше. До этого момента Блейель, которого сны вообще–то не очень занимали, видел всё очень чётко. Но потом речь отошла на второй план, а на первый вышли её глаза. Огромные, как блюдца, они вращались всё быстрее и быстрее, как переливчато–синие, потрескивающие спирали. Блейель знал, что глаза настоящей Ильки тёмно–карие, почти чёрные, и такое резкое изменение цвета, размера и прочих свойств его напугало. «Значит, возвращайся один», неожиданно услышал он, но кто это сказал, непонятно. В следующую секунду из глазниц черепа Ильки выстрелили два больших переливчато–синих червя. Он едва успел пригнуться, они чуть не задели его за макушку. Глядя снизу, он вдруг заметил, что череп, из которого улетели глаза, превратился в выцветший скомканный тряпичный ком. И тогда он закричал.
— Очень мило, благодарю, — услышал он себя со стороны, держа конверт и разговорник, и тут через открытую дверь в конференц–зал до них донёсся какой–то шорох. Фрау Виндиш сразу же метнулась туда, Блейель помялся и двинулся следом. Они не обманулись, Фенглер действительно выбрался из кабинета и, опираясь на палку, ковылял к приёмной.
— Герр Блейель, стойте, где стоите. Услышал, что вы пожаловали, и захотел попрощаться и пожелать вам приятного путешествия.
— Большое спасибо. Огромное спасибо. — Пожимая руку старика, он несколько раз наклонил голову. Фрау Виндиш заняла позицию в трёх шагах за Фенглером, словно опасалась, что он повалится и придётся его подхватывать. Патриарх это заметил, мотнул головой в её сторону и подмигнул Блейелю.
— Надолго задержитесь в Кемерово?
— На восемь дней. Господин из турбюро на этом настоял, сказал, что иначе сложно будет перестроиться со временем.
— Восемь дней, это же всего ничего, герр Блейель. Я бы на вашем месте, наверное…
Он не стал оканчивать фразу, улыбнулся и махнул рукой.
— Поезжайте, осмотритесь. Как вернётесь, может, порасскажете чего.
— Обязательно, с удовольствием!
Переливчато–синие черви. Гадость какая. Оставалось только надеяться, что кошмары про Ильку наконец–то прекратятся. Если бы у Блейеля был выбор, он предпочёл бы сон про любой, самый позорный провал у Галины Карповой, лишь бы не видеть больше такую гадкую, изнуряющую ахинею. Только вот про Сибирь ему ничего не приснилось ни разу.
— Вы возьмёте с собой фотоаппарат? — спросил старик.
— Вообще–то… да, мог бы.
— Это было бы просто великолепно.
Фенглер ещё раз кивнул и чуть было не положил Блейелю на плечо руку. Но ограничился взмахом, переложил палку из левой руки в правую, развернулся и направился обратно в свой кабинет.
— Удачи вам, герр Блейель.
— Огромное спасибо.
Фрау Виндиш уже изготовилась прокрасться за ним, как он снова повернулся к Блейелю:
— Не рассусоливайте с этой грамотой. Не нужно слишком уж торжественно, хорошо? Зачем выпячивать сантименты старика. Но я знаю, что вы всё сделаете как надо, герр Блейель.
— Я… да, да, конечно.
Фенглер улыбнулся, но больше ни говорить, ни оборачиваться не стал. Когда фрау Виндиш усадила его за стол и вернулась в приёмную, Блейель с застывшим взглядом стоял перед огромным окном, сражаясь с картинами из кошмара. Он вздрогнул, поспешил к дверям и удивился, услышав на прощание от фрау Виндиш «какой же вы везунчик».
Во вторник, тридцать первого июля, в полдень он вылетел из Штутгарта в Москву. Дома он закрыл все окна, кроме окна в ванной, вытянул вилки из розеток. Старого матраса в спальне больше не было, он перекочевал в подвал, к сухой в это время года стене, верхний край матраса загибался на плетёное кресло. Илькины художественные репродукции очутились на помойке, и вместо одной из них над обеденным столом висел поздний, сдержанно–орнаментальный, пастельных цветов Матисс.
В самолёте Блейель, чтобы отвлечься от нехороших мыслей, попытался разобраться с новой цифровой камерой. В его старой зеркалке после отпуска с Илькой на Балтийском море заедал транспортный механизм. В магазине ему сказали, что при сегодняшнем уровне цен ремонт невыгоден и что лучше идти в ногу со временем.
Он вздрогнул, когда стюардессы начали раздавать бланки, которые полагалось заполнить при въезде, и удивился, что на листике, исписанном мелкими буковками, стояло что–то об иммиграции.
Из Москвы он ночью должен был вылететь внутренним рейсом Аэрофлота до Кемерово. Время полёта — добрых четыре часа, разница во времени с русской столицей тоже четыре часа, время прилёта — десять часов пятнадцать минут по местному времени. Но между самолётами в Москве у него опять–таки было четыре часа («ничего не поделаешь, уж извините», сказал сотрудник турагенства), и, хотя ему предстоял транзит между двумя аэропортами, названия которых невозможно было выговорить, Блейель думал, что это не займёт много времени. Поэтому он написал школьному товарищу Хольгеру. Не то чтобы они и правда дружили, школьных друзей у Блейеля, в общем–то, и не было, но Хольгер был единственным из Мокмюля, с кем он ещё поддерживал контакт. Юрист, успел побывать везде, где только можно. Последние несколько лет работает в международной канцелярии в Москве, женат на русской. «В аэропорту надерёмся, — ответил Хольгер, — трезвому такого перелёта не вынести. На внутренних линиях летают сплошь тарантайки с пропеллером, тесные, как загоны для скота, и если не напьёшься, то останешься один трезвый на борту, и тогда просто караул». Блейель тут же пожалел, что написал ему. Но на попятный он пойти не мог, и они договорились встретиться, «убегу с работы пораньше и встречу тебя у паспортного контроля», — обещал Хольгер.
От посадки впечатлений почти не осталось. Аэропорт оказался намного меньше, чем он ожидал от такого молоха, как Москва. Стерильные, безликие залы, единственная достопримечательность — что буквы на табло постоянно прыгали с кириллицы на латиницу. Особо он и не осматривался, сразу двинулся к транзитному автобусу и наотрез отказался пропустить по рюмашке в честь прилёта. «Да ты не парься, Плейель», хохотнул растолстевший, плешивый Хольгер. Хоть цыпой не назвал, и то спасибо.
Как оказалось, без Хольгера он бы пропал. На табло аэропорта внутренних линий (один–единственный зал, тесный и тусклый, с бесконечными окошками касс по периметру, над ними — галерея в два или три этажа, на которую непонятно, как взобраться) рейс на Кемерово отсутствовал. В тёмном окошке Аэрофлота висела табличка по–русски и по–английски «извините, технический перерыв». Далеко от толчеи, в недрах аэровокзала, куда в одиночку Блейель в жизни бы не пробрался, женщина в тёмной униформе объяснила: рейс снят.
Лёгкая паника, которая обычно охватывала его от новостей такого рода, сменилась облегчением — никакой Сибири не будет. Парень из бюро путешествий напортачил. В Москву и обратно, и всё, прекрасный анекдот, которым он станет потчевать приятелей.
Однако радость оказалась преждевременной. Женщина наклеила в билет бумажку и от руки вписала новое время, и он понял, что путешествие откладывается до следующего вечера.
— Да такое тут на каждом шагу, — махнул рукой Хольгер. Полчаса они томились в голом коридоре без стульев, освещённом лампами дневного света, и другая женщина в униформе выдала Блейелю бумагу, уполномочивающую его бесплатно переночевать в гостинице неподалёку. О багаже, который он сдал в Штутгарте, оформив до Кемерово, беспокоиться нечего; но получить его назад сейчас невозможно. Хольгер захохотал.
В гостинице Блейель купил одноразовую зубную щётку, а дезодоранта у них не оказалось. Время шло к полуночи, в Штутгарте десять вечера. Бар ютился на краю широкой, ярко освещённой площадки.
— Добро пожаловать в Нигде и Везде, — хмыкнул Хольгер, разглядывая обвешанную оранжевыми светящимися гирляндами Эйфелеву башню, возвышавшуюся посреди площадки, как рождественская ёлка. — Но раз уж тебя занесло в эти края, то я не допущу, чтобы твои впечатления от Москвы закончились вот на этом.
Блейель стойко пытался не выказать усталости и недовольства. От водки он отговорился и выпил две кружки разливного пива «Сибирская корона». В четверть второго он отправился в постель. От многословных речей Хольгера о жизни в России на следующее утро осталась только фраза «но как–то на всё на это западаешь».
Хотя ему казалось, что он всю ночь не сомкнул глаз, после завтрака он влез в автобус восемьсот пятьдесят первого маршрута, доехал до конечной остановки и там по зелёной ветке метро добрался до Тверской. Припекало солнце, но жара было ясной, воздушной. Нет, погоду за больную голову не обвинишь.
Хольгер стоял перед памятником Пушкину и махал ему рукой. Он нарочно взял отгул, чтобы пройтись с гостем. Но из экскурсии Блейель вынес немного. Повсюду шёл ремонт. Бывший однокашник нёсся впереди, как раздобревший бегун на трассе с препятствиями, и разливался на темы политики (Запад трясётся перед Россией — только потому, что Россия позволила себе освободиться от комплексов) и русских женщин (это тебе не то, что ходит по улицам в Германии, главное, не будь тряпкой). Я всё это только воображаю, думал Блейель, а сам лежу в гостинице и вижу сон; нет, ни в какой не гостинице — я в Штутгарте, на новой кровати. Наверное, она на всю жизнь останется новой. И во сне я — самый быстрый лунатик в мире.
Когда они шли по Красной площади, уголком глаза он заметил что–то переливчато–синее и резко обернулся. Но это оказался всего лишь шейный платок дамы в боевом макияже. Под руку с тощим господином она двигалась к церкви невообразимо причудливой формы, пёстрой, как декорация в парке с каруселями. Перед мавзолеем Ленина дюжина туристов, на вид кубинцев, позировала перед фотографом, поднимая кверху советские ордена, купленные на блошином рынке.
Почему не сюда, подумал он, почему бы не командировать меня в московский филиал? Хотя — конечно, Москва, что тут такого, кому взбредёт в голову посылать грамоту в Москву. Но ведь есть же какая–нибудь живописная деревушка в Подмосковье, где можно было бы с ветерком прокатиться на санях! Он вспомнил фотографии из каталога, изображавшие такую романтическую санную прогулку, всё как полагается — меховые шапки и самовар, чтобы обвариться всей компанией. Но это было ещё до того, как Блейель начал там работать. Горбачёв, падение стены, ветер перемен. Что за чушь, прогулка на санях. Горячий воздух трепетал, брусчатка, роскошные здания — всё едва заметно колыхалось вокруг. Он остановился, потёр лицо, зажмурился — не открою, пока в меня кто–нибудь не врежется.
В губернском городе К…
— Теперь пойдём перекусим, — раздался голос Хольгера, — не где–нибудь там, а на Арбате, чтоб не рассказывал потом, что я тебе его не показал.
Блейель взял себя в руки, перевёл дух во время короткой поездки на метро и увидел улочку в пешеходной зоне, с прелестными старыми фасадами и кучей ресторанных вывесок, закусочных ларьков и художников, рисовавших портреты. Он подумал, а не купить ли сентиментальному Фенглеру матрёшку, но ограничился тем, что зашёл в аптеку за дезодорантом. На обед они взяли пельмени и салат из капусты с крабами, и пили, по настоянию Хольгера, что–то вроде сидра.
— Неделю там проведёшь, так? И как тебя занесло именно в Кемерово. Ну, неважно. Плейель, держу пари, что Россия тебя уже не отпустит. Как думаешь?
— Никак.
— Да, да, конечно. Ничего, это через пару дней переменится. Тебе всё покажется абсурдным. Ты не будешь понимать, как люди могут жить в такой стране. Но тебя зацепит и уже не отпустит. Когда приедешь в следующий раз, изволь выкроить побольше времени на столицу. Хм, жаль, похоже, ты не в настроении держать пари.
С детских лет, со времён увлечения авиацией, он знал, что Туполев‑154 — вовсе не тарантайка с пропеллером, как пророчил Хольгер, а вполне просторная машина, сравнимая с Боингом‑727. На борту пьяным никто не выглядел, ему вообще редко доводилось видеть таких смирных пассажиров. Даже стайка подростков в голубых футболках не создавала никакого шума. Но уснуть всё равно не получалось. Он сидел у окошка, смотрел, как за ними плыл огромный месяц, и не хотел ни о чём думать. Но думал. О невероятных просторах, над которыми они летели. Степях и болотах, тайге и тундре, электростанциях и исправительных лагерях, медведях и ордах конников. Интересно, через Урал они уже перелетели? Азия. Он ни разу не был в Азии — ведь Турция не считается. А теперь летит в самое её сердце. Только из–за причуды шефа. Какой–то город в Азии.
Бездумно он наклонился, пощупал толстый конверт в портфеле, зажатом между ботинок, и ещё раз, и ещё, пока не застукал себя за этим занятием и не взял в руки «Русский язык шаг за шагом». Из–за причуды шефа летит за полсвета. «Благодаря ему ты едешь в интересную экспедицию», — сказал Хольгер, а Блейель возразил: самую бессмысленную командировку в жизни. «Я бы над этим ещё поразмыслил», — хохотнул Хольгер и залпом осушил бокал с тем неизвестным напитком вроде сидра, который Блейель теперь тщетно пытался отыскать в разговорнике. Галина Карпова ожидала его как раз в то время, когда они сидели на арбатской террасе. Он отправил сообщение на номер переводчика. «Стало быть, ждём посланца завтра — пока, артём», — ответил переводчик. Артём, это такое имя.
Должно быть, Блейель задремал, потому что когда он снова выглянул в окно, небо под полумесяцем побледнело. Какую–то секунду он недоумевал, почему не видит передо ртом Илькину грудь, соски в окружении чёрных волосков, и в следующее мгновение невероятно застыдился.
Утро казалось туманным, он увидел реку — чёрную извивающуюся ленту, и город, посверкивающий по обоим берегам, на севере немного тусклее. Когда обрисовались детали, река отодвинулась, они полетели над полями и перелесками.
«Welcome to Kemerovo, Capital of Coal Miners[7]», гласили буквы на крыше низкого здания аэровокзала. Блейель вспомнил, что так и не опробовал фотоаппарат, если не считать неудачной попытки запечатлеть поднос с едой на борту. Но как только он наставил объектив на плакат, откуда–то возник, махая руками, полицейский. Блейель тут же сунул камеру обратно в сумку и смешался с толпой. Страж порядка отстал.
Картонку с его именем держал долговязый парень с козлиной бородёнкой и тёмными волосами до плеч. Блейель удивился, хотя и не мог бы объяснить, почему. Может, потому, что представлял себе типичного молодого русского коротко стриженым. С облегчением он нашёл на скромном транспортёре свой чемодан с наклейкой официального вида и теперь дожидался своей очереди, чтобы выйти. Но таможенница покачала головой, сказав что–то по–русски и потом «you wait»[8]. Блейель в замешательстве отступил. Длинноволосый добродушно пожал плечами. Когда все остальные пассажиры прошли, парень подошёл к таможеннице, и после непродолжительного диспута его пропустили к Блейелю.
— Артём, — улыбнувшись, он слегка поклонился. — Как вы доехали?
Здравствуйте,[9] подсказала голова Блейеля, но воспроизвести неудобное слово не получилось, и он ответил по–немецки: «Да, спасибо».
Ему не понравилось, что переводчик назвался по имени. Фамилию его он знал, но как она произносится, не имел ни малейшего представления. Tscheremnych. Ему казалось неуместным обращаться к незнакомым по имени. Но ещё хуже, что молодому человеку пришлось из–за него вставать в такую рань. Местное время — только–только шесть утра. В Штутгарте в эту пору на улицах никого.
Чемодан ему вернули в крошечном чулане за лентой транспортёра, и только после того, как он поставил свою подпись в засаленной амбарной книге. На стоянке перед аэропортом они с Артёмом забрались в такси, лимузин «Волга», виденный им раньше только в старых автомобильных каталогах. Изнутри машина оказалась вдвое меньше, чем выглядела снаружи. Уже рассвело, но солнце скрывала дымка. Прохладное утро, никакого сравнения с летним днём в Москве. Блейель обрадовался, что взял с собой спортивную куртку. Он ведь сомневался, то ли брать, то ли нет. Для выступления в бюро фрау Карповой она не годилась. Всё–таки он её взял, ведь что–то говорили о туристической программе.
По радио кто–то патетично пел под гитару. Такси проезжало пригород, где большинство домов были деревянные, некоторые с резными голубыми ставнями — сибирская особенность, как сообщали бумаги Блейеля. Но впечатления, что он в нескольких тысячах километров от дома, не возникало. Это могло быть и в Польше, подумал он. На большом перекрестке из травы у дороги возвышались огромные буквы, КЕМЕРОВО (кемепобо, прочёл Блейель), и городской герб, на чёрно–красном фоне — нечто вроде белого пузыря в окружении жёлтых колосьев и половинкой жёлтой же шестёренки. Блейель заметил, что переводчик на него смотрит со значением, вроде выжидающе. Может, он что–то прослушал? На всякий случай Блейель заговорил сам.
— Как прилетел, хотел сфотографировать аэропорт, а ко мне тут же подскочил полицейский.
— Нет–нет, это не полицейский, а милиционер.
— А почему?
— Мало ли. А вдруг вы террорист.
Слово «милиционер» Блейеля немного напугало[10], но Артём сам засмеялся над собственными словами и сменил тему:
— А знаете, в каталог–сервисе все волнуются, вас заждались.
Он предпочёл бы этого не знать.
— В одиннадцать отправимся туда, если вы не против. Но сначала устроим вас в гостинице. Ах да, моя сестрица велела вам кланяться. Сказала, что очень рада будет познакомиться с живым сотрудником фирмы «Фенглер». А всерьёз это она или нет, этого я не знаю.
— О. Спасибо.
Артём снова расхохотался. Лимузин пересек трамвайные пути перед носом у заворачивающего за угол трамвая, женщина–водитель яростно стукнула по звонку. Блейель изо всех сил старался как можно меньше обращать внимание на дорожное движение и роль в нём таксиста.
— А можно осведомиться, где вы так прекрасно выучили немецкий?
— Восемь лет в Германии не прошли даром.
— Восемь лет?
— Да–да. Но для всех подробностей моей душераздирающей истории ещё рановато. — Он зевнул. — Извините.
— Нет, ничего–ничего, простите, — поспешил ответить Блейель. Но не мог не спросить, — а давно ли вы вернулись обратно?
Причиной этого вопроса, столь важного, были, конечно же, его собственные восемь лет с Илькой.
— Года два, чуть больше, — ответил Артём, подумав.
Слава богу. Совпадения на этом окончились.
— И ваша сестра работает у фрау Карповой?
— Да, да.
Они замолчали. Такси явно добралось уже до центра, Блейель увидел помпезные административные здания, прямые, по линеечке, клумбы, памятник Ленину, благосклонно машущего большому перекрёстку, жандармов в ярких жилетах, топтавшихся около своих «Лад», и плакат, на котором опрятный Владимир Путин в цвете возвышался над употевшими чёрно–белыми шахтёрами.
— Ваша гостиница в хорошем месте и недалеко от реки, — заметил Артём и повернулся к таксисту. Они свернули на ближайшем светофоре, с Советского проспекта на улицу Кирова, как он пояснил гостю.
Снаружи гостиница не была обозначена никак. Она занимала первые два этажа длинного четырёхэтажного дома. Фасад был недавно выкрашен, нижняя половина в тёплых розовых тонах, верхняя — бежевая с белым. Приёмной стойкой служил стол на узкой лестнице, поднимавшейся от двери вовнутрь, и им пришлось подождать, пока не появилась женщина с усталым лицом, вступившая с Артёмом в разговор, который, как показалось Блейелю, не сулил ничего хорошего.
Комната оказалась чистой и просторной, обои и шторы повторяли коричневато–розовый колер наружных стен, на стенах висели картины — романтический приморский пейзаж и две в стиле компьютерного реализма, с космическими кораблями и динозаврами на фоне гор и пустынь.
— Она спрашивает, на сколько дней вас зарегистрировать, — сказал Артём, когда они снова спустились к столу. — Три дня обойдутся в триста рублей, а семь — в тысячу.
— Но… а почему…
Артём помотал головой.
— Я улетаю в среду, — сказал Блейель.
— Тогда два раза по три дня, идёт? Сейчас и потом.
Обязательная регистрация ещё в Германии показалась Блейелю какой–то подозрительной. Он вспомнил круглоголового парня из турагентства: он показал ему готовую визу, а сзади в паспорт был вложен листок с московским адресом, по которому полагалось зарегистрироваться.
— Так я же не в Москву лечу, — возразил Блейель.
— А-а. Ну да. Ничего страшного. Тогда вас зарегистрирует ваша гостиница, в Кемерово или где вы там будете. А если и не станете регистрироваться, тоже не беда. Штамп вам понадобится, только если вас задержит милиция. А вы не похожи на тех, кого они обычно задерживают.
Блейель с сомнением переводил взгляд то на него, то на свой паспорт, и круглоголовый добавил:
— Знаете, у меня тоже никогда не было этого штампа. И меня ни разу не проверяли.
— Так у вас же русский паспорт!
— Был. Давно. — Он откинулся на спинку крутящегося кресла, и только теперь Блейель заметил, что на шее у него висела звезда Давида на золотой цепочке.
Теперь, в холле гостиницы в Кемерово, он робко осведомился:
— А что будет, если не регистрироваться? Или не на весь срок?
Артём пощипал себя за бородку.
— Честно говоря, я не часто привечаю здесь иностранцев.
Тридцать пять рублей за евро. «Все расходы фирма, конечно же, возьмёт на себя, герр Блейель».
— Хорошо. Для начала на три дня. А за вчерашний день, задним числом, не получится?
Переводчик спросил, женщина непонимающе сказала «нет».
У Блейеля оставалось почти полтора часа, потом зайдёт Артём. Он встал под душ, вода долго не согревалась. Это его взбодрило. Зато он вдруг вспомнил, что совершенно не подготовился к зловещей церемонии вручения грамоты фрау Карповой. Так и не продумал стратегию страшного выступления, когда–то нацарапал пару слов, которые намеревался произнести, и не глядел на них дольше недели. Он так разнервничался, что в панике выскочил из кабинки. Не вытираясь, только обвязавшись полотенцем, он рухнул на постель, на розовое покрывало, и в ступоре уставился на клочок бумаги с предложениями, которые, казалось, намарал кто–то другой, незнакомый. В голове его только стучало — анилин, анилин, как будто это была единственная оставшаяся мысль. Анилин, так называлась гостиница, сказал Артём, «как химическое вещество. Когда–то в городе был завод, производящий анилиновые красители. Но он давно закрылся».
Если есть желание, то можно пройтись пешком, тут недалеко, минут пятнадцать. Погода наладилась: высокое, ясное небо с барашковыми облачками, куртку можно и не брать. Артём тоже переоделся, вместо чёрной олимпийки с капюшоном на нём красовалась голубая в синюю полоску рубашка, разношенные кроссовки сменили бордовые остроносые туфли.
— Рассказать немного про город? — спросил он, когда они пересекли Советский проспект и свернули на улицу Ноградскую.
— О, не стоит. Простите, я… мне как–то нехорошо.
— Вы позавтракали?
— Нет, нет. Это из–за… должен признаться, я не из тех, кто любит выступать перед публикой.
Блейель сам не понимал, зачем так разоткровенничался, но ничего не мог с собой поделать. Зачем он рассказывает этому волосатику то, чего сам стесняется? Он выставлял себя в невыгодном свете. Конечно, виновата тошнота и переутомление. Может быть, ещё и светлые, как ручей, глаза Артёма. Казалось, они излучали утешительный покой, что–то очень терпеливое, мягкое. Странно, такое впечатление от человека, которого он не только не знал, но и который к тому же лет на десять его младше. Но ничего не поделаешь. Матиаса Блейеля занесло в Сибирь, и других точек опоры у него не было.
— Давайте пройдём напрямик, — предложил Артём и открыл перед ним кованую калитку. Они прошли между двух рядов гаражей с тёмно–красными воротами, потом через влажный лужок, окаймлённый рябинами.
— Можно спросить, как выговаривается ваша фамилия?
Молодой человек сказал «а-а», как–то по–козьи хохотнул и произнёс очень чётко, Че–рем–ных: обе «е» краткие и открытые, «ы» — как глубокое «и», «х» как в «ах», ударение на последнем слоге.
— Зовите меня просто Артём.
— Че–рем–ных, — повторил Блейель.
— Очень хорошо. Правда. А можно, я тоже у вас кое–что спрошу?
— Конечно.
— Ваши первые впечатления?
Блейель задумался, но ему ничего не пришло в голову. Кроме того, что Сибирь, похоже, населяли вовсе не сибиряки: все, кто им ни попадался, выглядели по–европейски; или по–русски, если тут есть какая–то разница. Вряд ли это подходящий ответ.
— Извините, — сказал он, — я сейчас слишком волнуюсь.
Бюро оказалось тесной комнатушкой около двадцати квадратных метров. Два пухлых зелёных дивана из искусственной кожи, большой изогнутый стол, за ним два вертящихся стула, перед ним — два кресла. Несколько стеллажей, заполненных каталогами, гардероб с подставкой для зонтиков, вешалка для заказанной одежды, на стене — телевизор. За стенкой слева — узкий коридорчик, где теснились холодильник, микроволновая печь, кофейная машина и прочие кухонные принадлежности, там же шкаф–купе и туалет. Перед одним диваном стоял стеклянный журнальный столик, над другим висел плакат: «40 лет Фенглеру — мода, которая мне по душе!», с обложками журналов с 1955 по 1995 год. На полках сидело несколько соломенных кукол с носами картошкой, рядом с гардеробом с потолка свисал человечек, в пилотских очках и с крыльями, на стене за столом гирлянда светящихся пластиковых бабочек окаймляла календарь с немецкими пейзажами. Потолок был полностью выложен тонированными зеркальными квадратами.
Но Блейель всего этого поначалу и не заметил. У него пересохло горло и бурчало в животе. Его сверлили любопытные взгляды четырёх женщин, а Артём встал сзади, наверное, чтобы он не удрал. Сестра переводчика стояла, прислонившись к выступу стены рядом с тем диваном, где висел плакат «Фенглер». Блейель сразу её узнал, несмотря на нервозность. Она не была долговязой, как Артём, скорее невысокая и худенькая, но такая же курносая, с пухлыми губами, которые, казалось, сдерживают дерзкое замечание. Рядом с ней — компактная брюнетка с бесстрашной белоснежной улыбкой и роскошным декольте. Далее — очень прямая блондинка, одухотворённо возводящая глаза к потолку. И справа, с распростёртыми объятиями, сама шефиня. Светящаяся оранжевая грива, живые глаза, властный рот — впрочем, это Блейель, может, и вообразил. Как и трое прочих, должно быть, в честь торжества, она нарядилась в одежду из каталога «Фенглер». Зелёную шёлковую блузку из коллекции «Spring Charms[11]» она украсила усеянной изумрудами брошью, белые лаковые босоножки — золотой цепочкой.
— Для неё это большая честь и личная радость — приветствовать вас в этом скромном помещении, — бормотал за его спиной Артём, в то время как Галина Карпова, воркуя, крепким, чуть с хрипотцой голосом вливала в уши Блейеля русскую речь. — Она надеется, что вы, несмотря на задержку, добрались хорошо, и хотела бы извиниться за причинённые вам неудобства от лица всего нашего народа.
— Да нет же, это совершенно излишне, — вырвалось у гостя.
Галина Карпова рассыпчато рассмеялась и пожала ему обе руки. В левой он так и держал портфель, содержащий грамоту и огромную двухэтажную коробку конфет. Он заметил надпись кириллицей над вторым диваном и подумал, что она, возможно, имеет какое–то отношение к «Фенглеру». Но буквы «ФЕНГЛЕР» настолько отличались от привычной немецкой надписи, что догадка показалась ему чересчур дерзкой.
Дерзкой, дерзкой — язык прилип к нёбу, на ум пришли пыльные губки, которыми в школе вытирают доски. И Хольгер, он–то уже и тогда за словом в карман не лез. Можно было поменяться. Хольгер прилетел бы вместо него, и никто ничего бы не заметил. И как он не додумался до этого раньше, вовремя! Ах, нет, что за бред. Фрау Карпова молчала, опустив руки. Артём тоже ничего не говорил.
— Ну, что ж, — прошептал Блейель и приподнял портфель. Но, как он увидел, преждевременно, потому что в этот же момент вперёд выступила сестра Артёма и протянула ему руку.
— Соня, — лёгкий реверанс.
Потом брюнетка: «Наталья».
И одухотворённая: «Люба».
— Матиас Блейель, — выдавил он. — Я очень рад, для меня это честь, большая честь… значит, от имени фирмы «Фенглер»… с самым сердечным приветом от герра Фенглера лично… вам, фрау, фрау — Карпова… в благодарность за вашу… за замечательную работу… вручить вам вот это…
Его ослепила вспышка, и он понял, что во время речи глядел в пол. Соня держала фотоаппарат. А Артём, расправив плечи и оживлённо жестикулируя, восторженным голосом взахлёб произносил речь втрое длиннее, чем заикание Блейеля. Галина Карпова, сияя, по очереди глядела на гостя и переводчика. В завершение речи Артём, грациозно взмахнув левой рукой, возгласил: «Матвей Блейель!». Дамы зааплодировали, Блейель почувствовал, что краснеет, как советский флаг. Он суетливо сунул руку в портфель и вытащил конверт с грамотой. Углы конверта замялись, рамка вылезала с трудом. Делать нечего, придётся говорить что–то ещё.
— Так вот, это… ну, вы сами видите… не вполне… вам и вашему коллективу… мы очень рады… то есть, вся фирма и сам герр Фенглер… что вы тут так чудесно, с таким успехом — ах, ну давай же!
Конверт упал на пол, но Блейелю удалось не наклоняться за ним, а вручить фрау Карповой грамоту без дальнейших проволочек, а Артём снова с необъяснимым энтузиазмом произносил гладкий монолог.
Снова аплодисменты. И рукопожатия.
Всё позади.
Ах нет, ещё конфеты.
Всё. Отстрелялся.
Шефиня, держа грамоту в обеих руках, стояла за столом, и Блейель заметил, что там уже висела другая грамота на немецком языке, гласившая, что фрау Г. Карпова уполномочена работать представительницей каталогов «Фенглер», «Отто», «Баур», «Квелле» и «Мадлен» в Кемерово. Город Марбург, подпись неразборчива. Пластиковая рамка под бук. Никакого сравнения.
На столике перед диваном стоял поднос с пятью бокалами, Наталья склонилась над ними с бутылкой крымского шампанского. Блейель поскорее отвёл взгляд от зияющего декольте. Кто–то положил руку ему на плечо.
— Вы были великолепны.
— Нет. Пожалуйста, не говорите ерунды. Артём. Я вам очень благодарен, вы меня просто спасли.
Артём засмеялся, Соня защёлкала фотоаппаратом. Шампанское оказалось липко–сладким. Тем не менее Блейель осушил бокал почти одним глотком и с облегчением почувствовал, что позывы в животе улеглись. Наталья, стоя перед ним, подлила ещё и, не выпуская бутылки, с сосредоточенным лицом задавала ему вопросы один за другим (Вы много путешествуете? Вы уже бывали в России? Как вам нравится наш город?). На этот раз его ответы в переводе Артёма были ненамного длиннее, чем по–немецки. Люба переложила часть конфет в корзиночку и обносила всех присутствующих, а шефиня вешала грамоту на почётное место над письменным столом.
— Давайте присядем, — должно быть, воскликнула она, и Блейель сел между ней и Артёмом под надписью «ФЕНГЛЕР», шампанское ударило ему в голову, а бедра коснулось бедро Галины Карповой (такие ненамеренные прикосновения всегда заставляли его задуматься, заметил ли их другой), и подумал: добро пожаловать в Нигде и Везде.
Появились клиенты, которыми тотчас же занялись Соня с Любой. Поохав над задержкой заказов, они полюбовались на почётную грамоту и утешились шампанским с конфетами. Мужчина с закрученными усами торопливо выпил и тут же удалился, две дамы в годах уселись на другом диване и зашуршали каталогами. Блейель нашёл несколько логотипов «Фенглер» латиницей, в центре пёстрой креповой розетки в окне, на цветочном горшке и трёх флажках в вазе на письменном столе.
— И давно вы здесь работаете? — обратился он к Наталье.
Однако вместо перевода Артём сказал: «шашлык», явно результат переговоров с фрау Карповой. И пока Наталья, покачиваясь в кресле, услаждала гостя белоснежной улыбкой, переводчик задал собранию два коротких вопроса, шефиня поднялась и извлекла из клетчатой чёрно–фиолетовой сумочки купюру.
— Я схожу за обедом, хорошо?
Блейель остался один с четырьмя женщинами. Клиентов пока больше не было. Может быть, достаточно сидеть и улыбаться, пока Артём не вернётся. И пригубить третий бокал шампанского. Он откинулся на спинку дивана.
— Гут[12]? — покраснев, неожиданно спросила Наталья по–немецки.
— О, да, очень хорошо, чудесно, — ответил он, тоже зардевшись.
Тогда Галина Карпова что–то сказала Наталье, похоже, подбодрила её, и Наталья наклонилась к нему. Снова слишком вольное зрелище.
— Мы хотим, — начала она. Говорила она медленно, как будто после каждого слова стоял вопросительный знак. — Мы хотим знать, можете ли показать вы нам фотографию господина Фенглера?
— Фотографию?
Она воодушевлённо кивнула, и Галина Карпова воскликнула: «Да, да, да!»
— Нет. Мне очень жаль. У меня нет… ах, надо было мне об этом подумать. Он… ну, я мог бы попросить у него… может быть, мы потом вышлем вам фотографию. Да.
Сам того не заметив, он взял со стола ручку. Начальница подпихнула Наталью в бок, прошептала что–то и засмеялась. Наталья тоже прыснула и несколько раз принималась говорить.
— Вы его нарисуете?
— Я?
Карпова: «Да, да, да!»
— Вы имеете в виду… герра Фенглера? — в ужасе он бросил ручку обратно на стол. — Нет, нет, нет, я не могу. Я не умею, совсем. Правда.
Понимающий кивок.
— А какой он? Герр Фенглер? Хороший?
— О, да. Очень. Очень хороший.
Он почувствовал, что снова вспотел. От смущения он снова взял бокал и чуть было не выпил всё разом. Наталья тотчас подлила ещё. Соня стояла посередине и снимала всё, что происходило на диване, пока не зазвонил телефон и она не поспешила к столу. Люба вышла из туалета и что–то перекладывала в тесной прихожей. И, раз у Блейеля не обнаружилось никаких фотографий, Галина Карпова с Натальей принялись показывать ему свои. Время от времени шефиня зорко поглядывала на Соню, всё говорившую по телефону. Из того, что ему объясняли про родственников и домашних животных, он понял немногое, но вот сына фрау Карповой, кажется, звали Людовик. «Французское имя и немецкое имя», заставила она подтвердить Наталью. Гость так усердно кивал, что у него заболела шея, и всё повторял: «Чудесно, прелестно».
Пока не вернулся Артём с шашлыками.
Когда Матиас Блейель вышел из бюро каталог–сервиса под тёплое, бледно–голубое небо и сполна ощутил влияние выпитого (кроме того, лёгкую изжогу со вкусом маринада с красным перцем), мысль, что он находится в Сибири, показалась ему настолько нелепой, что он захихикал.
— Ваш портфель. — Артём появился рядом.
— Вот тебе на. Чуть было не… вот видите, вы снова меня спасли!
Он снова хихикнул. Переводчик потянул себя за бородку и мягко улыбнулся.
— Что теперь? Вздремнёте? Или походим, прогуляемся?
Блейель помедлил. Усталость прошла, он ощущал бодрость, такую, как после долгой ночи, прежде, когда он был молод. Но всё–таки он сказал «вздремну», и Артём повёл его в гостиницу. На этот раз они пошли другой дорогой и остановились на площади перед драмтеатром.
— Там, наверху, находится наша городская веб–камера. — Он указал на отверстие в середине фронтона одного из домов на площади.
— Я видел этот фонтан на фотографии, — подтвердил Блейель и подставил руку под одну из струй, бьющих из края чаши.
— Единственное место в нашем городишке, которое стоит сфотографировать.
— Да что вы, бросьте!
Артём засмеялся.
— Герр Блейель, пожалуйста, не смущайте нас вашей безграничной вежливостью. Кстати, здесь же поблизости проживает герр губернатор.
И он повернулся, чтобы идти дальше. За ним, на храме муз, с плаката между массивных, песочного цвета колонн улыбалась театральная труппа, благодарила публику за благосклонность в прошедшем сезоне. Актёры выглядели скорее как чиновники какого–нибудь ведомства или сотрудники посылторга.
Но Блейель не тронулся с места. Его снова разобрал смех. Ведь, откуда ни возьмись, перед ним появилась стрекоза — большая, синяя, прогудела мимо и скрылась между струй.
Если бы Илька увидела его здесь. Если бы он мог хотя бы рассказать ей обо всём. Если бы она стала слушать. Как прежде, или, по крайней мере, почти как прежде. Может быть, она поехала бы с ним — если бы Фенглер отправил его в поездку как семейного человека. Почему бы и нет. Вряд ли старикан выбрал своего посланника только за то, что он не женат. Восемь лет. Что толку о них сокрушаться? Они прошли, щёлк — и нету. Ему захотелось сфотографировать фонтан, но камера осталась в гостинице, да и стрекозу он всё равно не подкараулит. Вот бы поболтать с Илькой, обо всём, что пришло ему в голову; или, может, ещё и не пришло, но наверняка придёт, когда он её услышит. Хорошо бы поскорее. Он скоро снова ей позвонит.
Но пока он сгинул для всего света. И стрекоза, пропавшая в сверкающем, пенящемся куполе, больше не появлялась. Артём, поджидая своего захмелевшего питомца, описал пируэт на носке левой туфли, неожиданно ловко взмахнув правой ногой над одним из подстриженных шаром кустов, обрамлявших театральную площадь.
В гостинице Блейель, не раздеваясь, рухнул на кровать, снял только пиджак. На тумбочке стоял стакан из ванной, трижды он наливал воду из–под крана и пил. Вечером, в половине восьмого, за ним должен был зайти Артём, намечался ужин, с фрау Карповой и её коллективом. Ещё почти три часа, а он никак не мог вытряхнуть из головы терзавший его образ Ильки. Или взамен перед внутренним оком Блейеля выплывало декольте той Натальи, а уж этого–то никак нельзя было допускать. И почему он не ответил на вопрос Артёма «погуляем»? Попросил бы его рассказать, чем он занимался в Германии. Послушал бы и ещё раз поблагодарил за героическое вмешательство в офисе. И избежал бы гнетущих мыслей.
Он попытался отвлечься, разглядывая странные картины на стенах, но и это его не утешило, и в конце концов он отправился на прогулку один. Он приблизительно представлял, где находится, знал, что улица Кирова выведет его к реке, и удивился, увидев перед собой небольшой парк с аттракционами. Он размашисто зашагал между закусочными, палатками с пивом и каруселями (посетителей было немного) и скоро вышел на набережную, поднимавшуюся над рекой на высоту дома. Он повернул к мосту. Справа раскинулась Томь, широкая, медленная, почти чёрная, а слева пиликала назойливая музыка. По набережной, кроме него, прогуливались разве что юные парочки, то и дело сливавшиеся в поцелуе. За мостом, по которому в четыре ряда ездили машины и в два — трамваи, темнели заводы. Наверное, химические, предположил Блейель. Несколько труб изрыгали огонь в бледные небеса.
Кьеммерава. Город такого же размера, как Штутгарт. Город где–то далеко–далеко, в самой глубине Азии. Но эта Азия больше напоминала Штутгарт. Зачем он вообще здесь? Свое дело он сделал — кое–как, его незаслуженно спасли — и теперь, пожалуй, у него отпуск. Только не свой собственный, а вместо Фенглера, который уже обветшал. Увлекательная экспедиция к предмету сентиментального влечения старикана. Давайте, проходите. Как Фенглер представлял себе Кемерово? Что связывало его с этими местами? Он мечтал увидеть Сибирь, хотя бы на фотографиях. Обязательно нужно будет попросить Артёма дать ему те снимки, что сделала Соня, хоть ему и будет неловко их увидеть. И стрекозы, оказывается, они здесь точно такие же, как в Германии, почему так? Наверное, синие стрекозы бывают везде, просто он раньше их не видел. Так всегда получается со всем, на что вдруг начинаешь обращать внимание. Но в этом данном случае, почему стрекоза, — разве какая–то история связывала стрекоз с Илькой? Он ничего такого не помнил.
Ресторан назывался «На–гора»: как объяснил Артём, понятие из шахтёрского ремесла, русское обозначение добытого угля. Ресторан располагался в нижнем этаже панельного дома, в десяти минутах езды от гостиницы, и вполне соответствовал названию — стены из папье–маше изображали стенки штольни, большинство столиков стояли на выкрашенных в чёрный цвет вагонетках, и повсюду для декорации висели ярко–красные шахтёрские шлемы. Названия блюд — «смена шахтёра», «горняцкое счастье», «разработка нового пласта». Блейель взял рыбу «рекомендация начальства», весь вечер избегал смотреть на Наталью, и всё испереживались, потому что из пятисот грамм водки, заказанной на их столик Артёмом, он не выпил ни единого. После прогулки по набережной возбуждение сменилось свинцовой усталостью, и переводчику снова пришлось его выгораживать, объясняя про разницу во времени. Завтра будет легче, приободрила Галина Карпова гостя; потом воздела бокал и провозгласила, что завтра — укороченный рабочий день, и потому все присутствующие приглашаются к ней на дачу.
Ночью Блейелю приснилась беременная Илька. Он тоже присутствовал в родильном зале, но стоял не у её постели, а за тёмно–розовой ширмой в углу комнаты и не смел выйти, пока не позволит врач. Врач был тот самый, настырный. Блейель напряжённо вслушивался, но слышал немного, только неразборчивое бормотание и иногда приглушённый вопль Ильки — как будто ей, как только она вскрикивала, прижимали ко рту подушку. Когда врач наконец его позвал, она не держала у груди ребёнка, а лежала на боку, опершись на локоть, и смотрела, бледная и заплаканная, на стрекозу, которая сидела рядом в лужице крови и ногами обтирала крылья. Это всё, чего нам удалось добиться, пояснил врач, и, учитывая обстоятельства, это очень даже неплохо. Ему и его коллегам пришлось так попотеть, что они считают себя вправе выбрать имя для стрекозы, и засим нарекают её — Людвиг Карпорт.
Этот смехотворный финал нисколько не смягчил боль. Даже когда он понял, откуда он взял имя Людвиг Карпорт, глубокая тоска не прошла. Просыпаясь, он снова забывался — и так до полудня, и когда он встал под душ, то чувствовал себя так, словно его колесовали.
День выдался дождливый и душный. Фрау Карпова настояла на том, чтобы её муж сам отвёз гостя в деревню Подъяково, хоть туда и ходил автобус. В четыре к гостинице подкатил чёрный БМВ, и они уселись сзади, вместе с Соней и Артёмом. Герр Карпов оказался широкоплечим мужчиной в дорогой рубашке. Пожав Блейелю руку, он сказал «здравствуйте» и потом всю дорогу не проронил ни слова. Артём тоже молчал, и только Соня, когда выехали за город и потянулись бескрайние ячменные поля, прерываемые полосами блеклых тополей, затянула себе под нос какую–то мелодию, чужестранную, тоскливую. Ему показалось, что это — самое необычное из всего, что он до сих пор пережил в Сибири, и незаметно вслушивался. Только теперь плохое настроение улетучилось. Он попросил Артёма спросить у сестры, что это за песня. Она рассмеялась и ответила, что сама не знает.
Перед дачей — приземистым строением из красного кирпича, в клумбах несли караул две скульптуры из каталога «Шнайдер». Седовласый мужчина с биноклем, по имени, как знал Блейель, Герхард зоркое око, и садовница Лизхен — округлый задний фасад наклонившейся женщины в голубом платье в горошек и старомодных панталонах. Сорванца с рогаткой, долженствовавшего увенчать сие собрание, ещё ожидали, сообщили гостю, и какая всё–таки жалость, что в каталоге Фенглера нет таких забавных безделушек. «Одни тряпки, вечно только тряпки, какая скучища», — улыбнулся он. И пособолезновал безвременной кончине от какой–то болезни двух фазанов. Птичий грипп, подумал он, но, конечно же, благоразумно промолчал; к тому же против такого предположения говорил тот факт, что декоративные курочки были ещё живы. У пруда с рыбками стоял пятилетний Людовик, белокурый, с округлым лицом, он нехотя протянул гостю руку. Хозяйка в свободном белоснежном льняном костюме потрепала его по голове и жестом пригласила взрослых в дом. По настоянию Артёма Блейель взглянул на соседние дачи. По размеру дома не уступали карповскому, но скромнее, не кирпичные, а деревянные, некоторые с голубыми ставнями, и в садиках не было птиц, рыб и статуй, зато росла капуста и картошка.
— Вот и выходные, — объявил герр Карпов (Блейель испугался, услышав, что он говорит) и предложил гостям на выбор пиво, «Сибирская корона» или «Пауланер». С бокалами в руках они пошли за фрау Карповой, осматривая дом. Большая комната, где они находились, объединена с кухней, широкий дубовый стол, мягкая мебель в нервозную клеточку и полдюжины равномерно распределённых абажуров с яркими вышивками. Спальня, небольшая комнатка для гостей, и наверху — царство Людовика. Ах да, ещё туалет со смывом, что в здешних краях вполне можно считать достижением. И отдельно — баня, сегодня вечером её затопят, дрова уже в печи. Но это — область её мужа, а прочее, то бишь оформление, обстановка и домашний уют, внутри и снаружи, это всё её стараниями. При этих словах она закрыла дверцу тёмного шкафа, скрывавшего в себе телевизор. В дверь постучали — приехали Наталья и Люба, со свежесобранным, сочившимся влагой букетом полевых цветов.
В честь гостя на столе возникла банка икры. Дальше — больше, робкого вида девушка подала солянку и пирожки с мясом, огурцы и помидоры с соседского участка. Блейеля попросили рассказать о работе, и он сам себя замучил до смерти, пока бубнил о различных областях логистики. Но фрау Карпова и Наталья дотошно расспрашивали его дальше, даже тогда, когда он принялся в деталях освещать проблемы со службами доставки и таможенными процедурами в некоторых странах.
— А много что производится в Китае? — спросила Соня, отгибая подол футболки и глядя на этикетку.
— Из наших собственных марок — нет, немного. Может, парочка.
— Она спросила, — ухмыльнулся Артём, — потому что это просто смешно, что вот такая майка сначала едет оттуда восемь тысяч километров до Штутгарта и потом семь тысяч обратно. Кстати, у нас в городе есть китайский рынок. Но там продаётся всякое барахло.
— Ну, вообще–то логистика всегда руководствуется математическим расчётом расходов и выгоды.
— Ну да, и выгода состоит в том, что за дорогу в пятнадцать тысяч километров платит наш клиент.
Это насмешливо фыркнула Соня; Артём переводил без продыху, в сногсшибательном темпе, и добавил от себя: «прошу извинить дерзкий тон моей сестрицы».
Но Блейель вовсе не считал, что было за что извиняться. Наоборот, ему нравилось, что с ним особо не чикаются. Так было легче расслабиться, почувствовать себя в своей тарелке, забыть, что он здесь не по своей воле. Теперь ему почти казалось, что он в обычной командировке, в привычной обстановке, когда уютненько переходили от деловой части встречи к неофициальной. Он улыбался насмешнице Соне, пока Галина Карпова пылко распространялась о том, как всё–таки замечательно, что мода Фенглера добралась и до Сибири, и как все присутствующие от этого счастливы. Потом она, должно быть, резко сменила тему — вдруг затрясла рукой над блюдом с пирожками и осеклась, несколько раз вопросительно повторив «Матвей…»?
— Как величать вашего батюшку? — шепнул Артём.
— Его звали Карл.
— Галина, дорогого гостя зовут Матвей Карлович.
— Матвей Карлович, — удовлетворённо повторила фрау Карпова, и Артём закончил, — вы непременно должны съесть несколько пирожков.
Аппетит покинул Блейеля, но он посчитал, что один–два пирожка осилить сможет. Неожиданно Людовик, на стуле которого висел автомат Калашникова в натуральную величину, раскричался. Блейелю показалось, что он, сдавленно хохоча, скандировал одну и ту же фразу. После седьмого или восьмого раза, поскольку увещевания ничего не принесли, мать вскочила, ударила ладонью об стол, так что звякнули тарелки, и, рявкнув, отослала его в постель. Люба, не проронившая всё это время ни слова, при первом же вопле Людовика моментально сжалась, прикрыла рот ладошкой и пискнула. Артём и его сестра явно сдерживали смех, Наталья с неподвижным лицом уставилась в пол. Герр Карпов встал и открыл буфет.
— План Путина — победа России, — тихо пояснил Артём, взяв себя в руки. — Фраза, которую мы немножко чересчур часто слышим в последнее время.
— А-а. — Блейель был рад, что более пространного комментария не требуется, и сунул в рот последний кусочек пирожка. Жуя и глотая, он собрался с силами и сосредоточился, — фкусна. Атлична.
Наталья и Люба зааплодировали, Галина Карпова заулыбалась: «Спасиииба!» — и схватила гостя за руки, а Артём похвалил:
— Великолепное произношение. И невероятное дипломатическое чутьё. Моё почтение, Матвей Карлович!
Герр Карпов принёс бутылку водки и, не останавливаясь, налил семь стопок. Блейель не успел отказаться и покорился судьбе. Чокнувшись, Наталья извиняющимся тоном что–то произнесла и, обратившись к Блейелю, отважно сказала по–немецки:
— Мне пора домой? К детям? Дочка–малышка? Больна?
Снова она одарила гостя сияющей белоснежной улыбкой.
— Один вопрос? У вас есть? В Германии? Семья?
Блейель опустил взгляд, и не только для того, чтобы не смотреть на декольте.
— Нет. У меня нет детей. Я, к сожалению… я развёлся.
— Ах! Как плохо? Как плохо от женщины!
— Да нет же. Женщина права. То есть, всё это грустно, да. Очень, очень грустно. Но женщина не плохая. — От досады на своё заикание он осушил стопку одним глотком.
— Бедный Матвей Блейель, — подытожила Наталья и ушла, к ней присоединилась и Люба.
— Но остальные ведь останутся, — раскинув руки, произнесла фрау Карпова, — я на одну минуточку, посмотрю, как там малыш.
В стакане Блейеля снова, посверкивая, переливалась влага. Он откинулся назад, вздрогнул, прикоснувшись затылком к стене под расшитым цветами абажуром, и подумал: вот и неофициальная часть. Он сидел за этим столом, смотрел в эти новые, но уже знакомые лица, вслушивался во всё ещё непривычные созвучия, о смысле которых Артём, нависая сбоку, беспрестанно его информировал, и его не мучили ни сны, ни тяжёлые мысли. В голове шумело, но сейчас это не мешало. Усталость держалась в стороне, как надёжный знакомый, который зайдёт за ним позже.
Снова пошла речь о бане. Именно в такой дождливый день баня — благодеяние, в этом туземцы были единодушны. И ах, лето снова прошло. Такова сибирская реальность; и как только жить в таком неприветливом месте? За сетованиями последовал смех, вот и повод чокнуться. Но Блейель забеспокоился. В этом окружении он чувствовал себя довольно–таки уютно, но перспектива пойти в парилку с людьми, с которыми он познакомился только что, его напугала. Он и в сауну никогда не ходил. Он поглядел на Артёма, но тот, теребя бородёнку, уставился в тёмное окно. Герр Карпов поднялся, чтобы растопить печь и заодно принести из машины свежие берёзовые веники, которые он нарочно купил утром.
На следующий день, к своему огромному облегчению, Блейель не мог сказать, почему банная церемония так и не состоялась. Вероятно, под воздействием водки все просто остались сидеть за столом, чокаясь дальше, и печь топилась напрасно. Артём и Соня поднялись по лестнице, их положили в комнатке по соседству с Людовиком. Блейелю досталась комната для гостей. Уже четыре дня продержался, подумал он, засыпая, и тут же застыдился.
Он проснулся с тяжёлым черепом и полным пузырём — настолько полным, что боялся не добежать. Он едва сообразил, где находится, и торопливо натянул брюки, ведь пижамы у него с собой не было. Когда он на ощупь двинулся через затемнённую гостиную в туалет, за его спиной раздался топот. Он замер. В следующую секунду вспыхнул свет и кто–то завопил пронзительным голосом. Ребёнок с автоматом Калашникова спрыгнул с лестницы и снова что–то крикнул, Блейель только бессильно пожал плечами. Надежда, что Артём, разбуженный шумом, появится, не сбылась. Людовик всё кричал–надрывался, всё громче и требовательнее. У Блейеля затрещала голова, да и не только голова, он сжал ноги и скрючился. Чувствуя себя на краю катастрофы, он вскричал: «Газпром!»
Дитя спустило курок. Блейель зажал уши, но раздался только негромкий вой. На его брюках растеклось пятно. Людовик, торжествующе хохоча, побежал по лестнице наверх. Его оружие оказалось водяным пистолетом.
Вернувшись в свою комнату, Блейель сидел у открытого окна, сушил штаны и боролся с головной болью. Мигая и прищуриваясь, он выглянул наружу — мягкое, солнечное утро. На округлом крае садовницы Лизхен неподвижно сидела ворона. Над БМВ плясали мелкие птахи, может быть, снегири. Восемь часов, в Штутгарте сейчас кромешный мрак. Блейель не понимал, почему ему не спится. Но снова лечь — об этом не могло быть и речи, в голове, опасно подбираясь к желудку, принимались долбить молоты. Он подождёт у окна, пока не встанут остальные. А пока будет сидеть, смотреть на сверкающую росу, отцветающие клумбы и салат на соседском участке, и пытаться совершенно опустошить голову. Иначе боль не пройдёт. Пустая голова — что ещё оставалось выпавшему из мира Матиасу Блейелю. Хорошо ещё, что после водки не остаётся привкуса во рту. Позже, как он помнил, была запланирована поездка к скале с доисторическими рисунками, где справлялся летний праздник.
Томская Писаница. Огороженный участок прозрачного соснового бора на берегу реки, в четверти часа пути от деревни Подъяково. Из чёрной воды поднимались гладкие скалы, на которых оставили следы сначала сибирские аборигены, а позже — русские подростки.
— Как жаль, — вздохнул несколько восстановленный Блейель, но Артём, ухмыльнувшись, возразил, что, возможно, если посмотреть беспристрастно, то разница между старыми и новыми рисунками не так уж и велика. И указал на человечков, процарапанных линиями, с непропорционально огромными торчащими пенисами, нарисованных именно аборигенами.
— Не знаю, кто были эти свободные художники, шорцы или нет, но сегодня именно шорцы справляют свой праздник. Если честно, обычно мы не очень разбираемся в наших народностях. Сейчас сам всё увидишь.
Блейель такого не помнил, но, очевидно, вчера все перешли на «ты». Относилось ли это и к Галине Карповой с мужем? Вероятно. После утренней сцены, когда Артём живописал ей несчастье с водяным пистолетом и фрау Карпова принялась сушить его брюки своим феном, пока Блейель, завернувшись в одеяло, сидел за столом и завтракал, обращаться на «вы» было бы несерьёзно.
Вслед за Артёмом он поднялся по деревянной лестнице на опушку, вздохнул полной грудью — народу здесь было не так много, и обнаружил под деревьями груды камней, тотемные столбы и деревянные скульптуры, обёрнутые тряпками.
— Духи, — пояснил Артём.
Блейель подошёл к семерым с заострёнными головами и угловатыми, слегка перекошенными лицами, стоящими у кривой изгороди в траве. Они производили впечатление скромных духов, не зазнаек — вырезанные из грубых досок, укутанные в лохмотья. Зато на роскошном фоне реки.
— К примеру, этих семерых когда–то увидела во сне женщина коренной народности, вместе с заданием найти для них подходящее место. Так написано на табличке.
— Значит, эти… — слова никак не хотели срываться с губ, — коренные народности всё ещё верят в духов?
— Ну да. Духи, колдовство, шаманы, всё это здесь ещё есть. В оградке, под официальным контролем. В отличие от нашей знаменитой православной церкви, которая повсюду лезет без спросу.
Блейель ничего не ответил. Он не особенно интересовался религией, но и не отрицал её. И он не знал, как относиться к тому, что комментарии Артёма становились всё неформальнее.
— Кстати, о духах, — переводчик снова подошёл к лестнице, прищурил глаза от солнца и обеими руками подобрал волосы назад, как будто хотел собрать их в хвост, — пойдём–ка к сцене, Матвей. Сейчас начнется то, что может тебя заинтересовать. Остальные, наверное, уже там.
Толчея разъединила их с Соней и Карповыми, когда они шли к скале. Блейель сомневался, что ему понравится концерт — чем дольше он находился в лесу, тем сильнее его донимала мошка. Почти невидимые, но быстрые, как стрелы, твари, и когда он останавливался, становилось совсем худо. Перед выездом он смазал лицо, шею и руки специальным кремом из аптечки Галины Карповой, но безрезультатно.
— Потом привыкнешь, — заявил Артём. Блейель сдержал ответ, что это «потом», должно быть, займёт не одну неделю.
— Может быть, тебя утешит живое пиво?
— Как это — живое?
— Ну, так мы, остряки, называем разливное пиво, из бочки. Правда, красиво? Вон там, видишь, надпись — «живое пиво». — Он указал на табличку над палаткой, где вилась длинная очередь. — Пиво вообще внесло огромный вклад в поэтизацию русского языка. Например, бутылка с отбитым дном, которой молодые люди традиционно режут друг друга по субботним вечерам, называется «розочка».
От мысли о пиве у Блейеля снова заныла голова. Но он не захотел показаться невежливым.
— Вообще–то я бы лучше попробовал квасу.
— Ого.
Артём, казалось, удивился. Блейель пояснил, что и сам не знает, как до такого додумался, но вроде бы о квасе довольно часто упоминалось у Гоголя.
— Только посмотрите. До сегодняшнего дня наши бессмертные классики бередят умы, в том числе и умы иностранцев.
Пока они осторожно несли пластиковые стаканы из сутолоки у палатки с напитками, начался концерт. Сцена была простейшей, сколоченной из досок, с жёлто–зелёным тентом вместо крыши. Три девушки танцевали — средняя взмахивала пёстрыми платками, а две других колотили в большие, тёмного цвета бубны. Всё–таки я в Азии, подумал Блейель, посмотрев на их лица и чёрные косы. Правой рукой он механически отмахивался от мошки, в левой держал стакан. Напиток разочаровал — как солодовое пиво, не в его вкусе. Он начал разглядывать публику, скучившуюся на заасфальтированной площадке перед сценой и под ближними деревьями. Скоро он заметил Соню. Она возвышалась над толпой и фотографировала, должно быть, забралась на камень или на перила.
— Твоя сестра!
Артём кивнул, и Блейель почувствовал групповой импульс, — думаешь, Люба с Натальей тоже здесь?
Переводчик помотал головой. — Они же в лавке.
— В бюро?
— Ну да.
Как глупо. Вообразил, что выходные теперь у всех, как и у него. Конечно, по субботам магазины тоже работают. Он постеснялся выкинуть стаканчик с квасом в урну, через силу глотнул ещё. Три девушки на сцене окончили танец, принесли стул с высокой спинкой из берёзовых веток, украсили его цветными платками и большой коричневой шкурой. Барабанщицы заколотили быстрый ритм. На сцену поднялась четвёртая девушка, постарше, и, выпрямившись, села на стул. Длинное серебристое платье, волосы спрятаны под тёмным убором. На коленях она держала струнный инструмент, вроде лютни, с небольшим овальным корпусом и тонким грифом. Она тронула струны, и бубны замолчали, девушки расселись позади. Такт эхом повторял ритм бубнов. Как размеренная, тихая капель. Блейель подумал, что такая музыка не перекроет гвалт публики, и попытался разглядеть лицо женщины. Но она наклонила голову, и он видел только высокий колпак. Как будто издалека, раздался протяжный вой, наверное, от трёх девушек. Когда вой утих, женщина запела.
Блейель испугался.
Её голос — низкий, сдавленный, хриплый, ненастоящий — как будто его для дикого, чудовищного эффекта пропустили через синтезатор. Может быть, ей дали сломанный микрофон? Но остальные зрители вели себя нормально, значит, так всё и задумано. Блейель не сказал бы, что ему нравится это пение. Но содрогался он вовсе не из–за отвращения.
— Артём, извини, пожалуйста, а как она это делает?
Невольно он понизил голос до шёпота. Но Артём его понял.
— Горловое пение. В наших краях не редкость. Только я не знал, что и женщины тоже так поют. Но я уже говорил, к своему стыду, я совершенно не разбираюсь в наших народностях.
— К этому надо привыкнуть.
— Что?
— Я сказал, к этому надо привыкнуть.
— А-а. Ну, может, ещё и привыкнешь.
Слова Артёма, дружелюбные, как обычно, застигли Блейеля в странный момент: Невнятное содрогание перешло в мурашки. В жутком сдавленном пении он услышал нечто, что глубоко его тронуло. В мрачных звуках, которые постепенно проникали в душу, вместо угрозы он расслышал тоску. Он вспомнил Сонину песню по пути в Подъяково, обернулся, но Соню не увидел — и снова повернулся к сцене, чтобы ничего не пропустить. Теперь он видел лицо певицы, насколько это было возможно с десяти метров. Глаза её были закрыты, волосы скрывал убор. На фарфоровую куколку совсем не похожа, это точно, крепкая азиатская красавица, с полными губами и широким лбом. Несколько тактов звучала только её лютня. Потом она запела снова, не горлом, а обычным, грудным голосом. Та же мелодия, но выше, жалобней. В конце песни она снова вернулась к потустороннему рыку. К последним тактам примешался тот же вой, что и в начале. Блейель заметил, что дрожит всем телом.
Он не считал себя знатоком музыки, вовсе нет, но и не совсем уж безграмотным. В юности он кое–как играл на фортепиано, а в те два года, когда он особенно страдал от одиночества, пристрастился к тяжёлому металлу. Если он теперь слушал радио, то обычную поп–музыку, а когда сам включал что–нибудь, предпочитал барокко. Последний его осознанный контакт с этническими звуками был диск «The Rhythm of The Saints» Пола Саймона.
Со стаканом в руке аплодировать было неудобно, поэтому он поставил его на землю. Что это со мной происходит, подумал он. Именно здесь и сейчас, такое, такое… явление. Как же так? Случалось, у него бегали мурашки от музыки. Но ведь не от такой же.
Он подумал, потрясло ли это кого–нибудь так же, как его. Может быть, это творилось только с ним. Может быть, остальные и не почувствовали колдовства, которым повеяло на него от песни этой женщины.
— Артём!
— Да, Матвей Карлович?
— Ты знаешь, как её зовут?
— Да, погоди. Кажется, я запомнил. — Он театрально почесал бородку. — Ак Торгу. Только не спрашивай, что это значит, это по–шорски.
— А поёт она?
— Тоже по–шорски.
— Будь добр, повтори её имя.
— Ак Торгу. Два слова, хоть звучит и как одно. Ак, Торгу. Ударение на «у».
К этому надо привыкнуть, подумал Блейель и обрадовался, что улыбается от удивления.
— Странно. Мне… я только теперь в первый раз почувствовал, как же я всё–таки далеко. В совершенно другом мире. Знаешь, мне кажется, я только теперь приехал по–настоящему.
— Вот как? И на что больше похоже, на результат или на начало?
— Не знаю. — Блейель не любил фраз, похожих на путеводитель по жизни. К этой неприязни его приучила критичная Илька. Он нагнулся за стаканом (Артём понял и отвернулся), и повторял про себя имя певицы, пока не кончился проигрыш к следующей песне.
Теперь она стояла на сцене. Платье колыхалось у её щиколоток, но руки были открыты, и в правой она держала небольшую чёрную плеть, словно свитую из волос трёх танцовщиц. Но сами танцовщицы снова подскочили, закрутили косами и сопровождали песню Ак Торгу ударами в бубен и потусторонними звуками.
Она переходила от одного голоса к другому, но не всегда в одной песне; несколько она спела высоким, сильным грудным голосом. Тогда Блейелю слушалось легко. Но и рокочущее горловое пение уже его не смущало. Наоборот. Он слушал и чувствовал себя хорошо и свободно. Образ, и тёмный, и светящийся, чарующий, казалось, приоткрыл перед ним врата в другой мир, о котором он до сего дня и не подозревал, необычайно притягательный мир. И он искренне восхищался, хотя и не понимал ничего. Не то чтобы совсем ничего, кое о чём можно было догадаться. Между песнями она говорила по–русски, и он улавливал слова «Шория» и «шорский». Наверняка эти песни рассказывали о шорском народе, его обычаях, духах. А ещё — о стародавней мудрости и печали.
Иногда танцовщицы двигались так, что было ясно — они изображают животных, крадущихся, прыгающих лесных зверей, которых Ак Торгу, казалось, своим пением и замедленными движениями волосяной плётки заколдовывает, подчиняет, наделяет душой. Солнце клонилось ниже, тени от сосновых веток лежали беспокойной вуалью на сцене. О мошке Блейель и думать забыл. Только когда он, забывшись, проглотил остаток кваса, ощущение, что он полощет горло заплесневевшим серым хлебом, вернуло его к действительности.
— Хочешь воды? Или пива?
Артёмов питомец перевёл дух, с благодарностью отказался и подумал: сейчас наконец–то пощёлкаю. Фотоаппарат болтался в сумке. Несколько снимков он сделал вчера вечером, в разгар веселья, а утром — ещё две похмельные фотографии садовницы Лизхен с вороной. Но мысль прошла, а он и пальцем не пошевелил. Певица, произнося длинное предисловие к очередной песне, сама взяла бубен. Прежде чем потянуться к колотушке, она бережно провела рукой по коже цвета глины, покрытой схематичными рисунками. Две девушки играли на варганах, а третья, с яркими платками в обеих руках, подпрыгивала в воздух.
Ритм был небыстрым, скорее размеренным, но непреодолимым. Ак Торгу закрыла глаза, Блейелю показалось, что под теневой вуалью её лоб подрагивает, её губы беззвучно шевелились. Теперь все три танцовщицы подскакивали вверх, сначала в такт, потом всё необузданнее, как будто спорили, кто сильнее и моложе. Певица затянула тихий звук, постепенно он нарастал и не обрывался — должно быть, она владела особой техникой дыхания. Чёрная плеть, которую она, взяв бубен, положила на стул, вдруг соскользнула на пол. В тот же момент музыка стихла.
Из глотки Блейеля вырвался невольный звук. Чтобы как–то его оправдать, он кашлянул. И похолодел: певица исчезла со сцены.
Но он не успел испугаться по–настоящему — сзади раздалось громкое русскоязычное воркование. Появилась Галина Карпова, под руку с мужем, ведя Людовика. Она хотела, перевёл Артём, пойти с мальчиком в другую сторону, туда, где можно пострелять из лука; и как он полагает, можно ли показать крошке, которому только через месяц исполнится шесть, древние захоронения с настоящими скелетами, или у него от этого будут кошмары?
— Надо попросить её спеть на бис, — пробормотал Блейель.
Артём поглядел на сцену и нахмурил лоб. К трём танцовщицам присоединилась ещё дюжина, а за ними — целый хор в ослепительно ярких одеждах. Карповы отправились стрелять из лука.
— Пойдём, поищем её, попросишь автограф. Ей наверняка будет приятно.
— Я такого никогда не делал.
— Ну и что? Ты и кваса никогда раньше не пил.
— И не буду.
— Смотри, вон она! Твой шанс!
Он проворно пошёл сквозь толпу, наискосок, к соснам слева от сцены. Блейель безвольно поплелся следом.
Лесная почва ещё не просохла после вчерашнего дождя. Вместе с коренастым, облачённым в спортивный костюм мужчиной с угловатой стрижкой певица поставила между красноватыми стволами раскладной столик и достала из тряпичной сумки пакет с компакт–дисками. Артём что–то спросил, мужчина кивнул и что–то ответил, Артём повернулся к Блейелю:
— Его сестра с удовольствием ответит на наши вопросы.
Вблизи её платье не так сверкало, выглядело скорее светло–серым, с узором из бледных переливающихся овалов, с плиссированными складками на талии. Из–под плотного, обтянутого фиолетовым бархатом головного убора выглядывали волосы, чёрные и густые, с высветленными прядками. За левое ухо она заправила малюсенькую косичку. На лбу её выступили бисеринки пота. Она выглядела моложе и намного более земной, чем на сцене.
Она стояла перед ним. Волшебница, только что показавшая ему новый мир, стояла напротив него. Так далеко от дома. Так близко, что он мог прикоснуться к ней. Так близко, что он почувствовал дуновение воздуха, когда она кашлянула. Блейель невольно почувствовал облегчение от слов «моя сестра», вспомнил о Соне и подумал, что «ответить на вопросы» звучит так, словно они с Артёмом из полиции. То есть милиции. Сердце его бешено заколотилось. Но он не допустит, чтобы переводчик снова принялся его спасать.
— Скажи ей, что я ещё никогда… нет, скажи, что её концерт произвёл на меня глубокое впечатление.
— И что ты специально приехал из Германии, это я тоже скажу.
— Да? Ну, раз ты…
Но Артём уже заговорил. Она разложила диски в две стопки и смотрела на Блейеля неподвижными узкими глазами.
— Она говорит, что очень польщена.
— Ах. Она… пусть она знает, что я глубоко… что её музыка очень тронула меня…
Артём переводил, нервы Блейеля трепетали, но он держался.
— …хотя я ещё ни разу не слышал ничего подобного.
Лёгкая, почти робкая улыбка высветилась на её лице.
— Она рада, что шорская культура находит отклик в такой далёкой стране, как Германия.
— И я благодарю её от всего сердца. За это невероятное событие. И — и сердечно желаю ей всего самого доброго.
Он залился краской. Слегка поклонившись, он уже хотел идти. Артём тронул его за рукав.
— Диск–то купишь?
— Ах, точно. Конечно!
У дисков не было ни книжечки, ни обложки, самодельные болванки лежали в голых пластиковых коробочках.
— Я сказал ей, что без автографа ты не уйдёшь.
Блейель сильно подозревал, что переводчик выставил его назойливым дурачиной. Но во взгляде певицы он не увидел ни насмешки, ни нетерпения. Она попросила у брата фломастер и, улыбаясь, медленно, очень аккуратно подписала его диск. Когда она закончила, он пробормотал «большое спасиба» и протянул ей руку. Она опешила, но тут же заразительно расхохоталась и ответила на рукопожатие. Он заглянул ей в глаза и тихо–тихо, так, чтобы никто, кроме неё, не услышал, сказал по–немецки: «для меня это было огромное чудо».
И, хотя за ними уже роптала очередь, Артём ещё что–то с ней обсудил.
— Спросил её, что значит «Ак Торгу».
Они с Блейелем (у него дрожали колени) снова вышли на асфальт, в клубы шашлычного дыма. Хор на сцене затянул ликующий припев, публика подпевала. Над площадкой возбуждённо носилась стайка воробьев.
— Ну и?
— Белый Шёлк.
— Белый Шёлк. Вот как. Надо же. То есть, звучит совершенно по–другому.
— Матвей Карлович, у тебя немного нездоровый вид. Чего бы тебе сейчас…
— Может, всё–таки живого пива? — перебил его Блейель и бросил последний взгляд на рой людей под деревьями. Он не хотел выглядеть нездоровым. Он не хотел говорить о том, что только что ощутил. Он вообще не хотел ни о чём говорить, да и пива ему на самом деле вовсе не хотелось. Он хотел отдаться восхитительному чувству, переполнявшему его.
Неужели правда? Он не знал. Он вообще ничего больше не знал. Только то, что с ним произошло нечто небывалое. Он не просто восхищался певицей, как свежеиспечённый поклонник её творчества. Нет, то, что он испытывал теперь, шло намного дальше подобного преклонения. Не оставалось никаких сомнений: Матиас Блейель по уши влюбился.
А как же Илька?
Да, Илька.
С Илькой всё было совершенно по–другому.
Уроженка севера Германии, умница, которая ему столько всего показала и открыла. Он ей восхищался и, конечно, считал её недоступной (и как это её теперь занесло в Мюнхен)[13]; а потом не мог поверить своему счастью. Они познакомились на званом ужине, он, Блейель, всего лишь робкий, нудный тип из Бадской Сибири, в ту пору намного более робкий и нудный, чем теперь — рот он открывал только на работе, по работе. И всё–таки они сразу разговорились. И так вышло — то немногое, что он произнёс, попало точно в цель. И он знал, что когда все стало серьёзно, её друзья недоумевали: ну что она в нём нашла? И даже знал, что она на это отвечала: «в нём есть что–то волшебное». Волшебное, это в нём–то. Он вспомнил, как во время второго отпуска на Балтийском море делал ей предложение — сгорая от стыда, что–то мямлил. Можно даже сказать, ей пришлось суфлировать. И всё же, Илька, при всём восхищении и благодарности, при всей любви, тоске и отчаянии — с Илькой было совершенно не то, что теперь; даже тогда, когда ни о каком тупике не шло и речи. Не было такого внезапного, всеобъемлющего потрясения. Не было такой слепой уверенности, не нуждающейся в доводах рассудка. Не было этой музыки. Блейель осторожно пригубил пиво и сразу захмелел.
В гостинице женщина–портье помахала проштампованным листком. Его регистрация. У гостя слипались глаза, но Артём был в великолепном расположении духа.
— Я ей сказал, что ты ночевал у меня. Теперь она думает, что ты голубой. — Он выдержал паузу, Блейель непонимающе на него посмотрел.
— Нет, ерунда, она вообще не думает. У неё есть работа, так зачем ей думать. Точно как моя сестрица. Так я попрошу её продлить на следующие три дня, идёт?
Блейель сглотнул.
— Может, сразу возьмем неделю?
— Ты же в среду улетаешь.
— В среду. Ну да. Тогда как хочешь.
Артём на минутку повернулся к женщине, потом всё вроде уладилось.
— Теперь ложись и высыпайся хорошенько, ага?
— Да. Хорошо.
— До завтра.
Переводчик фамильярно потрепал его по плечу (как пьянчужку, подумал Блейель) и пружинистым шагом вышел в сумерки. А Блейель поднялся на два пролёта вверх. И, как пьянчужка, держался за перила, закрыв глаза. В его голове снова звучал рокочущий потусторонний голос певицы. Так чётко, что захотелось подпеть. Но чужестранные слова рассыпались, как только он набрал в грудь воздуху. И единственное, что он слышал — стук своего сердца.
Он быстро заснул, невзирая на зудящие волдыри от комариных укусов, и видел невнятные сны. Назавтра он помнил одну–единственную сцену. Неясная обстановка, и в ней два Матиаса Блейеля: тот, как он сам себя знал, как он к себе привык. И новый Блейель, колышущаяся тень. Он вышел из–за старого, нежно дохнул ему в затылок и прошептал: «прости, что так запоздал».
Белый Шёлк. Какое слово означает шёлк, Ак или Торгу? Наверное, Торгу. Удивительно, что такие разные по звучанию слова обозначают одно и то же, Ак Торгу и Белый Шёлк.
Как странно. Что же с ним творится?
Её улыбка, пока она подписывала диск. Бисеринки пота на лбу. Она на сцене. Плётка из девичьих волос. Два её голоса. Лютня, на которой она играла, лютня с двумя струнами, как он заметил. Как она взяла его за руку. Её глаза — прочёл ли он в них что–то? Ак Торгу. Ак Торгу.
Так он отрешённо предавался сладким грезам, пока Артём водил его по городу на следующий день. Было воскресенье, Артём всё показывал и рассказывал. К Блейелю то и дело пробивалась какая–то мысль, мучила его — и он изо всех сил старался не допустить её на поверхность, не дать ей обрести форму. Это ему удавалось несколько часов. Они с Артёмом проехались на трамвае, пожилая кондукторша отмотала от рулончика билеты, взяв с них по семь рублей, Блейель благодарно ей улыбнулся. Теперь они стояли перед памятником в виде огромного красного хоккейного мяча, поддерживаемого в воздухе тремя не менее огромными светло–серыми клюшками.
— Бэнди, — догадался он. Артём сказал свое «ого» и пояснил:
— За этими невзрачными стенами находится стадион, на котором несколько месяцев назад проходил чемпионат мира. И поскольку это первое событие такого масштаба, свершившееся в наших краях — то есть, после выступления «Deep Purple» в 1996 году, то, конечно, без монумента не обошлось.
— И первый космонавт, вышедший в космос, тоже был родом из Кемерово.
Блейелю показалось, что вместо него говорит небольшой автомат–автопилот.
— О да, товарищ Леонов, — подтвердил Артём. — На стелу с его бюстом мы полюбуемся на улице Весенней.
Они оставили позади хоккейный мяч и двинулись к вокзалу. Мимо проскрежетал ярко–жёлтый трамвай, гость зажмурил глаза и, когда лязг затих, глубоко вздохнул.
— Сменим тему — та певица, вчера, на шорском празднике. Как думаешь, можно ли как–нибудь узнать, когда у неё ближайший концерт?
— Наконец–то. А я‑то ждал, сколько ты ещё продержишься, Матвей Карлович.
Речь снова перенял автопилот.
— А к тебе можно прицепить какого–нибудь «-овича»?
— Викторовича. Но только в незначительной степени.
— Почему в незначительной?
— Ну, вообще–то не хотелось бы говорить о нём ничего плохого. Ведь он даже когда–то замещал руководителя клоунского кружка в Ротенбурге.
— Ротенбурге об дер Таубер?
— Извини за скверное произношение. Я имел в виду Роттенбург с двумя «т», на что Неккаре.
— Вот как.
Блейель напрягся. Ещё чуть–чуть, и мысль пробилась бы на поверхность. Так близко, подумал он. Полста километров от Штутгарта.
— Я даже как–то пытался у него поучиться. К сожалению, безрезультатно, с обеих сторон. Но мы простили друг друга.
Гость вспомнил, как в первый день Артём, держа руки по швам, легко крутанул пируэт на театральной площади, взмахнув ногой над подстриженным кустом.
— Но вернёмся к изначальному вопросу. Я её просто–напросто возьму и спрошу.
— У тебя есть её адрес?
— Электронный.
«И почему это, герр Блейель, вам должно казаться странным или противоестественным, что у неё есть электронный адрес?» — выдал автомат в голове Блейеля.
— Её адрес…
— Ну да, мы же сколько лет знакомы.
Снова пауза, чтобы насладиться недоумением Блейеля.
— Шутка. Я попросил, когда спрашивал, что означает её имя.
Блейель не мог иначе — в нём разгорелась зависть к переводчику. Тот был волен говорить с ней, о чём хотел. А Блейель был абсолютно беспомощен и не мог поговорить с ней сам. С ним произошло самое огромное чудо в жизни — а он не мог и приблизиться к нему без помощника.
Хотя, может быть, она говорит по–английски. Если кто пользуется электронной почтой, то это знак того, что — нет, не надо ложной логики. Никакой это не знак, и деваться некуда. Гадкая мысль выплыла наружу, застив выход.
Ему осталось три дня. Даже меньше — самолёт улетает в среду утром. То, что ещё вчера в это же самое время казалось избавлением, теперь стало моментом казни. Чего можно добиться за три дня? У тебя был шанс, Блейель.
— Так я напишу ей и передам от тебя привет, идёт?
— Идёт, — прошептал он.
Три дня до виселицы. Три дня, которые ещё оставались у него в распоряжении. Можно посмотреть и так. Главное — что он её встретил. Что она есть на свете, и он увидел её. И должен увидеть снова. Это — самое главное. Всё остальное он продумает спокойно, потом. Для раздумий и решений, что теперь делать, три дня — вполне достаточно.
Он радостно задрожал. Он почувствовал, что дрожь сильнее, чем гадкая мысль. Или нет, не дрожь, а волшебство, пронизывающее его.
Через широкий, разбитый Кузнецкий проспект они смотрели на мятно–зелёное здание вокзала.
— Ветка Транссиба, — сказал Блейель.
— Ветка? Ты имеешь в виду тупик? — возразил Артём, и Блейель подумал: какой же он нигилист. Счастье, что как переводчик он работает по другим принципам, нежели гид.
Это немного отвлекло его победоносную, но ужасно нервозную голову. Он подумал о Штутгарте. Как жители говорили о своем городе: какая–то ханжеская, выставленная напоказ гордость, маскирующая глубокие сомнения. Совершенно иначе — нерушимая уверенность уроженцев Мюнхена. Как часто они, не важно, о чём вообще идёт речь, говорят «Мюнхен». Мюнхен, Мюнхен, Мюнхен, как волшебное слово, придающее им силы.
А теперь Кемерово. Оказывается, не только того же размера, но и в остальном тот же случай, как Штутгарт. Сибирский вариант. Артём лез перед гостем из кожи вон, выставляя свой город неинтересным и провинциальным — камня на камне не оставил, и ведь он наверняка не один так думает. И действительно, всё, что Блейель до сих пор увидел, казалось, говорило: «я знаю, во мне нет ничего такого». Конечно, и пафоса хватало — административные здания, плакаты, и с Путиным, и другие. Один плакат Артём перевёл с истеричной интонацией мелкого политика, которому угрожают электрошоком: «Россия гордится тобой, Кузбасс!». На другом пятилетний карапуз обещал возрождающейся нации, что станет шахтёром, как папа. Но сквозь эту показуху Блейель видел застенчивость — недоверчивую, втянувшую голову в плечи. Как будто город недоумевал, как это кто–то, кроме местных жителей, им заинтересовался. А ведь интересоваться есть чем, подумал Блейель. Да, город серый, непритязательный, на пуп земли не похож. Но по соседству с унылым, безнадёжно безобразным, смехотворно помпезным, осыпающимся здесь есть и трогательное, даже красивое. Фонари с завитушками, лихо закрученные светофорные столбы. Элегантно–простые фасады старых домов. Цветущие клумбы на аллеях посреди дорог. В это воскресенье у Блейеля было огромное сердце, и Кемерово точнёхонько в него входило.
Площадь на углу Советского проспекта и улицы Кирова пестрела палатками, пчеловоды из окрестностей предлагали свои товары. Гость подивился на коробку, полную мёртвых пчёл («Может, от ревматизма», — предположил Артём, но хозяина спрашивать не стал) и, полакомившись на нескольких столиках, купил банку мёда сорта «Таёжное разнотравье» — гостинец для герра Фенглера.
Они прошли мимо гостиницы в небольшой парк, который, как узнал Блейель, назывался «парком чудес». Он попытался задушить надежду, что чудесная случайность подарит ему выступление Ак Торгу, прямо здесь и сейчас. И старательно не подавал виду, что уже гулял здесь. Ведь тогда он выбрал «вздремнуть». Тогда, в прошлой жизни.
— Дамы и господа, держитесь: перед вами набережная. По крайней мере, идея променада у воды. По будням здесь даже вполне можно гулять.
— Говори, что хочешь, Артём, но мне кажется, в вашем городе много красивого.
— Тогда я лучше помолчу.
Вот именно этого Блейель и хотел. Молча смотреть на широкую, почти неподвижную чёрную реку и ясное небо. Наблюдать, как свет постепенно становился золотым, как солнце закатывалось за мост, за коптившие заводы. И думать об Ак Торгу, которая живет под этим небом. Её улыбка, когда она взяла его за руку. Её рука гладит бубен. Так далеко от дома. Наконец–то.
Однако для молчания он оказался слишком слаб. Вчерашнее просветление, судьба, настигшая его в самом неожиданном месте — всё это, с одной стороны, его утешало. Но молчать весь вечер… Его нервы не выдержали. За весь день он не увидел ни одного азиатского лица.
— Твой отец всё ещё в Германии?
— Мне было бы интереснее поговорить про шорианку.
— Нет, пожалуйста.
— Почему нет?
— Шорианка, она — нет, сейчас не могу.
— Но ты хочешь, чтобы я ей написал?
— Да, да, да!
— Матвей, да что с тобой? В тебе заговорил дух?
— Чего?
— Разве не так говорят? Когда в кого–то входит святой дух или что–то в этом роде.
— У меня точно не святой дух.
Как и у стадиона, Блейель не был хозяином своих слов.
— Ну, да. Мой отец всё ещё в Германии. И никуда он оттуда не денется, потому что он — человек без паспорта.
— У него нет гражданства?
— Он — советский диссидент. Местного значения, не переживай. Его имя не мелькало в газетах. Но когда таких, как он, выпускали, то по традиции забирали у них паспорт. Пойдём через мост?
— С удовольствием.
Северный берег в этом месте не был застроен. Дорогу окаймляла заболоченная полоска травы, за ней, лучась в вечернем свете, к поросшему лесом плато поднималась каменная стена. Они поднялись по исписанным граффити бетонным ступеням. На самом высоком месте скалы раскинулся крест убийственного ядовито–зелёного цвета.
— Прекрасное место для попойки. Сверху — оградительный крест, внизу — река и город, если приспичит — то лес сзади. А как всё надоест — можно сигануть вниз.
Они были не одни, несколько компаний уже приступили к попойке. Очевидно, приходить сюда пешком было не принято, у кромки леса стояло около полудюжины машин.
— Значит, в Германии он вёл клоунский кружок?
— Что, интересно стало? Да он чем только не занимался. Насколько мне известно, он был знахарем, садовником, собирал какие–то модели, глотал огонь и складывал оригами. Но теперь он, боюсь, стал желчным. Общается только с русскими, о немцах и слышать ничего не хочет.
— Почему?
— Трудно сказать.
— Он ещё в Роттенбурге?
— Нет. Его занесло в Швабский Альб. Не спрашивай, как называется то место, я никак не могу запомнить.
— И там можно жить среди русских?
Артём носком подцепил из травы пустую бутылку из–под водки и пнул её со скалы.
— Может, когда–нибудь кто–нибудь напишет о нём книгу. Он это вполне заслужил.
Слова его прозвучали так, словно он сокрушался о своей жизни, недостойной книги. Они присели на лавочку с панорамой на индустриальный пейзаж. Вечернее небо с огнедышащими трубами: картина какой–то древней красоты, подумал Блейель и снова умилился. Артём развернул пачку начинённых блинчиков, купленных в ларьке парка чудес, и достал две банки пива «Балтика». Ужин в ресторане «Дружба народов», за столиком в боярском зале, Галина Карпова отменила из–за того, что у крошки Людовика поднялась температура. На плато задувал прохладный ветер. Блейель с удовольствием одел куртку, которую весь день таскал завязанную на талии.
— В Германии ты жил у него?
— Недолго, в самом начале. Это было — ах, я тебе расскажу один случай. Однажды в гости пришли его знакомые. Он угостил их анекдотом: «Что делает турок, когда видит на улице мусорный бак? Клеит обои и живет там». Знакомая огляделась и заметила: «А русскому и без обоев неплохо».
— Так ты поехал в Германию не к нему?
— Я его почти и не знал. До того мы в последний раз виделись, когда мне было девять. Потом он исчез. Письма от него стали приходить только через несколько лет. Конечно, мне хотелось с ним встретиться. Но в Германию я поехал, чтобы учить немецкий. Заодно и увиделись. Неплохо, конечно, но слишком поздно. Может быть, мы с ним чересчур похожи. Как объяснить… Будто просидел десять лет в подземелье, а потом взял и заглянул в зеркало. Не знаю. Давай не будем об этом. Твоё здоровье, Матвей.
— Твоё здоровье.
Блейель проглотил первый блин, начинённый творогом.
— До отъезда я окончил наш знаменитый кемеровский университет по специальности немецкий и английский. Как раз вскоре после развала СССР. И я думал, если я тогда вообще о чём–то думал, что стану переводчиком. С советским дипломом меня у вас отправили на первый курс.
— Ты учился в Германии?
— Учился, но не окончил. Менял специальности, переводился из города в город, на занятия сначала ещё ходил, а потом перестал. Но на следующий семестр исправно записывался, иначе мне не продлили бы визу. Вместо учебы занимался то одним, то другим. В целом можно сказать — учил немецкий.
Блейелю вдруг расхотелось расспрашивать дальше.
— Восемь лет, значит.
— Именно так. А ты развёлся с женой?
— Нет, нет. То есть да. Развёлся. Но… я другое хотел спросить — как ты думаешь, она говорит по–английски?
Всё как обычно: Блейель заикается, Артём ухмыляется. Но показалось ли ему, или его ухмылочка на этот раз не такая добродушная, как прежде?
— Твоя жена?
— Шорианка.
Артём прыснул.
— Как буду писать, спрошу.
Они принялись за еду молча. Блейель размышлял, что же она написала на его диске. Наверное, не только имя, имя у неё короткое, а на диске две строчки. Посвящение? Прописные буквы кириллицей он вообще не мог разобрать. Глупо, что не спросил Артёма сразу же. А ещё глупее — он не знал, что Артём про него рассказал, представил ли он его по имени. Хотя, может быть, это было бы чересчур назойливо. Он ей представится сам. Фразу «меня зовут Матиас Блейель» он выучил в самолёте. Надо будет в гостинице ещё раз повторить. А Артём ей напишет. Хоть бы он не выставил его прилипалой. И хоть бы она вскорости проверила почту. Завтра понедельник. В понедельник утром весь мир проверяет почту.
Блины кончились, и молчание снова стало невыносимым. Он махнул рукой на реку и трубы:
— Великолепный вид.
Артём выпрямился и поглядел вниз.
— Ах, Матвей. Рад, что тебе нравится. Но Томь — посредственная река. Как и всё остальное в этом городе. Обь или Енисей, вот это настоящие реки. Хочешь увидеть Сибирь, поезжай туда. Здесь ты из своего мира уехал, но в другой ещё не попал.
Блейель, улыбаясь и щурясь, поглядел на заходящее солнце. Закат окрасил поруганный ландшафт в сочный оранжевый цвет.
— Артём Викторович!
— Что?
— Думаешь, она живет в Кемерово?
Сны и в эту ночь выдались яркими, и снова он почти всё забыл. Артём оказался сыном космонавта Леонова, а Илька исполняла на приёмной стойке гостиницы «Анилин» порнографический танец. Вторая деталь вспомнилась только во время завтрака. К счастью, в зале он сидел один, другие постояльцы вставали намного раньше него. Персонала тоже не было видно, кроме дамы в кудряшках, согнувшейся на кухне — но она ничего не заметила, на сковороде у неё шипела яичница, которую она поджаривала для Блейеля. Его вскрика никто не услышал.
Закрыв глаза, разомкнув губы, голая Илька под музыку Ак Торгу растопырилась на столе в узком проходе. Она гладила свое тело, бёдра, мяла груди, а потом выгнулась назад, подняла таз, широко раздвинула ноги и ритмично выпячивала открытую вульву прямо в лицо человека на ступеньках. А тот не мог ни отвести взгляда, ни слова не вымолвить. Она презрительно расхохоталась, присела на столе, изогнулась — и, издавая громкие стоны, выдавила что–то из влагалища — плётку из чёрных волос.
Столовая радикально отличалась от скромного убранства номеров. Тяжёлые трёхслойные скатерти с пышным цветочным орнаментом, которым не уступали шторы на окнах. На дальней стене по огромному плоскому телевизору шла музыкальная программа, и вопль Блейеля утонул в разухабистой песне.
Его удручало не только то, что он оказался способен вообразить себе такое. Но как он мог после этого спокойно спать дальше? Надо было в паническом отвращении от самого себя выскочить из подушек. Остаток ночи ходить по комнате, ломая руки, и встретить рассвет, с восковым лицом застыв у окна; тогда он хоть частично искупил бы вину. Вместо этого он встал по будильнику, как ни в чём не бывало, вымылся и оделся, как ни в чём не бывало, и только сейчас всё вспомнил — и чувствовал себя осквернённым.
Притом не было ничего чище его чувств к Ак Торгу! Он не имел никаких, абсолютно никаких задних мыслей, никакого расчёта, или честолюбия, не говоря уже о непристойности. Его переполняла любовь — самая невинная, чистая, неожиданная, какую только можно вообразить, настолько чистая, как бывает только любовь в начале новой жизни. Сердце его бешено заколотилось, живот закрутило.
Что за тёмные силы стремились опошлить чудо? С изнурительными видениями про Ильку он за последние недели почти свыкся. Но ведь они остались в мире старого Матиаса Блейеля! А новый Матиас Блейель, который создавался в настоящий момент, который только–только стал возможным, для них недоступен, все тупики прошлого должны остаться позади!
Бесполезно спорить. Чёрная плётка из влагалища. Бочка с нечистотами опрокинута.
Ну уж нет!
Он встрепенулся. Мерзость взяла верх только на время кошмара. А теперь, за этими тяжёлыми занавесями, снова ясный день, и он должен бороться за новую жизнь и не поддаваться провокациям!
Как ему хотелось обратно, в сосновый бор на Томской писанице. Надо было остаться там, не отходить от неё, быть с ней!
Как это было бы чудесно.
Но сейчас он не может ничего поделать, и ему хотелось по крайней мере послушать её диск. Можно ли это устроить в гостинице? Он взглянул на телевизор и сразу отвернулся. Интересно, сколько стоит в Кемерово маленький проигрыватель компакт–дисков?
К еде прикасаться не хотелось. Из вежливости он проглотил одно яйцо, ведь женщина специально из–за него встала к плите. Несколько ложек йогурта, чашка чаю. К ветчине, помидорам, солёным огурцам и консервированному горошку он не притронулся. Он посмотрел на часы и с облегчением увидел, что ему пора поспешить. Быстро почистить зубы, решить, брать куртку или нет; в одиннадцать его ждал Артём.
— Герр Блейель! Откуда вы звоните?
— Из Кемерово.
— Как, простите?
— Из Кемерово.
— Из Кемерово! Чудесно! Как вы там?
— Хорошо, большое спасибо. Очень хорошо. И фрау Карпова очень мила, она так обрадовалась грамоте.
— Великолепно!
— Герр Фенглер… почему я вам звоню… у меня возникли обстоятельства…
— Что у вас возникло?
— Обстоятельства. Я… по причине, которую сейчас… мне хотелось бы задержаться ещё.
— Задержаться? В Кемерово?
— Да, у меня здесь… это очень важно… извините, что так скоропалительно, но я прошу дать мне несколько дней отпуска, за свой счёт.
— Вы хотите ещё побыть в Кемерово?
— Да. То есть, если никак нельзя…
— Оставайтесь до конца недели.
— Мне нужно… такое дело, обратный рейс, он будет только в следующую среду.
Блейель сам так изумился своему неожиданному вранью, что трижды осекался, прежде чем продолжил:
— Я, конечно, свяжусь с герром Хюнингом, чтобы он меня подменил.
— Давайте, герр Блейель, так и сделайте. Всё уладится. Вы уже много нафотографировали?
— Я обязательно ещё…
— И когда вернетесь, то всё расскажете.
— Да. С удовольствием. Очень вам благодарен…
Но Фенглер уже повесил трубку. Всё уладится, подумал Блейель и улыбнулся телефону. Как хорошо, что он дозвонился до старикана.
Вскоре из уборной вернулся Артём. Они сидели на бордовом пухлом диване из искусственной кожи, в залитом холодным светом кафе, куда они зашли после музея.
— Мы выиграли время, — сияя, сообщил Блейель Артёму.
— Это здорово. Только вынужден признать, что не вполне понимаю, о чём…
— Ах, извини. Я немного возбуждён. Знаешь, я ещё никогда… во всяком случае, я имел в виду себя. Я выиграл время. Это значит, что я здесь ещё подзадержусь.
— Ого.
— Но тебя это пусть не беспокоит. Ты свой объём работ уже практически выполнил.
Артём пожал плечами.
— Пока мне ещё платят.
— Только сегодня и завтра.
— Посмотрим.
— Нет, нет, нет, об этом не может быть и речи. Я и так безгранично злоупотребил любезностью фрау Карповой. А твоей и подавно.
— Ты так считаешь?
— Я твой должник навеки.
— Матвей, сколько можно преувеличивать.
— Независимо от этого, ты свою работу выполнил, и баста.
Артём начал щелчками сбивать крошки со стола.
— И что же с тобой будет без меня?
— Как–нибудь справлюсь.
— Да уж, парень ты справный.
Телефон ещё лежал около тарелки Блейеля. Он отключил его и спрятал в сумку. Когда он нагнулся, кожаный диван издал громкий непристойный звук.
— Артём. Если у тебя будет время и желание ещё побыть моим ангелом–хранителем, я буду очень рад. Очень. И тогда я, разумеется, буду платить тебе сам. Просто скажи, сколько это стоит.
— Ты становишься легкомысленным.
— Нет, я серьёзно.
— Хлопнем водки?
— Лучше не надо. Я не привык, лучше мне сделать перерыв с алкоголем.
— Я заказал всего–навсего двести грамм. Уже за это любая официантка обзовёт нас рохлями. Юная официантка в белой мини–юбочке.
— Ещё слишком рано.
Но юная официантка уже стояла перед столиком, держа на подносике графинчик и две стопки.
— Тогда выпьем за герра Фенглера.
— За герра Фенглера, — кивнул Артём.
— И за фрау Карпову.
— О да, за нашу славную Галю.
Они выпили.
— Кстати, как её больной малыш?
— Правильно, забыл тебе передать — столик в «Дружбе народов» заказан на завтра.
Блейель улыбнулся.
— Прощальный ужин.
Артём сидел, откинувшись назад, и теребил волосы. Потом спросил:
— Ты правда хочешь ещё остаться?
— Я должен.
— Почему?
— Я же вот только теперь приехал.
— Думаешь?
Блейель ничего не ответил, улыбнулся ещё шире, подняв брови.
— А если она не ответит?
Улыбки улыбками, но в мозгу гостя зародилась мысль, что Артём может утаить от него ответ Ак Торгу. Это было в его силах. И он никак не сможет ему помешать.
— Ты потом не посмотришь, ответила она или нет?
— Если хочешь, можем пойти вместе в интернет–салон, прямо сейчас.
— Да, хочу.
— Матвей, прости, но ты бредишь.
— Да.
— Извини, я хотел сказать: ты бредишь, как ещё никто на моих глазах не бредил. Даже мой достопочтенный батюшка.
Блейель едва не хихикнул, но сдержался. Не хватало ещё подтверждать диагноз. Артём допил рюмку и оглядывал его, придирчиво и вопросительно.
— Пожалуй, я останусь твоим переводчиком. Надо же знать, что с тобой будет дальше.
— Очень рад. И, как я сказал…
— Ладно, ладно. Всё в свое время. Пойдём–ка в интернет.
— Я заплачу!
Интернет–салон оказался мрачным помещением с мраморным полом; после залитой солнцем улицы Весенней казалось, что они попали в склеп. При входе томился охранник в чёрной форме, внутри рассеялась горстка бледных студентов. Блейель поёжился.
Но она ответила! Очень благодарна за интерес, гостю из Германии — огромный привет, она будет рада увидеться. Следующее выступление у неё в понедельник, в Таштаголе.
— Везунчик!
Артём ткнул Блейеля локтём. Тот молча кивнул. Вспомнилась фрау Виндиш в приёмной Фенглера.
— Таштагол. Это далеко отсюда?
Артём просмотрел другие письма.
— Ну, это ещё в Кемеровской области. Стало быть, не дальше трёхсот километров. Это на самом юге, в Горной Шории.
— Горной Шории?
— Не спрашивай, почему, но мы говорим не «Шория», а «Горная Шория». Довольно холмистая местность, насколько мне известно.
Приглушённый стук мыши о пластиковую столешницу. Дальше, в глубине склепа, белобрысая студентка зашлась кашлем, суматошно махая руками. И, хотя Блейель, задумавшись, молчал, Артём буркнул:
— Ты прав. Срочно нужно пополнить знания о шорском народе. Но давай по порядку. Что ей ответить?
Два последующих дня Блейеля терзал понос, настолько сильный, что он вообще не выходил из гостиницы. Выбрался только раз — дрожа, добрёл до аптеки в соседнем доме и купил имодиум. К счастью, с аптекаршей удалось объясниться. Потом, дрожа, сразу юркнул в кровать, под одеяло — и тут же снова выскочил в туалет. Для начала он выпил сразу две таблетки.
Артём намеревался зайти после обеда, обещав сюрприз, и Блейелю не хватило силы возразить, что в таком состоянии он предпочитает остаться один. Снова и снова он проигрывал диск Ак Торгу на плейере, так удачно купленном накануне вечером. Он даже преодолел отвращение перед маленькими наушниками, которые, как беруши, вставлялись прямо в ушной проход.
Не всё на диске звучало так же, как на сцене. В некоторых песнях пения почти не было, долбили басы, булькала электроника — обычно Блейель такого не любил, но в соединении с горловым рокотом или призрачными, непривычными мелодиями он находил свою прелесть и в этом. Хотя Ак Торгу не могла что–то сделать не так по определению. С огромной радостью он нашёл песню, начинавшуюся с далёкого воя, номер одиннадцать, и прокрутил её много–много раз.
Он её увидит, и он знал, когда!
Таштагол. Новые слова, пока в основном географические названия. Подъяково, Томская писаница, Таштагол. Горная Шория.
Ак Торгу.
Привьет! Менья зовут Матвей Карлович Блейель.
Пружинистый, гипнотический ритм её лютни. Обволакивающий, низкий, непонятно из каких глубин раздающийся рык — и полёт на грудном голосе, чистом, как небо над наскальными рисунками и куклами духов в сосновом бору. Тело Блейеля, больное и слабое, в гостиничной постели. Но мерзким картинам до него не добраться. Музыка защищала его. Он спокойно закрыл глаза. Пока его снова не скрутила сверлящая боль в животе.
— Чем ты тут занимаешься, Матвей?
Он неожиданно очутился в комнате, Блейель и не помнил, что впускал его. Но он и не помнил, когда надел брюки, а ведь он был одет.
— Артём, я…
— Нет, ложись, ложись. Сделать тебе чаю? Я ненадолго, хотел только занести тебе уроки.
— Чего?
Артём положил на тумбочку несколько листков и вышел в прихожую, где напротив гардероба, рядом с дверью в ванную, стоял столик с чайником. Блейель присел на краешек кровати. Уроки.
— Я заходил в библиотеку, подумал, а вдруг пригодится.
За неимением чашки Артём заварил пакетик чая в полоскательном стакане и тут же убежал. Блейель расслабился. Вставил наушники в уши, взял бумаги. Чёрные чернила, чёткий почерк. «Краеведение: шорцы».
Он узнал, что существует девять небес, познакомился с братьями Ульгенем и Эрликом. Ульгень, добрый брат, восседал на троне на девятом небе, Эрлик царствовал в Нижнем мире, царстве злых духов. Средний мир они создали вместе: солнце, луну и звёзды, плоскую землю и реки сделал Ульгень, Эрлик добавил горы. Ульгень сотворил животных, а человека они делали вдвоём. Ульгень сделал тело, но только Эрлику удалось вдохнуть в него душу. Это имело определенные последствия. Когда человек умирал, шаман выгонял душу, отделённую от тела, из дома, ведь в течение семи дней она могла стать узют, духом, стремившимся захватить власть над живым человеком, вместо того, чтобы тихо уйти в Нижний мир.
Со времён детской книги «Мифы античного мира» Блейель не касался мифологии. Германские мотивы в некоторых текстах, слышанные во время увлечения металлом, не в счёт, думал он. А теперь — духи и небеса, под музыку Ак Торгу. Вот только кишечные конвульсии всё портят. Чужой новый мир.
Он вышел из туалета, решил, что проглотит третью таблетку чуть попозже, и стал читать дальше. Познакомился с Великой Волчицей, прародительницей шорского народа — и не только шорского, но вообще всех тюркских народов. Сколько неизвестного в мире, подумал он. Шорцы — тюркский народ. А тюркские народы, оказывается, родом из Сибири. Он вспомнил знакомых турок, балагура–зеленщика с Кёнигсштрассе, фрау Акьюн из вычислительного отдела (Акьюн, может быть, тоже означает что–то белое?), герра Кемала, директора швейного предприятия в Анкаре, с которым он всегда общался по телефону по–английски, и который всякий раз в конце разговора угощал его немецкой пословицей «Jedem Tierchen sein Plaisirchen[14]».
Шорский народ насчитывал почти четырнадцать тысяч душ. Каждый пятисоттысячный человек на земле, соответственно, шорец, подсчитал Блейель и улыбнулся от мысли, что, следовательно, по меньшей мере один шорец должен обретаться в Штутгарте — при условии, что этнос распределён по планете равномерно. Но никакой равномерности не было и в помине, шорцы обитали исключительно на территории Кемеровской области. Только несколько семей проживали по соседству, в Хакасии и на Алтае. Издревле они вели кочевой образ жизни, как охотники и скотоводы, и со времён средневековья славились кузнечным ремеслом.
Он допил чай и взял в руку последний листок, озаглавленный «Музыка». Артём написал здесь немного. «Двухструнная лютня называется кай–комус». И ещё: «каждый шаман должен заработать себе бубен. Шаман без бубна никуда не годится. Первый бубен, по преданию, смастерил Эрлик».
Блейель посмотрел на часы. Полдесятого вечера. Праздничный стол в ресторане «Дружба народов». Боярский зал. Он так и видел перед собой Галину Карпову и её сотрудниц, видел Артёма. Он заполнял пустующее место за столом, невероятно искусно изображая угловатого заику Матиаса Блейеля. Первоначальное возмущение дам от такого бесстыдства за несколько секунд сменилось слезами от смеха. И это правильно, с удовлетворением подумал больной. В наушниках Ак Торгу начала под громовой бубен песню, казавшуюся ему особенно необычной. Здесь она пела и не грудным голосом, и не горловым пением, а ненормально, визгливо, резко. Может быть, это была песня–насмешка.
Медикамент действовал нехотя, может быть, потому, что он нехотя его принимал. Ему казалось, что понос очистит его внутренне, и очищение было ему необходимо, ведь как иначе он сможет стать новым Блейелем? Ночью он вставал в туалет раз шесть, шаманский бубен и эхо насмешливой песни Ак Торгу сопровождали его.
Назавтра он пошёл на поправку. Вечером он нагишом стоял перед зеркалом в ванной и разглядывал своё сорокадвухлетнее лицо. Жизнь почти не оставила на нём следов, подумал он. Кожа потеряла упругость, но ненамного, волосы чуть поредели. Что ещё? Щетина, как и прежде, не очень выраженная, и седых волос немного. Матиас Блейель, почти неисписанный лист. Он побрился.
А потом, прежде чем одеться в свежее, он застыл перед зеркалом и вспомнил, что ему сказала Илька, ещё в самом начале: «Если бы ты не был Матиасом, ты стал бы медведем–плясуном». Каким таким плясуном, спросил Блейель, и она рассмеялась: а я‑то откуда знаю, это одному богу известно. Но из тебя вышел бы милый и задумчивый, и, пожалуй, довольно чистоплотный медведь–плясун.
Соберись, пробормотал он сам себе.
— Сюрприз: мы не просто так поедем в Таштагол. Мы отправимся в настоящий поход, на все выходные. Но для этого тебе понадобятся резиновые сапоги.
Театральная пауза переводчика; на этот раз Блейель сопроводил её спокойной улыбкой.
— Однако, резиновые сапоги — товар сезонный. А теперь не сезон. Но ты не паникуй. Я навёл справки и знаю, где их можно купить.
Автобус, который, по утверждению Артёма, назывался не «афтобус», как сообщал разговорник Блейеля, а «маршрутка», привёз их на край города. Да какой там край города — там, где они вышли, невозможно было и предположить, что они находились вблизи человеческого поселения; местность больше напоминала загаженный лес по краям автомагистрали. Они двинулись по тропке, извивающейся в зарослях между двумя шоссе. Небо обложили тучи, испарения скрытого от глаз химического завода раздражали слизистые оболочки гостя.
— Если нам тут кто–нибудь встретится, — предостерёг его Артём, — будь так добр, не заговаривай ни с кем.
— Ясно. Решил предложить мне контрастную программу, потому что мне ваш город действительно нравится, и тебя это злит.
— С чего ты взял?
— Так уж. Кстати, уроки я выполнил.
— Молодец. Учительница краеведения фрау Торгу будет очень довольна Матвеем Карловичем, новичком в её классе.
— Девять небес, недурно.
— Ну да, я нашёл ещё одну версию, по которой их шестнадцать. Но решил тебя не переутомлять.
Блейель, который этим утром впервые доел за завтраком всё и измучил сутулую повариху настойчивым повторением мантры из слов «вкусна — зафтрак — хорошо — атлична», чувствовал себя настолько сильным, что пошёл впереди. Он отогнул колючую ветку, преграждавшую путь, и держал её, пока Артём не прошёл. По шоссе прогромыхала колонна грузовиков.
— Ты знаешь, не представляю, как в этой местности могли остаться духи.
— Здесь их и нет, гарантирую. Если они и остались, то где–то в далёкой глуши. Но в резиновых сапогах ты наверняка до них доберёшься. Нам сейчас вон туда.
Они пересекли дорогу, над которой ещё клубилась пыль от грузовиков, и вошли в открытые решетчатые ворота. Под ногами захрустел гравий, они направились между невысокими ангарами. Под жестяными навесами громоздился металлолом, хмурые мужики в маскировочной одежде стояли у своих грузовиков и автопогрузчиков. Артём обратился к одному из них, который стоял с банкой пива и, наверное, поэтому производил более мирное впечатление, и выторговал усталый взмах в направлении вторых ворот. Около них стояла сторожка. Блейель поглядел в лицо вооруженного охранника в пятнистой униформе и неохотно опустил взгляд.
Они вошли в небольшой зал, полный рабочей одежды, и оказались единственными посетителями. На стенах висело тяжёлое шахтёрское обмундирование — дождевики, шлемы, защитные перчатки, на полках аккуратно разложены канаты, кошки и фонарики. Бледная девица отделилась от прилавка, утомлённым голосом обратившись к посетителям. Артём указал на ноги Блейеля.
— I need gumboots,[15] — поспешил пояснить гость.
Девица бросила на него неодобрительный взгляд, и Артём потащил его к двум пластмассовым контейнерам в дальней части зала, доверху заполненными чёрными резиновыми сапогами. Они долго копались, пока не подобрали три пары нужного размера. Ни одна из них не сидела как надо.
— Это ничего, — воскликнул Блейель, которого тронуло детское воспоминание о том, как в резиновых сапогах всегда сползают носки. Они подошли к кассе, расплатились, но всё оказалось не так просто. Другая продавщица отправила девицу с чеком наверх, в офис.
— Нужна ещё подпись шефа, — пояснил Артём.
— О нет.
Блейель нагнулся над прилавком, за которым продавщица, занявшись компьютером, повернулась к нему спиной.
— Listen, sorry, but I don't understand. What is happening here? I mean, it's only a pair of gumboots.[16]
— Матвей!
— This is exaggerated, isn’t it? You don't need to make such a…[17]
— Матвей, будь так добр, не взвивайся так. Не узнаю тебя.
— Но ведь не может такого быть, чтобы из–за резиновых сапог…
— Может.
— No, no. This is ridiculous, it's a waste of…[18]
— Да прекрати же, наконец!
Женщина за прилавком и не пошевелилась. Блейель фыркнул, отвернулся и пошёл гулять между полок, пока не вернулась девица.
Снаружи охранник с автоматом жестом подозвал их к себе. Он тщательно изучил сначала сапоги, затем документ, подтверждавший законное их приобретение. Пригвоздив Блейеля ледяным взглядом, отвернулся.
Когда они отошли, Артём взорвался.
— Ты видел? Может, он тебе кажется потешным, но у него пушка. Хочешь быть всезнайкой — ради бога, я достаточно долго прожил с немцами. Но пока ты здесь, будь так любезен и предоставь мне решать, когда можно пошутить, а когда не стоит.
— Да ты меня просто запугиваешь.
— Блейель, я не понимаю, что с тобой творится.
Его кольнуло, что Артём назвал его Блейелем. Но молодой человек был прав: нужно выяснить, что с ним творится.
Его переполняла дикая радость, вот что. Такого душевного подъёма он ещё не испытывал. Ему казалось, что он находится под особенной защитой. Как будто он мог делать всё, что угодно, до него никто и ничто не сможет добраться. Матиас, медведь–плясун. Однако в маршрутке он сидел смирно.
В городе он купил огромный букет лилий и понёс его в офис каталог–сервиса. Пакет с сапогами взял Артём. Через окно они увидели, что внутри работа кипит. Соня и Люба наклонились над картонными коробками. Только что приехали заказы. Галина Карпова тоже была здесь, одетая в бледно–розовую блузу из органзы — она стояла у стены, подпершись левой рукой, и руководила размещением товара.
— Матвей Карлович! — Широко улыбнулась она и влепила ему поцелуи в обе щеки.
— Фрау Карпова… Галина… Я зашёл попрощаться. В среду я не смог… и ещё раз от всего сердца поблагодарить за вашу… за твою щедрость. И за гостеприимство.
Глазами он поискал Наталью, но не нашёл.
— Эти лилии, — заверила Галин Карпова, — самые прекрасные цветы из всех, что ей когда–либо дарили.
— Ах, — мурлыкнул Блейель, — а эта поездка — самая чудесная из всех, что когда–либо дарили мне.
Артём позволил себе сдержанно хохотнуть.
Шефиня отправила Любу в кладовую за шоколадом, но Блейель попросил ещё минуточку всех оставаться на месте. И вытащил фотоаппарат.
— Для герра Фенглера, если позволите.
Галина, улыбаясь, позировала сначала с обеими сотрудницами, а со снимка номер четыре и с Артёмом, перед коробками, на которых красовался огромный знак посылторга.
— Чемпион мира по экспорту щёлкает доказательства, — перевёл Артём негромкую реплику сестры.
Когда перешли к чаю с шоколадкой, Блейель всё повторял, что Кемерово — город, исполненный красоты и сердечности (только к количеству вооружённых охранников нужно ещё привыкнуть), пока переводчику не пришлось сказать ему: «Ты, похоже, не успокоишься, пока не сделаешься почётным гражданином города» — по–немецки и по–русски. Галина заругалась, что не потерпит наглостей в отношении гостя, но Блейель, широко ухмыляясь, похлопал Артёма по плечу.
Смеркалось, и деревушки — группки деревянных лачужек с голубыми ставнями — всё призрачнее проносились за дрожащим стеклом. Потом снова бледная серость полей и лугов, растрёпанная чернота деревьев. Рядом с Блейелем сидела Соня, с пластиковым стаканчиком в руке, где колыхалась лужица красного вина из картонной упаковки. Она склонилась на плечо брата и уснула, хотя группа туристов горланила одну песню за другой. Артём сказал, что все песни без исключения — из советских мультфильмов. Вино и стаканчики принесла руководительница похода, жилистая сорокалетняя дама с хвостом рыжих волос, Светлана, все называли её Света. Она вошла уже за городом, и в её честь водитель Олег, великан с зубами, похожими на клавиши рояля, живенько вылил ведро воды на пыльный пол микроавтобуса с семнадцатью посадочными местами.
Блейель был рад, что все пели — никто не требовал от него подпевать. До этого настроение ему подпортила игра–знакомство: все по очереди повторяли имена всех присутствующих, присовокупляя определение на ту же букву, что и имя. К концу Блейель не понимал почти ничего. И определения, и имена ему суфлировал Артём, и после продолжительных раздумий Блейель представил себя как «Матиаса мобильного».
Кроме водителя, они с Артёмом были единственными мужчинами в группе. Похоже, что в походы в Сибири ходили только розовые, молодые, болтливые девушки. Сбор был в пятницу вечером, перед изъязвлённым панельным домом, вывеска над первым этажом гласила «Городской клуб туристов», Блейель гордо прочёл её сам. «Туристы — у нас это те, кто ходит в походы с рюкзаком», — пояснил Артём. Он одолжил Блейелю выцветший рюкзак. А экскурсия, организованная клубом на этих выходных, называлась «Легенды Шории».
Окно задрожало ещё сильнее, кузов закряхтел и задергался — они явно проезжали незаасфальтированный участок. В следующую секунду автобус сильно тряхнуло, пассажирки взвизгнули, и девушка с коричневыми кудряшками (Наташка–неваляшка, если Блейель не ошибался) полетела с высокого заднего сиденья на пол. Гунн за рулём воскликнул что–то громовым голосом, ответом ему было единогласное «ура!».
— Он поздравил с первой достойной внимания колдобиной на дороге, — перевёл Артём.
С самого отъезда водитель поздравлял пассажиров каждые несколько минут — в том числе упомянув завод «Даймлер Бенц», где этот автобус был изготовлен несколько десятилетий назад, тут Блейель, как житель Штутгарта[19], тоже получил персональное «ура». После второго стакана вина его стали вместо Матвея называть «Мотя». Артём уверил его, что никакой ошибки в этом нет; он и сам теперь Тёма. Вопли после колдобины плавно перешли в следующий мультяшный гимн.
— Песня бременских музыкантов, — сказал Тёма, — ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету.
— Везде есть что–то лучше смерти, — ответил Блейель.
Соня тщательно промокнула салфеткой пролитую сивуху со свитера и заговорила. В своей спокойной манере, настолько тихо, что приходилось решать, слушаешь её или нет. Смотрела она мимо Блейеля, в тёмное окно, но обращалась именно к нему. Артём пригнулся и начал переводить. Вокруг всё пели про бременских музыкантов. Дорога снова выровнялась.
— Братец говорит, что ты заинтересовался не только загадочной Ак Торгу, но и здешними духами. Если хочешь, расскажу тебе то немногое, что сама про них знаю.
Времени на ответ Артём не дал.
— Есть духи добрые и злые. Те, которые живут в Среднем мире, например, хозяева гор, лесов, рек, как правило, относятся к человеку хорошо. Конечно, если их разозлить, то они накажут. Некоторые раздражительны, другие добродушные. Но если с ними не считаться, им всем это не нравится. Такие духи — такая же часть окружающего мира, как душа в теле, они появляются вместе с местом, где потом живут. Совсем другие — айна, духи Нижнего мира, и узют, которые перемещаются между Нижним и Средним миром. Новичку сложно разобраться с разными духами. А ошибки могут быть смертельными.
— Тогда на помощь придёт шаман, — перебил новичок.
— Или шаманка. Узют — это покойники в течение первых сорока дней после смерти. Чтобы не превратиться в айна, они пытаются войти в тело живого человека. Пока им это не удалось, они невидимы, но можно заметить их присутствие по ветерку или вихрю. Пока они не прокрались в дом, они летают в лесу или по краю поля.
В этом месте раздались аплодисменты, вероятно, знаменовавшие окончание хорового часа. Потом по сторонам зашуршала бумага из–под припасов.
— Айна тоже могут проникать в Средний мир. Они стремятся похитить человеческую душу и унести её с собой в Нижний мир. Ночью они особенно опасны. Когда ты спишь, душа вылетает из ноздри и летает вокруг. Лёгкая добыча. Если держать перед носом спящего уголёк, душа не может вернуться обратно.
Она замолчала и нагнулась за белым пакетом. Потом прибавила:
— Очень опасно спать во время заката. В это время духи особенно активны.
Она поставила пакет себе на колени.
— Тёма!
— Что, Мотя?
— Ты не всё перевёл, она ещё что–то сказала.
Артём вздохнул.
— Вижу, тебе неведома жалость. Ладно. Она принесла извинения за младшего братца, заносчивого болвана, которые предпочёл бессистемно профукать полдня в библиотеке вместо того, чтобы сначала спросить у неё.
— О-па.
Блейель не мог поверить, что Соня старше Артёма.
— А откуда она так хорошо знает про…
Он осёкся, брат с сестрой занялись кульком, и вместо айна, узют и разницы в возрасте на свет явились серый хлеб, копчёный сыр, огурцы и помидоры.
Поездка длилась ещё долго, и Блейель много и сладко дремал. Иногда они останавливались — на заправках, у замызганных придорожных кафе, за ними неизменно виднелась уборная, выкрашенная в яркий цвет. Неизменно все женщины предпочитали удалиться в кусты. А Блейель не выходил их автобуса. Только один раз он покинул своё место, когда народ, показывая пальцем в воздух, закричал: «Спутник, спутник!». Он отошёл от киоска, встал на заросший травой деревянный мосток над гремучим ручьём и поглядел на небо — черноты там почти не оставалось, из–за невообразимого количества звёзд и спутников.
— Ак Торгу, — прошептал Блейель и, закинув голову назад, застыл и смотрел на космическое мерцание до тех пор, пока не увидел в небе черты её лица.
В автобусе у него так разболелась шея, что он не мог откинуться на спинку кресла. Налево тоже никак, слишком дребезжало стекло. Справа Соня уснула на плече Артёма, тот склонился к ней головой. Блейель покрутился, попробовал и так и сяк, но пришёл к выводу, что другой альтернативы, как в свою очередь прилечь к Соне на плечо, у него нет. Из её глотки вырвался звук, похожий на протест, но тут же затих.
Он закрыл глаза и вернулся к духам, подумал об угольке под носом и порхающей душе. Но солнце давно уже село. Как могло такое благозвучное слово, как «айна», означать что–то злое? Точно так же, как «Ак Торгу» означало «Белый Шёлк».
Снова раздалось «ура» — пересекли границу Горной Шории. Дорога шла в гору среди густого леса. Пришлось остановиться во мраке, потому что девушка, упавшая на первом ухабе с сиденья, переусердствовала с алкоголем.
Глубокой ночью автобус встал на заасфальтированном холме. Наверху мерцала бетонная коробка голубовато–зелёного цвета, вокруг деревянные бараки. Квартира в доме, сложенном из толстых брёвен, две комнаты на первом этаже, выложенные матрасами.
— Не желаешь снять штаны? — спросил Артём с соседнего матраса, но Блейель притворился, что уснул, только прикоснувшись к подушке. Он снял только свитер и носки. На самом деле он уснул, только когда начало светать. Когда в десять утра все толкались у стола, он едва прикоснулся к тарелке, раздумывая о двух Матиасах Блейелях. Один высовывался из окна автобуса в ночь и шептал другому, стоящему в лесу: «En suite, en suite, en suite»[20]. Откуда взялось это слово? Было ли этому объяснение, вероятно, такое же дурацкое, как у сна про Людвига Карпорта? И кто из двух Блейелей настоящий? Тот, что был в лесу, послушал шёпот из автобуса и ответил: «спорим, я быстрее?».
Из Шерегеша, находящегося в долине, подъёмник доставил группу в горы Мустаг. Под ногами Блейеля полосы тумана стелились над отцветшими стеблистыми травами и кустами, над папоротниками и скрюченными кедрами, а сбоку над склоном возвышались высокие тёмные деревья. Артём наконец–то оставил попытки раскачать кресло.
— Видел внизу табличку? Влезать запрещено.
— Как бы я это понял?
— Это стояло на твоём родном языке.
— По-…
— Немецки, да.
По–немецки. Целый подъёмник, откуда–нибудь из Альгау, развинтили, привезли в Сибирь и снова собрали, вместе с запретительной табличкой. Тут затрепетало бы сердце любого логистика. Но только не теперь. Столкнуться с родиной в такой момент, всё равно как если бы из кресла перед ними ему помахал бы коллега Томас Хюнинг. Он сбежал, но его догнали. Именно здесь. Как тяжко. Ведь русские сами производят всё что угодно, так зачем было устанавливать здесь немецкий подъёмник?
— Забавно, правда? А ты что–то примолк.
Артём был прав. Это забавно, не более того. Нечего так сгущать краски. В качестве противоядия он вдохнул прохладного воздуха, поглядел на свои ноги и на сочную влажную зелень. Из переднего кресла, где Соня сидела со Светой, инструктором, до них донеслось несколько тактов песни. Блейель узнал мелодию, это её Соня напевала в БМВ герра Карпова. Но снова её расспрашивать он не собирался.
На вершине горы туман сгустился, и через несколько метров от станции подъёмника горный луг поднимался почти в человеческий рост.
— Покажи тайге новые сапоги, — сказал Артём, и на этот раз Блейель засмеялся вместе с ним и вытащил из рюкзака чёрные сапоги, от которых несло резиной. Несколько девушек устремилось во влажную траву, в кроссовках и шортах. Пронзительным голосом Света призвала всех к бдительности, сообщила, что по профессии она врач, подняла крошечный рюкзачок из вишнёвого дерматина и заверила, что там находится всё, что потребуется в экстренной ситуации.
Сначала тропа вела под горку, с лёгкими спусками и подъёмами, и была такой узкой, что они шли гуськом. Впервые Блейель задумался о своей физической подготовке. Если честно, он не очень много ходил пешком. Бывало, они с Илькой устраивали эпизодические пробежки, но это давно быльём поросло. С тех пор он не ходил дальше, чем от вокзала до работы.
Ну и пусть. Это его первые шаги на шорской земле, и если даже тело его рухнет и не сдвинется, то дальше понесёт душа, полная восхищения.
Он шёл в середине группы. Когда барышня в коротком трико и зелёной олимпийке с надписью «Gas» перед ним погружала нос в цветок, он останавливался на почтительном расстоянии и неопределённо улыбался. Деревья росли всё гуще, трава стала пониже, тропа удобнее. Новичок поотстал.
Тайга, думал он. Тоже большое слово. Артём сказал, что по–русски ударение ставится на последнем слоге[21]. Когда он впервые по–настоящему услышал это слово? Наверное, лет в двенадцать. Довольно рано для того, что находилось в нескольких тысячах километров за железным занавесом, чего, вероятно, никогда не увидишь.
И вот он здесь.
В тайге.
«Ночи таёжной любви».
Нет, нет, только не это! И почему он вспомнил название этой бульварной книжонки? Он её вообще читал? Может быть, лет в двенадцать. Как сопроводительную литературу к первым настоящим эрекциям. Его родной язык. Нет, вон отсюда! Вон из головы.
Тайга.
Прохладный воздух, явь.
Туман рассеялся, то тут, то там между стволов лежали валуны. Самый огромный камень, оплетённый корнями двух сросшихся сосен, был весь испещрён надписями. Барышни по очереди позировали перед камнем. Но Артём надписи переводить не стал, а пересказал небольшой доклад, который Света прочла, пока Блейель предавался размышлениям.
— Горы Мустаг — бассейн раки Мундыбаш. Мы пойдём вверх по её притокам. Наша цель — скала Верблюды и гора Курган.
Новые слова. Шерегеш, Мустаг, Мундыбаш.
— Она ещё добавила, что горы хоть и не очень высокие, но нельзя их недооценивать. Несколько недель назад вышла группа, было плюс тридцать и безоблачно, а наверху, у Верблюдов, их замело пургой. Шестеро замёрзли насмерть.
— У неё же в рюкзаке всё, что понадобится в экстремальной ситуации.
— Блейель, ты шутишь не хуже русского.
— Это ещё что такое? С чего это ты вдруг называешь меня Блейелем, Че… Черым…
— Черемных.
— Точно. Чёрт подери.
— Ладно, ладно. Значит, ты не хочешь, чтобы я называл тебя Блейелем?
— Здесь я никакой не Блейель.
— Вот как? Я и не знал.
— Как это не знал, сам сказал, что ты теперь Тёма.
— Ясно. Извини. Мне просто казалось, именно в последнее время, что Блейель очень к тебе подходит. Ну, ничего. Я обратно отвыкну.
Дорога пошла наверх, резиновые сапоги и кроссовки чавкали в болоте, рядом слышался плеск воды, но ручей не показывался. Туман то сгущался, то расплывался, иногда пробивалось солнце, и тогда трава сверкала, хвойные деревья сияли медью, а берёзы золотом.
Сибирь. Горная Шория. Родина.
Мир, в котором испокон веку жили предки Ак Торгу. Они бродили и селились здесь, в дремучих дебрях. Проложили тропы и дали названия горам и рекам. Здесь они охотились, готовили пищу и шили, пели, играли на двухструнной лютне и мастерили шаманские бубны. Праздновали лето, противились суровой зиме и не сбивались с пути в тумане. Рассказывали шорские анекдоты и проводили любовные ночи. Рожали детей и хоронили мёртвых. И добывали руду, иначе не стали бы легендарными кузнецами.
Тайга. Дикая глушь. Здесь начинается бескрайность, возбуждённо подумал Блейель, а ещё чуть подальше — может быть, там вообще ничего не разведано. То, что не планирует ни один логистик. То, до чего не добралась ни государственная, ни советская власть.
— Гляди–ка, Мотя, дух.
Он вздрогнул — он и не заметил, что Артём подобрался к нему так близко. Переводчик указывал на ствол кедра, с которого смотрело вырезанное продолговатое лицо со строго растянутым ртом. Соня подошла к ним, на запястье у неё болтался фотоаппарат, и объяснила, что такие личины — это духи, приносящие удачу охотникам. Блейель подошёл поближе, вытянул руку, но всё–таки не дотронулся до коры, а поглядел на другие деревья, искорёженные, растрёпанные, поднимавшиеся из папоротников в светящемся тумане. Каждое дерево походило на духа. Призрачные берёзы, демонические кедры. Я здесь, прошептал он, не обращайте на меня внимания. Брат с сестрой двинулись дальше. Когда туман и растительность почти поглотили группу, он, наконец, оторвался и потопал следом.
Ручей плясал по руслу из тёмных обточенных камней, и Блейель почувствовал, что угодил в лес из сказки. Замшелая извивающаяся тропинка, чащоба вокруг, одушевлённые силуэты деревьев, которые, как ему казалось, каждую секунду могли очнуться из оцепенения. Огромные, увешанные каплями паутины, муравьиные кучи. Там и сям из тёмно–зелёных трав и папоротников выглядывали цветы — ярко–жёлтые и розовые. И по тысяче ступеням журчала вода. Но только новичку удалось отключить щебет группы, полностью раствориться в зачарованном пейзаже, как кулисы резко переменились.
Лес уступил место огромной каменной пустыне. Не просто камни — некоторые из них были величиной с автомобиль. Ребристые, усеянные светлым лишайником, в бледном свете они светились почти флуоресцирующим жёлтым цветом.
— Эти камни называются курумы, а причиной являются землетрясения, — крикнул, обернувшись и покачиваясь на валуне, Артём. Блейель увидел, как работают мышцы в розовых, до колен обрызганных грязью, ногах девушек, взбиравшихся по каменюгам, и подумал, что для шести трупов никакой пурги не понадобится. Воздух здесь был суше, чем внизу, в лесу. И в резиновых сапогах на курумах делать было явно нечего. Он поискал уплощённый камень, переобулся и смирился с мыслью, что почти совсем новые ботинки не переживут этого мероприятия в приличном виде. Каменистый путь, подумал он, и у него отлегло от сердца. Без страховки и двойного дна, добавил он и так размашисто закинул за плечо рюкзак, что чуть не потерял равновесие. С благодарностью он оглянулся на кедрачи, окаймлявшие каменное поле, как чёрный зазубренный забор.
Футболка липла к телу, куртку он запихал в рюкзак, свитер завязал на талии. Карабкаясь с камня на камень, он пыхтел и негромко повторял новые слова, «курумы» и географические названия. Он остался в хвосте. Пот заливал глаза. Нет, он не искушённый турист, но мог бы им стать. Ему недоставало опыта и тренировки, зато он преклонялся перед тайгой.
Когда он снова поднял глаза, то увидел, намного ближе, ряд скалистых башен, устремлённых в молочное небо, заросших у подножия папоротником и кустарниками. Руины крепости циклопов. Или профиль спящего дракона, так ему показалось.
— Это Верблюды, — сказал Артём. А девушки то и дело голосили «красииивый!». Высоко над ними кружило несколько больших чёрных птиц, и он подумал: большие чёрные птицы на поверку почти всегда оказываются обыкновенным вороньём. У всякой пташки свои замашки. К башням они не пошли, а держались к западу, пока не показалась плоская вершина. Гора Курган. Её венчал чудовищный крест, он блестел, словно обёрнутый фольгой. Концы его расходились множеством острых шипов, как будто его нарочно сделали для того, чтобы громить каменным зверюгам по соседству черепа.
— Священное место шорцев, уже много веков. Достаточная причина для нашей богоугодной церкви, чтобы в двухтысячном году воздвигнуть здесь это чудо света.
Блейель молча кивнул. На этот раз он был целиком согласен с формулировкой Артёма. Но и оторвать взгляд от воинственного знака веры не мог.
— Этот огурец хоть и не похож на тело господа, но можешь отрезать себе кусочек, — вернул его к действительности волосатик.
Жуя, они переместились на солнечную сторону Кургана.
— Подыграла бы нам погодка, увидели бы сейчас Алтай. А так придётся удовлетвориться вот этим зрелищем.
Не поворачивая головы, он махнул левой рукой назад. Блейель обернулся и увидел, как несколько девушек во главе со Светой забрались на бетонное основание креста, чтобы прикоснуться к нему и поцеловать. Две, нет, три из них сбросили майки и предавались религиозному пылу в купальных лифчиках.
— Наша Russia, — сказал Артём, и Блейель про себя добавил: в таком виде — намного непонятней, чем Горная Шория.
На обратном пути по курумам не пошли, а спустились западнее, где острые камни поросли травой и молодым кедрачом. Блейель, всё ещё неумело обращавшийся с фотоаппаратом, запечатлел Верблюдов против солнца и обрадовался, услышав журчание истоков Мундыбаша, словно вернулся домой.
Снова в волшебном лесу. И вдруг песня Ак Торгу зазвучала у него в ушах, так чётко, словно через наушники. Нет, даже ещё чётче, словно певица сама поселилась у него в голове. Угрюмая песня, начинавшаяся с отдалённого воя. И первые строки он прошептал вместе с ней, хотя и не понимал ни слова:
«Чагыс ак порю — мен
Мен ордам тум чышта».
Вот так. Если бы только девушки не хохотали так громко! Почему он не один, среди воды, деревьев, тумана, с её голосом в голове, вот чего он хотел. Остаться наедине с таёжными лицами.
Он снова увидел такое лицо. Лицо на стволе дерева. Грубое, продолговатое. Он отошёл в сторону, пропустил мимо двух хихикающих девушек и остался последним. Держась за дерево, поставил правую ногу в куст папоротника у тропинки, подтянул левую — и тут же промочил ноги. Он забыл надеть резиновые сапоги. Прощайте, новые ботинки. Он беззвучно рассмеялся, а Ак Торгу перешла с горлового пения на грудное. Всё дальше в гущу зелени; тропа без камней. Второе лицо на дереве. Более округлое, чем первое, с мрачно опущенным ртом. «Я пришёл, чтобы поклониться вам», — пролепетал гость, опустил голову и поковылял дальше, через высокую, выше колен, пряную болотную траву.
Краем глаза он заметил что–то — может быть, ветер шевельнул ветку. Он повернул голову и увидел третье дерево — огромную лиственницу, лицо в коре почти заросло, но, стоило его заметить, как оно стало свирепым. Чтобы добраться до него, он перебрался через гниющий скелет упавшего дерева. Торопливо сделал три шага, но ноги его не нашли опоры в траве. Он провалился по колено.
И всё. Он не мог сдвинуться с места, как ни пытался. Он попробовал двинуться назад и чуть не потерял равновесие. Закрался страх, но удивление, что мягкая земля вцепилась в него с такой силой, было сильнее. Он увяз. И чувствовал, как земля под ногами подаётся дальше. Она поползла по коленным чашечкам, всё выше и выше.
Скорей схватиться за что–нибудь! Он закинул руку назад, но древесный скелет остался слишком далеко. Единственное, за что ему удалось уцепиться — высокий стебель какого–то растения с большими пожухшими листьями, похожими на лодки. Стебель согнулся, но не оборвался. Блейель вцепился в него обеими руками.
А теперь?
Нужно как–то выбираться. Лечь, распластаться, искать другую поддержку, не выпуская из рук растение с листьями–лодками.
Но это он только подумал, а сам и не пошевелился. Держась за растение, замер. Болото леденило и хотело его засосать. И он увязал всё глубже, медленно–медленно.
Но в лицо ему светило солнце. Причмокивал ил, шелестели листья, вдалеке журчал ручей, пели птицы — других звуков не было, тишина и покой. И Ак Торгу снова запела свою песню.
Я здесь, чтобы поклониться вам, подумал он. Может быть, я шёл именно сюда. Может быть, так предначертано судьбой. Земля шоров встретит и примет меня. Вот я. Я стану тайгой.
Но он же так хотел снова увидеть её!
Разве ты не видишь её, дурачок из Бадской Сибири?
Он слышал её так отчётливо, как никогда раньше. И он запел с ней, в полный голос, спел третью и четвёртую строки:
«Мен чозагым кыдазын
Шим, кельбегле кошта».
Она была с ним, стоило только закрыть глаза. И холода в ногах он больше не ощущал. Почти.
Вот оно, предназначение. Он достиг цели. Глубоко вдохнул пряный, прохладный воздух. И отпустил стебель.
Спорим, я быстрее?
Кто же это сказал и кому?
— Какое счастье, что ты поёшь, иначе мы бы тебя никогда в жизни не нашли. Хотя можно было бы и просто позвать на помощь. Эй? Нет, только не шевелись, держись, просто держись. Не двигайся! Кто знает, что это за болото. Матвей, ну что ты наделал? В другой раз не отходи так далеко, за дерево зайдешь — и хорош. Нечего скромничать, это может кончиться печально. Ах, да что я всё болтаю и болтаю. К сожалению, со мной всегда так: чуть переволнуюсь, начинаю трещать и не остановлюсь. Если не волнуюсь, то, в принципе, тоже. Вечно одно и то же. Да что я тебе рассказываю, мы уже друг друга знаем. С другой стороны, а что мы, собственно, знаем? К примеру, я никогда бы не подумал, что ты можешь поступить настолько глупо — свернуть с тропинки в таком глухом месте. Знал бы, нипочём не дал бы тебе свой рюкзак. Горе луковое. Это моё любимое слово по–немецки, если тебе интересно. Тебе интересно? Подумай, прежде чем ответить. Горе ты луковое! Кстати, можешь уже перестать петь. Мы здесь, мы здесь, и мы тебя вытащим. Эй, ты слышишь? Прекрати. Ну пожалуйста. Да что ты там вообще поёшь? Ах нет, прекрати, только не отпускайся!
А ведь он сам уже держал завязшего за руки, да так крепко, что у того онемели пальцы.
— Песню бременских музыкантов, — безмятежно ответил Блейель. Ак Торгу замолкла, только он открыл глаза.
Артём стоял на коленях на кучке валежника, за ним Света и Соня присели на менее зыбкой почве и держали спасателя за ремень брюк слева и справа. Он всё тарахтел, а они рассерженно галдели, а может, командовали. Блейель дрожал всем телом, а в остальном вёл себя тихо, ведь ему велели не двигаться. Артём выкрикнул что–то по–русски, прянул вперёд и перехватил его подмышками, женщины дернули их назад, и болото отпустило Блейеля на волю. Он шлёпнулся на своего переводчика.
— Я пошёл за личинами на деревьях. Охотники…
— Вставай, пойдём. Обопрись на меня. Я всё равно весь вымазался.
Света взяла Блейеля под другую руку. Артём не стал переводить её тираду по пути к ручью. Соня шла впереди, иногда оборачивалась и фотографировала.
— Славный рюкзак наших непобедимых войск. Сохранил твои сапоги в сухости и после болотного крещения. Ага, а вот и чистый свитер.
Сияло солнце. Света развела костёр на опушке у ручья, группа ходила вокруг огня, некоторые девушки крестились. Артём сидел на берегу полуголый, Блейель прямо в одежде плюхнулся в неглубокую воду и прислонился к большому камню.
— Я куплю тебе новый рюкзак.
— Не нужно, этот постираем. Подвинься, я его к тебе положу.
— Вода холодная. Я выхожу.
— Ботинки можешь выбросить.
— Без вас было так спокойно, так хорошо.
— Чего–чего?
— Ты спас мне жизнь. Снова.
По возвращении иностранца отправили под горячий душ, потом завернули в одеяла, напоили чаем — и со всех сторон усыпали порицаниями и пожеланиями выздоровления.
— Спасиба, спасиба, да, да, да, — бормотал он.
Ночью он то и дело выходил по нужде, но утром почувствовал себя вполне здоровым.
Таштагол. Он уже был несказанно рад, что тайга всё–таки не забрала его себе. Происшедшее казалось недоразумением, но ему помогли друзья, и ничего страшного не произошло. Нечего об этом и думать; никто на эту тему больше не заговаривал. В краеведческом музее он подивился на традиционный шорский дом, выстроенный на сваях, крыша покрыта землей и заросла травой и кустами. Две куклы в натуральную величину, с волосами из длинной щетины, представляли обитателей дома. А в сувенирном отделе он купил подарок для герра Фенглера — оберег, сказали ему, для защиты дома и семьи. Дощечку из покрытой тёмно–коричневой морилкой сосны, на одном конце вырезанную в виде женщины, на другом — мужчины. Лица вырезаны объёмно, прочие части тела намечены углублениями. Женские груди — узор из спиралей, детородные органы — звезда в круге. А мужской член — как вафля с двумя шариками мороженого. Ленточки, на которые подвешивался тотем, продеты с обоих концов, и можно решать, кто вверху — женщина или мужчина, смотря по тому, кто в доме хозяин.
Существовала ли фрау Фенглер? Блейель с сокрушением понял, что не знает. Ведь были какие–то торжества, на которых она, как супруга шефа, должна была присутствовать — юбилеи, то же Рождество. Но её там не было. Или он просто забыл?
Всё, что имело отношение к Германии, пропало во мраке. Разве только вчера он не видел кусочек Германии? Немецкий подъёмник. Видел. Фенглер в таком возрасте, вполне возможно, что он вдовец. Или женат на тридцатилетней. Нет. Нет! Только не Фенглер. Он хорошенько завернул оберег в пластиковый кулёк и затолкал в боковой карман рюкзака. Не слишком ли сальный подарок для старикана? И сколько, интересно, сейчас времени?
Городок, сметённый во впадине между гор, выглядел бедно и серо, но частностей — небольшой собор, памятник Ленину — Блейель не заметил. Только они вышли из музея, как он утратил над собой власть. Словно в трансе, он стоял рядом с Артёмом и Соней, пока они договаривались с Олегом, водителем, который качал головой и удручённо улыбался, обнажив торчащие зубы.
— Матвей, они поедут домой без нас.
Никакой реакции.
— Матвей Карлович! Товарищ Блейель!
— Что?
— Они поедут домой без нас, после концерта будет слишком поздно.
— А-а. Хорошо.
— Думаешь, это хорошо? Что ж, тебе виднее.
— Нет, нет, не виднее, я вообще…
Почти молча он распрощался с группой, Свете, погрозившей ему пальцем, он сказал «хорошо».
За Артёмом и Соней он поднялся по длинной бетонной лестнице наверх, на холм, поросший травой. На лавках перед сценой уже собирался народ. У микрофона стоял толстяк в костюме и, клокоча, читал нечто, никого не интересовавшее.
Блейелю пришлось ждать очень долго. Сначала он возбуждённо ходил туда–сюда. Потом ограничился тем, что сел и вертел головой во все стороны. Затем плечи его опустились, взгляд остекленел. За толстяком вышла не менее болтливая дама с огромным амулетом на шее, и несколько робких подростков, выигравших какое–то соревнование. Потом бородатый бард бесконечно пел под гитару неблагозвучные баллады. Блейель много раз порывался попросить Артёма узнать, нет ли изменений в программе, но помалкивал, опасаясь нежеланного ответа. А время всё шло, и уверенность, что спрашивать ничего не нужно, крепчала. Вне всяких сомнений, что–то изменили. Перенесли время или место. Она не пришла. Вместо неё выпустили горлодёра, чьи песни непостижимым образом вызывали у публики бешеный восторг.
Какая страшная глупость, что он не готов к такому разочарованию. Всё напрасно. Всё пропало.
Без страховки, без двойного дна.
У тебя был шанс, Блейель.
Он пропал.
И потом она появилась, из ничего, из земли, с неба, явь ли это, или милосердный морок — но вдруг она очутилась на сцене, с лютней на коленях, на этот раз одна, без танцовщиц. Он вскочил, протиснулся в проход и встал в первом ряду. Тут на него напала робость. Он не смел и взглянуть на неё. Он было подумал, что мимолетная улыбка, прежде чем она тронула струны, и взмах руки предназначались ему, но тут же категорически отмёл это предположение.
Вместо серебристого платья и тёмного колпака она облачилась в льняной костюм песочного цвета с широким ярким тканым поясом, на плечи наброшена большая серая шкура. Она опустила инструмент, поправила микрофон и что–то сказала.
— Песня волчицы, — прошипело в ухе Блейеля, так, что он вздрогнул.
Снова Артём. Увязался за ним к сцене.
— Боже мой, как ты меня… что ты сказал?
— Я сказал, что она сказала, что для начала споёт песню волчицы.
— Песню…
Он осёкся — зазвучал отдалённый вой. Должно быть, это выла сама Ак Торгу. Ведь на сцене больше никого не было. Она слегка повернула голову, и он увидел, что шкура у неё на плечах была волчья; верхняя челюсть впилась длинными жёлтыми зубами в собранные на макушке волосы.
Два такта раздавались только сухие, пружинистые звуки лютни. Потом её голос. Голос из неведомых глубин, рык мира духов.
«Чагыс ак порю — мен Мен ордам тум чышта Мен чозагым кыдазын Шим, кельбегле кошта»В глазах новичка замелькало, он едва видел певицу. Не забыть бы, как дышать. Нет, он не забыл — наоборот, от волнения он дышит слишком глубоко. На секунду он почувствовал руку Артёма на плече: переводчик, казалось, хотел его поддержать, но Блейель стряхнул его.
А её голос требовательно взметнулся наверх, отражаясь эхом в девяти, а может, во всех шестнадцати небесах. Песня Волчицы, песня Праматери!
«Алындагы темнер Куйбурчалар анда Погунуш пулапча Куль ош кыр салгында»Какое счастье, пронеслось у Блейеля в голове: стоять у порога, у порога мира, из которого звучит эта песня. Какое счастье — очутиться так далеко, какое счастье, ощупью пробираться дальше — и какое счастье, видеть и слышать её! Её голос, в нём, вокруг, везде; и она сама, Ак Торгу, в нескольких метрах над ним.
Снова приглушённый вой, в конце, и лютня всё медленнее, как будто волчица, бегущая в ночи, замедляла свой бег, свои шаги, достигнув ночлега — или цели.
Последние такты ещё не отзвучали, как хлынул ливень. Без предупреждения, не было ни ветерка, ни первых капель — небеса вдруг разверзлись. Вместо положенных аплодисментов раздался многоголосый визг, все вскочили и побежали спасаться, в спешке опрокидывая скамейки. А певица на сцене пронзительно расхохоталась, запрокинув голову, её смех был последним звуком, который передал микрофон — глухо вздохнув, он сыпанул искрами и испустил дух.
Блейеля не нужно было подпихивать — он сам побежал к сцене. На бегу он вытянул куртку из рюкзака, помахал ею в воздухе и позвал: «Ак Торгу! Ак Торгу!»
Она поднялась со стула, быстро накинула пластиковый пакет на инструмент, но никуда не побежала, а осталась стоять на краю сцены, и, улыбаясь, смотрела вниз. Артём что–то ей крикнул, они с Блейелем одновременно протянули руки, чтобы помочь ей спуститься. Она выбрала Артёма. Но, спрыгнув, отошла на шаг, и Блейель, неразборчиво бормоча (потому что русские извинения вылетели у него из головы), растянул куртку у неё над головой.
— Давайте! Давайте сюда! — Соня махала им, указывая на группку сосенок, растущих за сценой — большинство зрителей убежало именно туда. Дождь барабанил так, что и под деревьями лило. Блейелю удалось привязать куртку к двум веткам, сам он исполнял роль третьего столбика балдахина Ак Торгу.
— Небу задницу прорвало! — ликующе проговорил он.
— Что–что?
— Небу задницу прорвало.
— Это поговорка такая? Ни разу не слышал.
— Нет? Мой отец всегда так говорил. Карл Блейель. Когда сердился.
— Ей это перевести?
— Нет, нет — лучше скажи ей…
Он замолчал, потому что она заговорила и показала на импровизированный навес от дождя.
— Она тебя благодарит, но переживает, что ты сам промокнешь до нитки.
— Ах, скажи ей, что вчера я так промок, что этот дождик — сущая ерунда.
Она взглянула на свою завёрнутую лютню, потом широко ему улыбнулась:
— Very nice from you.[22]
Она говорит по–английски! Он чуть не подпрыгнул от радости.
— Oh no, it's such a pleasure for me, such a pleasure! Ak Torgu — I'm so glad.[23] Я не… нет, погоди… я не говор… не говорью по–русски, но I want to learn, yes! I want to learn. Russki. And shor… shor…[24]
— Шорский! — она снова расхохоталась и слегка коснулась его плеча.
— Шорский, yes, yes! — восторженно воскликнул он, хотя руки его уже затекли. — And: my name is Матвей. Matthias.[25]
— Матвей? Вас зовут? Матиас?
Артём нашёл на земле раздвоенную ветку, подцепил ей куртку и отдал ветку Блейелю. Наконец–то можно было опустить руки. В это время Ак Торгу и Соня завязали беседу, постоянно кивали и говорили «да, да, да». Артём вступил в разговор, явно с удачной шуткой.
— I will learn, I will learn,[26] — прошептал Блейель. Певица почти отвернулась от него, глядя на брата с сестрой, но по крайней мере стояла рядом. Он жадно втянул воздух, хотя от мокрой шкуры разило псиной. И, когда она взглянула на него, он воспользовался шансом, невзирая на то, что Соня ещё говорила с ней, и, насколько позволила палка в руке, указал на её инструмент:
— Кай–комус!
Победа! Она снова повернулась к нему, подняв лютню:
— Ой! Кай–комус, yes. Шорский. Здорово! Very good, Matthias![27]
— I love it! I love the sound. The way you play it.[28]
— Кай–комус? Thank you very much. — и она с улыбкой указала на его ноги, — сапоги. Very good here.[29] Сапоги, yes?
— Oh. Gumboots. A long story. But it's such a pity you couldn't play more today.[30]
Она пожала плечами.
— Дождь. Rain.
— And your voice! Your two voices. It's just — I never — never in my life…[31]
— Мистер Блейель на девятом небе, — перебил Артём, — простите за вмешательство, но рэйн прекратился и уже поздно. Надо бы подумать, как нам отсюда выбраться. То есть, из Таштагола.
Соня и Ак Торгу снова заговорили друг с другом.
— Мне кажется, можно остаться и здесь, — сказал счастливчик.
Певица вышла из–под балдахина, раскинула руки и произнесла по–русски:
— Приглашаю вас с собой, поедете?
— Ого, ого, ого! — заухал Артём, и она, обратившись к Блейелю, кивнула: «в Чувашку».
— В Чувашку?
— Ну! В Чувашку. You come?[32]
— Oh, yes. I mean — да.[33]
Она снова дотронулась до его руки, показывая, что можно отложить ветку. И, пока дамы обсуждали частности, Артём объяснил.
— Значит, она сказала, что приглашает нас в Чувашку, это вроде шорская деревня. Если я правильно понял, она живёт там с родителями.
— Просто чудесно!
— Погоди–ка минутку, я послушаю, что там говорят дамы.
Главное теперь — не проснуться, подумал Блейель и поглядел наверх, в мокрую черноту сосновых иголок.
— Действительно. Чувашка. Она говорит, что была бы рада. Этот дождь свёл нас не просто так. И такой странник с нами. Это она верно подметила, а, Матвей?
Он не ответил.
— Но мы должны, говорит она, быть готовы к более чем скромному жилищу.
— Ну конечно, естественно!
— И если у нас будет время и желание, и если погода не испортится — то завтра мы можем поехать с ней к Холодным ключам.
— К Холодным ключам.
— Да. Священное место. Там можно увидеть духов.
Он отбросил ветку и обеими руками обхватил свободную руку певицы:
— Ак Торгу, I am so[34] — спасиба, спасиба!
— Одну минуточку. А что, если мы с сестрицей не можем поехать? Завтра понедельник.
— Да, но…
— Catalog Services, — ухмыльнулась Соня. — Фенглер.
— Но с Галиной можно же… разве нет?
— С Галиной много чего можно, — ответил Артём и пригладил влажные волосы. — С другой стороны, какой у нас выбор? Мы застряли в Горной Шории, автобус наш ушёл, и, как нам известно, наш питомец, Матвей Карлович, без нас пропадёт.
Но в этот момент питомец не пропал, а углубился — пожирая глазами певицу, разговаривающую по мобильному телефону.
Мечта и реальность, мобильная связь и волчья шкура. Только бы не проснуться!
Её лицо — оно выглядело немного не так, как он помнил. Но не менее красивым! Щёки округлее, лоб более выпуклый. Её глаза, он запомнил их почти чёрными — ошибка. Скорее светло–карие. Орехового цвета. Похожи на его собственные. Но в азиатском варианте. И она оказалась меньше ростом, чем он думал. Ему помнилось, что она не ниже его самого — но он оказался на полголовы выше. Матиас Блейель был метр семьдесят восемь ростом. Её голос, тише, чем можно было предположить по песням. Зато смех — заразительный, сокрушительный. Зажав в одной руке телефон, а в другой инструмент, она слегка покачивалась. Её одежды, туника и широкие штаны тон в тон, и пояс, с узором из тонких полос; в основном красного цвета, но были ещё чёрный, зелёный, белый и жёлтый. Её тело — не смей и думать о нём! Её светлые мокасины рядом с его сапогами. В месиве из грязи и сосновой хвои.
Она раздобыла машину у здешних друзей, у которых она собиралась переночевать. Старые белые «Жигули». Прямой наследник лошадиных саней в наших широтах, как выразился Артём. Потом выяснилось, что ни у него, ни у Сони, ни у Ак Торгу не было прав.
Блейель, скрючившись, сидел за баранкой и сосредоточенно глядел на дорогу. О гидроусилителе руля не было и речи. Мотор громкий, но чахлый. Рычаг скоростей расхлябанный и непослушный, зато увенчан прозрачным кристаллом, из которого к небесам кротко взирала какая–то святая. От малейшей неровности на дороге пассажиров немилосердно трясло, и что обувь новичка плохо сочеталась с педалями, особой роли уже не играло. Поначалу он судорожно извинялся за причиняемые неудобства, но скоро заметил, что они покорились судьбе, словно привыкли к гораздо худшему. Без умолку они взбудораженно трещали по–русски. Теперь Артём почти ничего не переводил.
Гость в качестве шофёра, подумал он. Наконец–то он мог возместить хотя бы малую толику того, что он им должен. Это хорошо.
В Чувашку. Единственное, что он теперь слышал в свой адрес — куда ехать, но и это случалось нечасто. Ведь он находился глубоко в бескрайности, и спасибо, что тут вообще есть дороги. Как он понял, деревня находилась в сотне километрах от Таштагола к северу, это напрямик. Но другого пути, кроме огромного крюка на запад, через города Новокузнецк и Мыски, не было.
Новокузнецк. Мыски. Привычные ориентиры для довольно большого количества народа. Так тоже можно посмотреть на вещи. Артём сказал, что Новокузнецк даже крупнее Кемерово. И Блейель повторял, тихо и радостно, я здесь, я приехал.
Холодные ключи. Священное место, больше ничего ему не рассказали. Ну и что? Он теперь рядом с Ак Торгу, она сама, во плоти сидит за ним. Вершилось чудо, прямо сейчас, и оно не прекратится, если он только не окажется так глуп, чтобы от неги потерять из виду шоссе или отпустить упрямый руль. Ак Торгу приведёт его к Холодным ключам. Хоть бы погода не испортилась. Затянутое тучами небо кое–где прояснялось, по лужам на крошеве асфальта бежала рябь от вечернего ветерка. Там можно увидеть духов, сказал Артём о ключах. Он верил. Но разве здесь он их не видел? Разве это не они проносились мимо стёкол, с сумеречных холмов и из затуманенных полей, рожицы теней, тёмные вихри? Вся дорога проходила по стране духов.
Но в двух местах лесная стена резко обрывалась, уступая место испоганенной пустыне, залитой холодным светом — кратеры, кучи мусора, а сбоку выступали трубы, заводские башни или домны. От этого вида у Блейеля щемило в груди; торжественного чувства, как в парке чудес в Кемерово, не возникало. Он, насколько это было возможно, разгонялся, пока мерзость не оставалась позади, и успокаивался, только когда на протяжении нескольких километров таких ран больше не показывалось. Спасение — в масштабах, думал он. В невообразимом просторе запросто пропадали целые Рурские области. А если свернуть с дороги, то пройдешь чуть–чуть — и попадёшь в глухомань.
Солнце садилось. Спасут ли от похитителей душ из царства Эрлика восемьдесят километров в час и клетка Фарадея? Но пока никто в «Жигулях» не спал. Да и что за еретические мысли, когда с ними шаманка.
Несколько раз она, прерываясь на полуслове, наклонялась к нему между спинок передних сидений и спрашивала:
— Как дела, Матиас? You okay?[35]
— Спасиба, хорошо, — пел он в ответ. И когда Артём на соседнем сиденье однажды всё–таки прикрыл глаза, он добавил по–немецки, — знаешь, только теперь я по–настоящему родился.
Она рассмеялась и чуть задела его плечо.
— I can hear you singing now[36], — выскочило из него.
— I sing? Now? Oh, нет.[37]
— Yes, yes, you do. You are singing right now, in this moment. — Нечеловеческим усилием воли он взял себя в руки, чтобы не обернуться. — I mean, here. Inside me. In my head.[38]
Он огорчился, когда Артём перестал клевать носом и принялся переводить его слова, ему не понравился его тон. Она что–то ответила по–русски, рассмеялась, откинулась назад и снова заговорила с Соней. Он вздохнул. Её голос голове затих, он чувствовал себя не в своей тарелке. Поддался слабости. Лучше уж следить за движением, именно потому, что его практически и не было.
И не отчаиваться, причин для уныния нет! Пусть он остался дурачиной, пусть он затерялся в бескрайности — он переступил порог. Он превращался в нового Матиаса Блейеля. Ему бесстыдно повезло, он встретил Ак Торгу, и даже более того — он находился под её покровительством, за рулем этой славной машинки, вокруг порхали таёжные духи, тайга приняла его! Теперь главное — терпение. Быть терпеливее, и с самим собой тоже. Идти дальше. И верить.
Стало так темно, что он притормозил, тусклые фары едва освещали дорогу. Он ещё сильнее выдался вперёд, прищурился. И тут по обеим сторонам дороги из тьмы выскочили светящиеся полосы. Это деревья были раскрашены светоотражающей краской. Артём поперхнулся и застонал. Блейелю понадобилось время, чтобы осознать, почему — деревья светились бело–сине–красным, цветами российского флага.
— Будь патриотом, это спасает жизни участников дорожного движения, — посоветовал он.
— Да уж, Матвей. — Волосатик зевнул. — Из тебя вышел бы отличный пионервожатый.
Её мать — приземистая женщина с крепким рукопожатием, обесцвеченные пушистые волосы странно не сочетались с обветренным лицом и узкими глазами. Время шло к полуночи, но она подала на стол борщ и пельмени, солёные огурцы и чёрный хлеб. Она главенствовала в застольной беседе, и в Артёма вселились новые силы, он переводил без продыху. Пылко, как в самом начале их знакомства, он делился с Блейелем её словами. Гость услышал тосты, которыми она вдохновляла присутствующих на питейные подвиги (между этой стопкой и следующей пуля не пролетит, мышь не проскочит; потом, предлагать духам начатые бутылки всё равно нельзя); её мнение о будущем шорских деревень (у нас в земле вся таблица Менделеева, поэтому нам всем крышка); и её собственного (врачи нашли у меня цирроз печени, но я считаю, и врачи иногда ошибаются). Её муж, низенький, кряжистый, с сивыми волосами, разглядывал Блейеля с мягко–хитроватой улыбкой. Он взял слово только один раз — объяснил, что тридцать семь лет проработал в шахте, а теперь хочет понять то, что происходит на поверхности земли. И им везёт — в огороде растёт всё, что им нужно. А по–немецки он знает только одно слово. Он поглядел на Артёма, чтобы удостовериться, что тот всё перевёл, расправил плечи, стукнул обоими кулаками по столу и взревел: «Шнапс!»
Он представился Юрием, а она Татьяной. И Блейель удивился, что они называют дочь Катей. Гости сидели на двух лавках, покрытых пёстрыми коврами, Блейель рядом с Артёмом, Соня с певицей напротив. Её родители — с торцов на стульях. В сенях они разулись, и Блейель обрадовался, избавившись наконец от сапог. Его опасения, что у него пахнут ноги, развеялись в душистых парах от кастрюли с супом. Комната, где они находились, разделялась надвое огромной печью, при входе это была кухня, а за печью — гостиная и столовая. Рядом с дверью находилась большая прямоугольная эмалированная раковина, вода лилась из ведра с краником, стоящего на полочке рядом со стаканом, полным зубных щёток. На тумбочке за спиной Юрия стоял телевизор, наискосок от него висело чёрно–белое фото в рамке, он с Татьяной, молодая пара, он — в форме бойца Красной армии. Белёные стены украшены, к изумлению Блейеля, христианскими мотивами — над дверью выцветшее изображение святого и медная чеканка с православной церковью между окон.
Во время еды певица почти не разговаривала, чему–то улыбалась про себя и иногда дружески отвечала на взгляд Блейеля, который никак не мог перестать на неё глазеть. Она помогла матери накрыть на стол, а пила наравне с родителями. Новичок попытался взять с неё пример и нашёл, что со времени приезда достиг в этом деле больших успехов. Они сидели за убранным столом, накрытым светлой клеёнкой, хозяева расхваливали гостинцы (снежный шар с крошечной Эйфелевой башней, по необъяснимым причинам оказавшийся у Сони в рюкзаке, несколько плиток шоколада и четыре банки пива «Гинесс» из продуктового ларька в Таштаголе; предложение Блейеля присовокупить ещё и амулет, купленный для Фенглера, Артём задушил на корню), и потом Татьяна спросила, чем они обязаны честью принимать у себя гостя из столь далёкой страны. Блейель принялся было отвечать, но Ак Торгу опередила его и говорила неожиданно пылко, жестикулируя, а Артём только посмеивался себе в кулак и ничего не переводил.
— Да что же она говорит?
— Ты, Матвей, исследователь. С чисто немецкой основательностью ты прокопался через тысячи миль бетона и чащоб, чтобы попасть сюда, в этот медвежий угол, для того, чтобы открыть для себя и постигнуть вымирающую шорскую культуру.
— Не могла она такого сказать!
— Ну, она — постой.
Слово снова взяла мать, воздев стакан.
— Ох, Матвей, оказывается, ты не первый. До тебя приезжал учёный из Японии. Но он тебе и в подмётки не годится, говорит она. Бледный, унылый тип, всё выспрашивал о старинных легендах, но к водке и не прикасался.
И мне после этого стакана не следует, подумал Блейель. Тут что–то сказала Соня, и все громко удивились.
— Она рассказывает, как мы вчера вытаскивали тебя из болота.
Певица звонко расхохоталась, её отец присоединился к ней, снова назвал её Катей и крикнул, наклонившись через стол к Блейелю:
— Шнапс, шнапс!
— No, no, no![39] — вырвалось у путешественника.
— Ну, ну, ну! — энергично кивал Юрий.
— No! I mean:[40] ньет. Ньет шнапс.
На Артёма рассчитывать не приходилось: тот хлопал себя по ляжкам и задыхался от смеха. Ничего не оставалось, как смеяться с остальными изо всех сил. На момент Блейелю удалось оторвать взор от Ак Торгу, он провёл взглядом по стенам, мойке у двери, грубому коричневому войлочному ковру на половицах. Первое предложение, переведённое Артёмом, произнесла Татьяна, «тайга всегда кормила шорцев досыта». Блейелю показалось, что тут есть над чем подумать, хоть он и не мог сообразить, почему. Чтобы отделаться от мыслей, он сказал:
— В болоте я пел «Песню волчицы».
— Не только слышал — ты её пел! Матвей, точно, до меня только сейчас дошло — вы только представьте себе, он завяз в болоте, а сам пел твою «Песню волчицы», Катя!
Певица, широко раскрыв глаза, поглядела на Блейеля.
— Yes, Matthias? You sing my song?[41]
— Я — I–I mean — it was inside me. Your voice — in my head.[42] Вот.
Остальные вдруг разом заговорили, а Юрий дважды поднимался из–за стола — сначала принёс с подоконника пиво, а потом достал из комода за печкой варган. Его дочь протестующе отмахнулась, но он просиял, впервые что–то сказал по–шорски и приставил инструмент к губам.
Подпрыгивающий ритм, как в «Улице Сезам», вначале чересчур торопливый, скоро приноровился к шагу Волчицы, который так хорошо выучил Блейель.
— Давай, давай, — крикнула Татьяна, поднимаясь с места. Она нетвердо держалась на ногах и ухватилась за столешницу. Соня тоже ободряюще кричала, но певица всё отрицательно мотала головой. Потом она подняла голову, их взгляды встретились. Она снова рассмеялась, наверное, оттого, что он сделался пурпурно–красным. «Давай», сказала она сама, энергично кивнула и махнула рукой. И запела.
Нет, подумал Блейель, это неправда. В то же время он знал, что глупо так думать, глупо и недостойно. Приличествует отчаявшемуся логистику из Штутгарта, но не новому Матиасу Блейелю, который перешагнул порог. Нетвёрдо, робко, но он подхватил песню Ак Торгу:
«Мен чозагым кыдазын Шим, кельбегле кошта»Татьяна снова подскочила, но на этот раз хвататься за стол не стала, а обошла кругом, хотела было обнять гостя — и не решилась. После первой строфы певица, прыснув, замолкла. Блейель сидел в ступоре, уставившись на клеёнку, и почти не воспринимал происходящего.
Должно быть, во всеобщей суматохе Артём осведомился о смысле спетого — придвинулся к Блейелю поближе и спросил, не хочет ли он узнать, о чём песня. Блейель смог только кивнуть в ответ. Переговорив с Ак Торгу, Артём выстроил следующее:
— Я — одинокая седая волчица, Дремучий лес — моя родина, Нрав мой свиреп, берегитесь, Не подходите слишком близко.Хорошо, что мы не послушались, когда ты завяз в болоте, а, Матвей?
Блейель не желал себе в этом признаться, но он никак не ожидал такого недружелюбного текста.
— Very impressing, — прошептал он, — the Wolf — the She — Wolf, я не знаю, как правильно сказать, mother of the Shors, mother of all Turkish peoples.[43]
Он понадеялся, что полупьяный переводчик, который тут же принялся за работу, с милосердием отнесётся к его бормотанию, и надолго замолк. Только когда голос Татьяны сделался таким же торжественным, как во время тостов в начале ужина, он осмелился снова спросить, о чём речь.
— Ты, — сказал Артём, подпирая голову и наваливаясь перед Блейелем на стол, так, что Соне пришлось спасти от него два стакана, — доказал, что достоин завтра лицезреть Холодные ключи и там по обычаю предков принести жертвы духам. Кроме того, этот дом, Матвей Карлович, с этого дня всегда для тебя открыт. А тот японец тебе и в подмётки не годится.
— Артём, извини, я как–то не вполне тебе сейчас доверяю. В твоей власти рассказывать мне всё, что угодно, и может быть, именно это ты сейчас и делаешь. Ты можешь выставить меня последним идиотом.
— Или героем.
— Да–да. Но вот в этом…
Но Артём снова поднялся, по–немецки крикнул: «Вы это слышали?» и продолжил по–русски, пока Юрий не начал бить себя в грудь и говорить что–то, что переводчик озвучил так:
— Чужедальний гость из Германии, пьяный шорец из Чувашки — ведь мы понимаем друг друга, мы понимаем всё, мы же не марсиане какие!
— Окей, — сказал Блейель, — да, да, да. Хорошо. Спасиба, большое спасиба. Извините, скажите, пожалуйста, а который теперь час?
Часы показывали почти три ночи. Все бутылки и банки были пусты. Тяжело, но с согретой душой, все поднялись, чтобы разойтись по кроватям. Блейель, сам того не заметив, подошёл к сияющей Ак Торгу — она вдруг оказалась так близко, что у него закружилась голова. Его руки дёрнулись и робко опустились, едва прикоснувшись к краю её рукава, а может быть, даже к обнажённой руке.
— Доброй ночи, Матиас.
— Доброй… спасиба, спасиба, it is — Ak Torgu, you are wonderful![44]
Она пожала ему руки, встала на цыпочки и поцеловала его в левую щёку. Следующее, что он увидел — как она помахала и вышла из комнаты.
Кто–то взял его за плечо. За ним стояла Татьяна. «Доброй ночи», выдавил он. Но она держала перед его носом открытый бумажник, как будто хотела что–то ему показать. Он напряг глаза и разглядел фотографию маленького ребёнка. Для деталей было слишком темно, а может, уже не варила голова, но он вспомнил возгласы туристок на каменном поле и сказал: «красииивый».
— Красивая, — поправил его Артём, — это девочка.
Снова река. Сначала Томь и Мундыбаш, а теперь Мрас — Су. Томь он видел только сверху, в притоке Мундыбаша отмывал одежду от болотного ила. Мрас — Су была первой сибирской рекой, по которой он плыл. Ввосьмером они сидели в узкой моторной лодке, Соня впереди, за ней Блейель, а на высоко поднимавшемся носу — багаж. На борту находились все присутствующие вчера и ещё двое. Брат Ак Торгу Саша, с угловатой стрижкой — Блейель помнил его с Томской писаницы, и коренастый лодочник по имени Егор, тоже шорец. Новичок с детским почтением разглядывал его убранство — рыбачьи сапоги выше колен, маскировочной расцветки костюм и кожаная шляпа, глубоко надвинутая на лоб. Лодка неслась вверх по течению, по довольно спокойной, иссиня–чёрной воде, и брызги, отлетавшие в лицо или на руки, словно благословляли Блейеля. Вода была ледяная, и как только облака застилали солнце, ветер обжигал лицо. По обоим берегам тянулась густая вечная тайга.
Какое счастье! Он в пути. В пути по реке.
Последствия вчерашнего возлияния отдавались тупым ощущением в затылке. А вот Артём, сидевший за ним, выглядел совсем разбитым, хоть и уверял, что чувствует себя великолепно. По дороге почти не разговаривали, и Блейель был этому рад. Тарахтел подвесной мотор, лодка размеренно шлёпала по поверхности воды, и эти звуки прекрасно гармонировали с окружающим пейзажем и его торжественной радостью.
Саша, брат, первый обратился ко всем. Он указал на трёх ласточек, парящих над лодкой, и сказал:
— Духи заметили и приветствуют нас.
Но Блейель увидел кое–что ещё. Сначала он решил, что ему показалось, но нет. Она была такой же реальной, как его влажные пальцы на борту лодки, как лужица у него под ногами. Крупная синяя стрекоза. Описав большой круг, она прилетела с северного берега, зависла в пяти метрах от них, словно ожидала, что гость благоговейно преклонится перед её переливающимся тонким телом. Потом свернула и отстала.
Больше, похоже, никто этого не заметил. Сердце его тревожно заколотилось, он осторожно нагнулся вбок и через Артёма поглядел на Ак Торгу. Она тоже посмотрела на него, подняла брови и улыбнулась. И он подумал, что в длинном чёрном пальто она похожа на жрицу.
— Они приветствуют нас, — повторил он.
Чисто выметенное небо отражалось в воде, и под полуденным солнцем тайга засияла, словно охваченная огнём. Его возбуждение сменилось странным двойственным чувством, глубоким покоем и напряжённым ожиданием одновременно, оно показалось ему знакомым, хоть он и не знал, откуда. И у него, кажется, появилось новое ощущение, шестое чувство. Мрас — Су в этом месте разлилась так же широко, как Томь в Кемерово, и они проходили сложный участок, с сильным течением посередине. На обоих берегах он заметил особенные места. Места силы, вот какое слово всплыло в его мозгу. Где он мог такое услышать? Или прочитать. Слово из отдела эзотерики, из области, которая его вообще–то никогда… Лодку подкинуло, и Блейель не додумал глупую мысль. Он видел места, из которых исходила некая сила. Что в них было особенного? Может быть, лёгкое дрожание воздуха, может, едва заметное изменение цвета в светящейся тайге. Может, что–то, что на долю секунды мелькнуло между кустов и деревьев.
Или что–то, чему не было определения. То, что он ощущал, и не нужно было знать, как и почему. Если в глухом лесу ты вдруг повстречался с медведем, тоже ведь непонятно, как и почему. Хоть Матиас Блейель и никогда не был в такой ситуации.
Он вспомнил, как пошёл за личинами. Что он при этом испытывал? Песня в голове. Он и не подозревал, что значат слова. Он вообще ни о чём не думал, пошёл за лицами, как ребёнок. И когда перед духами из сказочного леса вдруг предстал медведь–плясун, они разверзли под ним землю.
Он не знал ничего, он должен всему научиться — ему позволили всему научиться. Здесь он под её защитой, под защитой Ак Торгу, которая знает духов и умеет с ними обращаться. Он снова обернулся, Артём подмигнул ему. Лодочник, стоявший на корме, взмахнул свободной рукой и что–то крикнул.
— Держись, Матвей, мы идём на снижение. Мы на месте.
Он здесь. На новой, священной земле. Я не хочу вам мешать, подумал он. С каждым вдохом его пронизывало счастье, неведомое старому Матиасу Блейелю, уверенность, что он достиг нужного места. Почти неисписанный лист. Пришёл к началу. Родников он не видел, их скрывали заросли. Из–за ветвей пихты, увешанной тряпицами, ручей сбегал узким светлым водопадом по трём ступеням, вливаясь веером тонких струек в реку. Только они высадились (Блейель очнулся от умиротворения и почувствовал себя неотёсанным чурбаном, когда лодочник рыцарственно понёс на закорках хихикающую Татьяну к берегу), как туземцы молча разошлись кто куда. Певица и мать занялись сумками и кульками, мужчины собирали хворост для костра.
— Тоже можешь пособирать, — посоветовал Артём, — а то ещё подумают, что ты здесь начальник. Ах, ерунда, — он потряс головой над собственными словами, — ну, ты понял.
К Юрию это явно не относилось, он подстелил куртку и уселся в камыши, насвистывая на соломинке. Соня фотографировала. Блейель отошёл от каскадов и полез наверх, вытянул из зарослей несколько веток. Костёр складывал Саша, он одобрительно кивнул, когда Блейель вернулся с добычей. Тем временем женщины расстелили на плоских голышах клетчатую клеёнку, достали стаканы и тарелки, огурцы и яблоки, колбасу, сыр и пирожки. Закончив, они отошли с последней сумкой за выступ скалы. Блейель увидел, что Ак Торгу снимает пальто.
А потом она села на большой камень, на ней посверкивало расшитое серебряными нитями фиолетовое платье. Волосы закрывал тёмный платок, поддерживаемый вышитой бисером лентой. На коленях лежала лютня.
— Матиас, — улыбнулась она, он подошёл поближе, и она заговорила по–русски. Учиться, вскричало в нём, немедленно! Артём, в своей обычной манере, встал у него за плечом.
— Ты должен знать, что музыка необходима, чтобы привлечь внимание духов. И ещё, во время жертвоприношения нельзя использовать пластиковые сосуды. Иначе они обидятся.
— И начатые бутылки, — пробормотал Блейель.
Она тронула струны и запела песню, которую он ещё не слышал. Вначале таким жалобным, хрупким, тихим голосом, что, казалось, ветер его задует. Но голос взмыл в небеса. А через две строфы опустился до горлового рыка и зазвучал так мощно и потусторонне, что ветер затих. Зачарованный гость застыл на камнях, в крайне неудобной позе, но не замечал, что отсидел ноги. Он был с ней, слышал её, видел её волшебство, так близко, что мог к ней прикоснуться. Как она красива! Даже когда хмурила лоб, так, что брови почти сходились. Он впитывал каждую деталь, каждую мелочь, самое малое её движение. Эта женщина. Её голос. Порог, через который он перешагнул. Какой драгоценный, какой торжественный момент в его жизни!
Духи собрались. Путешественники стояли на берегу, вокруг костра, который разожгли Саша с Егором, и хранители Холодных ключей парили над огнём. Татьяна, тоже одетая в платье, но тёмно–зелёного цвета, вышла с деревянной миской в середину. Она произнесла обращение к духам, брызгая резной деревянной ложкой в костёр и на ветер. Окончив первое приношение, она обошла с миской присутствующих, и каждый пробовал то, что поднесли духам. Сначала водку. В следующей миске было молоко. В третьей — колбаса. В последней — хлеб. Так было заведено, и порядок не полагалось менять. Певица сначала вышла из круга, и, стоя у кормы лодки, вытянутой на берег, сопровождала церемонию медленными аккордами — Блейель засмотрелся на неё и чуть было не пропустил своей очереди хлебнуть молока. Когда от жидких приношений перешли к твёрдым, миску взяла она, произносила заклинания, обносила всех пищей. Солнце тоже колдовало, освещая лицо Ак Торгу, блестевшее светлой бронзой, серебряные нити в её платье посверкивали, как у феи.
Она обошла всех с кусочками серого хлеба и снова поменялась местом с матерью. Татьяна наклонилась к костру и что–то подожгла. Пучок можжевеловых веток. Потом она двинулась по кругу, пуская каждому в нос терпко–сладкий дым, произнося над каждым несколько шорских слов. Её оранжевый платок горел на солнце. Но Блейель зацепился взглядом на её электронных часах, сверкающих из–под широкого рукава. «Квелле»[45], подумал он. Благословив всех, она бросила можжевельник в костёр. Затем дочь раздала всем по три ленточки — одну красную, две белых.
— Матвей, похоже, тебя не интересуют объяснения.
— А что такое?
— Ну, немца–исследователя занесло в порядочную глушь, а?
Что это значит? Может, Артём его нарочно провоцирует, хочет испортить его радость?
— Не хочу говорить про немца–исследователя.
— Именно это я и имею в виду.
Остальные разошлись.
— Что теперь?
— Ага, значит, всё–таки тебе объяснить, что к чему.
— Артём, прошу тебя. Не надо этих дурацких игр.
— Ни о чём таком я и думать не думал. Так тебе надо объяснять или нет?
Нет. Он разозлился. И сам расстроился, что разозлился. Он не хотел, чтобы Артём ему что–то объяснял. Не хотел, но не мог без этого обойтись, вот в чём была его беда. Он вообще не мог обойтись без Артёма. Спросить у самой Ак Торгу он не мог, он, как неотёсанный чурбан, помешал бы ей исполнять обряд. К злости примешивался страх. Что так будет всегда. Он никогда не сможет обойтись без Артёма, никогда не стряхнет его, Артём вечно будет тенью стоять у него за плечом. У Блейеля, глупого и беспомощного.
— Это — ленточки исполнения желаний, вон для той пихты. Мы привяжем их к веткам, и тогда ими займутся духи. Если захотят и найдут время. Сначала красная. Пожелай здоровья своему народу и всем людям на свете. Два других желания загадываешь сам.
— Спасиба.
По обеим сторонам водопадика они вскарабкались наверх, Блейель суетился и старался не смотреть на Артёма. Он нашёл пустую ветку. Привязал красную ленту. И одну белую тоже. И несколько раз перепроверил узел.
Желание для второй белой ленты никак не придумывалось.
Во время пикника остаток жертвенной водки поделили поровну. Прежде чем пить, полагалось окунуть пальцы в стакан и трижды покропить на стороны света, чтобы духи не чувствовали себя обделёнными. Блейель только пригубил. Приняв тарелку с пирожком, огурцом и сыром, он неожиданно осознал, что это его первая настоящая трапеза за этот день, утром он не смог заставить себя позавтракать. Несмотря на дикий голод, он не забыл произнести свои «вкусна» и «атлична». Ответ Ак Торгу показался ему таким польщённым, что по спине у него пробежали мурашки. Ему показалось, что она сказала что–то вроде «шорски пироги», и на всякий случай повторил «атлична» ещё дважды.
Они поели. Артём сел позади Блейеля и положил руки ему на плечи.
— Саша сказал, что по его ощущениям, духи–хозяева нами вполне довольны. Тобой в том числе. А Юрий спрашивает, не хочешь ли ты послушать шорскую легенду, прежде чем мы отправимся назад.
— О. Да, да, с удовольствием. Очень даже хочу. Это для меня большая…
— Так мы и думали.
Ему стало стыдно, что он злился на Артёма. Да он должен его благодарить тысячу раз. И обижаться на него нечего, наоборот. И неважно, мучил ли он его, выставлял ли в дурном свете или водил за нос — без Артёма он бы вообще здесь не сидел.
Предложение поступило от Юрия, но рассказывать легенду сам он явно не собирался — он развалился в траве и закурил. Татьяна поднялась, держа в левой руке стакан, сделала два шага к плоскому голышу, на котором недавно пела Ак Торгу. Потом, видимо, передумала и обратилась к дочери. Ак Торгу громко, растерянно протестовала, но сопротивлялась меньше, чем накануне, когда речь шла о болотной песне.
И вот она снова села на камень, пригладила растрёпанные волосы — платок она сняла — и молча уставилась в иссиня–чёрную воду. Это любовная история, сказала она наконец; но сначала ей нужно плеснуть ещё, чтобы развязать язык. Артём добавил, что то же самое относится и к его языку синхронного переводчика. Соня подлила обоим. И Ак Торгу начала.
— Выслушай, чужестранный гость, легенду о Мрас — Су и Кара — Томе, раз уж мы сидим на этом берегу. Давным–давно белая скала Кабуси удивила своих братьев, Абаканские горы, родив дочь от жарких лучей солнца. Глаза дочери были синие, а нрав кроткий. За то назвали её Мара — Сас, Кроткая. А люди ласково называли её Мрас — Су. Молодая речка росла, и никто не слышал, чтобы она плакала, не видел, чтобы она злилась. Она спокойно текла себе и потихоньку пела: «Мой дедушка — бессмертный Мустаг, бабушка — добрая гора Огудун».
Рассказчица прервалась и прихлебнула, и Блейель увидел, как дёрнулись плечи и уголки рта Артёма. Песенка речки явно не на шутку развеселила переводчика. Ак Торгу продолжила.
— Прошли годы. Мрас — Су выросла. Однажды весной она услышала с той стороны, где восходит солнце, сильный голос Кара — Тома: «Любимая земля моя, зелёные горы! Пустите меня к Мрас — Су, хочу её видеть и слышать». «С радостью пошла бы к тебе, — ответила Мрас — Су, — но послушай, что гудят, грохочут и рычат мои родственники».
«Куда же ты, доченька? — гудели Абаканские горы. — Теки на восток, через степь Олен — Чазы. Там тебя встретит седой Хем. Когда он увидит тебя, такую юную и красивую, то от радости запляшет на одной ноге. Хем — труженик. У него будешь как сыр в масле кататься».
«Нет, не ходи к Хему! — загрохотал дед Мустаг. — Что общего у молодой девушки со старцем? Иди, внучка, на запад, к стройному Бию. Он купец, и спокойный, как и ты. Хорошо вам будет течь вместе».
«Только не к Бию! — рыкнула бабушка Огудун. — Он такой медлительный, на ходу засыпает. Нет, иди к Кара — Тому, который зовёт тебя. Где любовь, там и свет».
Второй глоток, и у Блейеля так зарябило в глазах, что он не увидел, посмотрела ли на него Ак Торгу.
«Я знаю, куда мне нужно!» — весело погнала свои волны Мрас — Су. Но на пути у неё разлеглась вдова Манак–гора, чтобы пошептаться с Шаман–горою. Мрас — Су не могла течь дальше, и чем дольше она ждала, тем выше поднимались её воды. Она затопила ущелья и долины, выгнала зверей и птиц. Но как Мрас — Су ни просила вдову пропустить её, Манак и слышать ничего не хотела. Она прижалась к щеке Шаман–горы и нашёптывала ему ласковые слова. А синие волны Мрас — Су уже поднялись до вершин гор.
А Кара — Том всё звал: «Приди ко мне, Мрас — Су! Вместе мы станем могучими, любые горы будут нам нипочём!»
Услышав эти слова, Мрас — Су ободрилась и впервые в жизни подняла голос: «Да пропусти же меня, старуха!» Но вдова Манак отвечала: «Нет–нет, ты станешь ласкаться к Шаман–горе, а я этого не потерплю. Ты ещё молода и не знаешь, что любовью не делятся». «Зачем мне твой Шаман? — закричала Мрас — Су. — Пропусти, я хочу к молодому Тому».
Но Манак–гора только отмахнулась: «Ах, молодой Том. Что он понимает в женщинах! Опомнись, детка, и иди к старому Хему. Он приласкает тебя в тридцать раз крепче Кара — Тома».
«Нет! Не нужна мне любовь старика».
Тут Ак Торгу рассмеялась и сказала что–то, к легенде, по всей видимости, не относящееся, что Артём переводить не стал. Потом встала и досказала стоя:
— Долго бы ещё спорили девушка и вдова, если бы не — кто? Угадайте! Нет, не угадаете — если бы не человек! Он пришёл и расколол камни Манак–горы, снёс всю вдову. И Мрас — Су, не сдерживаемая ничем, быстрее самого быстрого бегуна ринулась к Кара — Тому. Они встретились у мыса Алчук. И с того места Мрас — Су и Кара — Том так и текут вместе, крепко обнявшись, неразлучные, и весело сверкают под ясным солнцем.
Блейель было захлопал, но пока Артём заканчивал перевод, певица и её родители жарко заспорили, и времени на аплодисменты не осталось.
— Это… — он не мог подобрать нужное слово, — предназначено для наших ушей?
— Ну, они говорят и по–шорски тоже. Особенно твоя ненаглядная. Татьяна укоряет её, что она рассказывала легенду без должного уважения. А Юрий считает, можно рассказывать легенды и при этом пить, по усмотрению рассказчика. И что мы же ведь не марсиане какие!
Саша, с непроницаемым лицом державшийся в стороне, помогал Егору сгребать прогоревшие дрова.
Блейель задумался.
— А Кара — Том — это…
— Река Томь, совершенно верно.
— Значит, всё–таки это он.
— По–шорски, видимо, да.
— А человек из легенды…
— Не спрашивай, Матвей. Я всего лишь рупор.
Лодочник помахал шляпой, очевидно, в знак того, что пора отправляться.
— Ой, но я… мне нужно по–маленькому…
Артём ответил, как воспитатель в детсаду: «Так иди и делай».
Блейель поспешил подальше, с глаз долой — и за скалу. За ней он нашёл местечко, где берег поднимался не так круто, и кустов там росло меньше. Широко расставив ноги и упершись правым коленом о рябину, он помочился. Но вместо облегчения, наоборот, озаботился. Правильно ли то, что он делал? Можно ли, так близко к священному месту? Шёпотом он попросил у духов прощения. Торопливо поскакал со склона вниз. И был встречен воплем.
Об этом он и не подумал, ведь он никогда… он бы ни за что, этого не может быть. Ак Торгу. И её мать. За скалой, в одном исподнем. И он, чурбан, дурачина, зассанец, посмешище для духов, пьющих водку. Теряя сознание, он побрёл мимо них и, как ни отворачивался, но увидел достаточно, чтобы картина — две обернувшиеся полуобнажённые и сумка между ними — навсегда врезалась ему в память. Вроде бы они, отойдя от испуга, рассмеялись и помахали ему руками, дразнясь, но он этого не воспринял, и как его встретил Артём, тоже не помнил.
Только когда они проехали полдороги по кроткой речке, когда певица позвала его, наклонилась почти так же близко к нему, как и он к ней; только когда она заверила его, что это особая радость, что он поехал с ними (а её мать истово кивала) — только тогда Блейель позволил себе вернуться к жизни. Щурясь, он почтительно посмотрел в лицо Ак Торгу, на сверкающую воду, позолоченную тайгу, и, перекрывая рёв мотора, затараторил мешанину из английского и русского, пытаясь выразить, как ему понравилась и сама легенда, и то, как она её рассказала.
— Аржан, — ответила она и повторила несколько раз, всё громче и чётче, пока он не повторил за ней, аржан.
— Ну! Ну! — ответила она и сообщила переводчику, что «аржан» — шорское название Холодных ключей.
Новые слова. Аржан. Кара — Том. А как назывался тот мыс, где встретились эти двое? А упрямая вдова? Для одного раза информации было многовато, но он надеялся, что позже что–нибудь ещё вспомнит. Кормление костра. Его желания на ветках пихты. И та стрекоза. На него напал смех, он сжал губы, но его распирало, словно он укусил лимон. Соня обернулась, посмотрела на него и улыбнулась. Как далеко прошёл логистик из Штутгарта на пути в глухомань? Ещё недалеко. Главное, что дороги назад уже нет. Шаманка открыла ему новый мир, и он переступил порог. Сделал два–три шага — и заметил, что дверь за его спиной захлопнулась. Какое счастье.
Описав широкую дугу, лодочник пошёл к пристани — плоскому каменистому берегу, где рядышком покачивалась дюжина деревянных лодок. Вечернее небо вовсю сияло сиреневым светом, тайга утонула в темноте. Вернувшись в Чувашку и пройдя через ворота, Блейель увидел на веранде, на бельевой верёвке, волчью шкуру и волосяную плётку. Он отстал от других, прикоснулся к жёсткому меху, потрогал клыки и жёлтые стеклянные глаза. Но плётка напомнила о чём–то неприятном, и он поскорее развернулся и пошёл в дом, к остальным.
Они сидели той же компанией, что и вчера, и пили чай с шоколадками. Саша уехал в Мыски, где его ждали жена и дети.
— Ак Торгу, — обратился к ней Блейель, — White Silk[46] — Катя?
— Да, да, Катя, — ответила за неё Татьяна с гордостью, — Катя Сабанова.
— Катя Сабанова?
— Юрий Сабанов! — лучезарно улыбнулся Юрий, положив ладонь себе на грудь и склонив голову, и вышел из комнаты.
— Да, White Silk, — ответила певица, — Ак Торгу, White Silk. And what is Blejel?[47]
У него пробежали мурашки, когда она произнесла его фамилию. Но что означает Блейель? Он никогда об этом не задумывался. В школе его дразнили Плейелем, спасибо, ещё, что не цыпой. Только Илька показала ему статью в толковом словаре. Оказалось, что он — валёк, деревянная колотушка, чтобы отбивать мокрое бельё. Но как это сказать по–английски? Он вспомнил волчью шкуру на бельевой верёвке.
— Bleuel is very happy,[48] — ответил он.
Тут снова вошёл Юрий, замахал руками и закричал: «Баня, баня!»
Счастливчик снова занервничал, но перед глазами всплыла Ак Торгу в нижнем белье. Какое везение, что Юрий тут же поставил на стол несколько банок пива. И Блейель узнал, что в баню пойдут парами, сначала Ак Торгу с Соней, потом они с Артёмом.
— И только одну банку пива наперёд, слышишь? Я хотел бы обойтись без массажа сердца. Сам–то я выпью две, чтобы расставить точки над «и».
— Какие точки?
— Я что, не так выразился?
— Не знаю. Только я не умею делать массаж сердца.
— Ну надо же.
Вместо ответа Блейель воздел стакан и чокнулся с Артёмом. Руки его дрожали. Татьяна и Юрий перечислили всё, что выращивали в огороде, и заверили его, что молоко у них только от своей коровы. Так они развлекали гостей, пока обе разрумянившиеся барышни не возвратились, с полотенцами на головах и усталыми, довольными лицами. Перед ними поставили минералку и пиво, а Татьяна захлопотала у плиты.
— Now, Matthias[49], — крикнула Ак Торгу, — шорская баня, давай!
— Давай, — храбро повторил он, осушил стакан и пошёл за Артёмом, напоследок тоскливо обернувшись. Ак Торгу больше не посмотрела на него.
Баня оказалась маленькой, кособокой, сколоченной из таких же досок, как и домик Сабановых. Лиственница, подумал Блейель. Они вошли в предбанник, где едва могли развернуться два человека, и то по очереди. Новичок ждал, опустив голову, пока Артём не забросил одежду на длинный крюк и не закрыл за собой дверь в парилку, обдав его влажным, горячим воздухом.
Изнутри он заметил скользкий дощатый пол, потом длинный, грубо сколоченный стол, похожий на верстак, занимавший всю левую часть помещения. Справа потрескивала круглая металлическая печь. Артём стоял перед ней с ковшом и лил воду на камни сверху, вода с громким шипением испарялась. Вода была и в цилиндре вокруг трубы, и ещё, холодная, колодезная, в цинковом корыте у двери. А в тазу полагалось смешивать горячую воду с холодной, чтобы обливаться.
— Но это потом, — объяснял нечёткий из–за пара Артём, бледный и долговязый. — Сначала вот это.
Левой рукой он указал на верстак, а правой ухватил пук берёзовых веток с листьями. Блейель и не пошевелился. Мысль, что несколько минут назад Ак Торгу и Соня, такие же голые, как они с этим волосатиком, ходили по этому скользкому полу и поливали эту печь, захватила его. И, мало–помалу — к счастью, пока без видимых симптомов, эта мысль начала его возбуждать.
Порог. Ключи.
Если бы только… посмеет ли он…
Получится ли у него хоть раз остаться с ней наедине?
Необязательно прямо сейчас.
— Матвей!
— Да. Нет. Не знаю.
— Всё просто. Ты ляжешь вот сюда, а я тебя немножко высеку. Что может быть приятнее?
— Извини, но это как–то слишком…
— Поверь мне, тебе понравится.
Да что с ним творится? Он снова увидел, как мочится на священном месте, и ту, перед которой он преклонялся, в маленьких голубых трусиках и белом лифчике (а рядом мать, с дублёной кожей, пузатая, в бордовой комбинации), почувствовал угрожающий зуд между ног и первое подёргивание мокрого от пота члена. Что делать? Он лег на стол, на живот. Мокрое дерево оказалось таким горячим, что кожа едва вытерпела.
— Вот, отлично.
Долговязый, его тень, окунул веник в тёплую воду и начал обрабатывать ему ступни. Звук такой, будто подметали что–то податливое. Удары сыпались на него, но почти не больно. И чувство страха, поначалу сопровождавшее каждый хлопок, сменилось приятной щекоткой. После ступней Артём пошёл наверх — икры, подколенные впадины, ляжки, зад; к тому времени Блейель давно закрыл глаза. Мокрые берёзовые прутья мели его по спине, и кто его парил, было уже непонятно. Может быть, певица с волосяной плёткой — она снова крепко держала её в руках и не собиралась отдавать призракам из похабных снов. А если не певица (потому что так он думать не смел), то сами таёжные духи вышли поплясать на нём, приветствуя свою добычу.
Вдруг снова раздался голос Артёма.
— Космонавт Леонов…
— Твой отец, — машинально парировал Блейель.
— Что? Да нет же, — молодой человек засмеялся и снова окунул веник в таз, — не он. Надо же так перепутать. Алексей Леонов, наш герой, которому поставили памятник, тот самый, который первый вышел погулять в открытый космос.
Блейель закашлялся.
— Давай, самое место, чтобы всякая гадость отошла. Так, значит, Леонов. И его прогулка по небу, в марте тысяча девятьсот шестьдесят пятого. Так не слишком крепко?
— Какого марта? — спросил Блейель в такт ударам, сыпавшимся на него.
— А что?
А то, что Матиас Блейель родился восемнадцатого марта тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. Но этого он не сказал, а промолчал. А Артём постучал меж лопаток покрепче и продолжил:
— Космический корабль назывался «Восход‑2». Когда он вышел на орбиту, товарищ Леонов выбрался наружу. Он висел на пятиметровой верёвке, поэтому прогулка — это некоторое преувеличение.
— Это ещё в советское время.
— Ха–ха, вся огромная страна на поводке. Ты это хочешь сказать? Матвей, меня всякий раз трогает до слёз, когда ты говоришь что–нибудь, что совершенно к тебе не подходит.
Он высек левую руку Блейеля, спускаясь к ладони.
— О чём же думал Леонов, паря рядом с кораблем? Так далеко я ещё ни разу не забирался, подумал он. Так далеко ещё вообще никто не забирался. Вот момент, к которому шла вся моя жизнь, теперь она останется здесь навечно. Вот что он подумал, Матвей. И, возможно, ещё что–нибудь патриотическое, для учебников.
— Наверняка, — пробормотал Блейель.
— Но знаешь, что произошло дальше? — Артём перешёл на другую руку, для чего наклонился над столом. Какая–то часть его тела задела лежащего за левую руку, рука отдёрнулась. — Леонов раздулся. Сам–то он поначалу и не заметил. Но, когда он попытался протиснуться обратно в шлюз, ничего не вышло. Как он ни кричал, как ни силился. Уж слишком сильно на него подействовала кульминация его жизни. Он болтался на верёвке, наверху, на небе, и не мог вернуться обратно. Никак.
— Что ты там такое рассказываешь?
— Чистую правду. — Он перестал орудовать веником, убрал мокрые волосы с лица. — Потом он всё–таки смог. Но только потому, что был человек вдумчивый, профессионал. Он замолчал и сосредоточился. Откинул все высокопарные мысли. Я — червь, сказал он сам себе. Он искал и искал, пока не нашёл в себе крантик, через который удалось спустить давление. И тогда он головой вперёд полез в шлюз. Чтобы поджаться, как только можно. Только так ему удалось протиснуться, с огромными усилиями и терпением. Так, а теперь перевернись!
Блейель вздрогнул.
— В чём дело? — улыбнулся Артём.
— Не знаю… я к такому не…
— Ну как же, если ты не перевернёшься, то я не смогу допарить тебя до конца. Или хочешь поменяться прямо сейчас?
— Нет, ну…
— Я поддам пару, а потом увижу твоё белоснежное пузо.
Тон не допускал ни малейших возражений. Пациент с трудом привстал — руки обессилели, и перекатился на спину. Исхлёстанную кожу жгло, столешница припекала, как огромный перцовый пластырь. Артём вернулся, театрально воздел капающий веник над головой, и Блейелю показалось, что у него выбриты подмышки. Может быть, это давно стало нормой? И в Германии тоже? Он не знал. Да какое ему дело до Германии, принято ли это в Сибири? Можно спросить молодого человека; раз уж он лежал голышом на верстаке и позволял себя хлестать, то можно спрашивать всё, что угодно.
— Легенда, та, на Холодных ключах, это правда она, или это ты?
— Не понял.
— История о Мрас — Су и Кара — Томе. Ты действительно перевёл то, что она рассказала, или ты там что–нибудь…
Прутья коснулись бёдер. Он понимал, как смешно это выглядит, но накрыл свои причиндалы руками, как футболисты, построившиеся стенкой.
— Мотя, не бойся, я тебе ничего не сделаю.
Но убрать руки было бы ещё хуже, потому что его член неожиданно воспрянул. По крайней мере, ему так показалось. Но не мог же он поднять голову, чтобы посмотреть!
— История… — повторил он, осекшись.
— Не понимаю, что ты хочешь спросить. Или не хочу понимать. Потому что если попытаюсь, то очень уж похоже на оскорбление.
— Нет, нет, ничего такого я не имел в виду.
— Вот и прекрасно.
Он только дважды скользнул по паху Блейеля и перешёл на живот.
— А как ты думаешь, Мрас — Су — то есть Ак Торгу, конечно. Что–то я заговариваюсь сегодня. Значит, Ак Торгу. Вот эта легенда. Уж не хотела ли она что–то этим сказать?
— Например, что?
— Не знаю. Что–то такое.
— Ах. Нет, не думаю. Только что я сам рассказывал тебе про Леонова и тоже не имел в виду ничего такого. — Он отложил веник. — А теперь меняемся. То есть, сначала я тебя оболью.
За это время Артём успел обработать грудную клетку Блейеля, поросшую островками волос. Его облили дважды, и он намылился шампунем, стоявшем на верстаке. Вода стекала между половицами в землю. Освежённый, распаренный новичок взялся за ковш, чтобы поддать пару, потом за веник, чтобы оставить логистика из Штутгарта ещё на пару шагов позади.
После первой же стопки «Пяти озёр», несмотря на плотную закуску из пельменей, щедро политых сметаной, его потребность увидеть Ак Торгу наедине стала непреодолимой. И как только она после еды вышла, он подскочил.
— Пойду принесу кое–что, — сказал он Артёму. В комнату (их разместили на двух раскладушках, в комнатушке за стенкой от кухни, украшенной огромным цветастым ковром на стене) он действительно зашёл, но не для того, чтобы что–то взять, а чтобы кое–что проверить. Потом он прокрался мимо кухни в сени.
Разумно ли ждать её здесь? Пожалуй, нет. Слишком близко, остальные услышат. Он вышел на веранду, дверь чуть скрипнула. Он и не заметил, что вышел в одних носках на сырую землю.
Вот и она. Посвистывая, идёт к нему между тёмных грядок.
— Ак Торгу!
— Oh. Matthias?[50]
— Да, да. I wanted — Ak Torgu, it's — wait,[51] — она остановилась в двух шагах от него, он откашлялся, как на конфирмации, — Я теб… тебья люб… я лью…
— Matthias?
— Sorry, sorry, — but I love you.[52]
Она тихонько рассмеялась, снова назвала его Матиасом и что–то произнесла по–русски.
— It's — I really — I never felt this way before,[53] — запинаясь, проговорил он. Она снова что–то сказала по–русски. Немного склонила голову набок, наморщила лоб, но улыбалась. Он видел её лицо в слабом отсвете лампочки из сеней, дверь осталась полуоткрытой.
— I love you, — повторил он. И, чтобы доказать самому себе, что он способен на такую отвагу не только на чужом языке, прибавил: Ich liebe dich.[54]
Она засмеялась, на этот раз погромче, взяла его за обе руки и начала потихоньку раскачивать, вправо–влево. Наклонив голову, смотрела на него.
— Sorry. Sorry, — в горле у него запершило, и он поцеловал её в губы.
Её губы. Язык. Соприкосновение. Несколько мгновений. И от волнения он не осознавал, что чувствовал и делал новый Блейель.
Она тронула его за руку и повела к двери. В сенях, хихикая, указала на его промокшие носки. Теперь он вспомнил, как нужно было сказать это по–русски — я тебя люблю. Снова произносить признание вслух было слишком поздно, но он чуть слышно прошептал его ещё раз, пока она открывала дверь на кухню. Пожалуй, умнее было бы не вваливаться сразу на ней — но это ему пришло в голову, когда он уже вошёл.
Четверо остальных замолкли. На Артёма он и глаз поднять не мог, а Соня разглядывала его ещё с более уморительной миной, чем её братец. Он поспешил снова сесть за стол. Ак Торгу вымыла руки. Татьяна подняла кубок, и банных дел мастер перевёл:
— Надо отпраздновать возвращение.
— За Холодные ключи! — откликнулся Блейель — приступ отчаяния неожиданно сменился ликованием.
Я тебья льюблью. Почему так — простейшее объяснение в любви по–русски звучало, как скороговорка? Неважно. Он счастливо посмотрел на певицу, которая уставилась в одну точку на стене где–то над его ухом, впрочем, вполне с дружелюбным видом.
Артём явно не перевёл тост Блейеля, и Юрий заговорил о другом. «Йевро», услышал заморский гость, «йевро».
— Евро, ваша валюта там, в малом мире, — пояснил переводчик. — Он слышал, что все страны пользуются одними деньгами, и не может себе такого представить.
— Да, да, это сегодня… ну, раньше мы тоже не могли себе такого представить. Но теперь уже всё наладилось.
И он объяснил снисходительно улыбающемуся отцу волшебницы, что монеты каждое государство чеканит само, решки на них все одинаковые, аверсы разные — но, тем не менее, любой из них можно расплатиться в любой стране. Такого себе никто вообразить не мог, и после третьей стопки он отправился в комнату, чтобы принести в доказательство кошелёк. На обратном пути он задержался, прислонившись к стене, в сенях, в напрасной пьяной надежде, что Ак Торгу, может статься, последует за ним.
Потом он подарил Юрию монету с немецким орлом, а взамен получил соболью лапку, оберег для дома или квартиры, вроде той резной фигурки, купленной для Фенглера.
Для дома, или квартиры, или гнёждышка.
Ещё не было полуночи, когда все разошлись баиньки, и поцелуя ему больше не досталось, зато долгое, тёплое взаимное рукопожатие. Он прошептал скороговорку — голос его дрогнул, но, может быть, ненаглядная уловила движения губ.
— Доброй ночи.
— Ты обманул меня!
Может быть, Илька сказала это не в первый раз, может быть, он просто не слышал, слишком шумело в ушах. Теперь же она кричала: «ты обманул меня!», но кричала не сердито, а словно обращалась к тугоухому.
Он испугался. Ведь это неправда! Он её не обманывал; тот инцидент, после корпоративной вечеринки, пара скабрезных шуток и неудавшийся поцелуй с фрау Акъюн из вычислительного отдела, тут же и говорить не о чем! Он совсем забыл, что из–за недавно перенесённой ангины принимает антибиотики, и потому потерял над собой контроль из–за двух маленьких кружек пива.
Илька не желала ничего слушать: «Ты обманул меня!»
Глаза её горели.
И вот он сидел в бане и плакал. На верстаке. Ноги не доставали до пола, а в руке — нож, которым срезали берёзовые ветки. Но сейчас речь шла не о ветках. А о черешке.
Черешок, слово эхом повторялось у него в голове. Он не знал, кто это сказал. Но было ясно, что подразумевается, и что другого выхода нет. Он вытер слёзы, которые тут же хлынули снова. Взял черешок, который моментально напрягся, в левую руку, и смотреть, что он там делает, было излишне — одним движением он аккуратно отделил его, берёзовый нож оказался острый, как мачете.
И вот он стоял, и кожа его высохла настолько, что шелестела, как бумага, когда он шевелился, а он стоял перед двумя кострами на берегу реки, с жертвенным даром в ладонях. Куда теперь? Языки пламени слева сиреневого цвета — Ак Торгу! Огонь справа — алый, Илька. Что нужно было произнести, как правильно принести подношение, под каким углом согнуть колени, чтобы опустить жертву в огонь — всё это он знал. Не знал только, в какой костёр. Он растерялся. Надо бы собраться, сосредоточиться. Закрыть глаза. В ладонях что–то зашуршало. Он раскрыл глаза, но жертва уже вырвалась у него из рук, поднялась в воздух, переливчато–синяя, и улетела на узких прозрачных крыльях — наверх, за крутой обрыв, за верхушки деревьев — кедров, берёз, рябин, и скрылась из виду. А костры спокойно горели перед ним, и между ног кровь капала на половицы, стекала узкой струйкой и впитывалась в землю.
Ужас проснувшегося не улёгся и тогда, когда он почти уверился в том, что никогда никоим предосудительным образом не прикасался к фрау Акъюн из вычислительного отдела. Он тяжело дышал, сердце колотилось, как бешеное. В утренних сумерках на ковёр на стене нельзя было смотреть слишком долго, иначе оттуда грозила выскочить огромная морда, выскочить и наброситься ему на шею. Надо поскорее уйти отсюда. Повезло, если он не разбудил Артёма; кто знает, может, он сильно шумел, очнувшись от кошмара. Половицы заскрипели под его шагами, переводчик спал — или притворялся, что спит.
Тёмный коридор, где выключатель, он не помнил. Но можно было пройти и так, справа он различил кривую лестницу на второй этаж, где спали остальные (остальные, и точка; уточнять запрещено), слева — дверь на кухню, ещё два шага, потом две ступеньки вниз, в сени.
Сапоги. Без них никуда. В сени просачивался жидкий свет снаружи, он быстро отыскал сапоги. Вышел наружу и попытался вспомнить, куда же делся нож.
Ясное, безлунное небо начало бледнеть по краям, над остроконечными крышами и чёрными макушками деревьев. Блейель двинулся к крошечной дощатой постройке за грядкой щавеля. Окошко над дверью вместо стекла было затянуто посеревшей плёнкой. Внутри — кромешный мрак. Его дыхание ещё не наладилось, и от запаха дыры над ямой, окаймлённой досками, его замутило. Зачем он сюда пришёл? Штаны от пижамы он уже приспустил, но пока не присел. Может быть, поможет, если его вырвет? Для этого надо только чуть склонить голову над ямой. Но он этого не сделал. Тогда, наверное, нужно помочиться. Но это будет затруднительно: черешок наполовину встал.
Черешок. Откуда он взялся? Он же его отрезал. Нет, не отрезал, это был только сон. Вроде бы. Чтобы узнать наверняка, существует только один метод. Надо проверить, не вообразил ли он исцеление, было ли на самом деле на месте, работало ли то, что он только что изничтожил. Он обхватил черешок в тёмноте. Вроде бы чужим он не казался.
Баня, берёзовый веник.
Ак Торгу на верстаке, на животе. Голубые трусики. На одной ягодице задрались чуть повыше.
Да, он реагировал. Веник у него в руке. Для этого не нужно приседать. Продолжать, не слишком быстро и достаточно крепко, так, как нужно. По ляжкам, по спине, по плечам. Равномерно и быстро. А когда он дойдёт до ладоней, она перевернется.
Вот сейчас. Он торжественно задержал дыхание. Перевернулась… Илька! Но не осталась лежать, а враскоряку уселась на верстаке, запустив обе руки себе между ног. Левой она раздвинула губы, а правой что–то вытащила из влагалища. Волосяную плётку. Блейель заколдобился, еле сдержал стон. Только не плётку. Нет! Тёмную палочку с резьбой. Тотем из Таштагола. Два шарика в вафельном рожке. Его затрясло, он сжал веки и по звуку капель на досках понял, что бóльшая часть того, что выплюнул черешок, промазала мимо дыры.
Он суетливо нащупал корзину с клочками газет и пачкой салфеток, которая, как он помнил, стояла справа, вслепую подтёр доски у дыры, схватил ещё бумаги и протёр доски на полу и нижнюю половину двери.
Когда он, покрытый испариной, ковылял между мокрыми от росы грядками обратно, из–за бани выглянула огромная зверюга.
Всего лишь корова. Светлая корова с верёвкой на шее, которую Татьяна куда–то вела, зажав в другой руке ведро. Она что–то крикнула Блейелю хрипловатым, но весёлым голосом. Он ответил «здраствуйтье» и поспешил в дом, вымыл руки на кухне и уже собирался войти в комнату, когда заметил, что так и не снял резиновые сапоги.
Они поехали на «Жигулях» в Мыски, где им предстояло оставить Ак Торгу с машиной у брата и сесть на поезд. «Тогда ты сможешь всем рассказывать в Штутгарте, что ездил на Транссибе», — предложил Артём. Блейель стиснул зубы. Нет. Нет, нет, нет. Никакого Штутгарта не существовало, Штутгарт больше не играл ни малейшей роли. Самое ужасное — время уходило. Чего он достиг?
Поцелуя.
Поцелуй был реальностью, хоть он его почти и не помнил. Но такой же реальностью был и дорожный щит с надписью «Мыски», который они только что оставили позади и значение которого, хоть и хорошо зашифрованное, открылось прозорливому водителю через первую букву, «М». Реальностью было и долгое прощание у ворот Сабановых, и слова «приезжай снова, этот дом для тебя открыт». Но поцелуй больше не повторился, Ак Торгу, сидящая с прикрытыми глазами на заднем сиденье вместе с Соней, через несколько минут уйдёт, и что тогда? Блейель вспомнил, что так и не узнал, что она подписала ему на диске. Он снова и снова пытался что–нибудь сказать, но язык его не слушался; и после того, как фраза про Транссиб повисла в воздухе, замолчал и Артём. Они даже никуда не сворачивали. Около облупленной голубоватой бетонной коробки, которую от дороги отделяли только ряд тополей и тропинка, певица неожиданно закричала: «Вот, вот, вот». Блейель притормозил, и Ак Торгу показала, как проехать на испещрённую глубокими кратерами площадку за домом.
Накрапывал дождик, она стояла у машины и держала завернутый инструмент за тонкий гриф. Он, с рюкзаком за спиной, держал её сумку и ждал, пока Артём и Соня распрощались с ней и побежали под тополя.
— Матиас, — сказала она.
— Ак Торгу, — сказал он.
Они смотрели друг на друга, он умоляюще, она с улыбкой, которая казалось ему полурастроганной, полунасмешливой. И он всё шептал «спасиба, спасиба», пока она искала в кармане пальто ключ. Потом она тоже сказала «спасибо» и пошла к двери, он, с её сумкой, двинулся следом. В горле застрял комок.
— I want, — вдруг вырвалось из него, — I want so much to kiss you again[55].
— Want what?[56] — она поставила лютню и прислонилась к двери.
— Kiss you[57], — повторил он так быстро, как только мог, чтобы его не опередил стыд.
— Нет! Нет! — возмущённо крикнула она. А потом раскатисто рассмеялась, притянула его к себе, крепко обняла, встала на цыпочки и поцеловала.
Не так робко, как в саду. Крепко, долго, так, что он даже испугался и чуть не задохнулся. От этого поцелуя и нёбо, и язык почти онемели.
Ак Торгу сунула ему в руку бумажку.
— Here my telephone[58].
И, не дожидаясь ответа, исчезла с кай–комусом и сумкой за грохнувшей дверью.
Артём с Соней махали ему, под тополями они нашли водителя, который обещал за сотню отвезти их на вокзал.
— И вот он, наш питомец, сидит и зачарованно смотрит в туманную даль, и мы не знаем, что творится у него в голове, но можем предположить, что он погрузился в мечты.
Они сидели одни в купе. Блейель не отреагировал на слова Артёма, даже не повернул к нему голову. Молодой человек продолжил.
— И вот он сидит, смотрит и вспоминает своё приключение. Вероятно, радуется неописуемому размаху сибирских пейзажей. Просторам, на которых легко теряются зоны размером с город. И, возможно, предаётся неприличным мечтаниям о некой шорской певице. Наверное, он застрял в этих выходных, и нам не удастся вытащить его на свет божий, как бы мы ни старались. Да–да, мы переживаем, мы с сестрицей. Переживаем и упрекаем себя. Что недостаточно внимательно следили за нашим питомцем. Что сначала вдохновили его на глупые поступки, а потом дали слишком много свободы. И вот он сидит и смотрит в окно, и мы не знаем, что он там видит. Объект исследования, надо полагать. Сидит себе, в резиновых сапогах — запомнил, как это будет по–русски, Матвей? Сапоги — но мы не знаем, слышит ли он нас. Может быть, он слышит «Песню волчицы», может быть, он вообще больше не желает слышать ничего другого. Вполне вероятно. Я тут болтаю всякую ерунду, а он смотрит себе в окошко, будто я — случайный попутчик, который бурчит себе под нос и на которого не нужно обращать внимание. Однако, Матвей, — он повысил голос и положил руку на плечо мечтателя, — может ли такое быть, что ты не желаешь услышать хотя бы самые важные факты из банных разговоров, которые вела твоя ненаглядная с моей сестрой? А?
— Хочу. Конечно, хочу.
В голосе Блейеля зазвучало отчаяние. Слишком поздно.
— Так вот, малышку зовут Кинэ.
— Какую малышку?
— Её дочь. Ты же видел её на фотографии. Тебе Татьяна показывала.
Фотография ребёнка в бумажнике. О ней он и думать забыл. Что он чувствовал теперь, когда его столкнули лицом к лицу с этой новостью, он и сам не понимал. Завис между небом и землей.
— Ки… Кимэ?
— Кинэ. Шорское имя. В июне ей исполнилось три года.
— И она… то есть… ведь мы же…
— Она была у невестки. В Мысках.
— В Мысках. — Блейель потёр лицо.
— Тебе интересно, кто отец?
Блейель не ответил. Артём, однако, продолжил.
— Тувинец. Слыхал про таких? Тува — это к юго–востоку отсюда, на границе с Монголией. Они там до сих пор скачут на конях, с кинжалами за поясом, а национальный вид спорта у них — борьба. Когда эти дети степей настроены мирно, то коротают время за горловым пением. Вот на этой–то почве они и познакомились. Он — особо мускулистый и ревнивый экземпляр.
Блейель слушал, повесив голову, и так и застыл в этой позе, вперившись в грязно–красный пол купе. Потом вдруг распрямился и сказал:
— Ты врёшь.
— Матвей!..
— Ты всё наврал.
— Вот как? Странно. Для чего бы мне это?
Потому что ты хочешь иметь надо мной власть, подумал Блейель, но молча отвернулся к окну. Соня сидела, поджав ноги, напротив и занималась своим фотоаппаратом — она что–то пробормотала брату. Артём глубоко вздохнул.
— Ну ладно. Признаю, что в этом случае я кое–что приукрасил. Естественно, из благородных побуждений, даже если ты, Матвей, и не желаешь вникать в эти побуждения. На самом деле Соне об этом тувинце почти ничего не известно, она даже имени его не знает. Только то, что он занимается горловым пением, играет в большом ансамбле и порой заезжает с ним довольно далеко. Примерно твоего возраста. И дома, в Туве, у него есть жена и дети.
— Ты всё это говоришь, чтобы меня помучить.
— Вот тебе на! Да зачем бы мне это? Сначала заставил меня выложить всю правду, а теперь совсем разобиделся и вообще ничего слушать не желаешь.
Я с самого начала не желал ничего слушать, подумал Блейель и выглянул в окно, где свора бульдозеров бесчинствовала в зияющей ране земли. Хотя окно было закрыто, в купе проник острый запах смолы.
«Голоса Тувы». Что–то в этом роде. На краю памяти шевельнулось воспоминание — афиша, должно быть, он видел её в Штутгарте. Задолго до Ильки. Обертон, унтертон, что–то в этом роде. Он и не знал, что это такое. Может быть, старый Матиас Блейель, много лет назад, даже и видел того мужика, который сделал Ак Торгу ребёнка. И новый Матиас Блейель ничего с собой поделать не мог, этого мужика он представил себе угрюмым борцом с обнажённым намасленным торсом, кривой кинжал за поясом шаровар, череп бритый, с чёрной косичкой посередине. Он ненавидел Артёма за это.
— Про шаманизм тебе, значит, рассказывать не нужно.
— Нужно.
И он узнал, что Ак Торгу когда–нибудь станет шаманкой. Так ей независимо друг от друга сообщили два знахаря. Один из них, хотя видел её впервые, знал, что на животе у неё имеется родинка в форме волчьего следа, и сказал, что это верный знак.
Соня снова что–то сказала. Блейель разглядывал её ноги, задранные на сиденье, в высоких светло–коричневых туристических ботинках. Когда она стояла или шла, из–под клёша виднелись только самые носки ботинок. В текущем сезоне расклешённых джинсов у Фенглера не было. Впервые за много лет. За вторым пиком клёшей вернулись дудочки. Перейдёт ли Соня на них? Трудно представить. Он ни разу не видел её в другой одежде. Соня в клёшах, это так здорово подходит, по–другому никак. Может быть, она запаслась впрок, чтобы выстоять тяжёлые времена. Нужно купить ботинки, подумал Блейель.
— Ты, может быть, думаешь, что это честь, или что это здорово, стать шаманкой. Но Ак Торгу считает, что это тяжёлое бремя, и вовсе не рада. Коллеги говорят, что придётся, и не отвертишься. Тем более, прабабушкин пример, как после такого откажешься.
— Прабабушкин пример? — он еле разомкнул губы, рассердившись на Артёма за то, что он снова выдержал свою коронную театральную паузу.
— Её съели духи, потому что она отказывалась работать с бубном, хоть у неё и был дар. Духи так на неё за это разозлились, что провертели ей огромную дыру в грудной клетке.
Волчий след, подумал Блейель и привстал, чтобы пощупать соболью лапку в рюкзаке, он положил её вместе с деревянным тотемом в боковой карман.
— А ты можешь спросить у Сони, видела ли она в бане эту родинку на животе?
Артём спросил.
— Моей сестре представляется неуместным рассказывать о том, что она видела в бане.
— В отличие от того, что она слышала в бане.
— Именно.
Блейель снова потёр лицо. Говорить приходилось через силу, но и молчать он не мог тоже.
— Ещё раз — отец её ребёнка. Ты сказал, что у него другая… она с ним ещё…
— Они встречаются на музыкальных фестивалях, раз–два в году. Через годик–другой он научит малышку ездить на коне.
— Пока мама посвящается в шаманки.
— Прелестно, Матвей. Но хватит уже расспросов.
Чтобы развеять всякие сомнения в том, что именно он поставил точку, Артём отвернулся и демонстративно уставился в другую сторону. Сидел он со стороны прохода и вряд ли видел что–то, кроме узора прессованных опилок на двери купе. Блейель окинул взглядом панораму убогих лачуг с плёнкой, натянутой вместо стекол в некогда голубых рамах, и подумал: духи съели.
Кемерово, серый квартал на улице Ноградской. Квартира, в которой он в пятницу оставил свой чемодан, переложив несколько вещей в старый рюкзак Артёма, оказалась оккупирована. За столом на кухне перед пустым стаканом сидел мужичина с красным лицом и невыносимым голосом. Только Соня отперла дверь, как он хрипло вскрикнул и заговорил без остановки, не двигаясь с места. Брат с сестрой, не обращая на него ни малейшего внимания, составили сумки в прихожей и в комнате. Даже когда Соня пошла в ванную, мимо открытой двери на кухню, она вела себя так, будто там никого нет. Новичок, снявший на пороге резиновые сапоги, не был способен поддержать такую иллюзию. Ему пришлось войти в поле зрения мужчины — его чемодан стоял у полки рядом с дверью на кухню, поэтому он на секунду задержался на пороге и пробормотал, слегка наклонив голову, своё «здраствуйтье».
Мужичина, выпучив глаза, наставил на него указательный палец и прибавил звук. Ему было под пятьдесят, пропотевшая серая рубаха в клетку обтягивала его бицепсы, могучую шею и брюхо. Конечно, Блейель не понял ни слова, но и отвернуться не смог. Указательный палец опустился, мужчина захлопал ладонью по столу, аккомпанируя зычному хохоту.
Артём тронул путешественника за руку, мягко вытеснил его из проема двери. Резким тоном, которого Блейель ещё от него не слышал, он выкрикнул несколько слов в кухню. Мужчина загоготал ещё громче, и Артём захлопнул дверь.
— Не спрашивай, Матвей. Иди со своим чемоданом сюда, здесь всё переложишь.
Блейель пошёл за ним в комнату, где сложили вещи брат с сестрой. Крашеные половицы, выцветшие обои в цветочек, бежевая кушетка, над ней на стене большая зелёно–коричневая карта Германии, письменный стол, платяной шкаф, несколько предметов обстановки.
— Ваш хозяин, он вам квартиру сдаёт.
— Что я только что сказал?
— Ты сказал, не спрашивай. Я и не спрашиваю.
— Покажи рюкзак. Надо же, ничего ему не сделалось.
— Нет, нет. Он весь в грязи, видишь, вот здесь, и здесь, и тут, сбоку. Я дам тебе денег на новый, как обещал.
— Пожалуйста, прекрати. Выстираем в машинке и всё, он уже много чего повидал на своем веку.
— В любом случае нам нужно потолковать про деньги.
— Отдашь Соне тысячу четыреста за вылазку на болото, и мы квиты.
Они стояли посреди комнаты. Артём опирался на спинку стула, Блейель лицом к Германии; осознав этот факт, он отвернулся к окну. Волосатик это заметил, отпустил стул и передвинулся так, чтобы Блейель снова увидел за ним карту.
— Я должен заплатить тебе за перевод.
Артём пожал плечами.
— И я оплачу твои услуги, я настаиваю!
— Мои услуги оплатить ты не можешь.
— Конечно, мо…
— Нет.
Блейель, в свою очередь, поменял позицию и передвинулся к окну.
— Понимаю, что тебе надоело со мной возиться. Но за то, что ты делал до сегодняшнего дня…
— От тебя я не возьму денег, Матвей.
— Пожалуйста, прекрати меня перебивать.
Ему и так было сложно говорить. Он должен быть благодарен переводчику, благодарен — и точка. Своему спасителю, своей тени, человеку, который полагал, что чересчур расповадил его, Блейеля.
— Тысячу рублей в день, — сказал он, не подумав, сколько это.
Артём прыснул и помотал головой.
— Даже и не пытайся.
— А что тогда?
— Правда хочешь знать, что?
Нет, подумал Блейель, не хочу.
Сам виноват.
— Пора бы тебе поискать в себе крантик, давление приспустить.
Не отвечай, велел он себе — но тщетно.
— Именно поэтому я ещё здесь. Потому что нашёл свой крантик.
Он стоял в самом начале пути. Ещё не понимал, что к чему. Но он не должен отчаиваться. И позволять себя стращать.
— Матвей, ну что ж ты так промахнулся–то. Для такого… как это по–немецки… такого выкидыша тебе надо было ехать в другое место, но уж никак не сю…
Он осёкся, потому что дверь распахнулась, хлопнув о платяной шкаф, и горлодёр, широко расставив ноги, уже стоял в комнате. Нарочно для этого выхода он прицепил на грудь что–то серебристое, явно орден. Зыркнул туда–сюда, расхохотался, хлопнул себя по ляжкам и замотал башкой с выпученными глазами в сторону Артёма, делая при этом жесты, показавшиеся Блейелю непристойными. Волосатик произнёс что–то резким тоном, сначала по–русски, потом вдруг по–немецки: «Да когда ты, скотина, наконец сдохнешь!», Блейель вздрогнул и на секунду подумал, что это говорится ему. Но нет, пожелание предназначалось мужичине, и иностранный язык его явно взбеленил. Он сжал кулаки, словно готовясь наброситься на Артёма. Потом схватил с пола рюкзак с вещами Блейеля и принялся обрабатывать его правой. Гость испугался за соболью лапку, но кроме «Ньет, ньет!» ничего не мог выговорить, а Артём выкрикнул по–немецки одним духом:
— Ты, Дмитрий Андреевич, скоро сдохнешь, и тогда мы позаботимся о том, чтобы тебя закопали поскорее, и тогда мы отпразднуем, все вместе, да, да, мерзавец, не переживай, в этом самом рюкзаке тебя и похороним!
Дальше он продолжил по–русски, пока Дмитрий Андреевич не зашвырнул в него этим самым рюкзаком.
— Хватит!
В дверях стояла женщина, маленькая, крепенькая, с чёрными кудряшками — явно мать Артёма. Те же нос, рот, подбородок. Сын положил рюкзак на кушетку и пренебрежительно махнул рукой. Противник застучал себя в грудь, по ордену, и начал было что–то доказывать, но маленькая женщина снова на него шикнула, и он ретировался.
— Добро пожаловать, — произнесла она, переводя взгляд с Блейеля на потолок. Приглашение выпить чаю он отклонил, хотя и она ему сразу понравилась, и буян скрылся — вероятно, отступил в другую комнату. Но Блейелю хотелось подумать в тишине. «Дорогу сам найду», уверил он, вручив Соне, переодевшейся в домашние сиреневые брюки клёш, деньги за поездку. Соне и матери он, кланяясь, пожал руку, Артёму кивнул — и вышел с чемоданом в подъезд, не понимая, что же разыгралось в квартире.
В гостинице «Анилин» ему не удалось продлить регистрацию больше, чем на семь дней. Его поселили в той же самой комнате. Лёжа на розовом покрывале и разглядывая картины — сахарную пустыню справа и космических динозавров слева, он подумал, гордо и растроганно, что теперь и в Сибири есть места, которые ему знакомы.
Время подумать в тишине. Стоял день, очень хотелось есть — но через несколько минут он уснул и проснулся наутро в одежде.
В столовой он съел весь завтрак, и сутулая повариха впервые одарила его улыбкой. И когда он отложил вилку и нож, то не мог вспомнить ни одного сна.
Это хорошо.
И ещё хорошо, даже очень — у него был номер телефона Ак Торгу. Жаль только, что чуда не произошло и за ночь он не овладел русским.
И ещё хуже, всю свою утреннюю уверенность он оставил в столовой. В комнате она испарилась напрочь. В расстройстве он застыл у разбросанной постели.
Что будет дальше?
Что ему делать?
Я здесь, я пришёл. Да, в этом нет сомнений, и это — хорошо и правильно, в этом тоже сомнений нет. Поцелуй. И ещё один поцелуй. Но что теперь? Он в Кемерово, она — в Мысках. Километрах, наверное, в двухстах. По сибирским меркам недалеко. Он знал её номер и еле сдерживался, чтобы не позвонить прямо сейчас. Но что он скажет? Привьет! When will we meet again? Where can I see you? Я тебья льюблью. I miss you so much. I'm longing for you.[59] Всё это всухую, не видя её, не видя реакции. Ему было страшно. Он боялся, что покажется назойливым чурбаном, что не поймет её ответа. И ребёнок. Девочка. Кинэ. Хотела ли она, чтобы он узнал, нарочно ли рассказала Соне, рассчитывая, что Соня скажет Артёму, а Артём — Блейелю? Может, она думала, что он уже знал, когда целовала его в Мысках? Вряд ли, когда Соня успела бы рассказать. Может, она его только потому и поцеловала, потому что знала, что он ещё не знает? Но номер телефона дала. Это очень, очень хорошо. Мобильный или городской? Лучше бы мобильный. Городской, нет, вряд ли. Мобильный, значит, можно написать ей сообщение. Thank you, thank you, thank you. I miss you so much[60]. Маленькая дочка. Борец из Тувы. Нет, какое там выспался и уверен в себе. Блейель чувствовал себя так, словно его мозг съехал в пятку и стиснут дурацким резиновым сапогом.
Где найти новые ботинки? Где что купить в Кемерово, так и оставалось загадкой. Он не запомнил ни одного магазина. Кроме аптеки в соседнем доме. Вот офис Галины Карповой, может быть, он и найдёт. А тот ангар с рабочей одеждой — ни в жизни. Глупые мысли. Надо звонить Артёму. Но время полдевятого. Слишком рано. И придётся снова продемонстрировать свою зависимость. А этого никак не хотелось.
Он взялся за плейер, но тот не включался. Наверное, сели батарейки. Он вытащил их и положил в карман куртки, чтобы не перепутать, какие нужны. И выскочил на волю, по улице Кирова — и мимо тихого парка чудес к набережной. Стояло прохладное, приятное утро. Впервые он заметил, что шестиэтажная бежевая коробка к востоку от парка, должно быть, родильный дом. Под гигантской операционной лампой женщина в белом бодро улыбалась с огромного плаката и держала в руках новорождённых близнецов, закутанных, точно мумии.
Вот и набережная, почти пустая, только некоторые скамейки заняты спящими пьянчужками. Чёрная река. Кара — Том, подумал Блейель, опершись на перила и смотря на мост, Мрас — Су, вздохнул он, Мрас — Су.
— Да нет же, господин чужой, вы снова смертельно ошиблись.
Артём, откуда ни возьмись.
— Ты шёл за мной? — спросил Блейель.
— А ты меня подкарауливал? — получил он в ответ.
— Утренняя прогулка.
— Скажите пожалуйста. Как похожи наши привычки, Матвей.
— Не хочу тебе мешать, Артём Викторович.
— Ты не мешаешь. Как спалось?
— Хотел спросить у тебя кое–что.
— Кое–что?
— Где тут поблизости можно купить ботинки?
— А-а. В Таштаголе.
— В Таштаголе?
— Шутка. Дрябловата получилась, не проснулся толком, через час–другой будет лучше. Тогда как раз и магазины откроются, и я тебе всё покажу.
— Большое спасиба. И ещё кое–что. Вот это мобильный номер?
— Покажь.
Блейель дал ему записку, не смотря ему в глаза. Артём подозрительно долго не отвечал.
— Нет, это не мобильный. Это вообще не телефонный номер. Это… невероятно. Старый код КГБ. Код представителей коренного населения, которые недостаточно считались с коммунизмом.
— Чего?
— Ах, Матвей. Врун из меня никудышный. Ладно, ладно, это мобильный.
Снова ангар, мрачный, неприютный, всего лишь в пятнадцати минутах ходьбы от набережной. Имелась ли снаружи опознавательная табличка, Блейель сказать не мог, может, киоск и мангал с шашлыками при входе и были приметами. В тусклом зале магазинчики лепились, как базарные лотки, кое–где между битком набитых полок виднелись только крохотные окошки, за которыми сидели продавщицы. Продавалась одежда, игрушки, вышитые фартуки и матрёшки цветов кемеровской хоккейной команды, компьютеры и электроника, всякая всячина. На вздох Блейеля Артём ответил:
— Вылазка в нутро нашего городишки, она не отпугнет немецкого исследователя. На следующей неделе займёмся китайским рынком.
Ледяная продавщица обувного магазина, расположенного в самой глубине зала, оттаяла только после рассказа о болоте. Блейель сдерживался, пока дама, всё ещё хихикая, не протянула ему три пары ботинок, тёмно–синие, лаковые бордовые, а третьи — из белой искусственной замши, и все три пары с острым носом.
— Это ещё что такое?
— Ты же хочешь стать таким, как мы.
— Но не выглядеть при этом как сутенёр!
— Ей это перевести?
— Нет, нет. Пожалуйста, не надо. Вот ведь чёрт.
— Ого.
— Я хочу что–нибудь попроще. Коричневые или чёрные, но не такие блестящие. И с круглым носом.
Вышел он с самыми скучными ботинками, какие у него только были в жизни, а у него бывали уже невообразимо скучные ботинки. К его изумлению, выход из ангара оказался в нескольких шагах от обувного. На улице он вспомнил про батарейки.
— Долго ты ещё будешь меня за нос водить?
— Это я у тебя должен спросить.
— Ерунда. Но я тебе благодарен, и буду благодарен всегда.
— Ужасное наказание.
— Ты извини, что вчера присутствовал при той кошмарной сцене у вас дома.
— Да ладно. Дмитрий Андреевич будет спать до полудня, а потом протрезвеет. На несколько часов.
— Он солдат. — Блейель только теперь это понял. Дурацкий орден на груди горлодёра.
— Был. В сорок шесть с почётом вышел в отставку в чине майора наших непобедимых войск и теперь пожизненно находится под командованием генерального секретаря Водкина.
— Вы сдаёте ему комнату.
— Да, вот так ты объясняешь себе мировое устройство. Что после отлёта дивного супруга моей чудной матушке могло заблагорассудиться выйти замуж за такую скотину, об этом и речи быть не может.
Блейель промолчал. Они брели по Советскому проспекту, солнышко припекало, но не настолько, чтобы снять куртку.
— Матвей, ты море любишь?
— А что?
— Скажи.
— Да. Море я люблю.
— Другого города, который был бы так далеко от моря, в России нет. Во всей России, ни одного. То есть, ни одного во всём мире.
Руки дрожали, он уже полчаса сидел над парой слов и боролся со страхом. Hi, it's matthias. Thank you, thank you so much for taking me to chuvashka and to arzhan! I would love to see you again. I am in kemerovo.[61]
Хорошо ли получилось, стояло ли там главное? Словно нужно было с одной–единственной попытки найти волшебное заклинание, без которого дальше никак. Может, стоило бы — место ещё оставалось — приписать свой номер? Или Ак Торгу подумает, что он считает её ограниченной?
Когда он наконец отослал сочинение, стало ещё хуже. Он остался сидеть по–турецки на кровати. Перед тумбочкой на полу красовались новые ботинки, источавшие лёгкий запах клея. Сначала он на десять раз перепроверил, отправил ли он сообщение, на тот ли номер, который стоял на бумажке, правильно ли он разобрал цифры на записке, не ошибся ли при наборе номера. Значит, интернациональный код России — 007. Как шутка времён Холодной войны. Кто вообще устанавливает коды стран? Но нет, отвлечься не получалось никак. И поехало, по полной программе — а вдруг она в спешке ошиблась и написала неправильный номер, вдруг она потеряла телефон, вдруг он настрочил не то? Он ещё раз перечитал сообщение. Никаких «I love you»[62] он сознательно не допустил. Только не навязываться. С другой стороны, это «Thank you, thank you so much for taking me to chuvashka and to arshan!»,[63] как будто он, как турист, благодарит проводника. Thank you so much for singing with me.[64] Вот что следовало написать.
Но теперь он не мог даже просто послушать её диск, даже на покупку батареек мозгов не хватало.
А что, если всё изменилось, если после выходных скобка закрылась, вставка закончилась? Вставка, во время которой новый Матиас Блейель, проклюнувшийся из штутгартского логистика, откомандированного к чёрту на кулички, насладился моментом огромного счастья. Моментом, на котором навсегда зависла его жизнь. Моментом, после которого ему, в свою очередь, оставалось только повеситься? Что, если в Мысках или где там ещё, прямо сейчас, малышка Кинэ сидела на коленях матери, а в дверях, ослепительно улыбаясь, с букетом степных цветов стоял тувинец, с напомаженной косичкой, добродушно покачивающейся на лысом черепе, и торсом, словно изваянным из мрамора античным скульптором нетрадиционной ориентации? Торс, обертон. Ночи таёжной любви. Что навоображал себе рохля с небритыми подмышками?
Но нет, духи, нет, не может быть, чтобы для Матиаса Блейеля на этом всё закончилось! Два поцелуя, два самых важных в мире поцелуя — но Матиас Блейель давно не подросток. Матиасу Блейелю для счастья нужно намного больше, чем два поцелуя, нужно противоядие от позорного воспоминания о сортире на краю глуши и волосатике с берёзовыми розгами, проехавшемуся ему по руке не сказать какой частью тела!
Потом его трижды вспугивали звуки. Свист из ванной, из трубопровода. Посвистывание из коридора, за которым последовало восклицание, покашливание, брякнул ключ в замке. Звякнули оконные стекла, когда по улице проехал грузовик. Всё это время Блейель просидел по–турецки на кровати.
После шести, наконец–то, долгожданный стрёкот.
I come kemerovo. day 25. see you? *AT[65]
И всё перевернулось. Встало с ног на голову. И всё стало хорошо. Жизнь продолжалась, следующая отметка — day 25.[66] Он нажал «ответить» и осмелился сочинить в рифму: Tell me when, tell me where — i'll be there! Love, m.[67]
И на улицу, на воздух. Сначала шашлык в парке чудес. А потом — пиво на набережной, в полном одиночестве. Пока солнце садилось за индустриальную романтику. Куртка не нужна. Вечер обещал быть тёплым.
— Герр Фенглер, какая удача, что вы сами взяли трубку! Простите за ранний звонок. У вас только полдевятого утра, не так ли?
— Кто это?
— Блейель — Матиас Блейель.
— А-а, герр Блейель. Как ваши дела?
— Хорошо. Отлично. Только что отправил вам посылку. Мёд из таёжных цветов и шорский тотем.
— Вы благополучно воротились домой?
— Нет, я — я ещё… мне нужно…
— Откуда вы звоните?
— О, — он не вполне справился с хихиканьем, — нас по–прежнему разделяют почти семь тысяч километров.
— Как? Плохо вас слышу.
— Я из Кемерово.
— Из Кемерово? Что случилось?
— Нет, ничего не случилось. Всё прекрасно. Я только…всё ещё… и возможно, что задержусь ещё, довольно надолго.
— Когда вы вернетесь?
— Не знаю.
— Герр Блейель…
— Герр Фенглер, я… вполне возможно, что я…
— Что? Вас плохо слышно.
— Да, приём плохой. Я стою у реки. Но что я хотел сказать: вполне возможно, что я вообще больше не вернусь в Германию.
— Нет самолётов? Вы попали в беду?
— Нет, нет, вы не так поняли.
— Мы вас обязательно выручим!
— Нет, нет. Нет, нет, мне здесь правда очень хорошо.
— Вы захворали?
Блейель растрогался. Старикан, его выражения, всё эти мелочи. Вы захворали.
— Герр Блейель?
— Я совершенно здоров!
— Что с вами происходит? Почему вы не возвращаетесь?
— Это… это сложно объяснить по телефону. Я напишу вам. И пришлю фотографии.
— Да что вы там делаете, в Кемерово?
Он больше не мог и рассмеялся.
— Учу русский. Русский и шорский.
Пауза. Блейель представил себе, как старикан посасывает сигару. Хотя, полдевятого утра, наверное, рановато.
— Мы не сможем дать вам такой долгий отпуск.
— И не нужно.
Фенглер вздохнул.
— Что вы имеете в виду? Вы же сказали…
— Я… мне очень жаль, но — вероятно, мне придётся уволиться. Ужасно это говорить, но, ха–ха, понимаете, со мной случилось нечто непредвиденное, можно сказать, произошёл несчастный случай, но на самом деле…
Он прервался, оказывается, он забыл дышать.
— Герр Блейель, вы так говорите, словно у вас лихорадка.
— Лихорадка? Ха–ха! Нет, нет, я просто великолепно себя чувствую. Представьте себе, я влюбился.
Снова пауза. Из телефона Блейеля послышалось нечто вроде отдалённого фейерверка. Прощальный салют, подумал он.
— Вы влюбились.
— Да. Да. Я всё вам обстоятельно напишу.
— Что же нам теперь делать, герр Блейель? Вы говорите, что не знаете, когда вернётесь из Кемерово. Я волнуюсь.
— Ради бога, простите. Не хочу подводить фирму. Но не могу по–другому.
— Мне кажется, вам нужна помощь.
— Пожалуйста, умоляю вас, не волнуйтесь. Правда, не нужно. Мне очень, очень неловко, что ставлю фирму в такое положение…
— Да прекратите вы уже про фирму!
Добрый патриарх. Но Блейель продолжил.
— А герр Хюнинг…?
— Насколько мне известно, герр Хюнинг прекрасно справляется.
— Что ж, тогда… то есть — я вам напишу, хорошо?
— Вы действительно совершенно не можете сказать, когда вернётесь?
— Я не могу вернуться.
— Не можете?
— Нет.
— Да что с вами творится?
— Ну, я же вам только что сказал…
— Вы хотите всё тут бросить.
Вдруг так явственно. Без вопросительного знака. Блейель поглядел на мост, над рекой друг за дружкой гнались две вороны.
— Да, герр Фенглер. Вы правы. Я всё бросил.
Как бы ему хотелось, чтобы это были последние слова разговора, заключительные фанфары, но не вышло. Фенглер ещё поговорил о предписаниях, двенадцати годах на фирме, критических моментах в жизни, о том, что иногда нужно отдохнуть, даже об отпуске на неопределённое время и снова, что Блейелю нужна помощь, и про врача упомянул. Блейель повторял только «спасибо, спасибо», пока разговор не закончился.
Day 25. До него ещё девять дней — целая вечность в одиночестве, серьёзное испытание терпения, брошенный ему вызов. Так много нужно решить. Уладить. Вытерпеть. Надо найти другое жильё. Гостиница обходилась, трудно поверить, в девяносто евро за ночь, и он не мог более ожидать, что Фенглер покроет эти расходы. Он бы сам не согласился, и за первые дни он тоже расплатится сам. Он отступник, изменник.
При этой мысли ему сделалось жарко от благодарности к старикану, чья прихоть привела его сюда; он едва не пустил слезу. Но расслабляться нельзя, нужен расчёт.
К посылке с мёдом и тотемом он приложил открытку, передаст ли она хоть малую часть его чувств? Глубокоуважаемый герр Фенглер, погоди, разве он не доктор Фенглер? Хотя нет, с чего он это взял. Сердечный Вам привет из Сибири и два сувенира из поездки, которая превзошла все мои ожидания и направила мою жизнь в новое русло. Надеюсь, мёд передаст Вам вкус тайги. Резной сувенир — шорский оберег для дома и семьи. Шорцы — коренная сибирская народность (тюркская народность). Фотографии следуют. Коренная народность, тюркская народность — он что, так написал? И не заметил повтора? Шлю Вам сердечный привет из Кемерово, о боже, с сердечным приветом он тоже повторился, и от всего сердца благодарю Вас за всё, искренне Ваш — нет, нет, это совершенно не то, что он хотел сказать, слова показались ему чопорными и фальшивыми, надо будет собраться и написать новую, хорошую открытку. С фотографиями.
Матиас Блейель имел некоторые сбережения. Но девяносто евро в день, долго так продолжаться не может. Что делать? Артём. Эта мысль нисколько его не растрогала. Артём Неизбежный, Артём Непреодолимый. Нет, придётся пожить ещё за дорогие деньги, до тех пор, пока он не пересилит себя и не обратится к Артёму. Сбережения. Счёт, с которого он расплачивался за разную текучку, там особо поживиться нечем. Есть ещё сберкнижка. И, разумеется, частная страховка. Возможности есть. Но всё это так далеко, в другой жизни, отсюда ни до чего не дотянуться. Хотя, может быть, удастся подоить сберкнижку по телефону, через фрау Майнингер в его филиале, его консультанта, которая его знала — или, по крайней мере, притворялась, что знает. В любом случае надо ей позвонить, чтобы сторнировать квартплату и прочие платежи. Её номера он не знал, придётся искать, или через справочную, или через горячую линию на обратной стороне его банковской карточки.
И так многому надо ещё научиться. По дороге с почты он набрёл на книжный магазин и обзавёлся словарём. Теперь он зубрил русские существительные. Он надеялся, что для начала и этого хватит, ведь у него ещё был «Русский язык шаг за шагом». Грамматика показалась невыразимо сложной. Он прочитал о разнице между совершенными и несовершенными глаголами и узнал, что существуют шесть падежей и целая система склонений, которая подразделялась не только на мужской, женский и средний род, но и категории одушевлённый, неодушевлённый, мягкое и твердое окончание. В одиночку с этим не справиться. Даже важнейшие существительные были достаточно сложными и приходилось их расшифровывать. Гостиница, комната, деньги, дýхи, песня, волчица. Дочь. Ботинки.
Ботинки жали. Чтобы не сойти с ума в номере гостиницы, он полдня бродил по центру Кемерово, пытаясь удержать в памяти топографию. Он сбил ноги. Придётся снова идти в аптеку. Слова «мозольный пластырь» в словаре не было, но «боль», и «ботинки», он покажет, как сможет, и получит желаемое. Он приободрился.
Черноволосое дитя с огромными глазами. Дочь, Кинэ. Они гуляли по набережной, он вёл её за руку. «Ты любишь море?» спросил он по–русски. Но она была ещё так мала, что не могла посмотреть за балюстраду. Он присел на колени, чтобы поднять её, и ему показалось, что с её глазами что–то не так. У них не было никакого цвета. Ни чёрного, ни карего, ни голубого. Солнце садилось, но света, чтобы рассмотреть цвет глаз, вообще–то хватало. И он ясно видел уголёк, тлеющий под носом малышки. Блейель испугался. В голове его раздалось громовое «Не так! Не так! Ты её потеряешь!». Он сидел перед Кинэ на набережной и собирал все силы. Не поддаваться. Надо победить страх. Искать решение, найти верный путь, предпринять шаги. Не сдаваться. Он плохо подготовлен, он ничего не знает, но он справится! Да. Он справится. Голос в голове затих, и с другой стороны докатилось пение Ак Торгу. Надо чуть подождать. Совсем чуть–чуть. Не шевелиться. Сидеть. Ему стало легче.
— Где твоя мама? — спросил он девочку, когда наступил подходящий момент. Вдруг её глаза запылали, она, казалось, слилась с балюстрадой, её руки, ноги, голова сделались как отростки раскалённых докрасна перил. И перед тем, как исчезнуть, она рыкнула: «Газпром!»
Задохнувшись, он вскочил с подушки.
Но скоро ужас уступил место почти радостному чувству. Ведь Ак Торгу впервые явилась ему во сне. Сколько раз ему виделось её лицо, слышался голос — во снах она не появлялась ни разу. Кошмар в Чувашке — не в счёт. Нет, этот сон про незнакомую дочку — первый. Первый, в который не вмешалась Илька. Ведь голос был не Илькин, а непонятно чей; может, Фенглера, а может, Артёма. Или старого Матиаса Блейеля, который не мог не вмешаться.
Долгий путь. Первые шаги за порогом. Потихоньку, но твёрдо. В следующий раз получится лучше. В следующий раз он спасёт малышку!
I miss you so much. I had a dream about your daughter. I would love to know the little girl. I love you.[68]
Наутро он не помнил, отослал ли он сообщение. И написал ли он его вообще. Фразы чётко отпечатались в его голове, но в папке «отправленное» он их не нашёл, равно как и в черновиках. Зато, взбивая подушку, он обнаружил под ней соболью лапку. Сам же наверняка и положил. Блейель удивился.
Глаза. Нос. Душа. Шаман.
Позже, днём, когда зазвонил телефон, он сразу же схватил трубку — подумал, что это фрау Майнингер, его банковский консультант, которую он просил перезвонить.
— Да, Блейель.
— Да, Блейель, — передразнила она его. — В чём дело, почему ты не перезваниваешь?
Он помедлил. Он действительно не сразу её узнал.
— В смысле, не перезваниваю? А-а, ты звонила на городской номер — но откуда бы я это узнал.
— Ну и где ты?
— В Сибири.
— Чего–чего?
— Я же тебе недавно всё рассказывал.
То ли помехи, то ли она и правда презрительно цокнула.
— Да–да, я помню. Командировка. Ты что, всё ещё там?
— О да.
— О да.
Разве она когда–нибудь передразнивала его раньше? Вроде никогда. Раньше ей это было не нужно.
— Видимо, у тебя наконец появилось хоть что–то, чем можно гордиться.
— Да, появилось.
Как ему хотелось ответить спокойно и веско! Но нельзя требовать от себя слишком многого, уже хорошо, что удавалось отвечать так кратко. А рассыпаться перед ней и не требовалось. Если хочет что–то узнать, пусть сама и спрашивает.
— И почему это я должна получать извещения, что ты не заплатил за свет?
— Ой.
— Ты, наверное, и этим гордишься?
— Нет, я забыл.
Удивительно — он так и не оформил отчисления в банке! Такой ответственный человек, как Блейель.
— Я забыл. Но скажи им, что это не к тебе.
— Вот спасибочки. Нет уж, я им вообще ничего говорить не стану, а ты сам возьмёшь и сделаешь.
— Я ничего не сделаю. Я в Сибири.
— Ты что, спятил?
— Ты что, спятила?
Получилось! Он её передразнил. От возмущения она чуть не лишилась дара речи.
— Матиас, мне надоело. Мне всё надоело. Я не хочу больше иметь с тобой никакого дела.
— А зачем тогда звонишь?
Нет, у него есть все причины быть собой довольным.
— Очень смешно. Я звоню, потому что ты пытаешься вынудить меня платить за твой свет.
— Нет. Для этого тебе не нужно звонить мне. Могла позвонить им и сказать, что ты там больше не живёшь, доказать это нетрудно, а что будет дальше — это тебя не касается.
— Но почему, почему, чёрт побери, ты до сих пор не переоформил договор в банке?
— И это тебя не касается.
Он услышал, как она поперхнулась.
— Меня от тебя просто тошнит! Почему ты вывёртываешься?
— Я не вывёртываюсь. Я забыл переоформить договор, потому что меня это больше не интересует.
— Ты что, действительно свихнулся?
— Нет, нет. Я скажу тебе, что со мной. Я наконец бросил гнёждышко. Навсегда.
— Ты болен.
— Ты всякий раз это говоришь. Но радуйся — ты бросила гнёждышко, и я теперь тоже. Всё кончено, и всё прекрасно.
— Всё кончено давным–давно. Только я до сих пор получаю твои счета.
— Да, извини. Я облажался. Но представь себе: во сне, когда я сплю, ты исполняешь порнографические танцы. — Он говорил всё быстрее. — Это просто ужасно, это отвратительно. Ты извиваешься, расставляешь ноги и вытягиваешь всякие предметы из влагалища. Ты! Ха–ха! Из влагалища. Прямо оттуда.
— Матиас…
Как будто она не могла понять. Дрожащий, срывающийся голос. Несомненно, она не могла понять. Он и сам себя не понимал, но продолжил:
— Ты как, нашла, наконец, того, кто тебе ребёнка заделает?
Она бросила трубку.
Он задыхался, словно бежал, спасая жизнь. Но нет, поправился он: я не сбежал. На этот раз нет. Я вступил в схватку. К всеобщему изумлению, разорвал цепи и сражался. Перешёл в нападение. Теперь путь свободен. Наконец–то! Путь свободен!
Юная парочка на набережной обернулась в его сторону, остановилась, и коротко стриженый мальчик что–то сказал девочке в чёрной джинсовой мини–юбке, с колечком в пупке, та расхихикалась. Блейель понял, что говорил вслух. Он закашлялся, ускорил шаг. Ему захотелось запеть «Песню Волчицы», она сейчас пришлась бы к месту.
Нрав мой свиреп, берегитесь,
Не подходите слишком близко.
Хотя свирепым он себя и не ощущал. Шагать бесстрашно и уверенно, как волчица, вот чего он хотел. Не быть марионеткой, идти своим путём, знать, куда, и безошибочно стремиться именно туда. А если кто захочет ему помешать — о да, вот те пускай остерегутся!
Громко петь он не стал. Гудел себе под нос, шагая по улице Кирова, а на Советском проспекте замолчал. Бояться больше нечего, нечего бояться, увещевал он сам себя. Но в нём разливалась не боязнь, а грусть. Он пытался сопротивляться, держаться за волчье чувство — оно только что было здесь, он достиг его, оно не могло же улетучиться!
Может, его мучила совесть из–за Ильки, гадостей, которые он ей наговорил? Нет, не это. Ильку он потерять не мог, он её давно потерял. И наконец–то, наконец–то он поговорил с ней так, что и сам не мог больше отрицать, что это конец. Может быть, теперь она оставит его в покое, он преодолел её, размозжил! Он мог быть собой доволен.
Но в одиночку ему недоставало сил, чтобы удержать в себе волчицу. Ему необходима помощь. «Ak torgu, it's so good to know you are there!», — написал он, — «I miss you a lot. How are you, what are you doing? I'm in kemerovo waiting for you. Love, m.»[69]
Он наклеил четыре пластыря, но ноги всё–таки болели. Однако он не мог ни ждать в незнакомом окружении, ни сидеть в дорогой розовой клетке. Афтобус и маршрутка оставались тайной за семью печатями, он пошёл пешком — направо, на Ноградскую, несмотря на боль, мимо театра, и без чего–то пять, когда показался дом на углу, куда он направлялся, прилетел ответ: «I'm on altai. Music festival. Kemerovo day 25. *k»[70]
*k, а не *АТ. Теперь она называла себя Катей. Хотела ли она, чтобы он тоже звал её Катей? Катя Сабанова. Он снова увидел её мать, как она произнесла её имя, за чаем в Чувашке. Серьёзным голосом, предостерегающе, требовательно, как глубокую истину, которую не следует забывать, родительскую истину. И, может быть, она хотела, чтобы он, Матиас, теперь тоже придерживался родительской истины. Возможно, это хороший, важный знак, что она обращалась к нему не от имени творческого псевдонима, как это, с другой стороны, ни жаль. Кать много, даже и в Штутгарте[71], Белый Шёлк — так звали её одну. С другой стороны, Белый Шёлк и Матиас — это тоже не сочетается. Тогда ему нужно другое имя, Серый Волк. Или Бурый Медведь–плясун. Или Идущий На Четырёх Мозолях.
Однако, как он ни обрадовался её быстрому ответу, настроение у него упало. Она в горах Алтая, на музыкальном фестивале. Раз, два в году она встречается с тувинцем. И теперь именно сейчас! Алтай, Алтай. Незабываемая панорама, не открывшаяся им в тот день с Кургана из–за тумана. Свободен ли путь?
— Ак Торгу или Катя, как поживает моя дочурка?
— Скучает по папе, певцу и конному атлету из дальних краёв.
— А что её мама?
— Ах, её мама познакомилась с чужестранцем. Со слабачком–немцем, которого взяли на аржан, а он там мочился на священные деревья — а ночью истоптал дом её родителей грязными резиновыми сапогами.
— Это правда?
— Выдумывать такое я бы не стала, о борец.
— Чёрт подери! Если всё действительно так скверно, то не вижу другого выхода, как увезти вас с дочерью в тувинские степи и там заботиться о вас.
Прекратить, прекратить, прекратить! Day 25, ещё одна неделя. И ведь она сразу ему ответила.
Окно с пёстрой креповой розеткой. Он взялся за ручку двери. Зачем он сюда припёрся? Только теперь, когда было слишком поздно, он понял, что и сам этого не знал. Он стоял на том же месте, что и тогда с грамотой и конфетами, только на этот раз с пустыми руками. Сначала он прятался за клиентами — женщиной с округлой спиной и строгим птичьим лицом и усатым мужчиной. Что ему здесь надо? Заказать что–нибудь? Например, нормальные ботинки? Он не хотел признаться себе, что на самом деле искал Артёма, раз в последнее время не встречал его на утренней прогулке.
Наталья, одна на посту, с волосами, собранными в свободный пучок, заметила его. Побледнев, она пробормотала приветствие, а может, и молитву, ограждающую от духов, терзающих на рабочем месте.
— Сюрприз! Я всё ещё здесь. С ума сойти, правда? — начал он, слегка склоняясь над изогнутым столом. А когда собрался поднять голову, то запутался взглядом в её декольте. — Да, сумасшедшая история, — добавил он.
Усач сбежал, женщина уселась на диван под плакат «Фенглер» и принялась разглядывать коллекцию «Summer Feelings»[72].
— Сумасшедшая? О. Что случилось?
— Ах, Наталья. Долгая история. Я так рад, так рад, что я здесь. Пожалуйста, не удивляйся.
— Всё хорошо?
— О да! О да, очень хорошо. Просто решил заглянуть, как вы тут. В вашем офисе.
Его взгляд не отрывался от двух мягких белых полушарий, прижавшихся друг к другу в вырезе тесной, усеянной стразами майке в обрамлении чёрных лацканов пиджака.
— Хорошо. В офисе всё хорошо, — ответила Наталья, покраснев и поджав плечи. Блейель заметил это движение и, наконец, поднял взгляд, но сдержать замечание «Ты ошеломительная, Наталья, ошеломительная» не смог. Она неуверенно улыбнулась.
— Summer Feelings, — продолжил ошеломлённый и кивнул на даму, листающую каталог, — эта коллекция уже распродана. С середины июля. Я на всякий случай говорю, чтобы не было разочарований. Сейчас в программе Autumn Dreams. То бишь осенние мечты.
— Фенглер, — тихо произнесла Наталья.
— Фенглер, — кивнул Блейель. Они замолчали, и он снова уставился на её грудь. Вон отсюда, сказал он сам себе. Но не мог пошевелиться. Так что он спросил, как поживает её семья, снова услышал тихое «гут», вдруг сдвинулся с места, проковылял ещё ближе к письменному столу, вытянул руки — ему вдруг захотелось её обнять. Она испуганно пискнула и стукнулась спинкой стула о стену.
— Криво висит, — он указал на грамоту от старикана, висящую сверху. — До свиданья, Наталья, до свиданья! Передай, пожалуйста, привет остальным… Галине… и Любе. — Он в последний раз поклонился и, мучаясь, выбежал наружу.
Он был не в себе. Звонок Ильки, новость Ак Торгу, теперь натальина грудь. Новая жизнь круто взялась за Матиаса Блейеля. Шаги, пороги. Всё очень важно, и хоть бы всё сложилось так, как надо. Главное, не запутаться. В такой момент, на этой стадии. Несомненно, воскресенье лучше всего провести в розовой клетке, и не только из–за сбитых ног. Поучить русские слова. Успокоиться. Он зашёл в магазин и запасся водой и соком, чипсами, серым хлебом, взял два пакетика сухофруктов, шоколада, жареного цыпленка. Бутылку водки со знакомой этикеткой. Пять озёр, прочёл он по–русски.
Наступила среда, и он не знал наверняка — то ли фрау Виндиш на самом деле звонила и сообщала о смерти Ганса Вальтера Фенглера, то ли это был обрывок лихорадочного сна. Что теперь делать? Ждать, решил он. Пока не писать вторую открытку. Будут ещё знаки, или сны, и всё прояснится. Всё по порядку. Он учил слова. Письмо. Терпение. Смерть. Сейчас насущнее был другой вопрос — ему казалось, что служащие гостиницы «Анилин» стали недоверчиво на него коситься. Утром у него возникло чёткое ощущение, что женщина за конторкой подкарауливает именно его; он разогнался и сбежал мимо по ступенькам и прочь, словно куда–то опаздывал. Ему показалось, что она хочет что–то сказать, что она встала и подбоченилась. Но он уже выбежал на улицу. Уши его были заткнуты наушниками, он сменил батарейки в плейере.
Издалека он увидел тёмный силуэт Артёма у чугунной балюстрады, он опирался на локти и смотрел на реку. Блейель замедлил шаг, подождал, чтобы улеглось дыхание, ни на секунду не выпуская Артёма из виду. Утро ветреное, но ветер несвежий, как из выхлопной трубы. Выбросы из труб за мостом неприятно царапали в глотке.
— Здраствуйтье.
— Матвей. Ну надо же. Как ты долго без меня продержался.
— Как дела?
— О, что, в Германии сегодня праздник?
— В смысле?
— «Как дела?» Ты меня ещё ни разу не спрашивал.
— Чего? Да я спра…
— Нет, Матвей, это впервые. Тебя никогда не интересовало, как обстоят мои дела.
— Неправда!
— Сам подумай. Всё ведь крутится только вокруг тебя. Вокруг тебя и твоей — как это называется?
Блейель закусил губу.
— Извини, не понимаю, о чём ты. Не хотел тебе мешать.
— Ничего такого я и не утверждал.
— Артём…
— Говори уже, что случилось?
Молодой человек не сменил позы, только слегка повернул голову в сторону пришельца. Теперь он снова смотрел на реку. Виноват город, подумал Блейель, город для этого этапа не годится. Не именно Кемерово, а город как таковой. Я должен сейчас быть в тайге. Чтобы духи спокойно могли распробовать добычу. Пока я здесь, им доступны только мои сны, это слишком мало. Сны, за которые они дерутся, и этот душный ветер.
— Мне нужно другое жильё. Но это не значит, что ты должен помочь мне искать. Скажи в общих чертах, как мне поступить.
— В общих чертах, понятно. А зачем тебе другое жильё?
— В гостинице дороговато. Потом, там как–то странно стали на меня смотреть.
— Там стали странно на тебя смотреть? — Артём почесал бородёнку и прищёлкнул языком. — Знаешь, что бы я сделал на твоём месте? В паспорт бы заглянул.
— Зачем?
— А ты попробуй.
Блейель не реагировал.
— Это так, предложение. Что с тобой такое, тебе тяжело дышать?
— Да, погода как–то давит.
— О. Сочувствую. Но полагаю, что ты заблуждаешься.
— То есть?
Он сам так близко подошёл к балюстраде, что Артёму не пришлось поворачивать к нему голову.
— Твоя прогулка в открытом космосе затянулась. Кислород закончился, и ты давно дышишь собственными испарениями.
— А-а. Понятно. Товарищ Леонов и я. Очень лестно. — Блейель положил руки на перила и ритмично покачивался вперёд–назад. — Будем надеяться, что я тоже доживу до стелы со своим бюстом.
— Ещё при жизни, обрати внимание.
— Артём. Хорошо.
— Что хорошо?
— Ты укоряешь меня, потому что считаешь, что недостаточно за мной присматривал. Отпустил поводок и так далее. Знаю. Но это лишнее. Даже если ты и не веришь, но я настолько же вменяем, насколько и разумен…
— Прекрати, Матвей.
Блейель перестал покачиваться. — Что такое?
— Ты сказал, что не хочешь мне мешать, поэтому я говорю «прекрати», когда ты мне мешаешь. Что тут непонятного.
— Извини–ка, но…
— И попрошу не перебивать.
— Я тебя не…
— Ты паришь в небесах и считаешь, что всё просто изумительно. Кстати, заставляет задуматься, каково тебе приходилось прежде. Но куда приведёт твой полёт? Ты говоришь, тебя давит погода. Такое мы тут нечасто слышим. Сибирь вообще–то славится своим мягким, целебным климатом.
— Ха–ха.
— Посмеёшься, когда настанут холода. Когда всё кругом застынет. Всё. Томь, окна, носы, души. Четыре месяца в году этот район притворяется, как будто сумасшедший слабачок с Запада тут выживет. Ты этого пока не замечаешь, но лето уже почти прошло. Ты задумывался, что с тобой будет, когда придёт октябрь?
— Давай поболтаем о погоде.
— А ноябрь? Или — нет, дальше я и продолжать не буду. Горе ты луковое, ты же ничегошеньки не знаешь!
— Пока ещё август, и я…
— Ладно, культурную технологию распития водки ты в общих чертах ухватил. Хоть что–то. Это уже неплохо. Хотя элита в наше время набирается только в отпуске. Разруха, вызванная турбокапитализмом, об этом можно говорить часами…
В этот момент Блейелю вспомнился персонаж, который, должно быть, не раз являлся в последнее время ему во сне. Почему именно теперь, удивился он. Персонажа звали Айнар. Так Блейель понял вначале, и подумал об Айнаре Одноглазом из фильма про викингов, который видел лет в двенадцать. С Кирком Дугласом? Нет, загрохотало во сне, Айнар без Р, и появился мускулистый великан с косичкой на бритом черепе, ни капли не похожий на Кирка Дугласа. Появлялся он часто — то из пня у реки, то из столешницы, рыча, он молотил вокруг себя кулаками. Потом из подмостков, в месте, похожем на Томскую писаницу, только вокруг подмостков простиралось коварное болото. Айнар без Р, великан с одним лишь торсом. Чем дольше Блейель про него думал, тем больше убеждался, что он перенял ту роль, которую прежде играла в его снах Илька. Он вспомнил сон, в котором детина, на сей раз не такой огромный, вырастал не из дерева, а между его, Блейеля, ног, и кричал: «Я не черешок, а айна! Я не черешок, а айна!». Блейель хотел покончить с узурпатором, но тот вырвал у него нож и одним движением вонзил его Блейелю в живот по рукоять. Потом, упираясь руками, прянул и так раздулся, что Блейеля разорвало надвое. А айна яростно отшвырнул половинки и пошёл в мир, оснащённый ногами Блейеля и новым, бритым и смазанным маслом великанским черешком. Потом Блейель видел свою могилу, под сияющим, как фольга, крестом, утыканным шипами. На могиле плясали айна и Илька, оба голые, и вопили: «Матиас, мы твои гордые родители!»
Давно пора покончить с такими снами.
— Так как твои дела? — спросил он, потому что не слушал проповедь Артёма уже несколько минут, и зависла пауза.
— Как мои дела — ты что, правда хочешь узнать? Отвратительно.
— Отвратительно?
— Ты не очень–то удивлён, а? То есть, как ты меня видишь? Что ты обо мне думаешь, кто я на самом деле? И что у меня за жизнь? Как ты думаешь, чем я занимаюсь, когда не играю для тебя в переводчика и воспитателя детсадовского? Ты когда–нибудь спрашивал себя об этом?
— Не только себя, я и тебя поначалу часто…
— Ах, не надо тут рассказывать.
— Так давай ты уже расскажи!
Блейель обрадовался, что получилось так ответить. Несправедливый Артём развернулся на каблуке, опёрся спиной на перила, но смотрел не на него, а на ларьки — если он вообще куда–то смотрел.
— В тридцать два года снова поселиться у мамочки и Скота Андреевича, это само по себе просто праздник жизни. Немецкий я выучил нарочно для того, чтобы в один прекрасный день приехал ты и меня похвалил. В прочее время я перевожу для сограждан всякую макулатуру, то научные бумажки, с помощью которых они надеются попасть на конференцию во внешнем мире, то медицинские справки, потому что им, чтобы разориться, ничего лучшего не приходит в голову, чем поставить себе пломбы в Германии. В промежутках я немного дрессирую крошку Людовика и прочих вундеркиндов в иностранных языках, чтобы они стартовали в золотое будущее хорошо подготовленными. Всё это восхитительно, именно так я и мечтаю встретить старость.
— Почему ты уехал из Германии?
Блейель задал вопрос холодным голосом, ведь молодой человек так и не смотрел на него, и он должен был быть сильным.
— Хм. Много причин. Я назову тебе только одну, это, собственно, никакая и не причина, но зато показательно. Мой папаша вёл одно время занятия в школе клоунады. Замещал преподавателя, у которого нашли опухоль в мозгу, длинная история.
— В Ротенбурге на Некаре.
— Я что, уже рассказывал?
Не притворяйся, подумал Блейель. Вот мы и приплыли. Тувинец — это понятно, буян за столом — тоже понятно, но что этот детина из снов, возможно, на самом деле твоя, Тёма, маска, в этом я раньше себе не признавался. Что ж, пора. Ради истины.
Давящий, изнурительный ветер посвежел.
— Дошло до того, что мы с папашей стали выступать вдвоём. Конечно, только перед русскими. Скажем так — на свадьбах, перед нарезавшимися гостями, где–то в Швабском Альбе, где русских, как нерезаных собак. Не скажу, что мне это нравилось, но всё лучше, чем сидеть в спёртой комнате и терзаться из–за очередной смены факультета.
— Нытик, — буркнул Блейель, волосатик не услышал и продолжил.
— Так вот, мы развлекали народ, пристёгивали бутылки водки на ноги, как ходули, вытягивали у молодожёнов со стола скатерть. Папашин любимый номер — он выбирал даму постарше и построже на вид, отвлекал её своими ужимками, а я в это время подкрадывался к ней сзади и делал вид, что расстегиваю ей лифчик. Конечно, так, чтобы она ничего не заметила. А потом с торжествующим криком вытаскивал из её блузки — но не бельё, которое в действительности было на ней, а такую скабрезную лаковую штуковину, как они называются — корсет? Неважно, у папани в шкафу их было пруд пруди. А в том случае он выбрал нечто особенное. Я не посмотрел и вытащил, на потеху пьяной публике. Оказалось, что это игрушка для джентльменов. Пояс, спереди открытый для причиндалов, сзади миленькая дырочка, по бокам шнуровка, наверное, представляешь. И что сделал мой папочка? Да, крикнул он, дамы и господа, мой сынуля голубее неба, но он хороший мальчик.
— И ты оскорбился, — услышал Блейель себя со стороны. Он напряжённо ждал. Тёма–айна, что ты задумал? Ты помогал мне, спасал меня, но обернулся против меня, когда заметил, как далеко я зашёл. Я должен победить тебя. Это очень важно. Ты был бы не прочь перебросить меня обратно за порог.
— Да нет, не оскорбился. Конечно, это было некорректно. Бестактно. И коварно. Но шуту коварство дозволено. Не в том дело. Просто именно тогда я понял, что делать тут мне больше нечего. Если результат восьми лет таков, что я выступаю перед русскими в роли голубого, так почему бы мне не быть голубым в России. По крайней мере, не нужно будет правдами и неправдами изворачиваться, чтобы продлили визу. И если придётся заниматься всякой дрянью, то, по крайней мере, виноват я буду сам. И не буду больше думать, что все мои несчастья из–за того, что в моём паспорте стоит штамп «любая работа, кроме мытья задниц, запрещена». Восемь лет, и вот итог. Искать немку, которая из жалости вышла бы за меня замуж? Боже упаси. Тогда уж лучше вернуться голубым подпольщиком в землю обетованную, где мужчины такие ничтожества, что женщины толпами выходят замуж за иностранцев.
— Погоди–ка минуточку, ты что же, действительно…
— Не бойся, Матвей. Ты совершенно не в моём вкусе. Даже беззащитный, в бане.
Ветер. Как из выхлопной трубы. Небеса серые, низкие, река темнеет, словно в ней не вода, а нефть. Тёма, как обычно, в чёрной одежде, тёмные волосы, которые пора бы помыть, сосульками свисают на воротник, почти не шевелятся на ветру. Что это ты мне рассказываешь? Думаешь, я напугаюсь?
— Голубой в Кемерово. Можно бы написать великую драму, не так ли? Жизнь в подполье, тайные места, скрытые знаки. Против обычаев, против церкви, против нашей России. Против всех, в одиночку против всех, вдвоём против всех. Большая любовь жестоко испытывается на прочность, и вечный страх, что тебя разоблачат и линчуют.
You and me together Fighting for our love You and me together Fighting for our love, [73] —Он громко запел и заплясал вокруг Блейеля, в своей манере, грациозно, невесомо, раскидывал руки и взмахивал ногами, как в балете, так, что Блейель невольно оглянулся, не собралась ли уже готовая их линчевать толпа.
— Да нет, Матвей. Я и на это не способен. Я ушёл в подполье. Единственная борьба, которую я веду на голубом фронте — это борьба с Дмитрием Андреевичем. И когда ж его, наконец, бешеный медведь огуляет.
Теперь Блейель стоял, опершись на перила, а Артём напротив. Он слегка запыхался, потому что во время речи приплясывал дальше.
— Я спрятался. Притворился мёртвым. Поэтому–то так прекрасно ассистирую тебе в твоём помешательстве. Смотрю на тебя, чокаюсь с тобой, утешаюсь и думаю — ах, всё–таки мир уравновешен. Хоть кто–то может себе вообразить, что живёт полной жизнью.
Айна, подумал Блейель.
— Может, я завидую тебе, Блейель? Точно! Я козёл завидущий. Хотя, не только. Мне тебя ещё и жаль.
— Мне этого не нужно!
— Козёл сострадающий, ха–ха!
— Мне этого не нужно! — повторил Блейель визгливым голосом.
— Да, да, — неожиданно тихо ответил Артём, — конечно. Тебе это не нужно. Кому это вообще нужно. Но что же нам теперь делать? Конечно, можно было бы рассказать тебе про Соню. Про её мужа и маленького Колю, которые несколько лет назад попали в аварию — но нет, этого я тебе не расскажу, это тебя не касается. Да ты и так достаточно услышал, ведь так? А теперь давай честно — когда ты начинаешь узнавать такие вещи, ну, подробности, то есть, когда за приключенческую поездку или паломничество к духам на край света начинает просачиваться бытовуха, или ещё похуже — можешь ли ты объяснить, что тебе тут надо?
— Конечно, могу.
— Тогда ладно. Давай, озвучь. Или не стану тебе помогать с новым жильём.
— На следующие выходные приедет она. И по крайней мере до этого времени мне нужно оставаться здесь.
— Она?
— Она.
— А потом?
— А потом не твоё дело. На вопрос, что мне тут надо, я ответил.
— Думаешь?
— Приедет она. Вот мой ответ. И ты меня не задержишь.
Блеющий смех.
— Задерживать тебя я всё равно не собирался.
— Ты оставался восемь лет.
— Ого. Какая у тебя арифметика. Но, кроме того, что это сравнение не просто хромает, а и на ноги–то подняться не может, мне было чуть за двадцать, когда я приехал в Германию.
— Ну и что из этого?
— Что я тем не менее потерпел полный крах!
На этот раз он не просто коротко мекнул, а звучно разгоготался. Он согнулся и сотрясался, хлопал себя по ляжкам и не мог перестать.
Теперь ты сам — Дмитрий Андреевич, подумал Блейель, передёрнувшись. Он отошёл на несколько шагов и наблюдал за припадком волосатика. Совершенно безмятежно. Перед кулисами с чёрной рекой. Артём вихлялся, как марионетка, которую безжалостно трясёт кукольник, чтобы удержать разбегающуюся публику. Мне больше не нужно сражаться с тобой, подумал Блейель. Я победил тебя.
— У фрау Ворошиной… нашей соседки снизу, — пропыхтел Артём, отдышавшись, — морильщики выводили тараканов. Она уехала к родственникам в Новокузнецк, на недельку–другую. Ключ у меня есть. Если не сломаешь ничего важного, можешь перекантоваться у неё. Псих! Горе луковое! Заплатишь ей стоимость одной ночи в «Анилине», и она будет возносить небесам молитвы.
Решено. И пусть Артём называет его, как хочет.
Ещё один шаг. А может, даже и несколько. Путь снова свободен.
А покойного Фенглера всё это уже не оживит, скорее наоборот. Если он, конечно, скончался.
Поздно вечером Блейель снова шёл по улице Кирова, по широкой, усаженной берёзами пешеходной аллее, и время от времени из веток ему за шиворот падали капли. Он так и не выяснил судьбу старикана. Терпение. Он вообще не помнил, чем занимался после встречи с Артёмом. Кажется, забрался на гору на другом берегу и провожал солнце, клонившееся на Запад, криками «Я остаюсь! Я остаюсь!». Затем он, должно быть, оказался там, где продавалась карта города, потому что таковая была зажата у него подмышкой, в виде двух свёрнутых трубочкой листов формата А 1. Пользоваться такой на улице невозможно, но для теоретического изучения топографии лучшего и пожелать нельзя. Карта города. С отвратительным ветром справились дожди, к вечеру небо прояснилось. Дышалось свежо и легко.
Пускай Артём называет его как угодно, пускай жалеет, это ничего — он сам жалел Артёма не меньше. Главное — он перешагнул через него. Это не было неблагодарностью к спасителю, лоцману, тени — нет, это означало, что он действительно продвинулся вперёд. Сам, собственными силами. Прогуливающийся в космосе и голубой подпольщик — нет, это недолговечный союз. Артём закоснел, а Блейель рос. Артём — в прошлом. А Блейель двигался дальше.
Он наклонился за веточкой, чтобы счистить грязь с ботинок в жидком свете фонарей. Свёрнутую карту поставил на почти сухую скамейку. Когда он снова поднял голову, рядом стояли двое. На его храброе «добрый вечер» они не ответили и, хотя и смотрели на него, но говорили друг с другом. От обоих несло перегаром. Он потянулся к скамейке с картой города, один из них что–то взревел и поднял руку.
— Я нье говорью по-…
«— русски» он уже не произнёс. В руке ревуна блеснула бутылка из–под пива; стукнув об спинку скамейки, он отбил бутылке донышко.
— Розочка, — произнёс по–немецки Блейель и неожиданно рассмеялся. Жаль, он не знал, как это будет по–русски. Зато вспомнил выражение «живое пиво». Он тоже непременно хотел остаться в живых, непременно. Но согласятся ли эти двое? Вдвоём они орали на него, наступали, угрожая розочкой. Смываться отсюда! Но что, если из темноты, из–за следующей берёзы, из–за скамейки выскочит третий? Вдруг они спортсмены и сразу его догонят? Лучше попытаться их умаслить. Плейер в кармане — нет, ни за что, там диск Ак Торгу с автографом. Поэтому он протянул цифровой фотоаппарат, залопотал по–английски: «Take it, take it, but leave me alone»,[74] — бандюга цапнул её из рук, мимоходом полоснул его битой бутылкой по лбу и убежал со всей скоростью, с которой позволял коктейль из пива и водки. Второй, рыча, побежал следом. Через кровяную вуаль, сочившуюся над глазами, Блейель разобрал, что они подрались под следующим фонарём, а потом швырнули фотоаппарат оземь и вместе его растоптали.
— Делайте, что хотите, духи, — пробормотал он, но руки, несмотря на отважные слова, дрожали. Носового платка у него не оказалось, и он обтёр кровь травой, а потом прижимал волглую куртку ко лбу до тех пор, пока не решил, что уже можно пойти в гостиницу.
— Какие люди! Плейель! Чем обязан? Как съездил в это, как там оно…
— Я ещё не приехал. Ещё там. То есть, в России.
— Да? А почему это?
— Долгая история. Другой раз расскажу, когда время будет, хорошо? Я звоню по делу.
— Ёлки–палки! Но я ж тебе сразу сказал, помнишь? Что Россия тебя уже не отпустит. А ты ещё спорить не хотел!
— Да, ты совершенно прав. На все сто. Просто сейчас…
Он запнулся.
— Что сейчас?
— У меня кончилась виза.
— Ещё раз.
— Моя виза. Она просрочена. Ума не приложу, как так получилось, но тут написано: действительно с двадцатого июля по восемнадцатое августа.
Тишина. Потом:
— Плейель, балда! Ну что ты наделал?
— Я… я думал… ну, я не следил. Тот тип из турбюро в… ах, это неважно. Но я думаю, должно быть возможно…
— Приезжай в Москву. Немедленно. И посмотрим, как это уладить.
— Не могу.
— Что значит не могу?
— Я не могу приехать в Москву.
— Почему? Да где ты вообще? Всё ещё в этом, ну, как там его?
— Кемерово.
Хольгер крякнул.
— Пока ты будешь торчать там, мы ничем не сможем тебе помочь. Давай, шевели задницей и молись, чтобы в аэропорту никто твой паспорт не разглядывал.
— Но ведь, наверное, можно как–то…
— Наверное, можно как–то — в России ты с этим далеко не уйдёшь. Должен был уже понять за это время.
— Что же можно…
— Чёрт подери! — голос его сорвался. — Извини, но… ладно. Слушай сюда. Иди в консульство. Наплети им что–нибудь.
— В консульство.
— В немецкое консульство, понял? Где оно там, наверное, в Новосибирске. Отправляйся туда, и немедленно. Придумай что–нибудь, чтобы тебе поверили.
— Что я болел.
— Да, что–нибудь в этом духе. Только лучше. И найди врача, который тебе справку напишет.
— Хорошо. Понял. Ещё глупый вопрос — а что произойдёт, если меня засекут с просроченной визой?
Хольгер громко застонал.
— С таким глупым вопросом обратись к ближайшему милиционеру. Плейель! Плейель, ну что ты за дубина! С просроченной визой ты незаконно находишься в России!
— Незаконно.
— Что тут смешного?
— Нет, ничего. Спасибо, Хольгер.
— Что ещё за спасибо? Ты ведь…
Блейель повесил трубку. Он знал, что делать.
Он ещё не прикасался к нему. Не видел его спереди, не видел узоров на коже, не слышал, как он звучит. Он смирно сидел в кресле, благоговейно взирая на внутреннюю его сторону, пытаясь получше рассмотреть её в чахлом свете торшера. Ак Торгу что–то ему объясняла, но он не понимал ничего. Говорила она хоть и медленно, но по–русски, и существительные, которые он успел выучить, почти не встречались. Только несколько раз — «шаман» (конечно, об этом и речь), один раз — «время» и два — «духи». Когда она поглядывала на него и спрашивала: «Да, Матиас?», он кивал: «Да, да, да».
Она перевернула бубен, звякнули железные подвески, прикреплённые к поперечной перекладине, и он увидел внешнюю сторону, обращённую к миру мембрану, которая, оказывается, не являлась тайной. Теперь он понимал чуть побольше, иногда она вставляла английские слова и жестикулировала. Он понял, что тёмно–красные фигуры на светлом кожаном овале — люди, пешие и верхом на конях, птицы, четвероногие, многоногие, фантастические создания — распределялись по трём областям, в Верхнем, Среднем и Нижнем мире.
«Ульгень», — сказал он, показывая на Верхний мир, и «Эрлик», указав на Нижний мир, и заработал восторженное «ну, ну, ну!» от Ак Торгу.
— Кам, сказала она, — кам — шорский — шаман, — и случайно коснулась его рукой, проводя по бубну, показывая, что кам, или шаман, способен перемещаться по всем трём мирам. Теперь и Блейель отважился произнести «ну, ну, ну».
Ему казалось чуднó, что он говорил, а не сидел, как загипнотизированный кролик, под впечатлением святости момента. И ещё удивительнее, что она смотрела на него, и, кажется, даже улыбалась, несмотря на его новый облик — волосы длиной пять миллиметров и лейкопластырь на лбу.
Хотя пластырь, может быть, и не такой уж большой изъян. Он не успел остановить караулившую его портье — когда он, прижав к лицу измазанную кровью куртку, споткнулся на последней ступеньке перед столом и не сразу поднялся, она вызвала врача. Однако молодой врач понял пациента без слов — и, обработав рану, не стал вынимать из чемоданчика иголку с ниткой, ведь порезы были поверхностные и вполне поддавались лечению лейкопластырем. Ничего нигде не записывая, он охотно принял предложенные ему деньги. Блейель объяснил портье, что на следующий день, наконец–то, съедет, и что всё прекрасно. Следы йода за пределами лейкопластыря он удалил утром, намылив уголок полотенца.
Однако он не вполне избавился от опасения, что теперь он, возможно, всё–таки похож на тех, кого задерживает милиция. Поэтому в игру вступил пункт второй. Вооружившись словарём, он заставил портье до тех пор дозваниваться до парикмахерских, пока не записался на приём, и впервые в жизни поехал в парикмахерскую на такси. Его чемодан стоял рядом, пока сонная крашеная блондинка кромсала безупречную, но, на его взгляд, нерусскую модельную стрижку. В полдень, поднявшись навстречу Артёму по лестнице дома на Ноградской, он, кроме того, щеголял остроносыми двуцветными туфлями, чёрными с фиолетовым. Хорошо замаскировался, высмеял его волосатик.
В крошечной квартирке соседки окна стояли нараспашку, но избавиться от запаха, одновременно резкого и сладковатого, оказалось непросто. Артём оставил ему упаковку ароматических палочек.
Последняя из них как раз догорала. Блейель положил правую руку на обод бубна.
— When I'm with you, I'm in the highest of the heavens.[75]
Она рассмеялась, но он заметил, что высказался непонятно.
— When I'm with you it's like I'm in Ulgen's heaven.[76]
— Matthias, — сказала она и провела рукой по его колючим волосам, как он и сам постоянно делал последние дни, — you funny bone.[77]
Это выражение удивило его. Funny bone. В висках застучало, когда он подумал о волчьем следе у неё на животе.
— You are a shaman yourself,[78] — прошептал он и позволил своей руке подняться и лечь на её плечо. — Ак Торгу — кам.
— Ах, нет, нет, нет. — Она откинулась на спинку дивана и обняла бубен, как толстого племянника. Блейель постарался не слишком думать о волчьем следе.
Священный, священный момент!
Если бы всё снова было так просто, как днём.
Они встретились на площади перед театром. Конец его мукам. Она молчала до самой субботы, и на сообщение «Katja, i'm so glad you come on saturday. Don't be shocked, i've had my hair cut. Love, m»[79] тоже не ответила. В субботу он так ничего от неё и не услышал. Он дрожал, несмотря на солнце, и метался по Советскому проспекту, пока, наконец, не набрал её номер. Сказать особо ничего не получилось, кроме «It's me, Matthias. You come?»[80]. После того, как он повторил это дважды, она, посмеиваясь, сказала да и объяснила, что приедет только поздно вечером. Потом он понял, что она хотела о чём–то договориться с ним в воскресенье и, радуясь, что хоть на что–то оказался способен, предложил встретиться на площади перед драмтеатром. И, конечно же, те полтора часа, которые он провёл там, оказались очень нервозными, нервозными, он смотрел на театральный плакат и проверял своё владение кириллицей, становился всё нервознее, размышлял, в котором из роскошных домов живёт губернатор, пугливо старался не привлечь внимания патрулирующих жандармов, смятенно глазел в фонтан, где не показывалась ни одна, пусть крошечная, стрекозка — и всё это как сдуло, когда она, опоздав почти на двадцать минут, наконец–то появилась. Тогда Матиас Блейель забыл всю свою застенчивость, накинулся на неё, не дал ей даже убрать громоздкий свёрток, вцепился в неё, как утопающий. Он поцеловал её — а как иначе, его губы сами нашли её, иначе и быть не могло. Первое восклицание, которым она отреагировала, звучало удивленно, но второе уже нет, одной рукой он обнял её, а другой гладил ей на затылке волосы. И одним поцелуем не ограничилось, второй последовал через несколько шагов. Блейель указал на фронтон дома по улице Весенней и сказал «Webcam Kemerovo»[81], они, держась за руки, остановились и посмотрели наверх, и он снова обнял её. И подумал: пусть весь мир знает! Она выглядела восхитительно, в шелковистой чёрной блузке без рукавов и широкой, бежевой с белым крапчатой юбке в стиле хиппи. Сам Блейель разрядился в пух и прах — кроме туфель, на нём были тёмные костюмные брюки и ненадёванная бледно–розовая рубаха, в которой он когда–то собирался передавать грамоту. Пусть весь мир видит! Только кто смотрел кемеровскую веб–камеру? Ему захотелось послать ссылку Ильке по СМС, и он отогнал эту мысль — что за ерунда, Илька не имела к этому более ни малейшего, абсолютно никакого касательства; с тем же успехом можно отправить ссылку айна с косичкой. Когда они расцепились, он не нашёл причины подавить смешок, наоборот. Гордо он помахал фронтону, а Ак Торгу потрогала пластырь на лбу и задала вопрос, ответ на который он подготовил заранее из словаря — разбойники.
Всё началось так просто и легко — так отчего не получалось продолжать так же и теперь, в тесной, пропахшей ароматическими палочками квартирке, сидя в кресле напротив Ак Торгу? Её лицо отсвечивало в свете торшера бронзой, абажур напоминал зимний утеплённый салоп. Что ему мешало? Рука трусливо замерла на её плече. Отчего он до сих пор не нашёл родинку в виде волчьего следа?
Счастье у драмтеатра осталось далеко позади. В каком–то смысле. Это было несколько часов назад, и он чётко помнил почти каждую деталь. Они пошли гулять к реке, до моста и обратно. Она держала свёрток за узел, закидывала его за плечо. То брала Блейеля под руку, то отпускала. Покачивала бёдрами при ходьбе. Игриво тыкала его пальцем в бок, указывала на что–то или кого–то свободным пальцем или подбородком и, подмигивая, что–то говорила, что он так хотел понять — ах, столько мелочей, жестов, интонаций, которые он хотел впитать, сердце его зашлось. Потом она перестала спешить и терпеливо повторяла одно и то же, пока он не понял, что она приехала в город, чтобы что–то уладить в университете. Что именно — сдать экзамен, забрать документ или с кем–то встретиться — он так и не уразумел. А он всё расспрашивал её о музыке, хотя его неведение выпирало всё постыднее и нисколько от пояснений Ак Торгу не уменьшилось. Он спросил про Алтай, и она ответила, что описать Алтай невозможно, его нужно увидеть самому — I can show you[82], предложила она, он воодушевлённо закивал. Он забыл спросить, не хочет ли она кушать — и она сама потащила его к киоску с пирожками и, не спрашивая, заказала на него тоже, не разрешила ему расплатиться и повздорила с продавщицей, попытавшейся подсунуть неравной парочке остывший товар.
Единственное, чего он не помнил — как он затащил её к себе. Вроде бы он сказал: «Oh, come, come, please, it's the best thing we can do»[83], но ему самому это не показалось убедительным; и дождя тоже не было.
Но это сейчас неважно. Ведь она здесь. Вода, чай и шоколад на столе, водка и солёные огурцы под рукой. А в свёртке, который она забрала где–то перед встречей и только дважды доверила ему подержать, оказался шаманский бубен.
Прошедший день казался ему фильмом, вот в чем проблема. Будто он в удивлении следил за происходящим со стороны, не вмешиваясь.
Как это вышло? Где он застрял, в какой капкан угодил?
Его обуяло ощущение собственной беспомощности. Ощущение, что чудо, пришедшее в его жизнь, сейчас отнимут — или нет, не так: его вышвырнут из чуда.
Его. Матиаса Блейеля. Именно теперь.
Как тут не отчаяться.
Вдруг он понял, какой пробил час.
Он перешёл порог, избавился от Ильки, победил Артёма. Путь свободен. Но оставался ещё один противник. Самый серьёзный. Противником он стал только потому, что его уже, собственно, и не существовало — и всё–таки он ещё оставался здесь, в неподходящий, решающий момент.
Самый жалкий загробный призрак в мире.
Старый Матиас Б.
Нужно победить его, раз и навсегда, и момент настал.
Блейелю предстояла решающая битва.
Блейель сидел в кресле соседки. Точнее, не в кресле, а выдвинувшись вперед, как на жёрдочке. Рука уже не лежала на желанном плече. Его руки парили над волосами Кати Сабановой, словно он хотел её благословить. Хотя это он надеялся получить от неё благословление.
— Matthias? You okay?[84]
— Катя… Ак Торгу…
— Да, да, — она попыталась улыбнуться особенно мягко.
— I have to — I mean — I want — I want — I want…[85]
Чтобы не повторять ещё раз бесполезно I want[86], он вскочил на ноги и потянулся к бутылке водки в чёрном буфете. Певица рассмеялась.
— Please, I want to hear the drum.[87]
Стопок на столе не было. В стаканы он наливать не хотел, пришлось снова встать к буфету — к счастью, он сразу же всё нашёл.
— The drum. Please. I want to hear it. I need to.[88]
— Нееееет…
Наливая, он умоляюще на неё посматривал.
— I know that I'm a funny bone.[89]
— A funny bone. Matthias.[90]
— Please. Please. The drum. Most important.[91]
Она чокнулась с ним, что–то произнесла по–русски, он повторил свою просьбу. Тогда она со вздохом, который ему пришлось стерпеть, пожала плечами, засунула руку в платок, лежащий на подлокотнике дивана, и достала оттуда небольшую колотушку из тёмного дерева. Выпуклая, рабочая сторона колотушки была обтянута мехом, с обратной стороны вырезано углубление, в котором, окруженные шестью крохотными латунными бубенцами, мордами друг к другу лежали два волка.
— Спасиба, — задохнувшись, прошептал он.
Не глядя на него, она тряхнула головой, перехватила бубен поудобнее и встала.
И кожа запела. Бомм — боммбомм — бомм. Боммбомм — бомм. Боммбомм — бомм. И позвякивали бубенцы и железные подвески на бубне. Надо посмотреть, как по–русски бубен, подумал Блейель и постарался отключить все мысли. Он встал напротив Ак Торгу. И смотрел, как колотушка бьёт по коже, серьёзно и сосредоточенно, как ребёнок смотрит на строительный кран.
Расскажем вам о битве в комнате о битве за нового человека вы его знаете, счастливчик вы его знаете, горе луковое через тысячи миль чащоб через тысячи миль бетона он пришёл к порогу и перелез за порог и оказался перед самым страшным противником ему поможет бубен, поможет шаманка и эта битва будет последней что нам известно о страннике из дальнего края? что ему нужен свободный путь что есть путь и что значит свободный? наверное, путь побега, свободный от вопросов вполне обычное желание необычно разве что место и что теперь крутится у него в голове при звуках бубна, песне шаманки в мрачной квартире на Ноградской? что он лишился фотоаппарата фотоаппарат пропал, что это значит, если не то, что герр Фенглер действительно почил? за герра Фенглера минуту молчания глубоко благодарного молчания сентиментальному старикану получателю бандероли, выбывшему по неизвестному адресу в каком бы из трёх миров на каком из девяти или шестнадцати небес он бы теперь ни находился минута молчания, минута молчания где бы он ни находился в котором из пяти озёр в котором из двух состояний нет, двух состояний больше нет битва, сейчас же! и потом ясность песня бубна, песня шаманки о да, она поёт, это не обман, чёрная колотушка, расписанная красным кожа не одни, с мощными помощниками в мрачной квартире соседки шаманка подняла голос песнь, которую ещё не знает воин песня, поддерживающая воина высокий голос, грудной голос, а что посередине? горловой звук, но не надо поспешных выводов горловой звук ниже, он подо всем горло хранит глубокая тайна под горлом есть волчий след две волчьих головы на колотушке праматерь и её разветвлённый пол берёзы, стрекозы, многоногие и фантастические твари и всё, что есть за порогом духи танцуют над клубами только что догоревшей палочки с ароматом пачули в квартире вдовы Ворошиной танцуя, они ждут жертву — странника из дальних краёв, который растёт и зреет который сбежал из гнёждышка и даже от собственной тени который не покорился айна с косицей который достанется тайге долой его прежнего ешьте его, духи, снизойдите, чтобы он не вернулся вовеки побеждённый навечно болотный хмырь ешьте сомненья, ешьте страх, так неистово молится новичок и сетует, что жертва его недостаточно жирна из глаз его брызжут слёзы под песню бубна, песню шаманки и он, задыхаясь, повторяет: конец чурбану, конец зассанцу конец логистике, конец Штутгарту конец Spring Charms[92], конец Autumn Dreams [93] конец Балтийскому морю, конец лечению конец Тёме, конец айна конец визе, конец пластырю вставай, счастливчик, путь свободен твой путь к тайне, путь к чуду да здравствует колотушка, да здравствует кожа да здравствуют руки, да здравствует кость конец ножу, да здравствует черешок конец бессилию, вставай, вперёд, ешьте, о духи, давайте, ешьте, хочу чувствовать, как вы едите, ешьте, пока я не стану свободен, совершенно свободен так неистово молится новичок а шаманка, о, шаманка, пускай она съест освобождённого освобождённого, с кожей и потрохамиАк Торгу положила бубен на диван и глядела на него, нахмурив лоб. Блейель, выпучив глаза, пыхтя, боролся с желанием рухнуть на пол. Но вдруг падение стало бы знаком поражения? Победитель нашёл поддержку в чарке. Духи, выдохнул он, желая выразить, что пьёт за духов. По улыбке шаманки он так и не понял, можно ли выразить это, не пользуясь склонениями.
Но прилечь после битвы — это можно, в этом ничего зазорного нет. Спальню фрау Ворошиной, ещё теснее гостиной, на две трети занимал чудовищный платяной шкаф. Ночник в рубище покаянного грешника сеял тусклый свет. Кровать втиснулась под окном, со стены над изголовьем неподвижно смотрело святое семейство на сусальном фоне, малыш Иисус на преподобных коленях богородицы воздел руку и растопырил два пальца в знак победы. Пока Ак Торгу ходила в ванную, Блейель, прежде чем опуститься на матрас, за неимением ароматических палочек прыснул дезодорантом. Окно за тяжёлыми занавесями было приоткрыто.
Вопрос, сам ли он делал и чувствовал то, что он сейчас делал и чувствовал, или смотрел как зритель, этот вопрос он пытался проигнорировать. Он знал, что такие мысли — застарелая дурная привычка, второго состояния больше не было, и не было сомнений. Кожа шаманки сияла в сумраке. Его губы на её грудях, его рука в её волосах, её рука на его щеке, его рука на её бедре, её губы на его виске, его губы на её шее, её ногти в его спине, спускавшиеся всё ниже — всё это было на самом деле. Правда. Исполнение.
— I want to hold you, — мурлыкнул он ей на ушко, — I want to hold you so tight.[94]
Да, этого он и хотел — держать её, держать, её сильное светлое тело, очень крепко. Но это была не всё, недоставало ровно половины, он не только хотел держать её, он хотел, чтобы и она держала его, так же крепко. Как это сказать по–английски? Он придумал: «I want you to hold me. Ak Torgu. I want to hold on to you so very tight!»[95]
Поняла ли она? Она заговорила по–русски и начала баюкать его, как ребёнка, держа его голову на груди.
— I love your skin[96], — шепнул он в мягкость. Его член упёрся ей в бедро, она наверняка почувствовала. И, когда его ласки стали требовательнее, она, загадочно жестикулируя, что–то произнесла несколько раз подряд. Он заметил, что с каждым разом ей всё труднее сдерживать смех. Но это его не тревожило, он обожал её смех. «У меня месячные», он уже мог бы повторить эту фразу за ней, и, наверное, он произнёс её одними губами, потому что она вдруг расхохоталась. «Айлыг, — удалось ей сказать, — по–шорски», и секунду он спрашивал себя, не сказала ли она по–немецки «eilig»[97]. Немного успокоившись, она притянула его к себе, помогла войти в неё, и он уже ни о чём себя не спрашивал, казалось, у него сейчас разорвётся сердце, но взорвался один только черешок, к счастью. К несчастью, всего через несколько мгновений, и он, как нервозный подросток, не удержался, а ведь она совершенно определённо не говорила «скорее». Он хотел оставаться в ней, хотел продолжать дальше, ещё и ещё, поймал себя на том, что шлёт молитвы духам, дабы они сохранили ему эрекцию, но духи поддерживали его моление вполсилы. К тому же в дверь забарабанили, всё громче и громче, и не обращать на это внимание становилось всё труднее.
— Матвей, это я, Матвей, эй! Матвей, пожалуйста! Матвей, пожалуйста, открой, у меня захлопнулась дверь, и я… да я всё сейчас расскажу, Матвей! Матвей! Э–ге–гей! Матвей, это важнее, чем ты думаешь, Матвей, да чем ты там занимаешься? Матвей Карлович, да вытащи уже затычки из ушей, Матвей, чёрт тебя побери, давай, открывай, ты не знаешь — Блейель, мать твою!
И, наконец–то, рёв пьяницы с лестницы, должно быть, он открыл дверь. Артём что–то громко ответил, затопотал по ступенькам. Снова рёв, затем дверь за обоими захлопнулась, и дальнейшие звуки доносились приглушённо. Квартира Ворошиной располагалась не прямо под той, где разбушевался Дмитрий Андреевич, а наискосок.
Ак Торгу, которая в последние минуты улыбалась Блейелю, гладила его лицо, что–то доверчиво шептала, издала негромкий томный стон. Он неожиданно для себя извергся снова, а член так и не напрягся.
Потом она убежала в ванную, а он пошёл на ватных ногах в гостиную, хотелось пить. До утра они просидели на диване, пили водку — на кухне нашлась вторая бутылка. Должно быть, Блейель заснул в неестественной позе, потому что всё тело болело, когда он очнулся ото сна, в котором он, карабкаясь по горе скошенных Илек, айна, Тём и Фенглеров, искал выход из дремучего леса. Певица оделась и спешила, сказала «Матиас» и «университет».
— Кинэ, — пролепетал он, — your little daughter.[98]
— Кинэ? — она удивлённо посмотрела на него.
— I would love to know Kiné. Your child.[99]
Комната кружилась, и ни разу в жизни у него так не болела голова. А Ак Торгу была как огурчик, торопливо завернула бубен в платок, закинула туда же колотушку. Блейель успел увидеть деревянную перекладину, таинственные подвески и ленточки, свисавшие с неё. Как те ленточки исполнения желаний в ветвях пихты. Знаки удавшихся излечений? Разве тогда не полагается этим утром повязать ещё одну? Слишком поздно, бубен уже упакован, свёрток увязан.
— Ak Torgu. Katja. Please. Will you show me Kiné? Can I meet her? Some day? Please.[100]
Она улыбнулась. Может, кивнула. Он начал благодарить её, она присела и охватила его голову обеими руками. На момент боль утихла. Ему удалось договориться о встрече, в полдень, на площади перед театром. Она поцеловала его в висок и выскользнула из квартиры. Как только дверь за ней захлопнулась, череп взорвался от боли, он еле–еле доковылял до ванной.
В зеркале он увидел, что правый конец пластыря отклеился. Дрожащими руками он отодрал его совсем. Оба пореза заживали хорошо, узкие, чёрно–красные. Как маленькие дамбы, подумал он. Так далеко от моря, как никогда. Его мутило, он залез под душ. Вода долго не нагревалась, но выбраться и подождать снаружи у него не оставалось сил.
Пятна крови на постели он заметил потом. Его задушил страх. Не глупи, Блейель, приструнил он сам себя. Учи слова. То, что ты видишь здесь — значение фразы «у меня месячные». Или айлыг, по–шорски. Одно за другим. Сначала нужно одеться.
Он сделал кофе и изверг его обратно, вернулся в спальню, хотел снять простыню — и обнаружил, что ткань, которую он принимал за простыню, на которой спал последние ночи, в действительности являлась обивкой матраса. Неровная бежевая хлопковая материя, на которой расплылись два тёмно–красных пятна и россыпь более светлых брызг. С трудом он перевернул матрас и сшиб святое семейство со стены, едва не продавив коленом проволочную сетку кровати. С изнанки матрас оказался серый и драный, из него лезла набивка. Блейель снова повесил картину на гвоздь и застонал. Он понял, что забыл найти волчий след.
Артём выглядел ненамного лучше, чем на поле брани во сне. Левая щека опухла и налилась чёрно–фиолетовым, глаз заплыл.
— Боже мой… что же это…
— Ночью тебя это не интересовало.
— Но… извини… я же не знал…
— Да ладно. Всё нормально.
— Что–то не похоже.
— Нет? — Артём улыбнулся, насколько позволила разбитая губа. — Да это только зубы мудрости.
— Но ты хотя бы прикончил Дмитрия Андреевича?
— Матвей, ну что у тебя снова за бредни?
— Артём, мне очень жаль, прости… я…
— А что тебе жаль? Ты живешь у Ворошиной, ты за это платишь, значит, всё путём.
— Ночью, я…
— У тебя не было времени. Не мог открыть. Была середина ночи. Всё в порядке. Кстати, мне уже пора.
Матрас, подумал Блейель. Но не смог.
— Да, мне тоже пора. Я встречаюсь с Ак Торгу перед драмтеатром.
— Да? А зачем ты мне это говоришь?
— Потому что… Артём, правда, если бы я знал…
— Но ты не знал. И это, кстати, неудивительно. Ты же вообще ничего обо мне не знаешь. Ничего. И в этом есть правильность.
— Правильность?
— Что, я не так выразился?
— Ваша Правильность Артём Черемных. Можно использовать как обращение.
— Как скажете, Ваша… Ваша Амурность.
— Артём…
— До свиданья. — И Артём взлетел на пол–лестницы.
— Пака, пака, — пробормотал Блейель, припомнив учебник. По пути на улицу его пронизала горесть, но преобладало радостное предвкушение — скоро он обнимет Ак Торгу; да и голова проходит. И битву он выиграл.
Первого сентября в полдень кемеровская метеослужба зафиксировала плюс тридцать градусов Цельсия в тени, самое тёплое начало осени в истории метеосводок. Матиас Блейель, благоухая русским одеколоном, прошёл по длинному голому коридору, освещённому лампами дневного света, к двери с молочно–матовым стеклом, за которой располагался офис проката автомобилей. На стук никто не ответил, дверь оказалась не заперта. Он прошёл в комнату, где не было ничего, кроме ксерокса, кофейного автомата и огромного биллиардного стола. Не туда забрёл, подумал он и заметил в левом углу ещё одну дверь. Подкравшись к ней, он увидел небольшое бюро и в нём двух женщин за письменным столом. Он потребовал «Жигули», на несколько дней, начиная с сегодняшнего. У них есть «Киа», сказала брюнетка, но он повторил — «Жигули». Видимо, это было принципиально важно. Вскоре к ним присоединился шеф, в рубахе с закатанными рукавами, перманентной улыбкой и холодными глазами. Жигули, сказал иностранец очень решительно.
Формальностями занималась брюнетка, она пролистала его паспорт, но на визу и не взглянула. Подписывая договор, он уже держал в руке банкноты за прокат и залог. Шеф проводил его на улицу и указал на немытую, песочного цвета машинку с обрубленным носом. Грязь ему не мешает, сигнализировал Блейель, главное — чтобы марка была та, и получил ключи.
Иногда логистик (или то, что от него осталось после изгнания) всё–таки мог на что–то сгодиться. Во всей полноте это проявилось, когда перезвонила фрау Майнингер, сотрудница банка. «Непростая трансакция в России, с приватной составляющей», — объяснил он деловым голосом причину, по которой хотел снять по телефону бóльшую часть своих сбережений. Фрау Майнингер предложила воспользоваться интернетом, он спросил: «Из интернет–салона в Сибири? Вы и не представляете, куда нас порой заносит». Да что вы, радостно возразила она, для этого нужно только посмотреть на этикетки со страной–изготовителем на одежде. «Именно», подтвердил он с деловой ухмылкой. Тогда она соединила его с герром Штаудахером, и герр Штаудахер сначала говорил о доверенности и заказном письме, а потом об определённой свободе, которую он, как руководитель филиала, мог себе позволить, когда речь шла о таком заслуженном клиенте. «И, как вернётесь, то, может, порасскажете об этой русской трансакции. Когда речь идёт о рынках будущего, банкиру хочется навострить ушки», — «Конечно, обещаю».
Фрау Ворошиной он оставил на кухонном столе конверт с десятью тысячами рублей. Дни напролёт он оттирал матрас. Пятна побледнели, но и разрослись, а обивка прохудилась. Прежде чем прибегнуть к мылу и средству для мытья посуды, он — был вторник, и ему помогли сто грамм водки — голышом бросился на кровать и присосался смиренным ртом к смоченным чистой водой местам. Но эта попытка растворить и поглотить драгоценную субстанцию не возымела никакого эффекта, если не считать эрекции алчущего. Он купил простыню, бежевую, как и сам матрас, и постелил её перед отъездом. «Новая кровать», прошептал он, поправил святое семейство и ответил на салют Исусика.
Вытянув губы трубочкой, смотря из–под нахмуренных бровей прямо перед собой, он ехал по шоссе на юг, в направлении Новокузнецка, и надеялся, что похож на русского. Обгонять он не решался, только сорокотонку, на прямой дороге, когда три водителя проделали это до него. Каждые несколько минут на обочине стояла полиция.
Снова в краю духов. Смеркалось, и в разбросанном городе Мыски, на месте слияния Кара — Тома и Мрас — Су, он не сразу нашёл нужный поворот, несмотря на вспомогательные средства — рисунок Ак Торгу, который он берёг, как карту сокровищ, объяснения Сони, которые Артём записал и передал ему при молчаливом прощании, и атлас Кемеровской области. Маленькая «Лада» кряхтела на неровной дороге, первые таёжные вершины благожелательно махали водителю на вечернем ветру. Он знал, что если обернётся или посмотрит в зеркало заднего вида, на котором висела соболья лапка, то увидит на заднем сиденье детину, рассевшегося на сиденье, с косичкой, подрагивающей в такт, и поэтому смотрел только перед собой. Всё равно айна ничего не мог ему сделать, по крайней мере, пока он пел «Песню волчицы», а её он пел безостановочно, как только начало смеркаться. Он даже нарочно въехал в огромную выбоину, чтобы мучитель прикусил себе язык. И:
Алындагы темнер Куйбурчалар анда Погунуш пулапча Куль ош кыр салгындаГрянул он высоким, крепким голосом. На дороге в Сибири. Собственными силами и с помощью шаманки. Всё глубже. Его путь только начался.
— When can I see you again? When can I meet Kiné?[101]
— Матиас…
— Please, tell me. I'm very serious.[102]
— Oh. Это сложно. — Она нахмурила лоб с одновременно вопросительной и непроницаемой улыбкой.
— Ak Torgu. Katja. If you want, I can come to Myski. To Chuvashka.[103]
— Чувашка?
— Чувашка, да, да! Здорово! Tell me when. Next — суббота? Saturday?[104]
Улыбаясь, она покачала головой и, тихо вздохнув, повторила, суббота.
Этого вполне достаточно. Твой шанс, героический рохля. Всё глубже и глубже, и вот он, не прерывая свою песню, песню Ак Торгу, коротко рассмеялся, потому что снова увидел аллею с патриотическими деревьями. К ней, а потом вместе с ней дальше. Куда она захочет. В бескрайность. Он увидит Алтай, увидит Туву, и Обь, и Енисей, всё дальше, увидит октябрь и ноябрь и непредставимые месяцы после них, будет лелеять маленькую девочку, носить бубен возлюбленной, бубен и кай–комус, волчью шкуру и плётку, будет сам раскладывать её столик с дисками, петь с ней, если она захочет, или, может, танцевать под её пение, или стоять наготове за сценой, он выучит шорский язык. Он будет любить её и будет с ней, будет очень крепко держать её, и она будет очень, очень крепко держаться за него, и черешок никогда больше не взорвётся, он будет делать всё, что она захочет, ведь жизнь только началась.
Первые деревянные дома на извилистой улице — ему показалось, что он вернулся домой. Да, именно так.
А если её там нет?
Татьяна и Юрий ему помогут. Несомненно.
А если он окажется перед запертой дверью?
Переночует в машине. А утром напишет ей сообщение.
А вдруг дверь откроет не она, а тувинец?
Глупые мысли.
Или милиция?
Застарелая дурная привычка. Обратного пути нет!
Чагыс ак пору — мен Мен ордам тум чышта мен чозагым кыдазын Шим, кельбегле коштаВот песня его победы. По волчьему следу. А большая стрекоза, которая шмыгнула мимо стекла и опустилась в придорожную траву, чтобы умереть — так это морок злыдня на заднем сиденье, потому что он пел недостаточно громко. Перед глазами возникла картинка, будто ему — нет, не в Штутгарте, а Мокмюле — поставили надгробный камень с выбитой стрекозой и надписью: «Пропал без вести в Сибири». Кто бы поставил ему камень, родители его умерли, других родственников не было, с бывшей женой он расплевался (и она рада до небес, что избавилась от него).
Неважно. Радуйся, о любящий! Пропал без вести в Сибири, это правда, пьянящая правда! Ты здесь, ты действительно здесь, больше тебя нет нигде, ты справился со всеми! И что бы ни произошло дальше, ты добрался досюда. Ведь это так — если ты заметил, что достиг самого драгоценного момента в жизни, то надо делать всё, чтобы оставаться в этом моменте. Разойтись в нём. Никогда не удаляться от него. Нужно возблагодарить судьбу и верить счастью. Исполнение! Почему бы не поехать сразу к реке, не пожертвовать Мрас — Су паспорт, крепко привязав его к камню клочком розовой рубахи?
Это не поздно сделать и завтра, даже если придётся заночевать в машине. Вообще–то ламинированный документ надёжней уничтожать огнём. И Мрас — Су наверняка будет проще иметь дело с пеплом, нежели с неудобоваримой книжицей.
Поворот. Последние метры путешествия, по траве, гравию и серо–чёрной земле. Паркуясь у забора, он спокойно смотрел в зеркало заднего вида, он знал, что так близко от Холодных ключей айна лишён власти. И он вышел, с двумя пакетами подарков — крымское шампанское и конфеты, фотоальбом о Германии, на который он наткнулся в книжном магазине и, помешкав (нет, можно, ведь он уже сбежал), купил, серебряная цепочка и перламутровая брошка, заводная игрушка и кукла для малышки. Чемодан он пока брать не стал. Прошёл в ворота. Бельевая верёвка была пуста. Дальше, за тёмный угол дома. Шест со спутниковой тарелкой в грядке со свёклой он в первый визит не заметил.
Он прислонился раненым лбом к первому окну, заглянул вовнутрь. За светло–жёлтой занавеской мерцал телевизор и просвечивали силуэты мирно пьющих людей. Оттуда, где он стоял, он видел двоих, но бóльшая часть комнаты оставалась скрыта.
Дальше. Всё дальше. Медведь–плясун доверчиво рыкнул и зашагал к двери.
Работа над этой книгой оплачивалась стипендией фонда Роберта Боша.
Текст многократно цитированной «Песни волчицы» принадлежит перу Таяны Тудегешевой, музыка — Чылтыс Таннагашевой.
Легенда о Мрас — Су и Кара — Томе пересказана по изданию Андрея Чудоякова (в книге «Шорские сказки, легенды», Кемерово 2002), которая, в свою очередь, основывается на сказе Сафрона Тотыша.
Приношу благодарность
Ольге Васильевой и Валерию Черкесову за столь же неожиданный, как и вдохновительный летний день в Москве.
Алефтине и Анатолию Майтаковым за их незабываемое гостеприимство в Чувашке.
Таяне Тудегешевой за терпение и мудрость.
Полный восхищения, благодарю Чылтыс Таннагашеву. За её музыку, без которой этой книги не было бы. И за то, что она взяла нас к Холодным ключам.
Глубоко благодарен Нине Бескровных. Без неё я не приехал бы в Сибирь, не придумал бы историю Матиаса Блейеля, и без её помощи я бы её не написал.
Посвящается духам аржана, которые в своей непостижимой доброте не воспрепятствовали тому, что русская православная церковь за это время возвела ещё один крест — там, на Холодных ключах.
Примечания
1
Восточный блок — так до сих пор называют бывшие социалистические страны Восточной Европы (здесь и далее прим. переводчика)
(обратно)2
Баден — Вюртемберг имеет репутацию консервативного региона
(обратно)3
Мой стиль моды (англ.)
(обратно)4
Рурский район (Ruhrgebiet) — промышленный регион, в прошлом печально знаменитый состоянием окружающей среды
(обратно)5
Итальянская фирма, специализирующаяся на кофейных продуктах
(обратно)6
Даже дома в Германии принято называть фамилию, отвечая на телефонный звонок
(обратно)7
Добро пожаловать в Кемерово, шахтёрскую столицу (англ.)
(обратно)8
Подождите (англ.)
(обратно)9
Здесь и далее курсивом выделена русская речь, как её воспринимает и воспроизводит герой романа
(обратно)10
Немецкое слово «милиционер» имеет значение «боец народного ополчения»
(обратно)11
Весенние чары (англ.)
(обратно)12
Хорошо (нем.)
(обратно)13
Существует некое противостояние между жителями севера и юга Германии, северяне считаются более открытыми и интеллигентными, южане — консервативными и религиозными.
(обратно)14
У всякой пташки свои замашки
(обратно)15
Мне нужны резиновые сапоги (англ.)
(обратно)16
Послушайте, извините, но я не понимаю. Что происходит? Это всего лишь резиновые сапоги (англ.)
(обратно)17
Разве это не преувеличение? Зачем поднимать такой… (англ.)
(обратно)18
Нет, нет. Это смешно, это бессмысленная трата… (англ.)
(обратно)19
Головное предприятие и родина «Даймлер Бенц» находится в Штутгарте
(обратно)20
В целом (франц.). Сходно по звучанию со словом «юзют»
(обратно)21
В немецком слово «тайга» имеет ударение на первом слоге
(обратно)22
Очень мило с вашей стороны (искажённый английский)
(обратно)23
О нет, это такое удовольствие для меня, такое удовольствие! Ак Торгу, я так рад. (англ.)
(обратно)24
Я хочу научиться, да! Хочу научиться. Русский. И шор… шор… (англ.)
(обратно)25
И меня зовут Матвей. Матиас. (англ.)
(обратно)26
Я научусь, научусь (англ.)
(обратно)27
Очень хорошо, Матиас! (англ.)
(обратно)28
Мне очень понравилось. Понравился звук. И как вы играете (англ.)
(обратно)29
Большое спасибо… здесь кстати (англ.)
(обратно)30
А! резиновые сапоги. Долгая история. Какая жалость, что вы не поиграли ещё (англ.)
(обратно)31
А ваш голос! Два голоса. Это просто… я никогда… никогда в жизни… (англ.)
(обратно)32
Вы поедете? (англ.)
(обратно)33
О да. То есть… (англ.)
(обратно)34
Я так… (англ.)
(обратно)35
Ты в порядке? (англ.)
(обратно)36
Я слышу, как ты поёшь (англ.)
(обратно)37
Я пою? Сейчас? Да нет же! (англ.)
(обратно)38
Поёшь, поёшь. Именно сейчас, в этот самый момент. То есть, вот здесь. Во мне. У меня в голове (англ.)
(обратно)39
Нет, нет, нет! (англ.)
(обратно)40
Нет! То есть (англ.)
(обратно)41
Да, Матиас? Ты пел мою песню? (искажённый англ.)
(обратно)42
Я… Я имею в виду — она была внутри меня. Твой голос — в моей голове (англ.)
(обратно)43
Очень впечатляюще. Волк — волчица, мать шорцев, мать всех тюркских народов (англ.)
(обратно)44
Это… Ак Торгу, ты чудесная! (англ.)
(обратно)45
Название одного из известнейших немецких каталогов, буквально «родник, ключ» (нем.)
(обратно)46
Белый Шёлк (англ.)
(обратно)47
Белый Шёлк. А что значит Блейель? (англ.)
(обратно)48
Здесь: Блейель — значит очень счастливый (англ.)
(обратно)49
Теперь, Матиас (англ.)
(обратно)50
Ой. Матиас? (англ.)
(обратно)51
Я хотел… Ак Торгу, э-э, погоди (англ.)
(обратно)52
Извини, извини, но я люблю тебя (англ.)
(обратно)53
Это… я правда… я никогда не чувствовал ничего подобного (англ.)
(обратно)54
Я тебя люблю (нем.)
(обратно)55
Так хочу тебя поцеловать (англ.)
(обратно)56
Что хочешь? (англ.)
(обратно)57
Поцеловать тебя (англ.)
(обратно)58
Вот мой телефон (англ.)
(обратно)59
Когда мы снова встретимся? Когда я тебя увижу? Так скучаю по тебе. Дышу тобой (англ.)
(обратно)60
Спасибо, спасибо, спасибо. Я так по тебе скучаю (англ.)
(обратно)61
Привет, это Матиас. Спасибо, спасибо, что взяла меня в Чувашку и к аржану! Я очень хочу снова тебя увидеть. Я в Кемерово.
(обратно)62
Я тебя люблю (англ.)
(обратно)63
Спасибо, спасибо, что взяла меня в Чувашку и к аржану (англ.)
(обратно)64
Спасибо, что спела со мной (англ.)
(обратно)65
Я приеду Кемерово. День 25. увидимся? * АТ (искажённый англ.)
(обратно)66
День 25 (англ.)
(обратно)67
Скажи, где, скажи, когда, я буду там! С любовью, М (англ.)
(обратно)68
Я так по тебе скучаю. Мне приснилась твоя дочь. Я хочу познакомиться с девчоночкой. Я люблю тебя (англ.)
(обратно)69
Ак Торгу, как хорошо знать, что ты есть! Я очень по тебе скучаю. Как ты, чем занимаешься? Я в Кемерово, жду тебя. С любовью, М (англ.)
(обратно)70
Я на Алтае. Музыкальный фестиваль. Кемерово день 25 (искаж. англ.)
(обратно)71
У немцев довольно много заимствований русских имён, причём наше ласкательное Катя, Соня, Таня, Аня, Саша, Коля играет роль полного имени.
(обратно)72
Летние чувства (англ.)
(обратно)73
Ты и я, мы вместе боремся за нашу любовь (англ.)
(обратно)74
Возьмите это, возьмите и оставьте меня в покое (англ.)
(обратно)75
Когда я с тобой, я на самом высоком небе (здесь и далее англ.)
(обратно)76
Когда я с тобой, я будто на небе Ульгеня
(обратно)77
Ты забавный
(обратно)78
Ты сама — шаманка
(обратно)79
Катя, я так рад, что ты приедешь в субботу. Не пугайся, я подстриг волосы. С любовью, М
(обратно)80
Это я, Матиас. Ты приедешь?
(обратно)81
Кемеровская веб–камера
(обратно)82
Могу тебе показать
(обратно)83
Пожалуйста, пойдём, это лучшее, что мы можем сделать
(обратно)84
Матиас, ты в порядке?
(обратно)85
Мне нужно… то есть… я хочу… я хочу… я хочу…
(обратно)86
Я хочу
(обратно)87
Пожалуйста, я хочу услышать бубен
(обратно)88
Бубен. Пожалуйста. Хочу услышать. Мне нужно
(обратно)89
Я знаю, что я забавный
(обратно)90
Забавный. Матиас.
(обратно)91
Пожалуйста. Пожалуйста. Бубен. Очень важно
(обратно)92
Весенним чарам
(обратно)93
Осенним мечтам
(обратно)94
Хочу держать тебя. Хочу держать тебя крепко–крепко
(обратно)95
Хочу, чтобы ты держала меня. Ак Торгу. Хочу, чтобы мы крепко держались друг за друга!
(обратно)96
Люблю твою кожу
(обратно)97
Скорее (нем.), созвучно с «айлыг»
(обратно)98
Твоя дочка
(обратно)99
Мне хочется познакомиться с Кинэ. Твоим ребёнком.
(обратно)100
Ак Торгу. Катя. Пожалуйста. Ты покажешь мне Кинэ? Я встречусь с ней? Когда–нибудь? Пожалуйста.
(обратно)101
Когда я снова увижу тебя? Когда можно встретиться с Кинэ?
(обратно)102
Пожалуйста, скажи. Я очень серьёзно.
(обратно)103
Ак Торгу. Катя. Если хочешь, я приеду в Мыски. В Чувашку.
(обратно)104
Скажи, когда. В следующую — субботу?
(обратно)








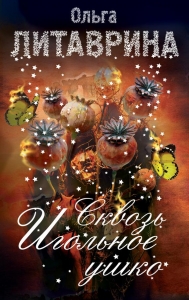

Комментарии к книге «Холодные ключи», Михаэль Эбмайер
Всего 0 комментариев