Современная канадская повесть
Предисловие: Время перемен
Четыре писателя представляют в этом сборнике «молодую» и малознакомую пока нашему читателю литературу послевоенной Канады. Литература эта, создаваемая, как известно, на двух языках — английском и французском, недавно включилась в поток мирового литературного процесса. За свою короткую историю она прошла ускоренный, путь от «викторианства до постмодернизма», впитала в себя традиции литератур трех стран — Англии, Франции и США. Многое в канадской литературе XX века еще не определено однозначно, литературоведы спорят о том, с какими критериями к ней подходить, в чем особенности складывающейся национальной традиции, однако, оценивая роль послевоенного периода в ее развитии, можно с уверенностью сказать: это было время интенсивного роста, накопления мастерства, активного самоопределения.
В литературе конца 40-х и 50-х годов эти изменения только назревали — бывшая колония Франции, затем колония и доминион Англии, Канада в это время остро ощущала свою культурную обособленность и провинциализм. Известный поэт Эрл Бёрни, представивший в стихотворении «Канада. История болезни. 1945» свою страну в образе «нескладного школьника», спрашивал с заметной долей иронии: «Ах, выйдет ли он из детства?» Выводы Королевской комиссии по развитию искусств, литературы и науки, работавшей на рубеже этих десятилетий, были категоричнее: «культурная отсталость», отсутствие как собственной литературной традиции, так и писателя, которого можно было бы назвать национальным. Комиссия зафиксировала и другое тревожное явление — постоянную духовную экспансию США, постепенно превращавших Канаду в широкий рынок для своей массовой культуры.
Немногочисленная читательская публика мало интересовалась сочинениями своих соотечественников, писателю приходилось преодолевать атмосферу духовного застоя и эстетический консерватизм критики. В начале 70-х годов видная канадская писательница Маргарет Лоренс вспоминала: «Одно время писателю в Канаде приходилось крайне трудно. Многие годы наше сознание было колониальным, большинство из нас считало, что книга, написанная канадцем, вряд ли может быть хорошей — для этого она должна быть издана в Нью-Йорке или Лондоне. Культурный климат в стране изменился до неузнаваемости, особенно за последнее десятилетие».
Период, который имеет в виду писательница — вторая половина 60-х и 70-е годы, — иногда называют «канадским Возрождением». Движение за большую самостоятельность страны, ослабление ее растущей зависимости от США внесло ощутимое оживление в развитие национального искусства, дало новый импульс для осмысления не только современности, но и исторического прошлого, для оценки истинного значения национального своеобразия, фольклора аборигенов Канады и переселенцев из других стран.
Художественная литература переживала настоящий подъем: издательства стали смелее печатать книги канадских писателей, забытая классика пришла к читателям в дешевых изданиях, появилось много новых имен, некоторые известные писатели (в том числе и Мари-Клер Бле) вернулись из эмиграции. Произведения Маргарет Этвуд, Антонины Майё, Маргарет Лоренс, Мари-Клер Бле, Ричарда Б. Райта, Жака Годбу привлекают внимание в странах Европы и за их пределами, получают престижные литературные премии. Критика заговорила о необходимости «открыть» материк, именуемый канадской литературой, пересмотреть свой взгляд на нее как на нечто провинциальное и малоинтересное.
Точнее было бы, наверно, сказать о накоплении художественного качества, происходящем в канадской прозе с начала XX века и усилившемся в последние десятилетия. Национальная литературная традиция сейчас окончательно формируется, хотя процесс этот, осложняемый постоянным влиянием «модных» течений и школ, идет медленно и трудно. Преодолеть искус подражательства, «магнетизм» очередного нового направления, найти собственную манеру — эта важнейшая задача стоит перед всей культурой Канады, вышедшей, если вспомнить, из колыбели своих «прародительниц» — Англии и Франции — и до сих пор сохраняющей с ними тесные связи и многие присущие им черты.
Читатель без труда отметит некоторую традиционность художественной манеры авторов предлагаемых повестей, «узнаваемость» жанровых форм. Канадским прозаикам еще трудно идти в ногу с литературным авангардом, ибо невозможно «выйти из детства» без усвоения предшествующего опыта, без овладения приемами, «отработанными» в других литературах. Причем если литература на французском языке более восприимчива к обновлению художественного языка, экспериментаторству в области формы, что особенно проявилось в конце 60-х — начале 70-х годов, то англоязычная литература в этом смысле более консервативна и ближе к традиции литературы английской.
Опора на различные традиции… Но только ли это разнит две ветви канадской литературы? Они зародились в разное время, развивались неравномерно и, что не менее важно, создавались в различных общественных условиях. Подчиненное положение франкоязычной провинции Квебек, ее изолированность, враждебное отношение англоканадцев породили специфически безысходное мироощущение, мрачный колорит литературы на французском языке.
Неизбежно возникает вопрос: что же объединяет две ветви канадской литературы, не остается ли она по-прежнему литературой «двух одиночеств» (так назывался вышедший в 1945 году роман Хью Макленнана, посвященный проблеме взаимоотношений английской и французской частей Канады)? Проза последних десятилетий дает основание полагать, что сближение происходит и осознание национального единства становится все более ощутимым.
Современная проза Канады многослойна, порой она тяготеет к изощренному психологизму, порой — к излишнему акцентированию биологического начала в человеке, но в ее лучших образцах ощущается стремление глубже овладеть реальностью, расширить социальный и психологический спектры, показать, чем живет канадец сегодня. По своей тональности и проблематике она, естественно, неотделима от литературы современного Запада, и четыре повести, вошедшие в сборник, — не исключение. Однако их авторам, как правило, удается поставить проблему в характерном «канадском ракурсе», соединить национально-неповторимое с общечеловеческим, универсальным.
«Куда идет Канада?», «Канада на трудном перекрестке своей истории» — эти фразы примелькались на страницах журналов и книг за последние десятилетия. Именно в эти годы обострились многие противоречия канадской общественной жизни, усложнились отношения с южным соседом, заявили о своих правах этнические меньшинства: индейцы и эскимосы. Все чаще, говоря о культурном и национальном своеобразии страны, канадские ученые называют ее «мозаикой» или «калейдоскопом», в котором культуры различных народностей не сплавились воедино, а сосуществуют в единстве.
В определенном смысле «мозаичным» будет и образ послевоенной Канады, возникающий на страницах сборника. Каждая повесть «заполняет» какую-то клетку этой мозаики, без которой она была бы неполной; в каждой из них герой, подобно Полине Аршанж из повести Мари-Клер Бле, «собирает по кусочкам прожитую жизнь», всматривается в нее, пытаясь найти смысл, ухватить суть происходящего.
Такую попытку подвести итог прожитых лет предпринимает и Фредди Лэндон — герой повести Ричарда Райта «В середине жизни» (1973). Бизнесмен средней руки, владелец счета в банке, Лэндон по всем статьям человек благополучный, однако, как он сам признается, ему нет места в этой «грустной комедии, именуемой жизнью».
Ричард Райт, пришедший в литературу в начале 70-х годов, сразу определил свою тему: обыкновенный, «средний» человек как точка приложения различных общественных сил, человек, который этого давления не выдерживает, переживает кризис и пытается постичь, что его к этому привело. Характерна и интонация писателя, уверенно чувствующего себя в традиционных формах повествования, — доверительная, подкупающая искренностью и юмором, сразу же располагающая читателя к себе.
Повесть «В середине жизни», удостоенная в Англии премии «Фейбер», написана в жанре социально-психологического романа, однако автор сумел вложить в эту привычную форму емкое «канадское» содержание. Впрочем, только ли канадское?
Фредди Лэндон — прирожденный неудачник, один из тех, кто все время решает «начать новую жизнь», снова подойти к «стартовой черте», хотя сам он прекрасно понимает, что его силы воли едва ли хватит на то, чтобы изменить хоть что-то в жизни. Кое-что, конечно, можно списать за счет «семейной традиции» — неприспособленность «в крови» у деда и матери Лэндона и передалась его дочери. Но вопрос остается открытым: почему не состоялась жизнь Фредди Лэндона, что же случилось?
История безвольного, неприспособленного, но не утратившего чуткости и способности отзываться на чужое горе человека — не просто еще один вариант повествования о современном антигерое. Рассказав о нескольких днях «безработного продавца поздравительных открыток», как иронически называет себя Лэндон, писатель создал разностороннюю картину жизни целого класса, убедительно, без нажима и аффектации показал ее неблагополучие.
У Лэндона есть все основания ощущать себя несостоятельным: когда работал, «пробиться наверх» не смог, а потом и вовсе потерял работу, брак его рухнул, дочь живет отдельно, близких друзей нет… Стоит, однако, прислушаться к тому, что говорят другие персонажи повести — молодые и те, что постарше, — чтобы понять: в благоустроенной, разрекламированной как «страна будущего» Канаде далеко не все благополучно, настроения людей выдают общую неудовлетворенность, недоумение и тревогу. «Люди заклевывают друг друга», «только и делают, что напирают», «хочешь выжить — учись кусаться» — такова мораль «общества равных возможностей».
Что же в итоге остается тем, кто научился «кусаться», и тем, кто, как Лэндон, чувствуют себя неудачниками? В общем-то, только одно: неудовлетворенность, одиночество, ощущение собственной неполноценности и ненужности. Изломана жизнь сестры Веры, Бланш: поклонников привлекали только ее деньги. Как будто что-то надломилось и в самой Вере, жене Лэндона, всегда «державшей жизнь в узде». Полное отрицание жизненных основ старшего поколения демонстрирует молодежь.
Неудовлетворенность буржуазным миропорядком выливается у молодых в различные, подчас уродливые формы, она, как точно подмечает Ричард Райт, не находит выражения в каких-либо действенных формах. Вседозволенность, недоверие к образованию, наркомания, смутный, не имеющий четких принципов и положительных идеалов радикализм — все это приметы молодежных движений, охвативших Запад в 60-х — начале 70-х годов.
«…Что Канада, что Штаты — один черт. Как мы здесь обращаемся с индейцами? Нагреб денежек — значит, ты в порядке. А если нет… И все кругом испоганено донельзя» — в этих словах дочери Лэндона, Джинни, повторяющей высказывания своего приятеля Ральфа, не только заявлена «негативная» программа молодых, в них выражена точка зрения, с которой Ричард Райт полемизирует на протяжении всего романа, — идея о неизбежной «американизации» жизни канадцев.
Эта полемика приводит писателя к более широким обобщениям. Канада и ее южный сосед отчетливо противопоставляются в повести: чересчур «американистой», то есть вульгарной и развязной, кажется Лэндону его дочь, вернувшаяся из Нью-Йорка; «холеной американкой» выглядит его бывшая жена; разительно непохожими предстают в повести Нью-Йорк и Торонто; чужим и чуждым оказался для Лэндона американский «синтетический рай» во время его визита к матери в Калифорнию. Тревожные раздумья писателя о том, по какому пути идет страна, не повторяет ли она «все ошибки» Соединенных Штатов, вполне обоснованны — канадское общество становится все более «массовым», обезличенным.
Лэндон взят автором как своего рода точка отсчета, как человек, не сохранивший никаких родственных связей. В трех поколениях Лэндонов есть только один человек, отец Фредди, которому нужна семья, но он лишь первое звено этой цепочки и скоро уйдет из жизни. Все остальные живут своими заботами, поглощены собственными проблемами, а если и встречаются — как, например, Джинни с родителями на рождество или Фредди с сестрой, — то лишь для того, чтобы глубже осознать свою разобщенность и неспособность понять друг друга.
Отчуждение стирает индивидуальность, лишает человека неповторимых, свойственных ему одному черт — это остро чувствует главный герой повести. Приспособиться, «стать как все», «писать историю жизни, пользуясь одними клише» — Лэндон мучительно раздумывает над этим, однако воплотить эти принципы в жизнь он явно не способен.
Есть и еще одна черта, делающая Лэндона непохожим на героев подобного типа, — теплота, желание выслушать и понять другого, ибо «иногда ты только и можешь, что прижать к себе человека покрепче».
Вместе с писателями своего поколения Райт выступает против превращения Канады в деперсонифицированное общество одиночек, против лишения ее национальной неповторимости. И все же, если вчитаться, протест этот глубже — он затрагивает острые социальные проблемы: Фредди Лэндон потерял работу из-за того, что фирму, в которой он служил, перекупил американский концерн; в словах Леона Шугермена о «колоссальных возможностях» Канады сквозит откровенный цинизм американских заправил большого бизнеса, все глубже проникающего в канадскую экономику. Тот факт, что в повести Райта мы находим отзвуки движения за «канализацию» всей жизни страны и что эти проблемы естественно увязаны в общем контексте книги, подчеркивает ее значительность.
Та же тенденция показать реальные общественные явления через судьбу героя, тот же напряженный психологизм характерны и для одного из наиболее известных писателей франкоязычной Канады — Андре Ланжевена (род. в 1927 г.).
На его счету пять романов, каждый из которых вызвал оживленные споры. Это писатель, особенно чуткий к общественным и нравственным изменениям, откликающийся на них живо и темпераментно, писатель, отдавший дань различным литературным увлечениям. Критик Жиль Маркотт заметил как-то, что проза Ланжевена «дает больше пищи для размышления, чем франкоканадская литература за несколько лет». Большой успех выпал на долю его повести «Пыль над городом» (1953), признанной Большим жюри критиков французской Канады лучшим произведением пятидесятых годов.
Жизнь лицом к стене принимает вид пораженья если хоть в крошечной щели не видеть намеки надежды надежды любви и надежды воли надежды на день когда без боли все мы будем друг друга любить. (Перевод А. Парина)Поэт Ролан Жиггер, также принадлежащий поколению пятидесятых, выразил в этих строках характерные настроения того времени: подавленность, тоску, чувство жизни «за стеной», отгораживающей франкоканадцев от большого мира. Социальная реальность послевоенного Квебека — обширной провинции, в которой сосредоточена основная часть франкоязычного населения, — давала мало поводов для надежды. Понятно поэтому, что «завезенная» из Европы философия экзистенциализма, трактующая мир как абсурд, а человека как бесконечно одинокое, отчужденное, не имеющее выбора существо, «привилась» на франкоканадской почве и получила широкое распространение среди творческой интеллигенции.
В повести Ланжевена, уже знакомого нашему читателю по роману «Цепь в парке», ощущается та же страстная жажда гуманизма, человеческого тепла, та же ненависть к обывателям и мещанам, но его увлечение идеями Сартра и Камю приводит к тому, что реалистическое начало повести постоянно «конфликтует» с заданной автором схемой.
Главный герой повести Ален Дюбуа отгорожен от мира «стеклянной перегородкой», сломать которую он не может. Жизнь проходит мимо, как картинки в калейдоскопе, он лишь фиксирует их в своем сознании.
Однако, как бы настойчиво Ален ни декларировал свою отчужденность в начале повести, он все-таки оказывается вовлеченным в разворачивающиеся события, страдает, мучается, не в силах заставить свою жену порвать с любовником, не в силах нарушить неподвижность провинциального быта. Его «я» раскрывается в исступленном монологе — основе повествовательной ткани повести. Возможно, Ален излишне склонен к самобичеванию и чересчур драматизирует события, но «наполненность» его личности вряд ли вызывает сомнения.
Позже, потерпев поражение в противоборстве с «общественным мнением» Маклина — города, по всей видимости символизирующего мрачную замкнутость Квебека, Ален действительно займет позицию пассивного созерцателя, «сойдет с арены» и тем самым подтолкнет к роковому шагу Мадлен, в сущности, погубит ее.
Оба они — и Ален, и его жена — восстают против привычных норм буржуазной морали, но мотивы у каждого свои. В Мадлен воплощено то, чего Ален был лишен или что было, возможно, подавлено в нем, — неукротимая жажда жить, действовать, идти на риск, безрассудство. «Зверь на свободе» — этим определением как бы подчеркивается нереальность бунта Мадлен. «Она может защищаться, либо выиграв все, либо все проиграв». Порыв к свободе был обречен на катастрофу, на поражение.
Но бунт Мадлен был скорее понятен маклинцам, нежели желание Алена быть «над схваткой», самоустраниться и одновременно его амбивалентность, половинчатость его решений, которые заставляют город перейти в наступление. Не пытаясь удержать жену, заставить ее порвать с Ришаром, не решившись, наконец, уехать из города, Ален тем самым подставляет под удар женщину, которую любит, и затем сам страдает от отчаяния и укоров совести. Такой путь борьбы не мог принести успеха, бунт не дал желанного освобождения, в финале Ален винит в случившейся с ним трагедии бога, собираясь «расквитаться» с ним. Почему?
Этот существенный момент помогает прояснить мировоззренческую основу повести, ее антиклерикальный пафос. На протяжении всей истории франкоязычной Канады влияние католической церкви было огромным, она охраняла и укрепляла перу франкоканадцев в себя как в нацию в условиях политического, социального и языкового неравенства. В 50-е годы это влияние все еще было значительным, но внутренние устои католицизма постепенно расшатывались, догматы ставились под сомнение, переосмыслялись. Ланжевен сумел верно уловить назревающие сдвиги в духовном климате провинции, увидеть в них признак приближавшегося обновления.
Ален не может примирить веру в божественную справедливость, гармонию мира, вселенский разум и страдания, жестокость реальной жизни, доводящие человека до самоубийства. Жить по старинке, по инерции — так, как живет доктор Лафлер, которого вполне устраивает компромисс между верой и его долгом врача, — Ален не может.
В одной из ключевых сцен повести — сцене спора Алена с кюре — раскрывается психологическое мастерство Ланжевена-реалиста. Отстаивая мысль о счастье как высшей цели человека, Ален заставляет служителя церкви обнажить свою эгоистическую позицию, лицемерие церковных уложений, догматизм католической идеологии, закрепощающей сознание.
Скоро забудется история с Мадлен, уляжется поднятая было пыль, город погрузится в привычное оцепенение. Значит ли это, что сопротивление бессмысленно, что жизнь всегда «принимает вид пораженья»?
Финал повести не однозначен. Ланжевен и следует принятому им канону, и нарушает его. Переживший внутренний перелом Ален решает «бороться» любовью и жалостью, — этот путь трагического стоицизма вряд ли перспективен. Но есть и намеки надежды: потрясение, вызванное самоубийством Мадлен, не дает покоя Кури, выводит из равновесия Джима. После этого им уже трудно быть «посторонними», человеческое, живое участие «прорывается» сквозь неподвижность, равнодушие, сквозь «пыль», нависшую над городом. Вызов, который Мадлен бросила маклинцам, поиски Аленом истинного смысла жизни, «очеловечивание» Джима и Кури убеждают: близятся перемены.
Ожиданием перемен проникнута и вторая повесть, представляющая франкоязычную Канаду, — «Дневник Полины Аршанж» (1967) Мари-Клер Бле (род. в 1940 г.), — в которой проблемы взаимопонимания, внутреннего раскрепощения, поисков счастья, любви обретают художественную убедительность и выразительное пластическое решение.
Познакомившись с Мари-Клер Бле в конце 50-х годов, видный американский критик Эдмунд Уилсон, собиравший тогда материал для своей книги о канадской литературе, предсказал ей судьбу литературного вундеркинда. И он не ошибся. «Взлет» молодой писательницы был стремительным: в восемнадцать лет она выпустила первый роман — «Мой прекрасный зверь», получивший высокую оценку критики, в двадцать пять — роман «Один сезон из жизни Эмманюэля», удостоенный французской премии Медичи. Автор более десятка романов, нескольких поэтических сборников и пьес, Мари-Клер Бле еще дважды становилась лауреатом Премии генерал-губернатора — главной премии Канады по литературе.
Повесть «Дневник Полины Аршанж» посвящена Режану Дюшарму, одаренному франкоканадскому писателю, в конце 60-х годов увлекшемуся языковыми экспериментами под влиянием «нового романа». В этом посвящении прочитывается приверженность писательницы духу перемен, захвативших Квебек в это десятилетие. Напомним, что год выхода повести в свет — 1968-й — вошел в историю Канады как год «тихой революции» в Квебеке, принесшей впоследствии некоторое национальное и языковое равноправие. На эти события Мари-Клер Бле откликнулась позднее, но и в повествовании о Полине Аршанж, особенно по контрасту с книгой Ланжевена, заметна большая откровенность, пристрастие к натуралистической детали. Как и у других писателей «бурных» шестидесятых, у Бле это было следствием снятия запретов на многие темы, гипертрофированной реакцией на веками закреплявшиеся в сознании религиозные и нравственные табу.
Кроме того, видение мира у Бле глубоко своеобразно, поэтически обострено. В стремлении сказать всю правду она воссоздает жизнь во многих ее отталкивающих проявлениях, подчас обнажает «темное», уродливое в человеке. В одном из интервью писательница сказала: «Жить в одиночестве и писать — другой жизни для себя я не мыслю… Мне кажется, что даже в этом безумном мире голос писателя различим. Я хочу сбросить маски. В мире столько лжи и лицемерия».
Обличительный пафос повести, лаконично выраженный в словах Полины — «рвать на куски завесу ненавистной власти», — направлен против церкви, уродующей человека, вытравляющей из него все человеческое. Блистательно сатирическое мастерство Бле, беспощадно срывающей маски с духовенства. Но диапазон писательницы шире; только на первый взгляд кажется, что она набрасывает импрессионистические мазки, на самом деле картина получается многозначной.
«Дневник Полины Аршанж» словно иллюстрирует описанный в повести Ланжевена спор Алена Дюбуа с кюре, конкретизирует несколько отвлеченный характер этого спора. Писательнице важно показать, насколько глубоко религиозные догмы укоренились в сознании франкоканадцев, превратились в стереотипы, навязывающие человеку определенный ход мысли, тип поведения, образ жизни. Яростно и слепо верит в бога мать Полины; в отличие от Алена Дюбуа она не в состоянии понять, что ее тяжкие страдания и вера находятся в противоречии, что ее поклонение богу оборачивается лицемерием, становится причиной отчуждения дочери. Церковь приучает людей не вдумываться в истинную суть вещей и человеческих взаимоотношений, персонажи повести Мари-Клер Бле перебрасываются, «словно мячиком», словами «совесть», «доброта», «милосердие», не вкладывая в них никакого смысла. Даже Жермена Леонар, «человек из другого мира», подчиняясь законам поведения, царящим в монастыре, создает себе «ложный образ», чтобы уцелеть.
Полина где-то на полпути между верой и неверием, между терзающим ее сознанием своей греховности, своей вины и ненавистью ко всему, что связано с монастырем. Впрочем, вероятно, ею проделана и большая часть пути; эта девочка, с ее тягой к «свету истинного зрения», не поддающаяся «миражам доброты», похоже, сильнее и жизнеспособнее героя повести Ланжевена.
Как и Алену Дюбуа, мир, окружающий Полину, кажется ей абсурдным и жестоким. Вполне возможно, что и город, в котором она живет, — это Маклин, только подан он не с фасада, а изнутри, с черного хода. «Взрослая» жизнь в повести Бле проходит фоном, выписанным достаточно четко: убожество, нищета, скудоумие, грязь и порок — тупик полный, здесь второй Жерменой Леонар не станешь, как ни тянись. Не случайно оба писателя используют одинаковую метафору — «пыль», «пыльный привкус», который порой заглушает любовь к жизни.
Но человек не смиряется, бунтует. Высмеивает ханжу-кюре Жакоб, ибо «лицемерие человеческое неспособно противостоять смеху». Не прекращает свои выходки Луизетта Дени, такой же, в общем-то, «неукротимый зверь», как и Мадлен Дюбуа. Требует «решительных перемен» Жермена Леонар, олицетворяющая в повести не только новые веяния, но и истинное сострадание, подлинную человечность. Медленно вращаются колеса социального механизма, трудно, не скоро освобождается сознание от привычных представлений, но изменения происходят, и это важно.
«Дневник Полины Аршанж» — первая часть автобиографической трилогии Мари-Клер Бле, завершенной повестями «Жить! Жить!» и «Маски». Названия не случайные, обозначающие основные темы, занимающие писательницу, — не обольщаясь видимостью, внешним благополучием жизни, доискаться, дойти до ее сущности и, как бы ни была отвратительна эта сущность, выжить, выстоять. Таков смысл драматически напряженного, по-феллиниевски гротескного финала повести. Умирающая от чахотки молодая девушка, нелепый героизм пожарников, надвигающаяся гроза, отступившая тоска и чувство свежести, обновления — на этой горькой и вместо с тем обнадеживающей ноте заканчивает писательница свою повесть.
Повести писателей англоязычной Канады, как уже отмечалось, вносят в сборник беспокойную атмосферу последнего десятилетия, тему современного капиталистического общества с его непременными атрибутами: безработицей, расовой дискриминацией, наркоманией, потребительством. На этом фоне специфически канадской оказывается проблема национальных меньшинств. Канада — страна переселенцев, многие из которых, подобно Маргарет Бошан из повести Ричарда Райта, остаются «чужими», сохраняют привязанность к родине предков и ее культуре. О сегодняшнем дне коренного населения страны — индейцах, также ощущающих себя чужаками в канадском обществе, рассказала в повести «Андре Том Макгрегор» писательница Бетти Уилсон.
Профессиональная журналистка, она пробовала себя в разных жанрах: поэзии, новеллистике, пьесах для телевидения. В 1976 году вышла ее повесть «Андре Том Макгрегор», получившая две литературные премии провинции Альберта, в которой живет писательница (вторая повесть, «Учить этому искусству», была опубликована через год). В Альберте и происходят события первой книги Уилсон.
Эту повесть хочется сравнить с метким выстрелом: возможно, именно журналистский опыт помог автору «попасть в яблочко» индейской проблемы, по-репортерски цепко схватить суть перемен, происходящих в жизни одной из основных народностей Канады.
Хотя фигуру индейца можно нередко встретить на страницах англоязычной прозы, не многим из писателей удается вырваться из плена стереотипных представлений. Статисты, созерцатели, покорно принимающие судьбу, индейцы чаще всего предстают либо в облике ложно-мистических существ, овеянных преданиями и легендами, либо совершенно деградировавшими личностями, чей удел — пьянство, проституция, безделье, бессмысленная гибель.
Судьба коренных обитателей Канады действительно трагична. Бетти Уилсон не только зафиксировала этот факт, но и заметила то новое, что внесли в историю народа последние десятилетия, обрисовала тип индейца на перепутье; удача ее повести — в оригинальности подхода, «свежести», непредвзятости взгляда.
Надо сказать, к началу семидесятых годов наметились первые признаки некоторых позитивных сдвигов, того, что народ, стоявший на грани вымирания, начал предпринимать попытки адаптироваться к современной цивилизации. Как утверждала пресса, благодаря правительственным мерам несколько улучшилось социальное и экономическое положение индейцев, снизилась смертность, у них появилась возможность получить образование и найти подходящую работу.
О том, что стоит за статистическими данными, какими трагедиями оборачиваются гладкие формулировки в действительности, Уилсон рассказала по-газетному жестко, немногословно, динамично.
Веками формировался уклад жизни индейцев, традиции и привычки, национальный характер, а его не переделаешь в одночасье. Герой повести Бетти Уилсон, Андре, с трудом втягивается в работу на бензоколонке, усилием воли заставляет себя готовиться к занятиям в колледже. Как хочется ему порой, подчиняясь зову своих предков — охотников и следопытов, — вернуться в лес! Стараниями отца Пепэна, миссионерское подвижничество которого, кстати, тоже не обходится без эгоистических соображений, с помощью Нелли Бейрок и ее семьи Андре вроде бы преодолевает себя, но потом срывается и бросает учебу. Только ли его неусидчивый характер и неурядицы с Долорес тому виной?
Причины трудного и столь затянувшегося процесса — попытки индейцев обрести свое место в обществе, как-то утвердиться в «мире белых людей» — коренятся в социальном устройстве общества, отвернувшегося от них. Бетти Уилсон, не ограничиваясь констатацией этого факта, последовательно анализирует эти моменты.
На протяжении повести Андре расстается с остатками иллюзий, которые он еще сохранил. Уже в самом начале он говорит священнику: «Куда ни глянешь, всюду плохо». Семья Макгрегоров действительно влачит предельно жалкое существование. Правительство откупилось от индейцев нищенским пособием, нисколько не позаботившись об их устройстве, но четко проведя черту между ними и белыми. Неудивительно, что Долорес никогда не видела Андре до того, как он устроился работать на бензоколонку: раздельное обучение детей общению не способствует, уже в детстве индейцу дают понять, что он человек другого сорта.
Понятно и то, почему «мало кто дотягивает до восьмого класса». Какой смысл в ученье, если тебя ждет самая тяжелая и низкооплачиваемая работа? В этом Андре убеждается, отправившись в Эдмонтон, столицу провинции. «Большой город» разбивает последние его надежды. Единственное место, где бы смог «пристроиться» Андре, — Девяносто седьмая улица, а это значит: компания Гэри Последнее Одеяло, пьянство и преступность.
Андре смутно чувствует, что этот путь не для него, что жить по инерции нельзя. С тоской вспоминает он свою бабушку: «Она вот знала свое место. Была метиской, и все. Никем другим быть не хотела».
Выход подсказывает Нелли Бейрок, пережившая, видимо, то же состояние раздвоенности, что и Андре: «Чтобы выжить, нам надо научиться жить среди белых». Андре принимает эти слова на веру, хотя, по сути, в них — отказ от своей национальной сущности, от этнической самобытности. Сама Нелли — метиска лишь по цвету кожи, она полностью восприняла образ жизни белых.
Но научиться жить среди белых не так-то просто, в колледже Андре чувствует себя изолированным. В сознании канадцев прочно укрепилось представление об индейцах как о низшей расе, и даже те одиночки, которые, подобно Андре, сумели занять формально равное положение с белыми, окружены стеной отчуждения.
Стоит опять вернуться к разговору между Долорес и Андре, состоявшемуся в первые дни их совместной жизни. Долорес спрашивает, какой национальности Андре, из какой страны приехали в Канаду его предки. В этих вопросах заключена поразительная несправедливость общества, отдающего предпочтение выходцам из Европы, сделавшего жертвой неравенства народ, живший на этой земле с незапамятных времен. Национальные предрассудки разделяют людей, словно невидимые барьеры, порождают враждебность и отчуждение. Именно национальная принадлежность Андре стала в конечном счете одной из главных причин его разрыва с Долорес.
Прочитав повесть, не сомневаешься — Андре не вернется в Фиш-Лейк, к старому возврата нет. А в колледж? На этот вопрос ответить труднее. К концу книги Андре приходит повзрослевшим, много пережившим, обретшим чувство ответственности за себя и за сына, — но захочет ли он бороться дальше? И как быть с теми, кому повезло меньше, кто не нашел таких благодетелей, как семья Бейрок, и угодил прямиком на Девяносто седьмую улицу?
Четкое социальное зрение не позволяет писательнице приукрасить концовку повести, но последний диалог Нелли и Андре символичен. Будущее за теми, кто, не отказавшись от своих национальных корней, сумеет найти себя, «стать на ноги», преодолеть неравноправие. Будущее за Габи Макгрегором, который, быть может, сумеет пойти дальше, чем его отец.
Сложена мозаика: разные характеры, судьбы, десятилетия… Состоялось знакомство — Канада предстала перед читателем как страна с непростым, подчас трагическим прошлым и сложным, противоречивым настоящим. Труден путь к самостоятельности, нелегко дается он и героям повестей, вошедших в этот том. За характерной для канадской прозы исповедальностью, за выдвинутыми на передний план личными коллизиями обнаруживается сопряженность судьбы личной и общественной, связь с реальными проблемами канадского общества. Ален Дюбуа, Полина Аршанж, Андре Том Макгрегор, Фредди Лэндон — что общего между ними? Стремление понять, «как прожить жизнь», «что таит в себе человек», желание отбросить старое, привычное, найти, докопаться до настоящего, истинного. Умение выстоять, не сломиться даже в минуту кризиса.
Меняется жизнь, меняется и литература: берется иной ракурс, иной масштаб, отыскиваются другие художественные решения. Неизменно одно — интерес к человеку, боль за него. В этом нам видится жизнеспособность современной канадской литературы, ее подлинность.
О. ФедосюкРичард Б. Райт
Richard В. Wright. IN THE MIDDLE OF A LIFE Toronto, 1973 © Richard B. Wright, 1973 Перевод с английского М. Загота, редактор А. Корх«В середине жизни»
Смятенные сердца благослови
Дилан ТомасГде-то под конец марта, в пятницу, Фредди Лэндону в утреннем сне привиделась его дочь. Сон был жутковатый — в нем Лэндон беспомощно взирал, как дочь и молодой человек по имени Ральф Чемберлен поджигают его квартиру. Оба были голые, как младенцы, и дико хохотали, а он поджаривался в пламени. Проснувшись, Лэндон потянулся к горлу. В нем саднило и першило. Неужели его еще и душили? Да нет же: вчера наугощался, просидев допоздна у телевизора. Пересохло в горле, только и всего.
За окном его спальни была почти сплошная тьма, дневной свет на небе только-только проклевывался. О погоде судить рано. Подобно многим праздным людям, Лэндон привык наблюдать за погодой, смотрел, куда идут облака, как меняется ветер, словно капитан на старой шхуне. Впрочем, в большом городе на востоке Канады за погодой не очень-то понаблюдаешь: небо почти всегда замусорено странствующими частицами, а ветер гоняет туда-сюда испарения серы. Лэндон пощупал горло и вызвал увиденное во сне, прокручивая его перед мысленным взором, словно киноленту. Его дочь, молодой человек, полыхающая квартира; уже взялись огнем брючины его пижамы, и он выскакивает на улицу, подпрыгивая и дымясь, будто злодей из мультипликации. Рассказать Джинни? Это, пожалуй, ее развеселило бы, может, даже вызвало бы тонюсенькую улыбку на губах молодого человека, который еще вчера сидел в гостиной Лэндона и перечислял преступления западной цивилизации. Лэндон слушал эту безотрадную тягомотину вполуха. Куда больше его беспокоила собственная семнадцатилетняя дочь. Прежде чем явиться, она позвонила ему из аэропорта. Это само по себе уже плохо — ведь ей надлежало быть в Нью-Йорке, в 350 милях отсюда, сидеть на занятиях. В ушах Лэндона заревели мощные двигатели, будто он оказался в аэродинамической трубе. Слышимость была скверная, и он, страшно обеспокоенный, громко возмущался.
— Джинни? Я тебя почти не слышу. Что ты здесь делаешь? Где твоя мама?
Он только что вышел из ванной и стоял в темной прихожей, обмотав полотенцем свою отнюдь не девичью талию. На пол с него стекала вода.
— Папуля, я слиняла, — говорила дочь. — Надоела мне эта лавочка.
Сердце Лэндона заколотилось. Откуда слиняла? Какая лавочка? В чем дело? И где, черт подери, ее мать? Джинни, похоже, была ужасно возбуждена. Что это — очередная блажь? Трубка дрожала в его руках. Нет, там явно в разгаре какое-то приключение. А раз так — не удивительно, что она слегка возбуждена. В ухе снова застрекотал двигатель.
— Все равно я там ничему путному не училась, — кричала на том конце Джинни. — Да и вообще… Какой толк от диплома в наши дни? Сейчас таких, с дипломами, знаешь сколько развелось? У меня есть знакомые, так они свои продают.
Околесица какая-то — уж не ослышался ли он?
— Что-что? Что ты сказала, Джинни? Ты заставляешь меня нервничать. Что, черт возьми, происходит?
— Папуля… Мы сейчас хотим к тебе приехать. Со мной еще двое друзей.
— Друзей? — переспросил Лэндон. — Кавалеры, что ли?
Джинни засмеялась.
— Ну да. Один. Ральф. Он встретил меня в аэропорту и приехал с другом. Его зовут Кварт…
— Да? Вот как? — Внезапно Лэндон обозлился на весь свет. Вдоль трещины в полу прокладывала себе путь крошечная струйка воды. Лэндон следил за ней, все больше раздражаясь. — Ральф… Кварт… Почему ты не позвонила родному отцу? Тебя мог бы встретить я.
— Папуля, я позвонила тебе на службу, но потом вспомнила, что ты там больше не работаешь. Новую работу нашел?
— Нет… Но на примете есть кое-что приличное. — Он тотчас рассердился на себя за эту дурацкую ложь. — Так что ты все же делаешь в Торонто? — спросил он. — До весенних каникул вроде далеко?
— Папуля, я все объясню потом, ладно? Я просто хотела узнать, можно ли приехать… В смысле — втроем…
— Ясное дело, можно, — заверил Лэндон. — Почему же нельзя, что за глупости? Я хочу тебя видеть. Будто не знаешь. Ну и вопрос! — Он помолчал. — Ты поживешь у меня?
— Нет, папуля, — последовал ответ. — Я буду жить у тети Бланш.
Лэндон закатил глаза к небу.
— Ну почему именно там, Джинни? Это неразумно. Что сказала твоя мать?
— Ну… она считает, что все нормально.
— Не нравится мне это. Ты же знаешь, я с удовольствием тебя приму. Места хватит.
— Знаю, папуля, но я уже позвонила тете Бланш. Она ждет меня, только попозже. А через часок мы будем у тебя, ладно? Ты там, случайно, не сердишься?
— Да нет, — сказал Лэндон. — Просто ты меня огорошила, Джинни. Сбила с толку. Я не знаю, что и думать. Что же все-таки происходит?
— Да все нормально, папуля… Живешь все там же?
— Да.
— Бедненький!
— Будет тебе!
— Ну пока!
Лэндон постоял, уставившись на свои широкие ступни, медленно поднял одну из них и обнаружил на половицах бледный отпечаток. Будет ему теперь нагоняй от миссис Кюль. Целую нотацию прочтет. Вы же знаете, мистер Лэндон, какие в этих старых домах деревянные полы. Они сверкают как бриллиант, но ведь на это надо столько сил положить… столько сил. А эти новые мастики — ну куда они годятся? Разве они для таких полов подходят? После них остается желтизна. Вот и скреби потом…
Что поделаешь, миссис Кюль, у всех свои проблемы. Он мог бы так ей ответить, но не ответит. К тому же в наши дни найти хорошую домработницу не так-то просто. И берет по-божески. Ну, бывает, приложится к его бутылке «Старого тролля». Так что? Все мы не без изъяна. У каждого свои слабости — это надо понимать. Живи и жить давай другим. Таков был его девиз. Иногда. Однако сейчас родная дочь беспокоила его больше, чем миссис Кюль. Впрочем, почему сейчас? Всегда.
В ванной он тщательно вытер под мышками, влез в чистое белье. Джинни — неплохая девчонка, но так и норовит влипнуть в какую-нибудь историю. Поглядеть со стороны — она только тем и занята, что спасается от разных напастей. Разумеется, он узнавал в ней себя — такая же непутевая натура — и очень сомневался, сможет ли она чего-то добиться без посторонней помощи, хотя не исключено, что здесь он преувеличивал. Во всяком случае, глупой ее не назовешь, но витает же в облаках — самым фатальным образом. Эдакая замечтавшаяся невинность! Она напоминала Лэндону его бедную мать — вечно у нее выкипало что-то в кастрюлях, пока она читала роман или глядела в окошко на неведомую птицу. И Джинни из той же породы. В детстве она часто забывала о всяких запретах и садилась в машины к незнакомым людям. Проводя каникулы у дедушки в Бей-Сити, Джинни забредала на старую деревянную эстакаду на краю города, а там на всех парах несся товарняк, и она едва успевала унести ноги. Или, бывало, уцепится одной рукой за верхнюю перекладину лестницы на детской площадке и отрешенно жует яблоко, а до земли, между прочим, около четырех метров. Однажды на уроке домоводства она чуть не отравила целый класс — угостила всех стряпней из омара, которую вечером забыла поставить в холодильник. Таких надо опекать, а они, кстати говоря, часто стремятся от этой опеки увильнуть. В сентябре Джинни поступила в Колумбийский университет[1]. Она хотела изучать антропологию, жизнь первобытного человека, и собиралась переселиться от матери, снять вместе с подругой комнату в доме без лифта. Был ужасный скандал, но с ее матерью, слава богу, такие номера не проходят. Вера стояла насмерть, и Лэндон был ей за это благодарен. Сам он немного повозражал бы и уступил. Но Манхаттан и вправду не место для такой растяпы. Не дочь, а Кандид в юбке! Рано или поздно она допрыгается. В прошлое рождество она водила его по этому огромному городу, крепко ухватив за — локоть и заталкивая в такси, как гид в каком-нибудь арабском городке. Показала ему странные новомодные заведения в Гринич-Виллидже, какие-то маленькие неосвещенные сомнительные подвальчики, сколоченные из дерева чердаки, где загустевший воздух был удушливым от благовоний. Чтобы перебить запах гашиша, объяснила ему Джинни. Она знала местную публику и знакомила с нею отца. Лэндон пытался разобрать имена сквозь причудливые звуки восточного джаза. Лица, одни бледные, другие черные, смотрели на него и его строгий костюм, хмуро ухмыляясь. Он был для них диковинкой, пришельцем с другой планеты. Чтобы доставить удовольствие дочери, он покурил немного травки, но лишь закашлялся да как-то смутно закружилась голова. Как после его первой сигареты. Первая сигарета — у отца в гараже, в тот год Гитлер обменялся рукопожатием с синьором Муссолини. Да, Джинни казалась практичной и понимающей, что к чему, но уж слишком легко она воспринимала темные стороны нью-йоркской жизни. Этот мрачный город бурлил враждебностью, но Джинни ее словно и не замечала. Впрочем, ей не приходилось жить среди недовольного большинства. Деньги матери делали свое дело. В сумочке его дочери лежали кредитные карточки: «Карт бланш», «Дайнерз клаб» и «Америкэн экспресс». А от неприятностей она всегда могла сбежать на такси.
Лэндон посыпал пальцы ног «Дезинексом», нахмурился, увидев, как сморщилась кожа его косолапых ступней. Надел брюки и старую, но чистую белую рубашку с открытым воротом и закатанными до локтей рукавами. Его гардероб — остатки былой роскоши! Многое вполне созрело для музея. Сунув благоухающие ступни в шлепанцы, он пошел на кухню и плеснул в стакан немного «Старого тролля», добавил воды из-под крана. Ноздри его учуяли запах хлорки, дошедший из старых труб. Он засомневался: стоит ли пить в такую рань, и сомнение направило его мысли по мрачному руслу. Ох уж это питье! Тут ведь недолго и в пропасть скатиться, а он все чаще стал заглядывать в бутылочку. Но по крайней мере сегодня у него — никаких деловых встреч. Бутчер недавно звонил насчет работы по продаже недвижимости, и они договорились на завтра, на десять утра. Нужно ехать на Эглинтон-авеню, в контору, по продаже недвижимости «Хартстоун риэлти» к некоему Оззи К. Смиту. Он читал в газетах их объявления, и что-то его там смутило. Но все же хоть какая-то перспектива. Если откровенно — теперь не до жиру. Стоя у окна гостиной, он смотрел вниз на улицу и потягивал разбавленный виски. Ему не нравилось, что дочь остановится у его бывшей свояченицы, но, возможно, он слишком жесток к Бланш. Что-то в этой полоумной бабе глубоко волновало его, будоражило душу — оттого, что хотелось как-то облегчить ее участь. Только возможно ли? На этот счет у Лэндона были сомнения.
На вечеринках, которые она когда-то устраивала у себя — дом в стиле эпохи Тюдоров на Расселл-Хилл-роуд, — Бланш играла в эксцентричную развеселую дамочку, где-то на грани сумасшествия. По крайней мере так казалось Лэндону. В первые часы приходилось мириться с этой обезоруживающей придурковатостью, этим восторженным радушием, за которыми, однако же, всегда просматривалась истерия. Бланш то и дело лезла обниматься, угощала гостей фисташками и крекером, подбавляла в стаканы со спиртным тоник и похлопывала всех по подбородку. Ах, какие все очаровашки! И при этом, разумеется, вливала в себя столько «Бифитера»[2], что нарисованный на этикетке толстоногий моряк давно бы захлебнулся. Диковинным образом размалеванная — на слабых глазах огромные накладные ресницы, на щеках румяна и пудра, как у какой-нибудь мадам из борделя в старом Новом Орлеане, волосы цвета шафрана сбиты в высокий стог на маленькой костистой головке, — она порхала от одного гостя к другому, выплескивая на колени вино и оставляя за подушками диванов и кресел тлеющие «бычки». Она могла появиться в ярко-алом сверкающем балахоне, как какая-нибудь чокнутая богоискательница из Калифорнии, или в девчоночьей блузке и микроюбке с чулками в сеточку. И все ради того, чтобы выставить напоказ хилую грудь и ноги как у цапли. Печальное зрелище! Свихнувшаяся тетушка Мейм[3]!
Эти вечеринки — сплошь показная утонченность, и, разумеется, никогда не знаешь, чего ждать. Но что будет наверняка — так это сцена ближе к полуночи, когда Бланш начинала пристальнее наблюдать за мужем, стараясь поймать обрывки его разговоров с гостями женского пола. Наконец в какой-то миг крышка переставала держать — и пар вырывался наружу. Бланш свирепела. Обвиняя, тыча длинными посеребренными ногтями, обрызгивая кислой слюной всех и каждого, она осыпала отвратительными оскорблениями женщин в гостиной, включая собственную сестру. В невменяемом состоянии она рвала на себе одежду, рушила залитое лаком сооружение на голове, и жалкие оранжевые лохмы валились ей на плечи. Она была похожа на ведьму из дремучего леса. В такие минуты Лэндон лишь испускал стон — бедное страждущее человечество! — и поглядывал на жену, которая обычно закрывала глаза и будто молилась. О чем? О том, чтобы боги ниспослали на землю громы и молнии? Может быть. Или что-нибудь изящное и радикальное — скажем, лазерный луч. Стереть Бланш с лица земли — и точка. Ничего такого не происходило. В этих стенах торжествовал порядок. И все же кто не мечтает о козырной карте? Больно вспоминать, но что поделаешь: беда в том, что Бланш была опасной. Однажды она подкралась к своему третьему мужу, Харви Хаббарду, когда тот спал, и пыталась кастрировать его мексиканским серебряным ножом для разрезания мяса.
Как-то он и Лэндон сидели в кабинке ресторана «Нью синема», в окружении гигантских плакатов, изображавших кинозвезд. Потягивая из стакана пахту, Харви рассказывал об этом жутком событии. Отлично загорелый, красивый мужчина с крупным лысым черепом, еврей со Спадина-авеню, он был, по собственному утверждению, сыном старьевщика из переселенцев. Он поменял фамилию, приспособился к жизни в Новом Свете и стал процветающим биржевым маклером. Для поддержания формы он занимался в одном из оздоровительных центров Вика Тэнни, а чтобы сохранить приятный цвет лица, зимой ездил в отпуск на Бермуды, а осенью пользовался кварцевыми лампами компании «Вестингхаус». Тысяча слов в минуту, довольно бесцеремонный, но вообще-то добрая душа, он всегда поставлял Лэндону сведения по части рыночной конъюнктуры. Но сделать решительный шаг и включиться в игру на бирже — на это у Лэндона никогда не хватало энергии. Сидя в кабинке, прижав пальцы к твердому, подтянутому животу, Харви, чуть хмурясь, рассказывал, как Бланш совершила на него покушение. После этого случая у него появились колики в желудке, стала барахлить двенадцатиперстная кишка. Время от времени он рылся в своем кожаном «дипломате» и извлекал оттуда витамины «Джелузил» и дрожжевые хлебцы. Его большие загорелые руки были на диво выразительны, и он часто вовсю жестикулировал, рассказывая что-либо — тем более такую средневековую жуть. У Лэндона и самого, пока он слушал эту историю, низ живота словно парализовало. Харви и по сей день щеголял словечками из уличного жаргона сороковых годов, и вот он, подавшись вперед, рассказывал:
— Опупеть можно, Фредди. Дамочка с большим приветом. Я сплю себе в своей постели. Ладно, сплю в чем мать родила, такая уж привычка. И вообще это полезно, все тело дышит. Хорошо, я нормальный, физически здоровый мужчина. Не мальчик, конечно, но в свои сорок семь держусь выше среднего. Можешь спросить моего доктора. Он подтвердит. Я слежу за собой, хожу в спортзал и все такое. Короче говоря, не знаю, снится мне что-то, не снится, это одному богу известно. В общем, входит она, ясное дело, вусмерть косая. Отбрасывает одеяло и видит меня во всем великолепии. И что же она делает? Я тебе скажу, что она делает… — Харви стиснул загорелый кулачище и сунул его под нос Лэндону. — Я сразу проснулся и вижу… Что, ты думаешь, у нее в руке? Тесак, которым я по субботам жареное мясо режу… Ничего себе, а? Ну, я цап ее за руку…
Он протянул руку и отмерил указательным и большим пальцами зловещий дюйм.
— Вот столечко оставалось, Фредди, чтоб я пропал…
— Харви, да я тебе…
— Ей-богу, не вру. А потом была борцовская схватка. Эта стерва хоть и кожа да кости, но хилой ее не назовешь. — Он повращал указательным пальцем около правого уха. — Чтоб эту дамочку унять, целого взвода докторов не хватит.
Лэндон подозвал официантку и заказал себе еще выпить.
— Харви, ты точно не хочешь составить мне компанию?
— Точно… вообще-то… нет, лучше не буду, — сказал Харви, мрачно глядя на четырехметровый плакат, с которого на него смотрела Софи Лорен: она стояла у обочины, а юбки ее соблазнительно развевались вокруг бедер.
Да, с мозгами у Бланш явно было не в порядке. Но ведь она и сама из-за этого горя хлебнула. Нет, никаких трагедий, но все равно — несчастная женщина. Она нет уставала рассказывать о себе Лэндону в те осенние предвечерние часы, когда он внимал речам о ее бедах.
— Видишь ли, мой дорогой Фредди, — говорила Бланш; она сидела рядом, чуть откинувшись назад и положив руку ему на колено, — после несчастного случая эти чертовы деньги поделили поровну, но моей любимой сестре, твоей любимой жене, всеми любимой Вере досталась еще и привлекательная внешность и мозги. Черт возьми, ну разве это справедливо?
Лэндон помнил эти сентябрьские субботы — двенадцать лет назад. И у него, и у Бланш семейные дела были ни к черту — на обоих подали в суд на развод. Зачем он тогда ездил к этой женщине — утешать или в надежде на утешение? Сейчас и не вспомнишь, но говорила в основном Бланш. Тогда она состояла в браке с Хьюзом Ритчи, ее вторым мужем. Но вечера проводила: в объятьях Харви Хаббарда, «моего красивого еврейского самца» — так она называла его в тот доножевой период. Хьюз Ритчи в свое время учился в привилегированной мужской школе «Аппер Кэнэда», окончил в Торонто колледж «Тринити». Он возглавлял контору по семейному страхованию. Лэндон в меру любил его, хотя вскоре эта его игра в английского охотника Лэндону изрядно поднадоела. Насколько Лэндону было известно, Хьюз провел в Англии всего несколько недель в годы второй мировой войны. Но он влюбился в эту страну и, вернувшись в Канаду, стал всех подряд называть «старина» и «славный малый». Посмотришь на него — ни дать ни взять сквайр, охотящийся на лис в веселой старушке Англии. Входя в комнату, он обязательно потирал руки и шел к камину, даже пустому и холодному. Он поворачивался спиной к этой черной дыре в стене и спрашивал: «Послушай, старина, может быть, немного виски с содовой?» Маленький весельчак с клубничными щеками и ослепительными кавалерийскими усами, которые он регулярно красил, Хьюз много времени проводил в своем клубе, почитывая «Панч» и «Кантри лайф». Бланш жаловалась, что он забывает исполнять супружеские обязанности.
В те предвечерние часы Хьюза никогда не бывало дома. Он «болел» на крикетном матче в «Аппер Кэнэда» или гарцевал на скакуне у приятеля на ферме, к северу от города. Веры тоже не было — она либо торчала на работе в рекламном агентстве, либо ходила к своему адвокату. Лэндон и Бланш сидели рядышком на камчатном диване в длинной розовой гостиной. За окнами в свинцовой оправе огромные дубы и клены роняли на землю свой наряд. Забудешь о семейных неурядицах — уже хорошо. На массивном буфете в мельхиоровом графинчике стояла холодная водка с лимонным соком «Роузиз». Полусонный и пригревшийся, как священник в своей исповедальне, Лэндон наблюдал игру теней от листьев на стене, когда в комнату с движением солнца по небесам проникал неуловимый свет. В эти располагающие к безделью часы хриплый, загустевший на джине голос Бланш жужжал и жужжал. Иногда Лэндона охватывало смутное вожделение: восхитительный, нагоняющий дрему день, пустынный дом, запретный плод — похотливые мысли сами лезли в голову. Подобные болезненные позывы, эти приступы меланхолии в пустом доме, были знакомы ему с детства. И не раз, сидя в этом большом доме в стиле Тюдоров на Расселл-Хилл-роуд, он думал: а что, если ее?.. Пожалуй, она только того и ждала. Еще бы — сыграть с Верой такую изощренную шутку! Но в середине какой-нибудь мрачной главы из ее жизнеописания Бланш закидывала одну тощую ногу на другую, и Лэндон ловил себя на том, что изучает ее коленную чашечку: белая шишковатая кость, которая, ей-богу, была похожа на выбеленный временем череп неведомого зверька из пустыни. Увы, приходилось считаться с истиной: Бланш была малопривлекательной женщиной. Что в ней нашел Хьюз? Что привлекло в ней Харви? Наверное, деньги. Капитал для новых вложений или подстраховка, если придут тяжелые времена; мешок старьевщика был надежно погребен под холмом из конвертируемых облигаций и акций с высокой котировкой. Как бы то ни было, но Харви был очень богат. Да и у женщин этот прелюбодей пользовался колоссальным успехом.
Иногда с кем-то из друзей появлялся Хауэрд, сын Бланш. Этот несчастный был произведен на свет в первом браке Бланш с морским офицером, в годы войны. Во времена визитов Лэндона ему было всего шестнадцать лет — эдакий испорченный женоподобный юнец с экстравагантными манерами. Они с приятелем вели себя словно школьницы, застенчиво хихикали, угощаясь из мельхиорового графина, а потом исчезали в комнатах с радостным повизгиванием. Лэндону всегда казалось, будто они старались перещеголять друг друга в каком-то дьявольском гавоте. Бланш считала Хауэрда вундеркиндом с артистическими наклонностями. Лэндону он виделся парикмахером, и, как показала жизнь, Лэндон был не так далек от истины, по крайней мере многие друзья Хауэрда процветали именно на этом поприще. Большую часть времени он проводил с ними, в их салонах и жилищах. Как и его мать, Хауэрд был алкоголиком, он тоже был подвержен приступам истерической ярости, после которых, обмякший и рыдающий, приходил в себя в какой-нибудь частной лечебнице. Да, скорбная повесть Бланш! Он должен был послать ей счет за то, что все это выслушивал. Бог свидетель, психиатрам она выложила немало! Может, Вера и Джинни вправду считают, что Бланш вылечилась, но Лэндон не был в этом уверен. Последний раз он видел ее в январе. Падал снег. Лэндон медленно шел по Блор-стрит с очередным визитом в контору по найму. Неизвестно почему (чтобы оттянуть разговор с этим гнусным типом Тедом Бутчером?) он остановился возле витрины модного женского магазина. К немалому удивлению, в пяти шагах от себя, по ту сторону витрины он увидел Бланш. Она примеряла нелепейший парик фиолетового цвета. Она стояла, наклонясь перед большим овальным зеркалом, и пыталась взъерошить этот парик пальцами. Рядом был Хауэрд. Надо полагать, в роли консультанта. Он извивался и порхал вокруг матери, будто исполнял шуточный народный танец, запрокидывал голову на бок и стоял с озадаченным видом, постукивая пальцем по скуле. Он настолько вошел в образ, что продавщица прыскала в кулак. Бланш и Хауэрд были в ударе. Истерия — но до чего же смехотворная! Лэндон поднял воротник своего элегантного пальто «барберри» и поспешно отошел, не желая быть замеченным. И теперь Вера намерена поселить Джинни под одной крышей с этой парочкой!
Он раздумал подливать себе в стакан, просто стоял и смотрел в окно. Когда они наконец приехали, он отступил от окна, прижался к стене и, затаившись как снайпер, чуть отодвинул двумя пальцами кружевную занавеску. Дверца такси открылась, и из машины в макси-юбке кофейного цвета появилась Джинни. На голове у нее был зеленый шотландский беретик, от круглых очков с тонюсенькими дужками отражался слабый солнечный свет. Накануне весь день шел снег, и машины проносились мимо нее по слякотной подтаявшей улице со змеиным шипеньем. Она глянула наверх и, не заметив его, побежала к подъезду. За ней из такси вылез бледный молодой человек с жидкими усиками, в джинсах «Левис» и длинной хлопчатобумажной куртке с накладными карманами. Темные до плеч волосы подвязаны сзади в конский хвост, вокруг головы — выгоревшая оранжевая лента. Последним появился еще один парень, высокий и мосластый, с бородой как у мормона. Вдвоем они вытащили из багажника чемоданы Джинни. Можно было подумать, что высокий собрался участвовать в конном родео: ослепительно полосатые штаны и подбитая овчиной ковбойская куртка. Да, конечно, погода была по-мартовски сырая и влажная, но все же… Разве оперенье этих двух пташек — не чистая клоунада? Этому верзиле еще повязку на глаз и широкополую шляпу «стетсон» — чем не «Одинокий объездчик»[4]? А парень поменьше, с выгоревшей оранжевой лентой в волосах, — чем не его верный помощник, индеец Тонто наших дней? Трудно обобщать, но, бродя днем в одиночестве по городу, Лэндон приметил: молодежь тяготеет к одежде бедных и недовольных. Он жил недалеко от университета и часто видел идущих на занятия студентов: линялые брюки из саржи с нашитыми на коленях и заду заплатами, на боках болтаются армейские котелки, за спинами — рюкзаки; на парнях — полотняные кондукторские кепки, такую носил и его отец, на девчонках — грубошерстные мексиканские пончо. Обуты в сандалии, длинные волосы подхвачены лентами, как у молодых крестьянок в весеннюю пору. Еще одно чудачество — некоторые даже курят самокрутки, словно фермеры во времена депрессии.
Он стоял и прислушивался, как тросы тянут через блоки железную клетку — развалюху лифт. Из-за двери доносилось полязгиванье и постаныванье его стальных мускулов. Он подождал: вот лифт дернулся, остановился, на площадке послышались шаги. Лэндон открыл дверь, и Джинни ракетой влетела в его объятья. Он прижался губами к ее волосам. Она подалась назад и, упершись пятками в пол, оглядела его восторженными, полными чертенят глазами — две горящие зеленые лампы. Уж не подогрела ли она себя каким-нибудь химическим топливом? Ох, ушли простые времена, когда принюхался к дыханию человека — и все ясно! Джинни стояла на расстоянии вытянутой руки и оценивающе, как старая тетушка, глядела на него.
— Папуля! А ты поправился!
— Боюсь, есть немного.
Она покачала головой, засмеялась и отвернулась, обежала живыми глазами комнату.
— Ты посмотри на меня! Чья бы корова мычала!
Она бросила на стул клетчатое ворсистое пальто. Да, она действительно крупная девица, и недалек день, когда перед ней встанет проблема лишнего веса. Зад у нее уже сейчас увесистый — бедная девочка! Фигурой она в меня, подумал Лэндон, тут ей не повезло. Тяжелые плечи, за грудной клеткой — слой спинного жира. Великолепные большие груди, но какие-то неопределенные, бесформенные. Под вязаным свитером нет лифчика — это уже косметическая ошибка. Да, с едой ей придется быть поразборчивей. Такое тело — настоящее хранилище калорий. Это плохо даже для него, а уж для женщины… Зато у нее привлекательная открытая мордашка. Будет за собой следить — к тридцати годам может стать роскошной женщиной. А сейчас, с длинными светлыми волосами, скрученными в косы, в очках а-ля Бенджамин Франклин, она была похожа на студентку из Амстердама.
— Ну, ты когда-нибудь выберешься из этой старой и унылой квартиры? — спросила она.
— Унылой? — Лэндон улыбнулся. — Я совсем не нахожу ее унылой. Для меня это — дом. Но вон там, — он махнул в направлении окна, — сносят все подряд. Каждый божий день грохочут. Слышишь? Так что рано или поздно мне придется переезжать. Этот дом уже продан. Университет скупил весь квартал.
Но Джинни его не слушала, она расхаживала по комнате.
— Папуля, сейчас поднимутся ребята, давай я введу тебя в курс дела. Ральф здесь уже около года. Уехал из Штатов, чтоб не идти в армию. И Кварт тоже. Он из Оклахомы. У его отца там ранчо. Он многим пожертвовал, чтобы перебраться в Канаду и не участвовать в этой гнусной войне. Мог стать богатым человеком. — Она сказала это тоном обвинителя.
— Что ж, Джинни, я тоже восхищаюсь людьми в принципами, — сказал Лэндон.
— Угу. Но ему достается на орехи от твоих ровесников, папуля. Как и Ральфу… похоже, я к этому уже привыкла… Извини.
Лэндон внимательно посмотрел на дочь. Она явно была возбуждена. Джинни ходила по комнате, поправляла вещи, взбивала подушки, заталкивала книги на полки, все это в какой-то причудливой нервной спешке. Да она, наверное, снова поссорилась с матерью, подумал он с облегчением. Только и всего.
— У тебя все в порядке, Джинни? В смысле — по-серьезному?
— Ну да, все отлично. — Она подошла к окну и теперь смотрела на улицу, нерешительно теребя ткань занавески, как магазинный воришка. — Старый город меняется.
— Да, — ответил Лэндон, сидя на диванном валике и наблюдая за ней.
— Я и сейчас считаю, что Нью-Йорк ему в подметки не годится, — сказала Джинни, прижимаясь щекой к стеклу. — Не город, а свинарник какой-то. — Ее вдруг охватило раздражение. — Маму он и то уж «достал», а ты ведь знаешь, как она любит свой Нью-Йорк.
— Знаю, — ответил Лэндон.
— Тебе известно, что после рождества в нашу квартиру два раза забирались воры? Лезут через окна, двери, крышу. Да и полиция с ними заодно. Больно им надо кого-то ловить. Настоящая война нервов. В общем, мама сыта Нью-Йорком по горло, потому она и возвращается.
— Сюда? — Лэндон даже вздрогнул. — В Торонто?
— Ну конечно. А ты не знал? Я думала, она звонила.
— Мне? — Лэндон засмеялся. — Да я с твоей матерью не разговаривал с самых праздников.
Джинни нахмурилась.
— Правда?.. Ну, в общем, такие дела. С работы она ушла. Вернее, нет… не совсем. Агентство согласилось перевести ее в их отделение в Торонто. Они от этого были не в восторге, но она сказала им: Нью-Йорк ее «достал», и она возвращается в Торонто. Ну, ты знаешь, если мама что-то решит, с ней лучше не связываться. Короче говоря, завтра вечером она прилетает. — Джинни снова заходила по комнате, спиной к Лэндону. Он явственно услышал, как хрустят костяшки ее пальцев. — Я думала, может, тебе звонила тетя Бланш. Ведь, пока не обзаведемся жилищем, мы будем жить у нее.
Лэндон провел рукой по скуле.
— Значит, ее снова выпустили! Я думал, она еще под замком.
Джинни с недовольной миной обернулась.
— Папуля… Это на тебя не похоже. Тетя Бланш немного нездорова, но это не значит, что нужно быть жестоким.
— Да, не значит, но я не в восторге от того, что ты будешь жить с ней под одной крышей. Она безумно ревнует к любой женщине моложе семидесяти пяти лет. Ты сама это знаешь. И с ней все еще случаются эти жуткие припадки. Мне о них Харви Хаббард рассказывал.
— Фу, этот вульгарный тип. Да что он понимает? К тому же тетя Бланш совсем поправилась. Правда, правда. Уже несколько месяцев она совсем здорова.
— В самом деле? — Лэндон попытался не выдать раздражения. — Что ж, возможно. Но что такое «здорова» применительно к твоей тете Бланш? Уж от Веры я этого не ожидал. Вполне могли бы пожить в маленькой гостинице, пока не устроитесь.
Маленькая гостиница! Была такая песня у Роджерса и Харта[5] — «В маленькой гостинице есть дупло желаний…». Когда-то он и Вера прижимались друг к другу под эту старую мелодию, завывали саксофоны, а они покачивались в такт музыке в каком-то вечернем клубе; этот его ребенок еще не был зачат. Голову Лэндона иногда наполняли такие бесполезные воспоминания. И вот теперь Вера стремилась из Нью-Йорка в Торонто, который она частенько называла «городом на одну лошадь». Да, уж ей-то требовалась как минимум шестерка. И экипаж в придачу. И они остановятся у ее сестры?
— Папуля, — говорила Джинни, — ты знаешь, тетя Бланш гостила у нас целых две недели и была в полном порядке. Она теперь совсем другой человек, правда. К тому же доктор выписал ей эти потрясные новые таблетки. Так, на всякий случай.
— Так, на всякий случай, — пробормотал Лэндон, покачивая головой. Непоколебимая вера дочери в целебную силу лекарств позабавила его, но и огорчила. Ох, эти молодые, подумал Лэндон, щурясь от солнца, которое уже устремилось через окно в комнату. Они на все лады честят науку за то, что она столько всего разрушила, выбила у людей почву из-под ног. Но в трудную минуту они поклоняются этой богине. Что ж, если случится самое худшее и угрозы вот-вот обернутся реальностью — всегда есть волшебные порошки, они выручат из беды. Не об этом ли он всего неделю назад говорил с патлатым парнем в парке? Этот исхудавший христоподобный тип с глазами мученика предсказывал наступление дня, когда санитарно-эпидемиологические службы крупнейших городов мира добавят в питьевую воду огромные дозы транквилизаторов.
— Это единственный выход, дружище, — уверял он, дергая себя за обвисшую кожу пальцев. Он словно собирался сбросить кожу, как змея. Наверно, нехватка витаминов, подумал тогда Лэндон. Но витамины парня не интересовали. Он сидел, откинувшись на парковой скамейке, локти торчком, длинные ноги скрещены у лодыжек. — Я это понимаю вот как, дружище. Мы должны избавиться от враждебности, устранить дурные токи. Чтобы все были спокойны. А то мы заклевываем друг друга до смерти, — добавил он, ссылаясь на недопустимые условия работы в птицеводстве — отрасль хозяйства, о которой он, как видно, имел хоть какое-то представление. Может, на ниве разведения цыплят процветает его родитель, думал Лэндон, глядя, как он направился обследовать содержимое урны для мусора. Так или иначе, патлатый парень с его мечтой о ключевой воде из-под крана городского водопровода едва ли предлагал правильный выход.
Джинни снова прижалась щекой к стеклу, она смотрела вниз, на улицу, задумчивая и молчаливая, как пациент в больнице, который изо дня в день наблюдает за бегущей под окном жизнью. Минуту спустя она спросила:
— Куда это ребята запропастились?
— Может, в лифте застряли, — предположил Лэндон. — Это у нас бывает. Пожалуй, пойду взгляну.
Но тут же услышал: дряхлый мотор ожил, зажужжал, заскрипели тросы. Лифт поднимался. Джинни стояла у окна, опустив руку, и грызла костяшки пальцев другой руки. Лэндон открыл было рот — что-то сказать, — но тут же осекся, потому что дочь тихонько воскликнула:
— Ой, посмотри на того несчастного человечка!
До слуха Лэндона донесся быстрый веселый перезвон — колокольчик точильщика.
— На Рудольфо, что ли? — спросил он.
— Вон там, внизу, человечек, — крикнула Джинни, — бедняга, приходится точить ножи, чтобы заработать на хлеб.
Лэндон улыбнулся.
— Рудольфо не так уж плохо живется. И своей работой он доволен.
Тут он одернул себя. Лучше не надо. Для Джинни Рудольфо — тихий, изверившийся бедолага, вынужденный делать бессмысленную работу. Но Лэндон знал — не так-то все просто. Точильщик появлялся в их квартале каждый четверг, и Лэндон не раз с ним разговаривал. Рудольфо помотало по свету: он дрался с фашистами в Испании и с коммунистами в Греции, скрывался, как бандит, в горах Албании, делил хлеб с дикими горцами. И он кое-что понимал в этой жизни. Крутить точильное колесо на улицах Торонто — это его вполне устраивало: прибежище странника после долгих лет борьбы и лишений. Лэндон все же решил что-то сказать в защиту Рудольфо, но взглянул на открытую входную дверь и узрел темноволосого парня — тот стоял на пороге, словно жених, и держал большие белые чемоданы Джинни.
— Входите, пожалуйста, — пригласил Лэндон. — И поставьте вещи на пол. А то вид у вас усталый.
— Спасибо, — сказал парень.
— Папуля, это Ральф! — воскликнула Джинни, скакнула через всю комнату и взяла парня за руки. — Ральф собирается снимать кино.
— Правда? — заинтересовался Лэндон. — О чем же?
От смущения Ральф Чемберлен нахмурился.
— Да у нас еще ничего не готово. Вообще-то фильм будет об американцах — членах антивоенного сопротивления в Канаде. Главное — деньгами разжиться. Из властей много не выжмешь, сами знаете…
Лэндон уже смотрел мимо Ральфа — в дверях появился парень с бородой. Ральф вспыхнул. Его не принимали всерьез.
— Проходи, Кварт, — позвала Джинни. — Фу ты, я даже не знаю твоей фамилии. — Она повернулась к отцу. — Мы только в аэропорту познакомились.
Верзила вошел в комнату, застенчиво улыбаясь.
— Кварт. Логан. Здравствуйте, мистер Лэндон.
Он протянул свою лапищу, и Лэндон ее пожал.
— Садитесь, пожалуйста, — пригласил Лэндон. — Джинни… Ральф. Вот сюда, что ли. Кварт… Необычное имя. Надо думать, у него есть своя история.
Логан засмеялся, показывая большие неровные зубы.
— Еще бы… Вообще-то мое имя — Уиттейкер. В честь моего дедушки Уиттейкера. Но в детстве я стал Квартом. Я страшно любил замороженный апельсиновый сок «Птичий глаз». С ума по нему сходил! Сколько в меня его ни лили, все было мало. Пил его квартами…
Он пожал плечами и ухмыльнулся. Не бог весть какая история, но другой у него не было. Лэндону Кварт Логан явно нравился.
— А теперь, наверное, вы апельсиновый сок не переносите, — сказал Лэндон, стараясь поддержать разговор, как торговый агент.
— Между прочим, так оно и есть! — воскликнул Логан. — Как вы угадали?
— Да с этими историями всегда так, правда же?
— Вроде да.
Лэндон предложил гостям выпить, хотя помнил: среди нынешней молодежи есть такие, которые презирают спиртное. Он извинился, что в доме нет пива.
— Может, немного хереса?
— Херес — отличный напиток, — сказал Кварт. Он уселся в кресло, и его большие ноги в полосатых брюках торчали, как бело-красные столбы на вывеске парикмахерской. Джинни, слушая отца вполуха, уже расспрашивала Ральфа о будущих съемках.
В кухне Лэндон достал четыре стакана, разлил херес из бутылки Маргарет, в душе поблагодарив ее за то, что она держала свою бутылку в его серванте. Себе в стакан он, прищурившись, плеснул на дюйм с хвостиком «Старого тролля». Тут он услышал, как в гостиной Кварт шепчет Джинни:
— Как думаешь, отцу не понравится, если мы тут самокруточку запалим?
— Не знаю, Кварт, — ответила Джинни. — Может, лучше не надо.
Лэндон вернулся, неся стаканы на старом жестяном подносе с изображением вечернего Ниагарского водопада. Этот поднос достался ему вместе с квартирой.
— Ну вот. — Он поднял стакан. — Как насчет маленького тоста? Может, для начала выпьем за мир?
Сидевший на диване Ральф хмыкнул, но стакан поднял, и все дружно выпили. Кварт причмокнул губами.
— Хотел бы я сейчас посмотреть на физиономию моего папаши.
— Почему? — удивился Лэндон. — Он бы не одобрил этот тост? — Он опустился в мягкое кресло.
— Хо-хо-хо! — воскликнул Кварт, не очень сдерживая веселье в голосе. — Моя семья, мистер Лэндон, — потомственные вояки с длинной родословной. Отец — полковник в войсках спецрезерва. У него есть винчестер с прикладом ручной работы — шикарная пушка, можете поверить, — он держит его пристегнутым в багажнике своего пикапа «шевроле». Ну, а два моих дяди награждены «Пурпурным сердцем»[6] за участие в битве на Гуадалканале[7]. Еще один погиб на Иводзима[8], после того как накормил бомбами добрую сотню япошек.
— И вы разочаровали отца?..
— Хо-хо… Разочаровал — не то слово. Он выпустил бы мне кишки да изжарил меня на медленном огне, попадись я ему.
— Но он же ваш отец. Обычный человек, как все. Своя плоть и кровь…
Кварт покачал головой.
— Вы не понимаете, мистер Лэндон. Я опозорил его имя, вот в чем штука. И об этом знает весь округ… Из-за меня отец не может смотреть людям в глаза…
— А чего ты от него ждал? — вмешался Ральф, он сидел, распрямившись. — Пойми, старик, наши родители живут в другом веке. Мой отец такой же… Что подумают люди… это для него самое главное…
На полном серьезе, разящим наповал тоном. Этого молодого человека с болезненным цветом лица и скорбными усиками, как у китайского доктора-злодея Фу Манчу[9], хотелось сравнить с суровым миссионером. Ральф говорил, а Лэндон, вжавшись и наполовину утонув в глубоком кресле, слушал, поглядывая на всех троих поверх своей коленной чашечки, которой было сорок два года от роду. Говоря, Ральф покачивался из стороны в сторону, как кукла-неваляшка, хмурым взглядом буравя ковер. Логан сидел, сплетя на животе длинные пальцы. Время от времени он согласно кивал, Джинни чуть не вылезла из кресла: уперев локоть в колено, а кулак — в подбородок, она зачарованно внимала этому негодующему интеллектуалу. Воздух вокруг Лэндона как-то загустел, словно наполнился вредными испарениями. Все ясно — она втрескалась. Он хотел было поговорить с ней наедине, пытался зазвать в кухню, но она, тряхнув косами, положила конец этим поползновениям. Жест ее означал: «Папуля, пожалуйста, не сейчас, ты же видишь, что я занята». И отвернулась и снова вскинула кулачок к подбородку. И Лэндон не стал настаивать, не стал приставать с ножом к горлу — уж так он был устроен. Добиваться своего не умел. Неискоренимый порок, проходивший лейтмотивом сквозь всю грустную комедию, именуемую его жизнью. Крэмнер не раз говорил ему, что он прекрасный торговый агент, но «толкать» сделку не умеет. До чего же Крэмнер любил всякие словечки из старого торгового лексикона! Как-то утром они сидели в Виннипеге за чашкой дымящегося кофе, на улице — тусклый понедельник, и Крэмнер в который раз напоминал Лэндону о его недостатках. За окном кафе бушевал северный ветер, гонял людей взад и вперед. Вывески магазинов на Портедж-авеню похрустывали, как старые кости, под серым небом на ветру пели провода. Официантка сказала им, что на градуснике — сорок три ниже нуля. Хороша погодка — просто издевательство над человеком! Лэндон смотрел, как бармен отжимает свою фирменную тряпицу и медленными, ленивыми движениями протирает стекло витрины, где были выставлены булочки и пирожные. Как он завидовал ему — до чего проста у человека работа! А Крэмнер трещал без умолку:
— Послушай меня, Фредди, дружище. Я совсем не хочу наводить критику. Просто, если человек проработал в этом деле тридцать пять лет, ему есть что посоветовать. Так вот, заказчики любят иметь дело с симпатягами. Но они любят и другое: чтобы в голосе у тебя звучали властные нотки. Особенно бабенки. Небольшой нажим в конце — и у тебя в кармане лишних пять сотен. Помни, зачем ты пришел! За подписью покупателя. За правом вывезти товар со склада.
Господи, как только он мог вообразить, что способен торговать? Почему, ну почему ухлопал на это занятие столько лет жизни? Давным-давно пора было бежать из торговли без оглядки. Это совсем не по его части. Даже Бутчер так считает. Но поначалу ему казалось, что быть разбитным толкачом вовсе не обязательно. В конце концов, ходить по домам: выжимать из людей соки в их собственных гостиных, совать им под нос контракт, по которому они до конца дней своих будут обеспечены кухонной посудой и энциклопедиями, — ему не приходилось. И порой он считал, что работает ничуть не хуже или лучше своих коллег. Он проверял инвентарные ведомости, выписывал заказы, каждую весну и осень вводил новые товары. Наверно, можно было работать с большей отдачей, тратить больше времени на поиски новых заказчиков, новых методов работы. И уж слишком много было озорства и жаргонных шуточек (его фирменное блюдо). Один торговый агент как-то сказал Лэндону, что у него репутация человека, который не принимает свою работу всерьез. Но мало ли кто что говорит? Этот тип был пьяница. Лэндон до того углубился в свои мысли, что не заметил, как его гости поднялись на ноги. Они собирались уходить. Лэндон выскочил из кресла, как спящий, разбуженный звонком в прихожей.
— Эй… вы что, уже уходите?
— Да, папуля, нам пора. Времени в обрез.
Джинни уже запахнула ворсистое пальто и обматывала вокруг шеи длинный яркий шарф. Кварт Логан стоял у двери и пощелкивал пальцем по металлическим пуговицам своей куртки.
— Что за спешка? — спросил Лэндон. — А, Джинни?
— Папуля, мы сейчас едем к тете Бланш. Мотор поймаем прямо на улице. Так будет вернее. В это время заказать такси по телефону — дохлый номер…
— Но почему не остаться? Поужинаем вместе. А потом я отвезу тебя к Бланш…
— Это было бы здорово, но тетя Бланш нас уже ждет. Я звонила ей из аэропорта.
— Ну, как знаешь…
У двери Кварт Логан оперся о косяк и дружелюбно посмотрел на Лэндона.
— Кажется, я принимаю ваш стиль, мистер Лэндон, — сказал он. Чемберлен, подхватив большие чемоданы, уже вышел на площадку. — Да, сэр, — подтвердил Логан. — Насколько я понял, вы — один из тех, кто отстранение и иронично наблюдает за суетным миром… Молчаливый человек, который, однако же, все видит и слышит. Я прав, сэр?
Лэндон подтянул сзади брюки, приставшие к телу, — он долго сидел в кресле.
— Нет, — ответил он. — Я всего лишь безработный торговец поздравительными открытками.
Логан фыркнул в восторге от такого ответа и направился по коридору за Чемберленом, который уже сидел на одном из чемоданов перед «железной клеткой», словно Маленький Бобер[10] на станции в ожидании поезда. У двери Лэндон взял дочь за руку.
— Джинни! Когда мы с тобой обо всем этом поговорим?
Она качнулась вперед и клюнула его в нос.
— Папуля, ты прелесть. А мы с мамой знаем, как ты тут развлекаешься и проводишь время.
Лэндон застонал.
— Кто развлекается? Какое время?
— Ну, с твоей подругой, глупенький, — прошептала Джинни, рассмеявшись и опустив очки на нос. Ее незащищенные зеленые глаза ярко сияли. — С дру-у-го-ой женщиной. Она живет в этом же доме, правда? Удо-о-обно! Ой, да мы о тебе все знаем. Нас держат в курсе.
— Вот как? И кто же?
— Хо-хо… Не скажу!
Черт, ну что за дьявольские шутки!
— А мама дико ревнует, и знаешь, что мне кажется?
— Нет, что?
— Что она еще в тебя влюблена. Смех, правда?
— Нет.
Джинни снова качнулась вперед и клюнула его, на сей раз в щеку.
— Позвони мне туда… к тете Бланш… папуля?
— Да? Что?
— Не беспокойся, ладно?
Но он очень даже беспокоился и, лишь когда они уехали, вспомнил еще кое-что. Позвонить Бланш он не мог. В телефонной книге ее номер теперь не значился. Об этом ему рассказал Харви Хаббард. Тому все новости докладывали адвокаты, которые вели его бракоразводный процесс и еще наносили последние штрихи. Судя по всему, у Бланш возникла новая страсть — играть в добропорядочного члена общества. Она занялась общественно полезной деятельностью. Собственно, отчасти это было лечение. Психиатр посоветовал ей заняться поисками ближнего своего, ведь все люди — братья. Она вступила в церковный клуб, оказывавший помощь одиноким мужчинам, от которых отвернулась удача. Или вообще никогда к ним не поворачивалась. По средам пополудни Бланш приходила в благотворительную группу «Добрые вести» на нижней Джарвис-стрит. Там она облачалась в серый халат и, стоя за прилавком, раздавала штаны и пиджаки от старых костюмов. Разумеется, Бланш не могла не переусердствовать. Как во всем. И если кто-то смотрел на нее совсем умоляющими глазами, рассказывал уж совсем печальную историю, она нет-нет да и совала такому горемыке двадцатку. В результате на нее обрушился шквал телефонных звонков от типов по кличке Французик, Лопух и Повидло. Это были еще те звонки! Звонили в любое время дня и ночи: кто-то, захлебываясь, настойчиво просил денег — навестить в Ванкувере умирающую мать; кто-то в большом подпитии приглашал в пакгауз номер семь у пирса на Бей-стрит, за железнодорожными путями, — на вечеринку с вином и сыром. А уж от непристойных предложений отбоя не было. Некоторые из них приводили в ужас даже Бланш. А что, этих типов тоже можно понять: попытка — не пытка. В общем, все это обернулось жутким недоразумением. И теперь номер Бланш перестали печатать в телефонной книге. И чтобы снова увидеть дочь, Лэндону, видимо, придется поехать в дом на Расселл-Хилл-роуд.
Дом на Расселл-Хилл-роуд! Он-то надеялся, что распрощался с ним навсегда. Поерзав под одеялом, Лэндон стал думать о предстоящем дне. На бледном фоне над научной библиотекой пылала Венера, сияющая и полная, последняя яркая точка в предрассветном небе.
Вообще-то Лэндон любил пятницу. Для человека без работы пятница — это конец недели, заполненной чувством вины. Это чувство то и дело всплывает на поверхность, идешь ли ты без цели по улице или читаешь журнал в городской библиотеке. Или средь бела дня дремлешь перед телевизором. В пятницу же, поближе к вечеру, безработный может расслабиться. Он снова полноправный член общества, его не отличишь от занятых полезным трудом соседей, отдыхающих после рабочей недели в конторах и на заводах. Но сегодня Лэндон не мог расслабиться. В десять часов у него встреча с этим Оззи К. Смитом в «Хартстоун риэлти». Еще один клиент Бутчера! Что толку ходить на эти беседы? Сколько он их уже вынес? Не счесть, а результат всегда тот же, хоть тресни. И все голоса — как один:
— Очень рады, что заглянули к нам, мистер Лэндон. Вы, конечно, понимаете, что на это место у нас несколько претендентов. Мы примем решение, как только рассмотрим все заявления. Если повезет вам, мы дадим знать. Надеюсь, номер своего телефона вы записали…
Другие не миндальничали, и Лэндон был им благодарен, хотя уши его полыхали.
— Слушайте, Фред, я вам все выложу начистоту. Может, вы самый лучший торговый агент в мире. — Пижонистый молодой человек улыбался, и Лэндон не скупился на ответную улыбку — зуб за зуб, коронка за коронку. Не скупился… а почему? — Но нам вы не подойдете. Не хочу вселять в вас надежду. — Он постучал ногтем по анкете Лэндона. — …Сколько вам? Сорок четыре?
— Два… Сорок два.
— Хорошо, Фред, сорок два. Через восемь лет — пятьдесят, верно?
Лэндон едва слушал, в голове пощелкивали только цифры, как кулачки в каком-нибудь замке с секретом. Господи, да ведь он прав! Пятьдесят лет! Неужели?
— Ну, Фред, если говорить откровенно… Как мы — руководство то есть — должны относиться к вашей кандидатуре? Пенсию мы выплачиваем с шестидесяти лет, но серьезно подумываем о том, чтобы отправлять на пенсию в пятьдесят два года.
— В пятьдесят два? На пенсию? — доносилось карканье из пересохшего горла Лэндона.
— Именно. А еще мы должны принять во внимание вот что: наша компания ориентируется на молодежь. Наш основной покупатель — возрастная группа до тридцати лет. Поймите меня правильно. Есть исключения. Но пиковый период торгового агента — от двадцати пяти до сорока пяти лет. Это подтверждается статистикой…
Да и времена сейчас — не сахар. Экономисты стращают. Слава богу, мне не нужно содержать семью, с содроганием думал Лэндон, лежа в постели. А уровень жизни знай себе растет. Собственно, дела его не так уж плохи. На эту пятницу у него еще имелись сбережения, семь тысяч сорок три доллара с мелочью. Но ведь он тратил эти деньги и раз в неделю с упавшим сердцем наблюдал, как тает его счет. Кассирша из банка, симпатичная девица, смотрела на него с сочувствием. Ну ничего, пока я в порядке, пробурчал он, обращаясь к потолку. Но особой уверенности не было. А сегодня еще Вера прилетает из Нью-Йорка! Она-то с чем пожалует? Надо встретиться с Джинни. Вытащить ее куда-нибудь на кофе и поговорить о планах на будущее.
Он встал с постели и подошел к окну: коренастый мужчина шести футов роста, на голове буйно колосится светлая с рыжиной копна волос. Эти волосы, сейчас всклокоченные после сна и примятые неугомонными пальцами, были самой яркой чертой во внешности Лэндона. Они вздымались над вообще-то заурядной головой, и благодаря им он выглядел красивее, чем был на самом деле. Обильные и роскошные, они были en evidence[11] в лучах восходящего солнца — подарок матери и ее шведских предков. Иногда эти волосы делали его более приметным, чем хотелось бы, но это мелочи — короче говоря, у него была шикарная шапка волос, настоящая львиная грива, предмет его гордости и даже тщеславия. Вряд ли такие волосы когда-нибудь выпадут. Что-что, а это его не беспокоило.
Стоя у окна в свободной зеленой пижаме, он смотрел вниз на улицу. Для конца марта было холодно, землю припорошил только что выпавший снежок. Перед продуктовым магазином Кнайбеля из канализации а желтый от фонарного света воздух поднимались испарения, в темных кирпичных домах кое-где уже светились окна — ранние пташки собирались на работу. Квартал просыпался. Дальше по Спадина-авеню Лэндон видел, как вспыхивали тормозные огни — это автобусы останавливались и подбирали итальянских рабочих, ехавших на целый день рыть тоннели городского метро. А я смог бы так? — подумал Лэндон и тут же ответил: нет. Ему нипочем не поспеть за этими маленькими темноволосыми крепышами. На той стороне улицы Кнайбель уже включил свет и готовился к рабочему дню, с тягучей немецкой размеренностью он доставал кувшины с яйцами и маринованными огурцами, раскладывал сосиски и колбасные батоны. В поле зрения Лэндона — через щели в ставнях магазина — изредка попадал крупный лысый череп Кнайбеля, уже густо покрасневший. Кнайбель страдал гипертонией и всегда с удовольствием делился своими заботами с незнакомыми людьми. Во всех своих бедах он винил вермахт, за который воевал четыре года, хорошо понимая, что защищает не те идеалы, но был бессилен что-либо изменить. И ему против воли приходилось стрелять в русских и поляков на берегах Буга.
За магазином Кнайбеля и старыми кирпичными домами поднималась в небо научная библиотека — четким темным силуэтом. Это был очередной придаток к комплексу городского университета. За последние два года у Лэндона не раз трещала голова от шума и грохота стройки, и, хотя он ничего не имел против прогресса, он невзлюбил эту массивную серую кучу цемента и стекла, властно вонзавшуюся в небо. Эдакий местный забияка, поигрывающий мускулами перед носом у соседей. Впрочем, этого можно было ожидать. Университет разрастался и перепахивал квартал, избавлялся от старых покосившихся домишек с цементными крылечками, а заодно и от небольших кирпичных многоквартирных домов, над входом в которые значилась дата постройки. Дом, где жил Лэндон, произвели на свет в 1912 году, и иногда, стоя вот так у окна, он развлекался, представляя себе, как выглядели улицы в те давно ушедшие времена, когда дом этот только родился и был полон сил. Разница, полагал он, главным образом заключалась в масштабе. Тогда, надо думать, все было меньше. Размышляя так, он делал кружок из большого и указательного пальцев и смотрел сквозь него, как фотограф в видоискатель. И там, конечно же, были высокие коробкообразные автомобили на узких шинах и открытые, похожие на игрушечные, красные деревянные трамваи, с колокольцами, с кондукторами в синих жилетах, громыхающие по рельсам. И люди были поменьше. Разве не читал он где-то, что средний североамериканец за последние пятьдесят лет вырос на целый дюйм и прибавил в весе на двадцать фунтов? Я-то прибавил куда больше положенного, мрачно подумал Лэндон, оглядывая себя в зеркале шкафа. Надев старые брюки, он втянул живот, чтобы застегнуть верхнюю пуговицу, но так оказалось уж слишком туго. Вздохнув, он отстегнул ее, и его мягкое широкое брюшко тут же вытекло наружу. Эти брюки от старого летнего костюма знавали лучшие времена. Сейчас он надевал их, когда писал масляными красками, проводить время за холстом ему присоветовала Маргарет. Это поможет забыть о неприятностях, сказала она. Брюки были мятые, заляпанные краской всех цветов, на его широких бедрах они висели, как гаремные шаровары. Раньше он относился к своему туалету требовательнее. В те дни он работал разъездным торговым агентом от фирмы, выпускающей поздравительные открытки, и шкаф его был полон шикарных костюмов и модных курток. Когда он спускался завтракать в рестораны старых гостиниц в Галифаксе и Монреале — торжественные старые залы, обшитые темным деревом, — его шагренированные мокасины фирмы «Флоршейм», утопая в коврах, отсвечивали богатым глянцем. В глазах официанток он был элегантным мужчиной — сидит за сложенной вчетверо газетой, прислонив ее к графину, потягивает апельсиновый сок и ждет заказ — яйца всмятку. Но все это — в прошлом. Вот уже семь месяцев он без работы.
В кухоньке Лэндон, прислушиваясь к чайнику, жарил гренки. Над головой, совершая утренний ритуал, увесисто топали ноги. Ох, эти ноги! Они принадлежали его подруге Маргарет Бошан, которая сновала по своей квартире, уже опаздывая на семичасовую мессу в церкви святого Василия-великомученика. Было время великого поста, и его набожная Маргарет причащалась каждый день. После мессы она пойдет в старую школу из красного кирпича на Харкур-стрит — она преподает там английскую литературу детям эмигрантов. Лэндон слушал эти шаги каждое утро и каждый вечер из месяца в месяц и даже представить себе не мог, что в один прекрасный день они найдут дорогу в его постель. Он слушал их, зная лишь, что они принадлежат крепко сбитой темноволосой женщине, переехавшей сюда вместе с матерью в прошлый День труда[12]. Иногда во время мимолетных встреч у входной двери или в «железной клетке» она улыбалась ему. Погода обычно стояла холодная, и она была закутана в тяжелое суконное пальто, а волосы скрывала какая-нибудь бесхитростная шапка. Впрочем, он видел ее и в более мягкую погоду: юбка, кардиган, туфли на резиновой подошве. Часто она, отоварившись у Кнайбеля, несла домой ароматно пахнувшие свертки; крупная женщина, широкая — славянская — кость, ноги точно литые, как у медсестры в больнице. Сколочена прочно, уж по крайней мере лет на сто — так считал Лэндон. На широком лице — грустный застенчивый взгляд, увядшая роза, печальная душа. Бывало, она бережно несла учебники. Или затрепанный кожаный портфель, старомодный, потрескавшийся и видавший виды, с множеством застежек и ремешков. Такие много лет назад Лэндон видел у эмигрантов в длинных кожаных пальто. Старая дева, решил он, хотя не такая уж и старая, иностранка, живет с больной матерью, та никогда никуда не высовывает нос, разве что в полумрак церкви святого Василия по воскресеньям. Встает чуть свет, даже в выходные. Лэндон часто видел, как ранним утром дочь катила по улице коляску со старушкой матерью. Безрадостная промерзшая улица, тусклый свет, и эта женщина, толкающая инвалидную коляску с запеленатой в шаль фигурой. Типично русская картина — безропотное самопожертвование, исполнение долга. Какой крест приходится нести людям! Первой его реакцией было сочувствие. Не знающее счастья существо, все, что есть в жизни, — учебники, больная мать и церковь. «Невспаханное поле»[13]. Но в последние дни осени старушка мать внезапно скончалась, и жизнь Лэндона изменилась. Занятная это штука — жизнь, и как часто бывает: нелепый случай, гром среди ясного неба, принятое наобум решение — и вот фортуна уже повернулась к тебе лицом. Или спиной. Сложив губы трубочкой, торговый агент стал дуть в чашку с растворимым кофе «Санка».
Ему вспомнился разговор со знакомым, клиентом из другого города. Этот бедняга все еще поражался — какие коленца способна откалывать жизнь! Кажется, он всю жизнь прожил бок о бок со своим лучшим другом. Они вместе росли, гоняли в хоккей и пинали мяч с песком, вместе ходили на свиданья. Женившись, купили дома по соседству в новом пригороде, помогали друг, другу сажать цветы и поровну делили расходы на противосорнячные химикаты. Ездили вдвоем на рыбалку, радовались прибавлению в семьях друг друга, их процветанию. Жены обменивались кулинарными рецептами. Как-то раз они вчетвером собрались встречать Новый год.
— Мы все как следует заложили, — рассказывал клиент Лэндону, — но мой друг почему-то перебрал и рано сломался. Еще не было десяти. Что, ты думаешь, происходит дальше? Моей жене становится так худо, что мы — жена друга и я — в темпе везем ее в больницу. Доктора поглядели, пощупали ей бока, определили по ее стонам, где болит, — и не долго думая на стол. Аппендицит. Через какой-нибудь час чик — и готово, жена в полном порядке, приходит в себя. Мы вернулись: друг мой дрыхнет в спальне на груде пальто, мы его втащили в машину, отвезли домой и уложили в кроватку. Не успели выйти из комнаты, он уже стал выводить рулады. Спустились вниз, жена друга предлагает дернуть на ночь. Ну, думаю, почему бы нет, за вечер намытарились. И вообще я ее полжизни знаю. Тут как раз часы бьют двенадцать, мы поднимаем стаканы. Новый год! «С новым годом, Джордж», — говорит жена друга и легонько целует меня в щеку. И тут… я просто не знаю. Хоть убей, не могу объяснить, какой ветер над нами подул. А может, мы впервые остались по-настоящему наедине — вот и все объяснение. Дети далеко. Мой лучший друг — наверху в полной отключке. Жена моя в порядке, приходит в себя после операции. Короче, не успели мы глазом моргнуть, как оказались на диване! Представляешь? — Лэндон понимающе хмыкнул. — Мы влюбились друг в друга, — продолжал клиент. — Но как! Это был какой-то угар. Чтобы побыть вместе, мы врали. Мы встречались в прачечных самообслуживания, в универмагах, в кино для автомобилистов. Естественно, тайное стало явным. Такое ведь долго не скроешь. Я чуть не лишился семьи, да и мой друг тоже. Мне пришлось переехать в другой город, искать новую работу! — Он отхлебнул из стакана и покачал головой, погрустневший, зато познавший житейскую мудрость человек. — Подумать только! Я прожил рядом с этой женщиной двадцать лет, и ни сном ни духом… Никакого флирта, ничего. Ты можешь в это поверить?
Лэндон верил. Почему бы нет? С ним тоже было такое. В жизни возможно все, в том числе и объятия с соседкой. Пока не сблизишься с человеком, откуда ты можешь знать, что у него в душе? А как с ним сблизиться? Ну, если тебя не приглашают, размышлял Лэндон, намазывая на гренок низкокалорийный мармелад, во многом решает случай, так? Взять хотя бы хозяйку этих шагов над его головой. Не приди ему однажды фантазия купить шляпу, они, скорее всего, так и продолжали бы раскланиваться и улыбаться друг другу возле входных дверей и лестничных пролетов.
Он купил эту шляпу в магазинчике на Йонж-стрит. Было начало декабря, безотрадный день шел к концу, и владельцы магазинов уже зажгли огни в витринах — как-то рассеять мрак. Было ясно — эта шляпа ему не идет, но он все равно ее купил. Взбодриться или поспорить с судьбой. Почти все утро он просидел в страховой компании, заполняя бланки и мудреные вопросники. А после обеда еще два часа проторчал в отделе сбыта фирмы, торгующей оптом продовольственными товарами. Он шел домой и чувствовал: нужно отвлечься, как-то передохнуть после этих утомительных и бесплодных собеседований. На выбор он предложил себе следующее: пропустить стаканчик-другой в баре, где-нибудь поужинать, сходить в кино. Или купить себе какую-нибудь обновку. Для безработного все четыре варианта — расточительство. Тут в витрине магазина мужской одежды он увидел шляпу — неброский черный «хомбург»[14]. В ней прекрасно смотрелся бы лысый банкир, но для буйной шевелюры Лэндона это было типичное не то. Тем не менее Лэндону понравилась ее строгая респектабельность. От нее так и веяло солидностью, и Лэндон загорелся. Хозяин, суетливый человечек, высказался против.
— Это не вы, — не терпящим возражений тоном заявил он. — Послушайте меня. В шляпах я как-нибудь разбираюсь. Тридцать лет ими торгую. Хотите брать — на здоровье. Какой дурак откажется продать свой товар? Но это не вы. Для вас, мой друг, вот… и тоже недорого. — Он поднял разухабистую шляпку-тирольку в светло-зеленую клеточку, из-под ленты торчало яркое перо.
— Это как-то несерьезно, — пробурчал Лэндон, раз в жизни проявив упрямство.
— Несерьезно-несерьезно, это вы, и точка, — уверял хозяин.
— Все же заверните мне «хомбург», — мрачно заключил Лэндон. — Впрочем, не надо, — добавил он. — Я его надену.
Толкаясь в метро среди вечернего потока, Лэндон так и ждал, что сейчас кто-нибудь поднимет голову и окинет его «хомбург» насмешливым взглядом. Он смотрел на свое отражение в темном стекле двери… да, этот «хомбург» явно не на месте, торчит, как ермолка раввина. Шляпник был прав. Девятнадцать долларов девяносто пять центов кошке под хвост. Лучше бы он в кино пошел! Повернув на свою улицу, Лэндон увидел у их дома небольшую толпу. Что-то случилось! Мигалка на крыше «скорой помощи», медленно поворачиваясь в морозном воздухе, отбрасывала длинные темно-красные щупальца света на дорогу и на боковую стену магазина Кнайбеля. Сам Кнайбель стоял в задних рядах толпы: крупный, сутулый, в белом фартуке, руки глубоко засунуты в карманы, толстая шея вытянута вперед. Лэндон ускорил шаги. Кнайбель искоса посмотрел на него.
— Что случилось, мистер Кнайбель? — спросил запыхавшийся Лэндон.
Кнайбель изучающим взглядом окинул «хомбург». Это еще что такое? На голове у человека свила гнездо большая черная птица? Лэндон не был постоянным покупателем, и торговец не счел нужным с ним любезничать. Он повернулся к толпе.
— Старушка. Тромбоз, что ли, — процедил он.
— Какая старушка? — спросил Лэндон, уже пришедший в себя.
— Сверху, — ответил Кнайбель. — Миссис Бошан.
Не хотел, чтобы его тревожили. Молодой полицейский раздвинул толпу, и санитары снесли по цементным ступенькам носилки. В свете уличного фонаря Лэндон увидел под одеялом хрупкую фигурку, посеревшее старушечье лицо, змеиные глазки закрыты. Она уже выглядела покойницей. Санитары быстро задвинули носилки в заднюю дверь машины и, сверкнув белыми туфлями, сами вскочили следом. Полицейский велел собравшимся дать дорогу, и «скорая», включив сирену, умчалась.
— Всегда у меня покупала, — вздохнул Кнайбель.
На ступеньках одиноко стояла дочь старушки, голова повязана косынкой; обхватив себя обнаженными руками, застыв от горя, женщина смотрела вниз, а толпа не сводила с нее глаз. До чего же люди любят пялиться! Чужая беда для них — тайная радость. А уж несчастье покрупнее — ну, это целое событие! И я ничуть не лучше. У этой женщины — большое горе, оно все на виду. И мои собственные беды оно оттесняет на второй план. Печальная житейская истина! Зеваки начали расходиться, и он поднялся по ступенькам, тронул свою дурацкую шляпу.
— Прошу прощения. Может, вам нужна помощь? Я Фред Лэндон. Живу под вами. В двести шестнадцатой.
— Да, я знаю.
Она слабо улыбнулась. В больших горестных глазах блестели слезы.
— Ваша мама, — начал Лэндон, — она…?
— Нет. Но состояние тяжелое. Когда я пришла домой, она лежала на полу. Может, пыталась дотянуться до телефона. Даже не знаю, сколько она так пролежала, — голос ее задрожал.
— Так ее повезли в больницу? — спросил Лэндон.
— Да.
Лэндон легонько коснулся ее руки.
— Пойдемте в дом. Здесь очень холодно.
Она рассеянно смотрела через его плечо на идущие мимо машины.
— Да. Но мне надо ехать в больницу.
— Не беспокойтесь об этом, — сказал Лэндон. — Я вам помогу туда добраться. А сейчас… вы же в ледышку превратитесь. Идемте, выпьете чего-нибудь согревающего.
И, взяв женщину под локоть, он повел ее в дом. Иногда Лэндон удивлял себя самого — в подобных случаях в нем вдруг просыпался командир. По меньшей мере штатный работник Красного Креста.
У себя он разлил по стаканам изрядную дозу бренди, добавил воды и принялся названивать в таксомоторные компании. Почему ее не подвезли полицейские? Паразиты, где там о человеке позаботиться! На улице разгулялся ветер, по стеклу барабанила снежная крупа, Лэндон раздвинул занавески.
— Мерзкий вечер, — сказал он в пространство. — И у всех занято. Может, в такое время они вообще не принимают заказы. На улицах работы хватает. У меня, к сожалению, машины нет. Продал месяца полтора назад. Из соображений экономии, — добавил он и тут же засмеялся. Что он лезет со своей экономией, когда у нее умирает мать?
— У меня есть машина, — сказала она. Она примостилась на краешке дивана, сдвинув колени — шикарные, крупные и красивые, кстати говоря, колени. Изголодавшийся по женщинам Лэндон отвернулся. У человека горе, она вот-вот матери лишится, а он тут облизывается на ее ножки. Он поднялся, вышел в кухню и налил себе еще бренди, много больше обычного, убойную дозу. Через минуту до него донесся ее голос: — Я езжу мало. Такое движение не для меня. — Она будто разговаривала сама с собой.
— Вполне понимаю, — откликнулся Лэндон из кухни. — Я и сам за рулем нервничаю. В такую погоду, как сегодня… Каждый раз держишь в руках собственную жизнь… — Он умолк. И что у него за зуд такой — обязательно сунуться со своими проблемами? Чем плохо, если для разнообразия воцарится героическая тишина? Ясно же — эта женщина хочет, чтобы он отвез ее в больницу, но попросить гордость не позволяет. Он отхлебнул свой гигантский бренди. — А машина автоматическая? — спросил он, возвращаясь в комнату. — В смысле — передача?
— Да.
Она сняла косынку, и, к удивлению Лэндона, по плечам ее рассыпались темные волосы, густые и жесткие, но без блеска. Все равно не красавица, но видна в ней какая-то печально-плавная чувственность. Совсем рядом, с открытыми руками, с тяжелой копной волос, она влекла к себе, и становилось ясно — плотские наслаждения ей не чужды. И все это спрятано под суконными пальто и простыми шапками. Я был не прав, подумал Лэндон. Невспаханное поле — это не про нее.
— Я научился водить поздно, — продолжал он, наблюдая за ней. — То есть как поздно — в тридцать лет. Так вот, учили меня на автоматической передаче. Не мог управиться со всеми этими рычагами. Ногой жмешь, тут же тянешь рукой… Это мне сложно… Потому я и спросил.
Она почти не слушала, казалось, полностью сосредоточившись на стучавших по окну снежных крупинках.
Минуту спустя Лэндон сказал:
— Давайте возьмем вашу машину, я вас отвезу.
— Ну что вы… Я не могу вас так беспокоить. — Она посмотрела на него удивленными глазами.
— Да какое беспокойство, — отмахнулся Лэндон, опорожнил стакан бренди и тут же почувствовал, как теплая влага разлилась по желудку и в груди. — Поднимитесь к себе, наденьте пальто. Вообще что-нибудь потеплее. Через пять минут я жду вас внизу.
— Не знаю, как вас благодарить, мистер Лэндон.
— Зовите меня Фред, — разрешил чуть захмелевший Лэндон.
— Хорошо. — Она с откровенным любопытством вглядывалась в его лицо. Потом протянула теплую влажную руку. — Маргарет Бошан.
— Давайте собираться, Маргарет.
Она ушла, и он, чуть нервничая, потянулся к своей буйной шевелюре. Но пальцы наткнулись на поле «хомбурга», который так и торчал на его гудевшей голове. В нем он и вышел в бушующую ночь.
Впервые за зиму по-настоящему завьюжило, безжалостный ветер накинулся на них и заставил пригнуться. Одной рукой Лэндон придерживал шляпу, другой стряхивал клочки газет, лепившиеся к брючинам. По его щекам и шее струилась ледяная вода. Рядом шла встревоженная Маргарет. Она подвергала его уж слишком тяжелому испытанию.
— Тут совсем близко! — прокричала она, когда они завернули за угол. Она вцепилась в узел косынки у горла, как какая-нибудь крестьянка со старинной картины «Буря». Машина стоит в гараже, сказала она, за китайской — стирка вручную — прачечной. Маргарет арендовала гараж у китайца. Когда они наконец повернули в тупичок за прачечной, протрезвевший Лэндон остановился — вытереть обеими руками слезящиеся глаза. Но в узкой улочке куражился вихрь, и он злодейски утянул шляпу с головы Лэндона. Она взлетела и поплыла прочь, Маргарет вскрикнула.
— Ваша шляпа!
— Ничего! — прокричал Лэндон. — Все нормально!
— Но это же прекрасная шляпа! — воскликнула она, оглядываясь. — Вон она. Еще не так далеко. Смотрим те… — Шляпа лежала на дороге метрах в десяти. Лэндон глянул на нее и заколебался. Еще можно догнать. На дороге валялись его девятнадцать долларов девяносто пять центов. Но что же он, как идиот, помчится за ней по улице? Колебания привели к роковым последствиям — порыв ветра подхватил «хомбург», и бедняга покатился колесом. Комический уход со сцены. Маргарет стиснула его руку. — Извините, ради бога. Это я во всем виновата. Мне ужасно перед вами неловко. Я заплачу за шляпу.
— Ни в коем случае, — запротестовал он. — Забудьте о ней.
Она смотрела на его кудри, которые беззастенчиво ворошил ветер.
— Ой, да вы же замерзнете до смерти.
— Ладно, идемте, — сказал Лэндон.
Они заспешили по проулку и наконец добрались до деревянных гаражей — там было потише. Возле одного из них Маргарет протянула Лэндону кольцо с ключами.
— Какой ключ? — спросил Лэндон. Казалось, Маргарет вот-вот расплачется.
— Извините, но я не знаю. Я пользовалась машиной всего два раза.
— Ничего, — подбодрил ее Лэндон, а сам подумал: как меня угораздило так влипнуть? — Тут замок автоматический. Сейчас найдем, что надо.
Замерзшими пальцами он принялся ощупывал, кольцо с ключами. Интересно, что же она за особа такая? Он не удержался и спросил:
— Извините, Маргарет, но если вы пользовались машиной всего два раза, зачем ее держать? Платить за гараж и все такое? Жуткие расходы. Почему ее не продать?
— Это машина близкого человека, — сказала она, — он умер несколько месяцев назад. Она досталась мне по завещанию. — Маргарет словно извинялась.
— Понятно, — сказал Лэндон. Завещать машину! Довольно странный подарок от близкого человека. И что это за машина — какой-нибудь бесценный антиквариат? Может, он сейчас покатит в больницу за рулем «дузенберга»? Но она сказала, что передача — автоматическая? Впрочем, разве эти старинные роскошные кареты не оборудуют такими штучками? Ключ наконец-то повернулся в замке, и Лэндон распахнул двери. К счастью, Маргарет захватила крошечный фонарик, и он направил его узкий луч во тьму. Тьма успела перебродить и настояться, пахло сырой землей и давно протекшим маслом. На задней стене висели автомобильные номера — целая серия от 1932 до 1940 года. Свидетельство того, что некий чудак держал машину в годы депрессии. Все здесь прокоптилось памятью минувших и давно забытых дней. Посреди гаража громоздилась машина Маргарет. Это был не «дузенберг», но массивный «де-сото», самое малое пятнадцати лет от роду, темно-рубинового цвета: напыщенный красавец середины пятидесятых годов! Автомобиль, как у доктора! Они открыли застывшие двери и забрались внутрь. Там Лэндон, утопив пальцы в мягкий ворс сиденья, унюхал стылый, еле уловимый аромат трубочного табака и освежителя воздуха «Эвергрин». Запах холостяка! Значит, близкий человек был все-таки мужского пола! Рядом не шевелясь сидела Маргарет — шея напряжена, смотрит перед собой в одну точку. Может быть, «де-сото» вызывал у нее неприятные воспоминания? Или наоборот — вспоминались любовные утехи на широком заднем сиденье где-нибудь в темном переулке? Догадаться по ее лицу было невозможно.
Изучив ключи на кольце, Лэндон вогнал в замок-ключ зажигания и решительно повернул его вправо. Но схватывания не произошло, ключ просто щелкнул — металл о металл. Он попробовал еще несколько раз, но каждый раз слышал лишь этот зловещий щелчок.
— Что с ней? Почему не заводится? — спросил Лэндон.
— Не знаю, — ответила она. — В прошлый раз было то же самое. Просто надо поворачивать его снова и снова. Через какое-то время заведется. Он собирался отремонтировать…
Металлическое пощелкивание продолжалось.
— Гм… В жизни ничего подобного не видел, — раздраженно произнес Лэндон. С техникой он всегда был на «вы». Можно сказать, у них была взаимная неприязнь. Потертые провода от утюга или расшатавшиеся розетки то и дело жгли ему пальцы. Торговые автоматы пожирали его монеты, а потом стояли и молчали, не собираясь выдавать товар. Лэндон еще несколько раз крутанул ключ туда и обратно.
— Ну давай же, черт тебя дери, — прошипел он, вспыхнув от злости. Маргарет начала плакать.
— Я показывала ее автомеханику, — заговорила она сквозь всхлипывания. — Он сказал, там что-то износилось. И в холодную погоду не всегда срабатывает. А починить у него времени не было… Я собиралась ее туда отвезти…
Лэндон сконфузился и положил руку на руку Маргарет. Бедная дамочка! И что он разорался? У нее свои проблемы.
— Ну ладно. Просто нам немного не везет. — Он мрачно засмеялся и извлек на свет божий акцент прусского офицера. — Сфёсты нам сефотня не улипаются, та? — Он тут же все вспомнил — хоть вырывай себе язык. Разве сейчас время валять дурака? Однако же она вытерла глаза, и на лице ее появилась еще одна тусклая улыбка.
— Сколько я вам хлопот причиняю. — Лэндон снова повернул ключ и был вознагражден: раздалось медленное гортанное урчание. — Сейчас заведется! — воскликнула Маргарет.
— Похоже, — согласился Лэндон, испытывая какое-то странное ликование. Ведь он уже готов был сдаться. Еще несколько попыток — и норовистое зажигание схватилось, машина заработала. Лэндон прижал ногой педаль газа и услышал, как затрепетал, оживая, мощный двигатель. Его терпение праздновало победу. — Что ж, теперь за дело, — возбужденно сказал он и подался вперед — разобраться в панели приборов. Двигатель захлебывался, через открытые окна машины поплыли выхлопные газы. Лэндон отпустил ручной тормоз и, чуть нервничая, вывел «де-сото» в ночь, фары залили светом деревянный забор, и взору предстало убийственное объявление какого-то злопыхателя-трепача. Ох уж эта местная трансляционная сеть, до чего бесцеремонна! Никуда от нее не денешься. Грязные сплетни. Он вспомнил собственное детство: его мать слушала, сердясь и негодуя, но все-таки слушала старую миссис Фини.
На улице нервы его унялись. Громоздкая машинища оказалась абсолютно надежной и прекрасно шла даже по скользкой мостовой. Маргарет сказала, что ее мать отвезли в больницу Сент-Майклз, и он повернул на восток — придется ехать через весь город. На углу Хоскин-авеню и Сент-Джордж-стрит Лэндон затормозил перед светофором. Крупа тем временем превратилась в вязкий тяжелый снег, при порывах ветра он налипал на лобовое стекло. Они ехали по городу, и Лэндон поражался — до чего уютно в большой машине! В этом пузырьке из хрома и стали они неслись прямо к эпицентру урагана. Эх, так бы да при других обстоятельствах! Да в настоящее путешествие! А что погода — мерзость, это ничего, Лэндон чувствовал, что смог бы ехать всю ночь. «Запилить» бы через всю страну — вон из этого осточертевшего города коммерческих директоров и начальников отделов сбыта. Заднее сиденье завалено пакетами: бутерброды с беконом и яйцами, термосы со сладким кофе, плитки шоколада «Херши». Что-нибудь вкусненькое от Кнайбеля. Бумажник набит дорожными чеками. Лэндон улыбнулся этим детским мечтам. Попозже они включат встроенный приемник — старинный, солидного вида — и поймают какого-нибудь диск-жокея. И он пустит для них пару-тройку старых танцевальных мелодий. Что-нибудь Джимми Лансфорда[15] или Томми Дорси[16].
Возьми свое пальто И шляпу не забудь, Ну а печаль оставь: Пред нами — дальний путь.Вместе с соседкой — через весь доминион. Сквозь северный кран, где полощутся на ветру верхушки пихт. А за ними — вымерзшая тундра, тут уж рукой подать до края планеты, до далекого северного моря. Дальше — развороченные докембрийские породы, укутанные сейчас глубоким снегом, а потом — через леса в прерии. Эге-гей! Мимо городов и полустанков — в свое время он мельком, сквозь сон видел их за вагонным окошком. А где-нибудь подальше — такой буран, что не видно ни зги, да в придачу ветрище миль эдак на семьдесят в час разгуливает по плато площадью в тысячу миль. Но нашему сухопутному крейсеру все нипочем. Взбираемся на Скалистые горы, и толстенные шины надежно вписываются в каждый предательский поворот. Перед выездом на Роджерс-Пасс[17] он бы их обязательно проверил. Выше, еще выше — и вот наконец начинается спуск к морю. Тихий океан! Ворота на Восток!
На развязке у Куинс-Парк-Креснт они повернули на юг и уже почти выехали на Юниверсити-авеню, как вдруг Лэндон, чей мысленный взор все еще бродил у ворот на Восток, почувствовал: машину качнуло и занесло. Задняя ее часть словно выбрала себе самостоятельный маршрут. Рядом с ним Маргарет судорожно выдохнула:
— Осторожней!
Точно — машину вело. Мало того — двигаясь по собственной прихоти, она набирала скорость. Только не тормозить. Телевизионная собачонка Спот зря не посоветует. Эти телемультяшки, если их внимательно смотреть, могут тебе и жизнь спасти. Заплутался в лесу — вспоминай прибаутки медведя Смоки[18]. Лэндон вцепился в руль, не зная толком, что делать; главное — не ударить по тормозам. Большую машину медленно водило, и душа его наполнялась ужасом. Маргарет схватила его за руку… но все-таки хорошо, что она рядом. По счастью, в это время суток движения в южную сторону почти не было. Впереди, от светофора на Колледж-стрит, несколько машин двинулись сквозь непогоду к северу. С Лэндоном за штурвалом «де-сото» проплыл по широкому проспекту метров сто и лишь тогда резко причалил к тротуару, метрах в шести от статуи взиравшего на них сэра — как бишь его — Прайера[19], на холодной бронзовой голове которого покоился холмик снега. В ушах Лэндона пульсировала кровь. Он опустил голову на руль и ждал — вот сейчас его хватит удар, в груди что-то взорвется. Минуту спустя он подмял глаза — в лучах фар белыми мотыльками плясали снежинки. Глянул и зеркальце заднего вида — и заметил полицейского на мотоцикле. Он испустил стон.
— Что с вами? — спросила Маргарет тихим надтреснутым голосом.
— Ну все, мне крышка! Он с меня шкуру спустит.
Мысли Лэндона заметались, замелькали мрачные перспективы. Полицейский участок. Мировой судья. Гонорар адвокату. Виновен, ваше преосвященство! Полицейский слез с мотоцикла и пошел к ним — в кожаной куртке, меховой шапке, перчатках с крагами и высоких шнурованных ботинках он выглядел устрашающе. Лэндон опустил стекло, и полицейский, уперев локти в раму, заглянул внутрь — красивый малый лет тридцати с лишним, маленькие подстриженные усики. Не говоря ни слова, Лэндон протянул ему водительское удостоверение; сердце бешено колотилось, рядом прерывисто дышала Маргарет. Уж лучше бы ее тут не было! Через открытое окно снег залетал ему на колени, радио в мотоцикле кудахтало и верещало о происшествиях на дороге и подозрительных типах в подворотнях. Полицейский снял перчатку и принялся изучать удостоверение Лэндона, чуть поглаживая ус костяшками кулака.
— Так что, Фред, — сказал он, не поднимая головы, — с какой скоростью вы там ехали? На повороте, когда вас занесло?
Лэндон сделал глубокий вдох.
— Тридцать… Может, тридцать пять… но я сейчас объясню, инспектор.
— А мне показалось, что примерно… сорок пять.
— Ну что вы… что вы…
— Почему такая спешка? Погодка не сахар…
— Конечно. Куда хуже. Дело в том, что…
— Я вас засек еще во-он там. Когда вы только выскочили с Хоскин-авеню, я сразу понял — торопится…
Над темными глазами полицейского кустились густые брови, сейчас они выгнулись — он перевернул удостоверение, посмотреть, отмечены ли какие-нибудь нарушения.
— Инспектор… видите ли, я везу эту даму в больницу. — Лэндон говорил быстро, стараясь придать голосу оттенок срочности. — Ее мать в очень тяжелом состоянии. Ее только что увезла в Сент-Майклз «скорая». Да, я действительно не справился с управлением, но за рулем этой машины я впервые. Ее хозяйка — эта дама, моя соседка.
Кажется, прозвучало неплохо. Любой нормальный человек в такую историю поверит.
— Вот как? Что ж… — Полицейский сомневался. Он поглядел на Маргарет, потом снова на взмокшего, без шапки, Лэндона. — А вы сегодня пару стаканчиков пропустили, а, Фред? Запашок-то есть.
Сердце Лэндона замерло в груди.
— Только один, инспектор. Нервы успокоить. Я разволновался. Когда я вернулся домой, эта дама…
Он знал, что голос его звучит умоляюще. Он всегда пасовал перед властями, даже раболепствовал. Но неужели этот сукин сын пришьет ему дело из-за двух наперстков? Стоит им только захотеть — такую историю раздуют! Полицейский вернул права.
— Я сейчас все проверю. Как ваша фамилия, мадам?
— Бошан, — сказала Маргарет, будто каркнула из темного угла. Полицейский пошел к мотоциклу, а они стали молча ждать.
Сквозь падающий снег Лэндон наблюдал за парочкой, рука об руку они шли к зданию медицинского факультета — под покров деревьев. Они медленно брели в ночи, согревали друг друга, обнимались. Впереди их ждало романтическое приключение. А на мою долю такое еще выпадет, подумал Лэндон, или это только для молодых? Если так, жизнь — чистое надувательство, ведь и у меня кровь еще играет. В нем вдруг проснулось раздражение к сидевшей рядом женщине. По любому поводу — в слезы, к тому же простушка. Еще одна серая воробьиха в этом лесу расфранченных птиц. И из-за нее он попал в такой переплет. Но он сердился и на себя. Какого черта ему взбрело в голову выбрасывать деньги на дурацкий «хомбург»! Пошел бы лучше выпить. Может, с кем-нибудь познакомился бы. С одинокой вдовушкой, тоскующей за бокалом хереса возле стойки в баре. Нет, вдовушку лучше не надо. Лучше разведенную. У которой был муж-негодяй, и теперь она жаждет стереть прошлое из памяти, а не предаваться воспоминаниям о дорогом Билле. Только не вечер воспоминаний, увольте. Ему бы действия, охота самому поучаствовать в чем-то занятном. А он сидит здесь, того и гляди и тюрьму упекут! Да никуда его, конечно, не упекут. А что касается баров, он сидел в них сотни раз, и что толку? Сегодня было бы ничуть не лучше. Он не страшилище, однако на случайные знакомства с женщинами ему не везет. Бывало, знакомился с кем-то в поездках, выслушивал их грустные истории и пытался подбодрить. Несколько раз припадал к источнику и пил из него. Но, если говорить начистоту, мимолетная интрижка ему просто не импонировала.
Вскоре полицейский вернулся — с тем, чтобы их отпустить. Но сначала он, положив руку на дверцу машины, предупредил:
— Поезжайте, Фред, только не гоните, а то сами попадете в больницу. Или кого-нибудь туда отправите.
Все это время двигатель пыхтел, и теперь Лэндон просто включил передачу и нарочито медленно отъехал. Будто сдавал экзамен на права. Начался спуск в серый изогнутый каньон Юниверсити-авеню, и Лэндон пристроился за машиной дорожной службы, которая выплевывала на мостовую соль, ее голубой циклопий глаз причудливо вертелся в снежной метели. Полицейский ехал следом до Куин-стрит, потом нырнул вправо и понесся вперед, секунду-другую помелькал в густом потоке — и исчез.
Облегченно вздохнув, Лэндон свернул на восток, и Маргарет наконец заговорила.
— По-моему, вы держались прекрасно.
— Кто? Я? — Лэндон грубо фыркнул. — Бросьте вы. Меня при виде полицейского трясти начинает. Теряюсь, и все тут. Всегда чувствую себя в чем-то виноватым. И мысли от страха врассыпную.
Он знал, что голос его звучит вздорно. Каким-то образом эта женщина потревожила в нем брюзгу. Она потянулась к нему и коснулась его руки.
— Мне ужасно неловко, я вам столько неприятностей доставила. Если бы я знала… И ваша прекрасная шляпа…
— О, господи, тоже мне шляпа… — Он кисло усмехнулся. — Не будем кривить душой. У меня в этой шляпе был дурацкий вид. Чтобы не сказать идиотский…
— Ну, что вы…
— Вот и то, черт бы ее побрал, — рявкнул он. Она убрала руку, и Лэндон снова молча выругал себя. — Ну, ладно… Не волнуйтесь… бог с ней, с этой шляпой! Что было, то сплыло. И вообще мы почти приехали. — Через минуту он добавил: — Надеюсь, вашей маме лучше.
— Надеюсь, она умерла, — вялым голосом сказала Маргарет. Отвернувшись к окну, она смотрела на рождественскую суету — сквозь высвеченный неоновой рекламой мокрый снег люди спешили в теплые магазины. Он не ослышался? Она сказала, будто надеется, что ее мать умерла? Как это прикажете понимать? Озадаченный, он молча вел машину дальше.
Комната ожидания для больных, нуждавшихся в неотложной помощи, была запружена народом. Люди группками стояли у дверей, сидели на длинных скамьях вдоль стен. Часть толпы даже вытекла в коридор, где сейчас стоял в ожидании Лэндон. Поначалу он решил: наверное, в районе что-то случилось, загорелся многоэтажный дом или взорвалась газовая линия. Но что он знал об отделениях неотложной помощи в городских больницах? Для них это текучка, обычная вечерняя порция: обмороженные пьяницы, инфарктники, избитые в кровь драчуны; дети, получившие травму на детской площадке; люди, чьи пальцы оказались на пути фрезы или столового ножа; неизбежные жертвы дорожного движения. Он отступил в сторону — по коридору катили каталку. На ней, постанывая, лежала молодая женщина, на лице кровь, ужасные царапины, вмятинки от гравия и камешком. Маргарет стояла в очереди возле высокой перегородки. Перед ней — мужчина, который примчался сюда по срочному вызову. Лэндон видел: трагедия застала этого человека врасплох, он пытался одеться поприличней, придать своей беде благопристойный вид, но жутко спешил. Свободное пальто спортивного покроя пятидесятых годов едва прикрывало заляпанные рабочие брюки. Несчастный даже забыл о туфлях и стоял в комнатных шлепанцах на босу ногу, со стоптанными за долгие годы задниками. Усталый, подавленный человек. А на него какое несчастье обрушилось во время ужина? Его худое, посеревшее лицо было сама безропотность, само изнеможение. Ко всему прочему еще и это! Где взять силы, чтобы сохранить достоинство? За перегородкой старая монахиня что-то царапала в журнале регистрации, записывала суровые факты жизни. Лицо наполовину скрыто, обрамлено жесткими складками капюшона, за многие годы работы в помещении оно отвыкло от дневного смети и пожелтело, как старый пергамент. Очки с квадратными стеклами отражали свет и защищали глаза, которые уже не удивишь дурными вестями. Эти глаза чего только не видели, все записывалось с терпением, какое господь ожидает от своих служителей на земле. Когда придет полнота времени… Но Лэндон чувствовал, что его окружает полнота ужасов жизни, грубых фактов бытия, жутких каждодневных невзгод, укрыться от которых некуда. Стойкий запах дезинфицирующих средств и крови, смешанный с запахом человеческого пота, оседал на стенах. На накрахмаленных халатах сестер и сиделок. Он растекался в воздухе, как радиоактивные осадки, просачивался сквозь кожу Лэндона и поражал его душу. У Лэндона защемило сердце. В нескольких шагах от него хрупкий человек лет шестидесяти что то объяснял полицейскому. На голове у него была огромная повязка, скрученная на манер чалмы, сквозь нее все еще сочилась кровь. Один рукав его замызганной штормовки болтался пустой, прикрывая подбитое крыло. Неприятности быстро отрезвила старика, и сейчас он пытался найти с полицейским общий язык. Рядом стояла индианка лет тридцати с небольшим. На ней было дешевое ситцевое платье и короткое пальто из искусственного меха под леопарда. Когда-то она, пожалуй, была хороша собой, но сейчас лицо ее изрядно поистрепалось, обрюзгло, отекло от злоупотребления спиртным, да еще сплошь синяки, один глаз распух и заплыл. На худых коричневых ногах — только носки да пара потертых черных балетных тапочек. Она говорила сквозь прогнившие зубы, подтверждая версию старика, алкоголь придавал ей смелости, но в то же время она понимала; терпение полицейского лучше не испытывать.
Лэндон посмотрел в другой конец комнаты — очередь Маргарет подошла, и теперь она разговаривала с монахиней. В ту же секунду он услышал на удивление твердый голос пожилой регистраторши — по селектору она вызывала доктора Данна. Из укрепленных под потолком динамиков загрохотало и покатилось по коридору имя доктора. Маргарет подошла к Лэндону — глаза сухие, лицо отрешенное. Они стояли возле стены, погруженные в собственные мысли, — безучастно и не испытывая никакой неловкости, как супруги со стажем, привыкшие вместе стоять в очередях.
Через минуту подошла сестра и легонько коснулась руки Маргарет.
— Мисс Бошан?
— Да.
— Сестра Анетта сказала, что вы ждете доктора Данна. Вон он идет по коридору.
Они повернулись и увидели упитанного человечка, который лавировал между посетителями, под его твидовым костюмом английского покроя виднелся облегающий брюшко жилет. На ходу он энергично сморкался, прочищал ноздри и вытирал кончик носа скомканным платком, потом запихнул его в задний карман брюк. Маленький, занятый делом человек, у которого нет времени на всякую чепуху. Весь из стальных нервов и кипучей энергии. Наверное, ловко орудует скальпелем. Маргарет — вялая меланхоличная фигура в темной одежде — пошла ему навстречу. Маленький доктор стал что-то ей показывать руками. Что? Закупоренный клапан? Оторвавшийся тромб? Стенку артерии, которая износилась и наконец лопнула под давлением? Мы сделали все, что могли. Доктор пожал Маргарет руку и ушел. Медленным размеренным шагом она вернулась к Лэндону.
— Она умерла, — сказала Маргарет.
— Мне очень жаль…
— Это так странно и неожиданно.
Маргарет почти улыбнулась, задумавшись над вывертами судьбы. Но занятная все же штука наша жизнь! Покаянных поток в голосе Маргарет он не уловил, она просто была ошеломлена.
— Утром уходишь из дому, и она говорит тебе: надень галоши, потому что по радио обещали снег. — Маргарет смолкли. — Мать всегда обращалась со мной как с ребенком… Вечером возвращаешься — а ее уже нет…
Сегодня — здесь, а завтра — там. В голове Лэндона мелькнула эта старая поговорка. Немудреная, но ведь правильная? Старые афоризмы вообще все правильные. Пиши историю жизни, пользуясь одними клише, — не ошибешься. Маргарет покачала головой, не в силах осознать этот ошеломляющий факт, не в силах освободиться от него.
— Надо сообщить отцу Даффи. И подписать какие-то бумаги, позвонить в похоронное бюро. Так много всего… Вы подождете?
— Конечно. Незачем и спрашивать.
— Я вам столько хлопот причинила.
— Прошу вас… — Он сжал ее руку, и она посмотрела на него с такой благодарностью, что он и сам поблагодарил судьбу за то, что он здесь и помогает ей. Неужто его одинокое сердце снова рвется в бой, на ратные подвиги?
— Я недолго.
— У меня вагон времени.
Она скрылась куда-то в недра здания оформлять бумаги, и Лэндон вышел на площадку, где разгружались «скорые». После этих клаустрофобных запахов хотелось глотнуть свежего воздуха. Сейчас здесь было временное затишье, и он спокойно стоял у дверей, не привлекая ничьего внимания. Ветер унялся, и на город беззвучно опускалась снежная пелена. Густые хлопья без передышки сыпались с неба, будто оно жаждало освободиться от тяжелой ноши. Вот и его меланхоличная соседка освободилась от своей ноши! Не нужно больше катить по улицам кресло к семичасовой мессе. Странная она женщина, эта его соседка, эта темная лошадка. Похоже, честная душа, и, наверное, она сказала правду, будто надеется, что мать умрет. А что? Вполне возможно, старушка была тираном. Инвалиды часто сварливы, и жить с ними трудно. Иногда бывает совсем невмоготу, тут и самое доброе сердце со временем съежится и затвердеет. Всплыли стихи: «От слишком долгих жертв и сердце станет камнем». Кажется, это Йейтс? О-о, его ушедшие в небытие вечера поэзии! В пору ухаживания он читал Вере вслух. Оба часто были под мухой, но читал он хорошо: в нем жил актер, все это производило на Веру впечатление. Вообще она считала его более начитанным и подкованным, чем он был на самом деле. Он не пытался ее разубедить. А ведь им тогда было совсем неплохо друг с другом. И Джинни они наверняка зачали в один из таких soireés[20]. Шикарная квартира на Бенвенуто-плейс, Вера всегда готовила изысканный ужин, за который они принимались очень поздно. Мягкими весенними вечерами они открывали застекленную балконную дверь и смотрели вниз на Авеню-роуд, на летящие огни машин. Люди ехали в никуда, а они себе потягивали кофе и французский ликер «Гран Марнье», и Лэндон, бывший на много фунтов моложе, щебетал вирши из «Сокровищницы романтической поэзии». Вера подходила к проигрывателю, ставила пластинку, и раздавалась терзающая душу фортепианная музыка. Вера была без ума от этих русских композиторов девятнадцатого века — слушая их рыдающие каденции, хотелось лечь и умереть. Чайковский, Рахманинов. Рубинштейн. Мясковский. Своими трелями и фанфарами они пытались вывернуть тебя наизнанку. Для Веры эти вечера были приобщением к культуре, встречами с великими писателями. А Лэндон думал только об одном — поскорее затянуть ее в постель. Но как там говорят индейцы? Это было много лун тому назад.
Но чем же кончилось печальное маленькое приключение снежным декабрьским вечером прошлого года? Что ж, оно во многом изменило его жизнь, в ней появился новый человек. Вообще-то этот сценарий отдавал дурным вкусом: одинокая учительница встречает стареющего торгового агента. Такие банально-сентиментальные драмы телевидение подает к рождеству на закуску. Полтора часа тебе скармливают жвачку, которую финансирует какая-нибудь корпорация по производству электронных глазков и подслушивающих устройств. Да, сценарий — барахло, хотя нелепая сцена со шляпой в духе театра абсурда не лишена изящества. А он сумел бы написать лучше? Сомнительно — Лэндон был мастак как раз по части плохих телесценариев. Ими был завален весь его чулан, пожелтевшие и заплесневелые, они лежали кипами, связанными бакалейной бечевкой. Душещипательные комедии о стариках, живущих с детьми; проблемные пьесы о негритянской семье, которая обживается на новом месте среди белых; о школьном учителе, который ставит на карту свою тридцатилетнюю карьеру, защищая новый учебник биологии. Что ж, по крайней мере Лэндон занимался тем, что было ему по душе, хотя надо сказать, что в пятидесятые годы на пьесы-проповеди было поветрие. После маккартизма, этого безумия, крупные американские телекомпании ежевечерне впрыскивали населению дозу либерализма. Зачем же игнорировать тенденции? И поэтому он брался за все без разбора, даже за инсценировки. В минуту безумного озарения он написал держателю прав на произведения Ибсена и испросил разрешения переписать для телеящика «Кукольный дом». Наверное, в те годы Лэндон был охвачен какой-то лихорадкой. А сколько надежд, сколько трудов! Все это присылалось назад и больших коричневых конвертах, надписанных его собственной рукой, а внутри были приложены отстуканные на машинке ответы от телепрограмм «Театр филко», «Час американской стали», «„Дженерал моторс“ показывает», «Студия-1», «Театр-90». Он мечтал стать еще одним Родом Серлингом. Еще одним Регом Роузом[21]. Прощай, мечта!
Сейчас он знал — беды его начались после быстрой удачи с первой пьесой, часовой трепотней, которую он продал недолго здравствовавшей программе «Театральная премьера». Это был его краткий миг под солнцем, потом три года он пребывал в состоянии как после солнечного удара, порой до потери сознания, — в это время он и вправду считал себя писателем. Но в короткие зимние недели 1954 года, когда «Окно с видом на сердце» готовили к постановке, он наслаждался жизнью, купаясь в яростных лучах лести, исходившей от незнакомцев. Там была и Вера Холл. Иссиня-черные прямые волосы, подстриженные над бровями решительной челкой, острый носик, кобальтовые глаза; королевская стать в юбках, кашемировых свитерах и черных чулках. Акцент английских снобов — она год проучилась в Оксфорде. Она пыталась зацепиться в шоу-бизнесе и на студии «Си-би-си»[22] была эдакой Пятницей женского рода. Лэндон видел ее каждый день, когда приходил обсуждать сценарий с этим самодовольным англичанином, придурковатым Бейзилом Джонсоном. Чтобы удовлетворить свои творческие порывы, Бейзил требовал изменить какое-нибудь слово, а то и целую фразу. Но Лэндон и сам был не лишен тщеславия. Когда он шел по студии и грива его сверкала под «солнечными» прожекторами (он носил длинные волосы даже в бобриковые пятидесятые), он знал — на него смотрят. Мама всегда говорила, что он напоминает ей Сонни Тафтса — кинокумира времен ее молодости. Как-то мартовским вечером он пригласил Веру Холл в свою трехкомнатную холостяцкую квартиру на Сесл-стрит, и они смотрели его пьесу по старому квадратному «Филко», в коричневом корпусе, семнадцать дюймов по диагонали. Передача шла прямо в эфир, и — о чудо! — никто не перепутал ни строчки, не напортачил. Собственно, постановка оказалась лучше сценария. Она скрыла кое-какие его огрехи. А потом была вечеринка у Бланш Ритчи, и сквайр Хьюз, стоя в центре гостиной, держа руку на пестром жилете, поднял за Лэндона бокал шампанского. Ох уж эти старые торонтские аристократы! Они считали, что заполучили в свои ряды гения, подлинного художника, который вольет в их чахлый организм животворные соки. На следующий день журналисты писали об «Окне» (все называли пьесу только так) вот что: «Теплый и полный любви взгляд на жизнь подростка», «Красочная и проникновенная картина трудного времени, когда сталкиваются миры». Истину увидел лишь один мрачный тип, который среди прочего одарил пьесу таким ярлыком: «Непропеченная сдоба, которую страдающие бессонницей могут принимать с теплым молоком перед сном». Но этому критику не нравилось ничего, и он вечно умничал. Потом начались суматошные дни — Вера приглашала Лэндона на вечеринки, представляла его своим знакомым, стискивала ему руку выше локтя и что-то шептала на ухо — когда видела, что на них смотрят. Месяца полтора ходили нелепые разговоры о том, что пьесу будут ставить на Бродвее. А что, ведь с другими такое бывало! Как-то из Голливуда позвонил некто Нэт и спросил, нет ли у него непристроенных сценариев. Нет ли у него сценариев? Безумие набирало силу.
Для начала они с Верой поженились. Вечером в церкви святой Юдифи собрался узкий круг, они стояли перед каноником Уилкинсом, который хмурился и явно не одобрял Лэндона. Этот милый человек знал Веру с детства и чувствовал ответственность за ее духовную жизнь после смерти ее родителей; ему уже было известно, что Вера носит в себе семя Лэндона. Идеально сферическая лысая голова каноника сияла под обрядовыми свечами, словно нимб, и Лэндон, в костюме из голубого сержа[23], старался избегать этих суровых, обвиняющих глаз. Но погода улыбалась, и из-под старых церковных сводов они вышли в шуршащие зеленой листвой майские сумерки. На западе, над Сент-Клер-авеню, сквозь легкую дымку багровело небо. В Верином «тандерберде» они вдвоем покатили на свадебный ужин, а за ними по улице бежала Бланш, шустрила на своих ножках-гвоздиках, наконец остановилась посреди дороги и стала бешено слать им вдогонку воздушные поцелуи.
Они переехали в новую квартиру на Сент-Джордж-стрит, окна выходили на большие викторианские дома из темного кирпича, на дома студенческого братства с греческими буквами на медных дощечках у дверей. Были изысканные завтраки по воскресеньям — в шафрановом халате Вера потчевала мужа дыней и яичным коктейлем «Бенедикт», халат иногда заманчиво распахивался, и ему открывалась статная нога медового цвета. Лэндон сам не мог поверить в свое счастье. По вечерам, разумеется, звучали стихи и полная экстаза русская музыка. Иногда приходили Верины друзья с «Си-би-си», в основном бледные молодые дамы в черном, а с ними — женоподобные мужчины, которые пили «Дюбонне» и презрительно высказывались о Торонто. Были поездки за город с Бланш и Хьюзом. Они петляли по холмам Альбиона. Хьюз сидел за рулем своего «хамбера», руки — на английский манер — в кожаных перчатках. Частенько останавливались у деревенских забегаловок и пили там чай, ели булочки с маслом. Спали Лэндон и Вера нагишом, лето шло на убыль, и Лэндон все чаще гладил ее по животу, наливавшемуся соками, и поражался главному таинству жизни. Вера обнаружила, что и она неплохо умеет играть словами, и добилась перевода из производственного отдела в отдел рекламы. А еще месяца через полтора стала работать в компании «Кауэн, Кроуфорд и Эйсли». Вскоре ей доверили рекламу большой партии дамского белья. Теперь Лэндон читал прозу жены на афишных столбах и в семейных журналах. А вот с его собственными писаниями было хуже — что-то заколодило. Осенью он сидел за столом, томясь над безмолвной машинкой, рассеянно смотрел в окно на падающие листья, они летали по улицам, подгоняемые автомобилями. Он молил бога о дожде — какое трогательное заблуждение! — но веселенькая погода и не думала отступать, проходили недели, а небо оставалось безнадежно голубым — громадная прозрачная ваза, перевернутая вверх дном, лившая свет через окна на его задубевшую голову. За окном на усыпанных листьями лужайках студенческого братства студенты вовсю гоняли в футбол — здоровенные откормленные кобели, коротко остриженные, в шортах до колен и белых спортивных туфлях. По пятницам вечерами они устраивали танцы, музыка неслась над улицей и залетала в его квартиру.
Выпал снег. Он бродил по улицам, сосредоточенно думая, словно ученый, стараясь родить какой-нибудь хитрый сюжет, что-нибудь свеженькое, но честно предавался опасным мечтаниям, пленительным грезам о богатстве и честно заработанной славе. А тем временем плотные коричневые конверты падали в его почтовый ящик с монотонной регулярностью.
Январским воскресным вечером, в шесть часов, у него родилась дочь, и Лэндон был счастлив. Акушер, тоже старый друг семьи, оказался крикливо одетым здоровяком, он смеялся, обнажая полный рот золотых коронок. Шутки так и сыпались из него, и он постоянно притрагивался к собеседнику, похлопывая Лэндона по спине, когда они шли перекусить в больничную столовую. Его тяжелые, с большими костяшками руки сжимали чашку кофе, и Лэндон сидел, не в силах оторвать глаз от этих лапищ, которые только что орудовали в теле его жены. Это было по меньшей мере поразительно. Доктор уверял, что роды прошли легко, а его золотые жернова при этом так и искрились.
— Родила как кошка, дружище! Не то что ее сестрица. Той мне пришлось вспороть живот, иначе не видать бы Хауэрду белого света. Правда, не знаю, стоило ли мучаться… надеюсь… вы понимаете. Но наша маленькая Вера! Точно как моя первая жена, да упокой господь ее душу. Удивительная эластичность в области таза. Конечно же, — говорил доктор, усмехаясь в кофейную чашку, — эта девочка создана для того, чтобы рожать. Может родить дюжину без всяких хлопот.
Лэндон, как и подобает счастливому отцу, принялся выстилать гнездышко перьями: натащил детского питания, собрал замысловатую кроватку (для него это — большая работа), купил ворох дорогих музыкальных игрушек — когда-нибудь они порадуют дочь. В погожие дни он с гордостью катал по кварталу Вирджинию-Энн, которая возлежала в большой плетеной коляске с высокими тонкими колесами. Хьюз Ритчи выписал ее из Лондона, из «Харродза»[24]. Но теперь, когда их было трое, квартира оказалась слишком маленькой — материнство и Лэндон стали вызывать у Веры раздражение. Он перестал выдавать продукцию. На вечеринках люди уже не спрашивали его насчет «Окна», а некоторые зловредные типы интересовались, пристроил ли он что-нибудь за последнее время. Вера жаловалась на дороговизну, на то, что она привязана к дому, на летний зной и на запах из его подмышек. У девочки все время болел животик, она кричала, и по ночам Лэндон разгуливал по квартире, перекинув орущую малютку через плечо. Соседи позвонили управляющему домом, и Лэндона с семьей попросили выехать.
За безумные деньги они сняли дом на Данвеган-роуд и наняли миссис Боксли, седовласую английскую бабулю, вести хозяйство и смотреть за ребенком. Вера снова занялась рекламой нижнего белья у «Кауэна, Кроуфорда и Эйсли», а Лэндон облюбовал себе чердак, огромную берлогу, где он изучал балки и перекрытия старого дома, либо сидел и писал немыслимый диалог, сгорбившись над пустым и кем-то брошенным матросским сундучком, заменявшим ему стол. Под ним миссис Боксли чистила пылесосом комнаты и распевала популярные песни военных времен из репертуара Грейси Филдс и Веры Линн. Она и понятия не имела, что иногда Лэндон, тоже большой любитель минувшего, тихонько напевает вместе с ней «Белые скалы Дувра» или «Пел соловей на Беркли-сквер».
Вечерами он смотрел по телевизору работу других сценаристов или читал книги, взятые в библиотеке. «Десять шагов на пути к карьере телесценариста», «Справочник телесценариста с указателем рынков сбыта», «Как продать вашу пьесу на телевидение?» В пустой комнатенке рядом с кухней Вера в черном трико и водолазке делала упражнения под музыку из «Лебединого озера». После рождения ребенка она пыталась восстановить форму, для чего извлекла из недр памяти балетные уроки детства. Уперев руки в бока, она энергично сгибала ноги в коленях или с фантастической легкостью порхала по комнатке на пальчиках, сосредоточенно покусывая губы и хмуро поглядывая на репродукцию Дега «Танцовщица с букетом». Волосы туго стянуты в темный пучок, да еще этот костюм, от которого мурашки по коже, — вид у нее был жутко грозный, того и гляди живьем съест. Он знал — тут еще и потребность выпустить пар. И еще — эта диковинная джига была пляской воина перед походом.
А его работа тем временем шла из рук вон плохо. С отчаяния он перестал писать пьесы и взялся за роман. Речь опять-таки шла о детстве, но лиха беда начало, и что-то вроде стало получаться. Он вдруг оказался в тисках чего-то таинственного и замечательного. Страница за страницей слетали с машинки, и угнетенный дух его снова воспарил. Каждый день он просыпался в возбуждении, эта работа обогащала его, он смотрел на мир новыми глазами. Он поддался ее колдовским чарам, в нем действовала какая-то неведомая внутренняя сила, перед которой он преклонялся, как перед святыней. Они правы, черт бы их подрал, историю не обманешь. Жизнь художников полна тягот и лишений, и все же они — счастливцы. Он писал неистово, торопливо, уверенный, что напал на жилу, что черпает из глубокого источника всех творческих деяний. Под его клацающей машинкой старый корабельный сундучок словно трясся, отдавая хранившиеся в нем сокровища — существительные и глаголы, наречия и прилагательные. Вера заметила, что он словно ожил, и саркастические выпады с ее стороны прекратились. Известие о том, что он пишет роман, она встретила странным молчанием. Охваченный дьявольской страстью, он писал так две недели, расточительно сжигая свечу своего вдохновения с обоих концов, и вот стеариновая палочка зашипела, брызнула напоследок пламенем — и погасла, погрузив его чердачное логово во мрак.
Как-то в пятницу он уселся за машинку, предвкушая еще один хороший рабочий день, но вдруг что-то разладилось. Так складно, как раньше, уже не писалось. Некоторые куски получались безжизненными, персонажи местами произносили какую-то несуразицу. Перечитывая написанное, он узнал нескольких знакомых из своего отрочества, лишь слегка замаскированных. Одного из них, некоего Джека Сполдинга, он никогда не любил и вот теперь, изрядно исказив истину, вывел его эдаким злодеем. Если этот роман опубликуют, Сполдинг запросто может подать в суд; а то еще лично заявится в Торонто из Бей-Сити и уложит Лэндона с одного удара — он сейчас преподавал физкультуру в школе. Но не годилось и многое другое, не годилось катастрофически. Слова тяжеленные, какой-то железный колчедан, золото дураков, а благородного металла тут не было и в помине. Душа Лэндона стонала, изнемогала от отвращения. Он читал рукопись, и собственные слова били его в солнечное сплетение. Он чувствовал, что тонет, и, подобно умирающему, жаждал начать с нуля, выйти к стартовой черте, предпринять еще одну попытку. Но, как и умирающий, он знал: у него не хватит воли, не хватит сил. В десять часов он смылся из дому и, как беглец, весь день прятался в темноте кинотеатра. Там шел «Мятеж на Кейне», и Лэндон, завороженный, смотрел, как Хэмфри Богарт в роли этого сумасброда Куига перебирает стальные шарики, сидя перед судом присяжных[25].
Наступали выходные, он изо всех сил старался не думать о романе. Ему позарез нужно было отвлечься — что угодно, только не идти наверх к матросскому сундучку, этому ящику Пандоры. Вера была больна, лежала с сильной простудой, и в субботу утром Лэндон, снедаемый чувством неизбывной вины, выскользнул из дому и посмотрел еще три фильма. Остаток выходных он безвылазно просидел перед телевизором, совершенно одурманенный мешаниной из футболистов, хоккеистов, поющих кукол и циркачей-эквилибристов, Элмера Фадда и Человека-шара[26]. В спальне наверху под стегаными и ватными одеялами лежала Вера и читала роман под названием «Не как посторонний»[27]. Все время брюзжала и капризничала, больная, она была невыносима. Телевизионный марафон Лэндона выводил ее из себя, иногда она кричала сверху: нельзя ли потише? Когда он принес ей аспирин и апельсиновый сок, она была готова накинуться на него с кулаками.
— Как проводите выходные, мистер Интеллектуал? «Мышкитеров»[28] уже проработали?
Лэндону было жаль ее. Она лежала в постели вспотевшая и бледная, острый носик покраснел и чуть вспух от частого пользования салфеткой, обычно живые глаза превратились в застывшие камни. Она знала, что выглядит ужасно, и негодовала из-за этого. Страдало ее тщеславие, она становилась более уязвимой. Когда миссис Боксли ушла на выходные, Лэндон мудро определил границы своей территории и старался их не нарушать. Чтобы успокоить крошку-дочь, он играл на полу в какие-то игры, корчил идиотские рожи и изображал из себя утенка Дональда и Мортимера Снерда[29]. В старой кухне с высоким потолком он открывал банки с морковным пюре и телятиной, грел молоко на плите, и, поднося спичку к шипящей струе газа, которая тут же превращалась в огненно-голубое кольцо, каждый раз боялся — а вдруг взорвется? Но он был рад, что эти простые заботы позволяют ему отвлечься. Закатав рукава выше локтя, он менял мокрые пеленки, случалось, прихватывал себя прищепкой за палец, но в общем управлялся и многое осваивал. Ему удавалось сохранять мир, и в доме царило натужное затишье.
В понедельник вернулась миссис Боксли, и Лэндон с тяжелым сердцем поплелся на свой чердак. Дрожащими руками он принялся листать рукопись романа. Увы, опасения трехдневной давности подтвердились — нет, приумножились. Спасти его детище можно лишь одним способом — переписать все заново. А не пора ли вообще положить конец этой писанине и начать жить как все нормальные люди — без лишних претензий? Ему не удалось выбиться, но что из того? Многим не удается. Вот и стань одним из многих. Стыдиться тут особенно нечего, к тому же, если не поленишься намотать себе на ус, из неудачи можно извлечь важный урок. Проявляй смиренность, терпение, стойкость духа, еще кое-какие возвышенные качества. Но — пропади все пропадом, гори огнем — до чего он болезненный, этот урок! Ведь теперь нужно надеть свою неудачу, как шутовской наряд, и выйти в нем на люди. Это будет балахон из векселей, а в прорези будет унизительно торчать его голова. Лэндон смотрел вниз на улицу через чердачное оконце и клял себя за несостоятельность. В общем, придется устраиваться на работу, а писать можно по вечерам и в выходные. То, что он накропал, — побоку, и искать место, может, где-то в рекламе или на телевидении. Но не сейчас. Было начало декабря, и, раз уж он четко решил переменить курс, пусть останется время на то, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Поскольку Лэндон обожал выходить к стартовой черте, он сказал себе: начну искать работу в первый понедельник нового года. В этом было что-то символическое. А пока, до конца месяца, он может с чистой совестью бездельничать и размышлять над великими переменами, которые грядут в его жизни. Вере он скажет в канун нового года, и она, конечно, будет рада это слышать. Когда-то она считала его человеком талантливым, но теперь полностью в этом таланте изверилась. Что ж, она права. Всему есть предел. Его охватило необычайное возбуждение. Словно гора свалилась с плеч.
Всю следующую неделю Лэндон лишь делал вид, что пишет. Каждое утро он протаскивал в свою берлогу книжки о путешествиях и детективы Эллери Куина[30]. А заодно хрустящий картофель, шоколад «Натти бранч» и фрукты. Он вдруг воспылал страстью к апельсинам — перочинным ножом производил вскрытие плода, четвертовал его, а потом высасывал каждую дольку до корки, прижимая ее к зубам, как боксерскую капу. Зима строила козни, погода чудила и плутовала, по небу перекатывались громадные темные облака и посылали на землю потоки града, который барабанил по крыше над головой Лэндона. Градины шрапнелью рассыпались по газонам, но тут же исчезали в лучах невесть откуда взявшегося солнца. Пожевывая препарированный апельсин, Лэндон читал об охоте на слонов в Кении или глазел в окно на загустевшее небо. Вера постепенно выздоравливала, но оставалась слабой и раздражительной. Дабы не быть заподозренным, Лэндон время от времени постукивал на машинке, выдавал какую-то белиберду на уровне комиксов, а то и просто тюкал по клавишам-знакам: звездочка, доллар, процент. Иногда рожал кретинские афоризмы. «Если жизнь — это ваза с вишнями, то кто подбирает косточки?» Или: «Я видел лучшие дни, но, к сожалению, они не видели меня». Ближе к вечеру он собирал эти дурацкие, испещренные невесть чем страницы и сжигал их в корзинке для бумаг — горестный и подлый ритуал самозванца.
В середине этой прискорбной недели, в среду утром, отстучав очередное невнятное послание самому себе, Лэндон выглянул в окно и увидел, что миссис Боксли вышла из дома и отправилась за продуктами. Через несколько минут подала голос его дочь. Лэндон навострил уши. Поначалу это был пробный плач — так ребенок проверяет обстановку, ждет, когда раздадутся шаги и придет помощь. Но постепенно он набрал силу и по высоте и мощности поднялся до пронзительного, нестерпимого рева. Он наполнил весь дом, словно сирена, извещавшая о страшном бедствии, и сквозь штукатурку и дощатый потолок проник в берлогу Лэндона. Вой длился примерно минуту, потом оборвался. На секунду воцарилась неземная тишина — и сигнал тревоги включился на полную мощность, заработала вся городская система оповещения: душераздирающий вопль, от которого кровь стыла в жилах. Лэндон догадался, отчего загорелся сыр-бор: наверняка Вера шлепнула малышку. Слушать эти крики — настоящий припадок, истерия — было выше его сил. Лэндон кинулся вниз, перепрыгивая через ступеньки, в мозгу вспыхивали жуткие видения. Его жена сейчас — сама фурия. Что, если она шваркнула его дочь о стену? Когда человек ослеплен яростью, всякое случается.
Вера стояла посреди гостиной и держала кричащего ребенка. На ней — кимоно из махровой ткани, шлепанцы с голубыми помпонами. Вид у нее был безумный, щеки горели, темные волосы взмокли и спутались. Она рехнулась, мелькнуло в голове Лэндона. У нее это наследственное. Но он понял и другое: то, что сейчас происходит, — для нее страшное унижение. Когда она заговорила, голос звучал тихо, это был почти шепот, но в нем звучала такая угроза, такое отвращение, что Лэндон содрогнулся — ее ненависть ударной волной грохнула его прямо по сердцу.
— Может, ты в конце концов сделаешь что-нибудь? Я больна, разве не видишь? Как можно навешивать на меня еще и это?
В глазах ее блестели слезы. Лэндон забрал малышку, крепко прижал ее к груди и принялся быстро ходить по комнате, что-то мурлыча в маленькое ушко и похлопывая по маленькой попке. Но девочка уже израсходовала все силенки и теперь успокаивалась, из горла вырывались сдавленные всхлипы. Лицо пылало жаром, взмокло, и сквозь рубашку Лэндон ощутил перестук крохотного сердечка. Он сердито повернулся к Вере.
— Что ты с ней сделала, можно узнать? Шваркнула о стену? Прямо сцена из трущобной жизни. Но чтобы в этой части города… Вы ведь здесь — народ цивилизованный… за нами идут массы.
— Ах ты, скотина… мерзавец.
Вера не собиралась сдавать позиции; кимоно распахнулось, сверкнула голая грудь. Как потаскуха из средневековой таверны, подумал Лэндон.
— Ну так что ты с ней сделала? — закричал он. — Ребенок весь изорался. — Он продолжал нервно ходить взад и вперед. О боже, эти сцены ему нож острый! Он после них как выжатый лимон. Такие перепалки — не его стихия.
— Я ее шлепнула… дальше что? — взвилась Вера. — Не убила же. Просто шлепнула. Я ее мать. Она разоралась без всякой причины.
— О, да… твои шлепки… — Лэндон проявлял глупую настойчивость. — Я знаю твои шлепки.
— Отцепись от меня, Фред… Вот и все… Отцепись…
Она выскочила из комнаты, ее шлепанцы с помпонами захлопали по полу — какой нелепый звук! Удрученный Лэндон продолжал ходить, как часовой, туда-сюда, дочка гукала возле его плеча. Он знал, что перегнул палку. Вера болеет, надо было спуститься и помочь, как только он увидел, что Боксли ушла. А он — чем он занимался? Корпел над каким-то изящным предложением, дописывал стержневую главу? Нет — среди оберток из-под шоколада и апельсиновой кожуры он знай себе груши околачивал. Он поклялся себе, что исправится, будет более заботливым. Начнет искать работу, и не в следующем году, а завтра. В прихожей он упаковал дочку в комбинезон, застегнул все молнии и положил ее в коляску на высоких колесах. Прогулка на свежем воздухе — это хорошо. В голове прояснится. Да и страсти улягутся.
По заснеженной и продуваемой ветрами улице шел покаявшийся грешник, на нем была старая куртка студенческих лет с надписью «Гуманитарий-51» поперек спины, он шел и толкал коляску с дочерью мимо домов богачей. Одна старушонка с голубыми волосами улыбнулась им из своей бойницы, склонив голову набок и шевельнув пальцами — изысканный, но туманный жест. Кто-то говорил Лэндону, что ее муж — крупный биржевик. Наверное, она совсем выжила из ума — пленница в собственном замке, которая каждый день надирается хересом «Бристольский крем». Тем не менее Лэндон приветственно махнул ей в ответ. В такой мрачный день сойдет улыбка даже от сумасшедшей старухи. Легкое покачивание и морозный воздух убаюкали крошку, спеленатую в уютный кокон, и она уснула. В киоске на Сент-Клер-авеню Лэндон купил газеты и пошел к дому, возле которого застал миссис Боксли — она спускалась по ступенькам боком, крепко вцепившись в перила. Как и полагается людям пожилым, она проявляла осторожность: ступишь на обледенелый край ступеньки — и скатишься вниз на мягком месте, не ровен час, кости переломаешь. Странно, почему она уходит так рано?
— Здравствуйте, миссис Боксли, — сказал он. — Что-то забыли купить? Давайте я схожу. Даже с удовольствием.
— Нет, нет, мистер Лэндон, спасибо. Спасибо. Миссис Лэндон меня сегодня уже отпустила. Говорит, что чувствует себя гораздо лучше, хотя, по-моему, вид у нее изможденный. Совсем о себе не думает, бедняжка. Ну, а как тут наша красавица? — Миссис Боксли наклонилась над ребенком проверить, хорошо ли Лэндон одел дочь. — Ах ты, голубушка. Прелестный цвет лица у нее, правда? Это от свежего воздуха. Да, ну ладно. — Она выпрямилась и поправила свою шапочку, вязаный оранжево-коричневый берет, который она носила набекрень, на шотландский манер. — Что ж… До завтра, мистер Лэндон. Пока…
— Да, миссис Боксли, пока. Спасибо за все.
Рука ее порхнула в прощальном приветствии, и миссис Боксли пошла по улице, шаркая ногами и внимательно глядя вниз. Молодчина старушка, добрая, преданная душа. Кстати, пережила блицкриг. Война отняла у нее сына. Что ж, помоги ей господь! А ведь они, наверное, на ней наживаются. Платят меньше, чем она заслуживает. Ничего, вот он пойдет работать, сразу повысит ей жалованье. Будет по пятницам класть в ее конверт на несколько долларов больше — его бюджет не пострадает. Муж ее где-то работает сторожем. Прогулка взбодрила Лэндона, вдохнула в него новые силы. Наверно, Вера тоже пришла в себя. После таких вспышек она часто каялась, становилась мягче. Он подогреет суп, сделает бутерброды и извинится. И трущобы он приплел совсем не к месту. Почему бы не открыть бутылочку вина? Кто знает? Может, у нее возникнет желание немного заняться любовью. Последнее время оно не возникало, и это иногда тревожило Лэндона. Еще до болезни у Веры появилась привычка отворачиваться от него в постели. Или читать до посинении толстенный роман при свете бра — дождись, если сможешь, располагающей к интимным занятиям темноты. Не слишком ли рано все это началось? Ох уж этот секс, вечные сомнения.
В доме — прохладной темной гробнице — стояла полная тишина, только в прихожей тикали часы. Лэндон в носках прошел в детскую, раздел спящую дочь и положил ее в кроватку. Заглянул в кухню, в гостиную — никаких признаков жизни. Все вокруг замерло, будто в преддверии чего-то, и эта неподвижность будоражила воображение, вселяла надежды. Может, его жена наверху, в спальне, голая и преисполненная ожидания, она все ему простила и жаждет любви? Висевшие в прихожей дедушкины часы — солидная старинная машина — медленно отмеряли бег времени, провозглашая боем и перезвоном наступление очередной четверти, половины и самого часа. В промежутках между этими мелодичными звуками они тикали и говорили. Каждая секунда — драгоценность, ее нужно беречь, сообщал Лэндону величавый старик маятник. Под полом вдруг зафурыкала нефтяная, бывшая угольная, печь — ее вызвали к жизни настенные термостаты. Этот новый шум заставил Лэндона вздрогнуть и заодно напомнил ему: кое-что в домашнем хозяйстве требует его внимания. К примеру, эта печь. Она вся изрыдалась по чистке и ремонту, каждый раз, когда ей приходилось выполнять свои обязанности, Лэндон боялся, что ее хватит апоплексический удар. Эту устрашающего вида технику он обнаружил через несколько недель после въезда. Посреди подвала обосновалась приземистая серая трубчатая штуковина, все еще покрытая сажей с угольных времен, а сверху и с боков вылезало потрясающее множество трубок и патрубков. Она была покрыта какой-то тканью военных лет, которая напомнила Лэндону учрежденческую туалетную бумагу. Он решил, что эта печка едва ли протянет зиму, и держался от нее подальше. Но он знал: надо вызвать мастеров, пока она не отчудила какую-нибудь пакость. Снимая этот дом, он, ясное дело, и не подумал спросить о таких вещах, а агент по продаже недвижимости нахваливал большие передние комнаты и камины, а насчет сантехники и отопления помалкивал. К тому же Вера была знакома с двоюродной, что ли, сестрой этого агента. Он был из хорошей семьи, имел безукоризненную репутацию. К сожалению, оказался нечестным. Но печь пока может подождать.
Дедовский механизм отбил половину часа, и Лэндон поднялся наверх, выглядывая жену. Посмотрел в спальнях. Его собственная кровать была застелена чистым бельем, простыни аккуратно подоткнуты и спрятаны под разноцветным лоскутным стеганым одеялом, достоянием семьи Холл — свадебный подарок от какой-то древней тетушки из Бостона. В самой комнате было прибрано: поднос с грязной посудой исчез, книги сложены в стопку на прикроватном столике. Кто-то открыл окно, и занавески, вздувшиеся от ветра, рванулись назад и прилипли к стеклу. Что же, она ушла от него, покинула наконец этот тонущий корабль, смылась через заднюю дверь, пока Боксли сползала боком по ступенькам? Над головой раздался долгий и тягучий скрип — старые половицы стонали под давлением человеческого тела. Ах, черт, сна была на чердаке, в его берлоге — великий боже, будь милосерд к нам, грешным! Лэндон вспомнил, что уходил в спешке и оставил в машинке лист.
Он открыл дверь — она стояла у окна в дрожащих тенях от голых веток, которые подрагивали на ветру, стояла и ждала его. За ее спиной — эти темные меняющиеся кружева на фоне белого неба. Вид у Веры был торжествующий, даже деспотический, руки скрещены на груди. Фиолетовая блузка с длинными рукавами, твидовая юбка, черные чулки и туфли на высоком каблуке. Слегка подмазалась: вокруг глаз легкие голубые тени, на губах тонкая алая полоска. Подровняла ножницами иссиня-черную челку. Болезнь заметно иссушила ее, придала внешности аскетические черты — бледнолицый и свирепый маленький инквизитор времен средневековья. В руках ее были улика — страница с его птичьими письменами. Да и сам чердак являл собой довольно жалкое зрелище: апельсиновые корки, обертки из-под конфет, нераскуренные сигары, неприлично обкусанные с краев, захватанные страницы книг об исследованиях Арктики и австралийских путешественниках. Едко пахло сожженной бумагой. Молчаливое напоминание о его моральном крахе. Такую позицию не очень-то защитишь. Вера, видно, выжидала подходящий момент, накапливала враждебную энергию, прикидывала план атаки, место решающего удара. Столько всего нужно высказать. Как начать наступление? Да, внутри она вся кипела, однако же Лэндон знал: ее ярость может вырваться наружу в любую секунду. Приличии приличиями, но сдержанный гнев не был характерной чертой Холлов. Тут Лэндон понял — вот почему она отослала Боксли домой. Прислуга не должна слушать семейные ссоры. Что ж, тут людям Вериной породы нужно отдать должное. Наконец Вера положила на сундучок страницу бессмысленного машинописного текста.
— Будь любезен, объясни мне, что это, черт возьми, такое? Часть великого канадского романа, так надо понимать? — Голос ее звучал на низких, отравленных ядом нотах, но он набирал высоту. — И долго это продолжается? — Она смолкла и наигранно отвернулась от него, поглядела в окно и покачала головой. — О боже… Да я теперь в глазах людей — посмешище… Впрочем, меня предупреждали. — Она снова повернулась к нему, на лице — свирепая бледность. — Знаешь, Фредди… Я когда-то считала тебя талантливым. Что твои претензии обоснованны. Да-да, считала… Мне казалось, что к писательству ты относишься серьезно. И я охотно пошла тебе навстречу… Думала, ты по крайней мере с радостью ухватишься за такую возможность… Думала…
— Постой. Подожди минутку, Вера…
— Нет… Это ты подожди минутку, мистер. Много ли ты высидел, торча неделями в этом… этом… — она резко щелкнула пальцами, отмахиваясь от его пахучих апартаментов, — этом свинюшнике… Писал здесь черт знает что! — Она цапнула с сундучка страницу и бросила на пол — та, словно опавший лист, медленно улетела под стул. — Писал?.. Давай назовем вещи своими именами. Хотя бы раз в жизни… Переводил бумагу… И преспокойно ел мой хлеб.
— Ну, это ниже пояса, Вера. Ощутимый удар. Но, как говорят в боксе, ниже пояса.
Он почувствовал: лицо его краснеет от гнева. Какая чудовищная несправедливость!
— А разве это неправда?
Она стояла, уперев руки в бока, маленькие белые кулачки впились в бедра. Сейчас бы ее аккуратненько так шваркнуть в челюсть — летела бы вверх тормашками, было бы на что посмотреть. Соблазнительно, но способен ли он на такое?
— Ну, отвечай же, черт бы тебя подрал. Что ты делал все эти месяцы, писака недоношенный?
— Вера, где ты этого нахваталась? — спросил Лэндон. — В частной школе? В «Тринити»?
Она снова вспыхнула.
— Не твое дело, где нахваталась… Бездельники, сидящие на шее у своих жен, не имеют права на такие вопросы. Ох, Фредди, как это на тебя похоже! Вылезти не к месту с каким-то замечанием. Ох, как похоже!.. И вот еще что, мистер писатель. Бездельники, у которых нет сил признаться в своем банкротстве, не имеют права судить других… говорить мне, что я — мать из трущоб!.. — Потекли слезы, глаза заблестели от влаги. Ну вот, снова здорово. — Да что ты в этом понимаешь? — вскричала она. — Что ты вообще понимаешь в жизни? Почти с рождения проторчал в каком-то задрипанном городишке… У меня никогда не было матери… Я с сестрой…
— Ну хорошо… хорошо, Вера. Выслушай меня. Произошла ошибка.
Она сбила слезу жестким маленьким кулачком.
— Вот здесь ты прав, друг любезный, произошла ошибка. Ошибкой была эта идиотская свадьба.
— Что ж, может, в этом что-то есть, — негромко сказал Лэндон. Гнев его утих так же быстро, как и возник, полусонный зверь уполз в глубь пещеры, вытащить его оттуда на бой — дело непростое. Но она где надо и не надо сует это свое сиротство. Мы были две маленькие девочки из богатой семьи, и вдруг нас выбросило в жестокий мир. Ну хорошо, он ей сочувствует. Да, ей пришлось пережить тяжелые времена, и, пожалуй, она справилась с невзгодами лучше других. Уж наверняка лучше своей сестры. Вера была сделана из более прочного материала. Сейчас она снова повернулась к окну, казалось, она взяла себя в руки.
— Прошу тебя, Фредди, не надо никаких доводов, потому что все решено. Я звонила Бланш, в два часа приедет Хьюз и поможет мне переехать отсюда. Разумеется, я забираю Джинни и надеюсь, ты не будешь чинить глупых препятствий. Все равно будет по-моему, сам знаешь.
Она снова повернулась к нему.
— Нам надо какое-то время пожить врозь. Ты и сам это видишь. Найдешь приличное место… тогда поглядим, что будет. А до тех пор… что ж… оставайся здесь и делай свою работу.
Она кинулась мимо него и выскочила за дверь. Лэндон не сразу заметил, что у него трясутся руки. Зверь, оказывается, еще не дополз до пещеры. Лэндон закричал ей вслед:
— Ирония никогда не была твоим сильным местом, правда же, Вера? — Как всегда, запоздал с находчивой репликой, с изящным выпадом. — Есть ли они у тебя вообще, эти сильные места, — пробормотал он, запихивая в рот одну из обкусанных сигар. Да, тут и вправду жуткий кавардак!
В два часа на своем «хамбере» приехал Хьюз, в полном смущении от происходившего. В их сваре было что-то неприличное, и он сновал взад-вперед в маленьких лакированных туфлях, таскал чемоданы в машины и слабо улыбался, избегая встречаться взглядами с Лэндоном. Он был ни в чем не повинным прохожим, который оказался свидетелем несчастного случая и принужден взять чью-то сторону — нелегкое положение для человека, который хочет угодить и нашим и вашим. К тому же Лэндон ему нравился. А Лэндон будто нарочно так и лез на глаза, он сидел на чемодане в самом центре этого бедлама и курил сигару, сидел, окутанный легким тошнотворным туманцем, — он уже успел быстренько вылить в себя остатки ликерной бутылки, какой-то чертов французский сиропчик, микстурой от кашля облепивший гортань и сковавший горло. Ничего другого выпить в доме не нашлось, и Лэндон уже сожалел о своей находке. Того и гляди, вывернет на турецкий ковер.
Хьюз двигался вокруг него с почтением и осторожностью, обращался к нему крайне вежливо:
— Фредди, дружище, извини, пожалуйста… — или: — Старина, позволь мне, пожалуйста, взять чемодан, на котором ты сидишь.
— Разумеется, Хьюз, — отвечал Лэндон, вынимая сигару изо рта, и смотрел, куда бы пересесть. Он сочувствовал маленькому Хьюзу. Вера была великолепна, недоступная и высокомерная, она вышагивала по дому со списком в руках.
— Да… Это тоже, Хьюз. Пожалуйста!
Всегдашняя ее манера — эдакая старшая медсестра, думал Лэндон, наблюдая сквозь сигарный дым, как она тщательно пакует Джинни в новый розовый комбинезон. Малышка еще спала — понятно, накричалась до полного изнеможения. Лишь когда Вера подняла ее и понесла в «тандерберд», девочка издала тонюсенький стон.
Оставшись в доме один, Лэндон слышал, как хлопнули дверцы машины и заработал двигатель, как Вера поурчала педалью газа — она всегда это делала прежде, чем тронуть машину с места. Да, нога у этой стервы всегда была тяжелая. Впрочем, это чистая теория — ведь сам Лэндон машину не водил. Звук ревущего двигателя постепенно затих, поглощенный пространством и тишиной. Он сидел один в глубочайшем безмолвии, какое воцаряется после катастрофы, пока не раздался траурный перезвон старинных часов; Лэндон даже вздрогнул — торжественные нотки безошибочно били по его нервным окончаниям. Лэндон про себя дал клятву, побожился: он выйдет из дому лишь после того, как выудит свинцовую гирьку и снимет цепь, — пусть эта старая франтиха-кукушка будет hors de combot[31].
Три месяца он жил и писал в полном одиночестве, это была ссылка в себя. Старый дом скрипел и покрякивал, а иногда, в особенно непогожие дни, казалось, даже покачивался на ветру. В своей берлоге на чердаке он жевал холодные яблоки и писал плохие пьесы. Мир обходил его стороной, и он отвечал взаимной любезностью. Вера взяла на работе отпуск и вместе с Джинни укатила в Нассау, на зиму к старой тетке. Весной она вернулась к побледневшему и голодному Лэндону. Он похудел на двадцать фунтов и созрел для того, чтобы идти на службу. Они переехали в новую квартиру, и вскоре Вера приискала ему место. В маленьком рекламном агентстве, имевшем дело с товаром, который, казалось, никого особенно не интересовал. «С чего-то ведь надо начинать, Фредди!» Тогда это был ее главный довод. Кстати, дела у него пошли неплохо. Несколько месяцев он помогал редактировать «Урну» — журнал для владельцев похоронных бюро и организаторов траурных церемоний. Он выдавал рекламу гробов с шелковой обивкой, бальзамирующих жидкостей и катафалков «паккард». Лэндон, улыбаясь у себя в кухне, вспомнил одного предприимчивого типа из Лос-Анджелеса. Портного по фамилии Хейгермен. Этот Хейгермен сам сочинял для себя рекламу и присылал ее каждый месяц вместе с чеком. Товар всегда был один и тот же — готовая одежда для распорядителей на похоронах, по сниженной цене. Он, наверное, захламил этими нарядами все свои подсобки. Может, скупал краденое.
«ПАРНЕЙ СВОИХ РАЗМЕРЫ ШЛИТЕ, КОЛЬ СЭКОНОМИТЬ ВЫ ХОТИТЕ. ВИЗИТКА. ПАРА БРЮК В ПОЛОСКУ. ПАРА СЕРЫХ ЗАМШЕВЫХ ПЕРЧАТОК. НЕ МЕДЛИТЕ, БЕРИТЕ — ЗАДАРОМ ПОЛУЧИТЕ. ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ОРГАННЫЕ ЗАПИСИ. ВСЕ ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ. БАХ. ГЕНДЕЛЬ. ВИКТОР ГЕРБЕРТ. НЕ МЕШКАЙТЕ. ТОВАР ИДЕТ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ».
В те дни он поднимался рано и работал над новыми пьесами. Идеи так и перли из него, и Лэндон был уверен, что снова пробьется. Пришла еще одна зима. Бывало, день только занимается, свет никак не вытеснит тьму, уже время завтракать, а его настольная лампа все горит и горит. Но эти утренние бдения не проходили даром — к полудню он кемарил над своей гробовой рекламой, и шеф отпускал прозрачные намеки. Он пытался работать вечерами, сидел за кухонным столом в их новой большой квартире. Но Джинни была такая маленькая, такая забавная, такая игрунья — как с ней не подурачиться? А когда она ложилась спать, Лэндон уже не мог сосредоточиться. За спиной его раздавался лишь сухой и легкий шелест — умирающая от скуки женщина листала страницы «Нью-Йоркера»[32]. От стука пишущей машинки у Веры болела голова, Джинни просыпалась. Что он с ней делает? Хочет украсть у нее лучшие годы жизни? После таких вспышек Вера частенько забирала Джинни и ехала ночевать к Бланш, а Лэндон обнимал холодные подушки. Да, мрачное было времечко! Они терзали друг другу душу еще три года, и наконец Вера уехала от него навсегда. А вскоре в почтовом ящике Лэндон обнаружил письмо от адвоката.
В агентстве ему дали нового клиента под названием «Каледония стейшнери» — небольшая фирма по продаже поздравительных открыток, у которой уже не было средств держать собственных рифмоплетов. Он теперь работал в крошечной комнатушке, выходившей на Кинг-стрит. В душные июльские дни он потягивал через соломинку апельсиновый сок и посылал истомленному, обливавшемуся потом полушарию поздравления с рождеством. В декабрьские метели смотрел, как голуби укрываются от ветра под карнизами и горгульями[33] старых зданий. Или взирал на рождественскую суету и выстукивал четверостишия по поводу пасхи. Вместе с Хэтти Уилсон! Ох, милейшая и добрейшая Хэтти! На пятнадцать лет старше Лэндона, кряжистая, эдакая деревенская девка, каковой она когда-то и была. Давным-давно она оставила отцовские угодья и убежала в Торонто с солдатом, который ее потом бросил. А она застряла в городе, и вот теперь пописывала зарифмованные любовные послания. Хэтти видела, что Лэндон страдает, и утешала его. В пятницу они после работы пили пиво в «Городской таверне», а как-то вечером Хэтти привела Лэндона к себе домой и там выдала ему любовное послание, причем ее искушенность — на уровне справочника по сексу — поразила Лэндона. Как он называется, этот справочник? «Любовные утехи»? Но сердце Лэндона осталось безучастным, и в понедельник утром они договорились, что будут просто друзьями, коллегами-открыточниками.
Они работали за соседними столами в одной комнате. Вирши сочинялись в честь мамочки и папочки, на день свадьбы, годовщины, по поводу выздоровления и рождения дитяти. Были и открытки, выражающие соболезнование, горечь в связи с утратой. Над ними Лэндон работал с особым тщанием, это было его амплуа. Пригодился опыт работы в «Урне». Да и соответствовали эти послания его страждущему духу. Ведь и его словно придавило к земле тяжелой ношей. Брак его рухнул, дочка живет под чужой крышей. И тональность этих открыток-соболезнований была ему по нраву, подходила к его положению. Задумчиво попыхивая трубкой, он прочесывал Библию и заимствовал идеи у пророков и других серьезных мужчин. «Моя арфа тоже настроена на траурный лад, а голос мой с голосами скорбящих сливается». Эти вещи он делал ловко, и в «Каледонии» им были довольны. Их непоседливый заведующий отделом сбыта, маленький Эрл Крэмнэр, считал, что у Лэндона в сфере канцтоваров — блестящее будущее. Он наседал на Лэндона — хватит тратить время на стишки, пора браться за мужское дело. Выходи на дорогу и продавай. Некто Эд Финеган уходил на пенсию, и им требовалась замена. Этот Крэмнер! Лэндон так и представлял его в двадцатые годы — он толкает фермерам в прериях допотопные стиральные машины или молочные сепараторы. Каждую пятницу после обеда Крэмнер приходил за рекламой, запихивал в свой «дипломат» страницы и щелкал замком. Иногда он задерживался, садился на край стола Лэндона и, покачивая йогой в шелковом носке на резинке, начинал говорить.
— Когда, черт возьми, ты перестанешь сочинять эти гимны, приятель? — вопрошал Крэмнер. — Слушай меня. Эрл Крэмнер зря не скажет. В нашем деле я каких только людей не навидался, поверь на слово. Еще бы… двадцать пять лет! Как-никак, с опытом надо считаться. Так вот, ты у нас будешь на месте, это я тебе говорю. Кто покупает канцпринадлежности? На девяносто процентов — женщины! И тут приходит такой красавец верзила! Да они все полягут! Но только чтобы ложились без последствий! Это плохо сказывается на деле. Но этого добра у тебя будет навалом, можешь не сомневаться. Знаешь, какие есть бабенки в этих городках в прериях? Да они только и ждут, когда мы приедем. Для них это — событие года. А ты здесь просиживаешь штаны, гробишь лучшие годы жизни! Вылезай из-за стола, посмотри страну!
Что говорить, это было заманчиво. Свежие впечатления. Снова стартовая черта. Поездить, подвигаться — этого ему очень хотелось. Сняться с якоря. Жизнь его застопорилась. Тут явно просматривалась фамильная черта, слабость: как только становилось невмоготу, у Линдстремов возникало неистребимое желание — сбежать. Он вспомнил свою мать, живущую теперь в Калифорнии; провинциальная жизнь в Онтарио ей надоела, и она снялась с места, сожгла мосты. Боже мой, сколько лет назад это было? А уж какой шум тогда поднялся! Отец после этого так и не оправился. Одинокий, ожесточившийся человек. Сейчас он даже ее имени не желает слышать. Но ей захолустное бытие встало поперек горла. Теперь Лэндон понимал это, он простил мать уже давно. Смыться, сорваться — вот такое стремление. Наверное, это было у них в крови. Впрочем, пускалась в бега и Вера. Весной 1961 года она, только что разведенная, уехала с Джинни в Нью-Йорк, без всяких проблем получив перевод в материнскую фирму ее агентства. С рекламой белья она преуспевала. Товар шел, как никогда. Лэндон же тем временем мрачно колдовал над своими эпитафиями. И его обхаживал Крэмнер.
Как-то в обеденный час Крэмнер затащил его в здание «Каледонии», за несколько кварталов. Стояло начало лета, и улицы были полны бизнесменов в рубашках с короткими рукавами, гулявших под ручку с молодыми сослуживицами. В воздухе витала любовь, и Лэндон преисполнился жаждой жизни. Через провалы между домами лился солнечный свет, девушки продавали с тележек цветы. Крэмнер купил гвоздику в петлицу и предложил одну Лэндону, но Лэндон не смог пересилить себя и украсить свой наряд цветком, хотя сердце его ходило высокой волной. Крэмнер ввинчивался в толпу, словно багдадский вор, в каждом его движении — стремительность бесцеремонного космополита. Лэндон едва поспевал за ним и чувствовал себя смешным и неуклюжим — поди догони этого верткого человечка!
«Каледония» размещалась в глубине боковой улочки, в старом здании, почерневшем от вековой копоти и дымов города. На первых двух этажах громыхали печатные станки. Прямо со страниц диккенсовских романов! Лэндон стал в сторонку и, заложив руки за спину, с некоторой опаской наблюдал, как пожилые дамы шпарят на здоровенных черных «ундервудах», потом относят напечатанное в проволочных корзинах к наборной машине в конце комнаты. Это древнее устройство гудело и подрагивало, обслуживал его невысокий бойкий человек, на рукавах, чтобы не попали в утробу машины, — резиновые нарукавные повязки. За клавишами машины сидел изможденного вида мужчина (сколько ему — тридцать или пятьдесят?). На нем был сатиновый передник, за годы службы набравший много жирных и масляных пятен. Июньское солнце прорывалось сквозь высокие зашторенные окна, и на поредевшие седые волосы наборщика падали полосы слабого света. «И лишь один холодный свет, и от него спасенья нет», — пронеслось в голове у кладбищенского поэта, чье сердце сковала жалость к наборщику. Но Крэмнер уже торопил его.
— Фредди, я хочу показать тебе наши отделы управления и сбыта. Они наверху, если решишь перейти к нам, будешь вешать свою шляпу на крючок именно там. Искренне надеюсь, что так ты и сделаешь, поверь на слово.
И почему он его послушался, этого брехливого маленького проныру? А ведь послушался, а заодно и перебрался жить в дом под названием «Эссекс амз», прихватив с собой старые рукописи — уж они-то зачем понадобились? Только собирали пыль в чулане. Впрочем, вреда от них, пожалуй, не было, в какой-то степени они символизировали утраченные иллюзии. Иногда он извлекал на свет божий съемочный сценарий «Окна с видом на сердце» и смотрел на свои собственные слова, вычеркнутые или измененные перьевой авторучкой Бейзила Джонсона; чернила от времени порыжели, а почерк — мелкий и женский. А ведь некоторые пьесы Лэндона были вполне ничего, и кто знает, будь он тогда более пробивным… К кому-то подольститься, кого-то ублажить, на кого-то наорать, где-то стукнуть кулаком по столу, топнуть ногой, в чьем-то кабинете поплакаться. Он видел, как это проделывали другие. Человек понахрапистее мог добиться своего и подняться на ступеньку-другую выше. Уж на Бейзила Джонсона в те дни можно было давить покрепче. Лэндон и сейчас следил за его карьерой по газетам. Бейзил нынче ставит в Голливуде телесериалы, снимает знаменитостей. Это большой бизнес, зарабатывает он, соответственно, большие деньги, живет в Шерман Оукс вместе с другими беженцами с «Си-би-си», перед завтраком плавает в собственном бассейне. А он, Лэндон, тем временем сидит в Торонто, в своей лилипутской кухне, думает о том, как тает его банковский счет, и потягивает остывший кофе «Санка».
Скрип и постанывание лифта пробудило его от грез, он поднялся и подошел к окну в гостиной. Еще один каждодневный ритуал! Из подъезда его дома вышла Маргарет, спустилась по ступеням. Проходя под ним, она подняла голову и улыбнулась, а Лэндон со своего поста у окна послал ей на вытянутой руке воздушный поцелуй. Для соседей их роман пока оставался тайной, хотя он догадывался: кое-кто в их доме уже что-то унюхал. На подобной осмотрительности настаивала Маргарет — не дай бог, соседи заподозрят что-то дурное. Сам Лэндон не понимал: знают, не знают, какая разница? Маргарет все равно ни с кем в доме не поддерживала отношений, он знал только одного-двоих, и вообще сейчас каждый занят самим собой, кому до кого есть дело? Для людей одиноких это тяжело, но в условиях города, пожалуй, иначе и быть не может. Если хочешь панибратствовать с соседями, перебирайся в пригород. С другой стороны, она преподавала английский в школе, и всякие сплетни ей ни к чему. Нужно быть осторожным, настаивала Маргарет, и поэтому во время своих, не сказать чтобы редких, посещений первый час она всегда нервничала, была скованной — вдруг кто-то видел, как она проникла в запретную зону?
Так было с самого начала, все окутано саваном тайны. Со дня похорон ее матери, когда Лэндон стоял в малочисленной группке пришедших почтить ее память — в основном приятельниц Маргарет по школе — и смотрел, как священник окропляет гроб святой водой. На этих кладбищах, среди голых, без единого листочка деревьев, царят тишина и покой. Они умиротворяют дух. В тот день шел снег, большие легкие снежинки беззвучно покрывали плечи темных пальто, мягко ложились на медную шевелюру Лэндона, и он рукой без перчатки смахивал их. Из-за деревьев и надгробных плит доносился шум улицы: громыхали и покачивались в желобках рельсов трамваи, ухали автомобильные гудки, терзали слух какие-то крики — все вокруг двигалось, жило. Люди занимались своими делами, развлекались, не думая, что для кого-то пробил смертный час. А почему они должны об этом думать, спросил себя Лэндон, украдкой взглянув на разбухшее, свинцово-серое небо. Жизнь — для живых, а путешествие этой старушки уже кончилось. Священник кивнул молодому распорядителю, который стоял на коврике из капустно-зеленой искусственной травы. Распорядитель держался неестественно прямо, руки в серых перчатках он скрестил за спиной. Может, на нем штаны от Хейгермена? Глядя себе под ноги и стараясь не улыбаться, Лэндон вспомнил ловкача заказчика. Хейгермен! Вот уж точно человек своего времени. Приспособленец. Только и рыщет, как бы зашибить деньги. Из любого дерьма готов сделать конфетку. Наверняка темная личность, возможно, связан с преступным миром. Но его чеки банк оплачивал регулярно. По этому поводу Харви Хаббард как-то сказала Лэндону: вступая с кем-либо в официальные отношения, мафиози ведут себя исключительно честно. Они жаждут респектабельности, им и в голову не придет надувать тебя. Распорядитель незаметно нажал ногой кнопку, включился механизм, и гроб медленно, почти невесомо поплыл вниз — в последний путь. Двое или трое, не удержавшись, подались вперед — проводить его взглядом.
Собравшиеся постояли еще немного, обменялись негромкими репликами, пожали Маргарет руку и разошлись по машинам, которые вскоре двинулись по круговой подъездной дорожке — фары включены, из выхлопных труб вылетают отработанные газы. Оставшись один, Лэндон подошел к Маргарет, и она представила его священнику, невысокому сурового вида человеку лет под пятьдесят, свирепо взиравшему на мир из-под очков без оправы. Казалось, сегодня он недоволен даже своим создателем — несколько раз бросал резкий взгляд куда-то за деревья, словно выговаривал ему за плохую погоду. Он вытер платком сильно вспотевший лоб, нахлобучил на голову плоскую темную шляпу. Это был ее друг Даффи, хотя Лэндону он вовсе не показался дружелюбным. По виду слегка чокнутый и беспощадный, сжавшийся в кулак маленький ирландский иезуит, от которого веяло холодом и недовольством — последствиями вынужденного безбрачия. Вот уж, наверное, большое счастье — исповедоваться перед таким! Маргарет, несомненно, рассказала ему о Лэндоне и его доброте, но подозрительность не покидала священника, из-под своих учительских очков он смотрел на торгового агента немигающим взглядом. Возможно, чует иноверца, осквернителя-протестанта. Такие никогда не дадут тебе забыть о Реформации. Все же Лэндон пригласил этого маленького неприветливого служителя господа к себе домой, выпить по стакану вина, но у него отлегло от сердца, когда священник отказался. Через час ему надо отслужить еще одну мессу; словно желая подчеркнуть важность своей миссии, он отвернул рукав пальто и взглянул на часы, прижатые к тонкой кисти широкой черной кожаной полоской — ремешок настоящих мужчин: водителей грузовиков или моряков.
У ворот кладбища, на Сент-Клер-авеню, Лэндон поймал такси. За рулем сидел молодой бородатый маньяк, он вел машину в состоянии тихого бешенства. Что это все нынче такие озверевшие? Положение в мире не устраивает? Машина ракетой неслась в предвечернем потоке, и Лэндон на всякий случай ухватился за ручку над дверцей, а ладонь другой руки упер в сиденье — жизнь-то всего одна. Сент-Клер-авеню была забита грузовиками и трамваями, и потерявший терпение таксист кинул машину вправо и покатил к южной части города по Лэнсдаун-авеню. Мрачный тип, и даже не тратит времени на то, чтобы выматерить других водителей: гнев сразу преобразуется в действие. Сев в машину, Лэндон заметил на сиденье водителя книги в бумажной обложке: «Рассуждения о насилии» Сорела, «Зеленеющая Америка»[34]. Подходящее чтение для молодых параноиков. Кто он, этот малый, — сердитый революционер? Вряд ли, скорее всего студент, зубрит для экзамена, когда нет пассажиров. Но мир и в самом деле опасное место, ведь такой тип может взять да убить. Они ехали по итальянскому кварталу, проносились мимо меблированных комнат, табачных и продуктовых лавок. На уличных лотках перед магазинчиками стояли корзины с каштанами и дынями, их засыпал снег. У пешеходного перехода они едва не сбили пожилую женщину. Но робость не позволила Лэндону сделать водителю замечание, вместо этого он откинулся назад и стал искоса поглядывать на Маргарет, чувствуя, как на поворотах соприкасаются, стукаются одно о другое их колени. Маргарет, полностью занятая своими мыслями, рассеянно смотрела на тусклую зимнюю улицу. Разумеется, вся в черном, загадочная, как скрытая под паранджой женщина Востока, красивые ноги обтянуты черными чулками. Ох, этот черный цвет! Цвет траура, но и сладострастия тоже! Иначе как объяснить магнетическую силу черного дамского белья? Корсеты «Веселая вдова», черные чулочные пояса, лифчики цвета ночи — этот товар всегда шел с колес. Бизнес на сексе существует испокон веков. Живучий бизнес. Но Маргарет… Она захватила его воображение. На похоронах не било родственников — интересно, почему? Он спросил, надеясь, что она не сочтет его чересчур любопытным. У нее есть тетки и дядья, и двоюродные братья с сестрами, сказала она. В Монреале. Но последние годы мать замкнулась в себе, озлобилась на мир, поддалась болезни. Она прожила трудную жизнь, а тут ее искалечил артрит, приковал к креслу-каталке. Это ее ожесточило, она ни с кем не хотела знаться. Желала лишь умереть, хотя это грех; она регулярно каялась в нем священникам, а те наставляли ее — потворствовать своим слабостям не годится. Поначалу как-то выказывали сочувствие родственники, но она их отшила, осыпая яростными оскорблениями. Наверное, в ней будили ненависть их жизненные силы, сказала Маргарет. Она вспоминала старые обиды, воскресила какие-то древние семейные свары. Пошли скандалы, отвратительные перебранки. И Маргарет с матерью переехала в Торонто начать новую жизнь.
— Мы поляки, — негромко говорила Маргарет, глядя в окно на падающий снег, — а поляки не забывают. Они будут ненавидеть ее даже в могиле, наплюют на ее память. Понимаете, все они — родичи отца, и всегда считали, что она ему не ровня. По их мнению, она женила его на себе обманом. Ходили слухи о мнимой беременности. Что там было, я в точности не знаю. До войны отец с дедом держали ювелирный магазин в Кракове. Жили богато, вполне зажиточно. А мать нанялась в этот магазин работать. Продавщицей. Конечно, отец в нее влюбился. В свое время она была очень красивой женщиной. А отец… Не знаю, может, ее внимание ему польстило… Он, бедняга, был довольно неказистый с виду, почти уродливый. И вдруг — эта красавица… В общем… Но для моих дядей и теток мать всегда оставалась продавщицей… дочерью модистки. Не знаю. Если бы они оставили ее в покое… Но она тоже была с характером, гордячка. Какое-то время нам пришлось жить на их подаяния. Приятного было мало…
Лэндон внимательно смотрел на нее и слушал, завороженный ее рассказом. Когда они добрались до Эссекс-стрит, он расплатился с водителем, щедро одарив его чаевыми — для такой бесшабашной езды чересчур щедро. Потом помог Маргарет выбраться из такси, и на минуту они остановились на тротуаре.
— Буду рад, если вы зайдете ко мне поужинать, — пригласил Лэндон. — Или хотя бы выпить по стакану вина. Немного бренди. Сегодня у вас был тяжелый день.
— Спасибо, Фредерик. Пожалуй, я согласна. Может, я куплю что-нибудь у Кнайбеля? Сыр или буженину? Я не очень голодна.
— Ради бога, не беспокойтесь о еде. Этого у меня вдоволь. И вообще… Посмотрите на меня! Разве я похож на недокормленного? — Он подергал свое пальто, и она улыбнулась. — С едой все в порядке. Идемте.
Он взял Маргарет под руку и, ощущая пальцами ее крепкую плоть, повел по каменным ступенькам. Перед запертой дверью он помедлил. Воображение, что ли, разгулялось, или он вот-вот влюбится?
В кухне он, надев старый длинный пуловер, стоял у стола и кромсал лук, грибы, зеленый перец, потом все это высыпал на большую черную сковородку в яичную болтушку. Пока жарился омлет, Лэндон открыл бутылку красного вина и нарезал ржаного хлеба. Настроение у него было приподнятое, даже веселое, но он слегка сомневался: уместно ли оно? Он знал, что смерть матери не повергла Маргарет в глубокий траур, и все-таки это день похорон — не время мурлыкать песенки из старых телеспектаклей, на чем он несколько раз себя поймал. Но ведь он не принимал у себя даму многие месяцы — попробуй тут утихомирь это сердце! Пока он готовил, Маргарет бродила по квартире, постояла у маленького книжного шкафчика, изучая корешки, часто подходила к кухонной двери.
— Неужели не требуется никакой помощи? Такое чувство, будто меня обслуживают.
— Очень правильное у вас чувство. Вы моя гостья. Я хочу, чтобы вы расслабились, получили удовольствие от вина. Подготовили свой желудок для знакомства с одним из величайших шедевров Лэндона. Старинный рецепт, пришедший из глубины веков и переданный мне по секрету другом из Парижа… знаменитым шеф-поваром.
— В самом деле?
Ее темные брови поднялись. Дурачить ее — этого Лэндону не хотелось.
— Нет… не совсем… Это шутка, Маргарет. Я в жизни не был в Париже.
— А-а… — Она улыбнулась. — Вы любите шутить, да, Фредерик?
— Как сказать? — Он помолчал. — Пожалуй, люблю. Многолетняя привычка. В школе я был толстяком. Боюсь, и трусишкой тоже. Когда пахло жареным, я всегда строил дурацкие рожи. Нас таких было двое. Прижмут нас где-нибудь в углу, а мы им какую-нибудь шутку да прибаутку. Глядишь, им и бить нас расхочется… Надеюсь, вы не сочтете меня бестактным по отношению к вашей маме. Я вовсе не…
— Что вы, что вы… Прошу вас. Это как раз то, что мне сейчас нужно.
Он установил в гостиной карточный столик и накрыл его старой, но чистой скатертью.
— О господи, вы только взгляните на эту скатерть! — Он просунул два пальца в дыру. — Ладно, прикроем тарелкой. Прямо не успеваю штопать, Маргарет, хотя должен бы успевать. И ведь сейчас не работаю.
— Ой, какая жалость, — посочувствовала она. — Это печально. У мужчины должна быть работа. Вы, насколько я знаю, торговый агент? Кто-то мне говорил… Кажется, мистер Кнайбель…
— Да. Поздравительные открытки. Знаете, по любому поводу. Красные розы, синие фиалки. Вообще-то говоря… — Он положил на стол тарелки, ножи с вилками, раздумывая, что ей сказать. — Я раньше сам такую дребедень сочинял.
— О-о… еще и поэт. — В голосе послышалось восхищение.
— Ха-ха… Не то чтобы поэт, но… давайте есть омлет.
Он усадил ее и подал ужин, играя в официанта на торжественном приеме. Он знал, что ведет себя банально, но эта преувеличенная изысканность и легкая клоунада вреда не принесли и, похоже, пришлись ей по душе. Его приправленный чем-то остреньким омлет она съела почти с жадностью, потом они пересели на диван, как старые друзья. Лэндон подлил в кофе бренди. Интересно, я утешаю эту женщину или намереваюсь ее соблазнить? Поужинала она с явным удовольствием, щеки от вина зарумянились, слегка поднялось настроение. Испросив разрешения, Лэндон закурил сигару. Он сидел и любовался ее грудью, когда Маргарет наклонялась вперед и потягивала приправленный бренди кофе.
— Так вы родились в Польше? — спросил он, пытаясь направить разговор на ее прошлое — оно его очень интересовало.
— О да. — Она откинулась на спинку дивана, положила ногу на ногу, отбросила прядь с лица. — Столько воды утекло с тех пор.
— А как вы оказались в Канаде? — спросил Лэндон. — Если, конечно, я не кажусь вам назойливым.
— Ох, Фредерик, это старая история и очень известная. Была война — вот вам ответ. Такое случилось со многими.
— Да. Возможно. Только не со мной. Я прожил очень обыкновенную жизнь.
— Ну, я вам не верю.
— Тем не менее это правда, — сказал он. — А в Канаде вы уже давно?
— О да. — Она помолчала. — Пожалуй, я закурю.
— Разумеется. Я не знал, что вы курите.
— Изредка.
Она потянулась к сумочке и вытащила оттуда маленький серебряный портсигар. Лэндон чиркнул спичкой, поднес ее к лицу Маргарет и поразился — какой мягкий отблеск бросало пламя на ее кожу. С сигаретой она управлялась неловко, по-настоящему не затягивалась, а быстро выдыхала большие клубы дыма — как мальчишка, начинающий курить. И пробовала пальцами — нетели на языке табачинок.
— Ну… что вам рассказать? Когда началась война, я с мамой была в Женеве. Почти все лето мы отдыхали. Тридцать девятый год. Знаете, Фредерик, я не люблю жаловаться на судьбу, просто этого не выношу. Жалуйся, не жалуйся… Но тогда я последний раз в жизни была по-настоящему счастлива. И очень хорошо помню то лето, каждую мелочь. Мне было десять лет — неуклюжая избалованная девчонка, такая маленькая уродка… длинные косы до пояса. Грубила гостиничным официантам… жуткая была девица. И, конечно, считала: все в этом мире создано для меня, бери что хочешь, и отец старался, чтобы так оно и было. Помню… одного мальчишку, маленького швейцарца, он работал со своим отцом на лодке. Катали туристов по озеру. Я часто думаю: может, он и по сей день при этой лодчонке? Уже со своим сыном. Красивый был парнишка: кожаные бриджи, фартук, ярко-красная рубашка и кепочка. Ноги крепкие, загорелые, стоит на корме, как гондольер. Уж так он был горд, что помогает отцу. На меня, конечно, ноль внимания, но я боготворила его и все время приставала к отцу — покатаемся ни лодке! Какое было лето… Наверно, я и лето боготворила. И горы. Они окружали нас, охраняли, мы были отрезаны от мири, где шла совсем другая жизнь. А небо, а озеро… такая голубизна. Знаете, я не помню в то лето ни одного дождя, хотя, наверно, дождливые дни были. А вот отца почти все время что-то беспокоило. Он старался не подавать вида. Хотел, чтобы нам хорошо отдыхалось, но за ужином или просто вечером… сидит, бывало, в плетеном кресле на гостиничной веранде, смотрит на закат или читает газеты, а лицо такое мрачно-задумчивое, лицо ужасно несчастного человека. Конечно, из-за немцев. Все газеты трубили о Германии, и отец волновался: как там дедушка в Кракове? Было страшно обидно, ведь он впервые в жизни по-настоящему поехал отдохнуть. Но он не мог успокоиться, ему не сиделось на месте, и где-то в середине августа он сказал: возвращаюсь домой. Помню, мы с мамой провожали его поздно вечером на вокзале. Слегка похолодало, и на отце было нелепое полупальто, знаете, такие носят в шпионских фильмах. Он в нем буквально утопал. Бедненький, за этот отпуск он так похудел. Он крепко прижал нас к себе, от него чем-то пахло. «Колдовским орехом»? Мужчины им душатся?
— Кажется… да, — ответил Лэндон, внимавший ей с грустью и нежностью.
— В общем, какими-то духами. Он крепко прижал нас и сказал: до свиданья, дорогие мои, через несколько недель увидимся. Какими же мы были наивными! Остальное вы, конечно, знаете. Две недели спустя немцы ворвались в Польшу. Мы узнали об этом по радио. Все тогда слушали радио и суетно метались туда-сюда, особенно французские туристы. Мы пытались дозвониться до Кракова, но немцы отключили линии. Польша перестала быть частью Европы. Мы прожили в Швейцарии всю осень, гостиница опустела. Маленький лодочник исчез, наверно, вернулся в школу. Люди отчаянно стремились в Англию. После такого веселья все это было особенно печально. Как-то пришло письмо от родственников. Во время воздушного налета бомба попала в наш магазин. И отец, и дед были там. Но мама, надо отдать ей должное, не пала духом. У нас было немного денег, и мы перебрались-таки в Англию. По чистой случайности нам удалось связаться с родственниками отца в Монреале, вскоре мы оказались в Канаде, а уже потом, весной, разразилась настоящая война. Ой, Фредерик, нам очень повезло, от большинства судьба отвернулась.
— Да, но вашу поездку пикником тоже не назовешь, — заметил Лэндон, представив себе, как десятилетняя Маргарет вместе с матерью бежит из Европы через Ла-Манш. А он, откормленный оболтус, лежал на ковре в гостиной отцовского дома в Бей-Сити, провинция Онтарио, и слушал большой коричневый радиоприемник «Маркони». А уж как ненавидела его неповоротливость проворная и бойкая сестрица! Она честила его на все лады, когда он, лениво растянувшись перед приемником, слушал чревовещателя Эдгара Бергена с его куклой Чарли Маккарти, «Таверну Даффи» и всеамериканского кумира Армстронга.
— Конечно… какой уж там пикник, — сказала Маргарет после паузы, ее темные глаза смотрели в чашку кофе, будто она надеялась увидеть там картины прошлого. — Те первые годы в Монреале во многом были очень трудными. Я уже говорила — мама не очень ладила о родственниками отца. Но какое-то время нам пришлось жить под их крышей и есть их хлеб. Маме претила эта зависимость, она изо всех сил учила английский и вскоре устроилась в магазин одежды. Работником она была прекрасным и к концу войны стала управляющей этого магазина. Как только она пошла работать, мы переехали в собственную квартиру на Джин-Мэнс-стрит. Какое счастье — мы теперь сами себе хозяйки! А вскоре появился и мужчина. Такая пылкая женщина, как мама! Понимаю, трудно представить, что старушка, которую мы сегодня похоронили, была когда-то пылкой красавицей, но это так. А мой отчим… Жан-Поль Бошан! Очень видный мужчина, темноволосый, густые черные усы, в военной форме просто неотразимый. Родственники, конечно, были до предела возмущены. Ведь не прошло и двух лет после смерти отца… но мать не желала слышать ничьих возражений. Она была безумно влюблена. Хм… Точно знаю: мой бедный отец никогда не будил в ней таких чувств. Я часто слышала маму и отчима — не знаю, должна ли я вам об этом говорить? — за стеной, на старой кушетке. Они думали, что я уже сплю в своей крохотной спаленке возле кухни, но я и не думала спать, лежала, навострив уши… немного, пожалуй, испуганная — чего только не взбредет в голову, — но и возбужденная, странное ощущение…
Маргарет — на ее лицо падал отблеск лампы — застенчиво улыбнулась этим воспоминаниям, улыбнулся и Лэндон.
— Он был вполне милый человек, мой отчим, но слегка замкнутый, что ли. Какой-то отстраненный, особенно со мной. Нет, не злой, конечно, но… безразличный. У него просто не было желания выходить на люди. Я даже представить не могла, что он ведет меня в кино или в цирк. Из другого теста был человек. Тем не менее они поженились. В маленькой церквушке, субботним утром. Никто из родственников не пришел. Помню, была стройная хорошенькая девушка, английская канадка. Мамина подруга по магазину одежды. Еще один военный, священник, один или двое служек. Потом была скромная вечеринка в нашей квартире, и мамина подруга забрала меня ночевать к своим родителям. Помню, добрые такие люди, мороженым меня угостили. Жили где-то около горы. Дома большие, кирпичные. На следующий день девушка из магазина отвезла меня домой на трамвае… было чудесное летнее утро. Отчим сидел в кресле и пил пиво из большой зеленой бутылки, а мама стояла сзади, положив руки ему на плечи. На ней было платье цвета морской волны в белый горошек и белые туфли на высоком каблуке. Сразу было видно — она счастлива, вся так и сияла! Они дали мне куклу… эту черномазую куклу-уродца… как она называется… голливог! А вскоре отчим уехал за океан, писал нам письма из Англии. А потом… Ах, бедная моя мама, ей словно на роду было написано невезение — отчима убили. Следующим летом, в Нормандии. Где-то около Кана. Как раз в день высадки союзников. Его война только началась, и вот… убили. Как рыдала мама! Каждое утро она шла в свой магазин одежды и каждый вечер, возвратясь домой, рыдала. Тарелку не могла вытереть без рыданий, блузку выгладить. Несколько месяцев горевала.
— Как это печально и как странно! — сказал Лэндон. — Мой старший брат был убит в Кане в тот же самый день. 6 июня 1944 года. Может, они знали друг друга?
Он выпрямился, пораженный, — чего только не бывает в этой жизни! Впрочем, он всегда придавал чрезмерное значение совпадениям, видел в них нечто зловещее и таинственное, вмешательство каких-то потусторонних сил. И его мать рыдала — он прекрасно это помнил. Он пришел домой из школы, а она сидела за кухонным столом, и лицо было залито слезами. Они беззвучно катились по щекам, а мать, непривычно тихая, смотрела перед собой и ничего не видела, даже его — неуклюжего увальня с учебниками в руках, стоявшего возле маленькой, отделанной никелем плиты. Тут же был и отец — распрямившись, сцепив руки за спиной, он через забранную металлической сеткой дверь смотрел в сад. Его вызвали прямо с сортировочной станции, и на нем был комбинезон.
— Простите меня, — сказала Маргарет. — Война оставила след в жизни многих.
— У вас она отняла двух отцов, — сказал он. — Это особенно жестоко.
— Да, в каком-то смысле она отняла у меня и мать, — продолжала Маргарет. — За войну она жутко изменилась. Еще бы — такое горе, такая боль. С магазином-то она управлялась прекрасно, даже с родственниками умудрилась как-то наладить отношения. Они нас терпели. Иногда по воскресеньям мы ездили к ним ужинать. После войны я поступила в Макгилл[35] на отделение английской литературы. Моим кумиром был Джозеф Конрад. Поляк, так прекрасно писавший по-английски. Как я жалела, что я не юноша и не могу уйти в плавание! А что же мама? Ее все больше привлекала религия. Все свободное время она проводила в церкви. Скоро она стала известна в округе как очень религиозный человек. Ее набожность потрясала всех, даже родственников отца. В магазинах ей продавали со скидкой. В ней было… что-то необычное, что отличало ее от других людей. Некоторые даже считали ее святой. Но знаете — все это невыразимо грустно. Мама никогда не обвиняла в своих несчастьях нацистов. Она считала, что виной всему — евреи. Это из-за евреев на мир обрушилось столько страданий и смертей. Эти настырные евреи, говорила она. Все зло от них. Она совсем помешалась на этом и не желала слушать никаких возражений. Только в ярость приходила. Знаете, мама выросла в деревне, в настоящей глубинке, польской провинции. Там евреев не жаловали. До знакомства с отцом она прожила в Кракове всего несколько лет. Но эта ненависть к евреям была словно отрава. Эта ее ненависть… все время питалась кровью Спасителя. Прямо несчастье. У меня был друг… как она негодовала. — Маргарет смолкла, о чем-то задумалась. — Ну, что сейчас об этом вспоминать?.. Он тоже умер, бедняга. Сколько смертей. Я вам наверняка испортила настроение. За всю вашу доброту… вы этого не заслуживаете. Давайте прекратим этот разговор. И вообще, мне пора, уже поздно…
Она поднялась, разгладила платье ладонями, а сама не поднимала глаз, боясь встретиться с ним взглядом после такой исповеди.
— Вы так добры, Фредерик. Просто не знаю, как вас благодарить.
— Что ж, можно как-нибудь поужинать. Я имею в виду настоящий ужин, без яичницы. В ресторане… все как полагается…
— Но вы же не работаете… Это дорого.
— Ну… Я еще не совсем на мели.
— А мы в складчину… Только при таком условии…
— Что ж. Поглядим.
Он прошел с ней до двери, легонько касаясь ее спины, помог надеть пальто и пожелал как следует выспаться. Потом он стоял у постели в пижаме, заводил старый будильник «Уэстклокс» (на завтра была назначена встреча по поводу работы) и восторгался — какой подарок ему подбросила судьба!
После этого они несколько раз ходили ужинать, в кино, потчевал он ее и у себя. Она всегда появлялась с полной сумкой продуктов и запыхавшаяся, будто бежала через две ступеньки, спасаясь от врагов. Минуту она стояла, прижавшись спиной к двери, обхватив покупки и портфель с пряжками, тяжело дыша, словно беглец, который в страхе прислушивается, не раздадутся ли шаги на лестнице. Лэндон не раз ей говорил:
— Маргарет, прекратите это ребячество. Мы уже не дети. И кому до нас дело? Большой город обезличивает людей. Читаете эти бредни в «Тайме»? Так оно и есть.
Однажды в субботу он решил ее удивить: купил книгу с рецептами восточноевропейской кухни и дерзнул приготовить польский ужин. Отчасти это был провал, запеченные в тесте яблоки напоминали вязкую пасту, которой он в детстве пользовался на уроках лепки. Но рагу оказалось на удивление вкусным, и Маргарет была тронута до глубины души. Они молча ели при свете свечей, и в ее глазах Лэндон заметил слезы.
Когда он вернулся из Нью-Йорка после рождества, она ждала его с подарком — пластинкой этюдов Шопена. Он предпочел бы что-нибудь другое, скажем старый джаз Бенни Гудмена, но все равно было очень приятно. А поскольку у него для нее в ту свирепую субботу ничего не было, он опять-таки пригласил ее к столу. Она была рада видеть его. Это чувствовалось — она с такой охотой побежала к себе за бутылкой водки. Наверное, ее старушка любила иной раз хлебнуть этой огненной водицы. Они пили ее охлажденной, закусывали порезанными солеными огурчиками — так заведено у русских, объяснила ему Маргарет.
— Чувствую себя как Петр Великий, — сказал Лэндон, откидываясь в кресле. Они заметно развеселились. Маргарет поставила пластинку со славянскими танцами, зажигательными и задорными польками и мазурками. Тут в Лэндоне проснулся танцор, он снял туфли и запорхал, закружился по комнате, откалывая коленца из сиртаки. Маргарет смеялась и хлопала в ладоши. Но стук в пол прервал эту вечеринку для двоих. Старая миссис Харпер в знак протеста тюкала клюкой в потолок. Они засмеялись. Бог с ней, со старухой, все равно у них кончился запал. Эта перченая музычка разогрела им кровь, унесла с собой стеснение, и им было легко друг с другом.
После ужина они сидели на диване и слушали Шопена. Маргарет, в зеленой блузке и юбке, скинула на пол туфли и подобрала под себя ноги. Положила голову на плечо Лэндону.
— Почитайте мне какие-нибудь стихи, Фредерик! У меня сегодня поэтическое настроение.
Господи, как все в жизни повторяется, ведь уже было такое ухаживание! Взяв с полки книгу, толстую антологию, Лэндон протянул ее Маргарет.
— Вы преподаете литературу, Маргарет. Покажите, на что вы способны.
Она прочитала «Оду соловью», Лэндон ответил «La Belle Dame sans Merci»[36]. О-о, эта сладостная, полная романтики тоска Китса и Шопена! Устоять против нее было невозможно. Она залила всю комнату и проникла в сердца влюбленных, словно жидкое золото. Маргарет прикоснулась к нему, нежно поцеловала в губы. Они страстно обнялись.
— Дорогом мой Фредерик, — прошептала она, — ты будешь любить меня?
В спальне она разделась перед ним без всякой робости — как девица с панели. Боже, какая грудь, плечи, какая линия бедер! И это его соседка — старая дева, школьная учительница! Со своими тяжелыми пальто и туфлями без каблука! Со сдобными булочками и колбасой в пакетах. Старомодным портфелем из Лодзи. Как-то он внимательно разглядел его: отличная кожа, довоенная штуковина, все швы — вручную. А владелица портфеля? Искушенная любовница, чьи терпеливые пальцы и сведущие губы обшаривали каждую клеточку его тела, стремясь завоевать его. Ласково и мягко она приняла Лэндона и тихонько заплакала, а Лэндон, сам того не желая, думал: она плачет оттого, что ей хорошо с ним, или вспоминает его предшественника?
Ох уж эти проказники — эротические воспоминания! Ну их куда подальше! Стоя у окна, Лэндон с улыбкой смотрел вниз, на улицу, которую заливало яркое зимнее солнце. Унылое времечко, но еще месяц — и эти старые деревья взорвутся свежей зеленью возрождения, наденут листву и принарядятся к маю. Да, в постели Маргарет была великолепна, ничего не скажешь, но явно страдала от сознания жуткой вины. Внебрачная связь — это смертный грех, а Лэндон даже не был католиком. Сказать отцу Даффи — она и подумать не могла об этом и впадала в еще большую ошибку. Разумеется, она считала, он что-то подозревает — скорее всего, так и было. Эти иезуиты! Божьи птахи с нюхом ищейки! Если где рвут запретный плод — учуют за милю! Но что Лэндон мог ей сказать? Сейчас не средние века, Маргарет. У человека есть убеждения, не будешь ведь над ними смеяться. Этого ей и без него хватает. Она стояла перед ужасной дилеммой, и он ей сочувствовал. Подобные угрызения совести мучали ее и с его предшественником, хотя слушать об этом у Лэндона особого желания не было. Но приходилось. Она показывала Лэндону фотографию высокого, худощавого и лысеющего человека с открытым и умным взглядом. Остатки когда-то шикарной шевелюры кустились с боков и закрывали уши. Как водится, очки в роговой оправе. В зубах — трубка, эдакий красивый солидняк профессорского типа. Лэндон видел в нем поразительное сходство с драматургом Артуром Миллером. Это был некто Гранштейн, бывший преподаватель математики в старших классах школы, бывший владелец огромного норовистого «де-сото», явившегося на свет в середине пятидесятых годов. Большой умница, если верить Маргарет, пережил Бельзен[37], совершил оттуда побег. До того как бросить якорь в одной из средних школ Монреаля и взяться за обучение детей счету, он вел жизнь, полную приключений. Может, науку любви Маргарет постигла с ним? Сомнительно. В ее жизни было много мужчин. Техника исполнения — само собой, но ведь была еще простота и легкость, с какими она преподносила свою эротическую композицию. Впрочем, возможно, Гранштейн обогатил ее программу несколькими штрихами. Но почему он, Лэндон, так ревнует к этому учителю с интересным прошлым? Наверное, потому, что Маргарет вспоминала только его, и потом, Лэндон догадывался: этого Гранштейна она любила. Но все карты спутала ее матушка, а теперь Гранштейн исчез с горизонта, почил, бедняга. Рак каких-нибудь внутренностей. Пережить четыре года нацистских зверств, а потом пожелтеть и угаснуть в канадской больнице в возрасте пятидесяти двух лет. Всего за полгода до смерти ее матушки. Ужасно все это. Да, у его соседки были причины для скорби, ничего не скажешь. И горя она хлебнула достаточно. В этой жизни она познала многое.
Зазвонил телефон, он радостно тренькал, прорезая тишину комнат. Сняв трубку, Лэндон услышал голос сестры, летевший по проводам из Бей-Сити. Его страждущая сестра!
— Эллен? Это ты? Ну, как там у вас дела?
Он терпеливо слушал надтреснутый жалобный голос, его сестра докладывала о своих мучениях миру, который решительно ополчился против нее; оплакивала свою судьбину, вечно сетовала на своенравную жизнь, то и дело чинившую какие-то препоны, всегда преувеличивала последствия разных тягот и неурядиц. Для Эллен ливневые дожди стали ураганными штормами, а свежий ветер всегда сулил бурю. В последнее время она пристрастилась к религии и стала выписывать журналы, которые печатались в таких местах, как Пасадина, штат Калифорния, и Финикс, штат Аризона, и пугали своих читателей Страшным судом.
— …Дети поправляются после гриппа. Отец нездоров.
Лэндон пожевал губу.
— А что с ним?
— Да опять бедро. Все время беспокоит. Знаешь, как он на него жалуется. И хочет, чтобы мы забрали его оттуда. Хочет вернуться домой, но ты же знаешь, здесь нам с ним не управиться. Места у нас мало, да и по отношению к Хербу это будет несправедливо. Он и так целый воз тянет…
Не то что я, так надо понимать. Когда говоришь с его сестрой, бессмысленно интересоваться кем-то другим. Эллен каким-то образом всегда удавалось вернуть разговор к ее проблемам. Она всегда хотела держать биту. Лэндон вспомнил, как в детстве весенними вечерами они играли в мяч — в школьном дворе, давным-давно. Его сестра ставит ногу на черту, где стоит игрок с битой, и начинает ныть, а потом и выть пронзительной сиреной — в сумерки, среди смачных ударов битой. Не-ет, перебросить! Вы всегда со мной жулите!
— Да, ты права, Эллен. Там, где он сейчас, — не мед, но, откровенно говоря, я не вижу выбора. Здесь, со мной, он не будет счастлив. Ты же знаешь, мы друг друга в больших дозах не переносим.
— Ну, не знаю, не знаю, — сказала Эллен. — По-моему, ты делаешь из мухи слона. Он все время о тебе спрашивает. Тебе надо приезжать к нему почаще.
— Да я и сам хочу, — ответил Лэндон. — Кстати, машины у меня теперь нет… Продал недавно… Это я не для того говорю, чтобы оправдаться. Можно приехать и на автобусе.
— А работу ты нашел?
— Нет… Но я сегодня встречаюсь с одним типом. Из торговли недвижимостью. Не совсем по моей линии, но, возможно, моя линия заехала в тупик.
Он засмеялся и откашлялся. Эти шутки висельника! Но у Эллен с юмором было туго, да и все равно она не слушала, а просто ждала, когда он кончит.
— Фред, я хочу, чтобы ты приехал навестить отца. Почему я должна молчать? Я считаю, что это, черт возьми, несправедливо: свалить всю заботу об отце на нас только потому, что мы живем в Бей-Сити, а ты — в Торонто. Нам приходится ездить к нему каждую неделю, и могу тебе сказать: мало радости видеть, как он лежит там, все лицо перекошено, и постоянно жалуется, просит забрать его домой. Будто у нас есть место. Да и говорить-то всегда не о чем. Неделя за неделей — одно и то же. Знаешь, как это действует на нервы! Херб проявляет терпение, но ведь это тянется уже три года. Это наш с тобой отец, Фред… а не Херба…
— Я знаю, Эллен. Поверь, я все понимаю…
— …Приезжай навестить его хотя бы иногда, нас разгрузишь. У нас же ни одного свободного воскресенья! Если дети хотят покататься, мы должны сначала заехать к дедушке. Им, знаешь ли, тоже достается.
— Да, конечно…
— Это, черт возьми, несправедливо. Почему я, черт возьми, должна молчать? От тебя не убудет, если раз-другой сделаешь над собой усилие. Сколько месяцев сюда не показывался! Ехать-то всего сто миль.
— Хорошо, Эллен. Я и сам собирался, но сейчас вовсю ищу работу. На душе неспокойно. Но все равно… Ты права. Абсолютно права.
Тон Эллен чуть изменился. Она переключала обороты.
— Ты слышал насчет Уолли Била? Мы хотели позвонить тебе на той неделе, но Херб сказал, что ваши пути давно разошлись.
— Ну… Так что случилось? Что там с Уолли?
— В ящик сыграл, вот что. Инфаркт.
— Господи, да ты что? Не может быть! — Сердце самого Лэндона зловеще заколотилось. Неужели теперь каждый становится жертвой этих убийственных болезней? Но Уолли Бил — его ровесник! — Какой ужас, Эллен. Как это случилось?
— На прошлой неделе, на ужине у Мейсонов. Херб там был. Сидел за столом почти рядом с Уолли. Ну, они себе ужинали, и вдруг Уолли на глазах стал багроветь, багроветь — и отключился, вцепился в руку Мела Терстона — и отключился. В понедельник похоронили. Я не знала, захочешь ли ты приехать на похороны. Херб сказал, что вряд ли.
— Боже… бедняга Уолли. — Лэндон разволновался, но сестра снова поменяла волну.
— Так что насчет отца, Фред? Он все время о тебе спрашивает.
В этом Лэндон сомневался. В его любимчиках он никогда не ходил, был слишком похож на мать, чтобы доставлять отцу радость. Но люди, перенесшие кровоизлияние в мозг, порой становятся странными и капризными, тянутся к тем, на кого раньше у них не было времени. А кого раньше любили — игнорируют, а то и открыто ненавидят. Так или иначе, надо навестить старика, пока еще не поздно. А вот для бедняги Уолли теперь уже все поздно. Уолли — друг детства! Два самых толстых мальчишки в городе, и держались они вместе. Комики, как называла их его мать. Она была уверена, что они созданы для сцены, развлекать народ. Как Мейер Баус. Все это ждало их. Два толстяка, которые лупцуют друг друга, откалывают дурацкие штуки, шлепаются на задницу. Все как положено. Уолли он видел перед рождеством, в свой последний приезд и Бей-Сити. На Лэндоне тогда еще была вязаная шапка-чалма (ему много лет назад связала ее под рождество Хэтти Уилсон), которую он натянул на самые уши. Он стоял на главной улице с двумя детишками Эллен, промерзший до костей, и смотрел на шествие Санта Клауса. Ветер из гавани кнутом хлестал по мостовой, и у Лэндона слезились глаза, в своем непромокаемом «барберри» он дрожал как осиновый лист. Мимо него с грохотом, звоном и пиликаньем проходили местные оркестры со старшеклассницами во главе. Мощные ноги в белых высоких сапогах покрыты гусиной кожей, вымерзшие палочки взлетают в кусающийся воздух. Тягачи и грузовики волокут рекламу местной продукции и благотворительных дел: цепные пилы, Клуб «Местный клан», «Болейте за наших хоккеистов!». Херб Райзер представлял свой магазин, он сидел на грузовике в мотосанях, голубой нейлоновый комбинезон сверкал молниями, летные сапоги, белый шлем, защитные очки. Прямо тебе космонавт. Уолли был одним из клоунов, он кривлялся и подначивал народ, следуя вместе с шествием, на нем — мешковатые желтые штаны с огромными красными подтяжками, клоунские ботинки громко стучат по холодной мостовой. Уолли дурачится, угощает детей конфетами, а детворы вдоль тротуара — как сельдей в бочке. Лэндона он не заметил. Лэндон очнулся — сестра что-то повторяла, какой-то вопрос.
— Понимаешь, Эллен, тут еще новые сложности. Вера возвратилась. То есть сегодня приезжает.
— А этой что надо?
— По правде говоря, не знаю, но хочу повидать Джинни, внести какую-то ясность. Они будут жить у Вериной сестры.
— У психопатки.
— Ну… да, у нее есть свои проблемы.
В последнее время он совсем забросил отца. Тут Эллен права. Но тащиться три часа на автобусе, который кланяется каждому столбу, глотать ядовитые выхлопы дизеля — это же смерти подобно! Может, попросить машину у Маргарет?
— Эллен… Я постараюсь выбраться в конце недели… Нет… не постараюсь, а точно приеду, возможно даже завтра. — Не раздумывая, он добавил: — Может быть, не один.
— Не один? — подозрительно спросила сестра.
— Да. Со знакомой. Не знаю, свободна ли она, но, если погода будет хорошая, возможно, она захочет прокатиться.
Вера возвращается в Торонто, а он говорит о другой даме. Эти его женщины! Эллен всегда подозревала, что братец ее ведет слегка распутный образ жизни, отсюда и семейные неурядицы. В ее голосе зазвучало неодобрение.
— Что ж… Вы останетесь поужинать? Мне нужно знать… Мы сегодня как раз едем за продуктами.
— Вряд ли, Эллен. Я просто заеду к отцу, посижу с ним.
Он подождал, вслушиваясь в дыхание сестры. Она хотела что-то из него выудить.
— А ты и… эта женщина?.. У вас… это что-то серьезное? Ты нас в свою личную жизнь никогда не посвящаешь. Вообще ни во что не посвящаешь, так ведь? Если судить по тому, как ты нас держишь в курсе своих дел, мы для тебя просто не существуем… И до сих пор не устроился на работу! Ну, знаешь ли… Надеюсь, ты не собираешься натворить глупостей, Фред?
Лэндон чуть не фыркнул.
— Натворить глупостей! Ты забываешь, сколько мне лет!
— Знаешь, что говорят люди? — сухо продолжала Эллен. — Седина в бороду, а бес в ребро.
— Так говорят люди, Эллен? Возможно, они правы. — В груди давило все сильнее, какая-то сковывающая боль. — Слушай… Я сейчас тороплюсь, давай прощаться. Спасибо, что позвонила. Можешь передать отцу, что навещу его завтра, скорее всего где-то после полудня.
— Так что насчет обеда? — раздраженно спросила она. — Вы же проголодаетесь.
Нужно заканчивать разговор, не то он бухнется прямо возле телефона.
— Нет… обеда не надо, спасибо. Поедим где-нибудь по дороге. Ни с чем не заводись. Увидимся — поговорим.
Он повесил трубку и опустился в кресло. Он знал: надо принять душ и одеться для беседы, но не было сил, что-то навалилось на него, накатили старые фамильные страхи. Подмышки у него взмокли, на лбу выступил холодный пот. И бешено колотилось сердце — он был в этом уверен. Неужто и у меня сердце схватило? Лэндон положил пальцы на пульс, отмеряющий его жизнь. Но толком сосчитать пульс не удавалось — он все время сбивался. Доктор предупреждал его, что это — просто дурость. Старый хорват, тощий и длинный, как оглобля, чуть сгорбившийся с возрастом. Ему, наверное, было тогда лет под восемьдесят, он шлепал по кабинету в теплых домашних тапках, разнося сильный запах карболки. Когда Лэндон признался в этой своей привычке, доктор покачал маленькой белой головенкой.
— Ничего хорошего в этом нет. Пропустите два-три удара, а потом умножаете на четыре. Только пугаетесь. Ничего хорошего в этом нет, мистер, — добавил он и, склонившись, приложил плоское холодное ухо к груди Лэндона, начал что-то там выстукивать, к чему-то прислушиваться, а Лэндону открылась посеревшая кожа черепа под тоненькими седыми волосами. Лэндон ходил к нему не первый год, но старый лекарь никогда не помнил его имени. — Вам надо сбросить вес, мистер, — предупредил он, скатывая рукава голубой рубашки в полоску и застегивая жилет. — Сбросьте вес. Фунтов двадцать. И никаких экзотических блюд. Побольше зеленых овощей и черствого пшеничного хлеба. Чтобы желудок работал как часы. — Авторучкой он настрочил рецепт. — Почувствуете напряжение, принимайте это.
— Транквилизаторы? — встревоженно спросил Лэндон.
— Валиум. Расслабляет мышцы. И побольше развлекайтесь. Такой здоровый мужчина! В расцвете сил! Наслаждайтесь жизнью! Пригласите даму в ресторан и оставьте свой пульс в покое.
* * *
Лэндон знал, что старик прав, и все же глупо держался своего: сидя в кресле при свете утреннего солнца, он с надеждой проверял ритм, с которым пульсировала его кровь.
Спустившись в метро на Йонж-стрит, Лэндон поехал в сторону жилых кварталов. Он покачивался на сиденье, и вот поезд вынырнул из тьмы тоннеля под Блор-стрит в яркий солнечный свет. Он ударил Лэндона по глазам, зажег волосы золотыми искрами. Утренний час пик прошел, и в поездах, идущих к северной части города, пассажиров почти не было, колеса, скрипя и повизгивая, нервной болью неслись вдоль позвоночника города. Под грохот поезда Лэндон изучал рекламу над вагонными окнами. Печатные призывы, имеющие целью вытрясти из тебя доллар: заочные курсы, бутерброды с жареными шницелями, консультации на предмет вложения средств, гигиенические салфетки, уроки бальных танцев. Товар на любой вкус — демократическое изобилие. Взгляд его остановился на изображении девушки, рекламирующей колготки. Исключительная фигурка, разве что слишком худовата — на его вкус. Зато высокая талия и роскошные точеные ножки. К сожалению, у нее было глупое надутое личико — эдакая плакса-капризуля. Но кто смотрит на ее личико? Эти парни из рекламы свое дело знают туго. В мозгу Лэндона вдруг всплыло старое словечко. Приударить. О, господи! Он его не слышал уже лет тридцать. Отроческий клич Уолли Била, в коем жажда страсти и обладания. «Фредди! Ты только посмотри на нее! Вот бы за ней приударить!» Бедняга Уолли! В те дни они ни за кем не приударяли, но все равно жили весело. Поезд снова окунулся во мрак, и Лэндон, вспоминая, улыбнулся своему отражению в темном стекле вагона. «Ну, Энди. Судья говорит тебе: получай полгода исправительной работы за оскорбление личности и недостойную поведению. Слушай, начальник. Наплюй ты на эту самую поведению. А что эта личность меня недостойна — тут ты прав». Ох, уж эти старые заезженные хохмы! Иногда колючие, но в школьном зале в Бей-Сити они шли на ура. На сцене — он и Уолли, изображают негров с американского Юга, лица вымазаны сажей, на головах — шляпы. Как это называлось? «Весенняя потеха — 1945».
На Эглингтон он вышел из вагона и быстро зашагал к эскалатору, сверкая до блеска начищенными мокасинами из бычьей кожи. Для своих габаритов Лэндон был довольно подвижен, он шел, чуть подавшись вперед, как корабль, взрезающий носом морскую гладь. На движущихся ступеньках он медленно вплыл в вестибюль; в легком сером пальто, недавно прошедшем химчистку для нового сезона, он чувствовал себя меньше, подтянутей, маневренней. Хорошо, что он сбросил зимний наряд, старое пальто «барберри». День был холодный, но ясный, веяло весной, в воздухе ощущалась какая-то легкость.
В пустом, идущем в западную сторону автобусе он уселся поближе к концу салона и приготовился ехать по Эглингтон-авеню. Мысль о предстоящей встрече вызывала беспокойство. Нужно было сказать Бутчеру, чтобы тот договорился на понедельник — тогда Лэндон наверняка бы морально подготовился. От этих переговоров он уже порядком подустал. После очередной беседы он чувствовал: его уверенность в себе тает, осыпается, как мягкая порода. Впрочем, разве не читал он где-то, что пятница — лучший день недели для устройства на работу? Какой-то чудик провел исследование: собрал статистические данные, обработал их, сварганил диссертацию и — получите ученую степень доктора философии. Мир обогатился еще одним открытием, под тяжестью которых он и так весь исстонался. Короче говоря, в пятницу к душе человека якобы легче пробиться. Запоры сняты. Люди живут в предвкушении выходных. Барабаня по оконной раме, Лэндон думал: а этот Оззи К. Смит — какие у него радужные планы на завтра? Кстати говоря, а как у него дела сегодня? С удовольствием ли позавтракал? Не разругался ли с коллегами? Может, сорвалась сделка, хотя клиент вроде бы висел на крючке? А вдруг он поцапался с женой? Или ночью она показала ему спину? С моим везеньем эта стерва, возможно, так и сделала.
Проезжая мимо Ориоль-парка, он взглянул поверх высокой проволочной ограды на открытый плавательный бассейн, сейчас всеми покинутый. В ясном воздухе его бледно-зеленые стены казались беззащитными. Однажды несколько лет назад он приезжал сюда с Джинни, держал ее за маленькую влажную ручку, пока они стояли в очереди у ворот. Знойный августовский полдень, за этим проволочным забором муравейник из мальчишек и девчонок, они орут и плещутся в зеленоватом бульоне воды, от которой пахнет туалетным мылом. Чуть ослабил бдительность и потерял из виду скачущий конский хвостик и маленькую попку в оранжевом купальнике. Глаза искали в пенистой воде вспышку оранжевого цвета, в ноздри лез запах разогретых тел. Были тут и спасатели — загорелые старшеклассники, здоровенные лбы в красных плавках, белые шапочки натянуты на уши. Они сидели на стульях высоко над водой или прохаживались вдоль кромки бассейна, покрикивая на мальчишек и поглядывая на хорошеньких девчонок. Поглядывали они и на озабоченного Лэндона, предчувствуя недоброе всякий раз, когда мужчина не первой молодости рыскал возле детей. Лэндон уже видел: его обвиняют в том, что он ущипнул крошечную попку. Он, разумеется, ни сном ни духом, но плачущая крошка хрупким пальчиком указывает прямо на него. Вот этот дядя, мамочка. Это он. Его тут же подхватывают крепкие загорелые руки, волокут к выходу — на глазах всего народа. Все смотрят на него с отвращением. Какой-нибудь пожилой седовласый джентльмен, все еще подтянутый, в боксерских трусах, стискивает кулачок и бьет его по лицу; удар скользящий, непоставленный, но все равно больно. Он знал, что запросто может растеряться при таких обстоятельствах. Да полицейские, если только захотят… признаешься в том, что было и чего не было! Он легко представлял себе это. В свое время он думал использовать такой сюжет для пьесы, лишь бы нашелся желающий ее финансировать. Но нечто подобное он уже видел в театре Крафта. Кажется, роль безвинной жертвы играл Берджес Мередит[38]? Да, был такой летний день в жизни Лэндона, он еще думал: жаль, что Веры нет рядом. Это было как минимум лет десять назад. Задолго до Оззи К. Смита. Ну, а от него что прикажете ждать? Еще один из этих сопливых умников? Лэндон мрачно усмехнулся: мыслит на жаргоне из старых комиксов. Он нахватался разных словечек у Харви Хаббарда, но в конце концов от этого добра избавился. Уже давно. В его голове много места занимали старые фильмы и песни. Но Бутчер… последнее время он стал посылать Лэндона во всякие сомнительные конторы. Может, это у него такая изощренная шутка? Должно быть, так и есть. Бутчер… вечная улыбка во весь желтозубый рот, толще и на десять лет моложе Лэндона. Себя он считал яркой личностью, комиком, и, впервые читая анкету Лэндона, остановился посредине и сжал полные губы. Значит, Лэндон был писателем. Хм, и поэтом! Бутчера это заинтересовало. Он когда-то и сам работал в индустрии развлечений. Отвечал за рекламу и связь с прессой в одной рок-группе. Беспокойное это дело, поверьте мне, и никаких гарантий. Еще бы — эти рок-группы! Много они понимают! Поди угонись за вкусами молодежи! Он получает гораздо больше удовольствия, когда помогает найти подходящую работу таким людям, как Лэндон. Это более благодарный способ зарабатывать на хлеб. Этот человек излучал неискренность и в кричащих клетчатых костюмах, чересчур броских рубашках, с бакенбардами на мясистых щеках был похож на циркового клоуна. Растительность была буйная, каждую неделю бакенбарды, казалось, опускались на дюйм ниже, следуя разбойной линии его челюсти. Скоро, размышлял Лэндон, этот косматый коричневый грибок покроет все его лицо — свершится маленькое доброе дело. Бутчер утверждал, что проблема Лэндона представляет для него особый интерес. Ведь это же стыд и срам, когда люди вашего возраста ходят без работы, Фред! Но я так и не понимаю, почему вы ушли со старого места. Ведь сейчас такая безработица… это было слегка поспешное решение, да? Он прав, с сожалением думал Лэндон, ведь не было никакого пожара. Кстати говоря, а почему, продолжал Бутчер, вы вообще выбрали для себя торговлю? Буду с вами откровенен, Фред! На мой взгляд, вы недостаточно… агрессивны, что ли. И мне кажется, что торговля — это просто не ваша стезя. Вы, по-моему, — человек впечатлительный. И это комплимент. Поверьте, я преклоняюсь перед впечатлительными людьми. И вы писали любовные послания? На день святого Валентина? Но это же потрясающе! Он просто издевается надо мной, не раз говорил себе Лэндон. Нужно встать и уйти. Но куда? В других агентствах по найму к нему не проявили интереса, а бюро по трудоустройству ничего не могло предложить. Выходит, никуда ему от Бутчера не деться. Теперь по милости Бутчера он обивал пороги каких-то лавочек. Две последние — это было почти неприлично. Они там уже дошли до ручки, пускали пузыри. А Бутчер все сверлил ему мозги насчет энциклопедий. Поверьте, Фред, они задыхаются без людей. И там можно нагрести деньжат. Надо только немного пошустрить, вот и все. Но тут Лэндон стоял скалой. Никаких энциклопедий. Ходить по квартирам — ни за что. В моем возрасте это уж слишком. Бутчер пожимал тяжелыми плечами, почесывал баки, в голосе его впервые прорезались нотки раздражения. Хорошо, старина… Попробуем подыскать что-то еще. Но поверьте, спрос на торговых агентов с поэтическими наклонностями не очень велик.
Он вылез из автобуса в квартале 2200 и быстро зашагал назад, глядя на номера домов и отыскивая адрес, данный ему Бутчером. Район был итальянский — в основном продуктовые лавки и мебельные магазинчики, курсы вождения, агентство путешествий. Лэндон остановился прочитать рекламный призыв в витрине.
АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ «КАЗА ЛОМА» ДОСТАВИТ ВАС В СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД НА ПАСХУ.
Аминь такому предложению, пробормотал Лэндон, чувствуя под башмаками холодок асфальта. Из громкоговорителя над дверью скобяной лавки, захлебываясь, рвалась аккордеонная мелодия. Лэндон заспешил дальше, ища нужный номер. Он раскопал его по соседству с молочным магазином, продающим товар со скидкой. Итак, обыкновенный домишко, возможно, бывшая пекарня или мясная лапка. Остановившись, он стал внимательно разглядывать фотографии недвижимости, прикрепленные к окну клейкой лентой. Несколько небольших каркасных бунгало, два-три обшарпанных домика на две семьи — кубики, разбросанные на площадке, вокруг — ни деревца, явно в захолустье, какая-то угловая коптильня нежилого вида. Ясно, что пристроить такой товар — дело дохлое. Да, тут не пузыри, тут самое что ни на есть дно. Торговать белыми слонами! Делая вид, что изучает фотографии, Лэндон украдкой глянул в окно. Что же это, хотелось бы знать, такое? Прикрытие для мафии? Букмекерская контора? От Бутчера можно ждать чего угодно. Внутри, склонившись у картотечного шкафчика, стояла женщина. Ее темные волосы были взбиты высоко наверх и торчали словно проволока — тут не обошлось без химии, — пышная прическа «буффон» начала шестидесятых. Ярко-лиловый брючный костюм. Без особого интереса Лэндон оглядел ее обтянутый зад. На окне белыми готическими буквами было написано:
ТОРГОВЛЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ «ХАРСТОУН РИЭЛТИ»: КРЫША НАД КАЖДОЙ ГОЛОВОЙ.
Он прочитал эти слова, и живший в нем поэт нахмурился. От фразы несло фальшью. «Крыша над каждой головой» — вот дают! Явно не внушает доверия и вообще содрано со старого лозунга времен депрессии: «Цыпленок в каждой кастрюле». Кто это обещал такое благо? Наверняка кто-то, метивший в президенты Соединенных Штатов Америки![39] Во всяком случае, до появления Лэндона на свет. Это должен знать отец. Надо будет спросить у него завтра. Всю третью декаду столетия он только и делал, что выслушивал такие обещания по радио. Впрочем, пожалуй, лучше к нему с таким идиотством не лезть. Он только рассердится и начнет отыгрываться на Лэндоне. И на Лэндона выльется обычный поток хулы. Что ты забиваешь себе голову этой старой рухлядью? Это все в прошлом. Думаешь, тогда были хорошие времена? Ошибаешься, сын мой. Ты считаешь, что тогда, в те времена — вот была жизнь. Черта пухлого! Тебе надо о сегодняшнем дне думать, о том, как ты распоряжаешься своей жизнью. Ох, как старик обожал читать ему нотации! Однако он был прав. Прошлое для него — свинцовый груз горьких воспоминаний. Любимый сын погиб во Франции, жена сбежала в Калифорнию с несостоявшимся актером! Наверное, сейчас ему ясно: все прожитые вместе годы она его не любила. Носить на старости лет такое бремя! Ладно, любовь любовью, а на работу устраиваться надо — и Лэндон открыл дверь.
Девушка подняла голову и улыбнулась ему. С виду лет тридцать пять, из тех, что рано расцветают, сейчас она уже была на стадии быстрого увядания, но пока держалась на уровне за счет косметики и молодежных туалетов. Глаза обильно подведены, яркие пурпурные ногти, кольца нет, хотя вид изрядно потасканный. Эдакая бывалая штучка со вздыбленными и облитыми лаком волосами, с золотыми обручами сережек. Наверное, разведенка. Пацан небось в школе. Нагуляла со слащавым брюнетом где-нибудь в мотеле, а через два года выяснила, что терпеть его не может. Впереди нелегкая жизнь, но такие люди как-то удерживаются на плаву. В мире таких, как Бланш Холл, хватает денег и на психиатров, и на поездки в Нью-Йорк к сестрам. А эта боевая бабенка, вполне возможно, обедает из бумажного пакета, а временами тешится с кем-нибудь из торговых агентов. В глазах ее он узрел откровенное и бесшабашное распутство. Она знала мужчин и не питала на их счет никаких иллюзий. Все они коты. Она встретила его хлестким — сквозь жвачку — «Привет!» и прошла к своему столу, изящно покачивая бедрами и задом. Подать то, что имелось в наличии, она умела.
— Вы теперь с ними?
Она медленно оглядела его, от мокасин до золотистой макушки, и улыбнулась — алый рубец и большие зубы. Лэндону показалось, что по нему шарит рентгеновский луч, проверяется крепость его мышц и костей, данные по части секса. И, похоже, его признали годным.
— Я — Фред Лэндон. У меня в десять часов назначена встреча с мистером Смитом.
— Ясно, Фред. Садитесь! Оззи сейчас нет, но он скоро заявится. Там на столе журналы. А хотите — полистайте каталог.
Лэндон сел в неизбежное кресло с зеленым сиденьем и изогнутыми хромированными подлокотниками. Мебелишка сороковых годов! Всякие третьесортные конторы, похоже, никак не желают с ней расстаться. Перед ним был низкий кофейный столик, на котором лежало несколько экземпляров «Тайма» и «Ридерз дайджеста», переполненная пепельница и большой потрескавшийся фотоальбом. На вид — старый альбом со свадебными фотографиями, когда-то белый, но от времени пожелтевший и захватанный пальцами. В основном прозрачные пластиковые конверты были пусты, но там и сям мелькали фотографии — еще одно несчастное бунгало, на которое никто не зарится. Сама контора была узкой и длинной, освещалась тонкими трубками дневного света у потолка, штукатурные плиты разделяли ее на несколько отсеков. До Лэндона доносились телефонные звонки, треп агентов, перестук пишущих машинок, за одной из хлипких перегородок кто-то говорил по-итальянски. Похоже, там шел спор, а может, и нет. Лэндон наклонился вперед, положил локти на колени и продолжал листать жесткие замызганные страницы свадебного альбома. Но цены на эти хибары — с ума сойти! Кому такое по карману? Лэндон поднял глаза — из какого-то отсека появился высокий поджарый тип в сером синтетическом костюме и туфлях из крокодиловой кожи, подошел к секретарше и уперся костяшками пальцев в ее стол. Смуглый, носатый, прорва черных волос, немыслимо огромные баки. Таких в старые времена называли «продувная бестия». Лэндону понравился его экзотический вид, хотя парень метнул в его сторону холодный колючий взгляд. Ага, мол, новое лицо в наших владениях. Это Лэндону было знакомо. Бестия по имени Джино спросил какие-то бланки, держась с мисс «Буффон» довольно по-свойски. Заявляет о своих правах, подумал Лэндон, как и положено у самцов. Такого голыми руками не возьмешь. Но если с работой выгорит, возможно, придется вкалывать с ним бок о бок, набираться у него ума-разума. Или дерьма. Лучше прикинуться голодной овечкой. Он снова уткнулся в альбом и стал разглядывать волшебные замки фирмы «Хартстоун». Вскоре синтетический костюм убрался в свой отсек, и мисс «Буффон» спросила Лэндона, не хочет ли он кофе. Она по утрам приносит на всех из молочного бара напротив. Лэндон улыбнулся, покачал головой и продолжал рассматривать снимки — боже, каким грузом давят на его плечи эти утренние визиты! Они стали частью его жизни, и все время приходилось ждать за чьей-нибудь дверью. От одного этого можно сломаться, если не держать себя в руках. Везде — кресла с хромированными подлокотниками, в которых он сидел, рекламные журналы и проспекты, которые он листал, каучуконосы в горшках, которые росли в табачном дыму, искусственные цветы, которые вообще не росли. Тошно даже думать об этом. И чего он рыпался, сидел бы себе в «Каледонии». Притерся бы к Шугермену, к новой метле. Как же, держи карман шире! Шугермен хотел его выкинуть, и ему пришлось последовать за Крэмнером. За этим злодеем!
В прошлом августе, в день, когда уволили Крэмнера, Лэндон пошел с бывшим боссом в «Серебряную шпору» — заведение на Йонж-стрит. Оно было оформлено под салун американских пионеров, на полу — древесные опилки, в углу — пианола. При желании можно было выпить у длинной стойки бара, по-ковбойски поставив ногу на низкую перекладину. Лэндон нервничал: после того как «Каледония стейшнери» была продана чикагской компании «Девелко энтерпрайзес», начались перемены. Новый начальник, Леон Шугермен, лихо взялся за дело, компания переселялась на новое место, в северный пригород Торонто, поближе к зеленым лужайкам. Ходили слухи о перестановках и сокращениях, но фактически пока жертвой пал только Крэмнер. Его уволили, но казалось, это его нисколько не печалит. Наоборот. Послушать его, так ему просто подфартило. Он сидел, откинувшись на стуле, засунув большие пальцы в проймы своего яркого жилета, и рассуждал о «перспективах» и о том, что у него «кое-что на мази». На нем был переливчатый костюм, какие поблескивают в темноте, и — несмотря на теплый летний вечер — кричащий алый жилет и широкий галстук с узлом величиной в кулак. Он также посетил один из фешенебельных парикмахерских салонов, и его красивые седые полосы были зачесаны на лоб, как на камее с изображением Юлия Цезаря. Отчаянная попытка уцепиться за молодость, предстать шикарным мужчиной. Лэндону казалось, что он походил на стареющего комика из ночного клуба, второразрядного фигляра, который выходит посмешить публику перед номером звезды. Но цвет лица у него был что надо, и этот элегантный живчик легко нес на своих сверкающих плечах невзгоды дня, заигрывая с кобылистыми официантками, которые обслуживали их в черных сетчатых чулках, коротких юбчонках и больших ковбойских шляпах, сдвинутых на затылки.
Хорошее настроение рвалось из него, как шампанское из бутылки, Крэмнер вовсю дурачился, подмигивал девушкам, и его говорок с легким шотландским акцентом гудел и дребезжал, как механическая пила.
— Ну вот, дружище Фредди, со старушкой «Каледонией» я простился. И черт с ней, с этой шарагой. — Он влил в себя спиртное и вытер уголки рта белым платком. — Но я тебе вот что скажу. С нашим ремеслом я прощаться не собираюсь. Я тридцать пять лет торгую канцтоварами, и так просто меня не выкурить, бьюсь об заклад лучшей шляпой в городе. Я уже кое-каким друзьям позвонил… поговорил с Джеком Харпером. Он считает, что со мной обошлись по-свински. Пригласил меня зайти в понедельник, мы с ним скушаем обедик и заодно прикинем, где можно зацепиться. Я сказал ему и о тебе, дружище… — Лэндон нервно провел рукой вдоль рта. Что это еще за выдумки, зачем Крэмнер говорит всем этим людям о нем? Крэмнер подался вперед, опершись на локти, и снизил голос до шепота. Э-э, да он здорово надрался. Лэндон пока чувствовал себя в норме, но изо всех сил пытался сосредоточиться, сообразить — какова его роль в этом деле? Зачем в разговорах Крэмнера с другими людьми фигурирует его имя? — В нашем деле, Фредди, есть люди, мои друзья… они знают, что почем… — Крэмнер подавил отрыжку, уткнув подбородок в широкий галстук. — И они ценят опыт. Ну а этого у нас, дружище, слава богу, хватает. Ни один человек в городе, во всей стране не станет этого отрицать. Ты проработал у нас… сколько?.. пятнадцать лет?
— Одиннадцать, — рассеянно сообщил Лэндон.
— Только одиннадцать, — удивился Крэмнер, почесывая щеку. — Я был готов поклясться, что ты пришел в тот год, когда дал дуба Элвин Прескотт. А это было… в тысяча девятьсот пятьдесят… седьмом… восьмом…
— Нет, Эрл, — быстро возразил Лэндон. — В конце месяца будет одиннадцать лет.
— Ну, ладно, это не важно. Дело в другом… Слушай… Эрл Крэмнер трубит на этом поприще тридцать шестой год. Верно?
— Да, верно, — бросил Лэндон. Он уже порядком устал от этого монолога, длившегося не первый час.
— Так вот… — Крэмнер сделал знак, чтобы принесли еще выпить. — Я сказал Шугермену, понимаешь… Слушай меня. Я сказал ему, что на всю страну едва наберется десять человек, которые в поздравительных открытках понимают столько, сколько мы с тобой. Еще я сказал ему: будете вести неразумную политику, рубить сплеча, все опытные агенты от вас разбегутся, вот тогда и запоете. А молодой Холл и вся эта шайка — что они понимают?
— А он что на это? — быстро спросил Лэндон.
Над ними склонилась официантка — забрать пустые стаканы, — и под расстегнутой у горла сатиновой рубашкой дрожащим тестом замаячили большие груди.
— Повтори нам, пожалуйста, дорогуша, — сказал Крэмнер, изучая ее шикарный бюст взглядом старого плута. Эти груди не оставили равнодушным и Лэндона, он даже забыл о своем вопросе.
— Я кое-что скажу тебе, Фредди, скажу, что думаю. Возможно… вполне возможно, понимаешь… в конечном итоге… Все это окажется к лучшему…
— В каком смысле? — спросил Лэндон.
— Да очень просто. Смотри… Я как раз сегодня об этом жене говорил. Она из-за всего этого расстроена, а я ей говорю: ладно! Какого дьявола! Почему бы, черт возьми, не поменять работу? Да кто сказал, что мы всю жизнь должны дудеть в одну дудку? Силы небесные, человек сидит на одном месте тридцать лет и даже не задается вопросом: неужто мне не дано отведать ничего другого? Только задуматься над этим — ну не дурость ли? Понял теперь, о чем я?
— Вроде да.
— Вот что я и выложил Шугермену. Ладно, говорю, мой симпатичный молодой друг, у меня есть связи, так что можете не переживать. А если и Фредди Лэндон решит, что играть с нами в одну игру ему неохота… тогда я вам не завидую.
У Лэндона учащенно забилось сердце.
— И что он на это? Мы с ним за все время десяти слов друг другу не сказали.
Крэмнер барабанил пальцами по столу и подмигивал официантке.
— Этот старый гусак, Фредди, еще кое на что способен. Вот здесь еще теплится жизнь.
— Эрл, хватит уже, ради бога, — потерял терпение Лэндон. — Что сказал Шугермен?
Крэмнер пожал плечами.
— Поди разберись, что у него на уме. Это же такие хитрюги. Коварство у них в крови. Напустят тумана, а что за ним — поди разбери.
— Так он что-нибудь сказал обо мне, когда ты упомянул мое имя?
Пьяная неопределенность Крэмнера вызывала у Лэндона все большее раздражение.
— Я просто сказал ему, что у нас есть кое-какие идеи… Он хотел загнать меня в угол…
— О господи, какие еще идеи? — В груди Лэндона живым зверем подскочило сердце.
— Ну что ты кипятишься, Фредди? — спросил Крэмнер. — В конце концов, мы с тобой не один день вместе проработали. Да с нашим опытом любая фирма…
— Хватит об этом, Эрл. — Голос Лэндона сорвался на фальцет. Сидевшие за соседним столом подняли головы и посмотрели на них.
— Хватит об этом, Эрл, бога ради, — зашептал Лэндон. Где-то под ложечкой у него неприятно засосало. — Ты что, сказал ему, что я собираюсь уходить вместе с тобой? Из чувства солидарности или еще чего-то такого.
— Нет, нет, нет, старина…
— Но ты намекнул… О боже!
— Погоди, послушай. Ничего такого я ему не сказал. Просто выложил правду. А правда такова, что мы работаем вместе столько, что он и представить не может. Мы прекрасно сработались. Знаем наперед ходы друг друга. Это правда, верно же? — Опершись на локоть, он склонился над столом. — Ну?
— Да… да… — пробормотал Лэндон. Как люди создают мифы! Тут и не подкопаешься! Крэмнер вбил себе в голову, что они работали на пару.
— Ты только не беспокойся, — увещевал Крэмнер. — Хочешь остаться, твою работу никто не отнимет, уверен. Но поверь, Фредди, у меня уже кое-что на мази… Так что беспокоиться нечего…
Лэндон отвернулся.
— Да кто беспокоится? Но все-таки…
Его слова потонули в ритмичной музыке, зазвучавшей из угла зала. Подошло время «Пойте вместе с нами», и за пианолу уселся мужчина в лиловом пиджаке. Крупная полногрудая женщина в светлом парике, похожая на Мей Уэст[40], в длинном платье с блестками, вышла на сцену и принялась горланить «Мою старую компанию». Эта большая блондинка напомнила Лэндону мать. Публика скоро стала подтягивать, и Крэмнер, полуобернувшись на стуле, тоже пропел пару куплетов, но потом голова его начала клониться, как у нарцисса, и в конце концов бухнулась на грудь. С помощью швейцара Лэндон вывел его на улицу, где Крэмнера мгновенно и весьма живописно вырвало. Прислонившись к стене, он возвернул несколько унций первосортного солодового виски и частично фирменное блюдо из жареных кур «Полковник Сандерс из Кентукки». Хотя Лэндон, помнится, расставил ноги пошире, спасти мокасины от блевотины ему не удалось. Он сразу отрезвел и, нервничая, запихнул надравшегося коллегу в такси под подозрительным взглядом проходившего мимо полицейского.
Разумеется, время Крэмнера прошло, да и специалист он был дутый. Но Лэндону все же было жаль его, когда на голову бедняги опустился топор Шугермена. Однако Лэндон понимал: при новой расстановке сил места для Крэмнера не было. Компания переживала тяжелые времена. После смерти старого Сирила Маккаллема она практически плыла по воле волн. Никто и пальцем не шевельнул, чтобы выправить положение, во всяком случае, не заведующий отделом сбыта Эрл Крэмнер, который сидел в своем кабинете и делал вид, что на дворе тысяча девятьсот пятидесятый год. Иногда он отправлялся поездом в Ванкувер или Монреаль, останавливался в старых гостиницах и заигрывал с горничными. Он любил говорить, что нужно поддерживать контакты с заказчиками, но Лэндон не сомневался: Крэмнер просто жаждал оторваться от писанины и необходимости что-то решать. Он частенько тащил с собой Лэндона, который эти поездки не выносил. Никого из нового народа Крэмнер не знал и своими кондовыми солдатскими шутками только вызывал недоумение у задерганных начальников отделов — то у них фонды горят, то неладно с квотами. У них не было времени на всякую белиберду, но Крэмнер никогда не улавливал в их глазах и голосах намека: хватит, нам некогда! Он просто выставлялся перед ними дураком, а Лэндон что мог поделать? Он стоял рядом, беспомощный и кипящий от злости. Эти встречи изматывали его, и он, как всегда, боялся за свое сердце и давление. Идя к выходу, он бросал мимолетные взгляды в зеркала парфюмерных и косметических отделов и видел на щеках нездоровый румянец: огромная свекла лица под пылающей гривой. Может быть, он — Эрик Рыжий или Лейф Счастливый[41]?
В вагоне-ресторане «Трансконтинентальной» Лэндон смотрел, как прячется за Скалистые горы солнце, восхищался небом, по которому плыл рассеянный свет, а сам слушал байки Крэмнера, уже не раз слышанные. Но игнорировать Крэмнера было невозможно. Его бешеная энергия обволакивала тебя, он не сидел спокойно ни минуты. Похоже, немалая часть его жизни уходила на то, чтобы поудобнее пристроить собственное тело. Он напоминал человека, который сейчас будет фотографироваться, он неутомим и встревожен, то закинет ногу на ногу, то сбросит, подтянет носок, сбившийся на лодыжку, вытащит рукав с запонкой, проведет рукой по тщательно уложенным волосам. Лэндон знал, что Крэмнер тщеславен, видимо, в свое время он пользовался успехом у женщин. Да, в двадцатые годы он наверняка был эдаким проворным душкой-коммивояжером и проливал бальзам на сердца многих вдов, стоявших за прилавками поселковых лавчонок.
После ужина Крэмнер говорил только об одном: как в те далекие времена он со стариной Сирилом Маккаллемом мотался по стране из конца в конец, тогда в компании, кроме них, торговых агентов вообще не было. Он был переполнен воспоминаниями, и целые вечера напролет Лэндон, изнемогая от скуки, слушал его, а у самого от сигаретного дыма раскалывалась голова. И, конечно же, на поездах уже никто не ездил. Пока он и Крэмнер неспешно катили на железных колесах, поглядывая в темное окошко на сельские пейзажи, конкуренты носились на самолетах и загребали рынки сбыта. Ему с Крэмнером оставалось лишь подбирать за ними крохи. Конец был неминуем, но, когда он наступил, Лэндону все равно было жаль Крэмнера. Да, его тщеславие и манерность раздражали, но все эти годы он был добр к Лэндону. Крэмнер выиграл для него не одну битву за повышение зарплаты или дополнительный отпуск, не робея перед стариком Маккаллемом. Лэндон часто слышал, как из кабинета босса доносились их разгневанные шотландские голоса, все громче и громче, наконец с силой распахивалась дверь, и оттуда вылетал Крэмнер — круглое лицо над галстуком-бабочкой пылает, грудь вздымается, как у бойцового петуха. Наклонится над столом Лэндона, подмигнет и зашепчет: «Будет тебе прибавка, дружище, не боись. Старик — истинный шотландец, но в справедливости ему не откажешь».
Но что Крэмнер сказал Шугермену? Шугермен, похоже, один из тех напористых и хватких типов, которые так уверены в себе, что даже страшно. Лэндон всегда перед ними тушевался. Что же ему сказать? Проведя бессонную ночь, он пошел к секретарше Шугермена и попросил его принять. Сейчас он понимал — это была ошибка, стратегический просчет. Со стороны казалось, что он решил бросить вызов, на самом деле он просто боялся неверно сыграть. Тут требовалась осторожность. Одна фраза, подпись на бланке — и твоя жизнь изменилась. Зачем вообще ему была нужна эта встреча? Шугермен и словом не обмолвился о том, что будет уволен еще кто-то. На доске объявлений даже появилась специальная бумажка: аккуратно отстуканное на электрической машинке послание, сводившееся к тому, что никаких дальнейших перемен в штатном расписании не предвидится. Лэндон даже запомнил слова. «Теперь вы — сотрудники „Девелко энтерпрайзес“. А в „Девелко“ людей ценят!» Да, но как, мрачно думал Лэндон, вспоминая послание. Подписавший его Леон Шугермен сидел, откинувшись, в своем вращающемся кресле, заложив ногу на ногу, и рассказывал Лэндону о своем родном городе Чикаго, о том, что черные и пуэрториканцы уничтожили этот великий город. Разговор о городах сбил Лэндона с толку. Он полагал, что Шугермен будет говорить с ним энергично и ближе к делу. Вместо этого — разговорчивый, добродушный человек, откинувшийся в кресле, пальцы сплетены за головой. Лощеный тип — широкие лацканы, пестрый галстук. Новые сапожки цвета какао. Видимо, ему где-то за тридцать, хотя волос на голове вдвое меньше положенного. Зато челюсти покрыты густыми, черными как смоль, вьющимися баками. На груди, наверное, жуткие заросли. Собственный гладкий торс Лэндона беспокойно ерзал в кресле. Перед Шугерменом стояла гипсовая модель нового административного здания и завода, строящихся сейчас на равнинном участке к северу от города. Время от времени Шугермен подскакивал в кресле, расплетал пальцы и хватался за желтый карандаш. Он тыкал им в тошнотворно-зеленый гипс, изображавший лужайки и газоны завтрашнего дня, или помахивал возле малюсенького оконца — там будет его, Шугермена, кабинет. Рядом с моделью стояла большая, сделанная в ателье фотография семьи Шугермена. Он представил своих домочадцев торговому агенту, который уже весь извелся:
— Это Мириам. Она в восторге от этого города. Живет здесь месяц с хвостиком, а уже перезнакомилась с половиной квартала. Это Рути, ее от рояля не оторвешь, и Сара, огонь-девица, и маленький Шелдон. У него, знаете, какая мечта? Стать хоккеистом! Как вам это нравится? Ни одной игры «Блэк хокс»[42] не пропускает. Помешан на хоккее! В общем… Город нам очень нравится. Такая чистота. Ведь вы здесь имеете возможность учиться на наших ошибках… Какие возможности? В Канаде ого-го какие возможности! Такая страна — только развивайся! Колоссальные перспективы! Кстати о перспективах… ваши, Фред, как я понимаю, выглядят весьма радужно.
Лэндон настороженно хмыкнул.
— По словам Эрла, вы вдвоем подыскали себе какое-то шикарное место.
Лэндон стиснул зубы, рука потянулась к челюсти. На секунду он закрыл глаза и прислушался к молоточку, стучавшему в виске. Ничего больше в черепной коробке не было — пустота. Под веками все раскалилось добела, полыхало солнечным заревом.
— Да как… вы же знаете Эрла… еще ничего не решено.
— Правда? — Шугермен как будто искренне удивился, над бровями вспыхнули морщинки. — Ну, это странно — послушать Эрла, можно было подумать, что дело в шляпе. Откровенно говоря, мы ждали, что вы заглянете и сами скажете нам об этом.
Он снова подскочил в кресле и, ловко чиркнув спичкой — по-деревенски, с помощью ногтя большого пальца, — закурил тонкую сигару. Из-за волосатых суставов потянулся серый дымок.
— Хочу отучиться от сигарет. — Он улыбнулся. — Закурите?
— Нет. Спасибо.
Шугермен откинулся в кресле, скрылся за клубом дыма.
— Вот что, Фред… Мы в «Девелко» понимаем, что такое «чувство солидарности». Понимаем и восхищаемся им, черт возьми. Теперь это большая редкость. В общем-то…
— Да я еще ничего не решил, ни да, ни нет, — сказал Лэндон и затаил дыхание.
— Не решили? — переспросил Шугермен, и в движениях его вдруг появилась суетливость. Вытащив из нагрудного кармана счетную линейку, он стал постукивать ею себя по щеке. — А мы подумали, — продолжал он, — то есть мы поняли со слов Эрла, что все уже обговорено. И вы уходите вместе с ним. Собственно, он так прямо этого не говорил, но это как бы подразумевалось. Мы просто сделали выводы… — Линейка на мгновенье остановилась у крыла его носа. Сквозь дым он оценивающе смотрел на Лэндона. — И соответственно спланировали.
— Спланировали? Что спланировали? — спросил Лэндон и наклонился вперед, чтобы лучше слышать.
— Да, вот так. Видите ли, мы собираемся перестроить нашу систему торговли сверху донизу. Введем рекламу, усилим стимулирование. Чтобы все, так сказать, находилось под одной крышей. Повысим изучение спроса. Кое-какие элементы обслуживания заказчиков будут автоматизированы, появятся новые стимулирующие факторы…
Он откинулся назад и, подняв глаза к потолку, продолжал говорить сквозь дымовую завесу. Лэндон его почти не слушал. Голос Шугермена звучал вяло и монотонно — так говорит человек, который вызубрил наизусть документ фирмы. Словно работал магнитофон. Лэндон сидел и внимал (когда он кому-нибудь не внимал?), и тут до него дошло. Дубина! Кретин! Ослиная башка! И это для него еще слишком мягко. Новое начальство хотело от него избавиться, и он сам принес им свою голову. Что же теперь — умолять, чтобы его оставили? После одиннадцати лет унижаться — не увольняйте меня, очень вас прошу! Да они уже все решили. У Крэмнера, этого сукина сына, есть хотя бы одно достоинство: он ни перед кем не пресмыкается. Готов надерзить любому, как сошедший на берег моряк. А Лэндон привык канючить с протянутой рукой. Он едва слышал собственный голос, лишь смутно сознавая, что перебивает Шугермена.
— Насчет всего этого я не знаю. То, что вы рассказали, меня мало привлекает. И вообще, — он подбирал нужные слова, — честно говоря, мне в последнее время не очень нравилась атмосфера в нашем заведении. Не вижу нужды это от вас скрывать. Категорически не нравилась. — Он шумно прокашлялся. — Но я тоже не тратил времени даром. И у меня кое-что на мази… лично у меня… — Что за околесицу он несет? Что у него на мази? И при чем тут это затасканное крэмнеровское выражение? — Шугермен закрыл лицо руками, ладонями к подчиненному — уж не хочет ли он спрятать улыбку? Похоже, он что-то мурлыкал сквозь табачный дым.
— Может, я и пойду с Эрлом, — громко заявил Лэндон, — а может, и нет. — Шугермен теперь энергично отталкивал ладонями воздух. — В чем, собственно, дело? — резко спросил Лэндон.
— Вы кричите, Фред, — объяснил Шугермен. — Это совсем не обязательно.
— Значит, кричу, — сказал Лэндон. Лицо его горело, он впал в какое-то оцепенение. — Н-да… извините, черт бы его подрал… — Он смолк и прижал пальцы к щекам. Две пышущие жаром грелки. Надо думать о здоровье. Этим спектаклем я гроблю свое здоровье.
В дверь просунулась секретарша Шугермена.
— Что-то случилось, мистер Шугермен?
Шугермен помахал дымящимся огрызком — сигарой.
— Нет, нет… все нормально, Кэрол.
Обняв Лэндона за плечи, Шугермен добрым дядюшкой провел его к двери.
— Вот что я вам скажу, Фред. Мы не хотим, чтобы кто-то уходил из «Девелко», держа на нас зло. — Он засмеялся. — Проявлять враждебность к кому бы то ни было — к мужчине, женщине, ребенку — это не наша политика. В конечном счете она не окупается. — У двери он стиснул локоть Лэндона и тепло пожал ему руку. — Искренность и преданность, Фред. Эти два качества в магазине не купишь. «Девелко» желает вам всего наилучшего, я говорю это от всего сердца.
В туалете Лэндон какое-то время обмахивался бумажными полотенцами, потом выпил несколько чашек воды из-под крана. Он изучающе глядел на багровое лицо в зеркале, и это багровое лицо скалилось на него. Попал в силки, расставленные Крэмнером! Дал себя обвести вокруг пальца этой хладнокровной каналье Шугермену!
После обеда он позвонил Крэмнеру и сказал ему, что подал заявление об уходе.
— Дружище, извини меня, но тут ты дал маху. Нужно было как следует въесться им в печенки. Заставить этих прохиндеев тебя уволить. Я так и сделал — чтобы избавиться от меня, им пришлось раскошелиться. Им это удовольствие стоило моей полугодовой зарплаты.
Две недели Лэндон нерешительно проглядывал в газетах разделы «Требуются торговые агенты», потом снова позвонил Крэмнеру. Он старался, чтобы голос звучал бодро и оптимистично, однако при вопросе, не дозрело ли то, что было на мази, голос Лэндона как-то надломился. Крэмнер гоготнул и ответил: есть пара-тройка недурных предложений. Джек Харпер должен звонить ему в конце недели. Как Лэндону такая идея: сколотить собственную компанию, втроем? Он и Крэмнер продают заказы, а Харпер ведет всю бумажную работу. «Будем заниматься мелочёвкой, с китами нам конкурировать ни к чему. Может, со временем слегка расширим ассортимент, добавим кое-какую галантерею, детские игрушки, календари». Продавать товар можно прямо из багажника машины, как в давние времена. Никаких накладных расходов. Никаких хлопот. Эту идею родил он, и Харперу она пришлась по нраву. Они тут как-то обсуждали ее за бутылочкой, просидели почти до рассвета. Ну, как Лэндон насчет этого? «Знаешь, Фредди, у меня кое-какие деньжата отложены». Лэндон в этом не сомневался. Жена Крэмнера была состоятельной дамочкой, они жили в ее доме в Роуздейле… в общем, он недурно устроился. «Подумай об этом, дружище, созвонимся». Лэндон повесил трубку, немного воспрянув духом. Ему стало казаться, что, уйдя со старой работы, он, возможно, совершил самый мудрый поступок в жизни. Если разобраться, нужно было уходить оттуда пять лет назад! Почему бы не поиграть немного с жизнью, не отведать всего, что она предлагает? Ему вспомнились строчки Теннисона[43]:
и хотя Уж мы не те богатыри, что встарь Притягивали землю к небесам, Мы — это мы…[44]Старый добрый Теннисон! В годы стишков для поздравительных открыток Лэндон активно у него заимствовал. Что там, в конце концов у Джека Харпера котелок варит! Если немного повезет, они возьмут да и пробьются. Лэндон решил: попросят его — он вложит в дело часть своих денег. Давно у него не было такого хорошего настроения, и он пригласил поужинать Хэтти Уилсон. В дорогом греческом ресторане они ели приправленного специями барашка в виноградных листьях, и Лэндон пил рецину из мохнатой фляжки, к которой — кто знает? — возможно, прикасались губы какого-нибудь козопаса на горе Олимп. Хэтти предпочла бутылочное пиво: отдающее древесиной эгейское вино, мол, напоминает ей сосновую смолу — эту смолу ее в детстве, на отцовской ферме, заставляли жевать в медицинских целях.
Прошло еще две недели. Крэмнер не объявлялся, и Лэндон позвонил ему снова. Где-то в первой половине дня. Трубку взяла женщина, по голосу сонная и слегка под мухой. Она оказалась снохой Крэмнера, сейчас присматривает за домом. Она только что выиграла бракоразводный процесс у своего никчемного подонка-мужа, а с кем она, собственно, говорит? А Крэмнер с женой уехали во Флориду — на всю зиму. Н-да… Этого следовало ожидать. Лэндон никогда ему полностью не доверял. И все же, сидя в кресле с хромированными подлокотниками в этой жалкой комнатенке, он размышлял: почему же крэмнеры этого мира все время бьют его мордой об стол? В чем тут дело? В его широкой доверчивой натуре? Или же он путает простодушие с глупостью? Так или иначе, надувают его от нечего делать, он не приспособлен к борьбе за выживание, у него не те инстинкты. Он какое-то ископаемое, чудом уцелевший бронтозавр, который, подслеповато щурясь, на ощупь плетется по сверхскоростной трассе. Слезы жалости к себе не помогут, нужно внимательно смотреть за проходящим транспортом.
Мисс «Буффон» вернулась — с кофе и булочками. Поставив на стол полистироловый стаканчик с дымящимся варевом и большую обсыпанную сахаром сдобу, она пошла по отсекам. Минуту спустя дверь открылась, и появился крупный черноволосый мужчина в приталенном пальто. Он взглянул на Лэндона, шагнул к столу секретарши и проглядел утреннюю почту.
— Это вас прислало агентство по найму? — неприветливо бросил он, не поднимая головы.
— Меня, — ответил Лэндон, встревоженный подобным недружелюбием. Он плохо переносил грубость, а этот тип явно был грубияном. С первого взгляда ясно.
— Тогда пошли, — сказал тип и направился в глубь их заведения. Лэндон вскочил и быстро зашагал следом, по пути ему встретилась мисс «Буффон», которая, разнеся кофе, возвращалась на место. Лэндон протиснулся мимо нее, вдохнув запах корицы и холодного воздуха. Она игриво улыбнулась и, продолжая жевать резинку, хлестнула:
— Удачи, Фред.
— Спасибо.
Он прошел несколько отсеков без дверей — там мужчины потягивали кофе и говорили по телефону либо проглядывали разверстые на столах утренние газеты. В одном отсеке Лэндон заметил Синтетического — тот быстро шпарил по-итальянски и строил с помощью рук воздушный замок, разговаривая с супругами-эмигрантами: муж — приземистый и смуглый, в куртке-ветровке, жена — в черном платке и с каменным лицом. Вид у них был ошарашенный. Синтетический коршуном кружил вокруг своих жертв, готовясь ринуться на них. Что ж, работа есть работа. Caveat emptor[45].
Кабинет Смита был с дверью, на ее обратную сторону он повесил пальто. Когда Лэндон вошел, он забирался за маленький столик.
Оззи К. Смит был грузный человек, примерно ровесник Лэндона, лицо угрюмое, бледное, черные прямые волосы прилизаны, отдают лосьоном. Глядя на эту ухоженную голову, Лэндон вспомнил старые рекламные радиовирши. «С бриллиантином „Уайлдрут“ волосы ваши не пропадут». Острый, словно бритва, пробор белой полосой сбегал к одному из висков Смита. Из-под черных кустистых бровей Смит оглядел Лэндона. Выгнувшись над столом, он шарил рукой в ящике.
— Недвижимость когда-нибудь продавали?
Не дожидаясь приглашения, Лэндон сел.
— Боюсь, что нет.
Смит хмыкнул и с треском задвинул ящик, положил здоровенные ладони на стол и подался вперед, словно собираясь встать. Он явно что-то искал, глаза его метались по столу. Наконец он поднялся и подошел к серому картотечному шкафчику в углу. Роясь в карточках, он заговорил:
— Могу вам сказать: тип, которого Бутчер прислал мне в прошлый раз, оказался настоящим олухом. Ни черта не смыслит в недвижимости. Готовить такого — только время тратить, вот так. — Он вернулся с картотечным ящиком и тяжело опустился на стул — эдакий неуклюжий медведь за маленьким деревянным столом. — Есть люди… они умеют продавать. Что продавать? А что хочешь. Страховку… подержанные машины… торшеры… хоть черта в ступе. Но я вам вот что скажу. Они не могут двигать недвижимость. Недвижимость — это дело совсем особое. Чтобы человек пришел прямо с улицы и стал двигать недвижимость — такого не бывает. Не бывает, и все. Нужно пройти подготовку. И сдать очень суровый экзамен, ясно? Только тогда дадут лицензию. Это не что-нибудь, это — профессия! Но если ты человек толковый, если хочешь работать, можно делать неплохие деньги. У меня тут двое-трое парней зашибают по двадцать с лишним тысяч в год. Без проблем. Но вкалывают будь здоров! Вечерами, по выходным, в праздники. Другие что? Играют в гольф. Торчат перед телеящиком. Укладывают своих телок. А эти парни двигают недвижимость. Только так и можно чего-то добиться.
Он чуть подвинулся в кресле.
— Видели тут одного парня? — спросил Смит. — Высокий, брюнет, красавчик? Франтоватый такой? — Лэндон кивнул. — Джино Бьянка. В нашем деле — один из лучших. Между прочим, итальянец! Итальянский для него — родной, и в основном работа с меньшинствами выпадает на его долю. Ведь мы же находимся в итальянском квартале! Кстати, иностранные языки вы знаете?
— Немного французский, — сообщил Лэндон.
Смит цокнул языком, слегка поморщился.
— Это нам особенно ни к чему. Здесь больше двух французов в год не бывает. Переведут кого-нибудь из Монреаля, да и то это обычно англичанин. Его компания перебирается, пока лягушатники их там не слопали… — Минуту он внимательно смотрел на Лэндона. — Сказать по правде, я ждал кого-нибудь помоложе. Но… поймите меня правильно. В нашем деле люди постарше тоже могут делать большие деньги. Иногда клиенты хотят иметь дело с человеком, у которого за плечами богатый опыт — с виду по крайней мере. Есть агенты, которым шестьдесят, и они прекрасно живут с комиссионных… Чем вы занимались раньше?
— Канцтоварами. Одиннадцать лет.
Две отрывистые, осточертевшие фразы. Лэндон знал, что отвечает резковато, но ему было все равно. Он еще не разобрался, хочет ли он продавать дома для этого лощеного пустомели. И все-таки это была работа. А привыкнуть можно ко всему.
— И… что же? — спросил Смит. — Бутчер сказал по телефону, что вы были заместителем заведующего отделом сбыта. Одиннадцать лет на одном месте — срок немалый…
Хоть раз лживый язык Бутчера сослужил ему добрую службу. Смит знал лишь то, что Бутчер сказал ему по телефону. Наверное, его слова лощеного впечатлили. Что же, врать — единственный способ открыть двери? А если ему тоже немного «покрутить дверную ручку»?
— Видите ли… Пришло новое начальство. Американцы… Мы разошлись в вопросах политики фирмы. Принципиальные разногласия насчет того, как подавать продукцию на рынок и как управлять компанией. Мой шеф и я подали заявление об уходе. — Звучало достоверно. — В общем-то, мы хотели открыть свое дело. Собрали деньги, уже выбрали место для конторы. И тут… — Лэндон пожал плечами. — Шефа свалил коронаротромбоз. Постельный режим на месяцы. Он сейчас поправляется во Флориде, но врачи строго-настрого запретили ему работать. Ну вот… я и решил. Почему не попробовать что-то другое? Для разнообразия? Всю жизнь делаешь одно и то же, застаиваешься…
От такой тирады его слегка бросило в пот, но Смит кивнул головой.
— Это точно. Тут я с вами согласен. Возьмите меня! Чего я только не толкал — обувь, машины, да бог знает что еще, — прежде чем добрался до недвижимости. Учиться никогда не поздно, было бы желание, верно?
— Точно. Я всегда это говорю.
— Прекрасно! Мы с вами сделаем вот что. Вы Фред, да? Прекрасно, Фред. Мне нравится, как вы смотрите на вещи. Чувствую, вы человек дела, с головой на плечах. Так вот, тут у меня есть желающие купить дом около аэропорта. Никак мы его не можем спихнуть. Людям не нравится шум двигателей! Ну, знаете ли… Так не бывает, чтобы и то, и другое, и третье. А некоторые живут вдоль автострад. Какого же черта? Привыкнуть можно ко всему. Лучше смотреть на плюсы. А цена за этот дом — низкая. По нынешним временам, можно сказать, бросовая. Вот и нашлись заинтересованные клиенты. — Он выудил из кармана пиджака визитную карточку и поднес ее к глазам. — Некто Лайонел Фаркерсон. Сегодня у него выходной, и мы с ним договорились встретиться возле этого дома в одиннадцать. Давайте съездим вместе. Поглядите своими глазами, что и как… Я представлю вас как моего коллегу. Но говорить буду я, понятно?
Лэндон снова кивнул. Что же, его взяли? И ему снова начнет капать зарплата? Смит запихнул какие-то бумаги в «дипломат» и вышел из-за стола, с крючка на двери сдернул пальто.
— Давайте подвигаем недвижимость, Фред.
В комнате секретарши Смит махнул мисс «Буффон» и, выходя, сказал двери:
— Джекки, мы едем в дом возле аэропорта. Буду после обеда.
— Хорошо, Оз.
Мисс «Буффон» подняла голову от бумаг и лихо подмигнула Лэндону. На улице Лэндон, щурясь от яростного солнца, зашагал в ногу с торговцем недвижимостью. Смит уже надел темные очки в массивной крапчатой оправе. Вместе они подошли к приземистой пулеобразной машине цвета адова костра. Лэндон уселся на черное кожаное сиденье-ковш и, чувствуя себя автогонщиком, пристегнул у бедра ремень безопасности. Смит вел машину раскованно, не пристегнувшись, по-таксистски чуть навалившись на дверцу. За рулем — ни слова. Его наземная ракета быстро лавировала в позднем утреннем потоке. Он явно гордился своей стрекозой, и Лэндон это понял.
— Отличная машинка.
— Спасибо.
Смит потянулся к панели приборов и нажал какую-то кнопку. В машину со всех сторон хлынула скрипичная музыка, волна звуков окатила их настоящим прибоем. Наклонившись вперед, Смит покрутил какие-то ручки.
— Эти стереокассеты — блеск! Самая лучшая музыка, на любой вкус — пожалуйста! Мантовани… Костеланец[46]… радио уже вообще включить нельзя. Работает только на этих чертовых деток. А дома? Меня дочка своим рок-н-роллом до бешенства доводит — не музыка, а блевотина.
Интересно, не глуховат ли он, этот Смит? Барабанные перепонки Лэндона опасно вибрировали, боль пальцами ощупывала мозг.
Они мчались к северу по Даффрин-стрит — Смит, навалившись на дверцу, грезил в мире шелестящих скрипок, а Лэндон помертвевшим взором глядел через темное стекло на окрашенный морской зеленью мир торговых центров и автомобильных кладбищ. У автострады Макдональда Картье они, скатившись по кругу, влились в поток, который несся на запад, под колесами стлалась серая бетонка. Смит вывел машину в левый ряд, и Лэндон с опаской смотрел вперед — стрелка спидометра подбиралась к цифре девяносто. Он расслабился, лишь когда Смит вырулил вправо и съехал с трассы, поднялся по дуге и пересек улицу бензоколонок и больших магазинов. Вскоре они забрались в глубокое предместье, мимо проскакивали домики типа ранчо и низкие приплюснутые школы, окна классов были разукрашены картонными кроликами и пасхальными яичками. Они приближались к аэропорту, и над их головами пронесся самолет, готовясь к посадке, он уж выбросил из брюха шасси. С западной стороны в воздух поднялся еще один, оставив за собой облако густого и темного дыма. Но Лэндон, утонувший и морской зелени и оглушенный тонюсенькими скрипками Мантовани, едва услышал его пронзительный рев. Скоро на одной из таких больших птиц вернется Вера! Захочет ли она встретиться с ним? А он с ней? Если он хочет поговорить с Джинни, встречи с Верой не избежать. А поговорить со своей несмышленой дочерью надо. Все-таки, как говорится, своя плоть и кровь. Последние годы он виделся с ней редко. Она выросла без него, и иногда ему казалось, что он ее совсем не знает. Возможно, ей опостылела Верина властность, и она решила взбунтоваться. Но бунтарь из нее никудышный. Уж это-то он знает наверняка. Да она как пить дать на что-нибудь нарвется. Если кто-то из этих двух ковбоев с ней спит — не миновать беды. Забудет в какой-нибудь понедельник или вторник принять свою таблетку — и подзалетит, а дальше — аборт или еще бог знает что. Лучше об этом не думать, чего доброго, с ума сойдешь.
Смит остановил машину у тротуара возле новой церкви — шестиугольного строения из темно-красного дерева и стекла. На крыше священным копьем устремлялся в небо изящный и длинный крест. Смит выключил двигатель и Мантовани. Казалось, он слегка взвинчен.
— Ладно, Фред, теперь слушайте… Наш дом за углом, и я скажу вам все как есть… Товар-то с гнильцой. Все из-за шума самолетов. Он продается уже черт знает сколько, и его владелец без конца бомбит нашу главную контору. Грозится найти другого посредника. Значит, надо этот дом двигать, так? — Он смотрел прямо перед собой сквозь зеленую кривизну лобового стекла, руки крепко стиснули руль. — Если разобраться, не так уж он плох… Очень даже неплох. Из отличных материалов. Выстроен всего как десять лет. Износ нормальный. Район вполне приличный. Церкви… школы… магазины… да и цена сносная — от тридцати пяти до сорока. Дешевых домов здесь нет… Вы взгляните на эту улицу! Жители как жители, нормальные люди. И они вовсе не отбрасывают копыта из-за этих паскудных самолетов. Всем приходится мириться с мелкими неудобствами… Взять меня… Я живу около автострады. Возле Кеннеди-роуд. И что? Паскудные грузовики. Грохочут всю ночь. Да сегодня это часть жизни, верно? Времена лошадей с телегами прошли.
— Верно, — сказал Лэндон, глядя в окно. Ему было жаль Оззи К. Смита. Это он специально себя заводит. Как боксер перед боем. Лэндон и сам так себя чувствовал в универмагах, стоя перед кабинетом будущего покупателя. Настраивался на работу. Готовился убеждать, соблазнять, заманивать, умасливать, врать, если потребуется. Он слушал и кивал головой в ответ на рассуждения Смита о неудобствах городской жизни. На широкой церковной лужайке виднелись признаки новой жизни. Среди пожухлой и плешивой травы и грязно тающего снега пробивались зеленые заплатки. На клумбе перед ступенями цвел фиолетовый крокус. Жизнь пробуждается. Природа застыла в ожидании, солнечные лучи льет животворный свет. От этой картины на душе потеплело. Над ними с жутким посвистом пронесся еще один самолет, на сей раз так низко, что Лэндон без труда разобрал надпись на фюзеляже. «Эр Кэнэда». Может быть, он летит из Парижа, где сейчас цветут липы, — так подумал поэт-открыточник, знакомый с этим городом-легендой только по книгам и фильмам. Когда самолет пролетал над машиной, стекла ее задрожали, задребезжали кнопки на панели приборов.
— Вот паскудины, — проговорил Смит, глядя вслед исчезающему гиганту. — Я назначил встречу на одиннадцать, потому что мне сказали — следующие полчаса здесь относительно тихо. Я специально узнавал. Звонил приятелю в аэропорт. Он работает в диспетчерской, вон там, и должен такие вещи знать. Вот я и спросил его мнение. В порядке услуги. Мне, говорю, не нужны никакие государственные тайны, просто я хочу знать, в какое время дня здесь более или менее тихо. Он, поганец, давай надо мной смеяться. Тихо, спрашивает? В дневное время? Да ты что, Оззи! Совсем сбрендил? Лучше покажи своему клиенту этот паскудный дом в два часа ночи. Очень остроумно! В общем, он сказал, что сейчас — самое спокойное время. Но пятница — плохой день. Я предложил воскресное утро, да этот Фаркерсон, видно, религиозный тип. Никогда, мол, церковь не пропускает. Небось католик.
Он быстро хлопнул себя по карманам пальто, попутно заехав локтем Лэндону под ребра.
— Куда я сунул этот паскудный список местных церквей? В «дипломат», что ли? — Он легонько стукнул кулаком по рулю. — Ладно, Фред. Слушайте меня. Сделаем вот что. Я представлю вас как моего коллегу! Скажу, что вы представитель нашей главной конторы. По связям с клиентами или какая-нибудь хреновина в этом роде. Только помалкивайте. Кивайте головой, осматривайте все с умным видом… в общем, стройте из себя профессора, который знает, что к чему в этой жизни. — Он мельком глянул на часы. — Это для меня важно, понимаете, Фред?
— Конечно, — подтвердил Лэндон, почему-то чувствуя себя преступником. Будто они замышляют налет или ограбление банка. В темных очках и за рулем машины-ракеты Смит вполне тянул на гангстера.
— Ну и порядок, — сказал Смит. — Знаете, Фред, вы парень что надо. Думаю, мы с вами сработаемся. А то Бутчер мне все время каких-то недоделков подсовывает. Вы человек зрелый, это видно. Спокойный и серьезный. Не из тех, что напирают. А молодежь возьмите! Джино, к примеру! Только и делают, что напирают… напирают… — Он забарабанил по рулю чуть сильнее. — Как вцепятся, так и не выпустят… А люди нашего возраста… Мы знаем, когда напирать не надо. Это знание приводит, только со временем. Понимаете, о чем я?
— Конечно.
— Нужно быть джентльменом, вот я о чем. А сегодня это, знаете ли, проблема. Все испаскудились, какие тут джентльмены.
Он смотрел в окно, продолжая постукивать кулаком по рулю. Да, у бедняги свои проблемы. Лежит ночью без сна, прислушивается к грузовикам, а у самого неспокойно на душе из-за работы. Возможно, его дрючит начальство. А снизу поджимает Синтетический, прет как танк и хорошо продает, собака. В широком окне через дорогу появилась женщина, стала поправлять занавески. Смотрит на них. Если они так и будут сидеть, возьмет и вызовет полицию. В глазах этих Hausfraus[47] они наверняка подозрительные личности. Смит, видно, подумал то же самое — ткнул напоследок шишковатый черный руль, как бы ставя завершающую точку.
— Ладно. Будем двигать недвижимость. — Он крутанул ключ зажигания и запустил двигатель своей ракеты. — Я сдвину этот паскудный дом, чего бы мне это ни стоило.
Лэндон сделал вид, что не слышит, — кашлянув в кулак, он смотрел в окно со своей стороны.
Они повернули за угол и оказались в тупиковой улочке. Сделав пистолет из большого и указательного пальцев, Смит показал:
— Вон он, впереди. Последний в квартале.
Двухэтажный дом был обшит белыми досками, по фасаду шло широкое окно, сбоку притулился навес для машины. Среди ранчеобразных домов с низкими крышами он выглядел как-то несуразно. Что это — прихоть строителя, вызов с целью нарушить монотонность пригородного пейзажа? Идея, достойная похвалы, но вид у дома был, однако же, недостроенный, будто строитель на полдороге утомился от воплощения собственного замысла и поднял в беспомощности руки — пусть остается как есть. Но жалкая индивидуальность дома — это еще полбеды, а вот запустение… Хозяева либо давно потеряли интерес к своему жилищу, либо это неряхи, каких свет не видывал. Краска обшивки вовсю шелушилась, а под навесом, который хорошо просматривался с улицы, была безнадежная свалка — игрушки, велосипеды, ящики с мусором, старые коробки. У стены дома ютились, хоккейные ворота, сетка — сплошь зияющие дыры. Лужайка вытоптана, как школьный двор, вдоль дорожки к дому с обеих сторон отчаянно сражались за жизнь тощие, дышащие на ладан две яблоньки-кислицы; привязанные тряпками к деревянным колышкам, они томились за круглым железным заборчиком. Смит остановил машину у наклонной подъездной дорожки и положил ладони на бедра. Какое-то время он сосредоточенно подпитывал кровь в организме, глубоко всасывая кислород, со свистом выпуская воздух сквозь жесткие волосинки в ноздрях. Стрелки часов подбирались к одиннадцати, но будущим покупателем и не пахло. Выйдя из машины, Смит чуть не споткнулся об оранжевый игрушечный трактор из пластмассы. Он что-то буркнул себе под нос, поднял с земли игрушку и понес ее к навесу — усталый, вернувшийся с работы отец. Положив ее в кучу, он вернулся к Лэндону.
— Мать честная! Неужели это так трудно? Казалось бы, ясное дело — надо немного прибраться, верно? Ведь они же… хотят продать это паскудство! Вы только гляньте! Натуральный свинарник. А внутри что делается… Хозяйка вроде ничего, но бог ты мой…
По выцветшей, пожухлой траве они прошли мимо объявления «Продается», ступили на дорожку и через несколько шагов остановились на ступеньках у обитой жестью двери, на которой под стеклом извивалась буква Х. Смит уже сдернул с носа очки, и в глазах его тлело недоброе пламя.
— В главной конторе хотят, чтобы я продал для них этот товар. Посмотрели бы сами, с чем приходится иметь дело. Они-то небось думают, что это паскудство — какой-нибудь Тадж-Махал. Держи карман шире… Будто мало мне одних самолетов! Так я еще должен уговаривать клиента, что, мол, о благоустроенном участке и речи не было. А внутри! Не удивлюсь, если там надо проводить дезинфекцию… Запашок стоит еще тот. Это вы унюхаете первым делом… Не знаю, чем у них пахнет… Может, пеленками… О, господи… — Пухлым указательным пальцем он ткнул звонок, а Лэндон переминался с ноги на ногу, все время смущенный оттого, что будущий начальник пребывает в состоянии гнева и паники. Вы от этих псов тоже наплачетесь, можете мне поверить, — пробурчал Смит; к лицу его прилила кровь, и оно потемнело. Когда открылась дверь, он ухитрился выдавить слабую улыбку. На пороге стояла хозяйка дома, измочаленного вида женщина лет под сорок, в брючках бирюзового цвета и легкой трикотажной футболке с Чарли Брауном[48] на груди. Смит прокашлялся. — Доброе утро, миссис Хармон. Оззи Смит из конторы по торговле недвижимостью. Я вам звонил. Сказал, что мы заглянем к вам с покупателем.
Женщина с тревогой взглянула на Лэндона, но обитую жестью дверь медленно открыла.
— Какой кошмар, мистер Смит, ради бога извините. Я не могла вспомнить, на одиннадцать мы договорились или на двенадцать. А Хэрри — в командировке. Боюсь, в доме не очень прибрано. Просто не знаю, на что уходит день. Детей-то четверо. Пока троих выпроводишь в школу…
— Да… Ничего… Не беспокойтесь об этом…
Они вошли в прихожую, переступая через резиновые сапожки и галоши. Где-то в глубине дома надрывался телевизор. «Я мечтаю о Джинн»[49]. Женщина опасливо поглядывала на Лэндона, она стояла, обхватив себя поперек груди, и голова Снупи[50] на футболке почти совсем спряталась под ее руками.
— Какой кошмар… Только поглядеть на меня! Напялила детскую майку. Застали вы меня врасплох… Пожалуй, надо переодеться. Я минутку…
— Все нормально, миссис Хармон. Не беспокойтесь, — сказал Смит, касаясь руки Лэндона. — Это, кстати, мастер Лэндон. Он из нашей главной конторы, приехал нам помочь. Вы должны получить полную стоимость — главная контора в этом заинтересована.
— А-а… — Женщина засмеялась, прикрыв рот рукой… — А-а… Я-то поняла, что этот человек заинтересован в покупке дома… раз так… — У нее словно гора с плеч свалилась. — Входите, пожалуйста. И извините за беспорядок…
Они вошли за ней в гостиную, там перед телевизором, скрестив ноги в кедах, сидела девчонка. Джинн куражилась над своим мужем — во время званого ужина со стола вдруг начали исчезать тарелки, ножи и вилки. По ушам били взрывы фонограммного смеха. Женщина присела на корточки рядом с дочерью, ее футболка скакнула наверх, чуть обнажив белую узкую спину.
— Шери-Ли, милая. Эти хорошие дяди пришли продать наш дом, так что телевизор придется выключить, а то мы не услышим друг друга. — Девочка словно была в состоянии транса, она не пошевелилась и смотрела прямо перед собой: Джинн как раз спряталась в кувшин. Женщина посмотрела на Лэндона. — Приходится включать на полную мощь. Из-за самолетов, что поделаешь. — Она снова взглянула на девочку. — Ладно, милая, мамочке придется выключить Джинн.
Она поднялась и сделала три шага к телевизору, но тут девочка вдруг ожила и закричала:
— Нет, мамочка… не выключай, не выключай…
Она принялась стучать по полу маленькими кулачками. Мать улыбнулась и беспомощно посмотрела на мужчин.
— Ну давай по крайней мере потише сделаем. Может, пойдем в кухню? — обратилась она к Смиту, но тот отошел к большому окну с грязными подтеками и сейчас смотрел на улицу.
— Они здесь, — объявил он. — Приехали.
— Какой кошмар! — воскликнула миссис Хармон и выбежала из комнаты, Лэндон глянул в окно — из зеленой малолитражки вылезал длинный и тощий человек, распрямляясь, как лепестки в пору цветения. Жена его была из более густого теста — рыхлотелая матрона в клетчатом пальто, она выбиралась через другую дверь, уперев обе ноги в мостовую и с трудом выпихивая свое тело наружу. Ноги ее — два коротких столбика, — как видно, были поражены флебитом или варикозным расширением вен; обутые в коричневые туфли без каблука, они передвигались с болезненной медлительностью. Супругам было лет под пятьдесят. Вдруг большое окно на фасаде начало зловеще дребезжать, и над домом пронесся очередной самолет — картины на стене зашевелились, на телевизоре заплясал маленький стеклянный олень.
— Ну чтоб тебя… — сказал Смит и хлопнул по бедру «дипломатом».
— Нельзя говорить плохие слова, — заметила маленькая Шери, не отрывая взгляда от Джинн. Стоявшие на мостовой Фаркерсоны провожали глазами уплывавший в голубизну самолет. Фаркерсон по-журавлиному вытянул длинную шею. Они медленно зашагали к дому, он — чуть сзади жены, сцепив руки за спиной, на его вытянутом, застывшем лице не было и тени удивления и любопытства: ничто в этом мире не ново. Впереди тяжеловесной уткой ковыляла жена, она чуть хмурилась, оглядывая окрестности, из рукава ее пальто свисала большая кожаная сумка.
— Честно говоря, — сказал Смит, почесывая набриолиненную голову возле пробора, — я ожидал кого-нибудь помоложе. С этой парочкой как бы не пришлось туго…
Они вышли в прихожую, а там уже, как по волшебству, как джинн из бутылки, возникла миссис Хармон. Она успела надеть ситцевое платье, прошлась щеткой по редким и ломким волосам. На звонок откликнулся Смит, открыл дверь, как глава семьи. Фаркерсоны вошли в прихожую, и миссис Фаркерсон сразу же замигала и стала принюхиваться — запах был какой-то застойный и прогорклый. Смрадный! Может, за печкой долгие годы валяется жирный кусок окорока? Или такой зловонный душок исходит от самих Хармонов, так пахнут присущие только им миазмы, выделяемые их порами в мир, которому до всего есть дело? Лэндон уловил этот запашок, стоя рядом с девчонкой. Миссис Хармон успела оросить себя духами и теперь благоухала, как сирень в мае. Смит всех представил друг другу, и миссис Хармон, сразу же извинившись, поспешила в гостиную, к дочери. Телевизор осекся, но его сменил громкий вой, а потом и звонкий шлепок. Лэндон мельком увидел, как горемычная мать тащит в кухню визжащую дочь. Хлопнула дверь. Смит потер руки, словно конферансье перед началом представления.
— Итак, друзья… Приступим? Я хотел бы привлечь ваше внимание к некоторым особенностям этого жилища.
Они начали осмотр в загроможденном донельзя подвале, где пахло отсыревшим картоном. Смит помогал миссис Фаркерсон спускаться по ступенькам, за этим громоздким сосудом, наполненным тягучими жидкостями, следовал Лэндон. Мистер Фаркерсон тихонько предупреждал жену — смотри не оступись. В этом долговязом человеке Лэндон признал родственную душу: такой не жаждет боя, со всем соглашается, для него сказать «нет» — нож острый. А жена между тем была орешком покрепче. Она без труда сдерживала натиск Смита, почти никак не реагируя на его треп, двигалась по большой безрадостной комнате с критическим выражением на лице. Когда она показала на большую щель, бегущую вдоль стены — от мороза треснул бетон, — Смит закусил губу и выглядел не ахти. Фаркерсон же был не из тех, кто причиняет другим боль. Эту щель, заметил он, пожалуй, можно залатать, если подойти к делу с умом и засучить рукава. Он тянул слова на манер фермера из прерий, робко предлагая свои услуги. Он с удовольствием занимается по хозяйству вечерами. Впервые за утро в глазах О. К. Смита забрезжила надежда.
Поднявшись из подвала, они занялись осмотром комнат: потолки, стены, стенные шкафы, кладовки. В кухне миссис Фаркерсон, завидев гору грязной посуды в раковине, повела бровью. Она была покупательница, и Смит — вполне понятно — не мог не мельтешить перед ней. Они шли рядом, и Смит разглагольствовал, чуть потея и промокая тыльную часть шеи белым платком. Лэндон и Фаркерсон шли следом, лишь изредка обмениваясь фразами. Пусть сделку заключают деловые люди. А Лэндон с Фаркерсоном… переговоры — не их конек.
Наверху, в спальне Шери-Ли, обнаружились интересные образчики настенной живописи: цветные пляшущие человечки и большие шарообразные фигуры. Тут что-то можно будет придумать, заверил Смит. В «Хартстоун» подумают: эти комнаты либо перекрасят, либо скостят пару сотен. Как ни крути, подумал Лэндон, следуя за Фаркерсоном в хозяйскую спальню, а комиссионные Смиту урежут, это его, наверное, и печалит. Но делал он все, что мог, палил из всех пушек бортовой артиллерии. Однако его противник, этот прочный и тяжеловесный корабль, знай себе покачивался на волнах, уклоняясь от снарядов. И оставался на плаву непотопляемым дредноутом. Пожалуй, у Лэндона с Фаркерсоном дела шли лучше. Они смотрели в окно, выходившее на обглоданную лужайку перед домом — там была одна Шери-Ли, она стояла в тени у края навеса, бессмысленно пинала ногой комок ссохшейся грязи и сопела. А где же ее мать, эта охваченная смятением женщина? Возможно, забилась в платяной шкаф и теперь задыхается в благовониях сирени. После минутной тишины Фаркерсон заметил, что трава как будто уже свое отжила. Да, в этом доме есть над чем поработать. Но цена по торонтовским стандартам чертовски привлекательная, и до его работы отсюда рукой подать. До нового завода — всего пара миль. Вверх по шоссе. Раньше он работал механиком в Саскатуне, провинция Саскачеван, а недавно его компания перебралась в Торонто. Крупной тяжелой ручищей он провел по подбородку, ясные карие глаза изучали залитую солнцем улицу.
— Но жизнь здесь кипит, верно?.. С Саскатуном-то никак не сравнить…
Лэндон согласился, в глубине души сочувствуя этому человеку. Эдакий робкий и тихий флегматик. Из тех, над которыми подшучивают на вечеринках. Встанет такой со стула и видит — только слишком поздно, — что сидел на кучке резинового дерьма! А когда тебя в середине жизни выдергивают с насиженного места, радости мало. Хорошее дело — тащись через полконтинента и обживайся среди бешеного грохота автострад и многоэтажных новостроек! А там у него, наверное, был солидный домик из кирпича, где-нибудь на тихой зеленой улочке. Друзья, с которыми прожил бок о бок всю жизнь. Ритуалы. Корни. Привычки. Но у него по крайней мере осталось ремесло, и Лэндон спросил его: неужели в Саскатуне не нашлось работы для механика? Они пошли в другую спальню, и Фаркерсон ответил:
— Дело в пенсии, мистер Лэндон. Я проработал на одном месте двадцать два года, а это кое-что значит. И профсоюз у нас — дай бог каждому. Как же я все это брошу? Надо быть круглым идиотом. Сразу терять столько льгот! Но мне так или иначе осталось десять лет, а там — будь здоров, не кашляй. У нас людей выпроваживают в пятьдесят пять.
— Правда? — спросил Лэндон. Значит, и ему осталось всего тринадцать лет?
— Наверное, тогда мы вернемся назад, — сказал Фаркерсон. — Поначалу мы с женой думали поселиться в квартире. Но черт бы побрал все на свете, я люблю работать руками, что-то мастерить. Не представляю, как бы я мог жить в такой белой здоровенной коробке из-под сахара. Это же никаких нервов не хватит. Бывало, едешь мимо таких домов и думаешь. Думаешь: ну что человек там может делать? По вечерам. Смотрит, наверное, телевизор или радио слушает. Не знаю…
Он задумался и умолк. Лэндону нравился этот добродушный фитиль, в нем была какая-то прочность на разрыв, и это восхищало. Он спокойно принимал все, что ему посылала судьба. Трудился не покладая рук. Но он был шляпой. Наверное, даже Лэндон смог бы продать ему эту навозную кучу. Да это, наверное, по плечу любому. Он был ягненком и знал, что его будут стричь, возможно, ожидал этого. Такому дашь авторучку, чтобы подписал себе приговор, так он в нее еще чернил подкачает. Смит обглодал бы его косточки, оставив остальное коршунам из ипотечной компании. Но в том-то и штука, что покупателем была жена Фаркерсона, и Смиту приходилось кисло. Снизу доносились их голоса. Когда Лэндон с Фаркерсоном выходили из комнаты, началась очередная интермедия с дрожанием стекол и оглушающим посвистом — это «Боинг-707» выжигал воздух над их головами. Механик, согнувшись у окна, следил за летящей махиной, которая по дуге ввинчивалась в небо, а темная струя выхлопных газов рассеивалась и опадала на землю, как радиоактивные осадки. Фаркерсон заговорил не спеша. В голосе его слышалось извинение.
— Цена хорошая, мистер Лэндон, что говорить, но мне не нравится, что эти громадины носятся так низко. Нет, сэр… не нравится, хоть убей.
Они шли по ступенькам, и Лэндон прикусил язык, чтобы не согласиться с Фаркерсоном вслух.
В прихожей Смит стоял с миссис Фаркерсон, та смотрела на них, по-совиному мигая.
— Ну, мама, что скажешь? — спросил Фаркерсон.
Его жена с трудом натягивала кожаные перчатки, она была поглощена этим занятием, но вопрос слышала.
— Мне не нравятся эти большие самолеты, Лайонел. Только что сказала об этом мистеру Смиту.
— И меня это смущает, — согласился Фаркерсон в восторге от того, что он с кем-то одного мнения. Он был рад, что осмотр окончен.
— Я как раз говорила мистеру Смиту, — сообщила миссис Фаркерсон, — что из-за этих самолетов я буду бояться спать. Я как-то читала об одном несчастном случае. Где-то в Штатах. В Калифорнии, что ли. Перед тем как рухнуть на землю, большой реактивный самолет снес крыши нескольких домов. Ужас! Кажется, много народу погибло. Четыре-пять лет назад это случилось. Ты ведь тоже читал об этом, Лайонел?
— Как будто да, читал, — подтвердил Фаркерсон, снова проводя тяжелой медлительной рукой по подбородку и искоса поглядывая на Смита, покрасневшего и угрюмого. Он проиграл, и Фаркерсону было жаль его. — Во многих отношениях мне дом нравится, мистер Смит. Тут просторно, а уж порядок я бы навел. Что-то где-то нужно подстучать, подмазать, но это не самое страшное. А вот эти проклятые самолеты… Н-да… Что ты с ними сделаешь? — Наступила тишина, Лэндон внимательно изучал свои мокасины. — Кстати, — продолжал Фаркерсон, — не знаю, читал ли кто из вас статью в газете. Месяца два-три назад, что-нибудь так. Мама, ты должна ее помнить. Мы с тобой еще здорово посмеялись. По-моему, где-то в Германии было дело. Не важно… в общем, один тип жил около большого аэропорта. Он художник или что-то в этом роде, так вот, шум этих двигателей его совсем доконал. И тогда… — Из костлявой и плоской груди Фаркерсона вырвался какой-то хрипящий звук. Видимо, Фаркерсон собирался захихикать. Надо же, ведь он рассказывает байку, чтобы подбодрить О. К. Смита! — …Так вот, этот художник… Он сварганил штуковину вроде арбалета. И начал стрелять по этим большим самолетам яблоками в тесте. Представляете? Яблоками в тесте! — Фаркерсон хохотнул и лязгнул вставными зубами. — Я понимаю, это акт протеста, но яблоки в тесте… Надо же додуматься до такого!
— Да, бывает, — устало произнес Смит. — Яблоки в тесте или яблочный пирог, но в радиусе пятьдесят миль от Торонто вы двухэтажный дом дешевле не купите. Это выгодная покупка, можете мне верить. Как-никак, торгую домами двадцать лет! — В голосе его слышалось легкое раздражение.
— Да мы вам верим, мистер Смит, — сказал Фаркерсон. — Конечно, это выгодная покупка. Я и сам сказал об этом мистеру Лэндону. И подлатать-подстучать все могу сам. Но эти реактивные самолеты! Их не подлатаешь…
— Что ж, Лайонел, я думаю, нам пора, — решительно сказала миссис Фаркерсон.
— Ты права, мама. — Фаркерсон протянул руку, и Лэндон пожал ее. — Приятно было с вами познакомиться, жаль, что сделка не состоялась. — Он потряс безжизненную руку Смита. — А этой маленькой женщине передайте: мы надеемся, что очень скоро она найдет покупателя.
Миссис Фаркерсон уже открыла дверь и шествовала по дорожке мимо хворых деревьев. Фаркерсон пошел за ней, один раз оглянулся и махнул рукой.
— Извините, что причинили вам столько хлопот.
Смит кивнул.
— Пустяки, старина, — буркнул он и закрыл дверь. Потом повернулся к Лэндону. — Да, Фред, паскудные самолеты вставили нам перо. Не громыхай они — вот паскуды! — я бы продал эту рухлядь. Что же, делать нечего.
— Можно включить телевизор?
Они как по команде обернулись: на них смотрела девчушка.
— Да. Валяй! — разрешил Смит, не глядя на нее. Он стал застегивать приталенное пальто, и тут из своего убежища появилась миссис Хармон, вид у нее был немного озадаченный, рука безнадежно приглаживала всклокоченные волосы.
— Ой, кошмар. Эти люди уже уехали, да? И что… Есть успехи?
Она засмеялась.
— Боюсь, что нет, миссис Хармон, — сказал Смит, наклоняясь за своим «дипломатом». — Но в другой раз обязательно будут. Если удастся притащить сюда покупателя в воскресенье утром.
— Ой, Хэрри расстроится. Он так на это рассчитывал. Нам надо найти новое жилье к концу месяца. И нужны деньги на первый взнос. — Она взглянула на Лэндона. — Компания Хэрри передвинулась к северу города. — Передвигаются все, кроме меня, подумал торговый агент. — Начальство хочет, чтобы он жил на территории, которую обслуживает.
— Н-да… У всех свои трудности, миссис Хармон, — сказал Смит. — Я, к примеру… не могу продать ваш дом.
— Этот дядя говорил неприличные слова, — мамочка, — заявила Шери-Ли, показывая Смиту в живот.
— Ладно, милая, ничего.
— Этот дядя сказал пас-ку-да.
— Ну хватит, Шери-Ли. Попридержи язык.
Смит хмуро посмотрел на девочку.
— Мы вам позвоним, миссис Хармон. Дадим знать, как дела. А сегодня эти самолеты вставили нам перо. Сюда бы молодых — они, может, и привыкнут к этому шуму.
— Да привыкаешь, конечно. Мы-то здесь уже шесть лет живем. Теперь его почти и не замечаем.
Она улыбнулась Лэндону.
— Что ж, до следующей встречи, — сказал Смит от двери. — Мы вам позвоним. — По жалкому зеленому ковру они подошли к машине. Над головой пророкотал еще один серебристый лайнер. Смит взглянул на небо, защитив глаза ладонью. — Твари. Ублюдки. — Они смотрели вверх, пока самолет не поглотила дымка над городом. — А который час? — спросил Смит, кидая на нос темные очки. — Давайте выпьем.
По улицам пригорода они ехали в полной тишине. Смит погрузился в тяжелое сумрачное молчание, сгорбившись над рулем, он думал горькую думу. Мантовани и тот не был призван на помощь, дабы изгнать дьяволов. За окнами проплывал окрашенный морской зеленью мир — сказочное подводное царство. Они двигались по нему, как капитан Немо в своей батисфере. У развязки на Даффрин-стрит они съехали с автострады и повернули к югу, к стоянке возле длинного серого здания из бетонных плит. Неоновая вывеска над входом хлипко помигивала в лучах солнца.
ГОСТИНИЦА КИНГ-КОНГ. МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ. ДАНСИНГ С ПОЛУГОЛЫМИ ТАНЦОВЩИЦАМИ. С ШЕСТИ.
Они вошли внутрь: над конторкой склонился молодой человек в рубашке с короткими рукавами и читал газету. Смит остановился возле настенного, в полный рост зеркала. Он достал из внутреннего кармана маленькую красную расческу и, чуть наклонившись, стал придавать своим жестким волосам необходимый вид. Они вряд ли нуждались в уходе, но Смит добивался желаемого эффекта, активно помогая расческе левой рукой. Наверно, юношеская привычка. На двери из матового стекла Лэндон прочитал надпись:
ЗАЛ ФЛАМИНГО.
Ниже среди тростника на длинных ногах стояла бледно-розовая птица. Это чахлое создание взмахом подбитого крыла приглашало зайти. Наведя порядок на своем лоснящемся кумполе, Смит открыл дверь, и мимо изможденной птицы они прошли в длинную голую комнату — ничего, кроме столов и стульев. Несмотря на обеденное время, зал пустовал, если не считать официанта в розовом пиджаке и бармена. Они стояли у длинной стойки бара и смотрели очередную многосерийку — по цветному телевизору, установленному над фалангой бутылок с крепкими напитками. Стены комнаты были размалеваны под какое-то болото или тропическую лагуну; изображенный мир, однако, получился каким-то диковинно-бесцветным — будто у него отняли солнце, но он все-таки выжил. Все выглядело блеклым, захиревшим. Старый крокодил, прикорнувший под серой корягой, не казался особенно грозным, под небом яично-белого цвета стояли десятки чахоточных птиц, жалких и нелепых. Интересно, подумал Лэндон, когда они уселись под парой скорбного вида водоплавающих, во что художник окунал свою кисть? В плазму? Официант повернул голову и зашагал к ним по цементному полу, похлопывая себя по бедру круглым подносом, как тамбурином; коротышка-весельчак со сморщенным забавным лицом.
— Добрый день, джентльмены. Что будем заказывать?
Смит заказал бутылку пива «Хант клаб» и порцию виски. Еще ему понадобилось три яйца вкрутую. Лэндон ограничился пивом. Они сидели молча, но вот вернулся официант и, негромко насвистывая сквозь зубы, поставил перед ними напитки и тарелку с яйцами. Смит опорожнил стакан с виски одним глотком и тут же как следует присосался к бутылке пива.
Он окликнул грудастого маленького официанта, когда тот уже прошел ползала.
— Эй, приятель, куда торопишься? Давай-ка повторим.
Официант оглянулся, пожал плечами и пошел к бару, подняв два пальца. Смит принял дозу так решительно, что стал пунцовым, он начал чистить яйцо, постукивая им по краю стола и бросая скорлупу в тарелку. Через минуту он сказал:
— Н-да… где-то куш… а где-то и кукиш! — Он посолил яйцо. — В главной конторе опупеют, когда узнают, что я не продал эти хоромы… Но что я мог сделать?
— А что вы, действительно, могли сделать? — вопросил Лэндон, вспоминая, какой линии придерживался он сам, когда не удавалось кого-то уговорить. — Если люди не хотят покупать, тут уж ничего не попишешь.
— Точно, — согласился Смит и нагнулся вперед — откусить верхушку яйца. — Абсолютно точно. — Он энергично заработал челюстями. — Только поди объясни это Лейвери. — Официант принес новый заказ и ушел, все так же посвистывая. — Возьмите яйцо, Фред, — предложил Смит. — Они вполне съедобные.
Лэндон взял, чтобы не казаться букой, хотя особой любви к крутым яйцам не испытывал. Впрочем, ему нравилось их чистить — он вдруг вспомнил, как давным-давно, летом, чистил их для матери, когда она готовила холодный ужин, иногда мурлыча себе под нос. «Мне все нипочем, пока ты со мной». Наверняка с ума сходила по Кларку Гейблу[51]. Смит живо разделался и со вторым стаканом виски.
— Я хочу, чтобы вы сразу зарубили себе на носу, Фред. Если влезете в этот бизнес, вам придется выслушивать много всякой чертовщины. Постарайтесь заранее к этому привыкнуть. И не только от людей, на которых вы работаете, — Джека Лейвери или меня. Кстати, Фред, на мой счет не обольщайтесь. Я вас буду гонять в хвост и в гриву, если не будете выдавать продукцию. Наслушаетесь чертовщины и от покупателей. В нашем деле каждый хочет не отдавать ни шиша, а урвать побольше. Всем подавай этот паскудный «дом моей мечты» за три с четвертью процента. Так дела не делаются. — Он отхлебнул пива. — Сколько я уже занимаюсь недвижимостью? Десять… одиннадцать лет. До этого — подержанные автомобили… швейные машины… такой товар… Сначала все шло хорошо. Сами знаете, первая половина шестидесятых — годы бума. Кругом полно кредитов, недвижимость нарасхват. Итальянцы как хапали! Будь здоров… Я продавал им целые улицы… Недвижимость для компании я подвигал на славу, можете поверить.
— Я верю.
— И правильно делаете. Пахал днями и ночами. Без выходных. Но и заколачивал, конечно… Два года назад меня сделали начальником этого отделения фирмы. Теперь подо мной девять человек… — Он разбил второе яйцо. — Но не знаю, не знаю… Руководящая работа — это не мое. Справляться-то я справляюсь. Поймите правильно. Но… теперь голова болит не только о своей квоте, но и о квотах еще девяти агентов — вот какая штука. Не стоит оно того… А Лейвери все время подгоняет… Все время подгоняет… Сейчас у меня в конторе завелся выскочка, он, видите ли, возомнил, что торгует лучше меня. Язык он знает, это факт. Тут у него преимущество. В моем возрасте учить эти паскудные языки — дело гиблое. Не пойду же я сейчас в школу? Ну, так какого хрена они от меня хотят? Мне сорок восемь лет.
В зал вошли два человека в комбинезонах, подтащили табуреты к длинной стойке бара, заказали пива и положили рядом с собой желтые каски, Смит поднял руку — пошли по третьему кругу!
— Сегодня пятница. Гори все огнем!
Вопреки желанию Лэндон взял еще одну бутылку пива. Он не отказался бы от бутерброда и стал искать глазами меню, но тщетно. Смит спросил, женат ли он.
— Да… То есть был женат, — пояснил Лэндон. — Сейчас в разводе. Уже лет десять…
— Без шуток? Так вы — на воле! А обратно в омут не хотелось?
— Нет… Я предпочел остаться на суше.
— Ха… Вот каналья… А дети есть?
— Есть. Один ребенок… дочь. Ей уже семнадцать.
— И она у бывшей половины, так?
— Так.
— Ясно. Это уж как водится. Детей всегда отдают женщине. У нее титьки, и судье это известно. У меня есть приятели, которые развелись. Если им удается повидать детей раз в неделю, в воскресенье, считай — повезло. О господи… да мое собственное чадо… старшая. Ей пятнадцать… Скажу вам правду, Фред, по-моему, она уже спит с одним… Только посмотреть на этого ее подонка. Волосы вот досюда. Своя машина. Дома ее вообще не бывает. А что сделаешь? Только начну ей мозги вправлять, обязательно влезет жена. Не устраивай сцен. Она верит во всю эту психологическую дребедень. Не нужно их огорчать и так далее. Но иногда так охота кому-нибудь оторвать голову… Дети теперь неуправляемые. Никого не желают слушать… Иногда лежишь ночью без сна, прислушиваешься к этим паскудным грузовикам на шоссе и думаешь: а твоя дочь сейчас на заднем сиденье у этой обезьяны. И я говорю себе: а какого черта я из-за этого страдаю? Только здоровье себе порчу. Ну, встанешь, нальешь себе выпить, бутерброд проглотишь, посмотришь кино… Придет Норма, а я на нее даже не смотрю. Просто говорю себе… У меня ведь еще двое вот-вот оперятся… Господи, прости. Но поймите меня правильно. В семье мне хорошо, и, сказать по правде, я рад, что не развелся. Я вам, ребята, не завидую…
— Чему уж тут завидовать, — честно вставил Лэндон.
— Разведенные мужики — народ одинокий. Я знаю, не с одним таким говорить приходилось. И все твердят одно и то же. Хорошо бы, мол, вернуться в лоно семьи.
Он отпил пива и вытянул длинный коричневый бумажник, в одном из его пластиковых отделений лежала цветная фотография.
— Мое семейство. Два года назад в океанарии «Маринленд».
— Симпатичная публика, — откликнулся Лэндон, разглядывая пять загорелых фигур. Сколько раз ему показывали такие фотографии? В вагонах-ресторанах и в полумраке купе он смотрел на целлулоидные лица женщин и детей — семьи случайных попутчиков с безжизненными глазами. Смит ткнул толстым пальцем.
— Это Норма. Ей здесь только тринадцать, но уже кобылка будь здоров! Развилась рано. — Он допил пиво. Как в него столько влезает? Может, у него одна нога полая? — А вы, Фред? — спросил Смит. — Вы о дочери беспокоитесь?
— Почти все время, — ответил Лэндон. — Это цена, которую платишь за радость иметь ребенка.
— А вот это точно, разрази меня гром! — согласился Смит и рыгнул. — Давайте подзакусим!
Они съели бутерброды с ветчиной, поклевали с тарелок жареную картошку. Смит заказал еще пива и заставил Лэндона выпить вместе с ним. Когда они поднялись уходить, Лэндон ощутил: этот хмель с дрожжами слегка ударил ему в голову. На секунду ему показалось, что старый крокодил со стены открыл глаз и взирает на мир с затаенным любопытством.
На улице они остановились под белесым небом — солнце убралось за высокие облака. Воздух стал колючим, острым. Голова у Лэндона сразу прояснилась, зато накатило странное уныние — а где же солнце? Утро обещало весну, по сейчас это обещание казалось поспешным и преждевременным. Небо словно говорило: подождем еще недельку, а там будет видно. Мимо них по Даффрин-стрит легкомысленным и своенравным потоком неслись машины. На Смита, казалось, алкоголь не возымел никакого действия. Он втянул носом загазованный воздух, поправил темные очки.
— Куда вас подвезти, Фред? Мне придется вернуться в контору.
Лэндон не хотел его затруднять, но они находились у черта на рогах.
— Вообще-то я живу в центре.
— Доброшу вас до метро, годится?
— Да. Прекрасно.
Поначалу Лэндон беспокоился: как Смит поведет машину, когда в нем столько алкоголя, но вскоре забыл о своих страхах. Смит управлялся со своей большой машиной очень уверенно, будто и в глаза не видел бутылки виски, и в сердце города они вплыли под «Эдельвейс» из «Звуков музыки»[52], который все герои фильма пели хором прямо в заснеженных Альпах. У входа в метро Смит откинулся назад и вытащил из «дипломата» какие-то бумаги.
— Вот… Проглядите это за выходные! Книжонка Уилбера П. Уэйда — порядочное дерьмо, но кое-какое представление она дает. Это копии постановлений местных органов насчет недвижимости и операций с ней. А в этом буклетике — типичные вопросы, которые вам будут задавать на квалификационном экзамене. Все равно что экзамен на получение водительских прав. Прежде чем его сдать, нужно кое-что вызубрить. — Он бросил на колени Лэндону еще одну книжку. — Это разговорник. Венгерский… португальский… итальянский. Несколько слов знать не худо — помогает. У этих бродяг теплеет на душе.
Лэндон почувствовал колики в желудке.
— Это значит, что я принят?
— Что ж, если эта работа вас устраивает, она ваша. Только это никакая не лафа, можете поверить. Вкалывать придется по-черному, и я вам спуску не дам, учтите. Говорю вам это, Фред, потому что вы мне нравитесь. Вы не какой-то сосунок, не нюхавший пороху. Вас выперли молодые горлохваты. Я знаю. Это происходит постоянно. Но двигать недвижимость вам все-таки придется — если хотите остаться со мной. Мне нужно квоты выполнять. Так вот, хотите работать — приходите в понедельник к десяти, я не возражаю. Попробуем вас месячишко. Посмотрим, как пойдет, верно?
— Да, конечно!
— Вот и ладно… Тащите ваши карточки соцобеспечения и страхования медицинских расходов. И прочив бумажки. Отдадите все Джекки. Это наша секретарша. К ней лучше не подкатывайтесь! Сейчас с ней спит Джино, и мордобой мне в конторе ни к чему. Проблем и без этого хватает.
— Ну, тут проблемы не будет, — заверил его Лэндон. И не думая, добавил: — Дама сердца у меня есть.
Смит заржал, возможно, над старомодным оборотом.
— Рад за вас, Фред. Вот ее и обхаживайте. Ладно, в понедельник утром увидимся.
— Да. Хорошо.
Лэндон вылез из машины. Постоял у входа в метро, пока она не свернула за угол. Вдруг ему пришло в голову, что кое о чем он даже не спросил. Например, о зарплате. Может, работа сдельная и платят с комиссионных? Хочешь кушать — продай дом. Сурово. А машину они дают? Забыть спросить о важном — это было в духе Лэндона, да и пиво сделало свое дело. Так или иначе это работа, и в метро он слегка приободрился. Что ж, место не самое уютное в мире, но по крайней мере Лэндону будет зачем выпрыгивать по утрам из постели, будет куда спешить. Может, зарабатывать на хлеб торговлей — это именно то, что ему надо. Суровый мир торговли закалит его. А годы в «Каледонии» его размягчили. Сейчас он выходил в открытое море, кишащее акулами, и хочешь выжить — учись кусаться. Но проблемы все равно будут. Со Смитом он найдет общий язык, но сколько еще протянет этот несчастный? Если его сожрет Синтетический, жди беды. Но тем временем он будет работать, да и кто сказал, что он должен трубить в «Хартстоун риэлти» до конца дней своих? В свободное время будет искать что-нибудь получше.
В вагоне метро он перебрал книжонки, открыл желтую.
«Продажа жилья — развлечение и выгода. Секретами успешной торговли недвижимостью делится король недвижимости Уилбер П. Уэйд».
Лэндон перевернул страницу.
«Дорогой агент по продаже недвижимости! Здесь ты найдешь все о твоей профессии, обо всех „можно“ и „нельзя“ тебе расскажет американский корифей недвижимости Уилбер П. Уэйд».
Далее шла перепечатка статьи из журнала «Ридерз дайджест», где описывалось, как Уилбер П. Уэйд за одну неделю продал целый подокруг. Где-то в Аризоне. Ладно, с этим мы еще успеем познакомиться. Разговорник оказался позабавнее, и Лэндон с улыбкой смотрел на незнакомые слова. В школе языки ему давались легко. Французский… немецкий… латынь. Как-то он даже собрался одолеть испанский. По программе для взрослых. На вечерних курсах, он сидел там с десятком таких же неприкаянных. В зимние вечера всех их гнало из дому одиночество. Учительница, мисс Деладо, носила длинные юбки и черные чулки. Ее туфли с жесткими каблуками стучали по полу, как кастаньеты. «Buenas noches[53], изучающие испанский язык». И они отвечали хором, как пятиклассники. Они читали из «El cuento de Ferdinando». История Фердинанда, маленького быка, который не хотел драться, а предпочитал нюхать цветы под пробковым деревом. Фердинанд Лэндон. Он полистал страницы: какое это все-таки богатство — иностранные языки! Come ti piace la mia macchina? Как вам нравится моя машина? E veramente bella. Очень красивая. А вот как это выглядит по-венгерски: Hogy tetszik a koscim? Nagyon. Маргарет может помочь ему с польским. Если на горизонте появится бездомный полян. Ему вдруг захотелось рассказать ей о своих новостях. Здорово, когда есть с кем поделиться радостной вестью! Он скажет ей днем, когда она вернется с работы. А что, если отпраздновать это событие, поужинать вместе? Все остальное может подождать. Или не может? Он распихал книжонки по карманам пальто, скрестил руки на груди и откинулся назад, настраиваясь на поездку через весь город.
На станции «Спадина» он поднялся на узкий асфальтовый тротуар, минутку постоял в нерешительности, перевел дух и пошел по Мэдисон-авеню. С легкой тревогой он понял, что долгий подъем утомил его. Да, он совершенно потерял форму. К тому же от пива в «Кинг-Конге» побаливала голова, и боль тупыми ударами отдавалась в висках. Неплохо бы полежать часок.
По Блор-стрит он пошел на восток, в направлении Гурона, свернул на юг около небольшого парка — там, сидя на скамье, он недавно выслушивал молодого человека, который хотел похимичить с мировыми запасами воды. В парке слабая травка пробивалась сквозь проплешины тающего снега, скрытые под снежным покровом собачьи испражнения теперь обнажились и, размягчившись, слабо пованивали в мартовском воздухе. Здесь выгуливали собак, и белка набралось столько, что хватило бы накормить полмира. Еще несколько недель — и пудели со спаниелями начнут сбрасывать на зелень свой груз и протирать ее задиками, калечить и без того чахлую флору. Неужели ничего нельзя сделать? Обратиться в газету. «Собаки загаживают наши парки». И подпись: «Возмущенный гражданин». Или, скажем: «Скользкие подошвы!»
Ярдах в ста по улице кто-то знакомый прощался с длинноногой рыжеволосой девицей. Да это же Томми Росситер с очередной подругой! Лэндон застонал и поспешно свернул в парк. Только не Росситер! И без него голова раскалывается!
Росситер, целиком — пять футов шесть дюймов — затиснутый в пальто из коричневой кожи, не заметил Лэндона и перешел на другую сторону улицы. Они виделись две недели назад. Перед зданием клуба иностранных студентов — Росситер распространялся о созерцании «ву», что, как он объяснил Лэндону, на языке последователей даосизма означает «ничто». В последнее время он увлекся восточной религией. Он также вложил некоторую сумму в дело, возглавляемое его другом, — торговля привозным товаром. Благовонные палочки, подсвечники из кованого железа, четки, игральные карты, циновки для коленопреклонения. Дело было прибыльное, и они намеревались открыть магазинчик на Йорквилл-стрит. Росситер неизбежно свихнется, полагал Лэндон, это лишь вопрос времени.
В начале шестидесятых Росситер с женой жили по соседству с Лэндоном, тогда в моде были пластинки Пита Сигера и движение за гражданские права. В это беспокойное времечко Лэндон, потягивая вечерами пиво, не раз слышал, как Росситер с женой Сандрой ругаются из-за прав негров в Алабаме. Позднее, лежа в кровати, он слышал сквозь стену звуки ударов: в качестве окончательного аргумента Росситер и его жена пускали в ход кулаки. Эта парочка всегда напоминала Лэндону детский стишок, и, слушая их, он проговаривал его в постели:
Плюшевый песик сказал: «Гав-гав-гав!» Байковый котик ответил: «Мяу-мяу!» Долго порхали потом по лужайке Ниточки плюша, лоскутики байки.Хорошенькие девицы, однако же, слетались на Росситера, как пчелы на мед (Сандра была сногсшибательной красоткой). Он их словно околдовывал — тут по крайней мере ему можно было позавидовать. Его сороковые годы все еще были юношеской порой, и он каждый раз грозился заявиться со своей новой крошкой, обычно какой-нибудь студенткой из университета с восторженными глазами. В тот день возле клуба студентов, в своем застегнутом до подбородка длинном пальто, Росситер пританцовывал вокруг Лэндона и тыкал его в локоть. Ботинки на высоченных — дюймов шесть — каблуках, длинные темные волосы схвачены на затылке в конский хвост. Завидев Лэндона, он безумно обрадовался.
— Привет, Фредди, дружище… В прошлый раз мы встретились — ты утюжил мостовые… работу искал. Чувствую, пока ничего не нашел, так? Да-а… суровые времена. Но быть безработным — не позор. Ты это помни. Работа… работа… кому она нужна? Разная шваль, людишки — они пусть и трубят. А тебе на кой черт это «с девяти до пяти»? Сократи свои расходы, и все.
Богатые бритья каждый месяц посылали ему солидный чек, и он особенно не нуждался, но об этом он почему-то не вспоминал. Зато высказаться любил.
— Много ли холостяку надо на прожитье? Комната… раз в день поесть, девчонка. Книги бесплатно — в библиотеке. Живи для души, питайся духовной пищей.
— Да. Но, к сожалению, Томми, я не религиозный человек, как ты.
Росситер засмеялся, показав бурые зубы.
— Ну, Фредди, ты уж скажешь, так скажешь.
— Не уверен, смогу ли я все оставшиеся годы просозерцать. — Лэндон улыбался. Росситер же загоготал, как псих, и сделал на одной ноге пируэт. Через минуту он, однако, успокоился.
— Собственно, если разобраться, ничего смешного тут нет. Знаешь, Фредди, а ты прав. Я человек религиозный. Потому и не мог порвать с Сандрой, разрушить семейный очаг. Как я ним тяготился! Ведь душа требовала совсем другого.
— Понимаю.
Лэндон взглянул на часы. Он спешил на встречу с Бутчером. Но Росситер заставил его выслушать еще одну новость: он устроился банщиком в сауну. Это, разумеется, временно, зато чего там только не увидишь — фантастика! Но в жизни без проблем не бывает, и скоро он уже хватал Лэндона за руку, тискал ее. А в глазах — неужели слезы? Да, Лэндон узнал старые симптомы.
— Ты всегда был мне настоящим другом, Фредди. Говорю тебе от всего сердца. Когда я разошелся с Сандрой, ты не стал относиться ко мне хуже. Ты единственный, старина…
— Это твоя жизнь, Томми. Какое же я имел право…
— Ты мне дороже этих поганцев — моих братьев. Да они же ни черта не знают о жизни! Получил-истратил — ради этого мы живем? А внутренний мир? Да что они об этом знают? — Лэндон смутился. А Росситер все не отпускал его руку, появились слезы. Они закапали из уголков глаз, побежали по щекам. — Ты был единственный, Фредди, а уж сколько оплеух я получал со всех сторон. Да, эти мерзавцы дали мне прикурить. Просто стерли в порошок. Ну, я и сломался. Сколько человек способен вынести? Год жизни я провел в больнице «Ок риджес». Шил бейсбольные мячики.
— Мне очень жаль, Томми.
Это была правда, Лэндон расстался с ним в тяжелом настроении. Бедняга Росситер! Но жизнь у него — сплошная мелодрама. Студенточки, восточная философия, слезы и искромсанные нервы, деловые авантюры и гнилые зубы. Этот богемный зуд, жажда новизны. Долго так не протянешь. Но выглядел он ужасно, и уготована ему собачья доля. Как и этому маленькому парку. Лэндон мрачно улыбнулся столь жиденькой шутке, он был рад, что не попался на глаза Росситеру.
У своего дома, «Эссекс амз», Лэндон заколебался. Все-таки пятница, не мешает чего-нибудь купить. Пожалуй, надо перейти через дорогу и нанести визит Кнайбелю. Вообще-то Лэндон покупал у него редко — Кнайбель драл дай боже. Конкурировать с большими магазинами ему было не по силам, и он все время жаловался — бизнес загнивает на корню. Иногда Лэндон из сострадания кое-что покупал у этого немца. Сейчас Лэндон видел его — тот сидел в своем заброшенном магазинчике и читал газету. Когда ждешь неизвестно чего, день тянется долго. Но зайдешь — придется выслушивать жалобы насчет бизнеса и обычные обвинения: в их квартале, мол, враждебно относятся к немцам. А потом Кнайбель возьмет с него втридорога. Лэндон явно ему не нравился. Ну его с вечными жалобами, и так голова трещит. По каменным ступенькам Лэндон поднялся к дому. Внутри он выудил из своего почтового ящика две бумажки-рекламки и наспех нацарапанную записку от дочери.
Привет, папуля. Мы с тобой разминулись. Мы сейчас (2.30) едем в аэропорт встречать маму. У тети Бланш сегодня вечером пьянка. Приезжай, пожалуйста. Буду тебя ждать.
Целую, ДжинниНадо же, разминулись! Он перечитал записку. Что значит это «мы»? А то, что ее все еще сопровождают Логан и Чемберлен. Звучит как адвокатская фирма. Он нахмурился. Вечеринка у Бланш сейчас ему совершенно не в жилу. Эти ее сборища всегда будили в нем какую-то смутную тревогу, особенно если душа и так не на месте. От их натужной веселости веяло безысходностью. В каких же кругах вращается Бланш сегодня? Что за люди в сфере ее нынешних интересов? Розенкрейцеры?[54] Движение за освобождение женщин? Или Общество друзей? Конечно, дом Бланш — не место для серьезных разговоров, тем более с родной дочерью. Но выбора нет, придется идти.
Дома он проглотил две таблетки аспирина, запил их стаканом воды. А не вздремнуть ли малость? Может, головная боль отпустит? Прилечь с руководством по успешной торговле недвижимостью Уилбера П. Уэйда, почитать, пока не сморит сон. Путь в спальню лежал мимо маленькой квадратной комнаты, которую он когда-то называл кабинетом. Он перетащил сюда книги и пишущую машинку, купил стол и плетеное кресло и поставил их возле узкого высокого окна, выходившего в переулок за домом. Мысль была такая: снова взяться в этой комнате-коробочке за перо. Что же помешало? Ничего. Все. Регулярно садиться после работы за стол не позволяли частые командировки. Было много книг и журналов, много кинофильмов — слишком много. Хорошо шли и вечерние телепрограммы, особенно под пиво и гренки с сыром. А в предрассветные часы трезвонил будильник, трезвонил яростно и неистово, будя весь квартал, но Лэндону было хоть бы хны: зарыв голову под подушкой, он и не думал расставаться со страной грез. На поверку оказалось, что у него нет силы духа, необходимой для этой работы. Теперь эта комнатушка уже не влекла его, скорее угнетала, и ее дверь он почти всегда держал закрытой. От уныло-зеленых стен словно исходил какой-то странный душок, не слишком приятный запах пустоты, ненужности и запустения. Или так пахнет неудача? Через несколько месяцев он перенес книги назад в гостиную, а машинку упрятал в чулан под стопку замшелых сценариев. Стол и плетеное кресло остались, а вместе с ними и кушетка — он купил ее в надежде, что Джинни в какой-нибудь из своих визитов останется переночевать. Три или четыре раза она действительно приезжала на выходные из интерната и ночевала, а наутро с распухшим от сна лицом, позевывая, появлялась на кухне. Он потчевал ее кукурузными хлопьями с кофе. Сейчас в комнате стоял еще и недавно купленный мольберт с принадлежностями для живописи — около окна, освещенный полоской жесткого света. О чем он думал, когда выкидывал на это деньги? Ведь он не подходил к холсту уже несколько месяцев; гнезда с краской засохли, покрылись коркой и растрескались, вывоженные в ней кисти лежали мертвыми отрубленными пальцами. Он даже не удосужился вымыть их в скипидаре. Просто поднялся и ушел от холста. Сейчас он заставил себя посмотреть на него. Что он такое намалевал — и не объяснишь теперь. Основную часть картины занимала масса водорослей, а в середине этой волокнистой зелени (может, это собственное Саргассово море[55] Лэндона?) плавал зловещий желтый глаз. Или это вид сверху на глазунью, жареное яйцо на плоту из шпината? В любом случае это надо убрать, забыть, ликвидировать, уничтожить. Маргарет убеждена, что он — творческая личность. Не в живописи, так в словесности. Но даже если считать, что определение это в наше время затаскали и применяют не по назначению, он сомневался в правоте Маргарет. Да, у него есть чувство слова, он знает его силу и относится к ней с уважением. Он мог бы стать телевизионным поденщиком и кропать полицейские драмы или эти постыдные комедии положений. Был бы он чуть понахрапистей, не стеснялся бы снять ботинок и стучать им по столу продюсера. Однажды он своими глазами видел такое в кабинете Бейзила Джонсона — его дожимал какой-то бравый бородач из Нью-Брансуика. Энергичный человек с твердыми убеждениями, он настоял-таки на своем. Лэндон с удовольствием наблюдал, как Бейзил ежится в своей голубой куртке. Ну, хорошо, а разве десять лет строчить под копирку сценарии — это лучше, чем десять лет торговать поздравительными открытками? Что, он жил бы более шикарной жизнью? Скорее всего, да. Имел бы больше денег. И больше женщин.
В спальне он разгладил покрывало ладонью, прилег и уставился в окошко на свой собственный, такой знакомый кусочек неба. Перестук в висках постепенно стихал, тело медленно расслаблялось, разжимались пружины — он снялся с якоря и выплыл в широкое и темное море сна. Ему снова привиделась дочь. Джинни была одета как студентка женского колледжа: джемпер цвета сосновой зелени, черные чулки и туфли без каблука. У ворота бледно-зеленой рубашки проглядывал галстук, из-под берета выпадали косы. Не самый подходящий туалет для семнадцатилетней девушки. Она стояла на лужайке под старой яблоней-кислицей. Лэндон, находясь чуть в стороне, смотрел, как его дочь освобождается от одежды. Сначала она швырнула свой берет Ральфу Чемберлену — тот, как голая обезьяна, сидел на искривленном суку, а белые бока его, освещенные зловещим желтым глазом — солнцем на зеленых небесах, — отдавали бронзой. На этой лужайке в предместье Бей-Сити Лэндон ребенком играл с Уолли Билом. Он сразу узнал это место, хотя не был там добрых тридцать лет. В знойные дни к этому старому дереву сбредались черные и белые коровы, они ложились в тень и отгоняли хвостами мух или жевали сгнившую падалицу. Он с Уолли запускали в них камешками, стараясь, чтобы они рикошетом отлетали от коровьих спин; городские мальчишки, готовые в любую минуту драпануть, если медлительные, меланхоличные животные вдруг кинутся на них. Когда Лэндон снова посмотрел на дочь, на ее месте под деревом стояла Вера — голая, как Ева в первое утро. И тоже жевала кислое яблоко. Поманив Лэндона, она исполнила медленный танец — приглашение предаться любовным утехам. На изогнутом суку ухмылялся сатир, он дудел в тростниковую дудочку и приплясывал на раздвоенных копытцах. Лэндон рванулся к ним, охваченный желанием, внезапно осознав на бегу, что и сам он — нагишом. Едва он успел обнять жену, она исчезла в облачке желтого дыма. Над ним зловредно захихикал сатир и швырнул в его мужское достояние жестким яблоком.
Он проснулся и обнаружил рядом в постели свою застенчивую соседку — вовсе не застенчивую, а теплую и нагую.
— О, Маргарет. Как чудесно.
Она прикоснулась к нему.
— Что это с тобой? Ты видел во сне меня, Фредерик?
— Маргарет, дорогая, до чего же ты молодец.
— Ты, наверно, считаешь, что я совсем стыд потеряла?
— Да, но я в восторге от твоего бесстыдства. Вот это сюрприз! Какой счастливый день…
— Ты любишь меня, Фредерик?
— Да, Маргарет, правда-правда.
— Скажи мне это, пожалуйста. Скажи, что любишь меня.
— Господи, Маргарет, я люблю тебя… люблю, люблю, люблю…
Через окно, приоткрытое на полдюйма, дабы впустить сомнительного качества воздух, до Лэндона доносился шум Спадина-авеню — гудки автомобилей, визг тормозов. Человеческий поток растекался к жилым кварталам по запруженным машинами улицам, бурлил в переполненных поездах метро. Люди толкали и пихали друг друга, Лэндону же в этот предвечерний час жизнь подарила — пусть на время — покой и любовь.
* * *
Вечернее небо насупилось, хотя до выхода из дому Лэндон видел в окно луну — большая и желтая, она выглянула из-за крыши научной библиотеки, потом быстро поднялась и скрылась за облаками. Сейчас Лэндон, сойдя с трамвая на Сент-Клер-авеню, одиноким пешеходом спускался к югу по Рассел-Хилл-роуд. Он в конце концов решил, что в гости к Бланш пойдет. Пробудет там часок с небольшим. Вполне достаточно, чтобы выспросить у Джинни о ее планах и, может, договориться пообедать с ней в воскресенье. Заодно станет ясно, что на уме у Веры. Домой он вернется не поздно, и у него хватит времени как следует выспаться, отдохнуть перед ранним выездом с Маргарет. Она охотно предложила свою машину, а вот ехать с мим сама поначалу стеснялась. Но он все же уговорил Маргарет познакомиться о его сестрой.
Выложенная плитами дорожка, изгибаясь, вела к ступенькам, освещенным желтым станционным фонарем. Тяжелое кольцо солидно отсвечивало медью на фоне темной двери. За окнами в свинцовой оправе, как тени на экране, стояли или двигались фигуры. Доносилась музыка: какой-то тростниковый инструмент издавал высокие, напоминающие посвист флейты, звуки, с металлическим скрежетом елозили по струнам смычки. Музыка выходила диковинная, она разворачивалась в вечернем воздухе, будто кобра из корзинки. Лэндон постоял у входа, прислушиваясь к этим звукам с илистых берегов Ганга. В свое время под такие переливы Вера стояла на голове. Когда увлекалась йогой и «Пятью шагами к нормальному усвоению пищи». Дверное кольцо с львиной головой Лэндон трогать не стал — нажал на кнопку звонка и, расстегнув весеннее пальто, окинул быстрым взглядом голубую поплиновую рубашку и серый костюм, купленный в 1966 году — чтоб идти на чью-то свадьбу. Старомодный донельзя, но современные туалеты в обтяжку — это было не для Лэндона. Шмотки на его вкус еще нужно было искать. Он предпочитал брюки свободного — даже чересчур — покроя: не облегающие, удобные в шагу. В конторе Крэмнер часто прохаживался по этому поводу. Крэмнер! Сейчас греет свои костлявые бока под флоридским солнцем. Изводит незнакомых людей своими байками. Через минуту дверь открылась — на пороге стоял худощавый загорелый парень и смотрел на Лэндона. Белые клешеные брюки, ослепительно оранжевая сатиновая рубашка, расстегнутая у ворота, — выглядел он эффектно. Длинные темные волосы причесаны волосок к волоску. Из мочки уха — одного — свисал золотой талисман. Парень был бос. Лишь через несколько секунд они узнали друг друга.
— Ой, дядя Фредди… это вы!
— Собственной персоной, Хауэрд, — ответил Лэндон, ступая в прихожую. — Ну, как вы тут?
— Да высший класс, дядя Фредди… Бог ты мой! Мы же сто лет не виделись! Где вы скрываетесь? Нам про вас каких только историй не рассказывали. Вы сейчас живете с русской, да? Давайте ваше пальто…
— Спасибо, Хауэрд… Ты выглядишь как огурчик.
— Точно. Мы с мамой неделю как вернулись… С Бермуд. Пропаслись там целый месяц. Ничего местечко, развлечься можно. А Джинни сказала, что вы, наверно, придете. Я жутко рад вас видеть. Вы же знаете, как мы вас любим. Мама по сей день вспоминает, как вы ее поддержали, когда она рассорилась с нашим милым Хьюзом. Кстати говоря, они сошлись.
— Да что ты?
— Ну точно… Мама с Хьюзом снова начали встречаться. Уже с полгода. Он две недели пробыл с нами на Бермудах…
Хауэрд перебросил пальто Лэндона через руку.
— По-моему, мама сейчас как-то успокоилась по части секса… понимаете, да? Несколько лет это был какой-то кошмар. Но теперь… Вроде бы никакой трагедии уже нет…
— Да, наверное.
— Ну вот. По-моему, маме сейчас больше всего нужен друг. И для этой роли как раз подходит дружище Хьюз. Знаете, вообще-то они всегда ладили… Да и мама не молодеет. А у меня своя жизнь.
— Разумеется.
— У меня квартирка на Саттон-плейс — скромная, холостяцкая, с вечеринкой особенно не развернешься. А вот и мама… Я отнесу ваше пальто наверх.
К ним подошла Бланш — посеребренные туфельки, длинное платье цвета полночной синевы. Может, в чем-то Бермуды и пошли ей на пользу, но бледной она как была, так и осталась — белая лилия. На жалкой шее болталось украшение — нитка искусственного жемчуга. Бланш заметно постарела, но глаза, как и прежде, светились неуемной энергией. Она раскинула ему навстречу свои щепочки-руки.
— Фредди, дорогой мой, все-таки приехал.
Они обнялись, и Лэндон вдохнул запах увядших фиалок, заложенных между страницами книги. Так пахла когда-то его тетка — старая дева.
— Фредди, сколько же мы не виделись?
— Видишь ли, Бланш, я теперь не вхожу в твою лигу.
— Вздор. В моей лиге для тебя всегда найдется место, дорогой Фредди. Жаль, что ты так редко меня навещаешь. Ты всегда был для меня особым другом — сам знаешь. — Они посмотрела на него с расстояния вытянутой руки, по-птичьи склонив голову набок. — Было время, мне казалось, что мы можем стать любовниками. Тебя это шокирует?
— Ну, Бланш, что же ты не намекнула? Я ведь толстокожий.
Она засмеялась.
— Ох, Фредди. Сколько мы с тобой переговорили. Помнишь? А сейчас кажется — это было так давно. Абсолютное прошедшее время. Н-да… — Она похлопала его по руке. — Вера будет очень рада, что ты приехал. А мы с тобой поговорим попозже, ладно? Идем, я тебя познакомлю с гостями. Это все больше друзья Хауэрда. Актеры, рекламщики. У него знакомые, кажется, во всех областях. А у меня еще беда — новые имена в голове не держатся.
Рука об руку они пошли к одной из переполненных передних комнат. Бланш потянула его за рукав.
— Я так рада, что Вера и Джинни решили немного пожить у меня.
— А что, Вера хочет вообще перебраться в Торонто? — спросил Лэндон.
— Похоже, что так, но в свои планы она меня не посвящала. Собственно, как всегда, тебе это хорошо известно. Боюсь, что мое мнение Вера никогда и в грош не ставила. Но все же…
Они остановились у входа в комнату, густо набитую людьми — гости толклись по ней, держа сигареты и стаканы. Сквозь дым и гомон струйкой вилась восточная музыка, от стен отражался перестук одинокого барабана. Тут было много красивых мужчин, несколько очаровательных женщин. Их аппетитные попки, обтянутые брюками с широкими поясами ниже талии, так и прыгали в глаза. Некоторые мужчины были босиком, как Хауэрд, или в сандалиях. Несколько негров в ослепительно ярких хитонах и дашики[56] походили на племенных вождей. У одного немыслимым черным нимбом возвышалась над головой прическа в стиле «афро». Кое-кто был одет под пижонов сороковых годов: длинные пиджаки, широкополые фетровые шляпы, низко сдвинутые и затенявшие глаза. У Лэндона сохранилась старая пластинка на 78 оборотов в минуту, и на ее обложке Диззи Гиллеспи[57] был одет под стать этим ретроманам.
Бланш приподнялась на цыпочки, огляделась.
— Боже, ни одного знакомого лица. Все такие молодые…
Лэндон стиснул ее руку.
— Что ты обо мне беспокоишься, Бланш? Я тут не впервые, разберусь. Возьму что-нибудь выпить. А ты иди к другим гостям.
Он всматривался сквозь дым, стараясь найти Джинни или Веру.
— Ну, это невежливо, вот так тебя бросать, совсем одного, а Вера, как назло, куда-то запропастилась. И Джинни ушла за льдом. Какая чудесная девочка! Я хотела заказать лед по телефону, но она вызвалась пойти и настояла на этом. Один из ее приятелей пошел с ней. Ральф, фамилию не запомнила. Симпатичный парень.
— Да, я с ним знаком, — сказал Лэндон.
Бланш легонько тронула его за руку.
— Может, это не мое дело, но у Веры с Джинни сегодня был разговор.
Лэндон повернулся к ней.
— Да? О чем?
— Может, это и ерунда, но я слышала, как они ссорились перед вечеринкой. В спальне, наверху. Из-за этого парня. Ты, наверное, знаешь, как Вера относится к этим молодим радикалам…
— Мы вроде никогда на эту тему не говорили.
— Когда Джинни сегодня приехала с ним в аэропорт… Н-да. Так вот, когда они добрались сюда, Вера подняла жуткий скандал. Требовала, чтобы Джинни перестала с этим парнем встречаться. Ты знаешь, Вера бывает такой непреклонной…
— Да, знаю.
— Иногда я думаю: мне бы ее силу…
Вдруг как из-под земли вырос Хауэрд, на его красивом лице складкой отпечаталось недовольство.
— Мама, ну что такое! Там люди у дверей! Это гости, причем твои!
— Да, да, дорогой, иду. Займи дядю Фредди и представь его кому-нибудь из твоих прелестных друзей…
Но едва она ушла, как Хауэрд, явно взвинченный, извинился и исчез в большой соседней комнате, где люди топтались на месте под какую-то медленную джазовую мелодию. Лэндон прошел к бару и попросил выпить. Бармен в белом пиджаке с глухим стуком бросил в стакан два кубика льда и оросил их сверху шотландским виски «Беллз ройял резерв». От бутылки с содовой Лэндон отказался, решив принять этот первосортный напиток в чистом виде. После «Старого тролля» разница была ощутимой, и он с удовольствием потягивал виски, перемещаясь от группы к группе в поисках знакомого лица. На вечеринках ему всегда было неуютно — как-то не умел он заводить разговоры с незнакомыми людьми. Что им сказать? Здравствуйте. Меня зовут Фред Лэндон. Здесь очень мило. Дальше — точка. Пожалуй, он — из разряда слушателей. Но когда выпьешь — все-таки легче, и он попросил налить ему еще. Лэндону показалось, что, наливая ему двойную порцию, бармен ухмыльнулся. Наверное, думает — алкаш. Любитель накачаться за чужой счет. В мешковатом костюме. Чей-то дядюшка-холостяк. Мысленно Лэндон отмахнулся от бармена. Да пошел ты, холуйская рожа!
Веру он не нашел и сквозь толпу гостей протиснулся в другую комнату. Помнится, здесь они по воскресеньям обедали, Хьюз в серых брюках и голубой куртке стоял в торце стола и нарезал жареный окорок или вырезку. Иногда Бланш, опережавшую всех по части питья круга на четыре, тянуло на подвиги, и она начинала гладить Лэндона под столом по колену, Вера же, откровенно скучая, слушала болтовню Хауэрда о его последней пассии. Большая, полная воздуха и света комната сейчас вся загустела от дыма и гомона. В разогретом полумраке пары кружили друг возле друга — руки вытянуты вперед, глаза закрыты. Но вот на смену приятной и мелодичной джазовой теме пришел взбесившийся электроорган. На нем играл какой-то псих… или он играл ногами? Может, он шлепал по клавишам своим хрящом? В общем, какая-то часть его атаковала клавиатуру с демонической энергией. На миг Лэндон увидел органиста: переполненный бурными чувствами, он кидался на инструмент руками и ногами, отмечая все паузы клацаньем зубов. Время от времени раздавались душераздирающие вопли — это наверняка подавала голос терзаемая муками душа. Лэндон, что-то помнивший из Данте с университетских времен, задался вопросом: забреди в эту комнату странствующая тень из средневековья, не подумала бы она, что оказалась в аду? Танцующие, кто помоложе, а кто и постарше, кружили друг возле друга, стараясь не толкаться, каждый поглощен своими мыслями, застывшие лица предполагают серьезный ритуал, а тела дергаются, словно их подпаливают на костре. Лэндону этот странный мрачнолицый круг казался танцем эпилептиков, а дикие ритмы и выкрики органиста наводили на мысль о каком-то старинном племенном обряде. Куда ни глянь — везде признаки остаточного примитивизма. Может, не такая уж это плохая штука, знать бы меру. Но с мерой нынче дело плохо, сдержанность в наш век не очень котируется. Что до этого вечера органной музыки, он был бы уместнее где-нибудь в лесу, после удачной охоты. Молодежи такое еще можно простить — но когда вместе с ними пыхтит и потеет затянутый в джинсы мужчина средних лет, это уже не лезет ни в какие ворота.
Оглядев танцующих, Лэндон узрел резко очерченный профиль Веры: острый и маленький вздернутый нос, который портил в общем-то привлекательное лицо. Она разговаривала с высоким седовласым мужчиной по имени Билл Крейг. Насколько помнил Лэндон, это был друг семьи, адвокат, который вел финансовые дела Бланш и помогал ей выпутываться из брачных уз. Холостяк по сей день, он всегда был Вериным добрым другом. Лэндон изучающе смотрел на свою бывшую жену. За последние годы она немного прибавила в весе (кто из нас не прибавил?), но новее не стала хуже. Когда они поженились, эта нервическая брюнетка, вся как натянутая пружина, была уж очень худа, даже угловата. Несколько лишних фунтов сгладили края, сделали ее женственнее, ноги и грудь стали полнее и соблазнительнее. Черные как смоль волосы блестели ничуть не слабее прежнего и были пострижены грозной челкой а-ля Жанна д’Арк — этой прическе Вера была верна всегда. Сверху донизу все пугающе выверено — до последнего миллиметра. Совершенство в одежде — это тоже ее многолетняя привычка, которой Лэндон восхищался; восхищался с несдержанностью человека, для которого навести во всем порядок — дело почти невозможное. Ему обязательно чего-то недоставало, что-то обязательно было не так. Скажем, костюм на нем отутюженный, а туфли потертые. Или воротник облегает шею идеально, а рукава торчат из-под пиджака на три дюйма. Посидит десять секунд на стуле и вся задница в морщинах. Вера же пробьется сквозь театральную толпу или проедет в метро в час пик — и все равно каждый волосок на месте. И вот он смотрел на нее через восемнадцать лет после того, как отгремел свадебный марш. Что ж, выглядела она блестяще: холодна, неприступна и, как всегда, без тени улыбки на лице. Чувства юмора у нее не было. Она, конечно, не виновата, но недостаток все же серьезный. Надо думать, у нее с Джинни из-за этого не раз возникали трения. Он любил наблюдать за дочерью в ее детские годы. Она прекрасно умела подражать и имитировала всех телеперсонажей: Скелтона в роли Кэддидл-хоппера, Люсиль Болл[58] в роли его чокнутой жены, всех героев Диснея и комиков в программах Эда Салливана[59]. Иногда они валяли дурака на пару, и Вера всегда раздражалась — ей это казалось глупым. Может, ей было обидно, что играют без нее. Лэндон прислонился к стене и нервно закурил. Перед ним стояла женщина, которую он, кажется, когда-то любил, — теперь шикарная, холеная сорокалетняя американка в прекрасно сшитой платье от дорогого портного. Интересно, после него кто-нибудь забирался в ее безукоризненно чистую постель? Может, кое-что и было втихаря, а может, и нет. К половой жизни она была до странности равнодушна — есть такие люди, которые всем своим поведением показывают: секс — не бог весть какая важная штука. А с ним она когда-нибудь получала настоящее удовольствие? Сомнительно, хотя минуты вдохновения бывали. И она всегда с таким презрением отзывалась о нью-йоркских мужчинах. Как-то после трех мартини она сказала ему: все они — либо педерасты, либо потеющие пузатые бизнесмены из Нью-Джерси, а костюмы на них того и гляди затрещат по швам. Они курят мерзкие зеленые сигары и норовят ухватить тебя под столом за коленку. Лэндон любил слушать такие речи. Вообще она была дамочка с причудами. Перед тем как заниматься любовью, обязательно побрызгает какой-нибудь парфюмерией себе под мышками. Жаловалась она и на его привычки по части личной гигиены, некоторые просто терпеть не могла. Не без причины — скажем, ходишь в одних и тех же носках, пока не сопреют до дыр. Или сострижешь ногти с пальцев ног и забудешь их на краю ванны. Мелочи, конечно, однако чистюлю могут довести до бешенства. Но при всей своей высокомерной холодности она была женщиной привлекательной, в ее надменности было нечто изысканное. Лэндон думал об этом во время их последней встречи на рождество — в пальмовом зале гостиницы «Плаза» в Нью-Йорке. Это было их первое семейное рождество за многие годы и один из самых грустных дней в жизни Лэндона. Инициатива исходила от Джинни, а он и Вера согласились без особого энтузиазма. Втроем они сидели на зеленых стульях и, как англичане, ели хлеб с маслом и пили чай. Повсюду в пальмовом зале сидели пожилые дамы, они позвякивали чашками, коротая время. Официанты в белых накрахмаленных пиджаках и зеленых поясах сновали между столами и горшками с папоротником. В углу возле огромной елки человек во фраке сунул под подбородок скрипку и под аккомпанемент флегматичного пианиста принялся наяривать «Гринсливз»[60]. Лэндон слушал их, поглядывай на собственное отражение в настенных зеркалах, и чувствовал, как сердце сжимает чудовищная тоска. Это был не день, а сплошная мука! У каждого из трех было свое желание, исключающее другие. В результате все трое с постными лицами сидели и пили чай. Вера хотела пообедать в ресторане и заказала столик. Джинни считала «Плазу» старомодной и затхлой, она пыталась уговорить маму поехать в какой-нибудь новый ресторан в Гринич-Виллидже, но не тут-то было, и теперь она сидела, надувшись как ребенок, положив локоть на стол и сплющивая кулаком щеку. Лэндон же купил билеты на матч «Рейнджеров»[61], по обыкновению забыв, что звездами хоккея его дочь уже переболела. Все трое больше молчали, и день оказался еще одной маленькой неудачей в их жизни. Вера, однако, выглядела на все сто, ей даже удалось оскорбить официанта, а в Нью-Йорке это отнюдь не плевое дело.
Безумная музыка в гостиной Бланш стихла, и танцующие разбрелись по группкам в темные углы. Лэндону показалось, что он узнает запах конопли или гашиша, тлевших в трубках и сигаретах. Когда адвокат отошел от Веры, Лэндон пересек комнату и легонько тронул бывшую жену за локоть.
— Привет, Вера.
— А-а, Фред! Она повернулась к нему и, наклонив голову набок и скрестив руки на груди, сложила губы в топкую улыбку. — Я рада, что ты приехал. Бланш сказала, что ты, возможно, будешь. Ну, как дела?
— Дела как дела, Вера, ничего. Что у тебя? Как Нью-Йорк?
— С Нью-Йорком покончено. Ты разве не слышал? Я переезжаю в Торонто насовсем.
— Да, я об этом слышал.
Лэндон бросил сигарету в пустую пивную бутылку, где она, секунду померцав, зашипела и потухла, послав вверх сигнальное облачко серого дыма.
— Так что же случилось с Манхаттаном, Бронксом и Стейтен-Айлендом?
— Не поняла?
— Извини… Это строчка из старой песенки.
— Ах, да, еще бы… Ты и твои старые песенки. Помню, как ты распевал их в ванной. Я тебе когда-нибудь говорила, что это меня черт знает как раздражало? — Она продолжала улыбаться.
— Да. Много раз.
— Правда, Фред, когда ты поешь, голос у тебя просто кошмарный. Просто черт знает что за голос. Но меня всегда поражало другое. Ты знал все слова. Я никогда не могла понять, что за нужда такая — держать в голове столько слов из старых дурацких песен.
— Может, кому и нужда. Например, Руди Вэлли, — сказал Лэндон. — Или Бингу Кросби[62]. Им это пошло на пользу. Мне не хватало только импресарио.
Вера засмеялась.
— О да…
— Ну, а миф о Нью-Йорке, стало быть, рассеялся? — спросил Лэндон.
Улыбка сошла с лица Веры.
— Жизнь в Нью-Йорке стала слишком дорогой и слишком опасной, черт бы ее подрал. Разгул преступности неслыханный. Читаешь, наверное, газеты? Просто национальное бедствие. Крадут все, что плохо лежит. Ты буквально рискуешь жизнью, если вечером выходишь на улицу. Одинокую женщину опасность подстерегает повсюду. У всех моих знакомых шалят нервы. Еще бы! Идешь домой и думаешь: взломали твою квартиру или нет…
Она протянула ему маленькую зажигалку, и он высек пламя под ее сигаретой. Вера глубоко затянулась, потом повернула голову и выпустила колечко дыма.
— Кстати, о преступниках и прочих малоприятных типах — ты не знаешь, где сейчас наша дочь?
— Бланш сказала, что Джинни куда-то пошла за льдом.
— Так… А Бланш не сказала тебе, с кем Джинни пошла за льдом?
— Сказала. С Ральфом Чемберленом.
— Ты, стало быть, уже познакомился с мистером Чемберленом?
— Да. Он был у меня вчера еще с одним парнем. Они привезли Джинни из аэропорта.
— И что ты о нем думаешь?
— К чему эти вопросы, Вера? Каждую нашу встречу ты превращаешь в вечер вопросов и ответов. Я познакомился с этим Чемберленом только вчера и провел в его обществе около часа. С виду довольно толковый парень. Ершистый, колючий, на мой вкус, слегка самонадеян — может, оттого, что носится с какими-то сумасбродными идеями.
— Я на таких в Штатах насмотрелась. Подстрекатели, демагоги чертовы. Только страну позорят.
— Да брось ты!
— Я считаю, позорят. Ну, а что Джинни?
— А что Джинни, Вера? — В нем старым знакомцем зашевелилось раздражение. Что ни вопрос, то пытка. — Для серьезного романа она еще не созрела. Он просто знакомый…
— Ну конечно… Просто знакомый. Фред! Ты ведь плохо знаешь свою дочь, да?
— Нашу дочь, Вера, нашу.
— Хорошо, нашу дочь. Но факт остается фактом — ты ее не знаешь.
— Это не факт, а точка зрения.
— Перестань, я знаю, о чем говорю. Видел бы ты, какой взгляд появился у нее прошлым летом — слепое обожание, так смотрят на кумиров. В то лето ее кумиром стал гитарист из какого-то занюханного шахтерского городка в Пенсильвании. Он играл на гитаре в каком-то местном кабаке. Девятнадцатилетний ребенок, заморенный хлюпик, с прыщами на лице. У него якобы слабое сердце, это и помешало ему пойти в армию. А вот стать еще одним революционером-радикалом — не помешало. Ему, видите ли, чесалось спалить несколько зданий и показать нам пример гражданского поведения. Ну ясно, Джинни просто ему в рот смотрела. Как-то вечером она притащила его к нам на ужин. Боже, вот был кошмар! Он сидел, ел мое угощенье, пил мое вино, а сам на все скалил зубы. На книги в шкафу, на портьеры — на все. И еще выступал. Мистер Всезнайка! Ну, а я отстаивала мой образ жизни. Да я как вспомню об этом, меня всю трясет. Почему это я должна перед каждым хлюпиком, перед каждым сопляком-радикалом оправдываться? В общем, он на меня понес, и я попросила его уйти. Конечно, этот парень — голь перекатная, живет в трущобах. И если Вирджиния-Энн и ей подобные о кем-то и сбегут из дому — так это с голью перекатной из трущоб, наслушавшись жалостных историй. О-о, как это действует на девчонок, которые учатся в частных школах и ходят с кредитными карточками в «Бергдорф — Гудман»[63]. Они в ужасе, им стыдно, что у них такие преимущества. Так вот, этот Чемберлен потчует ее как раз такой историей о трудной судьбе. Она дает ему деньги. На такую удочку глупышки вроде Джинни будут клевать всегда. Да они прямо корчатся от чувства вины.
— Может, и так, — не стал спорить Лэндон. — Но чем кончилось с гитаристом из Пенсильвании?
Вера ткнула сигаретой в деревянный поднос, и искры коротким дождем посыпались в густой и темный воздух.
— Мне было не до шуток. Наша дуреха носилась за этим Эрни Монро по всему Манхаттану. Я думала — сойду с ума. С кем только этот парень не якшался: тут тебе и наркоманы, и студенты-радикалы, и «Черные пантеры». Она таскалась по вечеринкам, где травились бог знает какими наркотиками — ни секунды в этом не сомневаюсь. Домой заявлялась под утро, и говорить с ней было бесполезно. Она просто меня не слушала. К счастью, через несколько недель этот Монро потерял к ней интерес.
— Я ничего не знал. Почему ты не позвонила?
— А что бы это дало? Ты-то здесь, в 350 милях оттуда. Надо полагать, ты прилетел бы на денек и сразу навел порядок. Примчался бы, это уж точно, — очередной чудо-визит на двадцать четыре часа. Решил бы, что пора тебе с Джинни поговорить о некоторых вещах по душам. Пригласил бы ее на ужин. В какое-нибудь очаровательное местечко в Гринич-Виллидже, где все диковинно и романтично. И вот вы беседуете по душам при свечах и под бутылку вина. Вы говорите… господи, да обо всем на свете, кроме единственно важного. Всеми способами ты будешь обходить вопросы, которые, пусть даже призрачным намеком, могут выявить разницу во взглядах. В итоге вы с Джинни поздравите себя — до чего же прекрасные у вас сложились отношения! Потом ты улетел бы домой, говоря себе: что ж, развод разводом, но я все равно хороший отец. И Джинни рассказала бы друзьям, какой у нее потрясный папочка и как он все понимает.
У Лэндона вспыхнули уши, но в глубине души он знал: она права.
— Что ж… Ты ведь всегда резала правду-матку, да, Вера?
Лэндон вгляделся в ее лицо. Вокруг глаз уже появились признаки старения. И какая-то она раздраженная. Решиться переехать в Канаду — наверное, это было не просто. Да еще эта история с Джинни! И вообще устала от перелета. Когда она в таком состоянии, к ней лучше не цепляться. Сейчас она говорила медленно, размеренно, взвешивая каждое слово, сдабривая свою речь легким оксфордским акцентом. Если она начинала говорить строго по-английски — добра не жди.
— Сейчас Джинни меня не очень-то любит. Я уже весь прошлый год видела, что к этому идет. По-моему, нелюбовь девчонок к своим матерям на каком-то этапе вполне естественна, и я не сильно обеспокоена. Но в последнее время у нас бывают неприятные стычки. Иногда — просто омерзительные. Все же сердцем я чувствую, что она уважает мое мнение, и сейчас это для меня гораздо важнее, чем ее привязанность. Но с тобой, Фред, все обстоит иначе, верно? Ты просто не в силах возражать кому-либо из страха, что тебя могут невзлюбить. Хотя бы мл несколько минут… Помнишь, когда Джинни была маленькая? Заставить себя отругать ее — это было выше твоих сил, согласен? Даже когда она вытворяла что-то совершенно немыслимое. Хлопанье дверьми и «мама, я тебя ненавижу» — это всегда доставалось мне. Ты помнишь это?
Да, он хорошо это помнил. Роль тяжелой артиллерии всегда брала на себя Вера, хотя Лэндону — что поделаешь? — казалось: частенько она получала от этого удовольствие. Деспотическая жестокость была ей свойственна, и в немалой степени. Но хоть бейся головой об стену — Вера права. Он был любящим, но плохим отцом. В груди словно что-то вспухло, натянулось, и он, посерьезнев, разгрыз зубами кубик льда.
— Мне эта история с Монро все нервы вымотала, — пожаловалась Вера. — И вот снова-здорово с Чемберленом, что за напасть такая?.. Это просто невыносимо.
— О, господи, Вера, — вдруг заговорил Лэндон. — Девочке всего семнадцать лет. Да в этом возрасте не обойтись без увлечений!
— Увлечений! — В голосе Веры звучала досада. — Боже, Фред, ты говоришь так, будто на дворе — сороковые годы. Ты небось считаешь, что нынешние увлеченные девицы, как и раньше, держатся за руки в кино или пьют молочный коктейль в закусочной на углу?
— Из твоих слов, Вера, следует, что ты не доверяешь собственной дочери.
— Из моих слов следует, что под маской «смешной девчонки» живет молодая, крайне впечатлительная женщина, в голове у которой — полная путаница.
Снова заиграла музыка. Это было что-то уж совсем дикое, полет в никуда. А тут еще Вера… хоть бы она заткнулась.
— …А мир, в котором она живет… Он просто слишком стремителен для нее…
— Для меня тоже, черт бы его подрал, — сказал Лэндон, вытащил из нагрудного кармана пиджака платок и вытер шею и лоб. — Черт, у меня уже голова раскалывается. Хотел бы я знать, какой псих подбирал музыку? Наверное, Хауэрд…
Вера оглядела танцующих.
— И зачем Бланш пускает в дом всех этих людей? Что за потребность такая?
— Потребность… потребность… потребность, — пробормотал Лэндон. — О, господи…
Он как бы снова повис между злостью и усталостью. Нечего было приходить в этот цирк. Эти электрические стоны и всхлипы… поди их выдержи, если ты к ним не приучен. А тут еще Вера со своим язычком — этот праведный кнут исполосовал ему всю душу. И все время тянет в груди. Этого только не хватало. А вдруг что-то серьезное? Может, Уолли Бил на обеде у Мейсонов, перед тем как отдать концы, чувствовал вот такое же растущее давление в груди? Или это лишь так называемая тахикардия? Где-то он о ней читал. Пропади они пропадом, эти популярные журналы. Что там написано, в этой статье, — серьезная штука тахикардия или нет? Предлагалось делать глубокие вдохи и думать о чем-то успокаивающем. Но откуда взять умиротворяющие мысли в этом хаосе? Как всегда вежливый, он сделал вид, что слушает Веру, а сам попробовал думать о Маргарет.
— …Теперь, когда мы вернулись в Торонто, — говорила Вера, — Джинни будет видеться с тобой чаще, и я хочу, чтобы ты обещал помочь мне. Ты знаешь, она ушла из Колумбийского университета. Это меня не очень волнует. Прошлой осенью ей было еще рано идти в колледж. Я пыталась ей это втолковать. К тому же в этом Колумбийском радикалов сверх всякой меры — меня такое не устраивает. Здесь ей будет гораздо лучше. Сейчас я хочу пристроить ее на работу — на любую, лишь бы она была несколько месяцев при деле, отвлеклась от всей этой политики. Я даже не против благотворительной деятельности — если у нее есть желание помочь ближнему. Наверное, в «Объединенном призыве» достаточно работы дли добровольцев.
— Надо полагать, что так.
Лэндон задержал дыхание, посчитал про себя десять секунд, пятнадцать. На тридцати он выдохнул, подумав при этом: наверное, тонущий умирает ужасной смертью. Бьешься в темной воде, а диковинные морские создания медленно проплывают мимо, им и невдомек, что ты борешься за жизнь; задерживаешь дыхание, и вот наступает последняя жуткая секунда, когда телу нужен воздух, но вместо него в легкие устремляются потоки воды. И человек захлебывается — вода не воздух. Между прочим, Вирджиния Вулф[64] утопилась, надев на шею камень. От этой тошнотворной мысли у Лэндона закружилась голова. А может, из-за воздуха в комнате. Он загустел от дыма, наполнился тяжелым и гнетущим пряным запахом.
— Осенью, — сказала Вера, — я хотела бы видеть ее в «Тринити». Я знаю, что ей там понравится. Я уже говорила об этом с Саймоном Эспеллом, он не видит никаких проблем. Оценки у нее хорошие…
Слушая вполуха, Лэндон продолжал глубоко дышать, хотя для человека, нуждающегося в кислороде, условия были далеки от идеальных. Все равно что бегать трусцой около автострады. Для сердца — то, что надо, для легочной системы — смерть…
— Так вот, Фред, я хочу, чтобы ты мне помог. Джинни тебя очень любит и, наверное, прислушается к твоему мнению. Более того, если мы для разнообразия выступим единым фронтом, она наверняка отнесется к этому серьезнее. О господи, ты что, не слушаешь меня? Почему ты корчишь рожи?
— Извини. Я слушаю… Я все время слушаю.
— Ну… Так ты поможешь?
— Разумеется, я сделаю все, чтобы помочь Джинни.
— Чтобы помочь Джинни, ты должен сейчас помочь мне, поверь.
Ну вот, опять тянет. Может, это железные обручи сжимаются вокруг его груди? Где-то он читал: таким способом средневековые церковники вытягивали признания у еретиков. Как называлась эта штука? Доминиканские браслеты! Еще один бесполезный факт. Но эти обручи вокруг его груди… может, они — порождение Вериной воли? Ее мощного напора? «Я знаю, что ей там понравится». Люди, подобные Вере, манипулируют жизнями других людей весьма уверенно. Отколь она, уверенность сия? Откуда они могут знать, что поступают правильно? И почему он не воспротивится, почему стоит как перегретый котел, который того и гляди взорвется? Апоплексический удар! Наверное, ему на роду написано как раз это. Вполне в его духе — гикнуться от чего-то именуемого таким старомодным и заплесневелым словом. Вера тогда скажет Джинни: твой отец жил чудной жизнью и умер чудной смертью. Все-таки надо выбраться отсюда, глотнуть свежего воздуха. Извинившись, он протолкался сквозь танцующих, вышел на кухню и открыл дверь, которая вела к черному ходу. Он медленно поднимался по деревянным ступеням, радуясь, что идет почти беззвучно. Да, старые дома — это вещь! Тут если уж стена, так стена.
На первой площадке он остановился перед дверью. Тут была ванная, где скрывался Харви Хаббард, когда Бланш в старые недобрые дни ступала на тропу войны.
В ванной он повернул рукоятки до отказа, и из кранов полилась вода, завертелась в бериллового цвета раковине — в этот крохотный бассейн нырнули его исстрадавшиеся по влаге руки. Мыло имелось на выбор: ароматное белое пирожное для дам, мужчинам же предлагалось коричневое с темными крапинками печенье, зернистое на ощупь. Лэндон понюхал его. Овсяное мыло. Его сестра когда-то торговала таким для фирмы «Эйвон», разносила по домам. Не только мыло, а и стеклянные пушки, заряженные дезодорантом, миниатюрные старинные автомобильчики, заправленные одеколоном. Тщательно намылив лицо и руки, он сполоснул их в зеленоватой воде и притиснул к лицу полотенце. Этот акт очищения он иногда совмещал с созерцанием. На отяжелевшем лице, глядевшем на него из зеркала, лежала печать задумчивой грусти. Но кожа была еще эластичной, а голубые глаза лучились приятным светом. Ну и, разумеется, волосы — тут полное изобилие, богатство, молодость. Тщеславие, тщеславие, все есть тщеславие, сказал проповедник. Тем не менее спасибо тебе, господи, за эти волосы. Но откуда грусть? К началу вечера он чувствовал себя неплохо. После долгих месяцев он нашел работу. Женщина в «Эссекс амз» шептала ему на ухо слова любви. И все же сейчас его не отпускали какие-то пугающие мысли. Скорее всего, это Вера со своей решительностью. Она старалась изо всех сил, не позволяя себе расслабиться. Эти мысли угнетали его, потому что, вполне возможно, Вера была права. Может, свою жизнь вот так и надо держать в узде? Ну, а что Джинни и Чемберлен? Это школьное увлечение, не более. Его совет (которого никто не спрашивает) был бы такой: спустить, как нынче выражаются, это дело на тормозах и не слишком давить. Он понял, что по старой привычке спорит с Верой in absentia[65]. Но поговорить об этом с Джинни все-таки надо. Только как сказать, чтобы она не ощетинилась? Любой опыт представляет ценность, но, прежде чем совершить какую-нибудь глупость, подумай о последствиях. Нет, но слишком напыщенно. А как иначе? Если человек чего-то не хочет делать, его нипочем не заставишь. Теперь — нипочем. Он просто рассмеется тебе в лицо. Можно надеяться только на везенье.
Он пересек комнату, откинул задвижку и распахнул слуховое оконце в передней стене дома. Стоя у окна, он глубоко дышал, наслаждаясь чистотой и прохладой воздуха. Под ним в сад вырывались звуки музыки, смех. На подъездной дорожке из гравия, возле гаража, притулился двухдверный «мерседес» Бланш, сочившийся сквозь голые окоченевшие деревья тусклый свет луны поблескивал на его серебряных боках. Лэндон, тянувший ноздрями воздух, как старый пес, услышал шелест шагов по гравию и звук голосов — кто-то шел к дому. Еще до того, как две фигуры появились на дорожке, он узнал в ночи заливистый смех дочери. Тут же он их увидел: оба прижимали к груди по картонной коробке, в оконном свете кубики льда искрились, как драгоценные камни. Они шли прямо на него, неспешно наслаждаясь вечерней прогулкой. Лэндону почему-то стало неловко вот так стоять и смотреть на них. Словно в этом было что-то неприличное. Но что он боялся увидеть? Что перед тем, как отдать хозяйке лед, Чемберлен чмокнет его дочь в щеку? Перед тем, как вернуться на вечеринку, потискает ее в кустах рододендрона? Лэндон чуть поморщился. Едва ли найдется человек, который спокойно встретит мысль о том, что к его дочери прикасается другой мужчина. Что это в нем шевелится — фрейдистская чепуховина или опыт предков? А сны, которые его донимают, — это как? Он закрыл оконце и отошел от него, снова включил краны, повернул ручки — вода урчащим потоком забурлила вдоль зеленых боков раковины. Если там внизу и будут какие-то обжиманцы, он этого не услышит. А не услышит, значит, ничего и нет. Старый страусиный приемчик, к тому же — семейная привычка. Его сестра включала краны на полную мощь, когда сидела на унитазе. Вода хлестала из труб. В старой туалетной комнате в Бей-Сити. Лицо в зеркале смотрело на Лэндона, поджав губы. Похоже, оно насвистывало песенку, которую Лэндон не слышал много лет. Какие там слова?
Я так люблю тебя, моя малышка, Ах, без любви твоей, ты знай, мне крышка.Внизу он стал бродить среди извивающихся тел в поисках дочери — старик Лир, согбенный и седой, ищущий свою Корделию. Случайно он схватил со стула, на который садилась женщина, полный стакан неизвестно чего. Он поднес его к губам и осторожно глотнул. Кто знает, что они в этом цирке могли намешать? А ЛСД имеет вкус? Давай, отравушка, дурмань косматую голову, погаллюцинируем. Ну, видения, где же вы? Но напиток оказался всего лишь виски с содовой. Подняв глаза, Лэндон увидел, что к нему идет Хауэрд. Он был «босиком в парке»[66], рука об руку с ним шел красивый парень, похоже изрядно перебравший. Хауэрд и сам здорово наклюкался, счастье так и перло из него. В темных глазах его замелькали хитринки.
— Дядя Фредди, дорогой! Хорошо развлекаетесь?
— Прекрасно, Хауэрд, — ответил Лэндон.
— Вы курите, дядя Фредди? — спросил Хауэрд. — Хотите травки? Очень хорошая.
— Спасибо, Хауэрд, нет. Я за рулем. Кстати, ты Джинни не видел?
— Последнее время что-то нет. Уж час, как не видел. Она была с этим очаровашкой.
— Да. Ну ладно, Хауэрд, я буду двигаться. А ты веселись… Собственно, тебя этому учить не надо…
Хауэрд в восторге загукал.
— Как нам не хватает вашего острословия, дядя Фредди. Теперь-то вы к нам будете заглядывать почаще, правда же? Мама только о вас и говорит.
— Да. Посмотрим, Хауэрд, как пойдут дела.
— Ну, идем, Дуэйн, — сказал Хауэрд, беря молодого человека под руку.
— Ко мне тоже заглядывайте, дядя, — пригласил молодой человек, удаляясь прочь.
Лэндон опорожнил стакан и смотрел, куда бы его поставить, как вдруг знакомый голос с нарочитым оксфордским акцентом произнес:
— Повторить, сэр?
Он обернулся, и в ту же секунду дочь клюнула его в щеку.
— Ну, как мой папуля?
— Твой папуля в порядке. Где ты была? Я уж тебя обыскался.
Джинни причесала густые светлые волосы и подвязала их резинкой в конский хвост. В своем бабушкином платье в горошек она была похожа на меннонитку[67].
— Мы с Ральфом ходили за льдом.
— Ах, да. Ученый, не чуждый политики.
Джинни скорчила рожицу и, понизив голос, заговорила с притворной серьезностью.
— О, да. Ученый, не чуждый политики. — Она засмеялась. — Ты его называешь «ученый, не чуждый политики», а мама — «твой новый друг». А твой новый друг сегодня будет? — Она сымитировала Верин слегка надменный голос почти идеально, и Лэндон чуть улыбнулся, хотя знал: поощрять подобные насмешки над ее матерью он не должен. Джинни посмотрела на отца и наморщила нос. — Между прочим, выглядишь ты не люкс. Чувствуешь себя нормально? Надеюсь, твои амурные дела тебя не утомили? — Какой бойкой и какой американистой она стала за эти несколько лет!
— Да все нормально, — успокоил ее Лэндон. — Просто я сегодня подустал, дел было много. Зато устроился на работу.
— Ой, потрясно! Что будешь делать?
Она зыркала глазами по комнате, на ее очках приплясывали блики света.
— Боюсь, все то же. Торговать. Наверное, мне теперь играть в «купи-продай» до конца дней своих. Слишком поздно что-то менять. — Он улыбнулся. Плакаться — с этим надо поосторожнее. Он посмотрел Джинни в глаза — высоко ли она его ставит? Кое в чем Джинни сильно пошла в мать. При всей своей колоссальной неприспособленности (несчастные гены Лэндона!) она восхищалась процветающими людьми — новоиспеченными прагматиками, делавшими дела. Не раз он улавливал в ней подспудную жалость по поводу его скромного житья-бытья. Однажды он слышал, как она рассказывала о нем подружке. «Мой папа — по коммерческой части. Он заместитель начальника отдела сбыта и все свои торговые дела проворачивает по телефону. У него важные заказы по всей стране, и он целыми днями названивает разным людям. Ему даже не надо выходить из кабинета». Понятно, подростки любят прихвастнуть отцами друг перед другом. Сейчас, однако же, на ее лице он не увидел ничего, кроме радости. После паузы Лэндон добавил: — Буду заниматься недвижимостью. Не бог весть что, но это работа, а потом, может, подвернется что-нибудь получше…
Но Джинни уже махала рукой.
— А вон и Ральф, папуля. Ральф, я здесь! — крикнула она. — Папуля, я так за тебя рада, честное слово. — Она подалась вперед и снова клюнула его в щеку.
Подошел Чемберлен — в своем псевдоковбойском одеянии, с обвислыми усами.
— Вечер добрый, — сказал Лэндон.
— Добрый, — ответил Чемберлен и засунул руки в задние карманы джинсов; сверкнули локти — это он стал оглядываться по сторонам.
— А где ваш друг? — спросил Лэндон. — Он не приехал?
— Какой именно?
Оглядывая комнату, парень чуть приседал, будто в ногах у него была пружина; эдакий шпаненок, попавший на костюмированный бал.
— Техасец. Или оклахомец… высокий такой? — спросил Лэндон.
— А-а, Логан… Нет, он не смог приехать. Кажется, девчонку свою проведать собрался. Грипп у нее, что ли. — Он повернулся к Джинни. — Я скоро смываюсь, Джин. Что-то я совсем подыхаю.
Хамоватый свиненыш. Похоже, занес в черные списки всех, кому больше двадцати пяти. Скоро Лэндон был выброшен за борт их разговора, он стал прислушиваться к бурлящей вокруг него вечеринке. Какой немыслимый тарарам обрушился на его уши! Но если набраться храбрости и посмотреть по сторонам, обнаруживалось очень много любопытного. В дальней комнате, оккупировав ее середину, полная женщина исполняла танец живота. Интересно, почему обязательно толстухи? Но публика встречала ее восторженно, подбадривала, хлопая в ладоши. В углу на диване, свернувшись калачиком, лежала парочка. Длинные волосы девушки скрывали их лица, но Лэндону показалось, что парень жует ее ухо. Разговор Джинни с Чемберленом почему-то перекинулся на дедушек. Эти мудрые старцы! Лэндон почувствовал укол ревности. Дедушки! Они у молодежи всегда персона грата. Они закаменели в легенду, время и тоска по былому инкрустировали их мудростью. И, разумеется, они не подлежат критике. Впрочем, это понятно. Чего их теперь критиковать? Они не страшны, и молодые могут позволить себе такую щедрость. Зато отцам от них достается сполна, не без горечи рассуждал Лэндон. Но ведь когда-то и сам он так относился к своему деду. К отцу матери, старому Ульфу Линдстрему, который почти все солнечные дни своей жизни провел в кресле-качалке, среди лоз винограда и листьев карказона[68], вившихся вокруг веранды старого белого дома в пригороде Бей-Сити. В плохую погоду он втаскивал кресло внутрь и сидел возле окна, смотрел мимо деревьев и шоссе на луга и мыс залива Джорджиан-Бей. И на свой коттеджи — «Голубая луна» и «Отдых туриста». Сюда никто не приезжал, разве что беспокойные молодожены: из расположенных к северу городов: дубоватые молодые люди и их нервные невесты, которым не терпелось добраться до Торонто или Ниагарского водопада. Старый Ульф! Целыми днями качался в кресле, взирал на поля голубыми, как летнее озеро, глазами, сидел и отмерял бег времени и бог знает чего еще. Он почти ничего не говорил и выглядел задумчивым, потому-то я и считал его старым мудрецом. Лэндон улыбнулся — жизнь не впервые надувала его.
Он вспомнил, как они ездили в город в двухдверном «форде» 37-го года со скошенным передом, правая рука старика, вся в пигментных пятнах — результат болезни печени, — лежит на кривой рукоятке переключения передач. Потертые плюшевые сиденья пахнут заплесневелым хлебом. Дедушка Лэндона, его первый герой! Копна ярких светлых волос нависает на лоб, отчего дедушка выглядит моложе своих лет. Он всю жизнь промечтал, а его коттеджи тем временем ветшали от запустения и в конце концов пошли на откуп полевым мышам и енотам. Иногда старик отпускал какую-нибудь корявую шутку или насвистывал «Сердце в груди», как Элмо Тэннер[69]. Или издавал птичьи звуки. На веранду в поисках своих слеталась половина окрестных птах, но находила лишь старика, дувшего в ладони. А туристы тем временем проносились мимо в послевоенных «фордах» и «плимутах», предпочитая новые мотели дальше по шоссе. Люди хотели иметь воду из-под крана и радио, которое само включается в определенное время. Понятно — какому коммивояжеру охота после тяжелого дня качать воду насосом? И ведь не скажешь, что старика не предупреждали. Отец Лэндона говорил ему об этом не раз. Убеждал, доказывал, а потом махнул рукой и уехал из дома. Лэндон помнил, как мальчишкой он лежал в постели и слушал: мать с отцом говорят о дедушкином «Отдыхе туриста». У отца — цепкий ум, бьющая через край энергия. Откуда это взялось? Он вышагивал по гостиной на налитых усталостью ногах — ему приходилось целый день лазить по товарным вагонам; голос у него был грубый, зычный, учительский — отец всегда хотел быть учителем. «Почему он не хочет оторвать задницу от кресла — объясните, люди добрые! У меня это в голове не укладывается. Такая возможность бывает раз в жизни, он же ее проворонит! Ведь он сидит на живых деньгах! Надо только руки приложить! Это шоссе — после войны вдоль него вырастут магазины… бензоколонки… новое жилье. Он сидит на золотой жиле! Надо же действовать, ловить момент!» Отцовский взгляд на жизнь!
Дебелая и светловолосая мать Лэндона поднимает голову от книги. «Будет тебе, Джим. Оставь его в покое. Ты же знаешь, что он за человек. Ему рисковать — нож острый. Такой уж он есть и никогда не переменится. Если человек не хочет меняться, он не изменится, хоть ты тут лопни». Эти слова произносятся слегка нараспев, под Барбару Стэнуик[70]. Или еще под кого-то из спектакля Королевского театра, виденного ею вчера. Она вовсе не думала издеваться над отцом. Такого никогда не было. Просто она подсознательно всю свою жизнь играла — то эту маску наденет, то другую. Разговор о старом Ульфе прокручивался уже много раз, и ее роль была обкатана. Исстрадавшаяся жена заурядного мужа, ее судьба — коротать свои дни в трясине захолустного городишка. Разве он, с его книгами по математике и другим наукам, может понять поэзию жизни, богатую гармонию бытия? Ей оставалось только ждать: вдруг появится странствующий красавец, скажем, пребывающий в состоянии временного кризиса писатель, — в черном пиджаке, широкополой шляпе и до жути похожий на Джона Гарфилда[71]. И нашелся ведь такой — Чарли Эймс! Да, эти разговоры о дедушке Линдстреме! Отец Лэндона с трудом сдерживался, чтобы не высказать все, что он думает об этих флегмах — Линдстремах, — и выходил на заднее крылечко с книгой под мышкой. Что-нибудь толстое, самообразовательное. Потрясающе! «Звезды и планеты: их перемещения в пространстве». Приткнется возле бельевого шеста, положит книгу на колено, закурит самокрутку. Несчастный отец! На Джоанне Линдстрем он женился, когда ей было девятнадцать, светлые волосы она тогда носила «лесенкой». Лэндон видел старые выцветшие фотографии: его мать стоит на возвышении, рядом молодежь. Она, бесспорно, была первой красавицей в Бей-Сити, и от ухажеров не было отбоя — так она рассказывала Лэндону много лет спустя. Однако выбрала она его отца — он показался ей человеком серьезным и куда более зрелым, чем остальные. Лэндон, рассеянно слушая дочь среди гомона а музыки, ворошил эти давно ушедшие времена. Наверное, Джим Лэндон покорил мать своей серьезностью. Натуры беспечные часто тянутся к натурам суровым, возможно, путая при этом глубокомыслие с глубиной, надеясь, что их собственная игривость будет как-то уравновешена. Взять, к примеру, этого Чемберлена. Лэндон поймал себя на том, что внимательно изучает его бледное сосредоточенное лицо, тяжелый, как у Савонаролы, нос, тонкие губы, зловещие усы. Лицо фанатика. Его мрачная и пасмурная красота говорила о желчности и тщеславии. Он знал, что нравится женщинам, и любил бросать на них хмурые взгляды. Совершенно ясно, что Джинни узрела в нем какую-то глубину, хотя не исключено, что он просто-напросто брюзга, вечно недовольный щенок, которого способно расшевелить лишь негодование. Сейчас вид у него был глуповатый. Может, оттого, что хочет спать. Лица с жесткими чертами, как у него, должны быть все время напряжены, иначе они расклеиваются и огрубляются. Чемберлен без особого внимания слушал трескотню Джинни насчет ее дедушки, как тот играл с ней, когда она была совсем девчонкой. Он так многому ее учил, часто прекрасному и настоящему. Все это, конечно, был вздор, втирание очков себе самой. Ее дед никогда не уделял детям много времени. Этот угрюмый, живший в каком-то напряжении человек был слишком поглощен библиотечными книгами и витающей вокруг него тишиной. Позднее Лэндон пришел к выводу, что он затаил на своих детей обиду. Он истлел во многом по их вине, из-за них он упустил свой главный шанс. После смерти Билли общаться с молодежью стало для него пыткой. В их присутствии ему казалось — сама своенравная жизнь отчитывает его.
Джинни обращалась к нему:
— Папуля, а ты что об этом думаешь?
— О чем? Извини.
— О том, чтобы на выходные поехать в Бей-Сити и повидать дедушку. Я его сто лет не видела.
Лэндону не хотелось, чтобы Джинни ехала в Бей-Сити именно сейчас. Тем более с этим сычом-беженцем. Хватит того, что едет Маргарет, — Эллен и так забросает его вопросами.
— Видишь ли, Джинни, я сам завтра собираюсь в Бей-Сити, — сказал он. — Хочу повидать твоего дедушку.
— Так это же здорово! — воскликнула она. — Поедем рее вместе. Я сделаю бутерброды… Устроим пикничок. Идея — блеск!
— Не знаю, Джинни, не знаю, — засомневался Лэндон. — Твой дедушка — старый человек, он серьезно болен. Что же мы будем подвергать его такому волнению? Это его утомит…
— Но, папуля, я точно знаю: мне-то он обрадуется! Меня он видит не каждый день. — Она вдруг загорелась — прямо вспышка энтузиазма. Строить планы, организовывать людям их дни — это она любила. Может, когда-то из нее выйдет агент в бюро путешествий. — Ральф! Тебе все равно надо за город. Подышишь там свежим воздухом. Ты же нигде в Онтарио не был, только в этом дурацком старом городе. На привидение стал похож.
Ральф сделал кислую мину.
— Как я могу куда-то ехать без машины?
Лэндон не одобрял идею Джинни, но еще меньше ему понравилось убиение энтузиазма нытьем. Дать бы ему сейчас под зад! Но заставить Джинни отступиться от своего было не так просто.
— Насчет машины не беспокойся. Машину попросим у тети Бланш. Или еще у кого-нибудь…
Лэндон предпринял последнюю попытку:
— Джинни, если ты совсем вернулась в Торонто, у тебя будет вагон времени поехать и повидаться с дедушкой. Еще какие-нибудь две недели — и встречай весну. За городом все зазеленеет…
В глазах Джинни явственно забегал огонек. Уж не веселье ли там, за этими очками а-ля Бенджамин Франклин? И не собирается ли она разразиться смехом?
— Ты едешь не один? — с улыбкой спросила она.
Ох, эти женщины! Их чувствительные антенны так и зондируют воздух, улавливают малейшие колебания — в поисках сердечных тайн.
— Не один, — признался Лэндон. — Со мной едет приятельница.
— Папуля, ты, ради бога, об этом не беспокойся, — затараторила Джинни, сжав его руку. — Я до смерти хочу ее увидеть, но мы с Ральфом доберемся и сами. Может, там с вами встретимся. Мы-то поедем не надолго… Эй… — Она дернула его за руку, будто уговаривала капризного ребенка. Ему пришлось взглянуть на нее. Иногда от этого панибратства хотелось куда-нибудь сбежать. — Эй, послушай… Ну не хочешь, мы завтра не поедем… Перенесем на следующую субботу.
Вообще-то говоря, чего он уперся? Почему девочка не может повидаться со своим дедом? И поводить Эллен за ее инквизиторский нос?
— Ничего. Не обращай внимания. Езжайте, все будет нормально.
— Ну и отлично. Значит, договорились. — Она шагнула назад и оглядела комнату, потом ткнула Ральфа в бок. — Ну что ты, Ральф! Нечего киснуть!
— Я устал, Джин.
— Знаю, рыбка моя. Скоро поедешь… И… оп-ля… вот и наша дорогая мамочка. По-моему, она здорово поддала, а, папуля? Как считаешь? Знаешь, ей бы с этим надо поосторожнее. А то она последние недели без конца прикладывается. Пару стаканчиков перед обедом. Пару стаканчиков перед ужином… Она всегда говорила про тетю Бланш и ее проблему. А сейчас… Надо ей с этим поосторожнее. Сейчас тетя Бланш вроде бы и лучшей форме, чем дорогая мамочка.
Слова дочери неприятно задели Лэндона. Молодых отчитать не моги, чуть что — они сразу в стойку. Сами же всегда готовы накинуться на взрослых. Подловить в минуту слабости и вонзить кинжал. Но к ним, ослепительно улыбаясь, уже подошла Вера.
— Ну-с. Вот мы и снова вместе. Наше маленькое семейство счастливо воссоединилось. Не прекрасно ли это! — Она тут же взяла за руки Лэндона и Джинни и притянула их к себе. Подобная демонстрация чувств была ей не свойственна. Видно, клюкнула она прилично. — И о чем же мы беседуем, если не секрет? Надо думать, о планах? Или о том, какая сложная штука — жизнь? Какая неразрешимая загадка? Ты потчуешь молодежь пословицами из своей громадной коллекции, Фред? Или ведешь себя, как подобает современному взрослому, и выслушиваешь их точку зрения? Позицию нового поколения?
Во время этой тирады Джинни взяла за руку Ральфа и подтащила его поближе. На лице ее было недовольство.
— О боже, мама. К чему эта театральность? Ты говоришь точь-в-точь как родительница из какой-нибудь старой бродвейской комедии.
— Правда, дорогая? Неужели театральность? Да нет же… — Она смолкла. — Я бы сказала, что на сегодняшний вечер самая театральная в нашей семье ты. Одно твое появление чего стоило. Я еще подумала — вот это шик! Правда, такие платья не совсем в моем вкусе. Откровенно говоря, дорогая, по-моему, оно тебя старит раньше времени. Эдакая маленькая старушка, которая жила в башмачке.
Джинни вспыхнула. Удар Веры пришелся в цель, была пущена кровь. По жилам Лэндона зазмеился яд оскорбленного самолюбия.
— А знаешь, мама, что мы будем делать завтра? Мы все едем в Бей-Сити.
— Да что ты? Как прелестно. Семейный пикник, да? Может, время года не самое подходящее. Тем не менее… Вы можете пообедать у тети Эллен. Очаровательная женщина. Кстати, Фред, как она там?
— Мама, а папуля берет с собой приятельницу.
— Очень рада за него! И за всех вас! Вы прекрасно проведете время, вот увидите. — Вера крепко сжимала их руки.
— А как ее зовут, папуля? — с убийственной настойчивостью спросила Джинни. Лэндон почувствовал, как у него дымятся подошвы.
— Ее зовут Маргарет, Джинни, — сказал он со смутной досадой в голосе. Вера взглянула на него.
— Ну-ну, Фред. Что такое? Женщины — всегда женщины, ты же знаешь. У них свои маленькие игры. Не так ли, Вирджиния-Энн?
Кошачьи повадки. Стервозные выходки. Как ему иногда хотелось убраться подальше от женщин. От всех. Даже от Маргарет. Тоже ведь сплетничает о коллегах-учительшах! Вот бы здорово — прижаться лицом к холодному камню монастырской стены; звон колокола призывает тебя в общество мужчин в сутанах. Может, еще не поздно податься к траппистам[72]? Он будет опалывать мотыгой репу или босыми ногами мять виноград; жить с людьми, которые в совершенстве овладели искусством держать рот на замке.
— Я устал, Джинни, — сообщил Ральф. — Пожалуй, я слиняю.
— Ладно… Я попрошу у тети Бланш машину и свезу тебя домой. Ральф еще не совсем поправился после мононуклеоза. Спокойной ночи, мама… пока, папуля.
— Только не задерживайся… пожалуйста, — попросила Вера. — Чтобы через час была на месте… И поаккуратнее с тетиной машиной.
— Да, да. Ну, всем спокойной ночи… — Она скакнула в сторону, увлекая за собой Ральфа. — Папуля, завтра увидимся, — выкрикнула она. — Мы, пожалуй, двинем после обеда.
Вера проводила их взглядом, потом повернулась к Лэндону.
— Фред, извини, но я с тобой прощаюсь. Ужасно тяжелый был день.
— Понятно.
Вера оглядела комнату.
— Если бы найти Бланш, я бы сейчас всех отсюда вытурила. Почти час ночи. Ты посмотри, что здесь творится! Весь пол в пепле, ковер уделали вином. И где только Хауэрд их берет, этих своих друзей?
— Прекрасный вопрос.
— Некоторые из них, по-моему, развращены до крайности.
Гости по большей части уехали, но кое-кто задержался, люди стояли группками и говорили о религии или политике — две заключительные темы всех алкашей и горемык. Кто-то откопал пластинку с джазовыми блюзами, и сейчас по дому плавали сонные звуки саксофона-тенора. Неожиданно Лэндон вздрогнул — Вера тронула его за рукав.
— Ты ведь не забудешь о нашем разговоре, Фред? У Джинни все будет хорошо, но ее надо направить. Этому маленькому поганцу в ее жизни делать нечего. Хватит с меня одного Эрни Монро — второй не нужен.
— Вера, я, конечно, сделаю, что смогу, но на людей можно давить лишь до какого-то предела. Дальше натыкаешься на сопротивление. Перед твоим носом может разорваться хлопушка.
— Просто поговори с ней, будь так любезен. Больше я ни о чем не прошу.
— Поговорю, если смогу удержать ее на одном месте.
— Пожалуйста, постарайся.
Сквозь материю он чувствовал нажим ее пальцев. Давно она к нему не прикасалась. Многие годы.
— Что ж, Фред, спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Вера.
Она отошла на несколько шагов, потом обернулась.
— Надеюсь, завтра у тебя будет приятный день.
— Спасибо.
Вера ушла, а Лэндон озадаченно подумал: откуда вдруг такое дружелюбие? Неужто Джинни была права вчера, когда намекнула, будто Вера к нему еще что-то чувствует? Нет. После всех этих лет — исключено. Но с чего ей быть такой радушной?
В прихожей Лэндон начал рыться в шкафу, ища пальто. За старыми костюмами он обнаружил высокую цилиндрическую корзину, а в ней — зонтики и несколько старых палок Хьюза Ритчи. Но где же это чертово пальто? Конечно, рассчитывать на вежливость — элементарную! — может только безнадежный идиот. Что за люди! Когда-то он закрывал глаза: пусть потакают своим желаниям, пусть ведут себя как дети, пусть смехотворными обезьянами копируют жизнь английского дворянства. Эта их охота верхом с собаками на загородных холмах, эти предвечерние чаепития и бутерброды с огурцами. Он мог простить даже их фундаментальное скудоумие, их катастрофическую глупость. Но раньше по крайней мере они были подчеркнуто вежливы. Сейчас, как видно, нет и этого. Дверь они тебе еще откроют, поздороваются, но уже через четыре часа нм на всех накласть, а человек не может найти свое пальто. Вдруг он вспомнил. Хауэрд уволок его пальто в одну из спален на втором этаже. Лэндон застонал. Насколько он помнил, спален над его головой было не меньше десятка.
Тяжело налегая на перила, он медленно добрался по широкой лестнице до первой площадки. Наверху была полная темнота. Почему не осветить дорогу одинокому путнику? Он попробовал первую дверь — заперта, пошел дальше по коридору, дергая каждую дверь, как деревенский полицейский на ночном обходе. Третья ручка поддалась, и дверь тихонько открылась на хорошо смазанных петлях. В комнате сладковатым густым туманцем стлался дым, неторопливо выплывая в открытое окно. Лэндон глянул в полутьму и тотчас вздрогнул: к портьерам, чтобы укрыться за ними, метнулась обнаженная фигура. Он захлопнул дверь, успев увидеть, как сверкнула чья-то белая ягодица и тощий голый бок.
— Извините, — буркнул он в мрачный коридор. За дверью кто-то прыснул.
— Что случилось, дядя Фредди?
— Хауэрд, я не могу найти это чертово пальто. — Кажется, он говорил слишком громко. Как человек, запертый в шкафу. — Куда ты его положил?
— В соседнюю комнату. На кровать. Наверное, весь свет выключили.
Радости Хауэрда не было границ, за дверью заржал еще кто-то.
— Большое тебе спасибо, — сказал Лэндон со всей преувеличенной учтивостью обиженного человека. Но какой толк от иронии в таких гротескных ситуациях? У соседней двери он прижал ухо к старому дереву и слушал так старательно, что в ухе зазвенело. Ведь можно напороться на что угодно. Скажем, на буйное веселье или на какое-нибудь сексуальное священнодействие, в котором фантастические позы воздвигаются с ритуальной строгостью, присущей матчу претендентов на шахматную корону. Он все не решался повернуть ручку двери. Для секса наступил пек дерзновенных поисков. Время требовало прежде всего оригинальности и высокой техники исполнения. Либо ты оригинален, либо — ноль. Высмеют и выгонят прямо из койки. «Вы хотите быть сексуальным нулем?» — такой грозный вопрос обрушивала на тебя реклама какого-то журнала. Конечно, не хочу. Это дело серьезное. В книжных магазинах руководствам по сексу отводились целые стены. Попадались среди них и затейливые книжонки. Только прочитать это — уже чувствуешь себя как выжатый лимон. Лэндон хаживал в такие магазинчики на нижней Йонж-стрит и, стоя на собственных мозолях, листал эти буклеты — вместе с другими дядями среднего возраста. Меж покупателей были и седовласые, с печатью усталости на морщинистых лицах. Страдальцы-одиночки из меблированных комнат, экзотические рецепты любви они изучали при свете голой электрической лампочки. Сама мысль об этом наводила тоску. Но что за сексуальная каша у него в голове? Наверное, из-за Хауэрда с его идиотскими играми. Лэндон открыл дверь и увидел перед собой пустую темную комнату. Включил свет — на кровати явно валялись, после чего на скорую руку попытались — замести следы. В поисках пальто пришлось опуститься на колени, и, что-то бормоча, на четвереньках (в какие только мудреные положения не ставит нас судьба!), он наконец обнаружил его под кроватью: скомканный куль. Он разгладил ладонью помятую ткань и удалился, пройдя мимо комнаты Хауэрда на цыпочках.
Внизу у лестницы он увидел Бланш. Казалось, она отдыхала, готовясь предпринять ее штурм; одна рука лежала на перилах, взгляд был устремлен на затянутые ковром ступени. Возможно и другое: она перепила, ей плохо, и Лэндон окликнул ее, быстро спускаясь по ступеням и запихивая руки в карманы помятого пальто. Услышав его голос, она подняла голову, и глаза ее забегали по его лицу.
— Боже, Фредди, дорогой мой! Где ты был? — Вид у нее был утомленный и больной. — Я раньше тебя искала.
— Нормально себя чувствуешь? — спросил Лэндон.
— Да, конечно. Сейчас нормально. Весь этот шум! У меня голова разболелась, вот я и прилегла вздремнуть. Боюсь, почти весь вечер проспала. — Она слабо улыбнулась. — А я надеялась, что мы серьезно поговорим сегодня, ты и я…
— Эти твои вечеринки, Бланш. Разве в такой обстановки можно говорить о чем-то серьезном?
— Ты абсолютно нрав. Зачем я все это устраиваю? Наверно, чтобы сделать приятное Хауэрду. — Она снова взглянула на ковер, будто разглядывая туфлю. Почему-то при виде ее покрытой синими венами нош у Лэндона защемило сердце. — Да, чтобы мой мальчик был счастлив, — мягко добавила Бланш. — Но он не счастлив, Фредди, в том-то и дело… — На нее словно давила какая-то громадная тяжесть. — Почти все время он ходит страшно подавленный. Я уж не знаю, что еще для него сделать. Он такое говорит, что у меня мороз по коже… — Она положила голову на грудь Лэндону и тихонько заплакала. — Я знаю, он нездоров… И не желает больше иметь дело с доктором Лоусоном. Свирепеет, стоит мне только о нем вспомнить. Он называл доктора ну просто кошмарными словами… Фредди, он звонит мне в середине ночи… И говорит такое…
— Да, Бланш…
Какая болезненная хрупкость, даже под платьем чувствуется! Крепким сложением она никогда не отличалась, а сейчас — просто кожа да кости.
— В середине ночи он говорит, что… хочет покончить с собой…
— О, господи…
— Говорит, что он подонок и жизнь для него — слишком большая роскошь… Звонит вот так три или четыре раза в неделю. Ну что делать, Фредди, подскажи?
Лэндон крепко прижал ее к себе. Странная израненная душа. Да. Что делать — вот вопрос. Именно. Как прожить жизнь? Но здесь рана была глубокая, пожалуй, залечить ее не под силу никому. Да и что тут, в конце концов, скажешь? В таких обстоятельствах слова бесполезны, даже опасны. Иногда ты только и можешь, что прижать к себе человека, покрепче. Вдруг Бланш оттолкнула его, упершись руками ему в грудь. Сверкнула влажными глазами.
— Фредди, прости, ради бога. Дурость какая-то накатила. Знаешь, я последнее время стараюсь изо всех сил.
— Да я не сомневаюсь, Бланш.
В отсвете огней из гостиной она выглядела изможденной.
— Очень стараюсь. Правда, правда. Но, понимаешь… — Она отошла от него, потеребила свое жемчужное ожерелье, отвела глаза. — Зря я сегодня пила. Не знаю, почему я в таких делах веду себя как последняя идиотка. Ведь доктор мне говорил. И несколько таблеток я приняла… Ну да ладно. — Она смолкла, посмотрела куда-то мимо Лэндона, и на лице ее загуляла смутная улыбка. — Пожалуйста, пойми меня правильно, но я из-за этого в постоянном напряжении. Из-за Хауэрда. А теперь… я так люблю Веру и Джинни, я просто счастлива, что они здесь… но Вера заставляет меня нервничать. Как всегда.
— Да, я знаю.
— Да нет, не обращай внимания. Забудь об этом. Она моя сестра, и я очень ее люблю, правда. А Джинни просто обожаю. Пожалуйста, забудь о том, что я сказала. Извини. — Она снова отвела глаза, будто осмысливая какую-то абстрактную проблему. — Странно — как часто я говорю «извини»… Тебе не кажется это забавным? Только и делаю, что прошу прощения. Мне это Харви всегда говорил. — Она свела руки вместе. — Ну да ладно. Тебе пора бежать, дорогой. Я вижу, ты устал… Только обещай, что скоро заглянешь повидаться со мной.
— Конечно, Бланш. Даже очень скоро. В общем-то, я позвоню тебе на той неделе.
— Точно?
— Точно.
— Какой ты милый. Мы попьем чаю. Не джина и не виски… Ну вот… Мне уже лучше.
— Вот и хорошо.
Лэндон нагнулся и поцеловал ее в щеку, снова вдохнув знакомый запах увядания. Теперь она смотрела на него по-иному, держа за обе руки — совсем как его незамужняя тетка.
— А мы слышали, что у тебя новая приятельница. — Она помолчала. — Надеюсь, она добра к тебе, Фредди.
— Да, Бланш, она очень добрая.
— Вот и хорошо. Прекрасно. Ну, а теперь — спокойной ночи. Благослови тебя бог.
— Да. Спокойной ночи, Бланш.
На лужайке Лэндон сквозь ветви деревьев взглянул на черное небо. Луна давно ушла спать, и по беззвездному небу струилась тьма. Ветки старых деревьев шевелились и поскрипывали на морозе. Пока что стояла зима, и Лэндон попросил господа: пошли скорее весну.
* * *
Поток транспорта бурной рекой лился по автостраде, машины рвались из города в неведомые дали. По крайней мере неведомые Лэндону, наблюдавшему за вжикающими мимо машинами из «де-сото» Гранштейна, этого тяжелого стального панциря. Стояло еще одно холодное утро, и солнечный свет играл на поверхностях машин, зловеще отскакивал от выбеленного морозцем полотна дороги. Прямо перед глазами Лэндона густо-рубиновый капот «де-сото» сверкал и переливался, как старинный драгоценный камень тонкой работы. Перед выездом Лэндон протер машину тряпочкой, надраил ее до блеска, как все автовладельцы по субботам. Однако старая машина изрядно потрепала ему нервы, наотрез отказываясь заводиться. Обычная история повторилась, и Лэндон, коптя своим дыханием сыро-влажный воздух гаража, пытался уломать строптивое зажигание. Рядом с ним неподвижным камнем сидела Маргарет. Ее словно что-то томило, даже угнетало. Да и вчера, когда они кончили заниматься любовью, она погрузилась в это мрачное молчание. Странная дамочка. Может, у нее такая полоса? Но он немного сердился на нее. Неужели до сих пор нельзя было отремонтировать машину? К ней, как и к нему, относилось выражение «на охоту ехать — собак кормить». А когда в доме таких двое, все стоит на месте. Нельзя подбирать себе в пару человека, у которого те же слабости, что и у тебя самого. Нужно, чтобы недостатки уравновешивали друг друга. Тогда и вина, и беда будут делиться надвое. Вскоре, однако, старая колымага ожила, и Лэндон погнал ее к северу.
Сейчас Лэндон рулил по автостраде с умеренной скоростью пятьдесят пять миль в час (мы вам не Оззи К. Смит!), не обращая внимания на гудки сзади. Голубое утреннее небо на севере становилось белесым. Под тем небом шел снег. Резкие порывы ветра жестко крахмалили флаги на крышах маленьких заводов и учреждений. А вот, пожалуйста, расширяют дорогу. Дорожники на выходные оставили у обочины свои бульдозеры и гигантские катки. Каких только грозных орудий не придумали, чтобы уродовать землю-матушку! Лэндон глянул на них — сейчас они бездействовали, молчали, словно застывшие в оцепенении чудовища. Что же касалось данного клочка канадской территории — более всего он напоминал район, подвергшийся суровой бомбежке. Почва была грубо вывернута наизнанку, опалена. Разумеется, это вызвано необходимостью. И все согласовано с властями. Старомодные взгляды здесь уже не проходят. Машины сейчас громадные, им подавай простор! Но сколько надо пространства, чтобы их ублажить? Восемь рядов? Десять? Двадцать? А если через тридцать лет какой-нибудь умник выдумает новый способ перевозить людей — подешевле и поэффективнее? Кому тогда будут нужны эти супертрассы? В кегли, что ли, на них играть? Или устраивать на этих бетонках роликовый марафон — в благотворительных целях? Тьфу! Американцы столько наломали дров — а мы все их ошибки повторяем, как попки. Что за дубинноголовость такая! Ничему не желаем учиться. Неспешно поднявшись у развязки по дуге и направим машину к северу, и сторону шоссе 400, Лэндон расслабился. Поток машин поредел, и основном все двигались к западу. Рядом с ним Маргарет молча взирала в окно на унылые заводики и фабрички, вытянувшиеся вдоль шоссе, как бусинки в дешевом ожерелье. Он мельком взглянул на Маргарет. Такие выезды она совершала не часто, и хотя пейзаж был не сказать чтобы божественный, все же какая-то новизна.
В субботу утром они обычно отправлялись за покупками на Кенсингтон-маркет. Сейчас Лэндон понял, как ему не хватает этой еженедельной вылазки. Ему действительно нравился этот старый уличный рынок, в Торонто таких больше не осталось. В погожее утро жизнь там бьет ключом. Под каблуками звенит холодный зимний асфальт. Там он, можно сказать, чувствовал животворный пульс жизни, его ритмичные толчки бодрили кровь. Вот тебе — современный человек! По части истинных впечатлений — на голодном пайке. Он не раз думал об этом, шагая по улицам Нассау и Болдуин-стрит. Открытые спереди прилавки со всякой всячиной. Ряды пальто и платьев. Картинки и книжки на религиозные темы. Дамские сумочки и браслеты для часов. Лотки с фруктами и овощами; в центре города кукарекают петухи, глядящие на мир желтыми глазами из своих решетчатых ящиков. Любил он наблюдать и за людьми: вестиндки, которые прекрасно знают, чего хотят, когда покупают бобы, рис и сладкий картофель; парни из колледжей и молодожены — они еще толком не проснулись и ищут, у кого бы купить подешевле; старые иммигранты — эти отщипывают товар на пробу прямо под носом у хозяина. И еще ему нравилось смотреть, как управляется с нахальными торговцами Маргарет. Такого покупателя на мякине не проведешь, тут она подходила к делу серьезно и даже строго. Запудрить себе мозги она не давала никому и всегда покупала выгодно. Он смотрел на нее с изумлением. Тут она была счастлива, глаза ее сияли под платком, щеки рдели ярким румянцем на морозном воздухе. Этот рынок напоминал ей о детских годах в Кракове, и частенько ее охватывало невероятное оживление, она хватала его за руку и показывала: смотри, какой хороший товар, и совсем недорого! В эти субботы она открывалась ему другой своей стороной. Он тоже ее развлекал, валяя дурака в фермерской куртке из жеребка на овчине, в своей натянутой на уши чалме помидорного цвета — Маргарет хохотала, когда он с нарочитым немецким акцентом заказывал штрудель. Они ели штрудель, гуляя по улице, и он грел ее руки дыханием, иногда держал их между своих шерстяных варежек или прятал к себе под куртку, где она могла услышать биение его благодарного сердца.
Они вместе относили покупки к ней домой, она мыла овощи в раковине на кухне, потом клала их сушиться на деревянную доску. В гостиной Лэндон садился в одно из ее мягчайших кресел и, попивая из стакана шнапс или водку, наблюдал за кошкой — она спала перед маленьким черным камином, в котором когда-то тлели угли. Возле его уха жужжал и постукивал радиатор, и кошка просыпалась, начинала ворошиться и выгибаться, тянуть вперед когтистые лапки. В неприбранной комнате стоял полумрак, старые розовые обои потемнели и отклеились по углам. В квартире было полно всяких религиозных штучек, прямо Лурд[73] в миниатюре, часто думал Лэндон. На неуклюжем обитом парчой диване теснились подушки с цитатами из Библии. Стены были украшены дешевыми ковриками, обагренными кровью Христа. Ему попадались такие на рынке. Были тут гипсовые девы Марии со свечными огарками и повсюду — распятый на кресте Христос; водился такой и в спальне Маргарет — тонкий в талии и лукавый с виду, он взирал на старое железное ложе. В темной столовой отдавало чем-то кисловатым — средством для полировки мебели и пустотой. На буфете обосновался прекрасный медный самовар, на стенах висели фотографии бородатых родственников из старого света. Все это, вместе взятое, производило на Лэндона гнетущее впечатление, хотелось глотнуть свежего воздуха. Дух здесь изнемогал. Маргарет постепенно пропалывала эту религиозную клумбу, но Лэндон чувствовал — она не торопилась выбрасывать эти украшения: наверное, каким-то загадочным образом это причиняло ей боль. Матушка была скуповата, и дом был завален всяким диковинным барахлом. Маргарет показала ему старые рождественские подарки: коробки с сукном и льняным полотном, припрятанные на черный день. Ночные рубашки, банные полотенца и наволочки, пожелтевшие от времени, — ими никогда никто не пользовался. У Лэндона мурашки забегали по коже. Как-то утром он листал кипу старых журналов: «Кольере», «Либерти» и «Сэтэдей найт», переворачивал заплесневевшие и влажные страницы и чихал, проглядывая рекламу автомобилей «кайзер» и зубной пасты «ипана». На квадратном коричневом граммофоне бешено вертелась запиленная пластинка на 78 оборотов, и в сухой наэлектризованный воздух выпархивали польские танцевальные мелодии; задорная музыка бросала вызов промозглой серости февральского утра. В кухне Маргарет, мурлыча что-то, жарила пирожки, деревянной длинной ложкой переворачивая их на шипящей сковороде. Лэндон вдыхал запах жарящихся в горячем масле пирожков с творогом, и у него кружилась голова от счастья.
В «де-сото» он, насвистывая мотивчик одной из этих старых полек, думал: куда же он едет с этой своей соседкой? Женщина она хорошая. Тут сомнений нет. Может, немного эксцентрична со своим жизненным укладом, но по сути — человек порядочный. А ведь он еще многого о ней не знает. Знает лишь, что последние несколько месяцев она делает его жизнь счастливой, да и он как будто вызывает у нее взаимное чувство. Нужно ли проявлять жадность и желать большего? Она очень хочет сделать ему приятное, и это всегда трогательно. К примеру, сегодня она оделась специально для него. Обычно за своими туалетами она не очень следила, могла одеться неряшливо и безвкусно, как рассеянная старая дева. Иногда он думал: а не досталась ли ей в наследство матушкина скаредность? С ним она всегда была щедрой, но он знал: денежки у нее на учете. И в одежде, и в манерах она цеплялась за прошлое: за довоенную Польшу своей матери. Прожила тридцать лет в Канаде — и все еще одевается, как иммигрантка. Правда, появились признаки того, что она расстается с прежним образом жизни. Может, дело тут в смерти матери. Старушка, наверно, была мощной глыбой. В общем, Маргарет выглядела сегодня прекрасно: новые брюки, толстый вязаный свитер. Волосы зачесаны назад и подхвачены желтым шелковым платком в горошек, а на глазах с тяжелыми веками — следы голубых теней. Купила она и зимнюю куртку спортивного покроя, в красную с черным клетку, длина — до бедра, а вместо пуговиц — маленькие деревянные колышки. Наверняка Маргарет ухватила ее где-то в центре, на зимней распродаже. Что ж, вполне разумно. Однако, несмотря на американские шмотки, она все равно выглядела здесь чужой, гостьей, приехавшей на новую землю, да, она вырядилась под местных, однако настойчиво отказывалась смешиваться с ними. Ореол старого света все еще витал над ней и наделял ее… чем же? Чувством собственного достоинства! Была в ней какая-то внушающая уважение отстраненность. Она вполне сошла бы за новую жену фермера, за городскую иностранку, на которую смущенно поглядывают все местные парни, но имейте в виду — никаких шуточек. Эта дамочка может за себя постоять. Он все насвистывал, и она заулыбалась.
— По-моему, ты сегодня в превосходном настроении, — сказала она, глядя на него. Наверное, вспомнила, как он утром мучался с машиной. День начался с дурного предзнаменования. Но сейчас в ее голосе не было иронии. Все же, что ни говори, человек она милый и симпатичный.
— Да, верно, настроение что надо, — согласился Лэндон. — Наверное, из города надо почаще выбираться. Я уже забыл, что это такое — в субботу утром катить по шоссе. Не удивительно, что люди на выходные забираются в машины, мирятся с дьявольскими пробками. Зато что сравнится с этим чувством свободы! Можно понять, почему автомобиль завладел людским воображением. Он отвечает самым примитивным потребностям — свобода и жажда движения. — Он замолчал. Может, в такое утро обойдемся без лекций? — Ну и еще, я думаю, новая работа. Снова чувствую под ногами твердую почву. А то уж было стал терять веру в себя.
Маргарет полуобернулась к нему, положила ногу на ногу и по-мужски оперлась локтем о спинку сиденья — эдакий приятель по рыбалке, любитель потрепаться.
— А приезд жены не сильно тебя расстроил? Ты ведь этого опасался?
— Бывшей жены, Маргарет. Что тебе ответить? Пожалуй, нет. Так странно… Она еще способна вывести меня из равновесия. Она до того видит меня насквозь, что… неуютно становится. Но, как говаривали в старину на западе, в городе найдется место для нас обоих.
Маргарет чуть нахмурилась. Может, она из ревнивых?
— Я за тебя рада, Фредерик, — сказала она. — Надеюсь, дочка будет приезжать к тебе часто. — Она обхватила колено руками, сплела пальцы. — Мне так трудно представить, что у тебя взрослая дочь… почти женщина.
— Почему это так трудно представить? — спросил он.
— Ну, не знаю. Ты не похож на женатого человека.
— Чему тут удивляться? Я не женат уже бог знает сколько лет.
Минуту спустя Маргарет спросила:
— Интересно, я ей понравлюсь?
— Кому? Вере?
— Нет. Твоей дочери.
— О да, думаю, что да. Когда она узнает тебя поближе. А поначалу… возможно, будет немножко испугана.
— Испугана? Мной? Но почему?
Маргарет не на шутку взволновалась. Видно было, что для нее это важно. Лэндон помедлил.
— Понимаешь, сработает женская ревность… Ты ведь женщина сексуальная, Маргарет. Ты пытаешься это скрыть, но такое не скроешь. Другие женщины это улавливают и видят в тебе соперницу.
— Что за ерунда, Фредерик, — категорично прервала его Маргарет, глядя в окно на бурые поля. Она была недовольна. Подобные разговоры ее смущали. Стоило выйти из спальни — и во всем, что касалось секса, она становилась стыдливой монашенкой. Но Лэндон знал, что насчет Джинни он прав. Она поймет, что как женщина уступает Маргарет, и слегка надуется. Это вполне естественно. Окажись его пассия худой, угловатой особой, с ногами как у цапли — другое дело. Но, увидев Маргарет, Джинни забьется в угол и, положив ногу на ногу и скрестив руки на груди, будет бросать оттуда хмурые взгляды, как обиженный ребенок. Потом она оттает, но на это уйдет время. Да, тут он безусловно прав. Но Маргарет к своим женским чарам относилась болезненно.
— Я, конечно, могу ошибаться, — сказал он. — Джинни во многом похожа на свою бабушку Лэндон; и на меня, надо полагать.
— На тебя? — Маргарет снова посмотрела на него.
— Романтическая натура, в этом смысле, — уточнил Лэндон. — Мечтательница. Все время полна каких-то идей, но энтузиазм иссякает так быстро, что чувствуешь себя жутко подавленным, просто разбитым. — Моя мать была точно такая. То и дело за что-то хваталась и тут же быстренько это бросала. Гадание, телевикторины для домохозяек, любительский театр в местной школе — всего и не вспомнишь… Однажды она загорелась вот чем — завести в хозяйстве собственные овощи. Что за фантазия, не знаю. Может, прочитала книгу, какие пишут дамы в роговых очках и клетчатых рубашках. Ты знаешь эти книги. Как избавиться от мирской суеты и питаться корешками и медвежьим мясом на десять центов в день. В общем, моя бедная мать носилась с этим больше месяца. Огромный участок, все нужно сажать, мотыжить, пропалывать. Как сейчас вижу ее в широченных резиновых сапогах с толстыми красными подошвами. Специально купила. Какое-то время она воевала с этими чертовыми сорняками, потом бац — надоело. Огород ее измучил, стал жутким бременем. И все — она стала задергивать занавески в кухне, даже в солнечные дни. Других фермеров в семье не оказалось. К концу июля сорняки одержали полную победу. Наш задний двор стал похож на бесхозные земельные участки — их было много на окраинах маленьких городков, — которые задыхались от сорняков и высокой травы. Как-то за ужином отец отпустил шутку по этому поводу. Но шутить он не очень-то умел, всегда выходило неуклюже. Человеку более легковесному такое, может, и сошло бы с рук. Но тут моя мать взорвалась — она вышла из-за стола и дней десять ни с кем из нас не разговаривала. Надулась на весь свет. А осенью отец позвал старого приятеля — у того была лошадь, они ее запустили с плугом по всем этим зарослям. Землю мы засеяли травой, подсыпали птичьего помета. Решили, что так будет разумней.
Маргарет внимательно слушала, глядя ему в лицо. Она была серьезна, и он понял — это не тема для шуток. Ей приходилось сталкиваться с людскими чудачествами. К ним надо относиться с уважением.
— Ты представляешь, — сказал он наконец, — однажды она взялась за трубу!
— За трубу? — Тут уж Маргарет не выдержала и засмеялась, а за ней и Лэндон.
— Ну точно, дай ей бог здоровья, — сказал он. — По радио часто выступал джаз, в котором играли одни девушки. Дело было в войну, и они играли для армейских подразделений, постоянно куда-то ездили. Одно время даже были слегка знамениты, но сейчас и не вспомню, как они назывались. «Билли Джин и Джинетки» — что-то в этом роде. Кажется, играли они не так и плохо. Так вот, моя матушка увлеклась трубой, дудела в нее не меньше месяца. Что у нее было на уме — не представляю. Может, думала все бросить и убежать к этим пташкам?
Вспомнились эти несколько недель — тишину старого дома вдруг стали нарушать резкие всплески звука. Будто трубил слон, отбившийся от стада. На губе у матери появилась небольшая мозоль, но ей не удалось осилить даже гамму — дальше зычных и несуразных гудков дело не пошло.
— Ну и, разумеется, кино, — продолжал Лэндон. — Это была ее жизнь, в кино она ходила несколько раз в неделю. Иногда брала с собой Эллен и меня. Билли, конечно, дома не сидел… Все эти старые шедевры, на которых зрители глотали слезы умиления, времен больших студий… «Касабланка»… «Миссис Минивер». А «Потерянный горизонт» крутили все время. Я думаю, мама не один год была влюблена в Рональда Колмена[74]…
— А твой отец? — спросила Маргарет. — Его она разве не любила?
— Думаю, что любила. Когда-то… А вот ближе к концу… В последние годы… Как сказать… После смерти Билли все как-то сразу пошло наперекосяк. Они стали словно чужие, каждый жил своей жизнью.
— Как печально.
— Да, печально. Душа болела смотреть на это. Ну, вскоре явился Чарли Эймс. По крайней мере время он выбрал подходящее — и на том спасибо. Слушай, Маргарет… тебе эта мелодрама из истории одной семьи еще не наскучила? Если что, скажи, я замолкну.
— Ну что ты, продолжай, пожалуйста. Мне интересно…
Оказалось, кое-что не так просто и вспомнить. Но после стольких лет Лэндон, пожалуй, с благодарностью воспринял приглашение высказаться. Однажды он начал рассказывать об этом Вере, и что-то помешало. То ли телефон зазвонил, то ли кто-то пришел. И она уже не попросила его начать сначала. Сейчас он смотрел прямо перед собой, сквозь лобовое стекло — на длинную прямую дорогу и белеющее небо.
— Чарли приехал в Бей-Сити сразу после войны. Он был американец, откуда-то со Среднего Запада, из Небраски или из Айовы, — простой деревенский парень, который в годы депрессии снялся с места и двинул на запад. Ты же знаешь, в тридцатые годы в такое путешествие пускались тысячи парней и девушек. Со всей Америки; да и из Канады, надо полагать, тоже. Они двигались в Калифорнию, надеясь выбиться в люди, сорвать банк. Въехать в мир кино на своих улыбках. Чарли в молодые годы, наверное, был парень красивый. В общем-то, ему удалось сняться в нескольких картинах, в маленьких ролях, но в основном он подрабатывал где придется, а потом началась война, и он ушел во флот. После войны он какое-то время пошатался по стране и осел в Канаде, в Бей-Сити — у него там был двоюродный брат. В городе Чарли возглавил старый «Королевский театр». Странно все же, что они сошлись — Чарли и моя мать. Мать была женщина крупная, блондинка, хороша собой. Такая грубоватая скандинавская красота. Но я всегда думал, что она соблазнится каким-нибудь щеголеватым латиноамериканцем с тоненькими карандашными усиками и черными прилизанными волосами. Но она соблазнилась Чарли, а он тоже был блондин и здоровяк — вполне мог сойти за ее брата. Управлять «Королевским» больших талантов, я думаю, не требовалось. Единственное зрелище на многие мили, а телевизоров тогда еще не было. Люди на стенку лезли от скуки. Однако же Чарли как-то умудрился угробить это дело. Наверное, он был слишком добродушный человек — из таких удачливые бизнесмены не получаются. На дневных субботних представлениях он сам стоял у входа за контролера, и ползала детворы смотрели спектакль бесплатно. Либо им удавалось прошмыгнуть мимо Чарли, либо его это мало тревожило. Собственно говоря, он и сам был большим ребенком, все время какие-то шутки, истории. Казалось, он ни к чему не относился слишком серьезно. Может, моей матери после двадцати лет с отцом — весь в делах — нужно было именно это. И потом, Чарли повидал свет. Работал в самом Голливуде! Своими глазами видел Богарта, Гейбла, Джин Харлоу[75]. Естественно, мать стала самой преданной зрительницей его театра, скоро они стали задерживаться у выхода, когда публика уже разошлась. Наверное, рассуждали о кино. Видимо, он рассказывал о людях, которых видел, о городах, где бывал, — шикарные воспоминания из той жизни. Они из него так и сыпались, да одно забавнее другого. Смешить он умел. Очень скоро Чарли стол предаваться воспоминаниям внутри театра, как-то вечером их видели выходящими вместе. Время было позднее…
— А твой бедный отец? — воскликнула Маргарет. — Он не догадывался о том, что происходит?
Лэндон улыбнулся. Сочувствовать тихому человеку, который сидит дома и ждет, — это было в духе Маргарет. Между тем его суровый и угрюмый отец вовсе не был безвинной овечкой. Когда посмотришь на вещи с другой стороны, получается объективнее. Сколько раз за многие годы Лэндон размышлял об этом! Только, спрашивается, зачем? Все это теперь в прошлом, стало древней историей.
— Ну, что сказать про отца… Понимаешь, он жил книгами. Вернется с сортировочной станции, нагнется над раковиной, смоет скопившуюся за день грязь. И к стопке библиотечных книг на столе в прихожей. Это был его мир. Но когда мать пригласила Чарли к нам на ужин, отец, я думаю, что-то учуял. Это, если разобраться, был дерзкий тактический ход. Видимо, чтобы избежать сплетен, она хотела сделать из Чарли доброго друга, своего человека для всего семейства. Ясное дело, номер не прошел. Отец терпеть не мог Чарли, к тому же он увидел, что мать вся дрожит от возбуждения. Если человек влюбился, скрыть это очень трудно, тем более такой человек, как моя мать — актриса в душе. Помню, Чарли рассказывал одну из своих историй, а отец велел ему прекратить — из-за Эллен. Ничего там страшного не было, невинная голливудская сплетня про какую-то вечеринку, где все плавали в чем мать родила. О-о, как он сыпал знаменитыми именами! Мы все ему просто в рот смотрели. Кроме отца, который был неприятно поражен. И попросил Чарли прекратить… Тот нисколько не расстроился. Просто пожал плечами и перескочил на что-то другое. Но повторного приглашении он уже не получил. А потом… Прихожу я как-то домой, а отец сидит в кухне и читает книгу. Он уже поужинал и читал Герберта Уэллса. Посмотрел на меня и говорит: «Твоя мать ушла, Фред. С Чарли Эймсом. Думаю, она не вернется. Тебе и твоей сестре она оставила письма. Они в ваших спальнях. Ужин на плите». Да, особой пылкостью он не отличался.
— Ах… А что почувствовал ты, дорогой мой Фредерик? Ты был потрясен?
— По правде говоря, не знаю… Потрясен? Вряд ли. А мать действительно ушла. Махнула через весь континент в Калифорнию. Знаешь, если я что и почувствовал, так это облегчение. Ведь мы жили в напряжении, и вот оно исчезло. Воцарился покой. Стало легче дышать. Мне неуютно, когда вокруг ссорятся и огрызаются, такая атмосфера не для меня, Маргарет. Я люблю, чтобы все друг с другом ладили. Будь у меня побольше бойцовских качеств… Короче, мать оставила письмо… Ну, должен я тебе сказать. Это был перл. На лиловой почтовой бумаге, что ни страница — то вверху желтые цветочки. И запах духов. Матушка была жутко сентиментальной особой. А начиналось это чертово письмо так: «Дорогой сыночек…» Она в жизни не называла меня «дорогим сыночком», и вот, пожалуйста, — ее крупным, размашистым почерком. Она накатала страниц двадцать. Да, Маргарет, там было что почитать! Такая драма! Прямо «Двадцатый век Фокс»[76]. Некоторые строчки я до сих пор помню. «Если раньше меня с твоим отцом и связывали какие-то чувства, теперь они рассеялись в дым». «Я здесь задыхаюсь». «Теперь я нашла человека, с которым смогу разделить мою мечту». И так далее, и так далее. Это была вовсе не моя мать: ее рукой водила Бетт Дэвис[77]. Все же своего часа она дождалась. Ведь ей, наверное, хотелось удрать все эти годы. Однако она дождалась, пока мы вырастем и станем более или менее самостоятельными. А потом воспользовалась первой же возможностью. Я ее не виню. Может, тогда и винил, а сейчас — нет. А уж в городе разговорам конца не было! Это сейчас такое в порядке вещей. Ну, сбежит какая-нибудь домохозяюшка из пригорода с агентом по продаже оконных рам — на второй день все об этом забудут. Но это был Бей-Сити, 1948 год, и, доложу я тебе, волна поднялась немалая. Отцу пришлось до конца года отправить Эллен в интернат — в другой город. Она сильно переживала. Я тогда кончал школу, и многие мне сочувствовали. Я стал почти популярен. Ребята, которые раньше и не смотрели в мою сторону, теперь предлагали мне взаймы. Даже наш физкультурник — и тот изо всех сил старался быть тактичным. Никаких кувырков на брусьях в воспитательных целях, никаких трех лишних кругов по залу для толстого Фредди. Мы с отцом холостяковали в старом доме и управлялись совсем неплохо. Если разобраться, мы так хорошо не питались долгие годы. Ведь из матери повар был никудышный. А теперь все городские дамы стройными рядами перешли на нашу сторону. Многие из них были старые соперницы матери — теперь уже в возрасте, с сетками для волос, с варикозными венами. Кстати, у матери в этом городе настоящих подружек никогда не было. Так вот, к нам приходили дамы и приносили кастрюли с тунцом, слоеные пироги и широченные улыбки, означавшие: «Я же вам говорила». О-о, они помогали нам с радостью. Видеть нас в таком положении — это тешило их самолюбие. Люди готовы протянуть руку помощи, когда знают, что тебя сунули носом в дерьмо.
Маргарет сидела, задумавшись. Она взвешивала рассказанную историю, пытаясь высчитать ее последствия.
— А твоя мать нашла счастье с этим человеком? — спросила она.
Лэндон немного подумал.
— Трудно сказать. Без некоторого разочарования, думаю, не обошлось. Ее Голливуд закончился киношкой для автомобилистов — Чарли там работает киномехаником. В Анахиме. Какая уж тут романтика! Но к матери Чарли относится прекрасно. Настоящий любящий муж. Она знает, что вернуться не может, вот, наверное, и притерпелась, как большинство людей, — живи и радуйся тому, что есть. И дела, кстати говоря, у них идут совсем не плохо. Живут они в доме на колесах, у них там лагерь автоприцепов.
— Так ты был у них в гостях?
— Да. Один раз. Много лет назад, когда начал разваливаться мой собственный брак. Н-да… развалился… рухнул — это, пожалуй, более подходящее слово. В общем, хотелось куда-нибудь сорваться, все обдумать — я взял на работе несколько дней и катнул в Калифорнию. — Он замолчал и показал на небо. — Посмотри, Маргарет… Похоже, снежок пойдет…
Это действительно было так, но ему просто хотелось отвлечь ее внимание. Он не горел желанием рассказывать об этой поездке в Калифорнию. Она надломила его дух. Может быть, виной тому были его собственные неприятности, но тогда он впервые подумал: неужели он терпит жизненный крах?
— Сколько неудачных браков. И распавшихся семей.
Маргарет сказала это почти про себя. Возможно, ей вспомнилось собственное прошлое. Одинокая жизнь, но по крайней мере она никому не причинила зла. У Лэндона вдруг возникла потребность защитить мать.
— Она и сейчас старается не терять со мной связь. Иногда черкнет письмецо, под рождество обязательно открытка. Джинни она обожает — та к ней ездила несколько раз. По-моему, они друг с другом чувствуют себя легко. Ведь, по сути, Джинни — единственная внучка у мамы. Сестра не желает ее знать. Раньше мама посылала детям Эллен рождественские подарки. Всякие калифорнийские безделки, трикотажные майки с шутливыми изречениями, говорящие резиновые шарики — в общем, всевозможные пустяковины, которые так любят дети. Но Эллен все отсылала назад, бывало, не распечатывая, и вскоре мама намек поняла… Ты посмотри. Сейчас нам будет весело…
Солнце уже исчезло за облаками, и «де-сото», как корабль, вонзающийся в густой туман, вдруг погрузился в другой мир — на лобовое стекло накинулись снежинки, и тотчас за работу принялись длинные «дворники». Похоже на их первую совместную поездку в этой машине. Тогда они чуть не попали в аварию на Куинс-Парк-Креснт. Еще этот скотина инспектор. Но это всего лишь шквал — через несколько минут пройдет. Видимость, однако же, была нулевая, и Лэндон сбросил скорость, протер запотевшее стекло платком. Он понятия не имел, где расположен выключатель обогрева стекла, а шарить сейчас по панели — лучше не надо. Слева мимо него на той же безумной скорости проносились маньяки, когда они притормаживали за теми, кто ехал медленнее, ярко вспыхивали хвостовые огни. «Де-сото» уже был на верхнем участке дороги, начинался долгий спуск в долину. Маленький ураган скоро остался позади, но в полях снег продолжал идти. Лимонное солнце тщилось пронзить облака, и сквозь падающий снег струился диковинный желтый свет. Подальше небо было голубое — там солнцу удалось-таки протаранить облака, и по полям лупили длинные столбы света. Густо-черная земля, припорошенная снежком, дымилась под солнцем. Сидевшая рядом Маргарет были поражена красотой этой шальной погоды. Природа создавала день на скорую руку, не могла толком решить, что с ним делать. И все же была в нем своя причудливая, даже вдохновляющая красота, и это зрелище земли и неба заворожило Маргарет — так восторгаться баловством погоды может только горожанин.
— Какая прелесть, Фредерик. А небо… я такого уже сколько лет не видела.
— Да. Последний залп старушки зимы. Дальше будет помягче. Это тебе говорит деревенский житель со стажем.
Он засмеялся. Над головой облака набирали скорость, неслись вперед на всех парусах, там и сям рваными полосками мелькала голубизна. А за облаками огромным обручем катилось солнце, иногда оно проскальзывало наружу и яростно сияло.
Сияло оно и двенадцать лет назад, в тот день, когда он приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса. Собственно говоря, оно сияло ровно столько, сколько он там пробыл. Безжалостный огненный котел обдал его светом и жаром, едва он сошел с самолета на раскаленную калифорнийскую сковородку. Он и так был не в лучшей форме — утомленный, захлестнутый бурей чувств, сбежавший от одного несчастливого брака, дабы посидеть у развалин другого. В здании аэропорта, где работали кондиционеры, капли пота на шее и лбу превратились в льдинки — он обнял мать, которую не видел уже много лет. Боже, как она изменилась! Поправилась фунтов, наверное, на пятьдесят, высокий стожок волос изрядно выбелен сединой. В спортивных туфлях и свитере-безрукавке (дряблые, отяжелевшие руки) она была похожа на стареющую жизнелюбку. Таких женщин встретишь в дискотеках, они готовы осваивать каждый новый танец, изо всех сил стараясь держаться на уровне. Посмотрел бы на нее ее первый муж! Чарли тоже приехал его встретить — все еще красивый, фонтанирующий, загорелый, животик сдерживали брюки на резинке, торс обтягивала пестрая рубашка. Лэндону они показались двумя великовозрастными детьми — возможно, таковыми они и были. Может, в их придуманном мире нужно играть именно эту роль?
Они сели в желтую «дайнафлоу» Чарли с опущенным верхом — во время движения на них со всех сторон набрасывался теплый, подгнивший воздух. Волосы Лэндона, в которых гулял ветер, стояли дыбом. Мириады переплетавшихся автострад были тиглями, в которых плавились, поблескивая горячим металлом, легковые и грузовые машины. Воздух прокоптился выхлопными газами, и казалось, что горячий суховей разносит дурные вести. И, это злодейское сияющее солнце! Оно поражало все, бросало на этот изломанный пейзаж жесткий отсвет, отскакивало от розовой штукатурки домиков с фасадами в мавританском стиле, от бесконечных вывесок и указателей мотелей и бензоколонок. Нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Разумеется, все в темных очках, прячут глаза от этого дьявольского света. Но и в солнечных очках Лэндон никак не мог освоиться — прошла неделя, а этот край оставался для него чужим. Даже растительность и та озадачивала. Шероховатые столбы бурых пальм, несуразные гинкго[78] и араукарии[79] со странными трубчатыми плодами. И такое впечатление, что все растет прямо из бетона. А может быть, они — синтетические? Кто-то говорил ему, что сейчас вдоль некоторых дорог ставят искусственные деревья.
В игрушечной кухоньке их автофургона Чарли с ловкостью официанта разлил по стаканчикам апельсиновый сок и джин «Гордонз». Даже мать Лэндона, всегда как будто отличавшаяся неуклюжестью, двигалась с удивительной легкостью. Было забавно наблюдать за этими двумя бегемотами, которые сновали мимо друг друга и умудрялись не сталкиваться. Но Лэндону жилище доставляло неприятности — забывая наклониться, он часто стукался головой о стенные шкафы и притолоки. В крохотном дворике, огороженном низким проволочным забором, они сидели в складных алюминиевых креслах. Мать разводила цветы, герань и посевную чину[80], ежедневно их поливала, склонялась над ними, уперев руку в широкое бедро, и помахивала зеленой пластиковой лейкой. С обеих сторон тянулась ряды этих домов на колесах, в резком свете поблескивала сталь телевизионных антенн. Воздух, казалось, был насыщен электричеством — все время погромыхивает музыка из приемников, гудят телевизоры, — часто в нем плавал едкий запах жарящегося мяса. И о стольком надо было переговорить, что разговор не клеился. Никто не знал, с чего начать, что сказать. Слишком много воды утекло, и Лэндон, как только прибыл на место, сразу понял: этот его приезд — ошибка. Его присутствие только напоминало им о другой жизни на другом конце континента. Он привез с собой память прошлого, следы их прежнего образа жизни.
В кинотеатре для автомобилистов «Звездные россыпи» Чарли работал заполночь, поэтому вставали они поздно, включали телевизор и под утреннюю развлекательную программу выпивали по стакану фруктового сока. Лэндон — добропорядочный гость — подстроился под них. Собственно, ничего другого ему не оставалось. Пешая прогулка исключалась — никаких дорожек здесь не было. А садиться за руль у него не хватало смелости, хотя Чарли предлагал ему свою «дайнафлоу». Примерно в полдень мать разливала первую за день порцию джина, смешивала его с апельсиновым соком или «Тэбом»[81]. Днем они втроем устраивались перед телевизором, потягивали напитки и смотрели телевикторины. Лэндон, слегка «прибалдевший» от подслащенного джина, наблюдал за участниками: мужчины в рубашках спортивного покроя ерзали и улыбались во весь рот, их бойкие женушки флиртовали с ведущим, а в итоге уволакивали домой мебельные гарнитуры и поездки на Аляску. Ужинали они рано, мать накладывала полные тарелки спагетти и рагу либо жареной на вертеле грудинки с острой приправой; все это запивалось красным вином, которое Чарли притаскивал домой в пластиковых бочонках. Поначалу этот непрекращающийся выпивон приводил мать в смущение. Каждый раз, когда в стакан со звяканьем падали кубики льда, она извинялась. «Мы ведь не пьем так всегда, правда, Чарли? — говорила она. — Но твой приезд, милый, — это случай особый, должны же мы его отпраздновать. Тут не грех немного и расслабиться». Лэндон понимал, как все обстоит на самом деле, но предпочитал не высказываться. Зачем лезть в чужую жизнь? А поскольку он терпеть не мог, когда кто-то из-за него чувствовал себя неловко, он пил вместе с ними, но частенько выплескивал содержимое своего стакана в туалет или на грядку с геранью.
Чарли симпатизировал Лэндону, однако же понимал, в их отношениях есть свои особенности. Поэтому в общении с ним Чарли взял за основу исключительную вежливость. Вплоть до угодливого почтения. Он солидно стоял рядом с Лэндоном и серьезно соглашался со всем, что тот говорил, держа тяжелую руку на его плече и рассеянно поглаживая его мышцы. Ведь это был младший сынок его дражайшей Джо — для него самого дорогого не жалко! Как-то днем Чарли извлек на свет божий старый альбом и показал Лэндону выцветшие коричневатые фотографии. На одной Чарли стоял в группе парней — все рослые, улыбающиеся. Они были одеты в львиные шкуры, каждый держал в руке утыканную шипами палку (папье-маше, объяснил ему Чарли). Фото было сделано на съемках старого фильма «Тарзан». Чарли играл одного из пещерных людей — роль без текста, но все же кое-что. Это был один из первых фильмов Джонни Вайсмюллера. «Ты, Фредди, наверное, его не помнишь, — сказал Чарли. — До того, как перейти в кино, он был чемпионом по плаванию. Просто чудо, а не парень!» Лэндон прекрасно его помнил.
Как-то они повезли его в «Диснейленд» — всего полчаса езды. Там Лэндон поплавал по Миссисипи на колесном пароходике, поглядел — прижатый к перекладине верхней палубы внуками и бабушками — на резиновых крокодилов, пасшихся вдоль берега. Мать и Чарли, бывавшие здесь часто, стремились показать ему самое интересное: шоу «Дикий запад», «Страну чудес», но Лэндон, при всем желании разделить их энтузиазм, остался к этому местечку равнодушен. Скорее оно произвело на него гнетущее впечатление, но, чтобы оставаться славным малым и не портить им день, он вовсю улыбался, так что у него заболело лицо.
Несколько вечеров в неделю мать отправлялась с Чарли в «Звездные россыпи», перед отъездом из Калифорнии выбрался с ними и Лэндон; по узким ступенькам он взгромоздился за матерью. В будке киномеханика Чарли, в старомодных очках без оправы, заправлял гигантскую бобину в проектор, а мать Лэндона раскладывала бутерброды, вытащила шесть банок безалкогольного «Доктора Пеппера» — в одной упаковке. Лэндон понял: для такой страстной киношницы, как его мать, большего рая не земле и не придумаешь. Правда, она не раз жаловалось на современные фильмы. Слишком много в них секса, почти все — без сюжета. Где они — величайшие звезды минувших лет? Спенсер Трейси и Грегори Пек? Уолтер Пиджин и Джина Герни? Пока Чарли прогревал большой черный проектор, обследуя его внутренности, словно доктор, Лэндон смотрел через маленькое окошко на заполнявшуюся автомобилями стоянку. Они скатывались с горочки у въездных ворот и медленно разворачивали свои скошенные морды в сторону большой простыни экрана. Из динамиков неслась песня «Лунная река», а на западе в Тихий океан садилось ярко-оранжевое солнце.
В «Звездных россыпях» в тот вечер шли фильмы про мотоциклистов и пляжно-курортную жизнь; через какое-то время мать заснула в кресле и откинулась назад — губы чуть приоткрылись, полные ноги раздвинулись. Из японских сандалет торчали пальцы с розовато-лиловыми ногтями. При свете урчащего проектора Чарли читал книжку в мягкой обложке и попивал «Доктора Пеппера». Лэндон взглянул мимо него — в белой полосе лившегося из будки света роились тучи насекомых. Нет, его приезд явно был ошибкой — и на следующее утро он вылетел в Канаду.
У Краун-хилл они свернули с шоссе 400 и по тихой дороге поехали на запад. По мере приближения к Бей-Сити Лэндона охватывало все более глубокое волнение. Ведь здесь — его корни, его истоки! Небо расчистилось, и сейчас над ними была ослепительная голубизна. По бокам дороги заросшие серой щетиной поля ждали прихода апрельских дождей. Когда-то границей города было кладбище. Сейчас его со всех сторон зажали мотели и стоянки для отъездивших свое автомобилей. Мелькнула и бензоколонка «Эссо» и «Тексако», а вот и полковник Сандерс, со своей кентуккийской улыбкой во весь рот — вращается на гигантском ведре высоко над входом в магазин, где отпускаются на дом горячие цыплята. Рядом с кладбищем находилась «Голубая луна», когда-то принадлежавшая деду. В те годы она стояла здесь одна-одинешенька, и люди говорили, что дед спятил: кто же строится около кладбища? Конечно, они были правы. Должно быть, в те времена земля была дешевой, либо старый Ульф сознательно пошел на то, чтобы дело его прогорело. Очень в его духе. Клиентов поощрять нечего. Они мешают серьезному созерцанию. Лэндон сбросил скорость — осталось лишь несколько коттеджей побольше, их не сразу и разглядишь за соснами. «Голубая луна» превратилась в Г-образный мотель из блочного бетона, над входом висела большая молодая луна — фирменный знак. Слова «имеются комнаты», как и раньше, пофыркивали синим электрическим светом. А старый дом с верандой исчез. Это и понятно. Он еще давным-давно разваливался. Лэндон, глубоко взволнованный, нажал на тормоза и съехал с шоссе — толстые шины заверещали по гравию стоянки возле мотеля.
— Маргарет, мы здесь на минутку остановимся, — сказал Лэндон. Он выключил двигатель, и они сидели в молчании — было слышно лишь постукиванье охлаждавшихся кулачков под капотом.
— Что это за место, Фредерик? — наконец спросила Маргарет, глядя на него.
— Оно принадлежало моему деду, — объяснил Лэндон. — Не мотель, конечно, а вон те коттеджи за соснами. Их было с добрый десяток. Боже ты мой, я ведь здесь лет двадцать пять не останавливался. Обычно еду мимо — и все. Пойдем, посмотрим.
Они вышли из машины. После двух часов сидения было приятно размять ноги. Лэндон изогнул спину — пусть поработают застывшие суставы. Он взял Маргарет за руку, и они зашагали по гравию к соснам позади мотеля. Ветра здесь не было, полуденное солнце обжигало им спины.
За мотелем они, взявшись за руки, спустились по небольшому склону и перепрыгнули через мелкую дренажную канаву. Два квадратных бревенчатых коттеджа были выкрашены в черный цвет с бледно-голубой окантовкой. На каждой оконной ставне вырезана молодая луна. Рядышком — рама с вертелом и кирпичной жаровней. К стенке одного коттеджа кто-то прислонил сосновые стульчики и столики для пикника. Эта бесхитростная садовая мебель, черт бы ее подрал! Дедушка Лэндона выпилил ее и сколотил своими руками. В тридцатые годы народ истосковался по деревенским картинкам. И вот мы имеем этот хлам. Тем не менее было в нем что-то странно притягательное. Как во вкусе зеленых яблок. В тени деревьев доживала свой век последняя снежная заплата, здесь она была частично спрятана от своего врага — солнца — и упрямо цеплялась за данную ей форму, за жизнь. Длинная серая трапа пожухла, в каких-то местах была примята к земле — от долгого лежания под снегом. Лэндон показал сквозь сосны — там поблескивала голубизной вода.
— Это Джорджиа-Бей, Маргарет. Часть озера Гурон, Великих озер, здесь проходили пути первооткрывателей. Триста с лишним лет назад здесь шел Сэм Чамплин[82]…
Они прошагали по мертвым сосновым иголкам кофейного цвета и остановились, глядя на воду.
— Когда-то вниз вела тропка, — сказал Лэндон. — Бог ее знает, куда она подевалась. Заросла, наверное.
Он взял ее за руку, и они двинулись дальше. Раньше здесь росли прекрасные большие деревья. Они простирались почти до берега залива. А сейчас — одни лопухи да повявшие золотарники[83], несколько жалких елок да сосен. В мартовские дни по воскресеньям он приходил сюда с матерью. Они собирали букетики фиалок и триллиумов[84]. Триллиумы срывать не полагалось, и в помещении они долго не стояли. Но мать всегда говорила: после стольких месяцев зимы душа радуется любому цветку, и несколько часов в доме властвовали эти обездоленные растения. Увы, скоро они чахли и увядали. Маргарет взяла его ладонь в свою и прижалась щекой к его плечу. Она знала — с детства знакомое место растревожило его, нахлынули давнишние воспоминания. У открытой двери одной из комнат мотеля девушка запихивала постельные принадлежности в тележку для грязного белья, потом покатила ее к следующей комнате. Тут же они заметили, что у входа в мотель стоит человек и наблюдает за ними. Это был низкорослый крепыш, руки засунуты в карманы брюк. Наверное, хозяин, подумал Лэндон, и желает знать, какого черта нам здесь надо.
Они зашагали обратно к мотелю, и Лэндон сказал:
— Я знавал здесь счастливые времена, Маргарет. И ведь никогда по-настоящему сюда не возвращался. Пару часов с сострой и отцом — не в счет. Как-то мы перестали понимать друг друга, обычно я поболтаю с ними немного — и назад. Вроде незачем задерживаться… — Он смолк. Маргарет слушала его, но смотрела на человека, к которому они подходили. Лэндон же смотрел на нее. Ветер еще не утихомирился и тянул ее за шелковый платок. Из-под материи выпростались пряди темных волос, и время от времени Маргарет рассеянно убирала их со лба. Лицо ее посвежело на ветру. Немного поколебавшись, Лэндон заговорил. — Маргарет… Может, тебе это покажется странным, но я хотел бы здесь остановиться…
— Здесь? — Она посмотрела на него. — Я думала, ты рвешься повидаться с отцом.
— Да нет же. Не сейчас остановиться, а на обратном пути. Заночевать здесь. А комнату снимем прямо сейчас. Хочу хоть немного наверстать упущенное. Покажу тебе город моего детства. Все равно днем делать нечего.
Лэндон был сильно возбужден, и Маргарет улыбнулась ему.
— Та-ак… Ты заманил меня за город на выходные, чтобы устроить оргию… соблазнить меня…
— Да. Именно так…
Лэндон был в восторге от Маргарет и, положив ей руку на талию, поцеловал ее холодные щеки. А если этот человек на них смотрит? Плевать на него! Может, хватит печься о том, что подумают другие?
— Но как это будет выглядеть? — спросила Маргарет. — Я, кажется, не ханжа, но, Фредерик… Твоей сестре это наверняка покажется странным?
— Вне всякого сомнения, ну и пусть, — быстро сказал Лэндон и оглянулся — еще раз посмотреть на коттеджи. — В это время года холодно, но если достать обогреватели… Мы бы остановились в одном из этих старых коттеджей… Я заметил там дрова. — Но он тут же отказался от этой мысли. — Нет, пожалуй, это не очень остроумно. В них же всю зиму никто не жил.
Маргарет крепко прижала руку Лэндона к своей талии. Она о чем-то сосредоточенно думала.
— Ты же знаешь, Фредерик, я готова провести с тобой выходные где угодно. — Она помолчала. — Но разумно ли это…
Да. Ее сомнения понятны. Что о ней подумают его родственники? Женщина, которую они видят в первый раз, собирается ночевать с ним и мотеле на краю города. Он ставит ее в неловкое положение. И все же… ах, как эта мысль была ему по нутру! Побыть в Бей-Сити какое-то время. Ночевка же у Эллен исключена — к утру у него будет нервное истощение.
— Да почему нет, в конце концов? — сказал он. — Придумаю какой-нибудь предлог, и останемся. — Он тут же разозлился на себя. — Черт, не то… почему я должен искать предлог? Если мне хочется немного… — Он едва не сказал «развлечься», но это прозвучало бы слишком расчетливо; словно они приехали сюда специально для того, чтобы переспать. — Почему мы должны отказывать себе в удовольствии? Мы не дети. — Он тут же вспомнил, что уже это говорил. — Черт подери, Маргарет, давай останемся. А вечером… — Он сжал ее талию. — Вечером я угощу тебя бутылочкой вина и жутким китайским ужином из «Летающего дракона». Раньше они доставляли на дом. Так что, если хочешь, можем отужинать прямо здесь… Завтра я повожу тебя по городу. Покажу старую заводь… дерево, с которого я упал и сломал руку — в тысяча девятьсот бог знает каком году… ну, и все прочие дела Тома Сойера. Надоем тебе до смерти, Мегги, обещаю…
Благослови ее бог, эту женщину, в ответ на его дурачества она засмеялась.
— Жуткий ужин и обещание надоесть до смерти, — сказала она. — Чудесная перспектива, но я с собой ничего не взяла.
— Ерунда, — возразил Лэндон. — Подкупим в городе. Зубные щетки и сексуальные ночные рубашки… для меня — белье в сеточку… все что полагается. За мой счет.
— Но у тебя же нет денег на такие расходы.
Вид у нее был такой серьезный, что он не выдержал и расхохотался.
— Никаких «но»… Должны же мы отпраздновать мою новую работу! Ведь я как-никак вернулся в мир работающих. В понедельник с утра мне придется, как выражается О. К. Смит, двигать недвижимость.
Эта мысль остудила его пыл, но ненадолго. Снова выглянуло солнышко, и они, смеясь, взобрались рука об руку по склону и подошли к человеку, который все смотрел на них, держа руки в карманах.
— Доброе утро, — весело поприветствовал его Лэндон. Человек поздоровался в ответ без особого энтузиазма. Он был невысок, голова вросла в плечи, шеи словно не было. В самом деле, казалось, что его голову — смертоносное оружие! — вогнали в мощный торс молотом. Он хмуро смотрел на них из-под очков с сильными линзами в черепаховой оправе. Бифокальные очки и бритый шар головы делали его по-военному суровым. Что-то в нем показалось Лэндону знакомым.
— В свое время это заведение принадлежало моему деду, — сказал Лэндон. — Давным-давно. Мы просто ходили и смотрели.
Мужчина кивнул, но большого интереса к прародителям Лэндона не проявил. Это неизвестно почему вызвало у Лэндона раздражение. Лучше перейти к делу. У этих малахольных всегда светлеют лица, когда речь заходит о деньгах.
— Мы хотим снять комнату, — сказал он.
Человек подозрительно взглянул на него. Да, в этих двух вареных изюминах читалось недоверие. Кто это снимает комнаты в такую рань?
— А вон там, в коттедже, можно? — спросил Лэндон.
— Там? — переспросил хозяин, не веря собственным ушам. Указательным пальцем он поправил очки. — В коттеджи я вас пустить никак не могу. — В голосе его звучали зычные нотки. Школьный учитель, привыкший выговаривать ученикам, такие, как он, всегда правы. И будут читать тебе мораль до посинения. — В это время года, — сказал он, — вы там замерзнете до смерти. Моей жене… Ей придется там целый день порядок наводить. А мне — рубить дрова. Нет, никак не могу…
Школьный учитель! Тут Лэндон вспомнил! Ну, конечно же! Эти бифокальные очки, кряжистая спрессованная фигура. Это же Гибсон, преподавал у них в школе естественные науки! Какое-то у него было прозвище. Затычка-Гибсон. Точно — именно так. Он тогда вел у них зоологию и химию, подслеповато зыркал над своими пробирками и ретортами, из-под вывороченных губ — частокол длинных зубов. Он был похож на бобра, сидевшего на задних лапках. Полосовал ножом лягушек и змей, отгибал плоть — любуйся на пищеварительный тракт, на малюсенькие органы размножения. А эти химические реакции в лаборатории! Вот где запахи! Лэндон их терпеть не мог. Он предпочитал спрягать латинские глаголы. И на тебе, пожалуйста, после стольких лет — затычка! Жив курилке, хотя и поседел, и раздался. Наверное, уйдя на пенсию, купил этот мотель. После смерти деда «Голубая луна» не раз меняла хозяина. Лэндон подождал, когда Затычка кончит.
— Ладно, это так, бредовая идея. Мы снимем комнату в мотеле.
— Что, прямо сейчас? — с сомнением спросил Гибсон.
— Прямо с этой минуты, — отрубил Лэндон. Он никогда не любил этого субчика. Чистейший солдафон, все время разгонял ребят в коридоре, отчитывал их за то, что толпились у питьевого фонтанчика. Не вынимая рук из карманов, Гибсон поддернул брюки — обильно зазвенели монеты.
— Тогда давайте я вас зарегистрирую. Но вселяться сейчас нельзя. Кровати не застелены.
— Никаких проблем, — громко сказал Лэндон. Почему бы не подыграть бывшему учителю?
— Возвращайтесь в три часа.
— Будем, — прогудел Лэндон, пошел за ним в контору мотеля и заполнил карточку. Гибсон внимательно изучил карточку, держа ее в нескольких дюймах от носа, потом попросил заплатить за проживание вперед. Лэндон отслюнил купюры. Теперь, когда решение переночевать здесь уже было принято, его вдруг стали — очень на него похоже! — мучить сомнения. Может, это вовсе не такая прекрасная идея? А что подумает Джинни? Он совсем забыл, что сегодня она будет здесь. Но деваться некуда, дело сделано.
Они отъехали от стоянки, задние колеса «де-сото» щебеночной шрапнелью пальнули по двери конторы. Когда приехали в город, на сердце у Лэндона было немного неспокойно. Они пообедали в «Летающем драконе» — там Лэндон, уплетая яйца по-китайски, смотрел на кемаривших на стене драконов. Вид у них был вовсе не угрожающий, скорее игривый, и ему вспомнились сонные птахи и звери в гостинице «Кинг-Конг». Ох уж эти китайские рестораны! В любом городе страны есть хотя бы один. Он часто думал о молодых официантах, выходцах с востока. Всю жизнь проводят вдали от своих, в этих маленьких занюханных городках. В дни, когда он много разъезжал, ему случалось сходить с поезда на улицу какой-нибудь богом забытой деревушки в прериях — солнце там высосет из тебя все соки, а от зимнего ветра кровь мерзнет в жилах. Но обязательно есть «Звездное кафе», где тебя ждет дымящийся суп с клецками или чайник с ароматным чаем. Тут он и проводил январские послеобеденные часы — согревая пальцы об эти крохотные чашки, вдыхая настоявшийся запах апельсина или жасмина и слушая ковбойские песни, которые неслись из автомата-проигрывателя. Но ведь в этих местечках волком завоешь от тоски! Чтобы вынести такую ссылку, требуется недюжинная сила духа. Все развлечения — поиграть на кухне воскресным вечером в маджонг[85] или гобан[86], а за окном воет ветер и заметает вьюга. А впрочем, жить вот так — может, это и не плохо?
С улицы дом выглядел почти так же, как в дни его молодости. Да и сама улица мало изменилась — на месте и добротные дома из красного кирпича, и клены. Только населяло эти дома уже другое поколение, а люди постарше, родители друзей Лэндона, перебрались либо в меблированные комнаты, либо в дома для престарелых, либо на кладбище. Поставив машину на улице, Лэндон сидел и смотрел на выкрашенную в белый цвет застекленную террасу, которую построил его отец. Вскоре после бегства матери. Отец изучал схемы по улучшению жилища в «Популярной механике», сгибая при этом журнал вдвое — потом журнал с переломанным хребтом распростертый лежал на кухонном столе. Из него отец что-то выписывал в линованный блокнот стоимостью пять центов. Весной он трудился вовсю: вколачивал гвозди, пилил, строгал доски; всегда под рукой полуоткрытые книги по столярным и штукатурным работам. Ближе к концу помог приятель-плотник, а Лэндон красил стены и потолок. Из верхней спальни они снесли на террасу книги, а из гостиной приволокли старый диван с толстыми плюшевыми подушками: как сел на него, так и утонул, зарылся до самых подмышек. Был там еще торшер с разрисованным картонным абажуром — пляшущие на берегу негритята или что-то в этом роде, — его привезла тетка из Флориды. У отца было несколько сестер, и они всегда посылали ему пепельницы с шутливыми надписями о вреде курения, стеклянные шарики, в которых можно было поднять маленькую бурю, деревянные настенные дощечки с резными толстыми баварцами в коротких штанах. «Мы ошень пыстро стареем. И ошень посно умнеем». Вот поди ж ты — помнил Лэндон этот торшер, одинокий островок желтого света, отец сидит под ним и читает. Летними вечерами о стекло террасы билась мошкара, просачивалась внутрь и бешено носилась по кругу под этим желтым абажуром.
Зять Лэндона построил просторный новый гараж, где у него помещались лодка и фургон. Были там еще верстаки, полки для инструментов и шкафы под замком — в них Херб держал ружья и охотничьи ножи, ибо находился в состоянии непрерывной войны с живой природой. К Лэндону его зять относился сдержанно, но часто показывал ему свои владения, особенно после очередной покупки. Временами он, казалось, забывал, что Лэндон когда-то жил в этом доме.
— Послушай, Маргарет, — сказал Лэндон. — Элен — прекрасная баба. У нее самое доброе сердце в мире, и она хочет как лучше. Но она может показаться тебе не в меру любопытной. Иногда бывает и резковата, понимаешь…
— Думаю, что да.
— Случается, производит странное и отталкивающее впечатление.
— Фредерик! Ты делаешь все, чтобы я возненавидела эту бедную женщину, еще не видя ее. Прошу тебя, не беспокойся.
Она похлопала его по колену.
— Если она все еще балдеет от религии, — сказал он, — конец света через семь дней и прочая белиберда…
— Ты напрасно обо всем этом беспокоишься. Думаешь, я прожила всю жизнь затворницей? Это не так… Кое-кто из моих родственников — очень… странные люди. Старая тетка Энна из Монреаля… Ну, хватит. Идем, знакомь меня с твоей сестрой…
— Ладно, только учти — я тебя предупредил, — сказал он, вылезая из машины. — И засиживаться не будем. Я сегодня не настроен выслушивать ее кудахтанье. По чашечке кофе и до свидания. И сразу же едем к отцу… — Он знал, что брюзжит, но ничего не мог с собой поделать. Перед встречей с сестрой ему каждый раз словно шлея попадала под хвост.
На пороге он нажал кнопку звонка и прислушался — внутри прозвучали первые семь нот песенки «Благослови этот дом». Через стекло он увидел, как по коридору спешит Эллен, вся сгусток нервной энергии, а одета с намерением убить наповал — в желтый брючный костюм. Последние два-три года она подрабатывала в магазине готового платья и одевалась соответственно. Эффект, по мнению Лэндона, был комический — уж больно не вязались эти наряды с ее внутренним обликом. Эллен ведь была, по сути, суровой пресвитерианочкой и в таком костюме выглядела расфуфыренной и решительно не в своей тарелке. Для ее аскетической и прямой натуры он был слишком фривольным. У нее были все фамильные черты Лэндонов — быстрая и неулыбчивая, как ее отец. Вечно суетится, ее ничего не стоит выбить из колеи, прирожденная пессимистка. Таким же капризным фонтаном энергия рвалась из Билли. Эллен открыла дверь. Оглядывая Маргарет, подставила Лэндону холодную сухую щеку.
— Ну, как ты, дорогой?
— Прекрасно. Эллен, позволь представить тебе моего близкого друга, Маргарет Бошан…
Эллен улыбнулась и поздоровалась.
— Какой приятный сюрприз, Фред.
За ее утянутой в брюки попкой они прошли в гостиную.
— Слушай, что за праздник такой? — спросил Лэндон. — Ты прямо как с картинки. — Он пригляделся. Точно, на ней был — уму непостижимо — парик с сединой. Перманентный «перманент». Он хотел отпустить шутку, но воздержался.
— Мы сегодня после обеда собираемся к Кей Суонсон на бридж, — объяснила Эллен, усаживаясь и приглаживая жесткие седые завитки.
— А где Херб с детьми? — спросил Лэндон.
— Он сегодня работает. У них сейчас идет распродажа мотосаней — конец сезона. Так что он всю неделю вкалывает, как зверь. А дети — у Каули. Только что гриппом переболели — мы с ними так намучались!
В комнате Лэндон вдохнул воздух всей грудью. Эта комната называлась у них «общей» — небольшая, темноватая и квадратная, темно-бордовые портьеры, старое пианино, на котором, кроме деда, никто не играл. По воскресеньям в послеобеденные часы он выкуривал из дому всю семью — распевал песни из оперетт Зигмунда Ромберга[87]. «Принц-студент». «Песня пустыни». «Жажду тебя… Каждый вечер я жажду тебя». Голос у старика был никудышный, надтреснутый тенор, но играл он бурно, музыка так захватывала деда, что по его большим щекам порой струились слезы.
Сейчас комната стала просторнее, светлее. Херб сломал стену и занял часть площади у столовой. Лэндон одобрил такое решение, хотя комната была ему не по вкусу — захламлена вещами. Приставные столики, торшеры, кресла, повсюду цветное стекло: маленькие лебеди и райские пташки заселили все треугольные угловые полки и оконные карнизы. Тут же несколько больших керамических ваз и кувшинов. Эти здоровенные посудины стояли на полу, а в них — засушенные цветы или похожие на папоротник перистые косицы, которые колыхались, когда ты проходил мимо. У одной стены стоял камин из белого кирпича, внизу — груда пластикового угля, который свирепо раскалялся докрасна, стоило повернуть ручку регулятора.
Лэндон сидел на шишковатом диване и ждал — вот сейчас в нижнюю часть спины внедрится боль. Так бывало всегда, когда он сидел на этой длинной бугристой поверхности. Эти «дрова» назывались «Французская провинция». Якобы аристократическая мебель «докатилась» до гостиных представителей среднего класса! А что, сейчас простые люди из кожи вон лезут, чтобы выделиться. Им подавай атрибуты богатой и роскошной жизни. Что первым делом покупает какой-нибудь дергающийся в конвульсиях поп-музыкант или киноактер, заключивший контракт на миллион долларов? «Роллс-ройс», что же еще? Тут Лэндон спохватился. Хватит ковыряться в себе, надо быть повнимательнее. Это было очень на него похоже — погрузиться вот так в молчание, предоставив водам общего разговора омывать его. Между тем Эллен активно ловила рыбку в этих водах! Так вы француженка, Маргарет? Нет? Полька! Ноже мой, как интересно! Удивительное совпадение! На этой неделе для «Клуба ножа и вилки» приготовили польское блюдо — они раз в неделю собираются в молитвенном доме на ужин, и прихожане готовят блюда разных стран. Это идея мистера Гейблера. Он их новый священник. Для чего это де лается? Чтобы народы мира терпимее относились друг к другу, лучше друг друга понимали. В итальянский вечер Эллен готовила спагетти и рагу. Но сейчас как следует приготовить пищу — проблема! В продуктах — сплошная химия! Теперь никто не знает, что он ест. Только что она читала об этом статью в журнале. Это было нечто!
Лэндон слушал, положив руку на спинку дивана, сочувственно кивал. Начинается. Внутри все у него напряглось, как у бегуна. Он прекрасно знал этот журнал, к тому же на кофейном столике перед ним лежало несколько номеров. Главным редактором там был некий калифорнийский радиосвященник. В воскресенье утром его запускают в эфир почти во всех маленьких городках. Он вещал о Страшном суде и гибели человечества. Мир катится под откос. Люди погрязли в пороке, потонули в алкоголе, обкурились наркотиками. Промышленная революция распоясалась, на нее нет никакой управы. Во что превратились города! А расовые отношения, а атомные бомбы, а то, что человек уже не знает, чем он потчует свой желудок? Хорошенькое дело! Что ж, это была неплохая карта для людей, которым опостылела собственная неудавшаяся жизнь. Безликие посредственности не первой молодости и снедаемые завистью старые хрычи — они выброшены из игры и уже ничего не выигрывают. А может, не выигрывали никогда. Им осталась одна надежда — полный крах всего. Тогда они скажут: видите, мы же вас предупреждали. Лэндон понимал, в чем привлекательность такого подхода. Эллен в канареечном костюме жаловалась на то, как все под солнцем несправедливо, и Лэндон вспомнил слова Веры: «Маленькая птичка сердится на твердый орешек». Да, это в точку. Эллен все еще распространялась о питании. Конечно, обжорство — хронический грех среднего класса. Попросите людей рассказать, как они провели отпуск, — и вы получите полное меню ресторанов «Хауэрд Джонсон» и «Холидей инн». Но кто он такой, чтобы рассуждать об обжорстве? Конечно, это все нервы, но не худо бы сестрице заткнуться. Да где там, наверное, такое просто выше ее сил. Подождите, а в маленьком ресторанчике в Вене — таком забавном! — они, кажется, ели польское блюдо! Или в Цюрихе! О-о, так вы были за океаном? Ну, Маргарет — просто прелесть! Ей и в голову не придет над кем-то поиздеваться, запускать язвительные стрелы ей не дано. Она проявляла неподдельный интерес. Ну конечно же, Эллен и Херб прошлой осенью путешествовали по Европе! Ужасно удачная поездка — семнадцать стран за двадцать три дня! Из Бей-Сити желающих набралось на два автобуса. Они летели чартерным рейсом, им подавали шампанское, хотя лично она не пьет. А как испохаблены эти европейские города! К примеру, каналы в Венеции. Народ бросает в них мусор! А ты плывешь сквозь все это в гондоле!
— …Да вы, братцы, наверное, проголодались, — вспомнила Эллен. — А я-то знай себе мелю языком.
Тут Лэндон очнулся.
— Спасибо, Эллен, не нужно… Мы уже обедали, в дороге. Просто по чашечке кофе, если можно. У нас мало времени.
Его слова озадачили Эллен.
— Мало времени? Но это чудно, честное слово! Должны же вы перекусить. Я ждала…
— Пожалуйста, Эллен, ничего не надо… — Лэндон поднял руку, как автоинспектор. — Прошу тебя…
— Ну, нет так нет, — сказала она, поднимаясь с кресла. — Чудной вы народ!
Сестра продолжала вести разговор из кухни, время от времени выглядывая из-за угла — убедиться, что они еще здесь.
— Фред, отец будет рад тебя видеть. Понимаешь, от нашего общества он уже устал. Друзьями он никогда не был богат, сам знаешь. А те, что были, почти все поумирали. Мне кажется, он от нас устает. Но нам эти визиты — не сахар. Ведь мы ездим к нему каждую неделю, и говорить просто не о чем. Посидишь у него немного и начинаешь ломать голову — что еще сказать?
— Как он, кстати говоря? — спросил Лэндон, наклоняясь вперед и похрустывая пальцами.
— Все так же, — отозвалась она откуда-то. — Бедро у него здорово побаливает, это ты знаешь. Его все время беспокоит, как он выглядит. Вообще-то за последние месяцы лицо у него почти пришло в норму. Сейчас уже ничего страшного… А послушать его…
Да, для отца перекошенное лицо — повод для беспокойства. Неотразимым красавцем он никогда не был, но имел все основания гордиться своей внешностью. Серьезные глаза, умный взгляд, тонкие черты. Последние годы женщины баловали его своим вниманием. Кое-кто рвался за него замуж, но он об этом и не помышлял. И вот теперь он лежит там, вокруг искривленного рта — печать страдания. И жуткая горечь в глазах. Да, для него это — настоящая трагедия.
— Так или иначе, — продолжала Эллен, — сегодня у него будет напряженный день.
Она вошла, в руках — поднос с угощением. Кофе, печенье, порезанный на куски торт. Лэндон поднял голову.
— Напряженный? В каком смысле?
— В том смысле, что вы будете у него вторыми гостями! Джинни ведь приехала. Я думала, ты знаешь.
Лэндон взял кусок бисквитного торта. Готовить сестра умела. Торты и прочие сладости ей удавались на славу, отведать их надо обязательно.
— Да, конечно, я знал, что она сюда собирается. Вчера мы с ней виделись. Но я не думал, что она приедет так рано. От этих деток только и жди сюрприза.
— Они явились примерно в половине двенадцатого. Уехали совсем недавно. Она и молодой человек. Не очень приветливый молодой человек.
— Это Ральф, — сказал Лэндон и сильно глотнул. Кусок торта застрял в горле, и он потянулся за чашкой кофе. Он был разочарован. Глупо, конечно, но он все же надеялся, что дочь приедет одна.
— Да… Не очень общительный молодой человек, — сказала Эллен. Она сидела на пуфике, держа чашку на коленях. — В общем, они явились примерно в половине двенадцатого. Прикатили в какой-то иностранной спортивной машине. Жутко дорогой с виду. Я сначала подумала, что эту машину купила ей мать, и сказала себе: ой, тут недалеко до беды. Только начни делать детям такие подарки…
— Это машина ее тети, Эллен, — перебил Лэндон.
— У которой психическое заболевание. Как она, кстати?
— Нормально.
Эллен повернулась к Маргарет.
— У бывшей жены Фреда есть сестра. Не знаю, говорил он вам о ней или нет…
Значит, они взяли у Бланш «мерседес»? Что ж, машина для современной молодежи — второй дом. Но на душе стало неспокойно. Грудь сковало сильное волнение. Если захотеть, из этой тачки можно выжать сто тридцать, а Ральф… может, он как раз из тех субчиков, которые оживают только за рулем автомобиля. У него взмокли подмышки. Сердце забило тревожным набатом.
— Они у тебя долго пробыли? — спросил он.
— Около часа. И сразу поехали к отцу. По субботам прием посетителей с часу до четырех. Я предложила км пообедать, но они сказали, что собираются на пикник. Представляешь? В такое время года. Они, правда, сказали, что на солнце очень тепло. А еда у них вся с собой, и я поняла, что обедать они будут в парке. — Она снова повернулась к Маргарет. — У нас в Бей-Сити прелестный муниципальный парк, один из лучших в нашей провинции. Многим паркам даст фору. Верно я говорю, Фред? Но какой сейчас может быть пикник? Снег сошел только на прошлой неделе.
— Да, верно.
Он сосредоточенно думал. Наверное, он беспокоится лишь по одной причине: что подумает Джинни, узнай она, что он остановился в «Голубой луне» с женщиной. Идиотская была затея — снимать комнату в этом мотеле. И вообще, какого черта он собирается таскать Маргарет по городу? Что тут показывать? Сентиментальные реликвии прошлого. Но с этим давно покончено. Хорошо это или плохо, но жизнь его совсем не здесь, а впереди. Маргарет чуть выдвинулась в кресле, внимательно слушая Эллен — та рассказывала, какие в Бей-Сити бывают зимы: долгие, изнурительные. Лэндон извинился и поспешил наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Невежливо вот так бросать Маргарет, хотя она вроде не против. Веру бы это взбесило. К тому же, оставаясь с бывшей женой Лэндона один на один, Эллен всегда теряла дар речи, лицо ее каменело, и она хваталась за первое попавшееся дело: выбросить мусор из пепельниц, помыть тарелки. Что ж, ледяное молчание Веры испугает кого хочешь. Возможно, Эллен боялась ее до смерти.
В ванной он напустил воды в раковину, медленно вытер губкой лицо. Он всегда, когда вот так накатывает волнение, ретируется в сортир. Что бы это, черт подери, значило? Так или иначе, но в этих выложенных кафелем комнатах он как-то успокаивался. Сейчас он изрядно взмок. Скинув рубашку, вытер насухо подмышки и шею. Потом расслабил ремень, дав брюкам упасть на пол, подцепил большими пальцами резинку трусов и оттянул ее. По бедрам заструился прохладный воздух. Это его по меньшей мере освежило. Одевшись, он сел на обтянутый махровой тканью стульчик и стал считать пульс. Семьдесят шесть. Даже если он на удар-другой ошибся, пульс все равно неплохой. Но уходить отсюда не хотелось. Он стал оглядывать комнату. В его детские годы здесь был бачок с цепочкой, он опустошался с ревом, а всю ночь курлыкал и пел. Старая белая ванна была высокой и узкой, она стояла на линолеуме, вцепившись в него четырьмя безобразными лапами. Сейчас кругом был радовавший глаз легкий аквамарин. Ванна сверкала безукоризненной-чистотой — впрочем, вон один коротенький волосок. Лэндон мотнул головой, словно стараясь, чтобы в ней прояснилось. Надо рвать отсюда когти. Повидать отца. А потом — вон из города. Для него здесь ничего нет. А может, никогда и не было. Никогда еще его сердце не било в набат с такой тревогой. Через несколько часов они с Маргарет вернутся домой, посмотрят по телевизору старый фильм, поздно поужинают. Затычке он скажет, чтоб вернул деньги за комнату. А Джинни позвонит завтра и предложит пообедать о ним. Нет, он велит ей приехать на обед к отцу. А с утра в понедельник наденет выглаженный костюм, чистую рубашку и пойдет вкалывать на О. К. Смита. Собственная жизнь вдруг предстала ему четко очерченной, контуры ее стремительны и ясны как день.
Внизу он остановился у входа в гостиную, прислонился к дверному косяку. Женщины беседовали, как старые соседки, и Лэндон улыбнулся.
— Думаю, будем собираться, Маргарет. Хочу поскорее повидать отца.
Эллен взглянула на него широко открытыми, полными смятения глазами.
— Но вы же только приехали. Что за спешка? Я не вижу тебя месяцами. И к кофе ты почти не притронулся…
— Да. Все так, но нам пора. — Иногда он позволял себе быть с ней резким. — Уж больно хочется к отцу.
— Ну, раз так… — Эллен поднялась. — Жаль, что не можете побыть подольше. Я-то думала, вы с визитом…
— В следующий раз, Эллен!
Он наклонился и поцеловал ее в лоб, обхватив большими руками ее крепкие плечики.
— Жаль, что мы так рано уезжаем, — посетовала Маргарет. — Надеюсь, еще увидимся.
Она протянула руку. Эта старосветская вежливость явно тронула Эллен.
— Ну конечно, разумеется.
Маргарет сбила ее с толку, подумал Лэндон. Ведь Эллен — такая же, как я. Всегда ждет от людей худшего. И элементарная вежливость нас обезоруживает. У двери они попрощались. Лэндон привычно помог Маргарет спуститься по ступенькам. Ему хотелось показать, что между ними существует определенная близость. Когда Эллен махала им с порога, вид у нее, как обычно, был обеспокоенный.
В машине Маргарет удивила его вспышкой гнева.
— Почему ты был так груб с сестрой? — накинулась она на него. — Совсем этого не требовалось. Она и так вся на нервах… А ты заставляешь ее еще больше нервничать.
— Я заставляю ее нервничать? — Лэндон был поражен.
— А кто же? Надо быть слепым, чтобы этого не видеть. Она тебя до смерти боится.
— Ну перестань, Маргарет.
— Это правда. Надо быть слепым, чтобы этого не видеть.
Она сидела рядом с ним, неподвижная и холодная, скрестив руки на груди, взгляд блуждал по бегущим за окном окрестностям. Ох уж эти приступы дурного настроения! Мы начинаем вести себя, как любовники со стажем. Или как супруги. От этой мысли на душе у него заскребли кошки, и остаток дороги до «Гринхэвенхаус» они провели в молчании.
Старый дом начала века, разместившийся на просторной лужайке среди вязов и кленов, когда-то принадлежал некому Карстерсу, лесопромышленному магнату. Во времена строительства этого дома гавань в Бей-Сити была запружена коричневыми бревнами, а в воздухе носились опилки — работало три лесопильных завода. Бревна оттаскивались пароходами, которые наполняли ночь длинными душераздирающими гудками. Все это было, разумеется, задолго до Лэндона, но он знал об этом со слов дедушки. Теперь дом Карстерса перешел к городским властям в счет налогов и превратился в дом для престарелых. Темные комнаты с высокими потолками побелили, по коридорам вкатили больничные койки. В задней части дома, где раньше жила прислуга, теперь находились кухня и бельевая. Внешне дом почти не изменился. В каменные горшки в греческом стиле, обрамлявшие ступеньки перед входом, кто-то воткнул оранжевые искусственные розы, сюда же люди поспешно выбрасывали недокуренные сигареты и скрученные фантики. Под большими деревьями стояли парковые скамейки — пастельных цветов, — купленные на средства «шрайнеров»[88]. Окружали территорию высокие кедры, их ветки сплелись в густую изгородь.
Припарковав «де-сото», Лэндон взял Маргарет за руку.
— Мне очень жаль, если я был груб с сестрой. Я никогда по-настоящему об этом не думал… Мы никогда не были близки. Наверное, истина такова, что мы действуем друг другу на нервы. Но никакой злобы и в помине нет… Так, обычные семейные дела.
— Ах, Фредерик… — Она повернулась к нему, и он, потрясенный, увидел: глаза ее полны слез. — Мне так стыдно. Прости меня, пожалуйста. Это не мое дело.
— Да нет же, ты права. Я поступил плохо, и ты мне об этом сказала. Так и должно быть.
— Нет… нет… — Она яростно замотала головой и полезла в сумочку за платком. — Я не должна лезть в чужие дела. Пожалуйста, давай забудем об этом.
— Хорошо, но я не хочу, чтобы ты из-за этого переживала. — Он помолчал. — Ты уверена, что хочешь идти со мной? Может, тебе лучше подождать в машине? Я постараюсь не задерживаться, но сколько-то побуду. Не могу же я зайти, сказать «Здравствуй» и уйти. Посижу с ним какое-то время. Я ведь его совсем забросил.
— Конечно, ты должен у него посидеть. Это же твой отец. И я не хочу, чтобы ты из-за меня торопился… Прошу тебя.
— Я и не собираюсь торопиться, просто предупреждаю тебя. Он теперь совсем не тот, каким был. Привередничает, капризничает. Им тут от него достается. Все время жалуются Эллен…
— Я хотела бы с ним познакомиться, Фредерик. Ведь он не чей-то отец, а твой.
— Ладно, но потом мы вернемся в мотель и заберем наши деньги. Боюсь, идея переночевать здесь не такая уж гениальная. Пожалуй, будет лучше, если мы к вечеру вернемся назад. Пойдем ко мне, я приготовлю ужин. Ладно?
Она улыбнулась. Он знал, что она довольна. Ей совсем не хотелось здесь оставаться. Мотель в маленьком городке — это не ее стиль.
— Ладно? — повторил он. — Все прощено?
— Конечно, дорогой.
— Ну что ж, идем к отцу.
Едва войдя в старый особняк, Лэндон учуял резкий запах дезинфицирующих средств. Он облеплял ноздри, но перебивал запахи состарившейся плоти, разил микробов, плававших в этом септическом воздухе. В больших светлых комнатах возле высоких кроватей стояли дочери и сыновья, иногда они наклонялись, чтобы разобрать слова. Так же часто они отводили взгляды в сторону либо шикали на неугомонных детей — те тянули родителей за руки и чертили ногами по полу. Через несколько минут слова иссякали, и говорить было просто не о чем. Видеть эти усталые, скорбные старческие лица было мукой. Да, Эллен ничего не преувеличила. Смотреть, как смерть постепенно вступает в свои права, — все равно что скрести обнаженные нервы.
В прошлый приезд Лэндона отец нудно сетовал на то, как расположена его кровать. Он хотел лежать у окна — оттуда видна трава и две персидские сирени. Ему удалось-таки добиться своего — сейчас он спал на кровати около высокого окна. Наверное, старик взял их измором. Либо это, либо кто-то умер и отец получил повышение. Жестокая иерархия. Лэндону вспомнился когда-то читанный рассказ. То ли Мопассана, то ли Чехова. Там в одной комнате жили двое. Кажется, в тюремной больнице? В общем, оба прикованы к постели, двигаться совсем не могут. Один из них лежал около окна. И он рассказывал другому, как много интересного видно из этого окна. И деревья, и цветы, и меняющиеся небеса, и разные времена года. По воскресеньям он описывал прекрасно одетых дам, которые фланировали по улице с зонтиками и собачками. И каждый день его товарищ по комнате слушал, и в сердце его вскипала зависть. Он стал думать, как бы ему перебраться на эту кровать, и желание было столь велико, что он решился отравить счастливца. Сделал он это очень тонко, и его никто не заподозрил, а кровать у окна досталась ему. И что же — за этим окном оказалась крепкая кирпичная стена. Это был прекрасный рассказ с неожиданным концом, и Лэндон когда-то даже подумывал переложить его для радио или телевидения. Но до этого, как и до многого другого, у него не дошли руки.
Сейчас он стоял у кровати и смотрел на спящего отца. Рот приоткрыт, но поврежденное лицо повернуто так, чтобы его не видели посетители. На носу очки, под простыней вытянулись худые ноги. Он задремал за кроссвордом, и его длинные пепельные пальцы все еще сжимали сложенную газету. Даже во сне мускулы лица сохранили свойственное ему напряжение, даже во сне отец гневался на эту пройдоху-жизнь. Горечь оставила на его лице жуткие следы. Лэндон смотрел на отца с глубоким волнением, глаза его наполнялись слезами. Эта линдстремовская сентиментальность! Так и ищет случая вырваться наружу. Но плакать нельзя. У отца его слезы вызовут только отвращение, и тогда пощады не жди. С этим свирепым стариком надо поосторожнее. Наклонившись вперед, Лэндон коснулся руки отца, ощутил хрупкие кости под рукавом пижамы. Отцу было уже под восемьдесят.
— Привет, папа. Это я… Фред. Приехал повидаться.
Глаза отца сразу открылись. Как всякий чутко спящий человек, он не испугался и, не поворачивая головы, уставился в окно.
— Это ты, Фред? Я тебя жду. Твоя сестра говорила, что ты приедешь.
Голос его был слаб, но голова как будто работала ясно. Эллен говорила: у него бывают дни просветления. В другое время он может тебя не узнать. Лэндон посмотрел на него.
— Ну, папа, как ты?
Старик наконец повернул голову и взглянул снизу вверх на сына.
— Ну, вот ты и здесь! — Он прижал ладони к постели и начал с трудом подниматься — медленно, сурово. Лэндон кинулся помочь ему. — Не надо. Не надо, — раздраженно прошипел отец. — Подложи мне подушку под спину, вот и все. Вечно у них здесь подушек не хватает.
Когда он сел, пижама распахнулась, и Лэндон увидел ребра и запавшие соски, а вокруг — пучки выбеленных волос. Худоба была болезненной, за последние месяцы он сильно сдал. Лэндон помогал отцу, а у самого дрожали руки. От кожи старика исходил кислый запах несвежего постельного белья. Но, усевшись, отец быстро сдернул с носа очки, большим и указательным пальцем протер глаза, заодно помассировал виски. Вся живость и физическая подвижность, свойственные ему в молодости, проявились в этих старых привычках, отчасти они остались при нем и в этот поздний час жизни. Теперь Лэндон увидел, что отцовское лицо почти справилось с недугом. Слегка несимметричной была лишь линия челюсти. Абсолютно ничего страшного. Голубые глаза подернуты легкой пеленой, но в них светились сердитые огоньки.
— Ну как ты, папа? — снова спросил Лэндон.
— Как я? — Отца этот вопрос, кажется, обидел, и в его тихий голос с силой ворвались странные ворчливые нотки. — Как… посмотри на меня! Само здоровье, да? Моя песенка спета… все кончено… вот как я… И еще это лицо… — Он коснулся щеки.
— Да на лице полный порядок, папа. Лицо как лицо.
Но отец смотрел мимо него — на Маргарет. Смотрел и хмурился. По его взгляду можно было понять, что он не желал видеть у своей постели незнакомых женщин. Да, приводить ее сюда было не нужно.
— Папа, разреши представить тебе мою приятельницу. Она хотела с тобой познакомиться. Ее зовут Маргарет Бошан.
Маргарет робко поздоровалась, но старик лишь кивнул в ответ и снова повернулся к сыну.
— Ну, какие у тебя новости? — спросил он. — На работу устроился?
Как это на него похоже! Все отметается в сторону, есть лишь то, что интересует его. Преуспел ты в жизни или угробил ее? Работаешь или ищешь работу? Вопросики времен депрессии. На сей раз, однако, Лэндон ответил не без удовольствия.
— Представь себе, папа, что да. В торговле недвижимостью. Сейчас это — крупный бизнес… Знаешь ведь, сколько сейчас всего строят… Компания невелика, но она все время разрастается. Так что это работа с большими перспективами…
Он остановился. Стало стыдно: вовсю расхваливает самую посредственную работу. К тому же отец едва его слушал. Он думал о своем.
— Этот мой тесть, — заговорил он, — мог бы сделать на недвижимости состояние еще тридцать лет назад. Сразу после войны он мог купить всю южную окраину. Застроить ее. Расширить… Как можно было упустить такой шанс? Это преступление. Я ему говорил, но он не желал меня слушать. Хотел бы я… — Он начинал раздражаться; сел поудобнее, оперся всем телом на один кулак, часто задышал. — Хотел бы я, чтобы он увидел своими глазами, что там произошло после войны. Посмотреть бы на его лицо, когда он поймет, что упустил. — Он бросил на Лэндона пронзительный взгляд. — Ну, а ты тоже совершил свою ошибку, так? Сколько времени убил на эту писанину. Хороший кусок жизни. Теперь приходится плестись в хвосте, а тогда тебе было двадцать с чем-то лет. В эти годы и надо делать карьеру. Когда человек полон сил. Я ведь и тебя предупреждал. Говорил, сколько писателей живут приличной жизнью. Читал я, как они живут, не думай. Все до одного — наркоманы, пьяницы или бабники. Почти все голодали до смерти или сидели на шее у друзей. Я тебе все это говорил, но ты не слушал. Ты и эта твоя женушка. Вам обоим хотелось шикарной жизни… — Да уж куда шикарней. Лэндон едва заметно улыбнулся. — Шикарней некуда! — Сегодня на первом месте наука, — продолжал отец. — Если бы ты в свое время зацепился за науку, ты был бы устроен. Но наука тебя мало интересовала, так? Преподавал бы в школе или еще где. Английский или общественные науки. Дело надежное…
— Вот Маргарет преподает, — негромко сказал Лэндон. Эти отцовские нотации! Они и сейчас унижают его достоинство. И сейчас после них — какая-то ноющая боль в сердце. Ну ладно, это он переживет. Главное — не возражать, не сердить старика.
— Дело надежное, — повторил отец, глядя прямо перед собой. — Мне надо было идти в науку в двадцать четвертом году. Вместо этого я женился…
— Тебе чего-нибудь хочется? — спросил Лэндон. — Что-нибудь нужно?
В голосе отца послышался скрежет. Все эти разговоры стоили ему немалых усилий.
— Хочется ли мне чего-нибудь? — переспросил он. — Чтобы вы забрали меня из этой чертовой обители, вот и все, что мне хочется. Лежишь здесь целыми днями с этими безмозглыми старухами. Ты только посмотри на них! У них одно занятие — смотреть телевизор. Добро бы хоть что-нибудь научно-популярное. А то ведь сплошная дребедень, а они сидят и пялятся в него с утра до ночи. Я даже кроссворды не могу решать. Он еще и орет. Я велю им выключить звук. Заставляю их…
Рядом с кроватью отца в кресле-каталке сидела старуха. Она смотрела на беззвучный экран телевизора и не обращала на отца Лэндона никакого внимания. Возможно, она была глуха и не слышала его. У нее было какое-то нервное заболевание — седенькая головка с косицами непрерывно подергивалась на толстой и короткой шее. Жизнь прожита, и надо терпеть — вот что было написано на старушечьем лице. Перед ней на белом гудевшем экране была встревоженная домохозяйка — к ней в кухню, головастый, рукастый и ногастый, вошел баллончик с дезодорантом. Отец Лэндона хотел на волю.
— Но, папа, ты же знаешь — ни Эллен, ни я тебя взять не можем. В смысле — тебе нужна профессиональная медицинская помощь. Полноценный уход…
— Мне нужна моя семья, — раздался горячий шепот старика. Он побледнел, и Лэндону стало за него страшно. Надо же, как разволновался! Впрочем, так было всегда. У него никогда не хватало на меня терпения. Еще пацаном я действовал ему на нервы. А что я мог поделать? Я слонялся с унылым видом по дому, мечтая о девчонках. Неуклюже развалившись в кресле или на мягком диване, читал журналы для культуристов. Один вид этого бесформенного рохли выводил отца из себя. Бывало, сидит в своем кресле, а потом бросит книгу или газету и быстрым шагом — на улицу. Возможно, я напоминал ему о ней. И вот, прошли годы, а он опять честит меня, как ребенка.
— Зачем я тебя растил? Сам растил последние годы. Я заботился о тебе. А теперь я должен торчать здесь с кучей старух!
Он стал прямо-таки женоненавистником!
— Папа, мне очень жаль…
— …Да, да, да. Тебе жаль… Тебе всегда очень жаль. Больше всего я помню о тебе именно это. Эту самую фразу: «Мне очень жаль». — Он язвительно добавил: — Будь жив Билли, я бы здесь не валялся.
— Может, и так, — сказал Лэндон, чувствуя укол ревности. — А может, и нет. Это раньше все было просто, а сейчас…
Отец окинул его презрительным взглядом.
— Откуда ты знаешь, как было раньше? В годы депрессии ты был еще сопляком. Не знал ни забот, ни хлопот. Обо всем в доме заботился я…
Появилась сестра, она внесла поднос, на котором стояли стаканы с фруктовым соком. Улыбаясь, она подошла к отцу Лэндона.
— Будете пить, мистер Лэндон?
Старик сердито покачал головой и, когда сестра ушла, снова повернулся к Лэндону.
— Я не разговариваю с этой женщиной. И вообще ей не доверяю. От нее я не возьму ничего.
— Почему, папа?
— Она меня не любит, вот почему. У нее на меня зуб.
Лэндон покачал головой.
— Ну что ты, в самом деле, папа.
— Говорю тебе, у нее на меня зуб. Она делает мне больно.
— Как?
— Когда трет мне спину. Так и норовит сделать побольнее. Да точно, у нее на меня зуб…
Лэндон бросил мимолетный взгляд на Маргарет — та сочувственно смотрела в сторону. А ведь ей пришлось мириться со старческим маразмом многие годы. Как люди с этим справляются? Терпение. Отзывчивость. Наверное, легкий нрав.
— Послушай, папа. Мне сказали, что у тебя сегодня уже были гости. Как Джинни? Вымахала, а?
— Кто?
Отец снова водрузил на нос очки и, хмурясь, изучал свой кроссворд.
— Джинни! Твоя внучка! Она же была здесь, разве нет?
— Да, девочка приезжала, — буркнул старый Лэндон. — Но мне хотелось спать. Когда она приехала, я только что пообедал. А после обеда я люблю вздремнуть. Она пробыла всего несколько минут. Все время что-то говорила, говорила… Я был… утомлен…
Лэндон представил ее визит к деду. Небось протрещала ему все уши своей болтовней.
— Ну, она же молодая…. Восторженная…
Но отец перебил его.
— Ты видишь эту женщину? — Они взглянули на кровать в другой части комнаты — там спала маленькая седовласая старушка. — Девяносто лет, — едко заметил отец. — Девяносто лет, и у нее уже не работает кишечник. С этим я, слава богу, пока справляюсь. Но она… Им приходится из нее все это выковыривать. — Лэндон поморщился. — Думаешь, лежать здесь и смотреть, как они это делают, — очень приятно? Каждое утро слушать ее стоны… — Он снова уставился в кроссворд. Мысли Лэндона заметались — что бы такое сказать отцу? Видно было, что этот старый брюзга очень и очень слаб. Но в нем еще теплилась жизнь, и голос его был полон яда. — Ну, ты большой спец по словам, — сказал он наконец. — Яркая звезда в северном полушарии. Шесть букв…
— Что-что там, папа? — Лэндон склонился над плечом отца. Побаловаться кроссвордами он любил. — Сейчас подумаем… Может быть, Сириус? Мне всегда нравилось это слово.
— Нет, — запальчиво сказал отец. — Где-то в середине должно быть «т»…
— Дай-ка я взгляну, — сказал Лэндон, нагибаясь еще ниже и напряженно думая. — Арктур не подойдет? Есть такая яркая звезда.
— В жизни о такой не слыхивал, — сказал отец. — Как она пишется? — Лэндон произнес слово по буквам, и шариковой ручкой старик заполнил клеточки кроссворда. Потом вдруг со стоном отбросил газету. — У меня на эти чертовы кроссворды уже не хватает сил. А где твоя сестра? Почему она меня не навещает?
— Она тебя навещает, папа.
— Раз в неделю. А живет в десяти минутах… Какой смысл растить детей?.. Только трата сил и здоровья…
Лэндон вздрогнул — его тронула за руку медсестра.
— Простите, пожалуйста. Вы, наверное, сын мистера Лэндона? Мистер Фред Лэндон?
— Да, а что?
— Вас к телефону, мистер Лэндон. Он у нас в коридоре.
— Меня?
Лэндон поспешил за приземистой широкоплечей медсестрой к столу в коридоре. Телефон стоял на открытой книге записи посетителей, и Лэндон прижал к уху теплую трубку. Наверное, это Эллен, кто же еще?
— Да? Алло!
Тут же он услышал голос сестры.
— Фред?
— Да. В чем дело, Эллен?
Неожиданные звонки он терпеть не мог.
— Слушай, Фред… Тут кое-что случилось, но ты только не волнуйся. Ничего серьезного, я уверена.
Тонкий голос сестры был чуть напряжен, звучал с легким воодушевлением. Наверняка дурные вести.
— Ну, что случилось? — быстро спросил он.
— Только что звонили из полиции.
— Из полиции?
Кровь горячей волной ударила Лэндону в голову. Как слепой, он машинально нащупал ручку кресла и сел. Сестра продолжала говорить.
— Ты только не волнуйся, Фред, но я поняла так, что Джинни и ее приятель — в тюрьме.
Эллен была взволнована. Как же, такие мрачные новости! Это как раз по ее части.
— В тюрьме? О господи, да почему? Они что, в аварию попали? Она цела?
— Да, да, она цела. Но в полиции мне ничего толком не сказали. Они позвонили, потому что Джинни сказала им, что в городе сейчас ты и что Херб — твой зять. Херба они, ясное дело, знают. Вот и позвонили в порядке одолжения Хербу…
— Дальше, дальше, Эллен… — Эти ее объяснения! Вечно цепляется за никому не нужные детали. С ума с ней можно сойти! — Что они сказали?
— Они хотят, чтобы ты как можно быстрее к ним приехал. Видимо, нужно внести залог, чтобы их выпустили, или что-то в этом роде.
— И больше они ничего не сказали? Почему они их забрали — не сказали?
— Нет… Сказали только, чтобы ты приехал.
— Ну конечно, приеду. Уже выезжаю. А тюрьма где — в старом суде?
— Да. В переулке у главной улицы. Где и раньше.
— Ладно, Эллен, спасибо. Сейчас еду.
— Как там отец?
— Нормально. Пока, Эллен.
Но от его сестры так просто не отделаешься. Видимо, она тоже хотела принять участие в действиях.
— Хочешь, я позвоню Хербу? Он знает почти всех полицейских в городе…
— Нет, прошу тебя, не надо… Сам управлюсь.
— Ты уверен? Мне же это не трудно…
Не дослушав, Лэндон повесил трубку. Быстрыми легкими шагами он, слегка запыхавшись, вернулся к постели отца.
— Папа… Мне сейчас надо идти. Постараюсь вскорости еще к тебе заехать. А сейчас тут кое-что надо сделать. — Глаза старика уже затуманились. Он совсем засыпал, однако же что-то прошептал, и Лэндон наклонился ближе. — Что такое, папа?
— Мое лицо? — проурчал он. — Как я, по-твоему, выгляжу?
— Прекрасно, папа. Нет, правда… — Он стиснул сухую пепельную руку. — Пора идти. Мне очень жаль. Благослови тебя бог…
Он вышел. Надо бы посидеть подольше. Он знал это. Но Джинни — в тюрьме. В тюрьме! Его дочь! Что они могли натворить? На улице он крепко взял Маргарет за руку, и они пошли по лужайке, печатая следы на влажной траве. В машине Маргарет спросила его, что произошло. Вид у нее был очень мрачный. Лицо Лэндона горело нездоровым румянцем. В зеркале заднего вида он увидел — волосы у него всклокочены. Разговаривая с Эллен, он рассеянно лохматил шевелюру нервными пальцами. Повернувшись к Маргарет, он рассказал ей, что случилось.
— Фредерик, милый мой, как же это? Надеюсь, ничего серьезного.
— Я тоже надеюсь, — сказал Лэндон.
Странное дело, ему вдруг захотелось, чтобы здесь была Вера, хотя звонить ей он ни за что не станет. Детки попали в тюрьму на его территории. Она подумает: ну вот, опять он прошляпил. И уж первым делом станет бушевать: ну, что там еще отчубучила эта маленькая дрянь? — Что-нибудь в этом роде. Однако же каким-то диковинным образом ее дурной нрав в критической ситуации позволял унять волнение. Трагедия пасовала перед этим безудержным гневом. Его же слабый дух лишь печалился и горевал. Они ехали по пустым боковым улочкам, и Лэндон пытался вникнуть в то, что произошло. Да, это шок. Твоя дочь в тюрьме! Но по крайней мере жива и невредима. И все из-за этого подонка — Чемберлена.
— Маргарет, я отвезу тебя в мотель. — Тон его был категоричен. — Потом поеду и тюрьму и разберусь, в чем там дело.
Она не стала спорить, и до мотеля они доехали в тягостной тишине. Однако на стоянке Маргарет вдруг совершенно необъяснимо зарыдала. Положив локоть на подлокотник двери, она прикрыла глаза рукой и заплакала, слезы через пальцы текли по лицу.
— Маргарет? Господи, ты что? — спросил пораженный Лэндон. — Да я все улажу. Ничего там не может быть сверхсерьезного… Ты иди в комнату и жди меня там, ладно? Полежишь… отдохнешь. — Она вытащила из сумочки еще одну салфетку и прижала ее к глазам. Откровенно говоря, он такого не ожидал. Считал, что у нее нервы покрепче. — Ну успокойся, Маргарет… — Она повернулась к нему.
— Извини меня, Фредерик. Веду себя как не знаю кто. Просто я испугалась…
Она и вправду испугалась — в ее распухших глазах был страх.
— Чего уж так бояться? Послушай…
— Нет, выслушай меня, пожалуйста… Выслушай меня, Фредерик… — Взгляд ее застыл на часах в приборной панели. Они не работали, остановились в какой-то давно канувший в вечность день на десяти минутах десятого. Маргарет заговорила медленно, взвешивая каждое слово. — Я должна тебе сказать… Прежде чем ты поедешь к дочери… — Лэндон почувствовал, как на виске у него пульсирует жилка. Сейчас на его голову обрушится что-то ужасное. Извещение с гильотины! Маргарет перестала рыдать, и голос ее стал зловеще спокойным. — Дорогой мой Фредерик… Извини, что говорю тебе вот так, но держать это в себе больше нет сил. Последние две недели я вся извелась. Но я ходила к доктору… и никаких сомнений нет. Я ношу твоего ребенка.
* * *
Она носит его ребенка? Но разве это возможно? Конечно, возможно. В этой жизни возможно абсолютно все. Он сам не раз говорил себе это. Итак, у нее будет ребенок. Его ребенок. Это в наши-то вольготные — гуляй, не хочу — денечки, когда, чтобы не залететь, достаточно слопать таблетку. В пятидесятые годы с Верой этого по крайней мере можно было ожидать. Но с Маргарет ему и в голову не приходило беспокоиться. А ведь стоило на секунду задуматься (да где уж!), чтобы понять: он имеет дело со старомодной и благочестивой католичкой. Молитвы на латыни и любовь по церковному календарю. О господи! Что же, в сорок два начинать все сначала? В который уже раз семь веков человечества грубо наваливаются на его покатые плечи. А ей, между прочим, сорок! В таком возрасте рожать опасно. Но аборт исключен. Она никогда на него не согласится, да и ему эта мысль была отвратительна. Нет, через это придется пройти. За свои действия надо отвечать. Но ребенок! На подходе еще один Лэндон — с огненной гривой и славянской кровью в жилах. Почему в мужском роде? Значит, у Лэндона будет сын? «Лэндон и сын. Поздравительные открытки для всего мира». А возможно, появится девочка, темноволосая и серьезная, с красивой и загадочной душой, вся в религии, как ее мать. Его вдруг захлестнула нежность к этой женщине. Какая трагедия была на ее лице, когда она ему рассказала! Ведь она жутко перепугана! Утешить бы ее, успокоить, да и меня тоже. Ведь еще сегодня утром я проснулся, и все было ясно и понятно, а теперь? Так он думал, заезжая на стоянку возле здания суда.
Старый суд, на его сером каменном лице — следы прожитых лет! Соседние здания давно исчезли, снесены под автостоянку — сейчас, во второй половине дня, она была почти пуста. Среди стоек со счетчиками вполне хватало места для гранштейновского «де-сото». В дальнем оконце стоянки, предназначенном для полицейских машин, стоял «мерседес» Бланш. Слава богу, по крайней мере аварии не было! Он медленно пошел к зданию суда. Все кругом менялось, велись разговоры о реконструкции, а оно стояло себе и стояло. Старое здание сохранилось благодаря усилиям местного исторического общества — так утверждала сестра Лэндона (она послала ему вырезку из городской газеты). Одним словом, пока что смертоносный шар-разрушитель его стен не коснулся. И оно стояло себе — массивное, невозмутимое, неуклюжее, самое что ни на есть протестантское, стояло и отбрасывало на город викторианские тени. Что ж, это правильно, его еще решили сохранить, хотя бы как древнюю диковинку, напоминание о низкопоклонстве колониальной поры. Ребенком он раз в год проходил через эти широкие двери, держась за руку отца, и с благоговейным трепетом взирал на мрачный вестибюль, увешанный флагами Соединенного Королевства и портретами бородатых героев Англо-бурской войны. Ближе к вечеру однорукий человек посыпал деревянные полы каким-то сильно пахнущим порошком, а потом начисто их протирал. Отец платил налоги наличными, без слова просовывал большие банкноты в окошечко кассира и, окаменев, напрягшись от гнева, ждал квитанции. На улице он бормотал: «Эти сборщики налогов — ворье. Ни один из них не зарабатывает свой хлеб честным трудом». Мог ли Лэндон думать в те давнишние времена, что однажды придет сюда в поисках угодившей в тюрьму дочери? Он обогнул здание, прошел мимо мрачных зарешеченных окошек и остановился перед входом в полицейский участок. Над дверью висел матовый белый шар, черной краской на нем было написано «полиция». Этот шар Лэндон помнил. Вечерами он сиял, как белая луна. В канун Дня всех святых мальчишки швыряли в этот шар камнями и освистывали полицейских. Он потянул на себя дверь, и в лицо ему жаркой волной ударил затхлый воздух. У них тут, наверное, градусов тридцать. Батарея ламп дневного света под потолком жестко освещала большую комнату. Этот металлический свет — он напоминал вспышку атомного взрыва! За высоким длинным барьером, прорезая рыхлый воздух, постукивала пишущая машинка. За одним из столов позади барьера сидел тучный дядя в голубой рубашке и очках без оправы. Толстыми пальцами он тыкал по клавишам пишущей машинки. Лэндон узнал собственный метод «нашел-тюкнул». Полицейскому было далеко за пятьдесят, на румяном лице гнездились веснушки, лысеющую голову обрамляли рыжеватые волосы. На рукаве его рубашки были желтые сержантские нашивки.
— Одну минуту, сэр, — сказал он, на секунду отрываясь от работы. У него был густой и хрипловатый голос уверенного в себе человека, чувствовался гэльский акцент. Прежде всего это был голос начальника, довольного собой и привыкшего, чтобы ему подчинялись. Еще один осевший здесь кельт, подумал Лэндон, кладя локти на старомодный барьерчик. Очень многие из них стали полицейскими. Или расторопными торговцами поздравительными открытками, как Эрл Крэмнер. Что ж, в конце концов, они потомки воинственного племени. Главное для этих людей — физическое превосходство, в бою они жили полной жизнью. Крэмнер обожал задираться.
Веснушчатый здоровяк полицейский не спешил закончить свою работу, и Лэндон подумал, не присесть ли ему на длинную деревянную скамью со спинкой из планок. Сколько людей сидело на ее пожелтелой отшлифованной поверхности в ожидании дурных вестей? Дурных, каких же еще? Сюда за хиханьками и хаханьками не приходят. Он посмотрел на настенный календарь, который рекламировал цепные пилы и тракторы. Девчонка со светлыми кудряшками сидела, скрестив ноги, и улыбалась в объектив, в каждой руке — по щенку. И эти здоровенные, не знающие жалости полицейские на такую картинку глядят с умилением. Все правильно. Как там в старой пословице из Восточной Европы? Где-то он ее прочитал и запомнил — вдруг пригодится? «Бойся человека, который плачет на похоронах своей собаки, — в следующую войну он перережет тебе горло». Словацкая душа — тут что-то патологическое. Наверное, они имели в виду немцев.
Полицейский заканчивал — он стучал по одной клавише, что-то подчеркивал. Наконец оттолкнулся от стола, поднялся, и вращающийся стул на колесиках откатился назад. Оказалось, что сложен он довольно крепко, хотя изрядно заплыл жиром. Живот сдерживался широким черным ремнем, но в бедрах полицейского распирало, а задница была комически огромных размеров. Чтобы прикрыть такую геройскую попу, требовались ярды синей саржи. Даже сейчас, печатая на машинке, он не отстегнул от пояса свое вселяющее ужас оружие. Он снял очки, и его тяжелое лицо стало суровее, более воинственным.
— Итак, сэр… чем могу быть полезен?
Он шел на прямых ногах, суставы под этой плотью не хотели двигаться. Возможно, у него артрит. А Лэндон жаждал скорее внести ясность. Он сейчас — обеспокоенный родитель, чей ребенок что-то натворил. Такое случается в самых лучших семьях. И перед вами, кстати говоря, не какой-то отщепенец. По уму и образованию он наверняка превышает средненациональный уровень. В голове его то и дело рождаются тонкие и оригинальные мысли. Все это Лэндон пытался передать, озабоченно наморщив свое благородное чело.
— Меня зовут Лэндон, сержант. Фред Лэндон. Я живу в Торонто и сюда приехал всего на день. Навестить отца в «Гринхэвенхаус». Мне позвонила сестра… Миссис Херб Райзер. Она сказала, что у вас находится моя дочь с приятелем. С ней что-то случилось? Она не ранена?
Сержант положил на барьер две громадные неподвижные ладони.
— Нет, мистер Лэндон, наша дочь не ранена, а случиться — случилось. Наркотики…
Что? Он не ослышался? Впрочем, сегодня с ним сплошь происходит что-то трудно постижимое. Он никак не мог ухватить суть сказанного. Видимо, где-то было отдано распоряжение, по которому ему надлежит получить сегодня серию физических потрясений и электрических шоков различной силы. Но цепи его сознания уже были опасно перегружены. Да еще это сверкающее и иссушающее пекло! У Лэндона пересохло в горле, кровь отхлынула от лица. Наверное, он заметно побледнел — полицейский смотрел на него не без мягкости.
— Мы не стали помещать вашу дочь в камеру, мистер Лэндон. Подумали: скоро за ней кто-нибудь приедет, а по виду она девчонка приличная. Однако же, боюсь, у нее могут быть неприятности.
— Что они сделали? В чем их обвиняют?
Несмотря на нетерпеливую хрипоту в голосе Лэндона, сержант не спешил с ответом.
— Сейчас я прочитаю вам рапорт, сэр, — сказал он, медленно возвращаясь к столу. В его необъятных поблескивающих штанах переваливались два огромных куска мякоти. Он шел и говорил: — Их задержали примерно час назад за превышение скорости. По пути из города. Как я понял, они ехали в дорогой машине…
Лэндону показалось, что в тоне сержанта прозвучало легкое неодобрение. Детишки раскатывают в машинах по двенадцать тысяч долларов. Возможно, этот факт шел вразрез с его шотландскими понятиями о бережливости и правильном воспитании.
— Да, это «мерседес-бенц», — сказал Лэндон. — Машина не моя, — добавил он. — Она принадлежит тетке моей дочери. То есть… сестре моей бывшей жены…
Эти жалкие объяснения. И опять он — в своем репертуаре. Стоит и канючит, чтобы пожалели.
— Мы ее временно конфисковали, — сказал сержант, медленно и неловко продвигаясь обратно к барьеру, рассматривая по пути бумаги. Он нацепил на нос очки и разложил бумаги на барьере. Тут было несколько экземпляров под копирку. Он откашлялся и, хмуро посмотрев на бумаги, начал читать. Лэндон вслушивался в судебную терминологию, стараясь не пропустить ключевые фразы: — Производившие арест полицейские Бернетт и Симмонс задержали подозреваемых приблизительно в пятнадцать часов десять минут… Радар зафиксировал превышение скорости, которая оговорена в постановлении 1006… — Слушая это монотонное чтение, Лэндон смотрел на забитые грязью трещины в полу.
— …При обыске у подозреваемых были обнаружены шесть сигарет, судя по всему содержащих марихуану или какой-то аналогичный наркотик, что является нарушением пункта третьего, подпункта первого Закона о контроле за наркотиками… При обыске автомобиля был найден небольшой пластиковый пакет, содержащий некоторое количество марихуаны. После телефонной консультации с руководством отряда канадской конной полиции в Миллвуде ответчикам было предъявлено обвинение по пунктам три и четыре Закона о контроле за наркотиками. Соответствующие обвинения были зачитаны виновным перед их заключением под стражу. А именно: пункт три, подпункт один. За исключением случаев, оговоренных в настоящем законе или соответствующих инструкциях, хранить у себя наркотики не разрешается никому. И пункт четыре, подпункт два: никому не разрешается хранить у себя наркотики с целью их распространения.
— Распространения? — Лэндон поднял голову и вгляделся в тяжелое лицо. — Но это же серьезное обвинение?
— Очень серьезное, сэр.
— Неужели вы думаете, что они продавали эту пакость?
— Мы не знаем, мистер Лэндон, что они с ней делали. Но мы нашли у них достаточно, чтобы заинтересоваться. Канадская конная полиция велела нам…
— Где моя дочь? И что насчет залога? Не обязательно им торчать здесь субботу и воскресенье?
— Нет. Мы позвонили мистеру Лумису. Это мировой судья. — Сержант собрал бумаги и постучал ими о барьер, приводя в порядок. — Знаете, мистер Лэндон… обычно мы их выпускаем. Сейчас полным-полно юнцов, которые балуются наркотиками, даже в таком маленьком городке. Обычно мы просим их расписаться в получении повестки в суд и отпускаем домой. Через день-два они являются в суд. Но у вашей дочери и ее приятеля в машине было найдено определенное количество наркотиков. И мы не можем рисковать…
— Сколько это — определенное количество?
Они действительно здорово влипли.
— Ну… несколько унций[89].
— Какой же залог?
— Мировой судья решил так: пятьсот долларов за вашу дочь и тысячу за парня. Знаете, он ведь иностранец.
Лэндону почудилась издевка — вот, мол, не уследил за дочкиными кавалерами.
— Да, знаю. Могу я видеть дочь?
— Конечно. Она в соседней комнате. Думаю, ей там вполне удобно. — Он обошел барьер, открыл маленькие деревянные воротца и подвел Лэндона к двери, распахнул ее и стал в сторону. — Вот, пожалуйста.
— Спасибо, сержант.
Джинни подняла голову с деревянной скамьи — она лежала на боку и читала книгу, рука под головой, коленки подтянуты к груди. Увидев отца, она скинула ноги на пол и села, по-школьному ссутулив плечи.
— Привет, папуля.
Он помнил этот голос. Голос из ее детства. Низкий, надтреснутый, какой-то обреченный, а глаза при этом — вниз. Голос, рассчитанный на то, чтобы пробудить жалость в самом окаменелом сердце. Черт его знает, вид у нее был достаточно жалкий — линялые заплатанные брючишки, спортивные туфли. Еще кофточка — то ли персиковая, то ли цвета охры, какая разница? Она подчеркивала ее бледность, изможденность. А может, ее кожу уже поразил серый тюремный воздух? И еще свитер защитного цвета, шалью накинут на плечи, а рукава завязаны у горла. Так бывают одеты пожилые женщины, что возятся в садах по вечерам. Эта его дочь — ей вполне удалось его разжалобить! В этой отталкивающей комнате с металлическими серыми сундучками и складными стульчиками. Наверное, полицейские здесь переодеваются. С каменного пола поднимался пляжно-кислый запах и прилипал к стенам табачного цвета. Интересно, а как выглядят в этой старой гробнице камеры? И вот она — его дочь! В глазах, невинно расширившихся за стеклами очков, — мольба о понимании, о прощении. Он подошел и сел рядом с ней на скамью — слава богу, хоть ноги отдохнут. Он знал, что казнит ее своим молчанием. Это не его стиль, о чем ей прекрасно известно. На сей раз он был ей непонятен, и на ее безучастном, повернутом к полу лице появлялась хмурь удивления. Еще чуть-чуть — и она надуется. Лэндон взял ее книжку. «Восставшие души». Калил Гибран. Целые абзацы аннотации были жирно подчеркнуты темным карандашом, как в учебнике. Лэндон прочитал:
«Если бы пламя моей стонущей души коснулось деревьев, они снялись бы со своих мест и сильной армией, с ветками наперевес, пошли бы на бой с эмиром, они разрушили бы монастырь и погребли под его обломками священников и монахов».
Почему-то эти слова вызвали в нем раздражение. Это же надо — в тюрьме читать такой бред! Неужели она не понимает, в какое серьезное положение попала? Он сам толком не знал, чего от нее хочет, но эти витиеватые предложения плюс вязкая каменная тишина комнаты взбесили его. Он поймал себя на том, что внимательно разглядывает дочь: мягкие и округлые линии шеи, волосы туго завязаны в конский хвост и подхвачены резиночками — точно такую прическу она носила в семь лет, когда он водил ее в музей показать пожелтевшие кости динозавров и египетских мумий. А потом отвозил ее к Вере — брал на воскресенье, — и наваливалась пустота. Как она калечила душу! И эта шейка с завитками волос, эта нежная девичья плоть — его, Лэндона, плоть и кровь! Но, подавив в себе сильные чувства, он поклялся быть с ней твердым.
— Джинни? Ты здорово влипла. Могут быть большие неприятности.
— Да, я знаю.
Она продолжала тупо смотреть перед собой, сидела ссутулившись, руки где-то между коленями. Это его тоже разозлило. Знакомая картина — насупилась, как обиженный ребенок.
— Ну давай, рассказывай. Как это тебя, черт возьми, угораздило? Неужели до сих пор не знаешь, с чем можно связываться, а с чем нельзя? — Он понимал, что это немилосердно. Ведь ее он еще не выслушал. Но сегодня все словно сговорились его затюкать. Выступили против него единым фронтом. — Я жду объяснения, Джинни.
Она повернулась к нему — глаза блестели от влаги. Смигнула слезы.
— Ну, папуля. Я думала, хоть ты поймешь. С тобой всегда можно было поговорить. Ты меня понимал…
— Ты хочешь сказать, я всегда соглашался с тобой. Маленькая разница, Джинни. — Он помолчал. — Ты звонила матери?
Джинни отвернулась и опять ссутулилась в улитку.
— Да.
— А она что сказала?
Можно себе представить.
— Что она всегда говорит? Я знала, что рано или поздно это случится, и так далее, и тому подобное. Потом назвала меня глупой дрянью и повесила трубку.
— Повесила трубку?
— Да.
— Ну, это она от волнения. Расстроилась. Она и так с тобой в прошлом году горя хлебнула. Она мне рассказывала.
— Она не успокоится, пока не упрячет меня в монастырь.
— Ты можешь загреметь кое-куда похуже, если эти обвинения подтвердятся…
— Ну это же глупо. От алкоголя и то больше вреда, чем от травки. Это доказано…
Он оставил ее слова без внимания.
— А вся эта пакость, которую нашли в машине? Говори правду, Джинни. Твой Чемберлен промышляет наркотиками?
Он понизил голос. Вдруг эта занюханная комната прослушивается?
— Нет. Ну конечно, нет, — ответила Джинни. — Как ты мог такое подумать?
— Очень даже запросто.
— В общем, это неправда.
— Тогда на кой черт ему столько марихуаны? Я бы не сказал, что объяснить это — легче легкого.
Джинни повернулась к нему, сложив руки, как для молитвы. Она прижала эти молящиеся руки к бедру и зашептала:
— Папуля, все это ужасная ошибка. Ральф никогда не стал бы промышлять травкой. Он знает, что за это может не поздоровиться. У него есть знакомые, которых на этом застукали.
— Их бы ему на процесс в свидетели — лучше не придумаешь. — Он тут же обругал себя за этот выпад. Она ведь пытается что-то объяснить. — Ну хорошо, Джинни. — Он взял ее за руку. — Откуда взялась эта пакость в машине твоей тетки?
Она благодарно взяла его руку и уставилась в пол, словно история этих ошибок была выгравирована в камне. Медленно заговорила.
— Из Торонто мы уехали утром. А потом, в дороге, Ральф говорит: я тут должен взять немного травки. Товар что надо и почти даром. Его приятель уезжает из города, ему нужны деньги. В общем, мы ее забрали, Ральф был в полном кайфе. Он никогда столько травки не держал в руках, да еще почти бесплатно. Он хотел только для себя. Ну, угостить друзей. А продавать или еще что-то такое он и не собирался…
— Джинни, человека могут обвинить в распространении наркотиков, даже если он их не продавал. Тебе это известно?
Она закрыла глаза и закивала головой — взад-вперед.
— Известно, известно. Но это идиотство! Если ты кому-то поставил стаканчик, тебя же не привлекают за распространение спиртного…
— О чем ты говоришь? Да пусть закон будет сто раз идиотским, какое это имеет значение? Ты не можешь защищаться в суде на том основании, что этот закон — глупость. Ну почему, черт возьми, Чемберлен оставил этот пакет в машине твоей тетки? Что за преступное скудоумие?
— Тащить его в свои меблированные комнаты Ральф побоялся. Там у них полно любителей дурмана, и полиция за их домом приглядывает. И двери не запираются. Кому надо, тот вошел в комнату, кому надо — вышел. Как в студенческой общаге. Ничего не спрячешь. Вечером Ральф хотел оставить пакет у товарища. А пока решил спрятать его в машине — думал, что надежно. Он говорит, что людей в дорогих машинах полиция не трогает.
— Очередная иллюзия твоего друга. Ему нужно их записывать, потом издать отдельной книгой. Под названием «Афоризмы параноика», что-нибудь в таком роде.
— Папа, ну пожалуйста…
— Ладно. Но влипла ты здорово, Джинни. Никогда не прощу Чемберлену, что он втравил тебя в это…
— Все катят бочку на Ральфа.
Она отвернулась от него, надулась — это означало, что отрекаться от Чемберлена она не собирается. На минуту Лэндон откинулся к стене и изучающе смотрел на профиль дочери. Глаза и щеки — точь-в-точь как у старого Ульфа Линдстрема, а нос Холлов — остренький, даже детский. С таким носом трудно хмуриться. Если Вере удавались эти суровые взгляды, ее дочь была на них неспособна. Особая химическая реакция, в которой соединились гены Лэндонов и Холлов (чего только в этом супе не намешано!), — и Джинни явилась на свет без маски. Лицо ее не умело сердиться, эта остроносенькая мордашка, лишенная всяких признаков коварства, могла только дуться. Возможно, этот бесхитростный взгляд девушки-невесты — исподлобья — с возрастом никуда не денется. Плохо, если так. Он знал, что она сердится и разочарована в нем, но решил стоять на своем.
— Что ты находишь в этом парне, Джинни? По-моему, самый обыкновенный смутьян. И тебя втянул в эту авантюру.
— Ральф не смутьян, — сказала она сухо, склонившись вперед, локти на коленях, сложенные в мольбе руки держат подбородок. Эдакая девчонка-сорванец, брошенная своей компанией. — Просто он идеалист, отсюда и неприятности. — Она сделала паузу, словно давая комнате возможность переварить этот факт. — Его никто не понимает. А он — очень глубокий человек. У него есть принципы, и он им не изменяет. Такие люди встречаются не часто — мне по крайней мере… Которые не изменяют принципам… Ральф оставил свою страну, родителей… друзей, да все потому, что не хотел идти в их поганую армию. На это нужно настоящее мужество, скажешь, нет? Взять вот так и от всего отказаться. Теперь он здесь, в чужой стране. Ну, и особого дружелюбия не встречает. С работой сколько намытарился, да и с другими делами.
— А на что он живет? Где-то работает?
— Немного деньжат ему присылают из дома. Мать подбрасывает. Особенно не разгуляешься. А работает где придется. Прошлым летом работал в кафетерии, но заболел, и пришлось уйти. Сейчас он пишет книгу.
— Книгу? О чем же?
— Обо всем. Он так ее и начинает. «Книга обо всем». Ну, может, это временное название. Потом поменяет. Еще они с ребятами пытаются достать деньги, чтобы снять этот фильм. Но их никто не хочет финансировать — идеи у них слишком революционные. Ральф говорит: что Канада, что Штаты — один черт. Как мы здесь обращаемся с индейцами? Нагреб денежек — значит, ты в порядке. А если нет… И все кругом испоганено донельзя. Вот об этом он и пишет. К примеру, возьми Великие Озера… какая в них сейчас грязища. Ральф слышал, как по телевизору выступал этот французский ученый, Кусто, — он фотографирует рыб и тюленей. Так он говорит, что океанов больше чем на пятьдесят лет не хватит…
Лэндон внимал дочери. Да, теперь разящий гнев каждого такого Чемберлена будь любезен взвешивай, оценивай, изучай — вот в чем беда. Этого требовало время. Оно принуждало тебя иметь дело с замечательными экземплярами. И пожалуйста, подвинься, у них есть свое мнение, ему требуется пространство. Этот Чемберлен! С его мрачной и пасмурной красотой и вечным недовольством. С нытьем, увлечениями и идеалами. Наверное, он видит себя писателем, кинопродюсером, лектором в университете, романистом, надписывающим свои книги в магазине, звездой телевидения, представителем Ренессанса двадцатого века. И все это — до двадцати пяти лет. А что, эта мечта не сказать чтобы уж совсем безумная. Ведь такое происходит постоянно. Какой смысл сегодня сдерживать честолюбие, критически относиться к своим возможностям? Достаточно включить телевизор, и сразу увидишь: кто-то вдвое глупее тебя заколачивает в двадцать раз больше, а товарец его — всего-навсего собственное мнение.
— Ну хорошо, Джинни, — сказал Лэндон. — Давай сейчас это оставим. Возможно, Чемберлен — человек с высокими идеалами, даже достойными восхищения. И если его отношение к войне действительно такое, как ты говоришь, оно меня восхищает. Но сейчас не время и не место обсуждать идеалы. Сначала нужно вытащить вас отсюда. Твоя мать сказала что-нибудь насчет денег для залога? Нужно полторы тысячи.
Джинни скорчила кислую мину — на свой манер.
— Нет, но она приедет. Она этого не сказала, но приехать приедет. Только я с ней не поеду.
— Это еще почему?
— Потому что я железно знаю: она привезет деньги, чтобы выкупить только меня. А платить за Ральфа и не подумает. Ей что, пусть он торчит субботу и воскресенье в этом клоповнике. Так вот, у меня для нее сюрприз. Если Ральф остается здесь, я — вместе с ним… — Она обхватила себя руками и склонилась вперед, изучая пол. — Останусь, и все…
— Перестань валять дурака, — сказал Лэндон. Он посмотрел на округлившуюся спину дочери. — И откуда такая уверенность насчет матери? Она вовсе не злобная женщина.
— Эх, папуля. То-то и оно. Как раз она злобная. Приедет сюда вся в праведном гневе, помечет громы и молнии, потом швырнет деньги для меня, а Ральф пусть гниет здесь. Что я — ее не знаю?
— Может, она вообще не приедет, — предположил Лэндон.
— Приедет как миленькая, — Джинни проговорила это быстро. — Приедет.
На этот счет у нее как будто никаких сомнений не было. Проявилась в конце концов присущая Холлам самонадеянность. А может, если всю жизнь живешь в достатке, такой образ мыслей вполне естествен? Кто-нибудь все равно отстегнет, сколько требуется. Революционные идеалы — вещь хорошая, но Джинни вовсе не собиралась проводить конец недели в этой викторианской крепости, давиться булочками с бифштексом и запивать их кофе из армейской кружки. А если ее мать уже сыта по горло ее поведением? Возьмет да и оставит их здесь до понедельника? Жестокий урок. Он содрогнулся от этой мысли.
— Я постараюсь добыть деньги, — сказал он. — Хотя наскрести полторы тысячи — задачка не из простых.
— Брось ты, папуля. Ну, посидим здесь до понедельника. Я не против, правда.
— Ты очень даже против. И не изображай из себя мученика, ладно? Ты сюда попала не потому, что боролась за гражданские права. И о великих принципах тут речи нет. Тебя просто обвиняют в уголовном деянии.
— В общем, без Ральфа я отсюда никуда не пойду. Что же он, совсем один останется? Это несправедливо…
Лэндон поднялся, услышал, как в колене хрустнула какая-то косточка.
— Ладно, постараюсь что-нибудь сделать. — Джинни тоже поднялась, и он посмотрел на нее сверху вниз. Пожалуй, пережитое не прошло для нее даром — она вся как-то съежилась. Личико обычно полное, а сейчас щеки впали. И словно похудела на десять фунтов. Он коснулся ее лица. — Ты как, ничего? Ела что-нибудь?
— Папуля, я не голодная, а вот кофейку бы глотнула.
— Попробую что-нибудь сделать. А пока держись. Постараюсь обернуться быстро.
Он хотел сказать еще что-то, внушить ей, чтобы впредь была поосторожнее. Но сейчас он мог думать лишь об одном — поскорее вытащить ее отсюда. Ведь не исключено, что Вера вообще не явится. Или, допустим, явится, но выложит лишь пять сотенных на Джинни. В этом случае — умопомрачительная сцена. Надо бы ее предотвратить. Но где взять полторы тысячи зеленых сейчас, в шесть часов вечера в субботу, в этом захолустном городишке? У Херба, наверное, лежат такие деньги в банке или он может их достать. Но нет — об этом не могло быть и речи. У своего зятя он не попросит в долг и булавки. Он улыбнулся Джинни и поцеловал ее в лоб.
— Ну давай, выше нос. Скоро вернусь.
В ослепительном свете главной комнаты участка Лэндон увидел: положив локти на стол, сержант ужинал, вгрызался в свою булку с бифштексом. В нос Лэндону ударил запах жареных картофельных ломтиков и кофе. Тут же были еще два полицейских, помоложе, они сидели на столах, свесив ноги в больших черных ботинках на толстой подошве. Наверное, это и есть Бернетт и Симмонс? Они пили кофе из бумажных стаканчиков и разглядывали Лэндона с дружелюбным интересом. Как-никак субботний вечер, и они были рады обществу. Лэндон откашлялся.
— Простите, сержант, могу я видеть парня?
Сержант отправил в рот порцию картофельных ломтиков.
— Можете, — резко бросил он. На сей раз голос его звучал более официально, и, поднявшись, он хмуро оглядел остатки своего ужина. Возможно, показывает молодежи, как нужно держаться. Или я оторвал его от еды, а для человека таких габаритов поесть — всегда важное занятие.
Тюрьма встретила малоприятным запахом плесневелого камня и лизола. В камере одиноко горела голая лампочка, и Чемберлен, утянутый в свою хлопчатобумажную робу, был демонически красив. Он сидел в углу, подтянув колени к груди, и почти ничего не говорил. Разговор вел Лэндон, держась за железную решетку и затылком ощущая дыхание сержанта.
— Я собираюсь вытащить тебя отсюда, — сказал Лэндон, испытывая стесненность в присутствии этого парня. Слова давались с трудом. — Найду тебе адвоката, так что не думай, сидеть здесь до конца жизни тебе не придется!
Чемберлен обхватил руками колени.
— Вы извините, что из-за меня досталось и Джинни… Она хорошая девчонка… Она ни при чем… Я и полицейским так сказал.
Он говорил до противного искренне.
— Н-да, ну что ж… — Лэндон глянул через плечо на сержанта — тот покачивался на каблуках, заложив руки за спину, и глядел в пол. — Что ж, тогда… держись, а я постараюсь что-нибудь сделать… — сказал Лэндон. — Не торчать же вам здесь до понедельника. Вот черт…
На улице вступал в свои права весенний вечер. Воздух был прозрачный и холодный, тротуар под ботинками Лэндона казался сплошным куском льда. В «Летающем драконе» он разменял три доллара на монетки по двадцать пять, десять и пять центов и, зажав горсть тяжелого серебра в кулаке, словно для пожертвования, пошел к автомату на соседней улице. В будке он сложил монеты на металлическую подставку, достал записную книжку и обвел карандашом номер телефона Бланш. Но либо никого не было дома, либо там не желали брать трубку — ответом на все его старания были тягучие гудки в левом ухе. Потом он стал звонить Харви Хаббарду — единственный известный ему человек, который с ходу способен достать полторы тысячи долларов. Но и у Харви телефон не отвечал. Ясное дело, ведь сейчас — субботний вечер! Харви теперь холостяк, а жизнелюбом он был всегда. У него есть дамы. Если он сейчас развлекает одну из них в постели, думал приунывший Лэндон, он будет ненавидеть меня лютой ненавистью до конца дней моих. От гудков заболела голова. Он решил позвонить Маргарет, набрал номер мотеля и был счастлив услышать человеческий голос. Рассказал ей о своих проблемах. Она лежала, и голос был сонный.
— Как ты там? — спросил Лэндон.
— Да все прекрасно, — ответила она каким-то одурманенным голосом. — Только я о тебе волнуюсь. Со всеми этими проблемами.
— Ничего, надеюсь, все уладится. Ты ела? Можешь что-нибудь заказать прямо в номер.
— Я не очень голодна.
Наступила вязкая тишина. Какое неловкое положение! Лэндон напрягся, но не мог выдавить из себя ни слова. Голова стала тыквой, набитой высохшими семечками: на таком инструменте изящную музыку не сыграешь. И тут он произнес ее имя и сказал, что любит ее. Или ему это показалось?
— Ой, Фредерик, ты совсем не обязан это говорить. Из-за того, что я сказала сегодня. Насчет ребенка. Я не хочу, чтобы ты считал себя обязанным…
В голосе слышались приятно-томительные нотки, и сердце его ёкнуло.
— Послушай… Зачем ты так… — Чувства гигантской волной захлестнули его. Какие чувства? Пойди разберись. Тут ярлык не навесишь. Но и отмахнуться от них нельзя. — Маргарет, это как-то выбило меня из колеи. Но ты не думай, что я недоволен из-за ребенка. Да, все это сложно…
— Дорогой мой, но я очень довольна, я счастлива, что будет ребенок. И хочу, чтобы ты знал об этом. Я и не надеялась, что со мной когда-нибудь такое случится. Я очень счастлива. Но разбивать твою жизнь я не хочу.
— Ну зачем ты так? Мы все обсудим. Я приеду, как только смогу, но сначала надо вызволить дочь. Понимаешь, тут трудности. Я не знаю, приедет ее мать или нет. Ни до кого не могу дозвониться. Надо связаться с приятелем. Достать деньги.
— Я ничем не могу помочь, Фредерик?
— Разве что у тебя есть с собой полторы тысячи.
— Нет… Но у меня лежат деньги в банке…
— У меня тоже. Но как их забрать оттуда сегодня? Слушай… ты жди меня там. Я сейчас буду дозваниваться до Харви — хоть какое-то время. Постараюсь недолго.
— Я подожду. Обо мне не беспокойся.
— У тебя точно все хорошо?
— Да, да, мне уже лучше. Молодец, что позвонил. Сразу стало лучше.
— Ну, прекрасно. Как освобожусь, сразу приеду.
— До свидания, дорогой.
— До свидания.
Он держал в руке смолкшую трубку. Да, положеньице, хоть камень на шею — и в воду! Что же — начинать новую жизнь с этой женщиной? Ох, не так это просто! Растить еще одного ребенка! Не поздно ли ему катать дитятко на плечах и играть с ним в прятки — это ведь изнурительные игры! Папа Лэндон скрючился за диваном, скрываясь от трехлетних глаз! Давненько дело было! Когда этот ребенок повзрослеет, Лэндон будет уже стариком. Зато в дни заката рядом будет живая душа. Это тебе тоже не фунт изюму. Может, другой такой возможности не будет. Город кишмя кишит холостяками, разведенными, вдовцами. И большинство из них — моложе его, богаче, красивее. Да сейчас и пожилые не хотят сдавать позиций. Худощавые подтянутые щеголи в возрасте, бачки (тот же Крэмнер!), белая дубленочка спортивного покроя — чем не профессор из Европы! Глотают витамин Е, принимают гормоны — отважно стремятся не отстать от века. А ведь он — невезучий! Почти всю жизнь женщины, которые его вдохновляли, и смотреть не желали в его сторону. А те, что ему доставались… занимаясь с ними любовью, он как бы пребывал в состоянии легкого опьянения, взгляд его блуждал, а сердце тосковало по чему-то несбыточному. Последние годы ему пришлось несладко. А ведь будет, наверное, еще хуже. Страх перед жалкой и одинокой старостью часто заставляет людей заключать дьявольские альянсы. И придется ему доживать свои дни с какой-нибудь мегерой, клювастой старой каргой (еще одна Вера?), которая раньше срока загонит его в могилу. Отогнав эти отвратительные мысли, он снова набрал номер Харви. Опять-молчок! Куда он подевался? Двинул куда-то на выходные? Только не это! Его слегка замутило, и он приоткрыл стеклянную дверь — впустить воздух. Надо бы перекусить. А если позвонить в Хамилтон, двоюродному брату? Реймонд Лэндон, младший сын дяди Джорджа. В детстве они ездили друг к другу в гости на летние каникулы. Реймонд был тощий, черноволосый, прыщавый… Он курил сигареты «Бритиш консол»… А где-то шла война. Родной брат Лэндона, всего на пять лет старше, вонзал штык в набитые песком чучела в учебном лагере Борден. На судоверфях кипела работа. Едва не падавший в обморок Лэндон слышал, как бухают по стали молоты, как ввинчиваются в сухой летний воздух очереди из пневматических клепальных молотков. Этот Реймонд! В нем бурлили какие-то по-лэндоновски мутные силы, он был способен и на сильный гнев. И на дурацкие выходки тоже! Крайне неприятные. Однажды натер Лэндона кукурузным сиропом «Краун брэнд» и, связав, посадил на муравьиную кучу. В один из его индейских периодов. Полуголый, щеки и лоб в боевой раскраске, он танцевал над белотелым Лэндоном танец войны. А потом оставил его на съедение муравьям. Сейчас он женат на итальянке, у них четыре статные девахи. Работает на «Стелко». На доменной печи, что ли. Но Лэндон его не видел бог знает сколько лет. Ладно, хватит торчать в телефонной будке. Надо пройтись. Может, голова прояснится. А потом он снова позвонит Харви.
На город опускались сумерки, и кто-то уже зажег уличные фонари. Эта прекрасная и широкая главная улица — раньше ему всегда нравилось гулять по ней, в те времена тут совершался субботний променад, местные парни прохаживались взад и вперед, высматривая девушек. Сейчас улица была непривычно пустынна — мелькнет машина-другая, и все. Люди в основном сидят дома, ужинают или ждут у телевизора, когда начнется хоккей. На главном перекрестке светофор подмигнул пустой улице. Несколько парней ввалились в «Летающий дракон» — выпить кока-колы и похрустеть картошкой, — улица же так и оставалась в распоряжении Лэндона. Небо над зданием суда было какое-то свежеоцинкованное, деревья тянули к свету темные корявые пальцы. Лэндон — одинокий странник — остановился перед магазином мужской одежды. В витрине, где были выставлены пальто и шляпы, он увидел свое отражение: тучный мужчина средних лет в куртке из жеребка и каких-то немыслимых брюках. Уж в гости к отцу можно было одеться поприличнее. Ну и видок — специально для стариковских глаз! Он поспешил прочь по идущей вниз улице, как человек, который страшится справедливой кары.
В гавани голодные чайки кружили в тусклом небе над пароходиком, принадлежавшим портовым властям. На его палубе гигантскими куполами лежали свежевыкрашенные буи. Скоро их развезут по озерам, выбросят в воду, и будут они указывать путь здоровенным грузовым судам, возящим руду и зерно. Поплыть бы куда-нибудь вместе с этими буями. Или даже побарахтаться с ними в озере, послушать плеск волн, поглядеть на мерцающие в ночи огни кораблей, а на голове у него — для компании — чайка. Как у «Старого морехода»[90] — не очень старого. Солнце уже закатилось, на западе к горизонту длинной пламенеющей раной прижалась багровая полоса облака. Лэндон повернул назад и зашагал к телефонной будке. Над городом взошла полная луна и озарила все вокруг благостным спетом. На потемневшей улице Лэндон и сам был островком света — прижавшись спиной к стеклянной двери телефонной будки, он еще раз набрал номер и почти закричал, услышав голос. Он быстро выполнил указания телефонистки, закормил телефон монетами, послушал, как они глухо звякнули во чреве аппарата.
— Харви? Это ты?
— Да. Хаббард слушает. Это еще кто?
— Старый друг с того света, Харви. Как дела?
— Что? Плохо слышно. Наверное, плохо соединили.
Лэндон заговорил громче.
— Харви, это Фред Лэндон.
— Кто? Фредди? Это ты?
Он был поражен.
— Да, Харви… Ну, как ты?
— Вроде бы ничего. Перебиваемся помаленьку.
— Я тебе уже несколько раз звонил, — сказал Лэндон.
— Да? А я только что пришел. Как раз душ принял. Ну, какие новости, Фредди?
Проклятая застенчивость! Лэндон не выносил одалживаться.
— Харви, мне нужен друг.
— Считай, что он у тебя есть. А что случилось? Ты из автомата? В аварию попал, что ли?
— Нет… не в аварию. Сейчас объясню. Я звоню из Бей-Сити. Знаешь, где это?
— Бей-Сити?.. Да. Городок на Джорджиан-Бей, так? Миль сто к северу отсюда. Ага… У них еще знаменитый парк. Я был там прошлым летом. А чего тебя туда занесло?
— Я здесь раньше жил. А сейчас приехал навестить отца. И моя дочь здесь. Так вот она попала в беду. Она и ее приятель. Полиция застукала их с гашишем.
— Что? Нагишом?
— Да нет же… гашиш… травка… марихуана… наркотики…
— А-а… вот мать честная! И что же? Они упекли твое чадо в кутузку, так?
— Так.
— Эти детишки, чтоб они были здоровы! Никакого житья от них нет. Слава богу, я этой смурнячке Бланш никого не приделал. Мне ее Хауэрда хватило по горло. Этот придурок все время попадал в какие-то истории. То и дело звонил мне среди ночи из полицейского участка где-нибудь на окраине. Однажды подцепил какого-то солдата в барс — такое завертелось! О, господи… Я полиции каждый раз говорил: я ему не отец, а отчим… Понимаете: отчим!
Харви со своими рассказами! Лэндон перевел дыхание.
— Харви, мне нужно полторы тысячи, чтобы вытащить их под залог.
— Полторы тысячи! Хорошенькая круглая цифирка! Фредди…
— Да, да, это куча денег. — Он подождал, посмотрел, как от его дыхания мутнеет стекло. — Я знаю, сейчас наскрести такую сумму не просто, но неохота оставлять их там до понедельника. Вид у этой тюряги довольно поганый.
— Да, понятно… Сейчас, дай сообразить. Им нужны наличные, или чек возьмут?
— Боюсь, наличные.
— Слушай, дома у меня столько нет…
— Да я на это и не рассчитывал… — Он ставит старого друга в неловкое положение. От смущения Лэндон залился краской. Но Харви продолжал говорить.
— Но, пожалуй, я смогу занять их у этого сукина кота — моего управляющего банком. Только тебе придется приехать. У меня вечер занят.
— Ну ясное дело, приеду. Пару часов езды.
— Погоди… погоди минутку… — Лэндон ждал. Харви продумывал какую-то комбинацию. — Есть вариант получше. — Телефонистка сказала Лэндону, что оплаченное время кончается, и он быстро сунул в прорезь несколько монет по двадцать пять и десять центов. Харви говорил прямо сквозь эту металлическую музыку, и Лэндон напряг слух. — Есть знакомый адвокат в Миллвуде. Это же недалеко от Бей-Сити?
— Нет… Примерно миль тридцать, — сказал Лэндон. — К востоку.
— Точно. Так вот, там у меня — знакомый адвокат. Некий Мел Фостер. Пару лет назад я ему подбросил кое-какую работенку. Надо было толкнуть недвижимость. Загородный домишко в их краях. Теперь он мне иногда позванивает…
— И что?
— Интересуется рыночной конъюнктурой. Несколько раз я ему давал хорошую наводку. Так что он у меня в долгу. Я ему позвоню и скажу, в чем дело. Он достанет тебе деньги. Адвокаты! Для них добыть гроши — плевое дело! Может, он сам их привезет и вызволит твое чадо. Заметано?
— Харви, не знаю, как тебя благодарить.
— Перестань. Ты всегда относился ко мне по-человечески, Фредди. Когда у меня были проблемы с этой экстравагантной дамочкой, ты меня слушал. Я так понимаю, эти сестрицы вдоволь попили нашей с тобой кровушки. Хотели сделать из нас мартышек. Да, мы с тобой ошиблись. Но платить за эту ошибку до конца жизни — вот это извините!.. Дай мне пятнадцать минут, чтобы связаться с Фостером, потом звони ему. Номер найдешь в телефонной книге. Если его нет дома, перезвони сюда, еще что-нибудь придумаем. Заметано?
— Дай тебе бог, Харви!
Харви издал какой-то лающий звук, будто фыркнул.
— Ха… При чем тут этот зануда? Что и когда он мне давал? Все, что у меня есть, я добыл сам. Ты разговариваешь с сыном старьевщика. Я о своих корнях не забыл. Знаю, что такое беда.
— Да, Харви, конечно. Все, тогда я с тобой прощаюсь. Через несколько минут буду звонить Фостеру.
Он повесил трубку, двумя пальцами сгреб оставшиеся монеты в теплую и влажную ладонь. Его снова прошиб пот, он взмок под одеждой. Это же просто пытка. Вся душа истомилась! А он-то рассчитывал спокойно провести конец недели. Он чувствовал себя одураченным, обобранным, несчастным. Все же с мертвой точки дело как будто сдвинулось. Если повезет, через пару часов он их вытащит. Надо сказать Джинни.
Душный аромат полицейского участка сбивал с ног. Казалось, воздух здесь еще больше загустел, у сержанта было лицо цвета сырого мяса. Положив локти на барьер, он склонился над развернутой газетой, огромные кулачищи упирались в подглазья. Он взглянул на Лэндона поверх очков.
— А-а, мистер Лэндон. Вы с ними разминулись, — сказал он, запихивая руки себе под мышки. — Они только что ушли, — он взглянул на настенные часы, — минут пять назад.
— Ушли? — Лэндон разинул рот. Он знал, что выглядит полным идиотом.
— Так точно, сэр. Несколько минут назад… Но они ждут вас через дорогу, в Китайском ресторане.
— Кто «они», сержант?
— Как кто, ваша жена… и высокий мужчина… адвокат.
— Они привезли деньги?
— Ну да.
Сержант распрямил спину, положил широкие ладони на бедра.
— И за парня тоже? — спросил Лэндон.
— Так точно.
— Что ж, спасибо, сержант.
— Не за что.
Сержант снова уставился в газету, и Лэндон вышел на свежий воздух.
Значит, Вера все-таки приехала! Джинни оказалась права. Свою мать она знала. Видимо, и отца — тоже. И это знание, преобразованное в действие, означало: на отца в трудную минуту можно не рассчитывать. Когда запахло жареным, помощи от него она особенно не ждала. Конечно, он любименький папка и лапочка, но, когда загоняют в угол, на выручку придет маленькая, с резко очерченным профилем Вера. Но, может, и хорошо, что все вышло именно так? В конце концов, Джинни постигает жизнь, разве нет? Эти уроки выживания — как они ценны! Их значение нельзя сбрасывать со счетов.
Перед рестораном он увидел солидный темный «седан» и сразу узнал грубый массивный багажник с ложной шиной. Прошлым вечером такой стоял на улице возле дома Бланш. Это машина адвоката Крейга. Лэндон остановился под изрыгающим огонь зеленым драконом и мимо отпечатанного меню глянул в ресторан. Все четверо сидели в большой круглой кабинке недалеко от выхода. У Джинни и Чемберлена вид был мрачный, как у сирот, они не поднимали глаз от чашек с кофе. Вера, в своем легком, туго подпоясанном полупальто, была блистательно равнодушна. Над маленьким бледным лицом сиял шлем из темных полос. Чашку с кофе она подносила к губам обеими руками, упершись локтями в стол, глядя перед собой. Она слушала Крейга. Он достал свой плоский черный «дипломат» и раскрыл его прямо на столе, как торговый агент. Судя по всему, он давал Вере маленький урок из области юриспруденции. Это был друг, всегда готовый помочь. И вид у него был убедительно-компетентный — сама сила в товарной упаковке, холеная и благоразумная перед лицом несчастья. Красота, подкрепленная возможностями, — этим нельзя не восхищаться. К примеру, воротничок его телекомментаторской рубашки. Нежной податливой голубизной он стлался вокруг загорелой шеи. Крупное лицо с квадратной челюстью отражало почти безжалостную деловитость, оно говорило: эту крепость вам не взять. К голове тугими поседевшими пружинками льнут пуделиные волосы, скромно посверкивают подрубленные чуть ниже уха височки. Эта высеченная из камня голова принадлежит человеку, который глотает витамины, регулярно делает упражнения и не жалуется на судьбу. Скорее всего, и желудок у него работает отменно… Это была красивая пара, и, глядя на них, Лэндон ощутил себя неряшливым и неухоженным. Бачки ползут во все стороны, волосы выбрались на уши. Да и руки словно немытые. Но что им от него нужно? Не желает он с ними разговаривать. Да пусть сидят тут, пока китаец не закроет свою богадельню, — ему плевать. Тут Лэндон осознал, что чувствует себя ужасно затюканным. Но что он, собственно говоря, на них взъелся? Смешно. Джинни ведь поступила правильно. Из кутузки она выбралась, чего тебе еще надо? Позади раздался голос. Сиплый и пропитой, он исходил из большой машины. Лэндон подошел к ней, наклонился к дверце и учуял знакомый запах увядших фиалок и табачного дыма.
— Фредди, это ведь ты? — сказал голос из тьмы заднего сиденья.
— Да, Бланш. Что ты здесь делаешь?
Бланш включила тусклый свет, и Лэндон теперь мог ее видеть. Они сидела, подтянув под себя ноги, бледная и маленькая на фоне черного кожаного сиденья.
— Просто поехала прокатиться, Фредди. Я знаю, это звучит бессердечно, но ты, пожалуйста, не думай… Я ведь Джинни тоже люблю. А проводить субботние вечера дома — это выше моих сил. Что угодно, только не оставаться одной.
Лэндон ничего не ответил.
— Я тебе так сочувствую, Фредди, честное слово. Представляю, как ты нервничаешь. Я к такому уже привыкла и, наверное, хорошо тебя понимаю. С девочкой все нормально?
— Да. Все нормально. — Лэндон выпрямился, посмотрел на дракона — у того с электрического языка слетало пламя. — Я не был уверен, приедет ли ее мать. — Он говорил через глянцевую крышу машины. — По телефону она ничего Джинни не сказала. — С гавани повеяло прохладой. Ветер хлестнул его по лицу, взъерошил волосы. Он снова наклонился к теплой и пахучей коже. — Я пытался достать деньги.
Бланш сочувственно закудахтала.
— Фредди, Фредди… Неужели ты ничего не понял за все эти годы? Такие дела всегда решает Вера.
— Но она бросила трубку. Откуда я мог знать, привезет она деньги или нет?
— Они играют в свои игры, Фредди, но деньги Вера привозит всегда. И я тоже. Дело вовсе не в них.
— Значит, я попусту тратил время.
Он сказал это низким и глухим голосом, и Бланш, казалось, его не услышала. Она откручивала пробку на небольшой серебряной фляжке. При внутреннем свете изящная маленькая посудинка сверкала и переливалась, как тропическая рыбка. Бланш наполнила крышку-рюмку до краев.
— Вот… Выпей, дружочек. Ты совсем продрог. — Лэндон поднес рюмочку к губам, держа ее в обеих руках, как священник — церковное вино. Откинул голову назад и вылил в себя виски. Виски было первоклассное. — Выпьешь еще, дружочек?
— Нет, Бланш, спасибо. Но выпивка отличная.
Он чувствовал странную пустоту, будто все нутро — сплошная полость, и есть там лишь несколько капель виски, которые тепло переливаются по стенке его желудка, как солоноватая волна прибоя. Голова, совершенно прояснилась. Стукни по ней сейчас деревянным молотком — и череп зазвенит, как монастырский колокол.
— Я, пожалуй, поеду, Бланш. Скажи Джинни, что я ей завтра позвоню. Во второй половине дня.
— Ты только не нервничай, Фредди, — сказала Бланш. — И с ними будь помягче. Ведь очень счастливыми их не назовешь.
— Бланш, на днях я обязательно приеду к тебе в гости. Мы совсем забросили друг друга.
— Фредди, дорогой, надеюсь, ты сейчас говоришь правду. Я терпеть не могу лжи.
Лэндон поднял руку.
— Слово скаута.
И по лужайке возле здания суда, по холодному тротуару он зашагал к стоянке.
В «Голубой луне» Маргарет ждала его, она выбежала к машине. Они обнимались и целовались на переднем сиденье, как два голубка. Лэндон был безмерно счастлив видеть Маргарет, ее строгую красоту. Она коснулась его лица.
— Дорогой мой, ты так намучался. Все хорошо?
— Да, Маргарет, надеюсь, все устроится. — Одолевала усталость, он будто на несколько лет постарел — и все же испытывал какое-то странное возбуждение. Где-то внутри зашевелились старые надежды — так бывало всегда, когда приходилось начинать с начала, подходить к стартовой черте. За окнами конторы мотеля Затычка-Гибсон крутил ручки цветного телевизора. Комнату они, можно сказать, не тронули — может, попросить его вернуть деньги? — Мы заплатили за номер в этой хибаре, Маргарет. Если хочешь, давай останемся.
Но она покачала головой.
— Не надо, дорогой. Прошу тебя. Я хочу домой.
Что ж, неплохая мысль. Сам он этим проклятым городом сыт по горло и скоро еще на него поглядит — во время суда над Джинни. А сейчас — хорошо бы чего-нибудь выпить да проглотить. Немного музыки, а потом, пожалуй, и немного любви. Кто сказал, что все плохо? И день, такой унылый, казалось, повеселел. Он повернул ключ зажигания — не заводится!
— Маргарет, вот я доберусь до этой чертовой тачки и отремонтирую ее. — Он снова повернул ключ, и старый двигатель мгновенно ожил. — А-а, вот видишь… Испугалась, чертова железка…
Маргарет улыбнулась ему — с грустной нежностью.
— Ты хороший человек, Фредерик. Ты себя недооцениваешь.
— Спасибо на добром слове, Маргарет, но поверь: я не подарок.
Перед ними стлалось шоссе, пустое и серебристое в лунном свете. Когда они проезжали кладбище, Лэндон взглянул сквозь железную ограду на ряды надгробных плит между деревьев. Под этой стылой травой спит мертвым сном целый город. Вот и Уолли Бил туда перебрался. Когда-нибудь наступит черед Лэндона. Но пока не наступил…
Двигатель «де-сото» равномерно урчал. Маргарет, упрятав руки в рукава шерстяного пальто, примостилась рядом с Лэндоном. Она скинула туфли и подобрала под себя крепкие ноги в чулках. Что-то барахлила печка — она швыряла Лэндону в пах горсти то горячего, то холодного воздуха. Да, в этой старой машине есть что латать. Как и в его жизни. Столько вопросов, которые требуют ответа. Может, начать с церкви? Интересно, как она относится к разведенным? Тело Маргарет расслабилось — пригревшись возле Лэндона, она заснула. Утром надо вместе с ней сходить в церковь святого Василия. И узнать, что об этом думает отец Даффи.
Андре Ланжевен
André Langevin. POUSSIÈRE SUR LA VILLE Перевод И. Кузнецовой, редактор М. Финогенова«Пыль над городом»
Развязались морские узлы наших рук Мы плывем по течению смерти Рвутся тросы объятий и тихо несет их вода К берегам где подобно пустыне Ждет нас новое брачное ложе. Сен-Дени ГарноЧасть первая
I
Сквозь налипший на ресницы снег меня с холодным любопытством разглядывает какая-то толстуха. Я тоже рассеянно смотрю на нее невидящим взглядом, устремленным куда-то далеко, очень далеко сквозь нее. Я, кажется, ее знаю. Многодетная мать, живет по соседству. Она глядит на меня долго, наверно с минуту. Потом уходит медленной, тяжелой походкой, беззвучно приминая снег. Я стою, прислонясь к стене, и, погасив за спиной сигарету, внезапно понимаю, в чем дело. Женщина, видимо, решила, что я либо не в своем уме, либо попросту пьян. Уже почти полночь, порывистый ветер заметает пустынную улицу колючим снегом. А я, без пальто и без шапки, смотрю с тротуара на собственный дом.
В лачуге таксиста Джима, как всегда по ночам, не переставая звонит телефон. Пронзительное дребезжание чередуется с завываниями ветра. Кажется, будто толстый Джим умер и трезвон прекратится, только когда обнаружат тело.
Я снова принимаюсь шагать взад и вперед, не сводя глаз с освещенного окна Мадлен: завеса снега делает его похожим на экран призрачного кинематографа.
— Не знаю, зачем она сюда ходит. Но люди болтают… кое-кто даже специально является в ресторан, чтобы поглазеть на нее. Меня-то лично это не касается… В общем, я только хотел вас предупредить.
Кури шарил под стойкой, мне были видны лишь его волосы оттенка уличной пыли. Однако по этому дрожащему голосу я легко мог представить себе и выражение его лица: черные, без блеска глаза прячутся под тяжелыми веками, а рот — такой же нерешительный, как и голос, — слегка кривится то ли от застенчивости, то ли от чувства неловкости. Слова его повисли над стойкой, не дойдя до моего сознания. Вид у меня, наверно, был ошарашенный.
Наконец показалась просторная серая блуза, и Кури, подергивая плечами, выпрямился во весь свой огромный рост; не подымая глаз от кассы, он протянул мне сигареты. И тут что-то впервые шевельнулось у меня внутри, какое-то смутное беспокойство. Ни слова не сказав, я вышел из ресторана, пересек улицу и принялся шагать по тротуару возле дома доктора Лафлера, напротив своих окон.
У меня было такое чувство, какое, наверно, бывает у водителя, когда его несет прямо на пешехода, которого он пытается объехать. После встречи с толстухой я словно очнулся и начал искать смысл в том, что сказал мне Кури.
«Я только хотел вас предупредить…» Быть может, он уже дней десять мучительно подбирал слова — слова, рассчитанные на то, чтобы подать мне сигнал тревоги, не сообщив ничего конкретного. Он, видимо; давно намеревался со мной поговорить, но деликатность мешала. «Меня-то лично это не касается…» Прекрасно представляю себе Кури, утешающего таким образом человека, который на его глазах собирается пустить себе пулю в лоб. Его восточная сдержанность сослужила ему, отличную службу. За десять лет он превратил захудалую харчевню в роскошный ресторан. Теперь это самое шикарное заведение в городе: стены в зале выкрашены в розовые и серо-голубые тона, мягкие диванчики еще не прожжены сигаретами. И во всю стену — огромное зеркало.
Сириец наверняка смотрел мне в спину, когда я шел через улицу. Возможно, он и сейчас наблюдает за мной, сам оставаясь невидимым за заиндевевшим стеклом.
Не могу понять, что со мною произошло, почему меня вдруг бросило в жар. Неужели только потому, что Кури внезапно показал мне новую сторону жизни Мадлен, прежде от меня скрытую? Вероятно, да. Он словно приподнял занавеску, и я увидел в окне незнакомую женщину, отчетливо сознавая, однако, что это моя жена. Мадлен не принадлежит мне целиком. Вот в чем дело. Однако я никогда ее не подозревал. Да и в чем, собственно, ее подозревать? Главное — не давать воли игре воображения. Не думать о том, как Мадлен, сидя в ресторане у сирийца, улыбается неведомому собеседнику. Даже если это и правда, существует же тысяча возможных объяснений помимо того, которое нашептывает мое уязвленное естество. Нет! Подобными играми пусть развлекаются другие, а у меня нет ни времени, ни желания.
И все-таки, что же имел в виду сириец? Не знаю. Скорее всего, его волнует вопрос приличий. Маклинцы наверняка косо смотрят на то, что Мадлен каждый день появляется одна в ресторане. Что ж! Придется маклинцам притерпеться. Это касается только нас двоих: Мадлен и меня.
У Джима по-прежнему надрывается телефон — идиотские, бессмысленные звонки, точь-в-точь как мысли, что вхолостую прокручиваются у меня в голове. В окошке Мадлен еще горит свет. А вокруг все погружено в удручающее оцепенение, которое нарушают лишь остервенелые порывы вьюги. Ни одного прохожего. Ни одной машины. Только у Кури еще, по-видимому, засиделись последние посетители. Шахтеры из ночной смены убивают время перед работой.
Кури, конечно, хотел сказать больше, чем сказал, иначе он вообще не завел бы такого разговора. Он-то наверняка знает, что делает Мадлен у него в ресторане, кому улыбается, с кем перекидывается словечком. Известны ему и все городские пересуды по этому поводу. Вот он и решил меня предупредить. Чепуха! Сириец — человек недалекий, всполошился из-за нескольких неверно истолкованных фраз. Мы женаты всего три месяца! Эта простая цифра сверкает как сама чистота. Подобные вещи случаются не раньше чем лет через десять, да и то при склонности к театральным эффектам. За три месяца мы еще не успели познать смысл слова «непоправимо». Равно как и кошмар нескончаемых вечеров, когда люди упрекают друг друга в том, что их жизнь загублена. Подозреваю, что не без примеси мазохизма.
Я все еще не спускаю глаз с окна нашей спальни. За это время в нем не промелькнуло ни одной тени. Неужели я жду каких-то разоблачений от этого квадратика света? Кажется, у меня уже появляется психология жертвы!
— Не спится, доктор?
Толстый Джим. Лицо его слегка лоснится, на краях век, как всегда, белая корка, которую нельзя не заметить даже в такую метель. Он словно принюхивается ко мне, грузный, рыхлый, неповоротливый. Снег заглушил его шаги, и я не слышал, как он подошел. Своими гноящимися глазками он вычерчивает точную траекторию от моего лица до окна Мадлен и обратно. Затем засовывает в нос толстый волосатый палец.
— Вышли воздухом подышать?
Голос Джима похож на большой сгусток мокроты. Я так и вижу его — влажный и липкий.
— У вас телефон звонит! — Это все, что я в состоянии выдавить в ответ.
Он продолжает невозмутимо ковырять в носу, глядя на тротуар.
— Неужели, по-вашему, я стану работать в этакую ночь?
Вялым кивком Джим указывает на сугроб, выросший на асфальте. Наконец он уходит, лениво переставляя ноги, весь какой-то приплюснутый, и, не поворачивая головы, бросает мне с середины улицы:
— Не та погодки нынче, чтобы разгуливать без пальто.
Я вижу, как он входит в свой деревянный домишко, и через несколько секунд телефон умолкает. Наверно, Джим на ночь снял трубку.
Джим по нескольку часов в день проводит у Кури. Он наверняка был там, когда… И как ни в чем не бывало следил за мной, пока я беседовал с Кури. Ему тоже известна та часть жизни Мадлен, которая ускользает от меня. Он не выносит мою жену, и она платит ему тем же. Вероятно, это делает его проницательным. Прочел мои мысли, гнилая туша! У меня такое ощущение, будто я раздел Мадлен перед ним, предал ее.
Я замерз. Я снова перехожу мостовую, достаю из машины пальто и шляпу. Машину оставляю на улице. Случись ночью срочный вызов, мой дряхлый «шевроле» ни за что не заведется. Ну и пусть. Я слишком устал.
Я опускаюсь на стул в маленькой комнате на первом этаже и вслушиваюсь в жизнь дома. В подвале мерно гудит мотор, от жара раскаленных труб потрескивает дерево. Вот и все. Со стороны Кури — его ресторан занимает весь нижний этаж, кроме двух небольших комнат, где у меня кабинет и приемная, — доносится слабый гул, в котором невозможно разобрать ни одного отчетливого звука.
Я здесь посторонний. Пора встряхнуться, отогнать наваждение и понять, что мне здесь не место. Кабинет этот не мой, и женщина, которая спит или читает наверху в спальне, мне не принадлежит. Я просто лунатик, бродил во сне и вдруг очнулся в чужом доме. Мне сейчас почти не нужно делать усилий, чтобы всю свою новую жизнь — свой брак с Мадлен и эту приемную — увидеть со стороны, словно я двадцать лет отсутствовал и теперь не узнаю ни жены, ни собственного дома. За приоткрытой дверью кабинета на столе поблескивает забытый мною стетоскоп. Даже этот простой предмет, характеризующий меня так же однозначно, как молоток — плотника, уже не кажется мне привычным. До чего же все это уродливо: черные дерматиновые стулья, повидавшие на своем веку не меньше десятка докторских приемных, прежде чем осесть у меня, конторка, такая ветхая, что с нее начала слезать краска; медные плевательницы и высокие застекленные шкафы до самого потолка, каких сейчас не встретишь даже в самой допотопной аптеке. Новое у меня только смотровое кресло — блестящее, хромированное, легко поднимающееся и опускающееся, — предмет восхищения Мадлен. Это кресло и инструменты под стеклом она бросилась рассматривать с тем жадным любопытством, какое вызывает у нее все непривычное и новое. Остальное же — дом и мою приемную — она оглядела с полным безразличием, если не сказать — со скукой. Сухой и прогорклый запах квартиры — словно деревянные стены впитали с годами пот всех живших здесь до нас людей — помогает понять глубокий разлад между Мадлен, такой юной и свободной, свободной почти как лесной зверек, и мертвыми чужими воспоминаниями, всей этой угрюмой мебелью, давно пережившей самое себя. Я думаю о молодом враче, который занимал эту квартиру до нас. Не оттого ли он уехал из Маклина, что его жена не смогла вынести враждебной обстановки?
В сущности, разлад неизбежно возникает между Мадлен и вещами, едва они теряют для нее новизну. Надолго ее увлекает только движение, и любая поездка в поезде для нее гораздо интереснее сама по себе, чем цель путешествия. Причем Мадлен никогда не смакует новизну постепенно. Она спешит сразу же снять все сливки, а затем впадает в апатию и предается ей без малейшего сопротивления. В итоге жизнь ее складывается из чередования кратких мгновений воодушевления и долгих периодов пустоты, когда ее безучастность просто убивает меня. И будь даже наша квартира поуютнее, Мадлен все равно томилась бы. Неужели то же самое происходит у нее и с людьми? Нет, не думаю. Их подвижность и переменчивость должны дольше удерживать ее внимание. Невозможно так быстро исчерпать все метаморфозы живого существа. И тем не менее в один прекрасный день круг замыкается, и отношения становятся лишь вечным повторением.
Мы поженились всего три месяца назад, и, как я теперь с изумлением понимаю, я мало знал ее до нашего брака. В первый раз мы встретились в январе этого года, в доме моего дядюшки, где я бываю довольно редко. Она оказалась приятельницей одной из моих кузин, о которой в семье говорят только шепотом. Мадлен с самого начала поразила меня какой-то жадностью чувств и явно природной, а не напускной гордостью. Мне кажется, такая женщина вообще должна покорять сердца сразу. Это не значит, что всех немедленно испепеляет огонь любви с первого взгляда. Нет, Мадлен, скорее, пробуждает в мужчине инстинкт завоевателя. Она вызывает азарт, как дикая лошадь на воле. И не столько очаровывает, сколько рождает желание набросить на нее недоуздок. Ее ощущение собственной свободы буквально действует на нервы. Потом мы с Мадлен еще несколько раз виделись с большими перерывами и мало-помалу стали встречаться чаще. Я заканчивал учебу и жил при больнице, где проходил практику, поэтому у меня было не слишком много времени для свиданий с ней. Постепенно я полюбил ее, но полюбил как подросток, ни о чем не задумываясь и не стараясь понять, что она за человек. Наверно, я любил не столько ее самое, сколько некий ее образ. Она же была то пылкой, то доброжелательно-равнодушной. По правде сказать, мы с ней никогда не ворковали и не нежничали, как традиционные влюбленные. Не то чтобы Мадлен была вовсе чужда сентиментальности и мечтательности, но она инстинктивно избегала избитых слов и жестов. К тому же порой ее гордость принимала форму какого-то настороженного целомудрия. Мы бездумно плыли по течению, которое несло нас к браку как к чему-то закономерному и неизбежному.
Нужно, впрочем, признать, что моя будущая теща — жена трамвайщика, — прельстившись моим докторским дипломом, весьма настойчиво подталкивала дочь к замужеству. Сейчас я люблю Мадлен больше, чем тогда, потому что лучше ее знаю, и открыло мне ее по-настоящему только наслаждение. Чтобы обладать ею, я должен был научиться любить, как взрослый мужчина. Ее диковатая гордость не уступала ни натиску, ни мольбе. Главное, что открылось мне в Мадлен, — это жадная, необузданная любовь к жизни. Я понял, какая жестокая ненасытность, какое безудержное желание все узнать и все испытать тлеет под этой обманчивой вялостью. Я увидел, что в какие-то мгновения волю ее согнуть невозможно. В Мадлен живет некая беспощадная сила — она обнаруживает себя редко, но держит в постоянном напряжении, будто огромная собака, про которую не знаешь, кусается она или нет. В моей жене притаилось существо мне неведомое и для меня недосягаемое. Не знаю, любит ли меня это существо, но знаю, что оно и есть самая суть Мадлен. Я, как слепой, касаюсь ее протянутыми руками, а между нами — непроницаемая тьма. В общем, это не причиняет мне страдания, разве что иногда слегка тревожит, и какая-то гнетущая печаль охватывает меня, когда я даю ей волю. Честно говоря, я просто про это не думаю и ощущаю отчужденность Мадлен лишь мимолетно и не слишком часто. Сегодня вечером я почувствовал ее гораздо острее, благодаря разговору с Кури и какому-то странному раздвоению, позволившему мне увидеть себя со стороны. Тишина в доме делает зримыми образы прошлого, помогает отыскать в них новый смысл. Страсть Мадлен к переменам и жестокость, проступающая порой в ее прихотях, отчетливо предстают передо мной в перспективе времени; прежде я лишь смутно угадывал эти свойства ее натуры, но однажды они прорвались с особой силой — это случилось в день нашего приезда в Маклин. Тогда я усмотрел в ее поступке лишь обыкновенное ребячество, теперь же, когда я многое понял, мне видится иное объяснение.
Не раз я пытался потом воссоздать обстановку того последнего сентябрьского дня, когда случай швырнул нас друг к другу. Я больше не слышал немого призыва, заставившего меня тогда сжать Мадлен в объятиях, соединить свое прерывистое дыхание с ее и ощутить уверенность, что одно не может пресечься без другого. В тот день я узнал, что Мадлен любила меня — по крайней мере любила в ту минуту; живущее в ней потаенное существо трепетало, и она вся принадлежала мне. Но эта минута несла в себе и разочарование, так как потом я не мог в точности сказать, была ли ее пылкость вызвана просто потрясением или же истинной потребностью, подспудным желанием, которое прежде не находило выхода. Сегодня она, наверно, подняла бы меня на смех, если бы я попытался напомнить ей об этом. Мадлен на редкость непоследовательна, ибо живет мгновением, и, конечно же, станет отрицать, что могла отдать мне всю себя с такой полнотой не в минуту телесной близости. Однако ее порыв был столь непосредственным, что я никогда не поверю, будто все это мне лишь почудилось.
* * *
За три часа мы проехали около ста миль — это все, что можно было выжать из «шевроле» пятилетней давности, купленного два дня назад. Едва стрелка уползала за цифру пятьдесят, как мотор начинал перегреваться.
Лучи фар, выхватив из тьмы небольшой участок дороги, упирались и стлавшийся понизу туман и в нем рассеивались. Мадлен уже около четверти часа дремала на моем плече, чуть приоткрыв рот, и губы ее в слабом свечении приборного щитка казались темно-вишневыми. Когда я притормаживал, голова ее соскальзывала с моего плеча, и рыжие волосы, рассыпаясь, отливали необычным гнедым блеском. Еще миль двадцать, и мы будем у себя дома, в квартире, которую она еще не видела, — я выбирал ее один и один обставлял, потому что Мадлен не любит заниматься подобными вещами. Я на неделю приезжал без нее в Маклин, чтобы все устроить. И теперь она, не вполне еще сознавая это, катила навстречу своей судьбе. Она ехала вместе со мной в маленький шахтерский городок, где никого не знала, и это нравилось ей, ибо неизвестность она всегда встречала с готовностью. При отъезде она даже проявила некоторое оживление, вскоре, впрочем, сменившееся равнодушием, которое следует у нее за нетерпением, если оно не удовлетворяется немедленно.
Шоссе, поначалу широкое и прямое, сузилось и превратилось в извилистую горную дорогу, так что мне пришлось сбавить скорость. Мадлен открыла глаза, приподнялась и сонным взглядом посмотрела в окно. Здесь, на высоте, туман рассеялся, и белая пелена оставалась лишь в ложбинах. Внезапно Мадлен прижалась ко мне и со своей обычной детской ноткой в голосе попросила:
— Дай мне разок нажать на газ.
Я колебался.
— Боишься!
Это было сказано с презрением девчонки, которая, как все дети, не ведает осторожности и вдобавок усвоила из кинофильмов, что риск в конечном счете никогда не бывает по-настоящему опасен.
Стрелка сначала скользнула вниз, потом рывками поползла выше. Мадлен жала на педаль изо всех сил. Впереди открывался длинный спуск. Сорок, пятьдесят, шестьдесят. Мотор урчал чуть громче обычного, но работал нормально. Стрелка замерла на месте. Глядя на дорогу жестким, неподвижным взглядом, Мадлен укладывала под колеса километр за километром. Для полного упоения ей недоставало только преследования полиции. Она еще прибавила газу. Не успел я открыть рот, чтобы напомнить ей о ненадежности мотора, как вдруг услышал неузнаваемый, хриплый от возбуждения голос:
— Смотри! Впереди — поезд!
Внизу мигали красные огни. Я нажал на тормоз. Машину занесло и выбросило на встречную полосу. Острая боль в правой руке заставила меня на секунду выпустить руль. Мадлен укусила меня.
— Брось тормоз, брось!
Этот чужой голос, словно в машине, кроме нас, сидел кто-то третий, ошеломил меня. Я повиновался. Стрелка мгновенно подскочила и задрожала над цифрой семьдесят. Красные огни молнией рассекли тьму и пронеслись мимо. Я увидел, как фара паровоза резко высветила устремленный вперед профиль Мадлен. Мне показалось, что мы проскочили в последний миг. На самом деле состав прошел лишь секунд через десять.
Кабина наполнилась тошнотворным запахом жженой резины.
— Хватит! Мотор сожжешь!
Три паровозных свистка, коротких и жалобных, болезненно отдались у меня внутри, и вдруг я успокоился. Рядом со мной лицо Мадлен светилось исступленным восторгом. Она наконец отпустила акселератор и на минуту замерла. Потом, вскочив коленями на сиденье, судорожно обняла меня, слепя волосами. Я притормозил у обочины. Мадлен оторвалась от меня, чтобы полнее пережить это мгновение. Она откинула затылок на руль, продолжая обвивать руками мою шею, глаза ее горели неукротимым блеском. Она прерывисто дышала, и ноздри ее раздувались, придавая лицу выражение жестокости, смешанной со страданием. Казалось, она напрягала все силы, чтобы не потерять сознание. Внезапно меня захлестнула невероятная нежность к этому беспощадному созданию, дрожащему от кровожадности на моей груди. Я поцеловал ее. Губы Мадлен были сухи. Она ответила на мое объятие с необузданностью ребенка, который колотит мать, чтобы выразить свою любовь. Она способна была растерзать меня, чтобы передать то, что чувствует. Вероятно, ей просто нужна была разрядка. Вполне возможно. И все-таки я думаю, что в тот момент она дарила мне единственную доступную ей любовь — безраздельную и не ведающую жалости. Ее гордость, ее чудовищная мелкая гордость растаяла, благодаря ничтожному происшествию.
У меня кружилась голова от тепла ее тела. Я тихонько отстранился. Мы въехали в Маклин около полуночи, молчаливые и изнуренные. Ночь была холодная и туманная, обычная для этого влажного края, который тонет в моросящем дожде начиная с середины августа.
Мадлен, зевая, осмотрела комнаты и приемную. У меня не было сил ее развлекать, скрашивать словами неприглядность нашего нового жилища. Она разделась, побросав одежду где попало, и устало обняла меня с закрытыми глазами. Пожар, который она разожгла во мне, оказался неуместно огромным перед ее остывшим пылом. День кончился разочарованием. Мадлен с поразительной легкостью умеет гасить в себе любые порывы.
* * *
Под моим окном, зябко поеживаясь, понуро проходят шахтеры. У Кури еще открыто. С его половины доносится урчание воды в трубах. Я встаю. Под ногами постанывают половицы. Я успел забыть о разговоре с сирийцем, но сейчас его удручающе тусклые слова вновь всплывают в моем сознании. Я не в силах остановить их кружение, я слишком устал, и меня начинает слегка мутить. Я чувствую себя как гончар, разбивший горшок, над которым трудился целый день. Кури включил у меня в мозгу некий механизм, и все это время он работал впустую.
Я поднимаюсь наверх и прохожу мимо комнаты Терезы, нашей служанки. Дверь закрыта. Значит, Мадлен не отпустила ее на ночь. Это случается раз или два в неделю, когда моя жена собирается провести утро в постели. Тереза живет с родителями в двух шагах от нас и обычно ночует дома.
Свет из нашей спальни широким прямоугольником падает на новый розовый диван в гостиной, заваленный журналами и газетами. Мадлен спит на спине, закинув руки за голову, сквозь нейлоновую рубашку проступают острые кончики грудей. Кожа ее рук, на удивление белоснежная, как у всех рыжеволосых, действует на меня успокаивающе. Мадлен лежит, повернувшись лицом к зажженной лампе, с каким-то журналом на животе. Ее поза, такая доверчивая и умиротворенная, всколыхнула все у меня внутри. Я смотрю на эту спящую женщину, и кровь во мне кипит. Никто, кроме меня, никогда не увидит ее такой незащищенной! Я еще не настолько глуп, чтобы из-за нелепой болтовни сирийца усомниться в своем счастье. «Она моя. На всю жизнь! Слышите, вы?» Я вполне мог бы произнести это и вслух. Впрочем, нет, я был бы смешон.
Я раздеваюсь, машинально поглядывая на себя в зеркало. Не затем, чтобы почувствовать себя увереннее. Просто по привычке, как каждый вечер. Я не урод. У меня нормальный средний рост. Глаза и волосы темные. Парень городской, сразу видно. Рядом с шахтерами я, наверно, кажусь тщедушным. Но на самом-то деле я крепкий. Внезапно я замечаю, что непроизвольно поигрываю мускулами. Я оглядываюсь. Мадлен лежит неподвижно. Ее безмятежность начинает меня бесить.
— Я не хочу, чтобы ты ходила одна к Кури. Он говорил мне…
Произнося эти слова, я вовсе не был уверен, что они в самом деле слетят у меня с языка. Однако они слетели. Мадлен и бровью не повела. А вдруг она притворяется? Очень может быть. И это оскорбительно для меня.
— Я не хочу, чтобы ты ходила одна к Кури.
Я не стал повторять, что Кури говорил со мной. Но всю фразу сказал чуть-чуть громче прежнего; на этот раз Мадлен тихонько заворчала и перевернулась на бок, ко мне спиной. Рубашка, задравшаяся выше колен, туго обтянула ее бедро.
Я сам уже не понимаю, что чувствую. Пожалуй, то, что я смешон, вот и все. Я тушу свет и резким движением натягиваю на жену одеяло. Пытаюсь думать о завтрашних делах. Утром овариотомия в больнице вместе с доктором Лафлером. Потом визиты на дом, неизбежный укол опиума какому-нибудь раковому больному. Быть может, сегодня же ночью — роды.
Мысли мои обрываются, вернее, растекаясь, вливаются в другое русло, опять выводящее прямиком к Мадлен — Мадлен, которая, засыпая, не думает, скорее всего, ни о ком.
* * *
Часов шесть пополудни, на следующий день после приезда. Сумрачное лицо Мадлен на фоне моросящего дождя, затянувшего город пеленой угрюмой скуки.
— В Маклине вечно идет дождь, — не раз еще потом скажет она мне с тоской в голосе.
Маклин расположен в низине. С трех сторон его обступают высокие холмы — их склоны со скудной растительностью используются как пастбища и луга для покоса. С севера город ограничен небольшим озером, тоже зажатым между холмов. Кажется, ни одна туча не может миновать Маклин, не пролившись над ним дождем. Даже в солнечные дни город подолгу тонет в утреннем тумане, и, чтобы узнать, какая нас ждет к полудню погода, приходится смотреть на вершины холмов.
Мадлен целый день занималась тем, что перекладывала и переставляла вещи, ничего не убирая на место. В квартире, которую к нашему приезду вымыла и убрала приходящая прислуга, царил теперь дух казенного уныния, как в лавке старьевщика. Поднятая в кутерьме пыль покрывала распахнутые шкафы, выдвинутые ящики, разбросанную по комнатам одежду, и все это беспощадно подчеркивало убожество обстановки, состоящей из подержанной мебели, кое-каких даров моей матери и матери Мадлен да нескольких случайных, второпях купленных предметов. С развившимися волосами, в разводах пыли на лице, Мадлен чуть не плача созерцала дело своих рук, бессильно упав в кресло. Я целый день не был дома: задержался в больнице. Когда я вошел, Мадлен взглянула на меня, как узник на тюремщика, — с горечью и презрением. Я поцеловал ее. Она вся напряглась, боясь расплакаться, и встряхнула головой, словно прогоняя навязчивое видение.
— Пойдем погуляем!
Ненастная погода ее не пугала, она больше не могла выносить этот разгром, ею же самой учиненный. В ней бушевало нетерпение ребенка, который топчет ногами непослушную игрушку.
Что город уродлив, уродлив чудовищно, было ей прекрасно известно, и все-таки я побаивался того момента, когда она разглядит Маклин как следует. Все дома здесь на удивление невзрачны и напоминают рудничные постройки; краски поблекли от асбестовой пыли, не щадящей ничего, даже чахлых растений. Под дождем она превращается в слой вязкой кашицы, покрывающей все вокруг. Горы этой выброшенной из шахт пыли наступают на город, заставляя его вытягиваться в длину. Несколько поперечных улочек все-таки втиснулись между огромными терриконами, но дома там покосились, словно им не под силу устоять против натиска пыли. Единственная оживленная улица, где сосредоточено три четверти всех городских зданий, роскошествует в целом море неоновых огней, вырывающих ее — и то ненадолго — из бесконечного серого марева. Называется она улица Грин: попетляв по окраине, она поворачивает к центру под прямым углом и тянется, постепенно расширяясь, до монастырской школы, находящейся на противоположном конце города. Дом, где мы живем, расположен в старой части Маклина, недалеко от вокзала, рядом с большим котлованом, стенки которого сплошь покрыты уступами, — это заброшенный карьер открытой разработки. Под домом, глубоко внизу, пролегают штреки, и иногда по ночам мы слышим тарахтение отбойных молотков.
Больница, плохо оснащенная и слишком маленькая для населения в более чем шесть тысяч душ, находится практически за городом, на берегу речушки, где несколько жалких струек воды текут по каменистому дну. Во всех окрестных городишках есть особый квартал, где люди с положением живут в добротных домах, окруженных лужайками и цветниками. Здесь же — ничего похожего. Весь Маклин от одной окраины до другой тонет в монотонном сером уродстве, происходящем не столько от бедности, сколько от того, что город строился без плана, постройки считались временными, но в конце концов пережили положенный им срок. Лишь несколько магазинов на улице Грин нарушают это однообразие претенциозными ультрасовременными фасадами, еще более безвкусными, чем окружающая безликость.
В этот час в шахтах менялись утренняя и вечерняя смены. Улицу Грин запрудили шахтеры, спешившие домой или на работу. Мадлен шагала в толпе так, словно жила здесь всю жизнь: вскинув голову, глядя прямо перед собой и время от времени щурясь от дождя. Шахтеры разглядывали ее, но она шла мимо, не отводя глаз и не улыбаясь. На минуту она задержалась перед рестораном Кури, заглянула внутрь и скорчила гримасу. Мы молча двинулись дальше. Дважды я пытался ее развеселить, но из этого ничего не вышло. Она отвечала мне угрюмо и односложно, продолжая смотреть по сторонам. Дождь забарабанил сильнее, и я почувствовал, как одежда под плащом стала влажной. Длинные волосы Мадлен распластались у нее по спине. С лица стекала вода, но Мадлен лишь изредка моргала, наслаждаясь какой-то неведомой мне свободой, — очевидно, свободой мокнуть под дождем. Мы уже миновали строй магазинов, как вдруг она остановилась и спокойно сказала:
— Я насчитала четыре докторские таблички, кроме твоей.
Быстрый взгляд — и она двинулась тем же шагом в обратном направлении. Я на мгновение замер от растерянности и даже не сразу пошел следом. Что это с ней? Она ведь давно знала, что в Маклине несколько врачей, к тому же между нами вообще редко заходили разговоры о деньгах или о моей карьере. Эти вопросы не в меру занимали ее мать, сама же Мадлен обычно проявляла к ним столь глубокое равнодушие, что мне даже было немного обидно. И вот ни с того ни с сего, одной короткой фразой, оброненной вскользь посреди улицы, она словно ткнула меня носом в стенку, внезапно перед ней открывшуюся: невозможность устроить пашу жизнь в городе, где уже есть четверо врачей.
— Послушай! Это все равно меньше, чем по одному врачу на тысячу жителей… Почему ты об этом заговорила?
— Да нипочему! Просто потому, что сосчитала таблички. Все-таки развлечение.
Маленький упрямый лоб. Нетерпение раздразненного щенка.
— Тебе не нравится Маклин?
— Бывают, конечно, города и получше. Но мне все равно.
— Ты же знала, что я собираюсь обосноваться здесь!
— Мне все равно. Не надо так нервничать.
— Мне все равно! Мне все равно! Господи! Мы же собираемся строить здесь свою жизнь.
— Твою жизнь… И вообще, ты мне надоел.
Я был ошеломлен. Однако решил, что все дело в усталости и плохой погоде. Она просто не сумела сдержать раздражения. Где же Мадлен наших первых дней? Та, что обладала поразительной способностью выдумывать разные занятия, заполнявшие день, горела неуемным желанием все испытать и в моих объятиях внезапно уносилась куда-то — я видел это по ее голубым глазам, неожиданно терявшим блеск, — и возвращалась столь же внезапно, улыбаясь неопределенной и робкой улыбкой. Я всегда знал, что она своевольна и заносчива, но никогда раньше не видел у нее такого враждебного и замкнутого лица, не замечал этого холодного практицизма.
— К тому же я обнаружила здесь два кинотеатра.
Она говорила почти сквозь зубы, каким-то свистящим голосом, который наконец вывел меня из себя.
— Скажи на милость, уж не матушка ли твоя посчитала эти таблички?
Она искоса взглянула на меня и ответила не сразу. Удар обрушился через несколько шагов.
— У моей матери по крайней мере нет долгов. Так что не тебе задирать нос перед моими родственниками!
Она намекала на мой крупный заем в банке. Скромной суммы, которую дала мне моя мать — все, что она сумела сэкономить из жалкой ренты, оставленной моим отцом, умершим, когда мне было пять лет, — не могло, разумеется, хватить для того, чтобы начать врачебную практику.
Я вздрогнул, но не ответил. Непроницаемый панцирь лба скрывал ее от меня. Лица, попадавшиеся нам навстречу, были белыми и блестящими. Шум дождя словно войлоком окутывал улицы. Казалось, никто не чувствовал себя счастливым в тот день. Я сжал локоть своей жены, и меня вдруг обдало теплом. Мне захотелось как-то смягчить ее, прогнать этот сварливый вид, который она на себя напустила. Я поцеловал ее в шею, но она отстранилась, пожав плечами. Я слегка коснулся ее руки.
— Мадлен, мы с тобой идиоты. Для ссор у нас еще впереди вся жизнь!
Она подхватила эти слова, словно собака — кость:
— Великолепная перспектива!
Я готов был ее поколотить. Она шагала с абсолютно каменным лицом. Без малейших признаков негодования или досады. Наконец остановилась перед рестораном Кури и тоном, не допускающим возражений, объявила:
— Мы ужинаем здесь.
Я замялся. Маклинская элита — а я, хоть и без гроша в кармане, но все же к ней принадлежал — не ужинает в ресторанах, тем более в обществе жен. Однако Мадлен не признавала классовых различий. Она была дочерью рабочего и до нашей женитьбы знала лишь перенаселенный квартал большого города, греческие или сирийские ресторанчики и чувствовала себя как рыба в воде среди плотной и серой людской массы. Она так же гордо вскидывала голову в этом своем окружении, как и перед моей матерью или в гостиницах во время свадебного путешествия. Бедная мама! Высокомерие Мадлен ее настолько подавляло, что у нее даже руки дрожали, когда она подавала на стол. Мать ощущала и ней какую-то непонятную силу, какой-то внутренний огонь, заставивший ее отступить и молча склонить голову перед женщиной, которая отнимала у нее единственного сына. Она закрывалась в своей комнате и выходила, только чтобы покормить нас. Моя жена, напротив, вовсе не чувствовала себя скованной в присутствии свекрови: волосы ее горели ярким пятном, подбородок был высоко вскинут; она даже нарочито покачивала бедрами при ходьбе. Мелкий, бессмысленный вызов. Надо сказать, что манеры Мадлен при этом нельзя назвать вульгарными, они вообще не имеют определенной социальной окраски. Ее манеры глубоко свободны и принадлежат только ей, и идут ей, как цвет ее волос и одежда. Мадлен — воплощенное отрицание всякого принуждения, и в ней это органично, хотя в любом другом человеке могло бы показаться раздражающей позой.
Кури решил, что мы зашли купить сигарет, и тут же встал за кассу; на мгновение он растерялся, увидев, что мы направляемся к столикам, но тут же вновь принял торжественно-почтительный вид, готовясь нас обслужить. Он медленно двинулся к нам, скорее скользя, нежели переступая по полу, и с легким поклоном произнес:
— Я вижу, наш юный доктор и его супруга уже расположились.
Я с удовольствием дал бы ему по физиономии. А Мадлен откровенно развеселилась.
— Наш юный доктор! Вот забавно! Значит, его уже знает весь город, вашего доктора?
Глаза Кури погрустнели.
— Мадам…
Он вложил в это слово все осуждение, на какое только был способен. Потом отошел и прислал официантку.
После нелепого приветствия сирийца Мадлен потешалась надо мной весь ужин. Я покорно терпел. Если ей доставляет удовольствие язвительный тон, что ж, пожалуйста. Она нападала на меня с детским задором, и это делало ее уже не столь неприступной.
Все мужчины в ресторане смотрели только на нее. Они сидели с непроницаемыми, суровыми лицами и хладнокровно разглядывали мою жену, а она, жуя, как ни в чем не бывало встречала эти взгляды уверенно и невозмутимо. В мире, где она выросла, мужчинам не свойственна такая спокойная бесцеремонность, — скорее всего, потому, что они не знакомы все между собой, как здесь. Сила маленького городка именно в том, что он мал. По сути дела, я приехал сюда за их деньгами, и это как бы давало им право раздевать мою жену. Я избегал смотреть им в глаза.
В тот вечер я впервые увидел толстого Джима. Он стоял, облокотившись на стойку, возле кассы и грыз зубочистку, глядя на нас из-под полуприкрытых век. Большую часть дня Джим проводит у Кури, слушая сплетни и пересказывая разным бездельникам все, что ему удается пронюхать благодаря своему ремеслу. Лучше, чем кому-либо, ему известны подробности отношений между влюбленными и супругами. Пахнущий потом даже в самый трескучий мороз, с бритым лоснящимся лицом и напомаженными волосами, Джим всасывает в себя все, а затем исторгает обратно в слегка изгаженном виде. Он не удовольствовался созерцанием Мадлен издали. Дважды он пересекал зал с единственной целью — медленно прошествовать мимо нас, откровенно щупая Мадлен взглядом. Все остальные с интересом наблюдали за его маневрами. Когда он проходил в последний раз с особенно наглым видом, Мадлен показала ему язык. Эта ребяческая выходка вызвала за соседними столиками громкий смех. Джим победоносно крякнул и изобразил на лице идиотскую улыбку. У Мадлен был вид шавки, ловко укусившей обидчика. А я не знал, куда девать глаза. Жене доктора Дюбуа не пристало показывать язык в ресторане Кури. Этот поступок сразу низводил ее до уровня тех, кто смеялся, и вызывал их на панибратство. Не сделав ничего, чтобы оградить ее, я отступил перед ними на том единственном фронте, который для них по-настоящему важен: на фронте мужского достоинства.
Я заметил, как Кури что-то возбужденно сказал толстому Джиму, и тот покинул ресторан, глумливо хихикая, не отказав себе в удовольствии бросить на нас последний взгляд. У меня было такое чувство, будто необъятная туша таксиста придавила меня к земле.
— Пошли отсюда.
Я произнес это весьма решительно. Мадлен взглянула на меня с изумлением.
— Неужели ты позволишь им выгнать себя?
— Мы уже достаточно потешили публику.
Она не ответила, но лицо ее сохраняло упрямое выражение. Выгнать себя! С блохами не сражаются. Просто меняют одежду, вот и все. Мадлен долго потягивала содовую, потом вдруг объявила:
— Я иду в кино.
В кино! Она, видимо, сочла, что это будет достойным завершением вечера.
— Но, Мадлен, ведь сегодня наш первый вечер в своем доме!
— А что дома делать? Расставлять по местам вещи?
Неужели между нами уже пролегла пропасть? Почему ее не тянуло в уединение нашей квартирки, где мы могли бы побыть вдвоем? Или она просто заскучала от дождя в этом городе, где нет иных развлечений, кроме кино и ресторана Кури? Я смутно понимал, что где-то образовалась трещина, что за этот день моя жена пусть немного, но отдалилась от меня: она слегка натянула нить, желая испробовать ее прочность, и нить порвалась, хотя всерьез Мадлен этого не хотела. Несколько месяцев, пока мы были женихом и невестой, и недолгие первые дни совместной жизни прошли в каком-то полузабытьи, когда мы обнимали друг друга, закрыв глаза. В сущности, эти объятия, вероятно, так и не создали между нами ничего по-настоящему прочного. Мы по-прежнему совершенно не знали друг друга. Так двое случайных знакомых входят в роль на одну ночь, а наутро просыпаются бледными и отяжелевшими, и им уже ничего не нужно друг от друга. Задумывалась ли она над сутью наших отношений, обнаружила ли, как и я, их зыбкость и нежизнеспособность? Нет. В свои двадцать четыре года Мадлен не задумывалась ни о чем, зато мгновенно чувствовала все, была скора на желания и не склонна серьезно оценивать то, что получала. Возможно, если постоянно находить ей развлечения и до предела заполнять ее жизнь пустой и разнообразной деятельностью, она забыла бы обо всем на свете, о хрупкости нашей любви и о том, что мы обречены всю жизнь бежать в одной упряжке.
Мне тоже захотелось укрыться в кинозале, избежать сидения вдвоем, когда можно нечаянно перестать играть в других людей и выдать себя. Надо было срочно искать какого-то угара, какого-то движения или его видимости, лишь бы сохранить хотя бы эту возможность касаться ее сквозь тьму протянутыми руками. Может быть, и Мадлен бессознательно стремилась к тому же?
— Прекрасно, в кино, так в кино. Ты права. Дома сейчас очень неуютно.
Она испытала явное облегчение, тщательно напудрилась, подкрасила губы и, тряхнув головой, откинула назад волосы. Выходя из ресторана, она взяла меня под руку и прильнула ко мне, демонстрируя всему миру, что она моя. Я тут же простил ей все.
В кино она положила голову мне на плечо. И так просидела неподвижно весь фильм, устремив на экран горящий взор и сжимая мне руку всякий раз, когда герой и героиня целовались. Это выглядело комично.
На улице ее глаза все еще блестели.
— Ты под впечатлением? — спросил я.
Мой вопрос словно внезапно отрезвил ее.
— Да нет, не в этом дело. Просто там все так легко, так непохоже…
Она не договорила, ограничившись этим расплывчатым замечанием. Впрочем, Мадлен находила точные слова только в плохом настроении.
Эта ее потребность раздваиваться, убегать от самой себя с помощью таких примитивных способов, как кино или музыка ресторанных автоматов, меня немного тревожила, хотя я и сам не понимал почему. В сущности, она жила большей частью где-то далеко, а когда возвращалась, то ее раздражали все, кто оказывался рядом. Сколько раз я видел ее застывший взгляд, устремленный сквозь меня в пространство!
— Ну что, теперь домой?
В знак согласия она улыбнулась, как могла улыбнуться девочка, еще не отучившаяся показывать язык и дуться до тех пор, пока не получит того, что хочет; этой девочке навязывали поступки взрослой женщины, и она соглашалась нехотя, ибо это противоречило ее натуре, и любить она не научилась, потому что, вероятно, еще не успела вырасти. О господи! Да зачем вообще нужно быть взрослой женщиной или взрослым мужчиной!
В темноте Маклин выглядит иначе, чем днем, несмотря на смешанный с асбестовой пылью дождь. Гирлянды электрических лампочек создают обманчивое впечатление кружения, превращая терриконы в гигантские карусели. Неоновые буквы, тихонько гудя, мигают по обе стороны улицы Грин, образуя слова, которых никто не читает. Витрины универмагов приобретают в бликах неона неожиданную игру красок. Шахтеры выходят на улицу принаряженные, как и их красотки; они одеты с не меньшим шиком, чем жители больших городов, разве что цвета чуть более кричащие. Все это напоминает обстановку городка на фронтире в эпоху бума, когда судьба еще была благосклонна к искателям богатства и счастья. Я не удивился бы, услышав вдруг перестрелку за холмом или увидев в отеле рулетку. На самом же деле Маклин устал и не сулит подобных сюрпризов. Здесь есть лишь два места, где можно выпить, — это два имеющихся в городе отеля. Десяти полицейских, которые никогда не выходят на дежурство все одновременно, вполне достаточно, чтобы охранять покой граждан, и работа под землей кипит, не прерываясь ни днем ни ночью, прекрасно организованная, прекрасно отлаженная и оплачиваемая тоже прекрасно. Ежечасно вагонетки выгружают очередную порцию пыли на верхушки терриконов, которые с каждым днем поднимаются еще чуть-чуть выше. Тут и там строятся новые жилые дома, ничем не отличающиеся от старых. И все же в вечернем воздухе носится странное предчувствие, что с минуты на минуту произойдет нечто и все изменится. Ничего не происходит, и ничего не меняется. Однако Мадлен, вероятно, тоже что-то уловила, ибо она оживилась и воспрянула духом.
Я боялся, как бы она снова не помрачнела, придя домой. Однако этого не случилось. Она была полна решимости и энергии и вознамерилась даже поставить все вещи на свои места. На это ушло два часа, но результат наших стараний оказался плачевным. Мы оба выбились из сил и покрылись пылью с головы до ног. И все-таки, даже грязная и растрепанная, Мадлен сохраняла свою особую красоту, таящуюся не столько в линиях, сколько в движениях, в грации молодого зверька. Она сидела, подобрав под себя ноги, и уныло созерцала плоды своей деятельности, то и дело меняя позу, чтобы устроиться поудобнее.
Когда хлопнула пробка от шампанского, в глазах ее мелькнуло удивление. Зрачки зажглись, и она, вскочив, поцеловала меня со свойственным ей неистовством. Сейчас мы будем праздновать новоселье, два одиноких, но стойких человека!.. При виде шампанского к ней, казалось, вернулся вкус к игре и обычный задор. Но внезапно она притихла, опустилась на диван, и взгляд ее сделался отрешенным. Вечная неудовлетворенность заставляла Мадлен загораться и угасать в одно мгновение. Сначала она пила медленно, вглядываясь в какой-то неведомый мне образ, затем все быстрей и быстрей, пока, опьянев, не уронила голову мне на колени.
Я погладил ее. Она не противилась — не знаю, от усталости или от равнодушия, а может быть, просто была погружена в себя. Я помнил, что она пока еще стыдится показываться мне обнаженной при свете, но не погасил лампы. Пальцы мои беспрепятственно скользили по ее телу, однако не могли окончательно пробудить ее. Под ее белоснежной кожей пробегал огонь, но не моя рука порождала его. Наконец это ощущение стало для меня невыносимым, и я вынудил Мадлен ответить на мои объятия. Отпуская ее, я увидел в ее глазах холодный блеск, жестокую гордыню. Мадлен, моя жена, в играх любви была только зрительницей.
* * *
Мне не хватает ни силы, ни проницательности, чтобы увязать между собой эти картины недавнего прошлого. В моем сознании они разрозненны, не объединены общим смыслом. Существует, пожалуй, одна тоненькая нить — предупреждение Кури, — но она слишком эфемерна, чтобы нанизать на нее все. Словно ружье заряжено, но нет гашетки. Оно не может выстрелить, и не жертве добывать для него недостающую деталь. Постепенно мысли мои начинают путаться, и я засыпаю, свернувшись клубочком, как в детстве, когда меня мучила смутная и необъяснимая тревога. Но белое лицо матери уже не склонится по первому зову над моей кроватью. Я взрослый мужчина, и рядом спит женщина, принадлежащая мне, — женщина, похожая на игрушку, которая заводится сама, когда хочет. Не хватает самой малости, чтобы стала ясна причина моего беспокойства.
II
Тереза встречает меня на кухне своим обычным «здрасьте!», как всегда четким и бодрым, независимо от того, льет ли за окном дождь или светит солнце. Она уже одета, умыта, причесана. Насколько Мадлен порой раздражает меня по утрам ленивым и заспанным видом, настолько Тереза радует живостью и подвижностью. Лет ей около двадцати, при этом она выше меня чуть ли не на полголовы. Лифчика она не носит, и грудь ее колышется под платьем при каждом резком движении. Она страдает врожденным увечьем: левое бедро у нее намного выше правого, словно скульптор, создававший эту фигуру, умер, не закончив своего творения.
— Мне никто не звонил?
Она выжимает сок из апельсина и не торопится отвечать.
— Сегодня нет. А вчера вечером, часов в десять, звонил доктор Лафлер, — покончив с апельсином, говорит она, звучно отчеканивая каждое слово.
Сколько раз я просил их записывать, кто звонит, в блокнот на моем столе! Чаще всего они вспоминают о том, что их просили что-то передать, лишь через несколько часов, когда человек сам позвонит снова.
Для Мадлен Тереза не просто служанка, она ей скорее подруга. Еще месяц назад наша толстуха, очень, надо сказать, неглупая, вполне прилично зарабатывала шитьем у себя дома. Мадлен однажды заказала ей платье и с первого знакомства прониклась к ней симпатией. Она стала заглядывать к Терезе чуть ли не каждый день. По вечерам они вместе ходили в кино или слушали новые пластинки в городских забегаловках. Эту дружбу, которая, вероятно, шокировала жен моих коллег, я приветствовал. Тереза нравилась мне своим душевным здоровьем, и я считал, что ее неиссякаемая бодрость поможет Мадлен встряхнуться. В один прекрасный день жена объявила, что за небольшое жалованье наняла к нам Терезу для работы по дому, разрешив ей выполнять у нас свои портняжные заказы. Я тоже оказался в выигрыше, так как меня стали сносно кормить. Для Мадлен было целой проблемой приготовить обыкновенный омлет. К тому же теперь у нас есть кому отвечать на звонки, потому что Мадлен, когда лежит в постели, делает вид, будто ничего не слышит.
Тереза уселась по обыкновению напротив меня и молча глядит, как я ем. За ночь навалило много снега, и сейчас он сверкает на солнце миллионами искр, так что больно смотреть.
— Десять градусов мороза!
Она сообщает мне это с той же интонацией, с какой сообщила бы, что зацвели вишни. После моего ухода она непременно выйдет на улицу глотнуть ледяного воздуха и вернется потом к Мадлен со слезящимися от света глазами.
В дверь стучится молочник, и кухня наполняется чистым, свежим запахом мороза. Тереза ставит крынки передо мной. Молоко в них замерзло.
Я люблю тишину этих утренних зимних часов, когда дом похож на закрытый со всех сторон кокон. Шум с улицы едва слышен, и комнатах тепло и уютно.
От моей вчерашней тревоги не осталось и следа. Я не тороплюсь уходить, и Тереза, листая газету, спрашивает меня, что означают некоторые непонятные ей слова. Я молю бога только об одном: чтобы Мадлен вчера ни слова не слышала из того, что я говорил ей насчет Кури. Не хотелось бы увидеть ее за обедом недовольной и замкнутой. Если я окажусь в ее глазах подозрительным и властным ревнивцем, это может гораздо сильнее ранить ее гордость, чем презрительный взгляд Джима. Тереза не понимает, почему я медлю.
— Уже девятый час. Вы опоздаете.
Я качаю головой, чтобы успокоить ее, и продолжаю сидеть. А задерживаюсь я потому, что хочу кое о чем ее расспросить. Я уже дважды открывал рот, чтобы задать вопрос, но все никак не находил слов. Тереза ничего не заметила. Сейчас, отложив газету, она смотрит на меня. Я пью кофе, избегая ее взгляда. И вдруг все происходит само собой.
— Скажите, Тереза…
— Да?
Она усаживается поудобнее, приготовясь меня слушать.
— Мадлен выходит куда-нибудь после обеда?
— Мм… я не замечала.
Взгляд ее делается настороженным. Не стану же я, в самом деле, заставлять ее наушничать!
— Ей не следует целыми днями сидеть дома. Она что-то бледновата в последнее время.
— Бледновата? С чего вы взяли?
— Может быть, ей не хочется гулять одной. Пойдите с ней. Вам тоже полезно будет подышать воздухом.
Недостойная уловка! Терезу мне явно провести не удалось, и она вовсе не спешит в ответ на мою притворную тревогу заверить меня, что Мадлен дышит свежим воздухом достаточно.
Я ухожу в ванную. Не сомневаюсь, что Тереза сидит и раздумывает над моими словами. Только бы она ничего не сказала Мадлен!
Ее реакция на мои осторожные расспросы вновь пробудила во мне беспокойство. Теперь я уже тороплюсь, хочу скорее начать действовать, чтобы ускользнуть от собственных мыслей. Прежде чем уйти, я захожу в спальню Мадлен. Она спит, натянув одеяло до самых глаз. Волосы ее удивительно светятся в полумраке комнаты. Я наклоняюсь и целую ее в лоб, но ни один мускул на ее лице не вздрагивает. Прикрывая дверь, я слышу, как она бормочет что-то мне вслед грудным голосом, который всегда так волнует меня. Я не оборачиваюсь, ибо знаю, что она все равно притворится спящей.
Выйдя на улицу, я на мгновение замираю от яркого блеска и перехватывающего дыхание мороза. Запряженный лошадьми снегоочиститель сгребает снег по ту сторону улицы, описывая длинные кривые вокруг стоящих автомобилей. Из конских ноздрей, покрытых корочкой льда, вырывается белый пар. Толстый торговец Артюр Прево, владелец самого крупного в городе универмага, здоровается со мной, но солнце так слепит глаза, что я с трудом понимаю, кто это. Прево — старый пациент доктора Лафлера. Каждый день он отправляется пешком в свой магазин после утреннего завтрака, который вызывает содрогание у его врача, человека в высшей степени воздержанного.
Я иду к своей машине, бессознательно стараясь укрыться от глаз Кури: мне все время чудится, будто он следит за мной из-за разрисованного морозом стекла. Стартер упрямо прокручивается вхолостую. Нет контакта. Захлопывая дверцу, я слышу неожиданный среди всей этой белизны голос Джима:
— Что, доктор, замерзло намертво?
Он стоит перед дверью ресторана в распахнутом зеленом пальто — руки в карманах, фуражка набекрень — и с веселым любопытством глядит на меня.
— Отвези меня в больницу.
Мой голос выдает раздражение. Джим невозмутимо смотрит на меня и отвечает не сразу, растягивая слова:
— Ладно, доктор. В мороз нельзя оставлять машину на улице, тем более такую старую.
Я поворачиваюсь к нему спиной и направляюсь к гаражу за его лачугой. Моя машина будет готова только к вечеру. Значит, придется ездить по вызовам на машине доктора Лафлера. Все или почти все мои пациенты месяц назад еще лечились у него, теперь они встречают нас одинаково, кто бы ни приехал по вызову.
Джим ведет машину, вальяжно развалясь на сиденье и едва придерживая рукой руль; одна нога его в бездействии покоится под щитком приборов, другая давит на акселератор просто силой собственной тяжести. Он едет молча, пока мы не останавливаемся перед светофором возле церкви. Джим приподнимает фуражку и проводит рукой по сальным волосам.
— Вам надо быть осмотрительнее, доктор. На той неделе рождество. У меня не будет времени отвозить вас каждое утро.
— Ну что ж, Джим, найдутся другие такси.
Я сказал это, почти шипя от злости, и немедленно раскаялся, так как злиться на Джима совершенно бессмысленно. Он проглотит любое оскорбление, не моргнув глазом. Оно плюхнется в него, как в болото, вот и все. Пытаться унизить его — все равно что рубить воду шпагой.
— Они тоже будут заняты, доктор.
Загорается зеленый свет. Джим медленно трогается, поглядывая на меня в зеркало над ветровым стеклом, которое он повернул так, чтобы наблюдать не за дорогой, а за лицами пассажиров.
— Ваша жена, наверно, тоже захочет куда-нибудь отправиться — подальше, чем в ресторан Кури… в магазины, например.
Он делает паузу, отмечая в зеркале успешное попадание. Когда он заговаривает о Мадлен, я невольно цепенею. Сколько я ни ищу способа осадить его, не роняя достоинства, ничего не выходит. А Джим достаточно проницателен, чтобы почувствовать, насколько я перед ним безоружен. Однако он не спешит пока воспользоваться своим преимуществом. Мы выезжаем на дорогу, ведущую к больнице, и он дает газ, с небрежной ловкостью ведя машину по льду, присыпанному коварным снежком.
У больницы Джим подчеркнуто вежлив. Он проворно выскакивает, чтобы открыть мне дверцу, и, не вполне отдавая себе в этом отчет, слегка сгибается в почтительном поклоне. Перед зеваками Джим, подобно им всем, проявляет почти бессознательное уважение к врачу, как к человеку, который однажды склонится над ним вместе со священником для последнего земного прикосновения.
В операционной, уже в халате, меня ждет доктор Лафлер. Редкие волосы, голубые глаза, оттененные белизной халата, — весь облик старого врача — это воплощенное великодушие. Он приветствует меня сдержанной улыбкой, улыбкой смиренного мудреца, который пытался придать мужества стольким умирающим, что уже утратил способность широко улыбаться. За сорок лет практики, утром принимая роды, а вечером делая кому-то предсмертный укол морфия, он слишком часто наблюдал, как замыкается круг, чтобы не научиться смотреть на вещи и людей с печальным спокойствием, порожденным усталостью.
Пока я натягиваю перчатки, мимо меня провозят каталку. Глаза больной беспокойно обшаривают помещение, но доктор Лафлер ободряюще похлопывает ее по плечу.
Дальше все происходит очень быстро. Глаза закрываются, рот чуть приоткрывается, ловя воздух сухими губами, тело вздрагивает и сразу же расслабляется. Надрез. Тампон. Зажим. Вступают в игру руки старого хирурга, и все вокруг перестает существовать, кроме этого стремительного балета, этого захватывающего спектакля театра теней. Мягкий взгляд врача делается холодным и сосредоточенным, погружается в живую плоть, прощупывает ее. Наконец опухоль удалена, и доктор Лафлер, слегка побледневший, отступает на шаг.
— Оставьте дренаж.
Его взгляд сковывает мои движения. Я чувствую себя неуклюжим и ясно вижу, как далеко моим рукам до его чудесной сноровки. Потом пациентку увозят — скоро это безжизненное тело проснется для страданий. Хирургическое вмешательство всегда оставляет у меня ощущение подавленности, если не сказать смятения. Пока идет кропотливая и сложная работа на операционном столе, я отвлекаюсь от собственных переживаний, в этот момент меня гораздо больше занимает, как действует человеческий организм вообще, нежели организм данный, конкретный. Потом, когда больного увозят, он вновь обретает в моих глазах индивидуальность, а вместе с ней и свое прошлое и будущее — будущее порой всего лишь в несколько часов, которое разворачивается с невероятной быстротой на наших глазах, здесь, в операционной. Всякий раз нам приходится присутствовать при этом до конца, пока нить не истончится и не растает, и мы бессильны остановить разматывающийся клубок, углубить дыхание, восполнить потерю крови, этой соленой влаги, внезапно ставшей такой драгоценной, что целое море не заменит одной ее капли. Бесстрастие хирурга — обывательская выдумка. Смерть для него не просто цифра в статистической сводке. Он борется, трезво оценивая шансы, но трезвость не помогает, когда партия проиграна; умом он все понимает, но душа содрогается, и никакое понимание не спасает от этого.
Будучи человеком верующим, без позерства и без красивых слов, доктор Лафлер с подлинным смирением склоняется перед абсурдом смерти, ибо вера дарит ему свет: она нечто озаряет для него, но что именно, ему разглядеть не дано; смирение, однако, не избавляет его от скорби и, быть может, от негодования. Он, конечно, не в силах примириться со смертью ребенка, утешаясь тем, что одним ангелом станет больше. Печать безмятежности редко ложится на чело врача. В большинстве случаев это лишь усталая покорность — плод слишком частых поражений на протяжении долгих лет. Ребенку, больному менингитом, не говорят о небе; его судороги и спазмы подрывают идею абсолютной справедливости и могут породить лишь горестное сомнение даже в самой глубоко верующей душе. Я знаю, что для моего друга это переживание всякий раз мучительно, и если бы я сообщил ему о своем отказе от религии, то он не нашел бы слов, чтобы призвать меня к смирению разговорами о непостижимости божьего промысла. Его собственное великодушие побуждает его бороться против столь беспощадно непоследовательной небесной доброты. Его скорбная вера меня изумляет, но не убеждает. Я думаю, покой приходит к нему от его чисто человеческой жалости и сострадания.
— Вас привез Джим?
Мы моем руки. Я с удивлением поднимаю на него взгляд.
— Я видел, что вы оставили на ночь машину на улице. Это очень неосмотрительно при нашем ремесле.
Глаза его улыбаются из-под мохнатых бровей. Он старается избегать отеческих интонаций. Сестра подает ему пиджак.
— У меня-то это пошло в привычку. Еще со времен лошадей. Даже если ты продрог до костей или падаешь от усталости, лошадь хочешь не хочешь надо отвести в конюшню.
Я представляю себе, как декабрьским днем, таким же холодным, как сегодня, он разъезжал в санях по деревням, гоня лошадь прямо через поля, ибо дороги занесены мягким снегом, в котором легко увязнуть; как ночевал у своих пациентов, чтобы утром, на рассвете, снова тронуться одному в путь по блестящим, как соль, снегам. В ту пору женщины рожали дома, без анестезии и асептики, а переливания крови были большой редкостью. Он рассказывал мне, как однажды извлекал ребенка, заставив мужа роженицы давить ей на живот ногами, невзирая на ее истошные вопли.
Он всем внушает к себе уважение, и, однако, ему случается слышать, как дети, появившиеся на свет с его помощью, кричат, видя, с каким трудом он поднимается по лестнице:
— Погляди, как пыхтит старикан!
Несмотря на преклонный возраст, он внимательно следит за всем новым, что появляется в медицине. Недавно с помощью обыкновенных инъекций гормонов ему удалось превратить в женщину толстую двадцатилетнюю девчонку, чье сексуальное развитие в отрочестве внезапно остановилось. Все это увлекает его, как студента-первокурсника. Его диагноз, который он всю жизнь ставил лишь по клиническим симптомам, редко бывал опровергнут лабораторными исследованиями. Сегодня молодым врачам не приходится так изощряться в искусстве диагностики. Они сразу отсылают больного в лабораторию или к специалистам.
Я отправляюсь с доктором Лафлером по вызовам и возвращаюсь домой позже обычного. Мадлен уже пообедала с Терезой. Я сажусь есть в кухне один: жена подает на стол в прекрасном настроении и не сетует ни на погоду, ни на мое опоздание к обеду. Она столь жизнерадостна, что я перестаю беспокоиться насчет вчерашнего. Пока я ем, выясняется, что в приемной меня ждут двое пациентов. Я обещаю Мадлен подняться к ней через час. В дверях я оборачиваюсь, чтобы взять оставленные на стуле лекарства, и вдруг ловлю на себе жесткий, наэлектризованный взгляд Мадлен. Она тут же улыбается мне холодной улыбкой.
В приемной я с удивлением обнаруживаю Артюра Прево. Этот пузатый торгаш — подвижный и энергичный, несмотря на свои жиры, — источает самодовольство. Ему открывают миллионные кредиты. Состояние его, несомненно, покоится на надежной основе. Я ни на секунду не верю, что он пришел ко мне за консультацией. Прево — давний пациент доктора Лафлера, и тот хотел сохранить его за собой, да и не такой Прево человек, чтобы явиться на прием вместе со всеми. К тому же доктор Лафлер нередко рассказывал мне о его поразительном здоровье, которое выдерживает любые гастрономические излишества.
Протянув мне крепкую руку, Прево садится, не дожидаясь приглашения.
— Ну как, нравится вам наш Маклин? — спрашивает он ровным звучным голосом.
Я не успеваю ответить.
— Город небольшой, но процветающий. Чрезвычайно процветающий. Известно ли вам, что у нас едва ли не самый высокий процент владельцев недвижимости по округе?
Я тут же вспоминаю о деревянных развалюхах, и восхититься мне не удается.
— Вы будете поражены количеством холодильников, которые я продаю за год. В Маклине много денег в обороте. Есть у вас сложности с получением гонораров от клиентов?
Этот вопрос в лоб мне неприятен. Да, мои пациенты платят мне плохо. Но его это не касается. Пусть радуется, что регулярно получает месячные взносы за свой холодильники.
— Нет. На этот счет я спокоен.
Он смотрит мне прямо в глаза, словно надеясь вырвать у меня признание силой гипноза.
— Видите ли, я мог бы вам помочь. Я контролирую массу предприятий в Маклине. Будем откровенны: через банк мне известно, что положение ваше скверное.
Я поднял было руку в знак протеста, но он лишь мотнул головой.
— Слушайте, вы только начинаете. Устройство медицинского кабинета недешево стоит.
Он окидывает презрительным взглядом мое нищенское оборудование.
— Я даю вам в долг под три процента сумму, которую вы должны банку. Вы выигрываете на этом два с половиной процента. Кроме того, я бору под свое поручительство неоплаченные счета наших пациентов.
Он сидит, выдвинувшись на краешек кресла, и ждет моего ответа, весь сочась щедростью. Предложение заманчивое, но меня смущает, что оно исходит от этого человека. В городе он не пользуется репутацией добряка.
— Почему вы мне это предлагаете?
— Потому что я старый друг доктора Лафлера. Он очень ценит вас. И мне хотелось бы, чтобы вы преуспели. Доктор Лафлер стареет. Маклину нужен молодой врач.
Я пообещал ему подумать и дать ответ завтра. Вдруг, без всякого перехода, он говорит:
— Посмотрите мои глаза. Я с трудом обхожусь без лупы, когда читаю газету.
В двух шагах отсюда живет окулист. Я не понимаю, почему Прево обращается ко мне. И все-таки не решаюсь отправить его к специалисту без осмотра. Он воспримет это как признание в собственной беспомощности. Я осматриваю его глаза, пользуясь маленькой лупой, которая обычно служит мне для обследования ушей. Мне удается разглядеть помутнение роговицы. Катаракта, это ясно. Но диагноз ставить я не собираюсь.
— Похоже, воспалительный процесс в глубине глаза. Перед сном промывайте левый глаз борной. Если не будет улучшения, обратитесь к окулисту.
Мое незамысловатое предписание удовлетворяет его лишь наполовину. Уходит он, громко смеясь, заявив, что берет под поручительство этот первый неоплаченный счет.
За ним появляется толстая смуглая брюнетка с растительностью на лице. В ее волосах кое-где пробиваются седые нити; опущенные плечи придают фигуре яйцеобразную форму. Она останавливается в дверном проеме и смотрит на меня, не говоря ни слова. Я приглашаю ее сесть: посетительница, тяжело ступая, подходит к креслу, садится и застывает в неестественной, настороженной позе. Неужели я произвожу впечатление изверга?
— Что вас беспокоит, мадам?
— Мм-м. Не знаю.
У местных женщин всегда такой вид, будто они хотят сказать, что именно затем ко мне и пришли, чтобы узнать, что их беспокоит. Возьмись я сейчас, ни о чем не расспрашивая, осматривать ее с головы до ног, она примет это как должное, считая, что я сам, без ее помощи, обнаружу недуг. Если пойти по этому пути, то можно провести в кабинете весь день. Лучше попробовать поговорить о возрасте, о семье. Ей шестьдесят пять лет. Вдова, мать семерых детей — троим нет еще двадцати, — всю неделю гнет спину на поденной работе в гостинице и еще в нескольких домах. Она не признаётся мне, что зарабатывает прилично, но соглашается, что после войны платить стали лучше. Старости она не чувствует, да и сила в руках пока есть.
— А вот дыхание… чуть что — одышка. Если б надо было только тереть да скоблить, я бы, конечно, к вам и не пришла. Но когда я вечером поднимаюсь к себе по лестнице, я задыхаюсь так, что голова кружится.
Внезапно я понимаю, что мучительная гримаса на ее лице вызвана вовсе не смущением передо мной, а страхом, вечным страхом сердечников, пытающихся сдержать бег своего сердца напряжением всего тела. Ведь каждый вздох отзывается внутри болью. Так смотрят запуганные дети, которых часто бьют. Тут не придется полчаса выяснять, что именно она чувствует, как в случае болей в желудке, простирающемся, по их представлению, от шеи до ягодиц. Я прошу ее расстегнуть платье. Стетоскоп не нужен. Я вижу, как дряблая кожа вздувается и проваливается в перемежающемся ритме, словно сердце вырвалось из своей сумки и мечется в слишком просторной для него полости. Стенокардия… грудная жаба… За каждым ударом сердца можно проследить по лицу больной.
На лестнице раздается смех Мадлен. Повинуясь непроизвольному порыву, я покидаю свою полураздетую пациентку, оставив ее в полном недоумении. В приемной два человека. Я прохожу мимо них, не здороваясь, и оказываюсь прямо перед Мадлен, растерянный, с болтающимся поверх халата стетоскопом, и вид у меня наверняка дурацкий. Я замечаю, как зрачки ее слегка расширяются, а губы вытягиваются в ниточку.
— Что это с тобой?
В ее голосе нет ни одной теплой нотки.
— Куда ты идешь?
Она встряхивает волосами и устремляет на меня гневный взгляд.
— Куда я иду? В церковь, вот куда!
От злости ее голубые глаза делаются зеленоватыми. Она почувствовала в моем голосе подозрительность и тут же взбунтовалась. Мадлен продолжает спускаться, но я преграждаю ей путь. Она ждет, чтобы я уступил ей дорогу. Я не двигаюсь.
— Куда ты идешь?
— Пропусти меня.
— Только после того, как ты ответишь.
Я понимаю, насколько я смешон, но дело зашло уже слишком далеко, чтобы я мог отступить. Мадлен дрожит от ярости. Дверь в мою приемную приоткрыта. Наверно, там все видно и слышно, хотя говорим мы тихо и быстро. Вдруг Мадлен с поразительной непринужденностью принимает свой обычный вид.
— Я иду в парикмахерскую, — сообщает она миролюбиво. — Возвращайся к своим больным.
Я пропускаю Мадлен, сердясь на нее, но еще больше — на себя. На улице полосы ее вспыхивают, отражая сверкание снега и солнца. Они колышутся легкими волнами на ее зеленом пальто. Секунду Мадлен в раздумье стоит на пороге, потом направляется в сторону магазинов. Обернувшись, я вижу на верхней площадке бесшумно удаляющиеся ноги Терезы. Она, конечно, все видела и все слышала.
Я оставил открытой дверь кабинета, и спина моей пациентки серым пятном маячит в глубине комнаты, на виду у всей приемной. Больная так и не пошевелилась за это время. Чтобы закрыть дверь, ей пришлось бы показать грудь. Она сидела ссутулившись и покорно терпела оскорбительное для ее женского достоинства положение. Это непростительное упущение сразу же заставляет меня забыть сцену с Мадлен. Сердечница поднимает ко мне давно утратившее привлекательность лицо, и я читаю в ее глазах протест, но она слишком принижена, чтобы высказать свое негодование.
Я объявляю ей, что она должна прекратить работу и отдыхать столько времени, сколько потребуется. Страх в ее глазах сменяется паникой.
— Доктор, я не могу все бросить… Ну, самое большее на неделю.
— Вам необходим покой, и неделей тут не обойтись. У вас очень серьезное заболевание.
Всего несколько капель осталось в роднике для этой жаждущей, и мне нечего ответить на мольбу ее глаз. Она должна отказаться от заработков. Но и эта жертва бесполезна. Смерть может унести ее в любую минуту.
— Это настолько серьезно…
Рот ее так и остается открытым, хотя больше она не произносит ни звука. Я не могу сказать ей про сердце, это только усилит ее страх.
— Вы устали, организм истощен. У вас плохое кровообращение.
— А лекарства от этого есть?
Теперь она, конечно, думает о деньгах. Лекарства от такой серьезной болезни должны стоить дорого.
— Нет, достаточно покоя. Избегайте напряжения. Вам нельзя делать никакой работы, даже по дому.
Она мысленно оценивает мои слова. Никаких лекарств — это любопытно. Выйдя от меня, она, вероятно, решит, что я ничего не смыслю в ее болезни, и, конечно же, вернется на работу. Кто-то сегодня должен был заменить ее на вторую половину дня. Если она придет и скажет, что заболела и отказывается от места, то с работой для нее все будет кончено навсегда, и это ей отлично известно. Ее, наверно, и так в шестьдесят пять лет нанимают не очень охотно.
Она выходит от меня пятясь, неловкая и жалкая. Я думаю о ее детях: они первые будут против того, чтобы она бросила работу. Но для сердечников нет больниц. Я не могу вырвать эту женщину из ее среды, из кабалы повседневности, и она будет по-прежнему тянуть лямку, склонив голову и слегка задыхаясь, но еще в состоянии пока улыбнуться коробке конфет, подаренной к рождеству.
После нее я осматриваю двоих пациентов, ждавших в приемной, потом за мной заезжает доктор Лафлер, чтобы ехать по вечерним вызовам. Я рассказываю ему о своей больной. Он ее не знает. Что же касается предложения Артюра Прево, то он советует мне согласиться. В каком-то смысле это означает — отдать себя в его власть, но, по убеждению старого доктора, число моих пациентов должно значительно возрасти в ближайшие же месяцы. Он то и дело приподнимает шляпу, приветствуя людей, которых в большинстве случаев не узнаёт. Между двумя приветствиями он скороговоркой, — чтобы мне не показалось, будто он хочет сразить меня своей добротой, — говорит:
— Если у вас возникнут трудности с выплатами, я смогу вам помочь.
Слегка смущенный, он приглаживает большим пальцем усы, и потом, без всякого переходи, начинает рассказывать мне о финансовой мощи Артюра Прево.
Доктор Лафлер из тех людей, которые, подавая милостыню, отводят глаза. Он чувствует себя по-настоящему непринужденно и легко только с детьми.
III
Сняв заскорузлые, испачканные смазкой перчатки, механик возле гаража отсчитывает мне сдачу. Пять часов вечера. Опять идет мелкий снег, стремительно кружа в воздухе. Автомобили по улице Грин движутся медленно, словно примерзая на ходу к мостовой. Красные огни светофора перед въездом на шахту Бенсона горят сквозь снегопад кровавым пятном. Пять часов. В окнах скоро зажжется свет. Какая-то машина подруливает к бензоколонке, и тормоза скрипят, как мел по доске. Механик наконец отдает мне деньги, я благодарю его. Он держит перчатки под мышкой и, упершись в бока окоченевшими пальцами, молча смотрит, как я отъезжаю.
Маклин вырисовывается в ватных сумерках, словно город-призрак в лунном свете. Терриконы кажутся устремленными к небу пирамидами из белого гранита, а зажатые между ними маленькие деревянные домишки похожи на глыбы мрамора, беспорядочно разбросанные там и тут. Вагонетки по-прежнему выгружают асбестовую пыль на верхушки терриконов, но ее мгновенно накрывает снег. Белый дым паровоза удлиняет конус гигантского гриба, едва различимого сквозь пелену снега.
Я поворачиваю за гараж и еду вверх по переулку, выходящему на улицу Грин со стороны ресторана Кури. Машину я останавливаю за углом. Я, конечно, веду себя не самым достойным образом, но мне все равно. Да и вряд ли я что-нибудь особенное узнаю. Наверняка ничего. Правда так легко не попадается в детские ловушки. И вообще, при чем тут ловушки! Я только войду на минутку, посмотрю… Что может быть более естественного и безобидного? Да и не кроется тут никакой особой правды, я уверен. Просто мне понадобилось купить сигарет, я взглянул на часы и подумал, что может быть… Если уж мне кажутся подозрительными столь невинные вещи, то скоро меня ждет настоящий ад.
Я захлопываю дверцу и застываю на месте в нескольких шагах от улицы Грин, не отваживаясь двинуться дальше. Две женщины идут мне навстречу, и это заставляет меня решиться. Я вхожу в ресторан деловитой походкой, устремив взор прямо на сирийца. Мне стоит бешеных усилий не смотреть по сторонам, и это наверняка заметно. Но, даже не глядя, я чувствую, что Джим здесь, стоит, облокотившись на стойку, возле окна. Кури медленно проходит следом за мной к кассе, и взгляд у него тоже слегка напряженный. Краем глаза я вижу, что Джим двинулся к нам. Он усаживается на табурет перед стойкой, поближе к кассе. У меня такое впечатление, будто весь ресторан разом смолк, и даже лампы дневного света перестали жужжать. Сейчас я наступлю на хлопушку, или на меня выльется специально прилаженная где-то кастрюля с водой. Мне необходимо как-то разрядить эту атмосферу, которую, скорее всего, только я один и чувствую.
— Ну как, Кури, дела идут?
Я сам слышу свою фальшивую интонацию. Вот-вот кто-нибудь подойдет, положит руку мне на плечо, скажет: «Не нервничай».
— Идут, спасибо.
Кури растягивает слова. Голос его звучит ненамного естественнее, чем мой.
Я кладу на стойку деньги за сигареты. Мы оба молчим.
— Быстрее, Кури. Я тороплюсь.
Он наклоняется под стойку. Я отворачиваюсь и смотрю на улицу. Брюхо Джима выпирает из распахнутого пальто, он сидит, расставив ноги, и молча взирает на меня своими тусклыми глазками, потягивая кока-колу. Время от времени он переводит взгляд в глубину зала, и едва уловимая улыбка скользит по его лицу.
Наконец Кури протягивает мне сигареты и незаметно, одним движением ресниц приглашает взглянуть в зал. Я так отчетливо представлял себе нечто в этом роде, что теперь не уверен, действительно ли он подал мне знак. Быть может, это я сам скосил глаза, а Кури просто посмотрел в ту же сторону? Но нет, он снова указывает мне на что-то глазами, на сей раз чуть более настойчиво. Я оборачиваюсь. Она там, одна, за дальним столиком. Заметила ли она меня? Не знаю. Она сидит без пальто, склонив голову набок и устремив взор в пустоту, будто прислушивается к чему-то. Только тут я вдруг слышу, что автомат играет ее любимую песню. На столике наполовину опорожненный стакан содовой, к которой она больше не притрагивается. Три тени одновременно приходят в движение. Кури распрямляется, словно освободившись от тяжкого бремени. Джим движением ноги поворачивает свой табурет к стойке. А я неторопливо направляюсь к Мадлен, неподвижно сидящей в той же позе. Кажется, будто музыка, как яичный белок, стекает по ее лицу, превращая его в застывшую маску. Да не в трансе же она, в конце концов! И, я надеюсь, не закричит от ужаса, если ее разбудить.
Я останавливаюсь перед Мадлен. Она смотрит мне в грудь и медленно поднимает глаза к моему лицу. Музыка кончилась.
— Дай мне мелочи.
Голос ее звучит очень спокойно, естественно. На ней платье с низким вырезом, глубоко открывающим грудь.
— Я зашел купить сигарет и…
— Дай мне мелочи.
— Не беспокойся, я расплачусь, когда будем уходить… Вдруг увидел тебя.
— Дай мне мелочи. Я хочу поставить пластинку еще раз.
Она снова усаживается в прежнюю позу, приготовившись слушать, и недовольно хмурится, когда я пытаюсь заговорить с ней. Я тоже прислушиваюсь. Это чудовищная пошлость. Примитивная мелодия, почти речитатив, и вдобавок голос у певца гнусавый. Какие-то слова о любви и о страдании, о черством хлебе и полных неги ночах.
Я никогда не находил вульгарным пристрастие Мадлен к чувствительным песенкам. Мне лишь непонятно, что может ее притягивать в них настолько сильно, как непонятен и ее самозабвенный восторг в кино. Но в ее упоении так много подлинной искренности, что, видимо, это отвечает каким-то глубинным потребностям ее души. Сентиментальность тут ни при чем. Мадлен наслаждается не столько самой песней или фильмом, сколько состоянием внутреннего освобождения, в которое они ее приводят, что отчасти напоминает действие алкоголя. Все это принадлежит той части ее существа, куда мне доступа нет. Ее увлечение не вульгарно, но, чтобы дать ему волю, нужна иная среда, не моя. Мадлен живет гораздо более полной жизнью в ресторане Кури или на улице, среди шахтеров, чем дома. Из своего рабочего окружения она вынесла удивительную для меня склонность к опрометчивым поступкам, способность в любую минуту сыграть ва-банк — словно ей нечего, или почти нечего, терять. И тут я не могу быть ей товарищем, не насилуя свою природу. Я воспитан в семье, принадлежащей к так называемому среднему сословию, и не люблю ни с того ни с сего срываться с места и мчаться неизвестно куда, неведомо зачем, без гроша в кармане. Я не считаю, что нужно рисковать непременно всем сразу. У меня есть чувство меры — качество, увы, не являющееся достоинством в глазах Мадлен, ибо она усматривает в нем нечто вроде скаредности. Зверь на свободе ничего не копит и ничем не дорожит, кроме пропитания, да и то лишь в тот момент, когда голоден. Мадлен устроена точно так же. По духу своему она принадлежит к пролетариям, хотя само это слово вызвало бы у нее пренебрежительную усмешку. Ей непременно нужно исполнить свое желание сию минуту, а не в каком-то там гипотетическом будущем. За это я, в сущности, ее и полюбил — быть может, неосторожно. Для меня она была овеяна ароматом экзотики. В ее доме я чувствовал себя как в чужой стране, и ни я, ни она не отказались впоследствии от своих привычек и взглядов. В нас действуют силы, направленные в противоположные стороны, и столкновения неизбежны, но, к счастью, молодость помогает быстро восстанавливать равновесие.
Мы непохожи с ней в чем-то главном, жизненно важном, и это открылось мне по-настоящему лишь через несколько недель после переезда в Маклин. Прежде я лишь смутно ощущал, что она человек иной породы, но не мог выразить этого словами. Ее внутренняя свобода восхищала меня, скорее, как свойство физическое, нежели духовное, и откровенный, почти детский эгоизм казался неизбежным условием этой свободы. Что же касается не слишком утонченных вкусов, то я объяснял их социальными причинами, и это меня не тревожило. Сейчас я знаю, что Мадлен была бы точно такой же в любой среде.
Ресторан понемногу заполняется шахтерами, по обыкновению заглядывающими сюда перед работой. Их землистые лица не покрываются румянцем даже на морозе, и белки глаз всегда красноватые, будто со сна. Резкие нервные движения выдают накопившуюся усталость. Они окликают друг друга и переговариваются через весь ресторан. Здесь они у себя дома, и присутствие Мадлен их нисколько не смущает. За три месяца они привыкли к ней, быть может, даже признали за свою. Не сиди я сейчас рядом, они наверняка заговорили бы с ней. Некоторые из них с ней здороваются.
— Ты их знаешь?
Пластинка кончается. Мадлен протягивает мне сигарету. Она запрокидывает голову и пытается пускать колечки. Выглядит это смешно.
— Ты же пришел следить за мной! Ну так посиди, покури, посмотри сам, что вокруг делается.
Она улыбается с глубокой уверенностью в себе. О, нет, мне на нее узду не накинуть! Я могу владеть ею только с ее согласия. Ее взгляд спокойно бросает мне вызов. Если я протяну руку, чтобы схватить ее, она мгновенно отскочит. Юридические обязательства ее не удержат. Я имею на нее лишь те права, которые она сама признаёт. Взаимное соглашение на всю жизнь? Мадлен не заключает соглашений, не отдается по контракту. Именно это, вероятно, и делает ее для меня столь желанной. Она не зеркало, в котором я мог бы созерцать свое отражение, и не эхо моего голоса, она — добыча. Она первая стала бы насмехаться над словом «союз» и над всеми прочими словами, вызывающими в воображении образ двух влюбленных, ставших единым целым. Она никогда не будет прихрамывать оттого, что у меня болит нога. Ею руководит неизменный здравый смысл, беспощадный к самообольщению и розовым фантазиям.
— Ты их знаешь?
Я повторяю вопрос, ибо для меня непереносима мысль, что Мадлен каждый день сидит здесь часами и болтает невесть с кем. Улыбка ее делается еще более презрительной, почти коварной.
— Кое-кого да. И весь город, разумеется, знает жену доктора Дюбуа. Со мной даже незнакомые здороваются.
— С теми, кого ты знаешь, ты познакомилась здесь?
— Не у них же в гостях…
Я, видимо, очень ее забавляю. Она с любопытством ждет, как я выйду из положения. Словно я явился к ее любовнику и подыскиваю слова, которые дали бы понять, что мне все известно и одурачить меня не удастся.
— Мне не нравится, что ты ходишь сюда каждый день.
— Ты это уже говорил!
Мадлен парировала мгновенно, сразу же заняв боевую позицию. Итак, она слышала вчера вечером мою фразу насчет Кури и даже не подала виду. Она наверняка все обдумала сегодня утром, лежа в постели, и заранее подготовилась к новой атаке с моей стороны. К тому же Тереза, вероятно, рассказала ей о моих расспросах. В результате Мадлен, попреки обыкновению, отправилась к Кури сразу после обеда, не дождавшись, пока я кончу прием! Бедный Кури, какой убийственный взгляд ему, вероятно, пришлось выдержать, когда она вошла! Она мужественно проскучала здесь три часа, предвкушая мое унижение, ибо знала, что я непременно приду и тут-то она сможет вволю помучить меня.
— Развлекайся на здоровье как тебе нравится, мне все равно, но мы живем в маленьком городе, где твое поведение может серьезно мне повредить. Довольно пустяка, чтобы скандализировать этих…
— Только не припутывай сюда скандал. Что бы я ни делала, я все равно не помешаю людям болеть. Так что не волнуйся, твоей карьере ничто не угрожает.
Она реагирует не так, как мне бы хотелось. Я предпочел бы холодную ярость этому высокомерному спокойствию. Мадлен явно выбрала линию поведения давно, и сейчас ей не приходится придумывать ответы на ходу, под влиянием минутной досады или негодования. Я чувствую, что говорю совсем не то, но внятно выразить свою мысль не могу. Мои тяжеловесные слова придают безобидному факту фантастические масштабы. В сущности, я хочу лишь одного: чтобы она перестала давать пищу городским сплетням. Я не ревнив и не подозрителен. И не настолько глуп, чтобы создавать себе красивое новенькое несчастье только оттого, что из Мадлен не получилась жена-домоседка. Но своей вызывающей манерой держаться она навязывает мне роль жертвы.
— Об этом уже судачат. Мне Кури говорил.
— Ты хорошо выбираешь осведомителей! Мы всего три месяца женаты, а ты уже выслеживаешь меня! Это… это омерзительно. Если ты пришел сюда только затем, чтобы шпионить за мной, то лучше уходи. Я в эти игры не играю. И впредь буду продолжать вести себя так, как мне заблагорассудится.
Глаза Мадлен не мечут молний. И гнев ее холодный, искусственный. Из нас двоих в унизительном положении оказался только я, и теперь не знаю, как положить конец этой нелепой сцене.
Я чувствую, что на нас смотрят. Кури зажег по всему залу лампы дневного света, и лица посетителей сделались мертвенно-бледными. Кто-то поставил пластинку. Мадлен подпевает, равнодушно глядя на меня. Я устал, увяз в этой трясине.
— Хватит ссориться. Пошли, пора ужинать.
Я стараюсь говорить непринужденно, и она отвечает мне в тон:
— Нет. Я ужинаю здесь.
Это уже чересчур. Тут не просто каприз, тут умысел.
— Ты, случайно, не спятила?
— Нет.
В ее лице ничего не меняется. То же равнодушие, напускное, продуманное.
— Ты ведешь себя как маленькая. Пошли ужинать.
— Нет.
Это короткое, резанувшее меня «нет» прозвучало глухо, словно удар мяча. Слишком взбешенный, чтобы продолжать препирательства, я поворачиваюсь и, ни на кого не глядя; прохожу мимо шахтеров. Джим, глуповато улыбаясь, распахивает передо мной двери. Десятка два семейств узнают завтра, что я устроил скандал у Кури и вне себя от ярости оставил там свою жену в одиночестве. Впрочем, от ярости моей вскоре не остается и следа. Едва я оказываюсь под снегопадом на улице, как она уступает место тяжелому, почти физическому страданию. Недуг, зародившийся незаметно в ту минуту, когда Кури вчера заговорил со мной, быстро прошел свой инкубационный период. Болезнь внедрилась, как я от нее ни открещивался, как ни пытался закрыть на нее глаза. Больше я ей не сопротивляюсь.
Лобовое стекло залеплено снегом. Мотор несколько раз чихает, но заводится. Пережидая поток машин, чтобы выехать на улицу Грин, я внезапно меняю решение и подруливаю к углу, откуда мне хорошо виден вход в ресторан. И хотя надеяться мне не на что, я сижу и наблюдаю, ибо вынести неизвестность выше моих сил. Прохожие идут мимо, борясь с метелью, и никто на меня не смотрит. В дверях появляется Джим. Он ковыряет в зубах и не спеша озирается по сторонам. Я пригибаюсь на сиденье, как будто Джим не знает мою машину. Он всматривается в небо и глубоко вдыхает воздух. Потом, волоча ноги, направляется к своей хибаре, в упор разглядывая встречных женщин.
Я остаюсь на своем посту еще минут десять. Мне незнакомы ни те, кто входит в ресторан, ни те, кто выходит. Множество картин теснится в моем воображении, порождая одна другую. Я обсасываю каждую деталь с мрачным упоением. Вот Мадлен улыбается кому-то, приглашая подсесть к ее столику. Черты ее теплеют. У нее прекрасное пылкое лицо, как и те вечера, когда мы были с ней счастливы, в глазах — восхищенный восторг, сродни тому, что я видел при выходе из кино, а за ним, я знаю, неизбежно последует блаженная расслабленность. Скоро она выйдет вместе с ним, с детской непринужденностью опираясь на его руку. И я буду раздавлен, уничтожен. Ни одна частица ее существа уже не будет называться мадам Дюбуа. Она переменит индивидуальность, как одежду. Звук ее имени в устах другого. Ответ ее глаз. Я услышу ее возбужденный смех, и у меня все оборвется внутри. Волосы ее, свободно развеваясь, сверкнут передо мной, словно грива зверя, выпрыгнувшего из клетки. Я терзаю себя с поразительной изощренностью. Передо мной словно прокручивается фильм, и я вижу его даже с закрытыми глазами. Я похож на больного, беспрестанно бередящего собственную рану.
Дверь ресторана распахивается и какое-то время остается открытой, хотя никто не выходит. Вероятно, тот, кто собрался уходить, еще прощается. Потом я вижу зеленое пальто Мадлен. Она, не раздумывая, направляется прямо в мою сторону. Я медленно сползаю вниз, не слишком полагаясь на снег, запорошивший переднее стекло. Прежде чем перейти улицу, Мадлен останавливается, оглядываясь, нет ли машин; на мою она даже не обращает внимания — она увидела ее сразу же, но не узнала. И тут я делаю открытие, которое меня ошеломляет и приводит в смятение. У Мадлен несчастное лицо, весь ее облик выражает страдание. Она стоит потерянная, одна посреди улицы, в мутной пелене метели, и даже не пытается совладать со своей болью; взор ее устремлен в одну точку, будто там маячит какое-то мучительное видение, стена ее темницы. Нет, это не просто раздражение из-за плохой погоды, я не ошибся. В лице Мадлен не заметно никакого напряжения. Она и не помышляет о том, чтобы овладеть собой, словно забыла, что ее кто-то может увидеть. Она почти плачет. При этом один бог знает, какое отвращение испытывает моя жена к слезам. В горе она неподвижна и холодна как камень. Меня охватывает необъяснимое волнение, я потрясен беспредельным одиночеством, с которым она борется, собрав все свое детское мужество, сотканное целиком из упрямой, слепой гордости. Я с трудом подавляю желание броситься к ней, сознаться, что я все видел, сказать, что хочу поддержать ее, быть рядом с ней всю жизнь, что у нее в этом городе есть друг, в конце концов. В ответ она вполне может укусить меня. Я смущен и обескуражен внезапно проснувшимся во мне чисто отеческим чувством. Оно порождено жалостью, а Мадлен не допустит, чтобы ее жалели. Я, разумеется, сочувствую ее страданию, но, главное, меня в самое сердце поражает невозможность вмешаться, вырвать ее из этого одиночества, которое не оставило бы меня равнодушным, будь на месте Мадлен даже совершенно чужой человек. Мне не приходит в голову задуматься над тем, что означает ее потерянный взгляд, не связано ли все это каким-то образом со мной или с кем-то другим. Словно Мадлен родилась одноногой, и никто в этом не виноват.
Она неуверенной походкой проходит мимо меня, идет дальше. Куда подевалась ее недавняя решительность и живость! Я медленно еду рядом, но не затем, чтоб что-то подсмотреть или выведать, нет, я просто следую за ней как завороженный. Через два квартала она останавливается у кинотеатра и входит туда. Слегка опешив от неожиданности, я долго еще смотрю на лампочки у входа, прежде чем повернуть домой. Магазины пока открыты. Сегодня пятница. На сей раз я, не задумываясь, решаю последовать своему порыву. Я вхожу в ювелирный магазин и долго изучаю прилавки, но ничто меня не привлекает. Хозяин — пухлый мужчина с кукольным лицом, в зеркальных очках с толстыми стеклами, за которыми не видно глаз, — не мешает мне и лишь внимательно на меня смотрит, словно разглядывает в микроскоп. Я ничего не могу подобрать и понемногу начинаю нервничать под этим ледяным взглядом. Спрашиваю цену. Ювелир отвечает односложно, тоном хирурга, требующего пинцет. Сумма названа, и снова воцаряется гнетущее молчание. Боясь показаться скупым, я впадаю в расточительство. Браслет, инкрустированный агатами. Работа не отличается тонкостью и выполнена с прицелом на броскость, но в этих витринах ни одна вещь не грешит избытком изящества. К тому же таинственные переливы камней, полупрозрачных, как витражи, мастеру испортить не удалось. Браслет стоит недешево. Я чувствую себя так, будто покупаю ребенку настоящую лошадь, чтобы он не плакал. Ювелир даже не благодарит меня за покупку. Наверно, вечером он скажет жопе: «Доктор Дюбуа купил сегодня дорогой браслет. Интересно, что бы это могло значить?» А она придумает моему поступку с десяток объяснений, отдавая предпочтение тем, в которых есть привкус мелодрамы.
Тереза смотрит на меня вопросительно. Уже половина седьмого, Мадлен еще не возвращалась, да и сам я пришел намного позднее обычного. Я объявляю, что Мадлен ужинать дома не будет. Разочарованно протянув: «А-а!», Тереза ставит что-то разогревать для меня. Свет горит только в кухне, и полумрак комнат наполнен присутствием Мадлен, словно она сидит и дуется где-нибудь в гостиной, а я даже боюсь вслух разговаривать. Тереза, усевшись напротив меня, грызет ногти. Она бросает быстрый взгляд на маленькую коробочку из ювелирной лавки, завернутую в бумагу с цветочками, но ни о чем не спрашивает. Тереза слишком тактична, чтобы задавать вопросы. Она просто сверлит меня взглядом до тех пор, пока, устав от ее назойливости, я не сообщаю ей о своей покупке. Ем я неловко, торопливо. Мне хочется попросить Терезу посидеть в другой комнате, но я не решаюсь. В конце концов я не выдерживаю.
— Вы можете идти домой. Вечером вы нам не нужны.
— А как же посуда?
Она вовсе не расположена уходить.
— Не беспокойтесь, мы сами справимся.
Тереза открывает рот, но так ничего и не произносит. Она не спеша прибирает в кухне, искоса поглядывая на меня. Внезапно ее осеняет.
— Кто же будет отвечать на звонки?
— Это я могу и сам.
Мой ответ звучит крайне сухо. Я откровенно указываю ей на дверь. Тереза слегка меняется в лице и, проглотив обиду, наконец уходит, одарив меня на прощание притворно сочувственным взглядом, который меня бесит.
На консультацию пришло четверо. Я поду прием сухо и деловито, мечтая побыстрее всех выпроводить. Сегодня меня не трогают чужие страдания. Я поднимаюсь в квартиру. Бульканье поды в батареях заставляет еще острее ощутить тишину; дом полон запахов: из кухни тянет чем-то съестным вперемешку с парами эфира, вечно витающими над лестницей. Дальше, в глубине комнат, царит аромат Мадлен: ее пудра, духи. Вот так входишь в пустой дом и по одним только запахам представляешь себе привычки и занятия его обитателей. Картина может получиться довольно точной.
Я зажигаю настольную лампу в гостиной и пытаюсь читать медицинский журнал, но не понимаю ни слова, как будто там написано по-китайски. Снег на улице все идет. Языки метели лижут оконные стекла словно пламя. Вдруг я вспоминаю, что оставил браслет в кухне. Я приношу его в гостиную и кладу на низенький столик, на самое видное место. Пробую представить себе реакцию Мадлен, когда она вернется. Зрелище получается грустное. Не будет ни изумления, ни возгласов радости. Она пройдет прямо в спальню, не глядя в мою сторону, и даже не полюбопытствует, что в коробочке. Я поплетусь за ней, а она не сделает ничего, чтобы разрядить атмосферу. Или равнодушно промолвит:
— Что это на тебя вдруг нашло?
Я заливаюсь краской при одной мысли, что окажусь перед Мадлен в смешном положении. Я убираю со стола коробочку с браслетом и кладу в карман. Подожду подходящего момента.
Прошло уже больше полутора часов с тех пор, как Мадлен вошла в кинотеатр. Она должна вернуться а минуты на минуту, если только… если только не продлит мою пытку, снова отправившись к Кури. Я тушу свет и жду. Не притвориться ли, что я сплю и ничего не помню? Тогда можно завязать разговор как ни в чем не бывало, будто спросонок. Я включаю радио, и джазовая мелодия, заглушая уличный шум, наполняет полумрак успокаивающими звуками, тягучими, словно тающая во рту карамель. За окнами свистит ветер, но от этого в доме только уютнее, как от потрескивания дров в печке.
Я без труда рисую себе отчужденное лицо жены. Мадлен представляется мне спящей; я вижу черты, безучастные к моей любви, тело, отгородившееся от меня на ночь: хозяйка покинула его и улетела куда-то прочь. А я все жду отклика от этого безжизненного тела, удивляюсь, что не узнаю его, и сержусь, что из него исчезла Мадлен и я ничего не сделал, чтобы остановить ее. Я был в ответе за ее душу, за ее счастье. Но она постоянно ускользала от меня между пальцев. В этом и состоит ужасная правда: Мадлен действительно ускользает от меня, и мне не за что уцепиться, чтобы ее удержать. Если бы она вдруг сегодня умерла, то я больше, чем от ее смерти, страдал бы оттого, что мало знал ее и мало любил. Впервые я ощущаю тяжкое бремя ответственности. Мысль о ее смерти сразу придаст всем моим словам и поступкам, пусть даже самым ничтожным, невероятную важность. Наверняка многие женщины уходят из жизни, унося с собой глубокую обиду на человека, которого любили. Смерть — самый эгоистичный из наших поступков. Мы не щадим живых. Какие чувства нашлись бы у нас друг для друга, если бы нам сказали, что завтра все будет кончено? Я предпочитаю об этом не думать и не пытаться представить себе взгляд Мадлен в ту минуту. Как легко было бы ей тогда вынести мне окончательный приговор! Я ее должник, и долг мой таков, что отступиться от него невозможно. Этот долг не предписан мне никаким законом, никакой религией. Исполнение его нельзя отсрочить. Он настолько же непреложен, как и необходимость жить. Уклоняться от него — такая же бессмыслица и нелепость, как пытаться лишить себя жизни. Я не получил Мадлен в собственность. Она лишь вручила мне на хранение частицу себя, а сама скрылась. Я бегу за ней вдогонку, чтобы вернуть то, что мне было доверено. Так мы и будем бежать, не настигая друг друга, если только она не остановится по собственной воле, и тогда уж покинет меня только в безупречной цельности — такой, какой я ее получил.
Оказывается, я успел постареть за три месяца! Вероятно, это и есть зрелость — внезапно ощутить свои цепи и принять их как должное, ибо, сколько ни пытайся закрывать на них глаза, они все равно никуда не исчезнут.
Джазовая мелодия заполняет дом, и я растекаюсь по комнатам вместе с ней. Мое одиночество распространяется вширь. С помощью музыки я касаюсь всех четырех стен. Когда Мадлен вернется, ей придется подождать, пока я сожмусь до размеров кресла. Это произойдет очень быстро, ибо моя жена не останавливается перед тем, чтобы потеснить другого.
Я с нетерпением посматриваю в окно, но не могу разглядеть ничего, кроме безликих, согнувшихся пополам фигур, борющихся с ветром. Мерцание уличного фонаря едва пробивается сквозь снежную завесу. Время от времени дверь у Кури отворяется, и в белизне метели этот прямоугольник света приобретает оттенок лунного сияния. Напротив, у доктора Лафлера, несколько окон еще освещено. В пятницу вечером он обычно играет в бридж с друзьями, всегда одними и теми же. Игра проходит в тишине. Лишь короткие отрывочные замечания изредка нарушают шелест карт. Старый врач молча улыбается, отмечая удачный ход. Потом они вместе пьют чай и расходятся до следующей пятницы.
Наконец я вижу Мадлен. Она идет утомленная, не обращая внимания ни на людей, ни на машины. Минует ресторан, даже не взглянув в ту сторону. Я слышу, как в замочной скважине поворачивается ключ. Она поднимается по лестнице, не зажигая света. Я выхожу ей навстречу. Поворачиваю выключатель. В волосах Мадлен сверкают снежинки. Она не успевает прогнать с лица выражение усталости. Я киваю ей; она кивает в ответ и проходит мимо. Я снова усаживаюсь в серое кресло. Вскоре Мадлен появляется, уже в пижаме, и садится на розовый диван, поджав под себя ноги. Она берет журнал и принимается листать его со скучающим видом. Я делаю то же самое, пока не замечаю, что она смотрит на меня. В ответ я улыбаюсь довольно глупой улыбкой. Видно, что она с трудом заставляет себя сохранять неприступность. Я встаю и иду к ней, очень быстро, не поднимая глаз, боясь, как бы выражение ее лица не остановило меня. Я сажусь рядом и обнимаю ее. Мадлен не противится. И вдруг резким движением утыкается мне в колени, как ребенок, который продолжает дуться, хотя ему самому это уже надоело. Я глажу ее, и она постепенно успокаивается; взор ее вскоре делается отсутствующим и устремляется в пустоту. Она останавливает мою руку, словно я своими ласками отвлекаю ее от какой-то прекрасной мечты.
Когда я вкладываю в ее ладонь коробочку, Мадлен как бы не сразу замечает это. Лицо ее остается бесстрастным. Но любовь к неожиданностям все-таки берет верх. И коробочка открывается. В глазах Мадлен отражается блеск камней. Ни слова не говоря, она поигрывает браслетом на свету, потом надевает его, вытягивает руку и церемонно целует меня, продолжая вертеть запястьем. И тут моя недавняя тревога, сострадание, гнев — все разом обращается в желание. Ее горячее тело встречает мои объятия спокойно, без малейшего трепета. Я расстегиваю пижаму. Взор Мадлен возвращается в пустоту. Звонит телефон: может быть, он звонил и раньше, но я не слышал. Я отпускаю Мадлен, и у меня возникает странное ощущение, что она предвидела этот звонок, ждала его. Уходя, я нижу, как она снова садится и берет журнал.
Звонят от моей сегодняшней сердечницы. У нее приступ удушья. Мне приходится сделать усилие, чтобы вспомнить ее лицо, хотя днем оно произвело на меня большое впечатление. Я отвечаю, что немедленно еду.
— Кто это звонил?
Звук ее голоса меня удивляет. Я внезапно сознаю, что до сих пор мы не обменялись ни единым словом.
— Вызывают к тяжелобольной. Нужно сейчас же ехать. Я вернусь самое большее через полчаса.
Взглядом я прошу ее дождаться меня. Она лишь кивает, как бы говоря: «Поезжай спокойно».
Меня слегка познабливает от сырости и холода непрогретой машины, а может быть, просто от возбуждения. На улице Грин колеса буксуют, и мне приходится держаться ближе к тротуару, где всегда есть кромка укатанного снега. Моя пациентка живет на узкой, крутой улочке, зажатой между двумя гигантскими терриконами. Дорога покрыта вязкой смесью снега и размокшей пыли. Проехать невозможно. Я оставляю машину и поднимаюсь пешком. Ходьбы не больше пяти минут, но навстречу несется неистовый ветер, продувающий улицу насквозь, — дышать можно, только спрятав лицо в воротник. По обе стороны от меня вершины терриконов сливаются с темным небом. На одном из них пыхтит маленький паровозик, время от времени закатываясь в кашле, словно больной, у которого любой из приступов может оказаться последним.
Все окна в доме освещены. Постройка старая, с осевшим фасадом, похожая на все остальные дома в этом квартале. Дверь мне открывает какая-то старуха. Человек десять, не меньше, толпятся в тесной комнате, заменяющей гостиную. Я знаю, что это значит. Срочно созвали родственников, и они явились в полном составе, несмотря на метель.
— Она скончалась внезапно, сразу же после того, как мы вам позвонили.
Мне не приходится их расспрашивать. Этих людей хлебом не корми, дай поговорить о смерти. После ужина у больной неожиданно закружилась голова, ноги подкосились, и она села, уронив голову на лежавшую на столе руку. Так она просидела без движения несколько секунд, потом вдруг вскочила, ловя ртом воздух. Тогда-то мне и позвонили. Сразу после этого она умерла — тихо, будто уснула. Все они наперебой заявляют, что ничего не понимают: наверно, она что-то не то съела. Она ведь была такая крепкая. Еще сегодня после обеда она работала в гостинице. Для меня все-таки загадка: какая сила могла заставить эту женщину вернуться на работу при том нестерпимом страхе, который терзает сердечников. Страсть к деньгам или бессознательное желание бороться со смертью, отпугнуть ее, бросив ей вызов? Судя по всему, она никому не говорила дома про свое недомогание. Они наверняка не знают и о ее визите ко мне. Она умерла мужественно и одиноко, как умирают звери. И опять я бессилен что-либо для нее сделать. Я задаю им несколько вопросов для справки о смерти и ухожу, оставив родственников почти счастливыми от того, что им предстоит дежурить при покойнице.
Я подаю машину задом до самого конца спуска. Она катится точно по растопленному салу. Это избавляет меня от мучений со стартером: я так и не научился толком разбираться в его причудах. Внизу, на дороге, ведущей в шахту, мотор глохнет: грузовики проложили здесь глубокие колеи, заполнившиеся рыхлым снегом. Я бросаю машину, когда начинает пахнуть жженой резиной.
Подходя к дому, я еще издали понимаю, что Мадлен уже легла. Ни в одном окне нет света. Я стискиваю зубы. Кровь у меня в жилах вскипает. Ярость вытесняет все остальные чувства. Мои отношения с Мадлен замкнулись в порочный круг. Со мной играют нечестно, какие бы ходы я ни делал.
IV
— Я бы ни за что не согласился сесть за руль этой ночью, даже если бы меня попросили отвезти женщину в родильный дом.
Джим — настоящий ас. Слегка придерживая баранку, он лихо мчит по обледенелой дороге. Небрежное движение руки — и он совершает обгон, причем машину никогда не заносит. Только он, и больше никто, может ездить в такую погоду, но он целыми днями околачивается у Кури, и лишь нескольким избранным клиентам дозволено извлекать его оттуда. У Джима зимняя спячка.
— Вчера вечером мне предложили ехать в Браунсвиль. Я бы наверняка завяз по дороге, а потом жди, чтобы возместили убытки! Поразительное нахальство!
Он говорит медленно, не повышая голоса. Восклицательную интонацию заменяет у него растягивание звуков. Иногда он чуть-чуть, едва заметно, приподнимает свою толстую лапищу, чтобы придать вес какому-нибудь слову.
— Я могу заскочить в гараж и попросить их съездить за вашей машиной.
— Не трудитесь. Меня отвезет туда доктор Лафлер.
Я не желаю, чтобы Джим оказывал мне услугу. Он из породы людей, которых не хочется допускать даже обувь вам чистить. Вокруг него постоянно витает душок двусмысленности. Кажется, он вполне может пырнуть вас ножом исключительно ради удовольствия вытирать потом кровь вокруг раны.
На дороге, ведущей к больнице, приходится сбавить скорость: так метет, что ничего не видно. По обе стороны — голые поля, и ветер гуляет, не зная удержу. Еще издали мы замечаем на дороге что-то темное. Оказывается, путь нам преграждает грузовик с местной шахты — она расположена вдали от других и возводит свой террикон за больницей. Джим с недовольным видом останавливает машину.
Высокий парень с иссиня-черными волосами и лицом киногероя высовывается из окна кабины и здоровается с невозмутимо взирающим на него Джимом. С минуту задние колеса грузовика яростно буксуют, выбрасывая комья снега. Джим барабанит по рулю. То же самое повторяется трижды, пока под колесами не обнажается асфальт, из которого цепи высекают сноп искр. Все напрасно.
Джим вытягивает голову, пытаясь заглянуть в кузов. На его огромной шее вздуваются вены.
— Идиот! Будь у него в кузове бочки с водой, он стал бы рыть колодец, чтобы напиться. Знаете, что он везет? Металлические сетки.
Неспешным шагом, несмотря на разбирающее его возмущение, Джим направляется к грузовику и что-то кричит на одной ноте. Киногерой вылезает, радостно улыбаясь. Меня поражает ощущение силы, исходящее от этого человека. Кажется, он все время сдерживает себя, чтобы умерить размах движений. Он лезет в кузов и под безжизненным взглядом Джима сбрасывает на дорогу две громадные сетки. Джим курит, внимательно глядя, как парень заталкивает сетки под колеса, и даже снисходит до того, чтобы дать несколько советов. Вдруг, словно осененный неожиданной мыслью, он подходит ко мне.
— Вы знаете этого парня?
Я впервые его вижу. Джим удивляется, словно не верит.
— Да вы наверняка встречали его. Он вечно у Кури торчит.
Джим сосредоточенно грызет ногти, наблюдая за мной. Я молчу, поскольку не понимаю, какое это может иметь значение, знаю я этого парня или нет.
— Его зовут Ришар Этю. Хороший малый. Все девчонки за ним бегают. — Джим задумчиво переводит взгляд на Ришара. И еле слышно добавляет: — Замужние женщины тоже… хотя пороха он не выдумает!
Слова Джима обдают меня зловонием. Я не уверен, что до конца понимаю его, однако догадываюсь, куда он клонит. Джим старается нащупать уязвимое место и ударить побольней. Так он развлекается в этой жизни.
— Эй, Ришар! Поди-ка сюда на минутку.
Ришар поднимает голову все с той же безмятежной улыбкой.
— Ты ведь слыхал о докторе Дюбуа? Это он.
Джим указывает на меня с таким видом, словно объясняет: «Дуб выглядит вот так-то».
Ришар бросает на меня быстрый взгляд. Улыбка его исчезает. Он приветствует меня едва заметным кивком и тут же отходит, торопясь снова залечь под грузовик.
— Вы смутили его. — Джим не то урчит, не то хмыкает. — Ладно, похоже, что он скоро вылезет. Надеюсь, вы ненамного опоздаете.
Шумно дыша, Джим садится за руль. Колеса грузовика цепляются за металлические сетки. То колесо, что ближе к нам, прокручивается в воздухе, так как сетка в этом месте прогнулась, но вот оно опускается, грузовик срывается с места и катит вперед не останавливаясь.
— Подарок оставил местным фермерам, — говорит Джим, выжимая сцепление. Он медленно обгоняет грузовик, даже не касаясь акселератора. — Забавный парень!
Я не слышу, что он говорит. Я смотрю на Ришара, напряженно вглядываюсь в его лицо, как будто оно должно открыть мне нечто жизненно важное. А он, сжав зубы, упрямо смотрит на дорогу. Вдруг Джим резко прибавляет газу, так что машину даже немного заносит.
— Забавный парень! — повторяет он.
Искусством намека Джим владеет в совершенстве. Все идет у него гладко, как по маслу. Никакого напора. Он исподволь прядет свою нить, и вы ничего не замечаете, пока она не окажется толщиною с хороший канат. Сейчас он молчит и, прижимаясь к обочине, гонит машину на предельной скорости. Он хочет, чтобы я как следует прочувствовал, что он идет на риск ради меня, стремясь как можно скорее доставить меня в больницу. Я задыхаюсь в сотканной им паутине и наконец не выдерживаю.
— Почему вы заговорили со мной об этом парне?
Он делает удивленное лицо и на миг застывает, будто совершенно не ожидал, что я вернусь к этой теме.
— О Ришаре Этю? — Поднятая рука Джима повисает в воздухе, что должно означать полное недоумение. — Просто так. Потому что он подвернулся нам, и оказалось, что вы его не знаете. Странные вопросы вы задаете, доктор. Заговори я о дороге, вы бы спросили, почему я говорю о дороге. Разницы никакой нет.
— Есть разница, Джим.
Это вырвалось помимо моей воли. Готов поклясться, что Джим ухмыльнулся от удовольствия. Сомнений не остается. Джим сознательно хотел задеть меня за живое, и ему это удалось. Он медленно проводит рукой по лицу, наблюдая за мной в зеркало.
Я еле сдерживаюсь, чтобы не затопать ногами от бешенства. Гляжу на дорогу и пытаюсь ни о чем не думать. Наконец мы подъезжаем к больнице. Джим, более подвижный, чем я, — даром, что у него такое пузо, — подскакивает к моей дверце и, прежде чем распахнуть ее, говорит:
— Не забудьте, что я вам сказал. Через четыре дня рождество. Следите за своей машиной.
Потом меня захлестывает ритм больницы, и уже не остается времени думать. Я бы согласился сейчас даже складывать головоломки, лишь бы не думать.
* * *
Отдохнувшая, посвежевшая, Мадлен сегодня вовсе не выглядит потерянной. Трудно поверить, что вчера она могла показаться мне такой жалкой. Она встречает меня у дверей, целует, принимает мой чемоданчик с инструментами и всячески изображает жизнерадостность, знакомую мне по прежним временам, но сегодня она кажется мне весьма неубедительной. Я держусь холодно, хотя и не отталкиваю Мадлен. Я замечаю, что она надела браслет, но сейчас это меня скорее раздражает, нежели радует. Тереза держит нос по ветру и ведет себя так, словно забыла о нашей вчерашней размолвке.
Заметив мою неразговорчивость за столом, Мадлен тревожится:
— Ты поздно вернулся вчера? Устал?
Будто она не знает, когда я вчера вернулся! Я обнаруживаю в Мадлен незнакомку. Прежде она не имела привычки притворяться. Видно, и она тоже стареет.
— Меня не было меньше часа. А ты заснула!
Она не отвечает, вероятно удивленная моим резким тоном, при том, что вчера я был таким покладистым. Против воли я упорно смотрю на браслет. Заметив это, Мадлен сразу же заводит с Терезой разговор на другую тему, а та достаточно хорошо вышколена, чтобы подыграть ей с полной естественностью. Я занят своими мыслями и вздрагиваю каждый раз, когда они ко мне обращаются.
— О чем ты задумался?
— О тебе.
— А-а!
Дело Терезы — заполнять паузы. Так продолжается до самого десерта. И тут я принимаю решение. Я рассказываю им, как опоздал сегодня в больницу из-за застрявшего грузовика. Они вежливо слушают меня, дожидаясь, пока я кончу, чтобы продолжить свою прерванную болтовню.
— Водитель, здоровенный балбес… то ли Жан, то ли Ришар Этю, точно не помню. Довольно, впрочем, смазливый…
Вздрогнула Мадлен или нет, я не понял. Разве что слегка напряглась. Когда она краснеет, это заметно всегда, но зато незаметно, когда бледнеет.
— Джим был очень удивлен, что я его не знаю. Говорит, это завсегдатай Кури… Кумир местных девиц…
Я в упор смотрю на Мадлен, но ее этим не смутишь. Я вижу, как глаза ее темнеют, словно на них упала тень.
— …и замужних дам тоже, как утверждает Джим.
Не знаю, задели ее мои слова или нет, но Мадлен слегка меняется в лице — быть может, лишь из-за того, что на нее неотступно устремлен мой взгляд. Губы ее сжимаются, на шее набухают жилки. Я больше не выдерживаю и первым опускаю глаза. Я ничуть не лучше Джима. Бессовестно, откровенно пускаю в ход его оружие. Я такой же негодяй, как и он. Пробормотав еще что-то о железных сетках, я умолкаю. Тьма в глазах Мадлен рассеивается. Она находит в себе силы улыбнуться, и Тереза следует ее примеру. Они заводят разговор о парикмахерах, платьях и кинофильмах. Я и не подозревал, что моя жена владеет подобной тактикой обороны. Прежде она действовала прямо: нападала на меня с фронта, разбивала наголову и удалялась. Против ее новых уловок я безоружен. Как узнать, когда именно она притворяется? Она достаточно коварна, чтобы изобразить несуществующее горе. И вдруг я перестаю верить в то, что сказал Джим. Его намеки внезапно кажутся мне вздором, и я почти счастлив, что не зашел слишком далеко в своей атаке на Мадлен. О господи, какую ужасную несправедливость я мог совершить из-за своей дурацкой подозрительности, подогреваемой Джимом! Хорошо еще, что я не успел сделать ничего непоправимого! Однако некоторая неопределенность все-таки остается, и я пока еще не чувствую облегчения, которое испытывает человек, уже ощущавший под ногой пустоту и вдруг ступивший на твердую почву. Мадлен неспроста щадит меня сейчас. Вероятно, ей не хочется устраивать сцену при Терезе. Она сама выберет момент, чтобы нанести удар. Но в конце концов надо проверить и другую версию — ту, что не должна подтвердиться.
Я с трудом беру себя в руки и пытаюсь включиться в их разговор. Тереза по-прежнему для меня загадка. До какой степени Мадлен откровенна с этой толстухой? Рассказала ли она ей про нашу ссору у Кури? Вряд ли. Не в ее интересах настраивать Терезу против меня.
В субботу пациенты редко приходят на консультацию, а по вызовам я езжу только вечером. Могу себе позволить засидеться за столом. Но женщины уже занялись посудой и, тихонько переговариваясь, возятся у раковины. Я выкуриваю сигарету и ухожу в гостиную, предложив Мадлен присоединиться ко мне. Но она отвечает, что Терезе одной не справиться, и оставляет меня в одиночестве.
Я ложусь на диван, где обычно располагается Мадлен. Сквозь дремоту прислушиваюсь к тому, что творится на кухне. Но, видимо, я в конце концов заснул по-настоящему; открыв глаза, я вижу, что дверь, ведущую из кухни в гостиную, тихонько затворили. Я встаю и без всякой задней мысли распахиваю ее.
Сидящая у стола Тереза вороватым движением прикрывает правое запястье. Я подхожу ближе, делая вид, будто смотрю в окно. И едва сдерживаюсь, чтобы не взвыть от ярости. Тереза прячет на руке браслет, который я подарил вчера Мадлен. При этом я почти физически ощущаю отсутствие жены.
— Где Мадлен?
— Ушла.
— Куда?
— За покупками.
Ответы Терезы звучат ровно и бесстрастно. Больше мне из нее ничего не вытянуть. Изо всех сил стараясь скрыть от нее свое бешенство, я выхожу в гостиную, и тут уж, на свободе, скрежещу зубами. О нет! Эта игра меня больше не забавляет! Хватит миндальничать, я должен поговорить с ней как муж. Надо же было дойти до того, чтобы подсматривать за мной, поджидать, пока я усну, чтобы ускользнуть из дому! И если браслет оказался у Терезы, значит, Мадлен сняла его перед уходом. Но почему? Почему? Да потому, что там, куда она пошла, браслет может показаться неуместным — всем вообще или кому-то конкретно… Кровь во мне закипает. Не прошло и десяти минут, как Мадлен вышла. Я догоню ее. Только очутившись на улице, я вспоминаю, что моя машина все еще стоит там, на спуске, между терриконами. Зато машина доктора Лафлера передо мной. Он оставляет ее возле дома и часто даже не вынимает ключей. Так и есть, ключи торчат. Терять мне уже нечего. Я медленно еду по улице Грин по направлению к церкви и магазинам. Ничего не обнаружив, останавливаюсь у церкви на красный свет. Тротуары запружены народом. Сегодня последняя суббота перед рождеством. Вся округа радиусом в двадцать миль съехалась за праздничными покупками. Я сворачиваю направо и еду по параллельной улице, чтобы вернуться потом на улицу Грин по переулку возле ресторана Кури. Результатов по-прежнему никаких. Доезжаю до монастырской школы — все напрасно. Не катить же мне до самого озера! На обратном пути я двигаюсь со скоростью десять миль в час. Сзади яростно гудит. Господи! Да не могла же она раствориться!
Меня дразнит гигантская неоновая вывеска Кури. Кури красный. Кури белый. Кури красный. Кури белый. Запретный для меня рай. Если я опять появлюсь там, об этом узнает весь город. Не меньше двадцати пар глаз станут, как хозяин ювелирной лавки, разглядывать меня, точно букашку под микроскопом. Я с шумом захлопываю за собой дверцу, но это не приносит успокоения. Улицу я перехожу, ни на кого не глядя, боясь случайно выдать свое бешенство. Я делаю вид, будто мирно совершаю послеобеденный моцион, хотя готов сейчас наброситься на первого встречного. Окна ресторана наглухо затянуты инеем, а в застекленной двери видно лишь отражение улицы. Я дважды прохожу по тротуару туда и обратно.
Вернувшись домой, я сталкиваюсь в дверях с Терезой.
— Далеко ли вы собрались?
— За покупками.
— Но ведь за покупками пошла Мадлен!
— Кое-что она поручила мне.
Тереза выжимает из себя улыбку и уходит, вихляя кривым бедром. Наверх я не поднимаюсь. Мне сейчас не вынести пустоты комнат. Я сажусь за стол в своем кабинете и смотрю на снег, который падает уже не так густо и не так стремительно. Моя ярость постепенно сменяется апатией и отупением. Я не думаю ни о Мадлен, ни о своих переживаниях. Я устал гоняться за ней, устал искать смысл малейших ее поступков и слов, устал вертеться вокруг своей оси, как волчок. Пусть тот, кому это выгодно, воспользуется моим столбняком, чтобы оторвать от меня Мадлен, пусть потом, когда я открою глаза, мне скажут, что операция окончена, что я могу снова начинать жить, что у меня больше нет сиамской сестры-близнеца! Я сейчас податлив как воск. Все совершилось бы безболезненно.
Я вожу по столу ножом для разрезания бумаги, и на пыльной поверхности остается темный след. Тереза и Мадлен отлично спелись: ни та ни другая никогда не заглядывают в мой кабинет. У доктора Лафлера испачканную марлю стирают. У меня же ее выбрасывают. Я сам чищу и стерилизую раза два в месяц все пинцеты, щипцы, акушерские инструменты. Спасибо еще, что женщины соглашаются мыть пустые пузырьки от лекарств. Я уж не говорю о колбах, которые используются для анализов мочи. Грязное ремесло — медицина! А мать Мадлен самозабвенно толковала о его прелестях! У ее дочери более чувствительное обоняние, и она предпочитает держаться подальше от моих дел. Во мне снова вскипает раздражение, и в голове начинают роиться мрачные образы. Я намеренно сгущаю краски. Равнодушие и даже брезгливость, которую испытывает Мадлен к моему ремеслу, я вдруг начинаю ощущать тоже и распространяю на все, в том числе и на себя самого. Какие радости были у нас за время нашей совместной жизни? Было ли у нас согласие хоть в чем-нибудь? Боже, как все это убого, какой безнадежный крах! Нас связывает лишь общее поражение. Меня охватывает почти физическое отвращение к собственному кабинету, к этой квартире, к царящей здесь атмосфере посредственности и враждебности — и я быстро выхожу на улицу. Душа моя сделалась серой, как пыль. Я иду в бедняцкий квартал вызволять свою машину и отправляюсь по вызовам раньше обычного.
Витрины магазинов ломятся от третьесортного барахла, которое преподносится публике как сокровища. В витрине универмага Артюра Прево красуется огромная елка высотой с двухэтажный дом, щеголяя разноцветными лампочками, как содержанка — драгоценностями. Все-таки странно, что рождение младенца, появившегося на свет в хлеву на соломе, отмечается таким разгулом торгашества. Прево говорил мне, что треть своих товаров он продает в декабре. Как будто рождество навсегда отвратило людей от бедности и одно напоминание о яслях и соломе немедленно заставляет их мчаться в магазины.
Снег почти прекратился, и на улице потеплело. В душе у меня слякоть.
* * *
Мадлен с Терезой кроят платье на кухонном столе. Они совещаются по десять минут, прежде чем где-нибудь разрезать. Пару раз взмахнув ножницами, они некоторое время беседуют или разглядывают модели в журнале. Мадлен объявила, что они не успеют кончить до полуночи и Тереза останется ночевать у нас.
Я включил радио, чтобы не слышать их голосов, и уткнулся в газету, хотя она нисколько меня не интересует. Я, кажется, мог бы сейчас руками потрогать свою скуку.
Когда я вернулся домой после вызовов, Мадлен помогала Терезе готовить ужин. Мне не хотелось ни о чем ее расспрашивать, да и она позаботилась о том, чтобы мы ни на секунду не остались вдвоем. Любопытно, как бы мы жили без Терезы, избавляющей нас от разговоров с глазу на глаз? Положение мое незавидное, но я терпеливо жду. У меня впереди вечность. Я так спокоен, что не знаю, куда деваться от скуки. Я сам от себя зеваю. Музыка скользит по мне, не проникая в душу. Трескотня женщин, в те редкие минуты, когда она долетает до моего слуха, воспринимается мной как неясный гул, как тонкое жужжание, нисколько не нарушающее мой покой. Вот уж поистине уютное жилище с надежными стенами, где ничего не может случиться! Дом, каких тысячи, где обретается в тепле добротное счастье, застрахованное от неожиданностей. Не стоит простукивать стены в поисках драмы. Ее здесь нет. Это гнездышко благоразумных супругов. Их любовь не искажена гримасой боли: она у них спокойная, будничная, замешанная отчасти на скуке, отчасти на слепоте, и вся ее пища — ожидание завтрашнего дня, который, быть может, принесет наконец что-то новое.
Я только что столкнулся с Мадлен у двери в ванную. Мы оба были очень предупредительны и посторонились одновременно, не глядя друг на друга. Я отступил чуть дальше, чем она, вероятно, потому, что я старше. Единственная наша встреча за весь вечер. Хотел бы я знать, что думает Тереза о семье, где всегда такая тишь да гладь? Но ведь эта шельма не довольствуется внешней стороной дела. Она наверняка ищет сложности в наших отношениях, как Джим, только без его гнусности.
Смотрите-ка! Они сумели пробить мою броню! Мадлен обращается ко мне:
— Ты будешь принимать ванну?
Прекрасно, именно ванны мне и не хватало для полного душевного покоя. Вода снимает напряжение. Для нервов нет ничего полезнее. Наполеон принимал ванну трижды в день, даже в часы сражений. Что ж, я охотно пойду поскучаю в ванне. К тому же завтра воскресенье. В Маклине все моются по субботам. Уж не усвоила ли моя жена местные обычаи?
Когда я выхожу из ванной, ни в кухне, ни в гостиной никого нет. Мадлен уже в кровати: она спит или, во всяком случае, хочет, чтобы я так думал. Значит, все это время я томился только ради того, чтобы увидеть, как замечательно моя жена притворяется спящей, и понять, что я по-прежнему верчусь в той же карусели и начинается новый круг. В конце концов, это становится содержанием жизни.
Часть вторая
I
Мои пальцы непроизвольно стискивают руль, словно их свела судорога. Наверно, это и называется «душить в себе боль». Но страдание не застилает мне взор. Вижу я прекрасно. Только руки вышли из повиновения. Если бы я не сидел, а стоял, то, вероятно, отказали бы и ноги. Даже наверняка — ведь я и не заметил, как перестал нажимать на педаль газа и машина медленно остановилась. Ничего, улочка маленькая, пустынная, я никому не мешаю. Могу не спеша сделать глубокий вдох, подождать, пока полегчает. Но ком под ложечкой не рассасывается, наоборот — все наливается и наливается тяжестью. Беспокоиться нечего, для здоровья он не опасен. От него исходят сильные горячие волны, от которых все у меня внутри переворачивается, как бывает, когда думаешь о смерти — о своей смерти.
Потом разверзается глубокая пустота, затягивая в себя все, как воронка, и наконец проступает вода — слезы. Взгляд мой затуманивается. Вода прибывает, гладь ее слегка дрожит, но ни одна капля не вытекает. Я растерян, как ребенок, у которого собака утащила пирожное. Со мной вели нечестную игру, я это знал. Но лишь когда приходит время расплачиваться, понимаешь всю чудовищность обмана. Тело было готово принять удар, кровь бурлила у самой поверхности, чтобы сразу оказать сопротивление в любой точке, и все-таки он обрушился неожиданно. У меня отрезали руку и приживили к чужому телу. Это ужасно, несправедливо, непоправимо. Никто и никогда не сможет мне ее вернуть. Борьба не имеет смысла.
Жаль, что я не в силах заплакать. Черно впереди, черно позади, черно всюду. В такой глухой тьме можно лишь стонать и корчиться, пока где-то не откроют люк и картины жизни не замелькают снова, уже совсем нестрашные. Самое обидное, что во мне не пробуждается ни возмущение, ни ярость, словно я, обессилев, бросил оружие и покорно жду, чтобы меня прикончили.
Но вот подступает последний спазм. Я выжимаю газ до отказа. Машина взвивается на дыбы и срывается с места. Кровь внезапно приливает к мышцам: я снова поднял оружие, я больше не беспомощен. Я разворачиваюсь на двух колесах, меня заносит. Автомобиль наполняет улицу зловещим воем, создающим у меня иллюзию собственного могущества. Я не отпускаю клаксон с того момента, как дал газ. После своего ошеломляющего виража я, не переставая сигналить, нажимаю на тормоз. Мне удается преградить им путь и очень медленно проехать прямо перед ними. О, глаза Мадлен! Я узнаю в них ужас, который сам только что испытал. Она тоже подверглась внезапной ампутации. Пять секунд. Достаточно, чтобы две души вонзили друг и друга клыки. Я могу спокойно ехать дальше. Теперь весь оставшийся день я буду жить в ней, как она — во мне. Мы наконец-то проникли друг в друга. Нас больше не разделяет непроницаемый мрак. И я не ищу ее, как слепец, протянутыми руками. Наши души вступили в открытое противоборство и уже не могут оторваться друг от друга, увязнув в смоле ненависти, связавшей их крепче любви. Они сцепились, как собаки, которые уже не в состоянии разжать челюсти. Можно не беспокоиться, теперь мы надолго составим друг другу компанию. Его я не видел. Он был лишь тенью, придававшей контрастность чертам Мадлен, подсадной уткой, позволившей нам наконец встретиться. Прилив силы еще не прошел. Я впрыскиваю себе новую инъекцию скорости. На улице оттепель, и вся мостовая залита водой. Однако колеса не скользят. Асбестовая пыль еще не успела навести свой жирный глянец. На пересечении с улицей Грин мне приходится остановиться. Я выключаю сцепление, и мотор продолжает работать на больших оборотах. На меня смотрят прохожие. Некоторые снисходительно улыбаются. Отпусти я сейчас сцепление — и все они со своими улыбочками отправятся на тот свет.
Чудесная погода для воскресной прогулки. Пригревает солнце. Витрины завалены побрякушками, предназначенными для укрепления супружеской верности, такими, к примеру, как браслеты. По воскресеньям любой из жителей Маклина обедает не хуже, чем его врач или священник. Потом они переваривают. Забавно выглядит город в процессе пищеварения. Если иметь изощренный слух, можно было бы услышать, как народ рыгает. Старые дамы мнят себя сердечницами, ибо их от обжорства мучают газы. Горожане с чопорным видом медленно прогуливаются по улице Грин, подталкивая детей вперед и без конца напоминая, чтобы они не пачкались. Потом все возвращаются домой, стряхивают снег, усыпавший пальто во время прогулки, и дожидаются ужина, чтобы доесть остатки обеда. Некоторые парочки, чуждаясь прозы жизни, избегают главной улицы и устремляются в отдаленные переулки на поиски прекрасной мечты, пока естественный порядок вещей — тоже одна из форм реальности, коей не следует пренебрегать, — не развеет ее в прах. Все это и составляет воскресенье, гнетущий покой выходного дня. Что же до меня, то я вне игры, я смотрю на мир сквозь стеклянную перегородку, и разбить ее мне не под силу. Я наблюдатель, как Джим, но не обладаю его беспристрастностью. В этом моя слабость.
Наконец я выезжаю на улицу Грин и мчу по середине мостовой, непрерывно гудя, чтобы никто мне не мешал. Так я доезжаю до ресторана Кури, где мне приходится резко крутануть руль, чтобы не врезаться в машину доктора Лафлера, свернувшую к гаражу. Старика, наверно, чуть кондрашка не хватил. Я бросаю машину на улице и спешу скрыться в доме, чтобы мой коллега не успел заговорить со мной.
Тереза с мечтательным видом сидит на кухне перед стаканом молока и грызет печенье.
— Идите домой.
Она вытаращила на меня глаза. Вероятно, я напугал ее своим видом.
— А как же ужин?
Со мной сейчас лучше не спорить. Она поняла это, причем очень быстро. Я увидел по глазам, как сработал в ее голове нехитрый механизм. Тереза — наш Асмодей. Только ей не нужно снимать с дома крышу. Мы сами предоставили ей удобное место в своем жилище — между Мадлен и мной.
— Идите домой!
Я ору, потому что это меня успокаивает. Не бойся, Тереза, я тебя не ударю. Она смотрит на меня, точно бросивший камень ребенок, который вдруг с изумлением понимает, что камнем можно ранить даже такого человека, как отец. Ее широко раскрытые глаза выражают страх и как бы просят прощения. Она-то здесь ни при чем, бедная толстуха! Однако я не стану утешать ее и заверять, что она мне симпатична, несмотря на…
Все еще клокоча, я усаживаюсь в гостиной в ожидании, пока Тереза уйдет. Она стоит перед мойкой, спиной ко мне, и торопливо допивает молоко. Потом идет в свою комнату и выходит оттуда в пальто и в шляпе. Дрожащим голосом говорит: «До свидания». Я добился своего: у нее тоже это воскресенье будет невеселым.
Едва за Терезой захлопывается дверь, как я начинаю метаться по комнатам. Можно было бы все бросить, сесть в машину и вернуться к матери. Но, кажется, в подобных случаях только женщины уезжают к матери, а потом возвращаются назад к мужу. В сущности, это случается со всеми, с тех пор как стоит мир, и ничего, не расходятся, рожают детей, жизнь идет своим чередом. Вот как просто, оказывается, себя уговорить. Чрезмерная требовательность убивает счастье. И свидетельство тому… нет, никакая софистика тут не поможет и не заставит меня умерить требования. Жизнь действительно продолжается, и только я и Мадлен — да, быть может, еще тот, другой, — нарушаем незыблемый покой этого воскресного вечера. Но мое эгоистичное нутро сильнее разума. Я считаю, что я один на свете такой несчастный.
Что же я делаю здесь, в одиночестве? Жду. Может быть, она вернется, и мы поговорим. Человеческий язык еще таит некоторые возможности. Мы попробуем объясниться. Когда события облекаются в слова, они воспринимаются уже не так остро, кажутся безобиднее, а иной раз и вовсе изглаживаются. Можно позволить словам завлечь себя в тенета, постараться не вглядываться слишком пристально в их туманную завесу. Вдруг Мадлен скажет, что ничего не было, кроме обычной воскресной прогулки? Как я это приму? По разлившейся внутри волне жара я понимаю, что все еще уязвим, и мне до безумия хочется поверить в сохранность своего счастья, счастья, которому в один прекрасный день все равно придется дать точное определение.
А если она не вернется? Мадлен ведь склонна к опрометчивым поступкам. Она не колеблясь может поставить на карту все, что имеет. У нее впереди еще немало лет, чтобы успеть позаботиться об устройстве своего благополучия. Надежный хлеб семейной жизни сам по себе ее не удержит. Что же будет, если она не вернется? Внутри у меня все обрывается, плоть протестует. Я задыхаюсь. Я к этому не готов. Кажется, будто весь дом вокруг меня валится в бездну, а я один остаюсь сидеть в своем сером кресле, свесив ноги в пустоту, и у меня кружится голова. Я защищаю не игрушку и не собственность, я защищаю часть себя, которая заключена в Мадлен и которую я не могу позволить отсечь, потому что эта часть самая лучшая, самая живая, это моя суть — то, что делает меня Аленом Дюбуа. Если Мадлен уйдет, она унесет с собой все, что есть во мне неповторимого.
Просачиваясь, как масляное пятно, через все преграды, по телу разливается апатия. Все потихоньку сглаживается, смягчается, растворяется в сером сумраке. Черты Мадлен постепенно сотрутся. Я не буду помнить ни ее лица, ни минут нашего счастья, ни того, что она для меня значила, ни даже боли, которую она мне причинила. Старик не может сохранить чувственного воспоминания о том, как впервые обладал женщиной. Чего только не несет жизнь в своем потоке, однако в конце концов все тонет и разлагается. Умри Мадлен — я страдал бы не больше, чем сейчас, и, наверно, смирился бы с ее смертью.
К горлу подступает тошнота от этой старческой мудрости, и мне вдруг хочется завыть. Даже собака не позволит так просто отнять у нее кость. О, скорее, скорее стать идиотом, пусть из моей головы вынут эту ненужную лампочку, которая ничего не освещает! Превратившись в животное, я стану сильным и толстокожим, и тогда лишь неопровержимыми доказательствами можно будет вывести меня из равновесия.
Я подхожу к окну и барабаню по стеклу. Меня раздражает шум. В квартире вечерний полумрак, а на улице еще только намечается легкая серая дымка, оттеняющая белизну снега. Над городом солнце почти закатилось, но ледяное зеркало на вершинах холмов еще отражает его лучи. Тротуары опустели, гуляющие разошлись по домам. Редкие автомобили проезжают быстро и бесшумно, словно смущенные своим неуместным появлением на улице в такое время.
Чем заняться, чем заполнить эти мертвые часы, когда чувство одиночества мешает мне даже предаться целиком своему горю? Поесть? Меня тошнит. В буфете стоит бутылка виски, почти полная. Я не люблю пить. Возможно, потому, что никогда не испытывал во хмелю ощущения блаженства. Бутылка отливает в сумерках темно-желтым блеском, напоминая цветом дорогую старинную кожу. Один ее вид уже успокаивает, как огонь в камине, как светлая сигара, как меховая шуба. Она воплощает для меня приятную умиротворенность человека средних лет, обладающего рентой. Пейте, и к вам придет богатство и спокойствие! Терпкая влага обжигает горло, по жилам разливается непривычное бодрящее тепло. Я чувствую, как погружаюсь в состояние бездумного расслабления. Проникаюсь и наслаждаюсь покоем этого вечера, покоем дома. Я не впадаю в оцепенение, нет, я тащусь за жизнью, медлительный, отяжелевший, и меня это вполне устраивает. Я сосредоточенно вслушиваюсь в тишину, пытаясь расслышать в себе биение жизни. Четыре или пять раз я прикладываюсь к бутылке, потом засыпаю и чувствую, как перестаю существовать, превращаясь постепенно в глыбу льда.
* * *
Просыпаюсь я отупевший, с горьким привкусом во рту и ломотой во всем теле. Рука моя наталкивается в темноте на бутылку. От двери нашей спальни тянется длинная полоска света. Мадлен. Моя боль. Ее лицо, когда она увидела меня валяющимся в кресле, а рядом бутылку виски и на ковре опрокинутый стакан. Я силюсь представить себе ее взгляд в этот момент, но не могу: мозг мой включается рынками. Он просыпается к жизни не сразу, не целиком, а как бы отдельными участками. Некоторое время я лежу неподвижно. Потом слышу всхлипывания в комнате Мадлен. Тихонько подхожу к двери. Успеваю заметить ее маленькое лицо, исполосованное длинными черными подтеками. Слезы размыли тушь для ресниц. Мгновение — и Мадлен отворачивается, выключив лампу. Я растерянно останавливаюсь в ногах кровати. Мадлен задерживает дыхание, и постепенно оно из судорожного превращается в глубокое и ровное. Я стою в темноте и жду — жду, чтобы она заговорила со мной. Молчание нелепо, бессмысленно затягивается. Я присаживаюсь на кровать, не прикасаясь к Мадлен, и перебираю в уме слова, которые тут же отбрасываю. Все они какие-то жалкие и ровно ничего не выражают.
— Что с тобой происходит, Мадлен?
Мягкие интонации собственного голоса изумляют меня. Я говорю не так и не то. И сержусь на себя за это. Однако в темноте и голос мой, и слова находят отклик в лежащем рядом теле — Мадлен разражается конвульсивными рыданиями. Я чувствую себя оскорбленным: ее слезы сейчас неуместны, это запрещенный прием. Рыдания стихают, затем следуют всхлипывания, и снова тишина. Мадлен все еще плачет, видимо, зажимая руками лицо. Я вижу, как беззвучно вздрагивают ее плечи. Да должна же она в конце концов заговорить! Теперь ее очередь, она обязана ответить мне. Молчание.
— Мадлен, послушай…
Она снова дает волю слезам и на сей раз колотит кулаками по подушке. Такого способа общения я не предвидел. Мне надо его осмыслить. Должен ли я понимать это так, что говорить нам не о чем, что Мадлен страдает от невозможности мне помочь, что она не виновата в происходящем и тоже является жертвой? Или это значит, что она не в силах ни в чем разобраться, попала в нестерпимо мучительную ситуацию и, сколько ни бьется, не может из нее выбраться? Странно, как близко мне в темноте ее страдание. Сначала оно возмутило и оттолкнуло меня, но сейчас вдруг тронуло, и я ощутил его как свое. Я снова испытываю то же чувство, как тогда на улице, когда увидел ее потерянное лицо. Я понимаю, что Мадлен мечется, что она в панике и я должен протянуть ей руку, это входит в обязательства, принятые мною по отношению к ней, даже если… даже если она забрала то, что оставляла мне на хранение. Меня начинает бить дрожь при этой мысли, и я стараюсь не слушать, как она плачет. Господи! Почему мужчина и женщина должны так лавировать друг перед другом? Для чего эта бессмысленная неприступность?
Я наклоняюсь к Мадлен, и тепло ее тела ударяет мне в лицо. Волосы ее еще пахнут уличной свежестью. Она слегка отодвигается.
— Попытайся объяснить мне, Мадлен…
Она старается дышать ровно, и я чувствую, как в ней крепнет внутреннее сопротивление. Того, чего я, вероятно, не добился бы гневом, я легко достиг мягкостью, вызванной, скорее всего, выпитым виски. Мадлен защищается от меня. Если бы горел свет я, наверно, увидел бы сейчас ее гордые глаза, глядящие на меня с вызовом. Я освободил ее и позволил бороться со мной.
— Я жду, Мадлен.
— Ты пьян. Оставь меня.
В ее голосе снова появилось высокомерие. И она находит в себе достаточно хладнокровия, чтобы унизить меня, чтобы опять навязать мне неприглядную роль.
— Ну уж нет, сейчас ты объяснишь мне все!
— Мне нечего тебе сказать. Ложись спать.
Не могу же я вечно натыкаться на стену, я должен в конце концов сокрушить ее! Я не намерен отступать перед такой тактикой. Я щадил Мадлен, а она, не раздумывая, поднялась, чтобы сразить меня, причем в тот самый миг, когда я бросил оружие.
— Давно ты встречаешься с этим Ришаром Этю?
Она поворачивается ко мне спиной, давая понять, что хочет спать. Я ору не своим голосом:
— Ты ответишь мне! Слышишь, Мадлен, ты будешь говорить! Я не лягу, пока ты не признаешься мне во всем!
Она по-прежнему неприступна. Нет во мне больше ни благоразумия, ни сочувствия, ни желания понять — мною владеет лишь исступленное желание победить ее, унизить, сломить. Я хватаю ее за руки и переворачиваю на спину.
— Ты от меня так легко не отделаешься! Я имею право знать, имею право, слышишь?
Мадлен отбивается, кусается, царапается. Вот мы и дожили до супружеской драки. Она разъярена, я тоже. Сцепившись, мы катаемся по кровати. Мне ни капли не стыдно, что я сильнее, и я подминаю ее под себя, извивающуюся от гнева и унижения. Мне надо сокрушить ее чудовищную гордость. Слишком много я от этой гордости страдал, слишком часто чувствовал себя беспомощным перед нею, и вот теперь я мщу ей, без зазрения совести, с наслаждением. Пусть Мадлен отвергает меня, но она проиграла и знает это. Рыдания возобновляются, яростные, бессильные. Все лицо у меня мокрое от слез, и даже на языке я чувствую соленый привкус. Наконец я отпускаю Мадлен, и она с размаху дает мне пощечину, мучаясь оттого, что не может ударить по-настоящему больно. Потом вскакивает и скрывается где-то во тьме квартиры.
В окне загорается и гаснет вывеска Кури, каждые три секунды озаряя комнату кровавым светом. Я подавлен тем, что только что совершил. Какая-то влажная рука сдавливает мне горло. Меня сейчас вырвет, вырвет от отвращения к самому себе. Воздух, которым я дышу, кажется, весь пропитан этим отвращением. Я лежу, скорчившись, и вглядываюсь во тьму. Но легче мне не делается. Если бы было светло, я, наверно, мог бы увидеть, как вздрагивают под кожей мои нервы. О, насколько лучше я чувствовал себя в гневе! В тот момент я был чист и невиновен. Ужасное оружие — невиновность. Я отдал его в руки Мадлен, и уж она-то сумеет воспользоваться им успешнее, чем я.
Я гнию в этой атмосфере. Если я здесь останусь, завтра меня найдут покрытым плесенью. Мне необходимо вырваться отсюда, уйти прочь, неважно куда.
Я выхожу на улицу, так и не встретившись с Мадлен, которая наверняка прячется где-нибудь в самом темном углу. Может быть, она понимала, что я уйду, и ждала этого?
Я опускаю стекла в машине, и ледяной ветер хлещет со всех сторон, но очищения он не приносит. Я проезжаю мимо монастырской школы, мимо озера и останавливаюсь только в Браунсвиле, маленькой шахтерской деревушке, где тоже имеется свои террикон и свои покосившиеся лачуги. Глухая деревенский тишина гонит меня назад, в город. Я возвращаюсь в Маклин, так и не сумев победить свое отчаяние; наоборот, на морозе оно лишь обостряется, потому что я трезвею, ясней осознаю свое бессилие и все то, что гнетет меня, чего еще вчера не существовало, но что сегодня непомерно разбухло из-за поведения Мадлен и моего собственного, все, что так быстро вызрело на почве нашего общего поражения, открывшегося мне в полной мере только теперь.
В темноте мерцает вывеска отеля. По воскресеньям тут можно сидеть и пить до полуночи. У меня есть еще час. Все что угодно, лишь бы не возвращаться домой, где придется прятать глаза от Мадлен.
Просторный зал заполнен посетителями — рабочими и шахтерами. Женщин мало — на десятерых одна. Я не сразу решаюсь переступить порог. Меня никогда прежде здесь не видели. Но главное — хотя многих в отдельности я тут знаю, лечил их родственников или даже их самих, — вся эта масса шахтеров, собравшихся в одном помещении, кажется мне чуждой и враждебной. Они страшат меня землистыми лицами, ожесточенными от ежедневного физического напряжения, и своими не ведающими снисхождения взглядами. Я сажусь за столику самого входа, не занятый, видимо, потому, что здесь дует от двери. Мои соседи прекращают разговоры и серьезно, без улыбки смотрят мне прямо в лицо. Как будто я тону, а они гадают, удастся мне еще раз всплыть на поверхность или нет. Они смотрят на меня, но обмениваться замечаниями на мой счет не осмеливаются. Местные мужчины, надо сказать, с самого начала поразили меня щепетильной сдержанностью в разговорах. Их цинизм может выразиться во взгляде, но никогда не в слове.
Подошел официант. У него тот же взгляд, что и у моих соседей. Я заказываю двойное виски. Несколько человек оборачиваются из-за других столиков. Известие о моем появлении распространяется мгновенно, я могу проследить его движение по поворотам голов.
Готов поклясться, что никогда еще ни один маклинский врач не пил виски в этом заведении. Смотрите же на меня, не стесняйтесь, вы спасаете меня от себя самого. Мне удается наконец отвлечься от мыслей о собственной боли.
Я не совсем обычный посетитель. Хозяин гостиницы, чье лицо мне смутно знакомо, сам приносит мой заказ. Я протягиваю ему деньги, но он отстраняет их.
— Что вы, доктор, наш отель угощает вас!
Он произносит слово «отель» таким тоном, каким монашенка говорит о своем монастыре. Он стоит передо мной и ждет, очень высокий, худой, темноволосый, с голубыми глазами, резко выделяющимися на смуглом лице. Я приглашаю его присесть.
— Как работа, доктор?
— Ничего, потихоньку.
Мы похожи на двух коммерсантов, спокойно толкующих воскресным вечером о своих делах. Его наверняка сейчас занимает вопрос, чье ремесло выгоднее: его или мое. Я молчу. Он тоже. Его нисколько не обижает моя неразговорчивость. Они все здесь такие. Принимают ваше молчание как должное и молчат сами, считая, что и вас это не должно смущать.
У меня нет привычки к спиртному. Я быстро опустошаю свой стакан, и виски тут же ударяет мне в голову. Патрон незаметно подзывает официанта, веля ему наполнить стакан, и снова отказывается от денег.
— Вы бы меня уважать не стали, если бы я не сумел вас угостить!
Все тот же монашеский тон. В сущности, я оказываю ему честь тем, что пью виски в его заведении.
— Доктор Лафлер стареет. Вы много ему помогаете. Достойнейший человек доктор Лафлер…
Последнюю фразу он как бы не договаривает. Его слова — просто дань вежливости и имеют не больше значения, чем «здравствуйте» или «до свидания». Мысленно он сейчас прикидывает сумму моего дохода, подсчитывая пациентов, которых передал мне мой коллега.
— У него долгое время была самая широкая клиентура в городе. Подумайте только, сколько детей он принял за сорок лет!
Мне хочется ответить, что я не участвую в марафоне и подсчитывать мое будущее состояние нет смысла, ибо Маклин меня больше не интересует. Но он решит, что я свихнулся. Я допиваю второй стакан. Он замечает это и поднимается.
— Уже поздно, не осмеливаюсь вас больше задерживать. Я знаю, что у врачей ночи короткие.
— Я еще не ухожу. Меня мучает жажда.
Его странные синие глаза темнеют. Я становлюсь для него загадкой. Что это за врач, который позволяет себе пить в отеле, да еще такими дозами? Он снова садится, внимательно глядя на меня. Видимо, человек он добросовестный и, прежде чем окончательно счесть меня пьяницей и никудышным врачом, хочет в этом убедиться наверняка. Чтобы облегчить себе задачу, он велит принести мне другой напиток. Не знаю, как официант догадался, что стакан нужно наполнить водой. Если патрон сделал ему знак, то я этого не заметил, хотя не спускал с него глаз.
— У вас, наверно, было сегодня маленькое семейное торжество?
Он добродушно улыбается, приглашая меня ответить утвердительно, чтобы спасти свою репутацию в его глазах. Нас обоих выводит из затруднения Кури — невесть откуда взявшийся Кури, встреча с которым никак не входила в мои намерения. Вот уж кого мне меньше всего хотелось бы видеть сегодня вечером! Он пытается придать лицу естественное выражение, но скрыть свое изумление при виде меня ему не удается. Хозяин, со своей стороны, удивлен ничуть не меньше при виде Кури. Сегодня у него вечер галлюцинаций. Кури и я — посетители необыкновенные. Уж не устремился ли в его заведение весь цвет маклинского общества? С минуту он взвешивает это предположение и, вероятно, приходит к выводу, что мы просто назначили здесь встречу, так как немедленно оставляет нас одних, вежливо махнув на прощание рукой. Кури садится и молча оглядывает зал, ожидая, что я заговорю первым. Я спрашиваю, что он делает здесь в такой час. Оказывается, он привез кого-то, какого-то родственника, и, заглянув мимоходом в зал, увидел меня. Я читаю в его глазах немой вопрос. Ты ничего не узнаешь, Кури! Алкоголь делает меня решительным.
— Сколько времени длится эта история?
Он ошеломлен и медлит с ответом.
— Какая история?
— У Мадлен с молодым Этю. Не прикидывайся дурачком, Кури.
Еще один стакан, и меня стошнит. Терзая Кури, я всеми силами стараюсь сохранить ясность мысли.
— Не знаю. Я… я не в курсе.
— Он не в курсе! Ах ты, негодяй!
Взгляд Кури делается жестким, но природная боязливость берет верх.
— Как же прикажешь понимать в таком случае твое дурацкое предупреждение три дня назад?
— Я только хотел сказать, что люди начали судачить. Ее слишком часто видят у меня одну.
Отличный, полноценный гнев возвращает меня к жизни.
— Не строй из себя идиота, Кури. Я хочу знать. Я хочу знать все! Говори, иначе…
Я сжимаю кулаки. Он видит, что я пьян и сейчас от меня можно ожидать чего угодно.
— Они встречаются около двух недель.
— У тебя?
— Ну меня, и в других местах.
— Где?
— Не знаю. На улице… и, вероятно, у него.
— Он живет один?
— С матерью. Но ее часто не бывает дома.
— Ты думаешь, они…
Кури смотрит на меня с состраданием. Он понимает, что, пытаясь вытянуть из него новые подробности, я только растравляю свою рану. Но остановиться я уже не могу.
— Ты думаешь, она изменяет мне с ним?
— Откуда я могу это знать?
— Ты видел их вместе. Как они себя ведут?
Кури молчит, избегая моего взгляда.
— Они обнимаются?
— Нет. Для чего вы все это спрашиваете?
— Они обнимаются?
— Не могут же они обниматься в ресторане!
— Он брал ее за руки?
— Лучше бы вы не…
— Что она и нем нашла? Он, конечно, красавчик, может, дело в этом?
— Не знаю. Я ничего не знаю. Я вам все уже сказал.
Кури выпрямляется и сочувственно смотрит мне в глаза, слегка стыдясь собственной мягкости.
— Вы ведете себя как ребенок. Не вздумайте и ему задавать те же вопросы. Вообще не говорите об этом ни с кем. Не расспрашивайте. Над вами же будут смеяться.
Его певучий голос обволакивает меня, как компресс, остужая мою горячку.
— Скажи на милость, Кури, что значит вести себя как мужчина?
Некоторое время он раздумывает, но так и не произносит ни слова. В сущности, Кури — фаталист. Анализировать различные варианты не в его духе. Да мне и неважно, что он мог бы ответить. Мой хилый гнев мгновенно растаял от звука его голоса. Сейчас я чувствую лишь тяжесть во всем теле и желание спать. Я молча поднимаюсь и, пошатываясь, выхожу из отеля.
Кури идет за мной, стараясь не быть навязчивым, но и не выпуская меня из поля зрения: добрая душа, он хочет мне помочь, но по возможности незаметно. Мороз не отрезвляет меня.
Я вижу в зеркале заднего вида фары машины Кури, и от их движения у меня кружится голова. Она кружится и от разматывающейся впереди дороги, но руль меня слушается. Кури, мой ночной брат, ты можешь быть спокоен! Друг за другом, как налетчики, мы тихо подкатываем к ресторану. Тень сирийца маячит возле его автомобиля, пока я не вхожу в дом. У меня еще хватает сил преодолеть последнее препятствие — лестницу. Веки мои налиты горячим свинцом. Я швыряю пальто посреди гостиной и бросаюсь на розовый диван. Ничего не осталось от прожитого дня, кроме привкуса желчи во рту и смутного ощущения, что я несчастен. Вероятно, меня спасает виски — яд значительно менее разрушительный, чем бурные объяснения и душевные муки.
* * *
Я ощущаю где-то в зубах настойчивое дребезжание, мучительный, буравящий звук бормашины. Стискиваю челюсти, чтобы это прекратилось, но звук делается сильней и перемещается в глубь головы. Он сверлит мне череп, и кажется, будто кости раздвигаются: кто-то вставляет между ними зажимы, чтобы они не могли сомкнуться, и звук со свистом врывается в щели. Каждый пузырек воздуха с шумом лопается, отзываясь мучительной болью. Эта пытка наполовину пробуждает меня, но я изо всех сил цепляюсь за забытье, чтобы страдать не так остро. Звук становится еще громче, и я просыпаюсь окончательно. Я поднимаю голову и тут же роняю ее обратно. Черепные кости сдвинулись с места и посыпались друг на друга. Телефон звонит не переставая в десяти шагах от дивана, на котором я лежу: я так и уснул одетым. Никто не снимет трубку вместо меня. Я сажусь и жду, чтобы буря в мозгу утихла, но на смену ей приходят тяжелые удары молота, сопровождающие пульсацию крови. Стараясь не шевелить головой, я наконец добираюсь до аппарата. Мой голос, постаревший на десять лет, расходится в тишине кругами, но я знаю, что он еле слышен и волны его затухают во тьме у дверей пашей спальни. Вывеска Кури уже не горит, и только от снега исходит слабое свечение: оно разливается молочной лужей по подоконнику, но в комнату не проникает. На другом конце провода голос, в отличие от моего, поразительно живой, весь влажный от волнения, он гибок и способен играть на полутонах, переходя от страха к мольбе и от мольбы к сдержанности. То он пылкий, настойчивый и дрожащий, то ровный и бесстрастный. Из темной воды памяти я пытаюсь выловить вопросы, которые полагается задавать в таких случаях. С трудом выуживаю первые попавшиеся.
— Схватки давно начались?
— Двенадцать часов назад.
Деревенская семья. У них там есть время считать зимой часы. В городе меня разбудили бы раньше. В деревне всегда называют точную цифру, потому что ждут до последней минуты. К родам там относятся спокойно. Естественное явление. Оно происходит у всех на глазах по нескольку раз в год.
— Первый ребенок?
— Да.
— Ну, тогда не тревожьтесь. Это может продлиться еще несколько часов.
— Уже отошли воды. В последние два часа у нее схватки каждые пять минут.
Холодные наблюдения. В них и укор, и вызов, брошенный мне как врачу. Она хочет сказать, что меня беспокоят не напрасно: они не хуже моего знают течение родов.
— Дважды показывалась кровь.
Старуха приберегла под конец это слово, мгновенно окрасившее все в красный цвет. Ей хотелось, чтобы я еще раз повторил, что нет ничего страшного, прежде чем обрушить его на меня. Но я соображаю с трудом, и говорить мне неимоверно тяжело. Я спрашиваю адрес и обещаю приехать. Это в трех милях от города, рядом с больницей, куда они согласились бы отвезти роженицу только в состоянии агонии. Для них больница с современным оборудованием, белыми халатами и масками — это преддверие кладбища. Инструменты и стерильные тампоны внушают им страх, они предпочитают тряпки, которые на секунду окунаются в кипяченую воду, — это все, чем мы располагаем у них дома, чтобы останавливать кровотечение.
Я зажигаю свет. Тысячи игл вонзаются мне в глаза. Наконец я все-таки сажусь, стараясь совладать с дурнотой. В таком состоянии я не смогу работать. Бросаю взгляд на часы. Около двух. Обхватив ладонями лоб, я жду — жду, чтобы произошло чудо и тиски разжались. Пытаюсь сообразить, что бы такое принять. Мысли с трудом пробиваются сквозь туман. Да вот же оно, лекарство, на ковре, прямо передо мной. Чуть заметно поблескивает под лампой. Мадлен не убрала бутылку, она стоит там, где я ее оставил. Я отхлебываю несколько глотков. Виски обжигает горло, я закашливаюсь. Мой организм протестует, желудок сжимается. Я пью, закрыв глаза, как ребенок — касторку. Понемногу сосуды расширяются, кровь течет свободнее, и тиски отпускают меня. Я беру бутылку с собой в машину.
Середина дороги покрыта льдом, но ближе к обочинам снег образует бугристую корку, и шины не скользят. Обычно, когда я еду один, ночью, по заснеженным улицам, у меня бывает такое чувство, будто я попал в мертвую страну, погибшую от какой-то небывалой катастрофы. Голубоватый отсвет снега еще таит в себе угрозу смертоносного излучения. Но сегодня я поглощен лишь тем, чтобы как-нибудь выработать смазку для механизма моего мозга, освободиться от тяжести опьянения. Я веду машину на большой скорости, торопясь воспользоваться возбуждающим действием виски. Возле больницы, где в нескольких окнах еще горит электричество — единственный свет, в котором есть что-то человеческое, среди этого неживого ландшафта, — я сворачиваю на проселочную дорогу, пролегающую, словно овраг, среди высоких сугробом. Машина накреняется: два левых колеся сползают в колею, а правые идут по заваленной снегом обочине. Я останавливаюсь перед побеленным известкой деревянным крестом, названным мне в качестве ориентира. Третий дом справа. Пока что он скрыт от меня небольшим холмом. Я чуть-чуть отхлебываю из бутылки — ровно столько, сколько нужно, чтобы чувствовать себя в форме, — и еду дальше. Преодолев подъем, обнаруживаю маленький домик, с двумя узкими освещенными окошками. Я въезжаю задом на ведущую к дому заснеженную тропу и, оставив машину в нескольких метрах от дороги, иду дальше пешком. Если я здесь застряну, они ни за что не станут среди ночи выводить из конюшни лошадей, чтобы вытащить меня. Они наверняка видели, как машина поднималась на холм. Едва я подхожу к дому, как занавеска в окне падает и передо мной распахивается дверь. Комната, в которую я попадаю, служит одновременно и кухней, и столовой. Она вся загромождена столами и стульями, тут же — плита и огромный холодильник. Меня встречает мужчина и две женщины — как я понимаю, сестра и мать роженицы. Муж — очень худой, жилистый, с красными от бессонницы глазами — при моем появлении медленно поднимается и встает у стены в глубине комнаты с довольно мрачным видом. Дверь мне открыла мать. Роды — такое событие, которое позволяет ей взять все в свои руки, временно потеснив зятя. На одну ночь она вновь завладела дочерью. Что же касается сестры, то она совсем молоденькая и предпочитает держаться в сторонке. Придется иметь дело с матерью. Она сама наверняка рожала раз десять и помогала соседкам или другим своим дочкам. Имея за спиной такой опыт, она, ни слова не говоря, будет внимательно следить за каждым моим движением. Заговорит она, только когда я уйду, и ее приговор будет иметь силу закона.
На плиту уже поставили кипятить воду. Я снимаю пальто и осматриваюсь, куда бы его повесить. Никто не помогает мне. Я бросаю его на стул и натягиваю резиновые перчатки. Руки у меня влажные, и резина надевается с трудом. До сих пор никто не произнес ни слова. И тут я догадываюсь: эти люди понимают, что я пьян. От меня, наверно, разит виски за километр. Они внимательно следят за мной спокойным взглядом, который не судит, а лишь констатирует. Они даже не задумываются над тем, в состоянии ли я сейчас работать. Они ждут. Если все пройдет хорошо, они будут восхищены тем, как я замечательно справился, хотя и был под мухой. Если же нет… весь кантон будет знать об этом.
— Покажите мне, куда идти.
Негнущимся пальцем мать указывает на одну из дверей. Я открываю ее и вхожу. Обе женщины молча следуют за мной. В комнате, длинной и узкой, как пенал, пахнет потом и кровью. Тусклая лампочка освещает белое лицо роженицы, которая при виде меня на мгновение приподнимается и тут же снова падает на постель безжизненной массой. В глазах ее застыло отчаяние от долгого и безрезультатного страдания. Меня настораживает ее крайняя бледность. Пульс очень редкий. Крови больше нет. Растяжение максимальное. Я ощупываю мягкую поверхность, не имеющую четких очертаний. Руки у меня дрожат. Во время новой схватки я делаю глубокий вдох и пытаюсь понять, что же, собственно, происходит. Мой мозг не срабатывает. Головное или ножное предлежание исключено, поперечное положение плода тоже. Поверхность слишком велика, чтобы счесть это ягодицами. Под холодным взглядом женщин меня охватывает паника. Чтобы выиграть время, я роюсь в чемоданчике, осматривая каждый инструмент. Действие виски кончилось, голова раскалывается пуще прежнего. Без всякой цели я начинаю задавать вопросы, не слушая ответов.
— Когда она в последний раз ела?
— Чуть-чуть перекусила в шесть часов.
— Она пила?
— Немного.
— Когда начались схватки?
— После обеда.
— Воды?
— Через час после этого.
— Кровотечение?
— С самого начала, а потом еще раз, за полчаса до того, как я вам звонила.
Отвечает только мать, отрывисто и глухо. За это время я успеваю принять решение. Я даю пациентке немного хлороформа и делаю два коротких боковых надреза. Понятия не имею, на что я накладываю щипцы, но сейчас могу выбирать лишь между щипцами и бездействием. Пока я делал надрезы, женщины подошли ближе. Я вижу их лица, даже не поворачивая головы. Я прошу принести простыней. За ними идет девушки, мать не трогается с места. Щипцы соскальзывают. Я снова накладываю их. Они слишком малы. А других у меня нет.
Я слышу за собой ровное дыхание матери. Роженица очнулась и застонала. Я снова даю ей хлороформ. Но что это, о господи! Где головка? Щипцы должны были захватить ее! Я снимаю перчатку и проверяю. Вижу, как пот капает с моего лба на постель. Я чувствую под рукой волосы! Я больше не пьян! И кошмары мне не мерещатся! Эта головка действительно принадлежит чудовищу. Она вклинилась в малый таз, и наступила полная неподвижность плода. Внезапно меня ошеломляет догадка. Гидроцефал! Я замираю и некоторое время стою на коленях у постели. О! Теперь-то мой мозг работает, и еще как! Все ясно, все убийственно ясно. Я уже вижу свои дальнейшие действия. Их неотвратимую последовательность. И обливаюсь потом.
— Выйдите. Мне нужно остаться с ней наедине.
Взгляд их по-прежнему невозмутим. Как темная вода, на которой не видно даже кругов от брошенного камня.
— Я сказал вам, выйдите!
Девчонка отступает на шаг, но не заметно, чтобы она хоть чуть-чуть оробела. Мать, прямая как жердь, слегка вздрагивает, однако продолжает упорно стоять на месте. Мне остается разве что силой вытолкать их из комнаты. Они у себя, а я в их доме чужой.
— Давайте простыни, побольше и быстро!
Я ору. Но даже умри я сейчас у них на глазах, они смотрели бы на мои конвульсии с таким же безразличием. Мой приказ опять выполняет молоденькая. Мать словно приклеилась к полу. Я бы не удивился, если бы она вдруг вросла в него по-настоящему.
Лицо роженицы сделалось свинцовым. Волосы прилипли ко лбу. Я в последний раз даю ей хлороформ и ищу в чемоданчике иглу. Потом спохватываюсь, сообразив, что лучше избежать мощной струи. Пункция может оказаться слишком сильным шоком для матери. Девушка возвращается, неся стопку грубых простыней. Я слышу, как муж ходит по кухне из угла в угол. Он уже знает, что дело плохо. Меня трясет, сам не понимаю отчего — от виски, от переутомления или от бешенства. Мать и сестра подходят еще ближе.
— Отойдите! Я не могу работать, когда вы путаетесь у меня под ногами!
Женщины отступают. Я массирую руки, чтобы они перестали дрожать. Теперь я готов к убийству. Из едва начатого мной надреза фонтаном бьет серозная жидкость. На полу, возле кровати, образуется лужа. Мне удается, однако, продолжить надрез, и струя ослабевает. У женщин перехватывает дыхание. Они потрясены. На их глазах врач убил ребенка.
У роженицы снова начинаются схватки — происходит изгнание плода. Я заворачиваю маленькое тело в простыню, тупо глядя на вскрытую головку.
— Мальчик или девочка?
Вопрос старухи приводит меня в такое же замешательство, как если бы она спросила, какого цвета у младенца глаза.
— Не все ли вам равно, ведь он мертвый!
Она холодно повторяет:
— Мальчик или девочка?
— Мальчик.
Я держу ребенка в руках и протягиваю им; не знаю, зачем я это делаю, но меня душит непреодолимый гнев, оттого что они его не берут.
— Да возьмите же его! Он ведь не мой. Я не виноват, что он родился таким. Гидроцефал! Вы не поняли? Полная голова воды! Надо было выбирать: либо мать, либо ребенок. И что бы вы потом стали делать с уродом? Да заберите же его наконец!
Тишину нарушают лишь стоны роженицы. Обе женщины смотрят на меня, словно перед ними — исчадие ада, какого им никогда больше не доведется увидеть. Я по-прежнему держу ребенка, не понимая, почему они так себя ведут, и не нахожу в себе сил примириться с этой дикой ситуацией. Потом кладу сверток в ногах кровати. Пульс у роженицы слабый, но ритмичный. Дыхание глубокое. Двенадцать часов страданий и мертворожденный ребенок — она еще отделалась сравнительно легко, могло быть хуже.
В машине меня начинают душить слезы от ярости, от бессилия и от усталости. У меня такое чувство, будто весь день кто-то гнался за мной по пятам: давал мне сделать несколько шагов, а потом валил наземь; я поднимался, и все повторялось снова. Теперь я загнан в угол и ни единого шага сделать больше не могу. Пусть уж этот кто-то или добьет меня, или прекратит мою пытку. Понемногу я успокаиваюсь, и безразличие затягивает мне душу льдом. Я даже могу холодно оценить случившееся. Терять мне больше нечего. Все уже потеряно. Маленький гидроцефал отнял у меня последнее: способность к бунту. Мадлен может теперь растаять в дымке прошлого. Может быть счастливой без меня. То, что она отдала мне на сохранение, я не сберег, потому что мне отрубили руки. Я никогда больше не буду сжимать ее в своих объятиях.
Гирлянды разноцветных лампочек выхватывают из тьмы очертания терриконов, на верхушках которых снуют маленькие паровозики, дробя вечность на пылинки. А внизу, глубоко под землей, люди за два доллара в час роют себе могилы.
Я смотрю на часы. Пять. Я пробыл на ферме около трех часов.
В доме все безмолвно и неподвижно. Кажется, будто слышишь сонное дыхание счастья.
Я укладываюсь на розовый диван. Душа моя покрыта пылью. Я невозмутим и бесчувствен, как мертвец.
II
Опять звонит телефон. Я словно обложен ватой и двигаюсь, как борющийся с течением пловец. Глухой далекий голос доктора Лафлера доносится до меня, будто во сне. Через час у него назначена операция аппендицита, и он просит меня ассистировать. Восемь часов. Я даю согласие, соображая, что смогу поспать во второй половине дня, после приема.
Из кухни до меня долетает голос Терезы, напевающей романс, — голос, привычный, как свист чайника, как запах подгоревшего хлеба, как шум воды в клозете. Дверь нашей спальни закрыта.
— Вы отлучались из дома ночью?
Тереза. Улыбка во все лицо, перечеркивающая вчерашнее и начинающая каждый новый день с нуля. У нее не вызывает удивления ни моя измятая одежда, ни серый цвет лица, ни красные распухшие глаза, ни даже то, что я спал одетым на розовом диване. Все это означает для нее только одно: что ночью меня вызывали к больному. Во всяком случае, она это так преподносит. Она уже приготовила мне ванну, но я знаю, что вода — крутой кипяток, и задерживаюсь в кухне.
Идет дождь, небо серое, точно кровельный сланец. Ртутный столбик скачет в этих местах с поразительной быстротой. Маклин просто богом создан для атмосферных пертурбаций. Днем дороги затопляет вода, а ночью они подмерзают. Город оказывается, таким образом, отрезанным от мира раз десять-двенадцать за зиму. Дождь проделывает в снегу поры, и сугробы становятся похожими на пчелиные соты. На улице Грин машины месят грязную массу, напоминающую разваренную картошку.
Тереза подает мне фруктовый сок. Я смотрю на нее, будто больной на медсестру, и думаю, как хорошо, наверно, жить, имея такое молодое и свежее тело, без единой морщинки, без признаков увядания. Тереза ухаживает за Мадлен с большим рвением, но не забывает и меня, пытаясь незаметно подлечить и мои раны. Она не спрашивает, почему я спал в гостиной, но при этом готовит мне ванну и дарит свое хорошее настроение, словно мы с Мадлен вовсе не стоим на краю пропасти и дом вот-вот снова заживет в мире и согласии.
Я слишком устал душой и телом, чтобы вспоминать и обдумывать случившееся. Я пользуюсь состоянием заторможенности, какое бывает у человека после операции, когда действие наркоза еще не совсем прошло. То, что вскоре станет моей мукой, сейчас меня не интересует. На определенной стадии истощения нас заботит только собственный организм. Я экономлю свои движения и мысли. Мне достаточно видеть кипение жизненных сил в Терезе: сам я согласен на растительное существование. Окажись теперь передо мной Мадлен, я, вероятно, остался бы столь же глубоко равнодушен и чувствовал бы ту же физическую невозможность установить между ею и мной какие-либо отношения, кроме отношений глаза с бесцветным предметом, который он видит. Ритм жизни во мне невероятно замедлился. Я хочу сохранить покрывающий меня слой пыли, а это требует почти полной неподвижности. Горячая ванна расслабляет меня еще больше. Я становлюсь чрезвычайно снисходительным к своему телу. Оказывается, достаточно небольшого упадка сил, чтобы взглянуть на мир под иным углом, как бы издали, и он сразу представляется уютным и безобидным.
Талый снег, разлетающийся из-под колес машины, и стук дождя по капоту пробуждают во мне обманчивое ощущение остроты жизни. По дороге, ведущей к больнице, мне приходится ехать предельно медленно. Ледяная корка покрыта водой.
Закончив операцию, доктор Лафлер отводит меня в сторону.
— Я навещал сегодня утром вашу пациентку. Несладко вам пришлось!
Мне делается не по себе. Старый доктор не осуждает меня, его голос — само чистосердечие, но я не хочу, чтобы мне напоминали об этом кошмаре.
— Она чувствует себя хорошо. — Немного помолчав, он продолжает, тщательно подбирая слова: — Вам пришлось оперировать при женщинах. Это очень плохо. Что роженица могла умереть, они так и не осознали. Зато на них произвела впечатление увиденная воочию гибель ребенка… Если бы я знал, я не взвалил бы это на ваши плечи. Тут есть доля и моей вины. Я ничего не заметил во время осмотров, хотя заходил к ним раза два или три перед самыми родами.
— Вы встречались с подобными случаями раньше?
— Нет. Но в моем возрасте легче взять на себя ответственность за смерть ребенка. Мне бы это простили, или я сумел бы им объяснить. К вам они будут беспощадны. Вы в Маклине всего три месяца, к тому же приехали из большого города. Я должен был бы…
Он обрывает фразу на полуслове и умолкает. Да пусть же он, наконец, заговорит со мной о виски! Ему наверняка про это рассказали. Что же мешает ему, не выпившему, вероятно, и стакана виски за всю жизнь, напомнить мне о профессиональной этике? Известно ему, конечно, и то, что меня видели вчера в отеле. Долгий взгляд, которым встретила меня сегодня монашка из операционной, не оставляет у меня на этот счет никаких сомнений. Сегодня утром обо мне говорил весь Маклин. Моя известность растет. Гидроцефал в деревне, отель в городе… Есть на чем строить карьеру. Мадлен может не волноваться. Она тоже скоро узнает обо всем. Мы без конца удивляем друг друга в последнее время. Однако старый доктор упорно не желает менять свое мнение обо мне. Пусть тот, кто без греха… Он, пожалуй, единственный, кто мог бы бросить в меня камень. Но праведники не побивают людей каменьями. Он останавливает на мне ясный взгляд своих голубых глаз и уводит в палаты на утренний обход.
В комнате для врачей, когда мы остаемся вдвоем, он говорит:
— Я представлю этот случай на ближайшей конференции. Подготовьте, пожалуйста, небольшое сообщение, всего несколько слов. Вы окажете нам большую услугу…
Тихая комната и этот пожилой человек — такой спокойный и уверенный, но сохранивший чуткость подростка к чужому страданию, видевший за свою жизнь больше лиц, искаженных болью, чем озаренных радостью, — неожиданно приводят меня и растерянность. Я чувствую себя перед ним обманщиком, самозванцем. Из нас двоих старик не он, а я. Сейчас маска упадет, и он увидит мои морщины! А может быть, мы просто непреодолимо чужды друг другу? Меня вдруг задевает за живое его безмятежность и не знающая сомнений вера. Чем же он так надежно защищен? Это несправедливо. Мы все старимся, увядаем, а он остается девственно чист. В его жизни не было ничего, от чего ему хотелось бы отречься. Путь его всегда лежал прямо. Ни разу он не заколебался, не выбрал дорогу, которая никуда не ведет — один из этих тупиков, откуда мы потом всю жизнь не можем выбраться. Он один видит свет в конце пути.
— Вы верите в божественную справедливость?
Едва задав вопрос, я немедленно пожалел об этом.
Но я хочу знать. Если и существует какое-то слабое место в его приятии сущего, то именно здесь. Он не смеет предлагать нам как образец свое счастье, если этот главный камень шатается. Я знаю заранее, что ответ доктора не удовлетворит меня, и все-таки жду, напряженно, сосредоточенно, без снисхождения. Я хочу понять, куда пришелся удар. Доктор вскидывает голову и чуть сдвигает густые брови, словно стараясь не терять самообладания и удержаться от порыва откровенности.
— Почему вы меня об этом спрашиваете?
Голос у него хрипловатый, встревоженный.
— Потому что сам я не верю. Не верю в справедливость, наносящую удары, с тем чтобы исправить это когда-то потом и не здесь. В справедливость, которая поражает невинное существо, не успев даже узнать его.
Он трясет головой и шевелит губами, явно взволнованный.
— Я ничего не могу сказать вам на это, ничего не могу за вас решить.
Он не имеет права уклоняться от спора. Он ведь прекрасно видит, как для меня это сейчас важно. Почему же он мне не отвечает?
— Но какова наша собственная позиция? Как вы миритесь с этим?
Я повышаю голос. Я хочу ранить его. Он неопределенно улыбается.
— У постели больного я не мирюсь никогда. Я борюсь. Я борюсь точно так же и в жизни — всякий раз, когда есть возможность. И всегда проигрываю.
Безнадежно махнув рукой, он поворачивается к окну.
— Но я буду продолжать бороться до самой смерти. Моя вера не мешает мне любить людей достаточно сильно, чтобы стремиться избавить их, когда я могу, от того, что вы называете несправедливостью бога. Видите, мы оба с вами боремся против Него. И единственный путь — это честно делать свое человеческое дело.
Итак, он тоже решает все не на небесном, а на человеческом уровне. Он убедил меня лишь наполовину. Но разве человека любить легче, чем бога?
III
Магазин Артюра Прево. Огромный двухэтажный универмаг; бесконечно длинный и темный: недостаток солнечных лучей, проникающих внутрь лишь сквозь витрины узкого фасада, не слишком щедро возмещается лампами дневного света. Окраска стен, в которой темно-зеленый цвет сочетается с охряным, производит довольно странное впечатление. Кажется, будто вы находитесь в аквариуме или в оранжерее, хотя единственное, чем здесь не торгуют, — это золотые рыбки и цветы. Все остальное — от шляпных булавок до холодильников и сельскохозяйственных орудий — к услугам покупателей. Артюр Прево, заложив руки за спину, прохаживается по залу с высоко поднятой головой, как плантатор по хлопковым полям, и приглядывает за всем хозяйским глазом. Он собственноручно гасит лампы, двигаясь от фасада вглубь по мере того, как солнце поднимается выше, а потом, с наступлением сумерек, зажигает их в обратном порядке. Иногда он сам встречает клиентов у входа и ведет к прилавкам, суровым тоном отдавая распоряжения какой-нибудь молоденькой продавщице. Весь товар в магазине он знает наперечет. В отместку за то, что его служащие вступили в профсоюз, он не дает им ни секунды передышки. В дни затишья — по понедельникам, например, — они обязаны заниматься уборкой, составлять учетные сводки, наводить порядок на складах. Прево — человек действия, он не может спокойно смотреть, как другие отдыхают, и считает, что чем строже обращаешься с людьми, тем лучше они работают. Помимо этого магазина ему принадлежит еще молочный завод и лесопильня. После владельцев шахт он самый влиятельный человек в городе.
Прево принимает меня в просторном кабинете, выкрашенном в те же тона, что и торговый зал. Вместо стола — темно-коричневая конторка. Рядом кожаные стулья того же оттенка. Дорогостоящая простота, которую он перенял у владельцев шахт. Мы быстро выработали условия моего займа, весьма для меня выгодные, предусматривающие вполне посильные месячные выплаты. Мне остается лишь зайти завтра в банк, чтобы облегчить свои долговые обязательства почти вдвое.
Прево разглагольствует теперь о природных богатствах Маклина, о добыче асбеста, о заработной плате, о капиталовложениях. Для меня все это — пустой набор цифр, я слушаю краем уха. Не дал мне бог практической сметки. Я думаю о том богатстве, которое потерял, — о Мадлен.
Сегодня за обедом она была холодна как лед и обращалась только к Терезе. В ее глазах я не увидел ненависти. Только безразличие, что для меня еще более нестерпимо, ибо делает ее недосягаемой. Объяснения не было. Все так и осталось в полной неясности. Признаюсь, меня это устраивает. Пока ничего не сказано, все еще можно изменить. Так борцы, переводя дыхание, готовятся к новой схватке, которая должна все решить. А может быть, этой схватки уже и не будет, ибо мы разминулись, не столкнувшись друг с другом, и теперь мчимся в противоположных направлениях, потеряв последнюю возможность когда-нибудь встретиться. Так мы и будем удаляться друг от друга до самой смерти.
Все совсем непросто. Она сидела напротив меня, замкнутая и неприступная, и все-таки мы пока не утратили способность причинять друг другу боль. До подлинного равнодушия нам далеко — слишком живо еще все то, что нас связывает. Ее безразличие — притворное, моя бесчувственность — напускная. Трещина только наметилась, и мы ничего пока не сделали, чтобы превратить ее в настоящий раскол. Все мое естество восстает против этого. За обедом, не задумываясь больше над причинами ее поведения, не требуя никаких объяснений, я смотрел не отрываясь на ее рыжие волосы, на белую кожу, следил за движениями ее тела, которое всегда будет иметь надо мной власть. Мне даже не обязательно видеть Мадлен. Воображение, как искусный скульптор, без труда воссоздает пластику ее форм и наполняет их жизнью. Плоть страдает больше, чем мозг, ведь наш дух не может сам по себе плакать над статуей. Да и существовала ли между нами когда-нибудь духовная связь? Если и существовала, то весьма эфемерная. Мадлен никогда не была для меня настоящей подругой, той, что идет след в след за тем, кого любит; не было у нас и единства мыслей. Впрочем, что стал бы я делать с собственным двойником? Я не властвовал над ее умом. Наши отношения были в основе своей плотскими. Я любил в ней свободу ее тела — кто посмеет утверждать, что эта любовь не настоящая? Что любила во мне она — не знаю. Может быть, она не любила меня вообще. Просто играла, и сама не заметила, как игра зашла слишком далеко. Мысль эта для меня непереносима, но придется же мне когда-нибудь — сейчас я к этому еще не готов — задуматься о судьбе Мадлен, провести границу между слабостью и жестокостью, неизбежностью и предательством. Но это позже, когда мы снова будем счастливы.
После приема, когда я выходил из дому, Мадлен попросила у меня денег. Я выписал ей чек на непомерно крупную сумму. Кажется, я уже ничем не гнушаюсь, чтобы вернуть ее расположение. Но в тот момент я этого даже не сознавал. Да и не в моих возможностях соблазнить ее деньгами. И то, что я сижу сейчас в кабинете Артюра Прево, говорит об этом яснее ясного. Кстати, она даже не сказала мне спасибо.
Толстяк торговец по-прежнему упивается цифрами. И не замечает, что я его не слушаю. Он, видимо, привык, что, когда он говорит, его не перебивают даже возгласами одобрения.
За жестокостью и равнодушием Мадлен кроется что-то такое, что останавливает меня, когда мне хочется сломить ее раз и навсегда. Это та растерянность, которую я несколько раз улавливал в ее взгляде. Мадлен живет слишком торопливо. Острота ее переживаний в момент, когда она счастлива, производит впечатление не менее тревожное, чем болезнь. Я знаю, что она может без колебаний поставить на карту все. Ее нельзя ни к чему принудить — она скорее сломается, чем согнется. Моя жена способна согласиться лишь на полный выигрыш или полный проигрыш, и в этом ее главная защита. Именно возможность катастрофы и заставляет меня относиться к Мадлен как к хрупкой и прекрасной драгоценности.
— В таком городке, как Маклин, у нас не может быть частной жизни.
Я вздрагиваю. Артюр Прево, оказывается, успел переменить тему. Не знаю уж, как ему удалось перейти от добычи асбеста к моей частной жизни, но чувствую. Что запахло порохом. Роль благодетеля дает ему право читать мне мораль.
— Все, что вы совершаете — и вы, и ваша жена, — происходит на виду у всего города. А в Маклине сделать карьеру можно только при безупречной репутации. Малейший промах становится предметом сплетен и раздувается до невероятных размеров.
— Зачем вы мне все это говорите?
Если ему рассказали про отель, он не будет молчать. Человек он прямой, церемониться не привык. А может быть, он имеет в виду Мадлен.
— Затем, что я хочу, чтобы вы добились успеха. Нам нужен молодой серьезный врач. Мне было бы жаль, если бы вам пришлось уехать из-за ерунды.
Нужно постараться уйти до того, как он доведет меня до бешенства. Я встаю, он провожает меня до двери и на прощанье, тщетно пытаясь придать своему голосу благодушные интонации, говорит:
— К примеру, такие люди, как мы с вами, никогда не пьют виски в отеле.
Я холодно смотрю ему прямо в глаза. Он спокойно выдерживает мой взгляд. Возможно, он уже сожалеет о том, что решил мне помочь.
IV
Сегодня опять шел дождь. На улице Грин из-под снега проступил асфальт, а вдоль тротуаров течет черная вода, и проезжающие машины окатывают пешеходов с ног до головы. В переулках колеса вязнут в густой мучнистой грязи. Даже на полях снег приобрел тусклый, сероватый оттенок, наводящий уныние. Деревья простирают над землей свои мертвые искромсанные ветви. Стволы чернеют, как остатки пожарищ среди занесенных пылью пространств. Вершины терриконов тонут в тумане, и слышно лишь пыхтение невидимых маленьких паровозиков, словно кто-то там, наверху, раздувает мехи, низвергающие на нас эту серую муть.
Канун рождества. Размытые пятнышки света от елочных лампочек едва обозначаются в мглистых сумерках. И кажется, словно от грандиозного рождественского представления осталась лишь сломанная, ободранная декорация на покинутых актерами подмостках. Как будто праздник был вчера и оставил по себе неизбежную грусть от сознания того, что ничто не вечно. Однако по обе стороны улицы Грин движутся толпы нагруженных покупками людей с усталыми, раздраженными лицами. Сегодня они всю ночь будут бодрствовать, внушая себе, что им надлежит быть счастливыми, но сон придет к ним раньше, чем счастье. Даже дети недолго будут верить в волшебство. У подаренной лошадки завтра же отвалится нога.
Интересно, что мне теперь так легко удается взглянуть на жизнь со стороны и из участника спектакля превратиться в зрителя. Мой ум заостряется. Однако сегодня я тоже хочу играть. На заднем сиденье у меня лежат розы, а на переднем — агатовое ожерелье, купленное все у того же ювелира со стеклянными глазами. Я не возлагаю никаких надежд на эти жалкие подарки. Вероятно, мне просто хочется создать иллюзию радости. В конце концов, это первое рождество в нашей совместной жизни. И мы заслуживаем того, чтобы оно было счастливым.
Я оставляю машину возле дома. В приемной меня дожидается мальчик. Он разговаривает сдавленным голосом, уткнув подбородок в грудь. Мне приходится несколько раз переспрашивать его, и всякий раз он отвечает так же невнятно. Наконец я понимаю, что ему нужно лекарство для матери. Я провожаю его до двери и выхожу на порог подышать воздухом.
Внезапно к груди подкатывает волна удушающего жара. Они выходят от Кури вдвоем, обнявшись, и направляются к церкви. Я слышу смех Мадлен каждой клеткой своей кожи. Он пробуравливает меня насквозь. Я вижу их со спины, но этого достаточно: счастье обволакивает их, словно дымка. Мадлен кажется совсем маленькой рядом со своим спутником, она опирается на его руку, льнет к нему всем телом. Даже если бы я застал их в постели, мне вряд ли было бы больнее. Я возвращаюсь в дом, боясь, как бы кто-нибудь не заметил, что я их вижу. К глазам подступают слезы. Я рыдаю, мне хочется душить, резать, крушить. О, я и не знал, что она еще может меня убить! Я думал, что уже давно мертв. Оказывается, мертвые страдают сильнее живых. Я швыряю розы об стену, топчу их, давлю каблуками рассыпавшиеся по полу лепестки. Потом в растерянности останавливаюсь. Я чувствую, что за моей спиной кто-то стоит. Тереза.
— Доктор Лафлер вам…
— Идите к черту! Оставьте меня в покое!
— …звонил и просил…
— Оставьте меня в покое! Вы что, оглохли?
На сей раз я ору так, что она пятится из комнаты, испуганно вытаращив глаза.
Я захлопываю дверь перед самым ее носом.
Я падаю в кресло у письменного стола и безудержно заливаюсь слезами. За что? За что? Я не был с Мадлен ни груб, ни деспотичен. Любил ее, как умел. Но какое это теперь имеет значение! Я больше не хочу ничего понимать, не хочу мучить себя, не хочу ничего знать. Потом кризис проходит, и я чувствую себя обессиленным и опустошенным. Во рту у меня вкус пепла. Лепестка роз на полу вызывают тошноту. Думаю, что, даже появись сейчас здесь ласково улыбающаяся мне Мадлен, это не избавило бы меня от неодолимого отвращения. Лица, застывшие в холодной презрительной гримасе, наплывают на меня одно за другим.
Вот лицо молодого механика: он стоит, прислонясь к колонке, и глядит на меня в упор, почесывая подбородок. Когда я поворачиваюсь в его сторону, он делает вид, будто следит за цифрами на счетчике. Я прошу проверить масло. Едва передвигая ноги, он нехотя покидает свой наблюдательный пункт, с недовольным видом поднимает капот и долго ковыряется в моторе. Дальше следует проверка давления в шинах. Та же картина. Закончив, он встает прямо передо мной и нагло на меня смотрит, не называя цены, мне приходится самому спросить, сколько я должен. Я даю ему на чай. Он даже не благодарит меня; выезжая на улицу Грин, я еще нижу и зеркале его глаза, окруженные подтеками смазки.
Аптекарь, круглый маленький человечек, прежде, встречаясь со мной, всегда потирал руки и тоненьким голоском, в котором порой неожиданно прорывались низкие звуки, словно одна из голосовых связок вдруг выходила из повиновения, справлялся о моем здоровье. Сегодня утром при виде меня он чопорно поджал губы, словно монах, застигший врасплох купальщицу. Он не ответил на мое приветствие и долго занимался с двумя другими клиентами, прежде чем обратиться ко мне. Вечером он наверняка обсудит все это со своим соседом кюре.
В больнице — белые лица монахинь под черными чепцами. Холодный взгляд, прищуренные глаза. Да и как еще можно смотреть на человека, которому изменяет жена, а он пьет в отеле виски и, принимая роды, извлекает на свет гидроцефала. Я всех их поименно не знаю, зато уверен, что каждой из них доподлинно известны все мои гнусные преступления. Можно не сомневаться, что ночью они помолятся о спасении моей души.
Всюду, где бы я сегодня ни появлялся, мужчины смотрели на меня так, как смотрят на урода в семье. Маклин взял меня в кольцо и в один прекрасный день задушит в своих тисках. Мне хочется крикнуть, что жертва — я, а не Мадлен. Но мужчине не пристало оправдываться на базарной площади. Весь город на стороне Мадлен. Еще бы, ведь ее выбор пал на одного из его сыновей, да и сама она из их породы. Мадлен замечательно вписывается в пейзаж с терриконами. Она быстро успела покрыться асбестовой пылью и стала здесь своей. Зато я, ее муж, чужой среди маклинцев. Их глаза беспощадно прикидывают, выдержу ли я проверку на прочность, они словно дают мне испытательный срок. Уедет или не уедет молодой доктор? Пока я держусь. Я сделал открытие, что сопротивляться не нужно, лучше, наоборот, расслабиться, сделаться дряблым, амебообразным, — тогда меня так легко не прикончишь с одного удара. Пассивность — великая сила, этому я научился у них.
С Мадлен все иначе. Я не могу оставаться пассивным, когда слышу, как она смеется, гуляя под руку с другим, вижу изгиб ее талии, линию бедер. Невозмутимость покидает меня перед грацией этого дикого зверька, этой молодой лесной кошки, выпускающей когти при виде меня одного.
Но вот я слышу, как она хлопает входной дверью, поднимается по лестнице, — и не бросаюсь ей навстречу. Видимо, я уже неспособен на непосредственные поступки. Тереза встречает Мадлен на площадке. Она, конечно, расскажет ей о моем срыве. Но у меня нет желания немедленно бежать наверх, чтобы помешать ей. Мне все равно. Меня мутит, и я не собираюсь делать усилий, чтобы воспрепятствовать чему бы то ни было. Пусть все идет своим чередом! Мадлен, я больше не протягиваю к тебе руки. Не пытаюсь выплыть. Силы мои иссякли — Слишком тяжел был камень, который я так долго и тщетно катил к вершине, да и ты уже далеко. Идти ко дну легко! Надо только разжать руки и закрыть глаза. Теперь у меня можно все отнять — я даже не замечу. А может быть, в моем малодушии повинен не я, а пары эфира, гноящееся над городом небо и размокшая асбестовая пыль?
V
Дождь незаметно превратился в снег, густой и пушистый. Его крупные хлопья в свете уличного фонаря кажутся искусственными, бутафорскими. Тереза куда-то уходила и только что вернулась: в волосах ее сверкают сотни прозрачных кристалликов — недолговечные снежные брильянты. Получат маклинцы свою желанную декорацию! Разноцветные лампочки ярче засверкают на белом фоне, каблуки перестанут стучать по асфальту. Я слышу, как бьют колокола: низкие и высокие звуки, сливаясь, плавно несутся сквозь снегопад. Потоки белой благости заливают город, поглощают пыль, вызывают тошноту. Над терриконами не видно больше электрических гирлянд. Снег накрыл их белым шлейфом, напоминающим хвост кометы.
— Прекрасная погода будет на рождество!
У Терезы мокрые от снега ресницы. А губы такие красные, что кажется, вот-вот выступит капелька крови. Белые зубы поблескивают, как драгоценные камни. Эта девушка вызывает желание жить, создает вокруг себя атмосферу праздничности. Не знаю, зачем она пришла, — я думал, Мадлен давно ее отпустила. Но я рад ее видеть. А то я так долго смотрел на падающий снег, что меня начало мутить.
Тереза зевает, потягивается, и ее левое бедро выдвигается вперед. На ней ярко-синее платье, в котором она похожа на принарядившуюся крестьянку, но ей это идет. В бальном платье Терезу вообразить невозможно.
— Мадлен пошла к полночной мессе. Вы можете идти домой.
Часы только что пробили половину одиннадцатого, а церковь от нас в пяти минутах ходьбы, но никакого недоумения Тереза не выражает. Она, видно, ничему ужа не удивляется в этом доме, а может быть, ей просто известно больше, чем мне.
— А как же праздничный стол?
Она спрашивает так, словно уклониться от священного ритуала немыслимо. Душа ее противится тому, чтобы мы были взрослыми. Я уже привык к этому пристрастию к игре у нее и у Мадлен.
— Накройте в столовой вместо кухни. Пожалуй, этого достаточно.
Тереза улыбается. Наконец-то мальчик перестал упрямиться и отказываться от удовольствия. Как ни странно, когда Мадлен нет дома, Тереза душой на моей стороне. Я уверен, что в городе она ухитряется защищать нас обоих. Ей нравится играть благородную роль, как в кино.
Я возвращаюсь в гостиную, где радио выплевывает гимны один за другим, как машины — болты. Для полного счастья мне недостает только огня в камине и женщины в объятиях. Но надо уметь довольствоваться тем, что есть.
Сегодня вечером мы, не сговариваясь, старались выглядеть счастливыми. За ужином и потом, выйдя из-за стола, Мадлен была весела и поминутно заливалась смехом, порой даже вполне непринужденно. Может быть, она радовалась снегу или, видя мою подавленность, хотела подбодрить меня, а может быть, была и в самом деле счастлива. Я пытался следовать ее примеру, но у меня это получалось не так естественно, не так искренне. Я еще не научился лицедействовать. По сути дела, оживление за столом создавала Тереза. Она веселила нас как могла, без конца отпускала шуточки, словом, тащила нас за собой на буксире своей жизнерадостности. Интересно, жили бы мы до сих пор вместе, не будь в доме Терезы? Ей удается в одиночку сохранять видимость семейного очага.
Мне слышно, как она звенит бокалами и с глуховатым стуком расставляет на скатерти тарелки, напевая только что переданный по радио гимн. От Терезы веет надежностью и даже некоторой теплотой. Еще немного, и я почувствую себя счастливым холостяком, поджидающим любовницу. Темнота за окном искрится, словно киноэкран, где показывают крупным планом картины счастья. Только им недостает объемности. Увидеть можно, а потрогать нельзя. Нас соблазняют восковой конфеткой, и мы всякий раз клюем на это. Разумеется, я верю, что Мадлен пошла к мессе. Правда, в церкви я видел ее всего один раз — когда мы венчались. И этот раз был явно лишним… Стоп! Я поспешно делаю крутой вираж. Сегодня вечером мне лучше избегать спусков. Я предпочитаю оставаться наверху, как Тереза.
Целая ночь свободы! Телефон затих. Он вообще редко звонит с того воскресного вечера. Город не осмеливается нарушить мой покой. Маклинцы пекутся о моем здоровье. Они знают, как тяжко мне пришлось. Да и врач ли я еще? Имеет ли право поселившийся во мне новый человек на это звание? Город перестал доверять мне. Он не признает во мне больше доктора Алена Дюбуа. Я тоже. И тут мы почти единодушны. Мне не слишком нравится мое новое «я», но избавиться от него я не в состоянии. Придется мне его терпеть. Этот человек зарабатывает мало, а тратит чрезвычайно много, и ему это безразлично. Артюр Прево предоставил ему очень выгодные условия. Так что он как-нибудь выкрутится. Но разве имеет все это значение сейчас, в предвкушении безмятежной ночи, которую в любую минуту могут нарушить неожиданные события? У меня нет абсолютно никаких дел — просто не верится, чтобы мне не нашлось применения. Неужели для меня не сыщется хотя бы крохотная роль в каком-нибудь эпизоде?
Тереза зовет меня в столовую. Стол накрыт, и она ждет от меня восторгов. Сервировка не отличается ни изысканностью, ни богатством, но Тереза изощрялась как могла, чтобы создать подобие роскоши. Блюда из накладного серебра; такие же ножи и вилки; новые, еще ни разу не использованные тарелки в цветочек; две красные свечи; еловые ветки в вазе и прозрачные бокалы под хрусталь, которые, видимо, должны создавать иллюзию блеска. Тереза считает, что хорошо — это значит много. Я неуверенно выражаю восхищение. Она не дурочка и в ответ столь же неуверенно благодарит меня улыбкой.
Перед тем как проститься, я длю ей немного денег в конверте. У меня не хватает воображения на более оригинальный подарок. Она целует меня в щеку, как благовоспитанная девочка. Счастье не делает ее эгоисткой.
— Вам бы тоже следовало пойти в церковь. Дома вам будет одному скучно.
Глаза ее смеются, а губы по-детски складываются трубочкой. Я едва удерживаюсь от искушения ущипнуть ее. С этой девушкой меня тянет на вольности. Возможно, она и не против. Она и я? Это было бы забавно. Но мое новое «я» не умеет забавляться.
— Ну что вы, что вы… Я и один прекрасно проведу время.
В моем голосе слышится затаенная жалость к себе. Я все-таки сентиментален. Тереза еще раз целует меня в щеку, желает счастливого рождества и уходит, широко улыбаясь. Она забудет обо мне, как только ощутит на лице прохладу снега.
Я слоняюсь по квартире, словно желая убедиться, что я действительно совсем один, а рождество вот-вот наступит. И всюду оставляю включенным свет. Не хватает только начать переговариваться с самим собой из комнаты в комнату. В спальне Мадлен — сам я теперь ночую в гостиной на розовом диване — я откидываю стеганое покрывало и стелю постель. Иллюзия полная. Погасив верхнюю лампу, я оставляю лишь слабый свет ночника под розовым абажуром. Внезапно у меня перехватывает дыхание от запаха духов Мадлен, и я выхожу.
Тщетно пытаюсь поймать по радио что-нибудь менее унылое, чем гимны. Бросив это занятие, я ставлю пластинки Мадлен, ее языческие романсы, которые застилают жизнь розовым туманом. В некоторых говорится об измене и смерти, но мелодия столь игрива, столь беззаботна, что все эти страсти представляются вполне безобидными.
Мое новое «я» любит выпить, в особенности виски. Я щедро наливаю ему. Музыка и виски, яркий свет, летящие за окном хлопья снега, звон колоколов — все это наполняет ночь грубоватым хмельным весельем, вызывает у меня истому и умиротворение. Разгоряченная кровь струится по жилам быстро и легко. Мгновение делается наполненным, твердым, как кубик льда. Я ничего больше не хочу от жизни.
Часы бьют одиннадцать. Я наливаю второй стакан, и вдруг по ровной поверхности моего покоя пробегает рябь. Виноваты, должно быть, слова песенки: они упали в эту тихую заводь, вызвали круги и всколыхнули образы прошлого. «Солнце… полуобнаженная». Я закрываю глаза, и медленно, обрывками, всплывает воспоминание. Откуда-то возникает ощущение зноя. Тело вспоминает первым.
Хвойный лес, ели, сосны, песок. Накаленный воздух дрожит. В глазах ослепительное сверкание. И обнаженная талия Мадлен, ее нежная кожа и волнующие линии между зелеными шортами и полоской материи, облегающей грудь. Стройные и округлые ноги, на которых не заметна игра мышц. Дивная гармония движений, непрестанно меняющаяся с каждым новым изгибом тела. Белая кожа с розоватым оттенком светится на солнце, словно восхитительная драгоценность.
Была середина июля, мы жили у друзей на даче возле реки. Дни стояли жаркие, засушливые, солнце палило безжалостно. После обеда Мадлен предложила мне прогуляться в сосновую рощу, темной стеной возвышавшуюся за полем. В потоках полуденного света глаза Мадлен Горели мутноватым блеском. Пламя лизало их изнутри. Меня поразил тогда ее голос, непривычно низкий и сдавленный, взволновавший все мое существо. Тело ее, казалось, дрожало от зноя, как воздух. Она вложила сухую, пылающую ладонь в мою руку. Мы почти не разговаривали, пока шли через поле. Я ощущал ее близость как непереносимую муку. Я знал, что сейчас наша любовь обретет наконец иную пищу, нежели слова и взгляды. Мадлен была слишком прекрасна, чтобы продолжать беспрепятственно разгуливать на свободе, она будила разрушительные инстинкты. Я страдал, глядя на нее, я предчувствовал, что безудержное желание, которое она во мне вызывает, никогда не будет удовлетворено до конца. Что бы теперь с нами ни случилось, я на всю жизнь сохраню образ Мадлен — полуобнаженной, в солнечном свете. Никому в целом мире не дано изведать того, что изведал я, потому что мне достался ее первый дар, я первым познал ее, первым одержал верх над ее свободой.
Вблизи сосны были более редкими, чем рисовалось издали. Между стволами виднелись большие участки белого горячего песка, усыпанного зелеными и рыжими иглами. Волосы Мадлен на этом фоне казались огненным пятном, потоком расплавленной лани, они выглядели удивительно живыми и еще резче оттеняли щемящую белизну кожи. Мадлен прилегла на песок, и мы очертя голову, неистово, неумело дали волю своему желанию. Потом пламя тихо угасло, и мы вдруг как будто осиротели, оказались одинокими в огромном бесприютном мире, который слишком велик для нас. Затылок Мадлен покоился у меня на коленях, но я не прикасался к ней, мы оба были подавлены. В эту минуту я понимал, что сблизиться нам не удалось, что нить оборвалась и долгожданное мгновение не подарило новой жизни нашей любви. Мадлен ускользнула из моих рук, ее душа была для меня потеряна. Наверно, в образе Мадлен я хотел обнять вечность, познать сладострастие бессмертия. Но руки мои удержали только утомленную женщину, чьи мысли витали далеко от меня. Мадлен, ты рвалась прочь уже тогда, в первый же день! Мгновение было полно накала, которого ты так жаждала, но оно растаяло без следа. Оставило ли оно в тебе хотя бы воспоминание? Ты спрашивала меня, как называется крикливая птица, трещавшая у нас над головой, думала о том, чем занять конец дня, старалась любым способом отвлечься от того, что между нами произошло. Но, быть может, ты тоже страдала от внезапного возвращения на землю и отдалялась от меня, чтобы спастись от этой муки?
Мадлен долго лежала неподвижно, прижавшись ко мне, и старалась успокоиться, высматривая что-то в небесах. Потом как будто все забыла и не вспоминала до самой свадьбы. Мы целовались, но Мадлен не воспламенялась ни разу. Правда, что-то в ней переменилось с того дня, она теперь чаще бывала серьезной, и это придавало ее лицу холодное и неприступное выражение. Она уже не так пылко реагировала на то, что видела, кроме редких минут, когда ее вдруг охватывало неистовое воодушевление.
Пластинка проиграла несколько раз. Не знаю точно сколько. Яростным жестом я выключаю проигрыватель. Эта песенка все разбередила во мне. От покоя, который я с таким трудом себе создал, не осталось и следа. Душа моя взбаламучена, как пруд, со дна которого поднимаются гнилостные запахи. Я не страдаю — я тону, задыхаюсь. «Солнце»… «полуобнаженная» — от этих слов веет пошлостью дешевого романса. Пошлостью стеклянных побрякушек. Как, впрочем, и от моего воспоминания: оно даже не подогрело во мне кровь, не заставило взбунтоваться.
Колокола смолкли. Давно пробило половину первого. Снег в окне стал мелким. Наверно, поднялся ветер. Пустой дом дразнит меня ярко горящими лампами, словно множество приглашенных гостей сговорились и не пришли. Город погребен под пылью, я один выжил среди этого бессмысленного изобилия света. Расточительность нищего. Прохожие, вероятно, думают, что у меня пир горой. Я наливаю себе писки.
Взгляд мой останавливается на длинном плоском футляре, завернутом в красную с белым бумагу. Как заиграют эти агаты на белой коже Мадлен, на ее шее, по которой, быть может, пробежит легкий трепет! И вполне вероятно, что Мадлен захочет продлить иллюзию мира даже без Терезы. Ведь придется, хочешь не хочешь, съесть рождественский ужин, не вцепившись друг другу в глотку. Устроить спектакль для невидимых зрителей. Тут можно будет войти в роль, незаметно перестать играть и начать жить подлинной жизнью, той, на которую лучше не смотреть, чтобы не спугнуть ее. Ночь иногда преподносит людям сюрпризы. Быть может, для этого нужен только толчок.
Я снова шагаю из угла в угол. Зажигаю свечи в столовой и кладу футляр с ожерельем рядом с прибором Мадлен. Тут у меня появляется новая мысль. Как я и опасался, Мадлен оставила браслет в спальне. Я знаю, что это означает. Мои пальцы судорожно стискивают камни, но я быстро беру себя в руки. Я возвращаюсь в столовую и кладу браслет рядом с футляром. К счастью, ювелир не дошел до такой безвкусицы, чтобы покрыть агаты с внутренней стороны металлом: сквозь них проникает свет и ложится на белую скатерть овальными сине-зелеными пятнами. Я — беру браслет и ударяю ножом по одному из камней. Агат мгновенно падает на стол: окаменевшая слеза с радужными разводами. Я подбрасываю камешек на ладони, удивляясь его невесомости. Потом кладу его в карман. Я скажу Мадлен, что похитил капельку ее счастья. Это будет звучать очень возвышенно. Я выпиваю еще, совсем немного, ровно столько, сколько нужно, чтобы поддержать свое приятное состояние.
В гостиной всего две лампы — две одинаковые настольные лампы с розовыми льняными абажурами, выбранные Мадлен. Единственные предметы обстановки, в которые она вложила хоть немного себя. Я люблю их, мне нравится их простота, неброскость. Если Мадлен меня покинет, у меня останутся эти лампы и маленький агатик, да еще кое-какие воспоминания, из тех, что никогда не тускнеют. Странно: когда я думаю о Мадлен, мне видятся неожиданные исчезновения или уходы, но никогда не морщины и не седые волосы. Я не могу представить себе Мадлен состарившейся, вынужденной бережно тратить свои дни и свой пыл. Быть может, это оттого, что меня тревожит необыкновенная острота всех ее переживаний. Я ощущаю, почти неосознанно, ее хрупкость и уязвимость. Я гашу обе лампы и жду в полумраке, обрамленном ярким освещением других комнат. Вскоре я слышу, как перед домом останавливается машина. Приподымаю занавеску. Джим с легким поклоном распахивает перед Мадлен дверцу. Я думаю о том, с каким выражением лица он наблюдал за ней в зеркало. Джим, властитель местных тайн. Они, наверно, бултыхаются у него в душе, как слизняки. Я зажигаю свет, чтобы Мадлен не подумала, будто — я подглядывал.
Наконец она появляется и, окинув меня невидящим взором, проходит к себе. Ни одной снежинки ни в волосах, ни на пальто. Колокола звонят снова. Месса кончилась.
Мадлен вошла совсем не так, как я ожидал, и я, оторопев, гляжу ей вслед. Потом иду за ней в спальню. Она сидит на кровати, слегка ссутулившись, и смотрит в пол. Когда я вхожу, она не меняет позы. Постояв в дверях, я беру ее за руку, заставляю подняться и веду в столовую. Мне кажется, будто я веду слепую или безумную. Бледная, безучастная, она, ни слова не говоря, покорно следует за мной. Я усаживаю ее на стул.
— Ты действительно хочешь праздновать?
Голос у нее усталый, надломленный.
— За этим и ждал тебя.
Взгляд Мадлен падает на браслет. Она машинально берет его и вертит в руке. Она наверняка увидела и футляр, но не притронулась к нему. На ощупь, не глядя, Мадлен обнаруживает, что в браслете не хватает одного камня. Она внимательно осматривает агаты, бросает взгляд на меня, но ничего не говорит.
— Что ты?
— Ничего. Кажется, у меня потерялся один агат.
Я не в состоянии выговорить свою фразу насчет капельки счастья. На ее лице застыло какое-то скорбное исступление, и слова застревают у меня в горле. Откуда этот взгляд обманутого ребенка всякий раз, когда она возвращается? Может быть, кюре прав, стращая прихожан тоской плоти? Но ему-то откуда знать об этом?
Внезапно я замечаю, что мы сидим за столом, на котором нет ни крошки съестного. Я отправляюсь в кухню и открываю холодильник. Нахожу остатки холодного мяса. Ставлю на огонь кофе. Мне слышно, как Мадлен разворачивает подарок. Я нарочно задерживаюсь на кухне, чтобы дать ей время подобрать приятные для меня слова, ибо, разумеется, я вправе рассчитывать на ее восторги. Затем я несу в столовую всю обнаруженную мною снедь. Агаты мягко поблескивают на белой шее, но сама Мадлен тихо плачет, закрыв лицо руками. Я не в силах устоять против этого беспомощного страдания: оно вторгается в меня, обдает теплом, повергает в смятение и побеждает. Я наклоняюсь и целую ее в шею.
— Не надо плакать, глупенькая. Все поправимо.
Я глажу ее по волосам, и мне хочется утешить ее, как маленькую, сказать, что завтра снова будет солнышко, что жизнь продолжается и ко всему можно привыкнуть.
— Я люблю его, Ален! Я люблю его!
Этот надрывный крик пронзает мне сердце, ввинчивается в него как штопор. Мои руки застывают. Я весь костенею, и Мадлен вдруг понимает это. Она говорит, стиснув кулаками виски:
— Но я не хочу причинять тебе боль! Прости меня, прости! Ах, если бы ты знал…
Конец фразы теряется в рыданиях. И тут между нами впервые устанавливается странное взаимопонимание. Мадлен высвобождает во мне потоки жалости, которыми мне хочется омыть ее. Она как будто перекладывает на меня свое страдание, и я добровольно принимаю его на свои плечи. Я весь дрожу от волнения. Эта задыхающаяся женщина больше мне не принадлежит, я не признаю за собой никаких прав на нее. Я хочу лишь ее утешить, спасти от божественной несправедливости, как выразился доктор Лафлер. Не я повинен в ее муке, и не она мой палач. Я мысленно вижу, как она умирает, так и не побывав счастливой, умирает в отчаянии, ибо ей не дано было обладать тем, что утолило бы ее мечту, бесконечно одинокая, не насытившая своей страсти, и ее маленькое тело лежит, скорчившись в последнем спазме гордости. Какое значение будет иметь тогда ее измена? Мертвую не потребуешь назад в качестве жены. Нельзя считать безраздельно своим того, кому ты не можешь помешать умереть. У меня изначально украли ее, и не люди совершили это. Довольно я боролся с нею: удары, которые я получал, наносила мне не она. Бессмысленно впиваться ногтями в ее тело, чтобы проникнуть в душу. Нам не соединиться никогда, никогда. Пути наши параллельны, и, как бы мы ни старались, они все равно не сольются. Мадлен умрет в одиночку, и это само собою сведет на нет наши жалкие и тщетные усилия. Именно из-за этого, я уверен, она и страдает сейчас с другим. Она более одержима, чем я, и не признала себя побежденной оттого, что не достигла идеала со мной. Она продолжает поиски в новом месте. Я же отныне покидаю ристалище. Неодолимая жалость, быть может, порожденная тем, что в страдании Мадлен я узнал свою собственную боль, захлестывает меня жаркой волной. Я не знаю и не хочу ничего знать. Но мне ясно, что Мадлен обречена. Я вижу ее смерть и свою смерть, и что-то горячее шевелится у меня в груди. Только теперь мне открывается суть слов доктора Лафлера: «Вера не мешает мне любить людей достаточно сильно, чтобы стремиться избавить их от того, что вы называете божественной несправедливостью». Ах, как я это сейчас понимаю! Я не могу сделать Мадлен счастливой, но я не усугублю ее пытку. Я ей больше не муж — я ее союзник против бессмысленной жестокости жизни. Счастье, которое она успела мне подарить, вновь возвращается ко мне неоскверненным. То, что произошло в последние дни, не может его обесценить, и я благодарен судьбе за то, что не совершил ничего непоправимого. Нарыв наконец прорвался. Я стерилизовал себя, чтобы любить ее сильнее. Моя жалость — это в конечном счете, наверно, и есть любовь, которая начинается, когда перестаешь любить так, словно мы никогда не умрем. Для меня теперь все проясняется. Мне еще придется страдать из-за Мадлен, я знаю, но я уже не буду винить ее в этом и ожесточаться против нее.
Свечи коптят, и в воздухе пьются две черные струйки. Мясо и фрукты на столе кажутся восковыми. Весь дом слушает плач Мадлен. Я ищу слова, которые передали бы то, что со мной происходит, но слова коварны и своевольны.
— Да, старушка, худо тебе!
Если бы нечто подобное прозвучало со сцены, зал покатился бы со смеху. Но Мадлен все поняла по моему тону. Слезы хлынули еще пуще, и она уткнулась лицом в ладони. Какие тут могут быть слова!
После долгой паузы она с отчаянием говорит:
— Даже когда я с ним, мне все равно худо.
— Почему?
От ее слов к груди моей подступает комок. Я сражен быстротой, с которой она приняла мое отречение.
— Не знаю. Это ужасно. Я не могу оставить тебя, чтобы жить с ним. Он тоже не может ради меня все бросить. Я думаю, что он меня не любит… что он пошел на это, потому что… потому что я сама себя предлагала!
Она выдавливает из себя последнее слово и снова роняет голову на руки. Мадлен, ты убиваешь меня! Моя жалость еще слишком свежа, она не закалена против таких ударов. Я пока еще не святой. Я отодвигаюсь, чтобы переварить этот новый яд, самый горький из всех, какие Мадлен заставляла меня глотать. Однако шок не проходит. Что-то сдавливает мне горло. Не стану же я плакать, как она! Я наливаю себе виски. Приходится защищаться земными средствами. Но ничто не помогает. Я сажусь и сижу неподвижно, стиснув челюсти. «Потому что я сама себя предлагала…» О! Я не в силах так сразу переродиться! Жалость не сделала меня каменным. И Мадлен все-таки носит имя мадам Дюбуа. Я выпиваю еще. Вдруг она вскакивает и, вытерев слезы, усаживается ко мне на колени.
— Спасибо тебе за ожерелье. Оно очень красивое!
Радость какая-то неуверенная, спотыкающаяся. Обнаженные руки Мадлен жгут мне лицо.
— Съешь что-нибудь! Ты завтра не встанешь и опоздаешь в больницу.
Первый раз в жизни она проявляет заботу о том, чтобы я выспался.
— Мне расхотелось есть.
Она прижимается ко мне и целует долгим поцелуем. Давно она меня так не целовала. Она прилагает столько усилий, чтобы вытащить шип, который сама вонзила мне в сердце, что я, честное слово, растроган. Она смотрит на меня с серьезным видом.
— Знаешь, я ведь никогда по-настоящему не знала тебя.
— Я тебя тоже.
Нам остается только упасть друг другу в объятия, что мы и делаем. Где зрители этой прекрасной сцены? Весь город должен был бы присутствовать при ней!
— Прости меня. Я не могла…
Слезы. Я верю в их искренность. Я стал таким добрым, что она тоже растрогана. Жалость засосала нас обоих.
— Не надо. Не плачь. Все пройдет.
Дар речи вновь вернулся ко мне. Я опять полон сострадания. Мадлен порывисто обнимает меня. Я чувствую, что она борется с противоречием, для нее непосильным.
— Зачем мы поженились?
Она вкладывает в этот вопрос все свое отчаяние, и мне хочется воскликнуть то же самое, несмотря на свою любовь к ней и на те блаженные минуты, которые она мне дарила.
Мадлен увлекает меня в спальню и отдается мне, потому что для нее это единственный и лучший способ выразить невыразимое. Мы сыграли сцену до конца, и она предала другого. Но мне это не доставило радости. Ведь существует еще завтра… и все последующие дни… и мое безразличие к собственному счастью… и невозможность сблизить безнадежно параллельные линии наших путей.
Часть третья
I
Я останавливаюсь на красный свет возле церкви. С тротуара меня приветствует кюре. Я отвечаю ему, но он продолжает махать рукой, и я не могу понять, в чем дело. Мой удивленный вид, наверно, кажется ему неприязненным. Чтобы избежать недоразумения, я кланяюсь снова. Помахав еще немного, он смущенно переводит взгляд на автомобили, выстроившиеся позади меня. Внезапно я понимаю, и кровь бросается мне в лицо. Кюре хотел, чтобы я его подвез. Я сигналю ему и приглашаю сесть в машину.
Это грузный старик с багровым лицом и бледно-голубыми глазами; на мясистом носу фиолетовые прожилки, голова увенчана буйной седой шевелюрой. Держится он просто, даже грубовато, и с виду довольно неряшлив. Обувь его, судя по всему, никогда не знала ваксы, ногти окружены черной каемкой, сутана заляпана жиром и чернилами. По-моему, человек он кроткий, бесхитростный и добрый, несмотря на внешнюю суровость, поначалу вводящую в заблуждение.
Я приношу извинения за то, что не сразу понял его знаки. Он просит довезти его до больницы. Я еду очень медленно. Темная ледяная корка на мостовой присыпана легким снежком, и колеса идут юзом. Уже около недели, если не больше, метели метут каждый день, и мороз стоит градусов пятнадцать-двадцать. Январь был солнечный и относительно теплый, зато февраль начался жестокими ветрами и колючим снегом, который летит порой почти горизонтально. Так что шахтеры, наверно, не без удовольствия спускаются в свои подземелья, где температура не меняется ни зимой, ни летом. Асбестовой пыли больше не видно. Ветер подхватывает ее и уносит куда-то очень высоко и далеко. Снегоочиститель проезжает по улицам каждый день, но он лишь сгребает снег к тротуарам, так что проезжая часть делается все уже и уже. В переулках две машины не могут разъехаться, не увязнув в сугробе. Джим не работает совсем. Он ждет, когда кончатся заносы. Вчера утром даже отказался отвезти меня в больницу. Ему хватает летних заработков.
Я веду машину молча. Мне всегда неуютно в присутствии священников, я не знаю, о чем с ними говорить. Скажи кюре хоть слово о религии — и я за себя не ручаюсь. Он тоже молчит. В профиль он выглядит хмурым и похож на напористого крестьянина. Отвислые щеки со склеротическими сосудами оттягивают книзу кончики нижней губы, что придает ему сходство с бульдогом. Внезапно резким, хрипловатым голосом, не отличающимся богатством интонаций, кюре говорит:
— Я беседовал вчера с мадам Дюбуа.
— Да?
— Она не говорила ним?
— Нет.
Пауза. Я видел вчера Мадлен только за ужином, очень недолго, и она мне ничего не сказала — вероятно, из-за Терезы.
— Она гордячка.
— Откуда вам знать?
Неужели он думает, будто я позволю ему говорить в таком тоне о моей жене! И вообще, кто просил его спасать наши души? Меня поражает, что он, такой застенчивый в самых простых ситуациях, вдруг столь бесцеремонно вмешивается в чужую жизнь.
Однако кюре продолжает, не обращая внимания на мои слова:
— Гордячка. Ее самолюбию льстит скандал. Она упорствует, потому что ей нравится быть в центре внимания всего города.
Возможно, он так расхрабрился оттого, что ему не приходится смотреть мне в глаза. Он прав, Мадлен действительно бросает вызов всему городу. Мне, как никому, известна ее гордость. Однако мне известно и то, что у нее есть причины более серьезные и более глубокие вести себя так. Что он понимает в характере Мадлен, этот толстый старикан, который берется судить ее, хотя не может знать женщин просто в силу своего звания?
— Она отказывается выполнять свой долг, потому что мнит себя выше этого. Она считается лишь с собственными прихотями.
— Вы сказали ей все это?
— Да, но она не стала слушать. Выпроводила меня, не моргнув глазом.
Легко представляю себе, как держалась Мадлен. Голова высоко поднята, отсутствующий взгляд. «У меня через пять минут назначена встреча». Или: «Мне необходимо принять ванну перед ужином».
— Вы не можете примириться с тем, что рядом с вами живет свободный человек.
Я сказал это, не желая задеть его. Холодное наблюдение, не более.
— Никто не свободен сеять грех. Свобода состоит не в том, чтобы нарушать законы естественные и божественные.
— По-моему, свобода — это неограниченная возможность добиваться счастья.
— Я вас не понимаю.
— Счастье человеческого существа во сто крат важнее ваших законов.
Кюре обращает ко мне свое оплывшее лицо. Он уязвлен. Моя реакция для него неожиданна.
— Так можно и убийство оправдать счастьем, которое убийца в нем находит.
— Вряд ли убийство способно сделать человека счастливым. Вот вы священник и каждый день закрываете глаза умирающим. В состоянии ли вы в этот момент судить их так же безапелляционно, как мою жену?
— В этот момент моя миссия заканчивается. Эти люди предстают перед другим судией.
— Как же вы вообще беретесь судить, если даже не знаете, в чем состоит это высшее правосудие, превосходящее ваше понимание, и совпадают ли божьи каноны вашими?
— Но ведь наши законы продиктованы Господом!
— Его главнейшие заповеди говорят о любви.
— А вы помните, что Он сказал про того, через кого зло приходит в мир?
— Он пощадил блудницу.
— Я осуждаю не душу, я осуждаю греховные поступки, вводящие в искушение других. Я несу ответственность за души своих прихожан, и, когда я предстану перед Господом, мне придется отчитаться за них.
— Вы полагаете, Он возложит на вас вину за тех, кого вы не сумели спасти?
Кюре явно взволнован. Он смотрит в одну точку, и губы его подрагивают.
— Да, полагаю, — отвечает он после паузы. — Иначе в нашем звании не было бы никакого риска.
— А вам не кажется, что в такой позиции есть известная доля гордыни?
Он опять молчит, мучительно размышляя.
— Конечно, в нашем звании искушению гордыней поддаться легко. Но у постели умирающего гордым быть невозможно. Соборование всякий раз приводит меня в трепет. Каждая смерть заставляет заново все пересматривать. Я ни в чем не уверен. Гордыней было бы, если б я не сомневался в успехе.
— Но ведь это тоже гордыня — считать, что Господь именно нам вверил чужие души, что Он избрал именно вас, а не другого.
Кюре поднимает глаза, и я, даже не глядя, чувствую, что он смотрит на меня с горечью.
— Решив стать священником, я сам, по своей воле, стремился к тому, чтобы взять на себя попечение о чужих душах. Но это не значит, что я считаю себя более достойным, чем другие.
— То есть вы решили заслужить спасение, поставив его в зависимость от спасения других, — вы не усматриваете в этом высокомерия по отношению к этим другим?
— Таково наше призвание, и мы принимаем его со смирением.
— При этом ваше сострадание никогда не простирается так далеко, чтобы позволить ближнему согрешить. Забота о собственном спасении делает нас непреклонным. Она лишает вас милосердия. Не за чужие души вы дрожите, а за свою.
Я вижу все то же горестное выражение на его лице. Его смирение — подлинное. Он отвечает, понизив голос:
— Заботиться о спасении своей души — первый долг для священника, как и для каждого человека. Вы говорите о сострадании. Сострадать ближнему в том смысле, в каком вы это понимаете, означало бы погубить себя самого. Господь не требует от нас сострадания ценой вечных мук.
— А что, если первый долг человека — быть счастливым?
Здесь он не колеблется.
— Я никогда не верил и не поверю в счастье на земле. И сомневаюсь, чтобы вы сами верили в это, будучи врачом.
Я не так прямодушен, как он: я не отвечаю. Мы подъезжаем к больнице. Он выходит не сразу. Он еще не все мне сказал.
— Не знаю, понимаете ли вы меня теперь лучше, чем прежде, но мой долг — положить конец скандалу вокруг вашей жены. Я честно предупреждаю вас, что употреблю для этого все дозволенные средства, даже если мне придется вынудить вас уехать из города. Все видят неблаговидное поведение мадам Дюбуа и говорят о нем. Никто не понимает, как вы с этим миритесь. Наш разговор ничего для меня не прояснил.
— Я жалею ее, господин кюре. И, как Он, прощаю прелюбодеяние.
Он бросает на меня уничтожающий взгляд. Это уже взгляд не священника, а мужчины, возмущенного тем, что, по его мнению, есть малодушие. Кюре уходит, и я вижу, как он, ссутулившись и тряся головой, поднимается по широкой лестнице.
Я, пожалуй, даже восхищен его прямотой и бескорыстием. Но он никогда не испытывает жалости и не понимает этого в другом человеке, он тоже из их породы: суровый, непреклонный и жестокий к слабым.
II
Я продрог до костей. Ветер насквозь продувает мою старую колымагу, а тепло от печки не поднимается выше щитка приборов. Окна заиндевели и внутри, и снаружи, так что приходится то и дело протирать рукой лобовое (текло, иначе не видно дороги. Но здоровье у меня крепкое. Даже выскакивая на мороз среди ночи прямо из постели, я не простуживаюсь.
Я возвращаюсь из-за города: ездил принимать роды в деревню возле водохранилища. Надо было видеть, какие мины скорчили женщины, когда вместо доктора Лафлера увидели меня. Старик уже не в состоянии мотаться зимой по деревням. У него нарушено кровообращение, и он постоянно мерзнет. Когда же его все-таки вызывают. Он отвечает, что приедет, а сам посылает меня. Это позволяет ему в деликатной форме оказать мне помощь, причем очень ощутимую. У меня уже недели две нет другой практики, кроме таких вот случайных пациентов да хроников в больнице. Вокруг меня образовалась пустота. Команда была дана, и Маклин со всеми его окрестностями сплотился против меня. Если так пойдет и дальше, то мне нечем будет заплатить в феврале Артюру Прево. А Мадлен тратит сейчас больше, чем когда-либо. Чтобы избавить ее от унижений, я внес ее имя в свой банковский счет, и она сама выписывает чеки. Пока что я держусь. В крайнем случае я всегда могу снова сделать заем в банке, чтобы избежать катастрофы.
Когда я приезжаю, как сегодня, в дом, где ждут доктора Лафлера, на меня смотрят волком. Меня впускают, поскольку без врача им не обойтись, но, если бы, к примеру, я, уезжая, забуксовал возле их дома, они бы и пальцем не шевельнули, чтобы помочь мне, и оставили бы на всю ночь на морозе, даже не пригласив переночевать. Поэтому я решил больше не ездить на своей машине. Слишком велик риск. Буду брать машину доктора Лафлера: она новая, куплена в этом году, и резина у нее с шипами. Мне вдобавок ко всему еще и не платят. С тех пор как я езжу по таким вызовам, я еще не получил ни одного доллара. Вчера, в пятницу, я видел одного из своих ночных клиентов на базаре. Он наверняка выручил там кучу денег, но даже и не подумал заглянуть ко мне по пути домой.
Сейчас одиннадцать. Я потратил на поездку всего два часа. При такой дороге это подвиг. Снегопад кончился, но ветер неистовствует по-прежнему. По радио объявили, что ночью похолодает до минус двадцати пяти. Я ставлю машину в гараж и, пригнув голову, шагаю к дому. Кто-то окликает меня. Это Джим, он вышел из своей халупы и идет мне навстречу без пальто, засунув руки в карманы. Не спеша пересекает улицу, словно мороз ему нипочем. Поравнявшись со мной, Джим поворачивает назад, и мы идем вместе.
— Да, не жарко сегодня! Откуда это вы?
— С водохранилища.
— Ого! Неплохо вы научились водить, раз вам удалось вернуться живым. Тамошние подъемы и спуски — не подарок.
Мы с Джимом теперь приятели. Быть может, почувствовав мою инертность, он увидел во мне родственную душу. Только он один разговаривает со мной на улице, ре краснея и не опуская глаз. Ему терять нечего. Впрочем, он и не заступается за меня. Джим — наблюдатель. Он потягивается, зевает.
— Я пошел спать. Передайте ему, что я его не повезу. Собачья погода.
Джим притрагивается к фуражке в знак приветствия и вразвалку ковыляет к себе. «Он» — это Ришар. Он был у нас, когда я уходил около девяти вечера. И до сих пор еще там. Иначе Джим видел бы, как он выходит. Раз в две недели у Ришара свободная суббота.
Как только хлопает входная дверь, голоса наверху стихают. Я человек тактичный и поднимаюсь по лестнице медленно. Они сидят на диване. Она — поджав под себя ноги, заметно нервничая. Он, слишком огромный и неуклюжий для этого розового дивана, сидит на краешке в неловкой позе, смущаясь и, кажется, не вполне понимая, что происходит. Обыкновенно, когда я вхожу, он, красный как рак, сосредоточенно рассматривает свои ботинки. Взгляд Мадлен в таких случаях выражает одно и то же: «Уходи побыстрей. Он же стесняется!» Я каждый раз испытываю небольшой шок, когда вижу их вдвоем. И жалость тут не помогает. Когда Мадлен не плачет, все гораздо труднее. Иногда я усаживаюсь в свое серое кресло и принимаюсь читать газету. Просто так. Чтобы им досадить. Когда я проделал это впервые, Мадлен решила не замечать меня и попыталась продолжить прерванную беседу, но он не отвечал и упорно глядел себе на ноги. Он мог бы свалить меня на пол одной рукой. Думаю, он просто маялся, оттого что у него совесть нечиста. Я время от времени опускал газету и смотрел на него. Он молча страдал, потупив взор, прекрасно чувствуя, что я его разглядываю. В дальнейшем Мадлен стала следовать его примеру: при моем появлении она замолкала. Но уж она-то не опускала передо мною глаз, и я сдавался первым. Прихватив бутылку виски, я спускался в свой кабинет и возвращался, только когда Ришар уходил. Я устроил себе таким образом спокойную жизнь. В нашем доме есть святая святых — мой кабинет, куда не входит никто, кроме меня. Там я тихо отсиживаюсь с бутылкой или с книгой. Я закрываю двери приемной и кабинета. Сверху до меня не доносится ни звука, и я живу осторожно, вполсилы, приучаясь не думать и существовать едва ощутимо, как растение. Я вернулся к своей тактике бездействия. У меня нет глубоких радостей, но и страдаю я лишь поверхностно, хроническим страданием, с которым давно свыкся. Изредка случаются обострения.
Мадлен резко переменилась после рождества, вероятно, осмелев от моего отречения. Она перестала скрывать свою любовь от людей и начала повсюду таскать за собой ошалевшего Ришара, у которого все время такой вид, будто он ступает по раскаленным углям.
Дома с ее лица не сходит маска холодной веселости с вымученной улыбкой, в которой не участвуют глаза. Со мной она чрезвычайно предупредительна и через Терезу даже снабжает меня виски. Укрепляет мой нейтралитет. По-моему, в глубине души она меня слегка презирает за то, что я, как ей кажется, не слишком дорожил ее верностью. Но не могу же я сказать ей правду о том, что во мне произошло, объяснить, что я лишь с помощью виски поддерживаю свою жалость к ней, хотя по складу своему вовсе не пьяница. Поэтому я не говорю ничего. Я забиваюсь в свое убежище и вливаю в себя очередную дозу безразличия.
Когда я впервые увидел Ришара у себя в доме, все мое спокойствие, с таким трудом созданное, едва не рухнуло. Мадлен высоко держала голову и вела себя так, будто в нашей встрече нет ничего необычного. Она представила нас друг другу. Он протянул мне дрожащую руку, но я не пожал ее: могучая, жилистая пятерня виновато застыла в воздухе, потом медленно опустилась. Я сделал это не со зла: просто никак не желавший умирать во мне обыватель имел весьма отсталые представления о приличиях. В тот вечер я ушел пить к Кури, в его кабинет за рестораном. Чуткий человек Кури. Он поставил на конторку две бутылки, закрыл дверь и исчез на целый вечер. Вернулся он около полуночи и, не говоря ни слова, выпил со мной стаканчик. Когда я уходил, он пожал мне руку. Вот и все.
За этот период я вышел из себя еще только один раз, но виновата была не Мадлен. На прошлой неделе меня попросил зайти Артюр Прево. О! Босс был недоволен! Негодование придавало его чертам даже некоторое благородство.
— Вам надлежит понять, что положение, которое вы занимаете, ко многому обязывает!
— К чему же именно?
Я был взвинчен, и вопрос мой прозвучал вызывающе. Толстяк оборвал начатую тираду и посмотрел на меня, как бы прикидывая, не следует ли дать полную волю своему гневу, потом продолжал:
— Вы ни при каких обстоятельствах не должны быть замешаны в скандале. Компрометируя себя, вы компрометируете нас всех, и мы будем вынуждены от вас отступиться. По-моему, в ваших интересах быть с нами заодно. Черт побери! Вы ведь уже не маленький!
— Какие у вас ко мне претензии?
Он сразу заговорил вкрадчиво, словно щадя мои чувства и боясь слишком грубо коснуться больного места:
— Вы сами знаете. Ваша жена поступает недостойно по отношению к вам. Я не собираюсь судить ее, боже сохрани! Но ведь она изменяет вам открыто!
— Это можно поставить в упрек ей, но не мне.
Прево уже не знал, чем меня пронять. Он не понимал, издеваюсь я над ним или уже стал заговариваться от горя.
— Ваше поведение… э-э… кажется нам довольно странным. Мы не понимаем вашей позиции, которая… мягко говоря, спорна.
— Что вы хотите сказать?
На сей раз тон у меня был ядовитый, и он сразу уловил это. Он немедленно отбросил деликатность, сковывавшую его до сих пор.
— Настоящий мужчина не потерпит в своем доме любовника жены! Никто не хочет из-за этого с вами знаться. У вас же нет ни капли гордости!
— У меня достаточно гордости, чтобы прекратить этот разговор. Я вам не мальчик.
Тут Артюр Прево перешел на свойственный ему язык. Он меня не шантажировал, нет. Он лишь коснулся, скажем так, деловой стороны вопроса.
— Я найду способ справиться с вами! В вас принимаешь участие, помогаешь вам, предостерегаешь, а вы дерзите. Мы еще встретимся, доктор! И тогда посмотрим, не слетит ли с вас спесь.
Ему известно, что клиентура от меня отступилась. Он ждет дня платежа. Но я как-нибудь выпутаюсь и в этом месяце, и в следующем. На худой конец существует банк, а в самом крайнем случае — доктор Лафлер со своими честными заработками. Я заставлю Прево ждать столько, сколько смогу. А потом… потом будет видно. За несколько месяцев может столько всего произойти! Например, я могу решиться на отъезд. Или вдруг иссякнет моя жалость. И тогда я стану наконец настоящим мужчиной!
На сей раз, когда я вхожу, Мадлен здоровается со мной. Она знает, что я ездил за город. Я предупредил, уходя, чтобы она не волновалась, если я завязну где-нибудь на полночи. Видимо, это вызвало у нее сочувствие. Ришар молчит. Я направляюсь в столовую. На буфете — непочатая бутылка виски. Проходя обратно мимо них, я не прячу ее. Нам уже нечего больше скрывать друг от друга. Мой кабинет встречает меня полумраком морозной ночи, припорошенной лунной пудрой. Я опускаюсь в кресло и впадаю в оцепенение: постепенно внутри образуется пустота, и я делаюсь неподвижен, как окружающие меня предметы. Из прострации меня выводит снегоочиститель, который движется по улице с ревом реактивного самолета. Машина уже проехала, а воздух все еще сотрясается, и только через минуты две тишина, словно пыль, вновь опускается на землю; однако мне уже трудно восстановить в душе пустоту. На память приходит мой разговор с кюре.
«Никто не понимает, как вы с этим миритесь». И последний его взгляд, почти брезгливый. Я с самого начала знал, что меня никто не поймет, и не рассчитывал на это. Но на какой-то миг я вдруг поверил, что священник как раз понять способен. Я тоже несу ответственность за человеческую душу. Я в ответе за Мадлен, но не за ее спасение, а за ее счастье. И это тоже требует смирения. Но мне оно дается труднее, чем ему, потому что в моем случае затронута плоть. У меня бывают вспышки гордости и желания. В Мадлен ведь есть не только душа, но и тело, тело, которое я люблю, — от одной мысли о нем я каждый вечер был бы на грани помешательства, если бы не виски — верное подспорье на пути жалости, изобилующем коварными ловушками. Я бессилен освободиться от влечения к Мадлен. А когда оно овладевает мной, во мне тут же просыпается и гордость. Присутствие Ришара в доме жжет меня огнем. Будь у меня оружие, я вполне мог бы в один из таких моментов пустить его в ход. Да! Нужна немалая выдержка, чтобы не дать истощиться жалости, чтобы продолжать оберегать душу Мадлен, заботиться о ее счастье. Это требует такой же внутренней закалки, как всякая добродетель. Но старый кюре меня не понял, моей добродетели не оценил — словом, отнесся ко мне, как все прочие мужчины.
И все-таки я не отступлюсь. Я убежден, что избрал верную позицию. И пусть меня не попрекают виски! Когда я почувствую себя достаточно сильным, я брошу пить. А сейчас виски мне необходимо, потому что я всего лишь человек, и оно помогает мне избежать греха, устоять против искушения гордыней. Алкоголь делает меня мудрее, человечнее, открывает во мне шлюзы жалости. Иначе я давно оставил бы свои упражнения в святости.
Я пью каждый вечер и благодаря виски смотрю на собственную жизнь, как зритель. Все, что происходило ей дня нашей свадьбы, было странно. Я прекрасно вижу теперь, что далеко не за все веревочки дергал я. Некоторые я упустил. Часть из них подобрала Мадлен. Кто же приводил в движение остальные? Пока что я не нашел ответа на этот вопрос. Точно так же мне неизвестно и чем все кончится, потому что от моего решения ничего не зависит. Да и будь моя роль не столь ничтожна, я все равно не смог бы ничего изменить, даже если бы все время что-то предпринимал. О, я не фаталист, просто я обрел чувство реальности. Мне уже давно не двадцать семь лет. Зрелость пришла ко мне стремительно и рано, в самом начале лета. Продержусь ли я до осени, как другие, или упаду на землю раньше срока?
Зато Мадлен сохранила юность, но если ее теперешняя история кончится плохо — а я не верю в то, что она может кончиться хорошо, — то Мадлен тоже сгорит очень быстро. Даже быстрее, чем я, ибо она легче воспламеняется. Меня мучает та же тревога, что и моего приятеля кюре. Я не знаю, и мне не дано узнать, спасется ли душа, га которую я в ответе. Но я не обуздываю ее. Не заставляю бежать по узкой дороге. Я предоставляю ей свободу погубить себя. Впрочем, Мадлен обойдется и без моего позволения. Она не из покорных. В общем, я ее не поощряю, но и не мешаю ей.
По-моему, Ришар слишком молод и примитивен, чтобы любить ее по-настоящему. Он просто плывет по течению. И, конечно, не Ришар главенствует в их отношениях. Он чересчур неповоротлив. Мадлен ускользает у него сквозь пальцы как вода. Что прельстило мою жену в этом парне, созданном для того, чтобы валить деревья и быть отцом пятнадцати детей? Не знаю. Наверное, сила. И, быть может, еще эта первобытность, этот нрав добродушного дикаря, так и не вышедшего из детского состояния. Это вполне согласуется с ее любовью к кинематографу и песенкам из музыкальных автоматов.
Наверху открывается дверь. Слышится бас Ришара и шепот Мадлен. Тишина, потом скрип ступенек. Я подливаю себе виски. Я не люблю эту тишину, которая обычно предшествует их шагам по лестнице.
У меня совсем вылетело из головы поручение Джима. Я с досадой встаю. Ненавижу, когда занавес поднимается снова, после того, как я уже покинул сцену. Я держусь подчеркнуто прямо. Я стал лучше переносить алкоголь. Открываю одну дверь, потом вторую. И оказываюсь лицом к лицу с Ришаром. Он выше меня на две головы, темноволос и красив, как герой фильма на афише. Мадлен стоит на лестнице, и я узнаю растерянный взгляд, который всегда бывает у нее после расставания с Ришаром. Я чувствую легкий укол в сердце.
— Джим уже спит. Он отказался ехать в такую погоду.
Ришар не отвечает. Вероятно, ом и сим кажется себе непомерно огромным рядом со мной.
— Что же теперь делать?
Мадлен встревожена.
— Дай ему свою машину. Ведь завтра воскресенье. Тебе не нужно с утра в больницу.
Еще один легкий укол. Взыграли собственнические инстинкты. Но я подавляю их. Я отдаю ключи Ришару и возвращаюсь в кабинет. Туда надуло из прихожей. Мне слышно, как хлопает входная дверь. Через несколько секунд машина под окном дает задний ход, трижды переключается скорость, потом все стихает. Мадлен за это время успела подняться в спальню. Она уснет со своей мечтой, которая повергает ее в растерянность, мечтой, не тускнеющей даже во сне.
Завтра Мадлен опять начнет все сначала. Впервые она проявляет упорство. Она, вероятно, решилась идти до конца, раз и навсегда постичь суть вещей. Мадлен не из тех, кто сдается, не добившись своего. Она доберется до сути и заставит жизнь принять форму ее мечты на столько времени, на сколько удастся. Мадлен не боится никого и ничего. И готова на любое безрассудство.
Я хотел было рассказать ей об угрозе кюре — не затем, чтобы запугать ее, а просто, чтобы она об этом знала, ведь ему ничего не стоит одержать над нею верх. Ей с ним не сладить. Но что ей мои слова? Она не станет слушать меня точно так же, как и его. И не поступится своей гордостью из-за таких пустяков.
III
Мадлен бродит по дому с остановившимся взглядом, нервно комкая в руке платок. Даже Тереза не может вывести ее из отрешенного состояния, в котором она пребывает уже несколько дней. Она проходит мимо нас и нас не видит. Вздрагивает, если с ней заговорить. Часами без движения стоит у окна, опершись на подоконник. За столом ничего не ест. И почти совсем не спит — это она-то, спавшая всегда по десять-двенадцать часов кряду. Меня тревожит ее здоровье, но она отказывается от осмотра и не желает принимать снотворное, которое я предлагаю ей на ночь. Она хочет бороться в одиночку и отвергает всякую помощь, откуда бы она ни исходила.
Я надеялся, что сегодня она хоть немного встряхнется. Погода чудесная, один из лучших дней за всю зиму. От солнца снег кажется хрустальным, морозный воздух пахнет яблоками. Но я так и не смог уговорить Мадлен выйти из дому. Даже Джим, и тот очнулся от своей летаргии. Я видел, как он, выходя от Кури, дважды брал пассажиров.
Я тоже слоняюсь без дела. С субботы у меня были только больничные обходы и одна пустяковая операция. Ни единого пациента в приемной. Ни одного звонка. А сегодня уже четверг. Вечером мне еще кое-как удается убить время, но днем я хожу как неприкаянный. Я наблюдаю за Мадлен и мучаюсь оттого, что не могу ей помочь.
Город неплохо поработал. Он зажал нас в тиски, и мы теперь, как два зверя в клетке, сидим в своей квартире и никуда не выходим. Еще немного, и мы окажемся окончательно припертыми к стенке. Вчера я заходил в банк. Мне отказали в займе. У меня осталось около трехсот долларов, которых хватит самое большее недели на две. В качестве поручительства я мог бы представить лишь неоплаченные счета моих пациентов. Но они все у Артюра Прево. С ним мне предстоит расплачиваться на следующей неделе. Просить о помощи доктора Лафлера я не могу. Я не уверен, что сумею расквитаться с новыми долгами.
Но на Мадлен они обрушили самый жестокий удар. Они — это кюре, Артюр Прево и прочие местные заправилы. Если они и просили доктора Лафлера вмешаться, то он наверняка уклонился. Вчера кюре обручил Ришара Этю с молоденькой девушкой, которую срочно где-то откопал. Кюре — человек деятельный, времени попусту не теряет. Я узнал эту новость от Терезы. Кажется, у Ришара с этой девушкой что-то было, до того как он познакомился с Мадлен. Вдобавок она племянница Артюра Прево. Весной свадьба. Ришар — красавец, и, конечно, найдутся люди, которые скажут, что невесте повезло.
Мадлен, разумеется, тоже все известно. Она не виделась с Ришаром с субботы. В воскресенье его приятель пригнал назад машину, сам же Ришар вестей не подавал. В понедельник Мадлен позвонила, и то ли его мать, то ли какая-то их родственница грубо ее обругала. Прекрасная мечта Мадлен лопнула, как воздушный шарик, стоило только нескольким энергичным людям заняться устройством ее счастья. Не знаю даже, не радует ли это меня в глубине души. С меня как будто сняли тяжкий груз, но сделали это так неловко, что он с одного плеча перевалился на другое. Я никогда не видел Мадлен такой растерянной и подавленной. Не в ее характере смиренно склонить голову и сказать: «Да будет так!» Она станет рваться с цепи, натягивать ее изо всех сил, и одному богу известно, куда она отлетит, если цепь не выдержит. Мадлен еще пустит в ход зубы. Ее столбняк неизбежно кончится внезапным взрывом, извержением вулкана. Она слишком глубоко ранена, чтобы я мог не тревожиться.
Если эти люди полагали, что их маневр толкнет Мадлен вновь в мои объятия, то они могут прийти полюбоваться, как она кружит по дому. Я не занимаю никакого места в ее мыслях. Оттого, что у нее отняли Ришара, она не стала снова мадам Дюбуа. Возвращение блудного сына не входит в ее набор лубочных картинок. Она не плачет. Ее горе лежит за пределом слез, на такой глубине, которая до сих пор оставалась нетронутой. Все ее существо клокочет. Это может продолжаться долго, потом последует щелчок, остановка — и стремительный рывок.
Тереза спрашивает Мадлен, что она хочет на обед. Вместо ответа та лишь делает неопределенный жест. Взглянув на меня, Тереза тихо качает головой и выходит: сердце ее обливается кровью. Еще немного, и Тереза сама начнет плакать.
Я не смею ничего сказать, Мадлен не нужно моих утешений. Я смотрю, как она изводит себя, и только стараюсь не причинять ей лишних волнений и не спускать с нее глаз. Это уже не жалость, а холодный взгляд врача. Я слежу за течением инкубационного периода.
— Вечером я иду в кино.
Я и не предполагал, что в ее голосе еще живет такая сила. Она сообщила это не мне, а Терезе, которая отвечает ей с кухни, как всегда, удивительно звонко. Неужели все это может разрешиться походом в кино? Или она надеется найти на экране образ Ришара? Меня успокаивает, что она пригласила Терезу. Это сейчас единственный лекарь, который может ей помочь.
За обедом она выпила лишь стакан сока. Под ее взглядом мы тоже стараемся есть меньше, видимо, бессознательно боясь вызвать у нее тошноту. За десертом она внезапно объявляет:
— Завтра я уезжаю. Поеду проведаю маму.
Она не смотрит на нас, и это производит тяжелое впечатление, как если бы она была слепая.
— Я могу отвезти тебя. Мне все равно нечего делать.
— Нет, не надо. Может быть, пока меня не будет, пациенты вернутся.
Ее первые горькие слова, но сказаны они на удивление ровным голосом, который никак не вяжется с их смыслом.
— Клянусь тебе, мне будет только приятно тебя отвезти.
— В поезде я меньше устаю от дороги.
Я не настаиваю. Она явно не жаждет моего общества. Я считаю, что это неплохая мысль — навестить мать. В привычном окружении Мадлен быстрее оправится. Со мной она до сих пор чувствует себя не в своей тарелке.
— Долго ты там пробудешь?
— Как можно дольше.
Тот же отрешенный голос, тот же остановившийся взгляд — она похожа на сомнамбулу.
— Оставайся хоть на целый месяц, я не против. Тебе это пойдет на пользу.
Внезапно Мадлен поднимает на меня глаза, и я замечаю, как взор ее затуманивают слезы, но они тут же отступают. Это длится секунду, не больше.
— Видно будет. Может, на неделю, может, на месяц…
— Если хочешь, возьми с собой Терезу.
Тереза дарит мне взгляд, лучащийся благодарностью.
— Нет. Мне хочется побыть одной.
Тереза все равно довольна. Она понимает других, она вообще все понимает, эта девушка, которая сама никогда не страдала.
Я предложил Мадлен взять Терезу, потому что боюсь за нее. Я плохо себе представляю, что она будет делать наедине с матерью. Это болезнь, против которой ее мать бессильна даже в большей степени, чем кто-либо другой.
Мадлен встает из-за стола и идет одеваться — без радости, без воодушевления. Она отправляется в кино, потеряв в него веру.
IV
Шесть часов вечера. От меня только что ушел пациент. Старик, страдающий ревматизмом. Ему, наверно, забыли сказать… Но мне все равно. Я торжествую. У меня такое чувство, будто я вырвался из тисков, сломал их. Я отметил это событие глотком виски и теперь почти весел. Еще один пациент — и я сочту, что победил. Сегодня снова пошел снег. Из окна я вижу, как Джим, засунув руки в карманы, расхаживает взад и вперед возле своей хибары. Он мелькает под снегом огромной зловещей тенью. Уж не потянуло ли его работать? Скорее всего, он просто переваривает жирную стряпню Кури, которую ест три раза в день. Он настолько обленился, что не в состоянии даже сам отрезать себе хлеба.
Поезд Мадлен отходит через полчаса. Она сказала, что мне незачем подниматься наверх — она сама зайдет в кабинет попрощаться. Бездействие угнетает меня. Я решаю вывести машину из гаража и поставить перед домом. Джим вяло приветствует меня, махнув рукой.
— Уж не собираешься ли ты работать в снегопад?
Он смотрит на меня своими поросячьими глазками.
— Разве что для улучшения пищеварения.
— Если у тебя какие-нибудь неполадки с животом…
— Вы уже ищете клиентов на улице?
— Как и ты, Джим, как и ты… Голод не тетка.
Он лениво посмеивается, хотя ему вовсе не смешно.
— Я видел только что, как от вас вышел старик. Пациент?
— Да. Нашелся один, который не в курсе событий.
Джим проводит рукой по лицу, изображая изумление, а может, просто щека зачесалась. Я возвращаюсь в дом.
В кабинете меня уже ждет Мадлен. Проходя, я заметил на верхней площадке Терезу, всю в слезах. Она еще не знает, что из экономии мне придется расстаться с ней после отъезда Мадлен.
Моя жена бледна как полотно, глаза лихорадочно горят, губы кроваво-красные.
— Я подогнал машину к дому.
— Она не нужна. Я поеду с Джимом.
— Нет, нет! Ты ведь уезжаешь на месяц, неужели ты даже не позволишь мне отвезти тебя на вокзал?
— У тебя сегодня был пациент. Вполне вероятно, что придут и другие. Нельзя их упускать.
Мадлен говорит с таким жаром, что я не противоречу, боясь ее огорчить. В глазах у нее слезы, губы дрожат.
— Ну ладно! Поцелуй меня.
Она падает мне на грудь, и слезы льются ручьем. Я чувствую, что она изо всех сил пытается справиться с собой.
— Прости меня, Ален. Прости за все, что я тебе сделала, — говорит она глухим голосом, какого я у нее прежде не слышал. — Клянусь, я никогда не желала тебе зла.
Я успокаиваю ее, как могу. Она вся дрожит, но больше не плачет.
— Молчи! Ты прощаешься так, будто уезжаешь навсегда. Ты же вернешься! И мы начнем все сначала.
Я пытаюсь засмеяться, но смех застревает у меня в горле. Она выпрямляется, бледная, с застывшим взглядом, собрав всю свою волю, чтобы быть твердой.
— До свидания! Береги себя. Я тебе напишу…
Она уже вышла, а ее последние слова все еще звучат, словно какое-то загадочное явление природы задержало их в воздухе. Я выглядываю в окно. Мадлен уже успела договориться с Джимом; он сел в машину и на малой скорости задом подает к подъезду. Я вижу, как Мадлен в последний раз машет за стеклом рукой. Потом такси уезжает в сторону вокзала, до которого рукой подать.
У меня перед глазами стоит ее маленькое осунувшееся лицо, и сердце мое сжимается. Сможем ли мы действительно начать все сначала, когда она вернется? Я предложу ей перебраться куда-нибудь из этого города, все равно куда, лишь бы она была счастлива. Я больше не могу видеть глаза, тонущие в слезах. Не могу больше видеть страдание. Мы отдали ему свою дань. Без Мадлен здесь невозможно дышать. Маклин со своей пылью и терриконами выталкивает меня прочь, и я не сопротивляюсь.
Сквозь снегопад глухо доносится гудок поезда. Через десять минут он раздается снова, и, внимательно прислушавшись, я различаю его замирающие вдали звуки. Хоть бы Мадлен поскорее вернулась! Одиночество уже становится для меня нестерпимым.
V
Джим теребит в руках фуражку. Дверь на улицу осталась открытой, и ветер задувает на лестницу. Губы у Джима дрожат. Он сам на себя не похож.
— Что случилось, Джим?
Он стоит, опустив голову, и на меня не смотрит. Наконец раздается его голос, в котором нет и следа обычной развязности:
— Вы должны немедленно ехать.
— Куда? К больному?
Он едва заметно кивает и выходит на улицу. Я спускаюсь, натягивая на ходу пальто. В такси, сидя рядом с Джимом, я спрашиваю:
— В чем дело?
— Несчастный случай.
— Тяжелый?
— Да.
Я не могу разобраться, валяет он дурака или в самом деле ничего не знает.
— Да что случилось, в конце концов?
Губы у него снова начинают дрожать. Я никогда прежде его таким не видел. Что происходит?
— Ваша…
Я мгновенно догадываюсь. Мадлен, которую я отпустил с ним одну! Но мы же едем не к вокзалу!
— Где она?
И опять мне ответ не нужен. Мы едем к дому Ришара.
— Она ранена?
Он кривит рот и втягивает голову в плечи.
— Да говори же, болван! Она ранена?
Едва заметное движение головы. Я хватаю его за руку и кричу, еще не понимая:
— Умерла? Умерла?
Джим не отвечает. Умерла! Этого не может быть! Пятнадцать минут назад она плакала у меня на груди. Он ошибается. Мадлен не могла умереть. Я сижу, потрясенный, отказываясь верить. Но если она погибла, значит, это Ришар убил ее. Убил!
— Он убил ее, Джим? Да? Убил? Говори же!
— Нет.
— Несчастный случай?
— Нет.
— Но что же тогда? Что?
— У нее было оружие.
— Так это она сама…
Я бессильно откидываюсь на спинку сиденья. Где она достала оружие? Это все козни города! Эти люди если бьют, то наповал. Они хотели меня уничтожить. Слезы Мадлен! Я сказал, что она прощается так, будто мы расстаемся навсегда. «Береги себя». Ее последняя попытка совладать с собой. Револьвер. Полиция. Люди. Весь город, наверно, слышал этот выстрел. А Ришар?
— Она сама себя убила? Да? Сама?
— Да.
— А он? А Ришар?
— Только ранен. Кажется, нетяжело.
Она даже не сумела убить его, глупенькая, но уж зато в себя не промахнулась. Решилась ли она на самоубийство заранее или уже после того, как выстрелила в Ришара? О, конечно же, заранее. Этот ее отъезд… А может быть, она предлагала ему уехать вместе?
Мы подъезжаем. Перед домом уже собралась толпа. Я выскакиваю из машины и быстро протискиваюсь в середину, ни на кого не глядя.
Мадлен лежит на снегу: видимо, упав, она уже больше не шевелилась. Никому не пришло в голову прикрыть тело. В ее волосах, которые еще живут на искрящемся снегу, замерзла кровь. Я машинально закрываю Мадлен глаза. Веки холодные. Я выпрямляюсь, не отрывая от нее взгляда. Одна нога у нее подогнута. Я вытягиваю ее. На шее, меж отворотов пальто, поблескивает агатовое ожерелье. Я приподнимаю рукав. Браслет тоже на ней. Я ничего не заметил, когда она меня целовала.
— Принесите одеяло.
Меня удивляет твердость собственного голоса. И вдруг я вижу рядом с Мадлен, на снегу, револьвер. Он, очень большой и тяжелый. Как же она с ним справилась? Полиция еще не приехала. Джим подает мне одеяло. Зеленое. Такое, какое она бы выбрала сама.
Внезапно я замечаю в темноте вокруг себя напряженные лица. О, этот безжалостный взгляд маклинцев! Он скользит от тела ко мне и от меня к телу. Если полиция не приедет, они могут простоять так всю ночь, пяля на нас глаза в ожидании еще каких-нибудь новых событий. В толпе много женщин, попадаются и дети. В последних рядах толкаются, чтобы лучше видеть.
Я смотрю на дом Этю в нескольких шагах от меня. В окнах горит свет. Ришар жив и потому неинтересен. Этот никуда не денется! Маклинцы спешат насытиться созерцанием мертвой приезжей дамочки и ее рогоносца-мужа.
Пронзительный вой сирены наполняет улицу. Он постепенно нарастает, и сердце мое начинает учащенно биться, словно это я преступник, я убил Мадлен. Машина подкатывает, и круг расступается. Полицейских двое. Один тут же начинает искать в толпе свидетелей. Другой, встав на колени, очерчивает на снегу положение тела и оружия. Оба действуют методично, хладнокровно.
Свидетель всего один — Джим. Полицейские разгоняют зевак, потом первый отправляется допрашивать семейство Этю, а второй остается охранять тело. Джим рассказывает, как все произошло.
Мадлен попросила отвезти ее к дому Этю, но не прямым путем, а через вокзал, чтобы я ничего не заподозрил. Подъехав к дому, она сунула Джиму пятидолларовую бумажку и отказалась ждать сдачу. Чемодан оставила в машине, сказав Джиму, что вызовет его позже. Это возбудило его любопытство, и, немного отъехав, он развернулся и возвратился обратно с погашенными фарами. Тут как раз показался Ришар. У них, видимо, был условный сигнал. Как только Ришар вступил в полосу света, падавшего от окна, она выстрелила. Ришар упал. И почти сразу же Джим услышал второй выстрел. Мадлен стояла в темноте, и он ее не заметил. Через несколько секунд она была мертва. А Ришар живет! Джим, самый давний свидетель нашей драмы, не пропустил и заключительной ее сцены. Я слушаю отрешенно, словно речь идет не о Мадлен, а о ком-то постороннем. Стоит мне отвернуться, не смотреть на кончики туфель, торчащих из-под одеяла, и я перестаю верить в случившееся. Появляется второй полицейский. Они о чем-то совещаются в сторонке. Потом вдвоем поднимают тело Мадлен и укладывают в фургон. Дверца захлопывается, и этот сухой, короткий щелчок потрясает меня своей будничностью.
Что-то вдруг обрывается во мне, и образуется пустота, которую заполняет образ покойной. Она видится мне такой, как в последний раз перед расставанием: глаза затоплены слезами, в лице ни единой кровинки. Она вскидывает голову, чтобы шагнуть навстречу судьбе, черпая силы в последнем приливе гордости. Этот образ будет жить во мне, даже когда все остальные померкнут. Маска пронзительной боли. А может быть, именно тогда Мадлен и была без маски? Я все ей простил. Даже плоть моя впервые забыла причиненное ей страдание. Волна жалости растворилась в любви, которая никогда не иссякала во мне. И именно в этот момент Мадлен убила себя. Подарила себе вечную свободу. Я уверен, что, когда она стреляла, глаза ее озаряла проклятая детская гордость. Мадлен умерла неукрощенной, не думая о том, что люди умирают один раз и навечно и она уже не сможет вернуться ко мне. Не для того ли она надела браслет и ожерелье, чтобы возвестить мне свой последний выбор? Не знаю, но она наверняка это сделала не случайно. Возможно, таким способом она хотела сказать мне нечто, что при жизни сказать не сумела бы, потому что ей неведомо было смирение.
Джим подталкивает меня под локоть, чтобы я шел к такси. Из окна я еще раз бросаю взгляд на то место, где она лежала, и внутри у меня все рвется. В эту гигантскую рану я могу вобрать Мадлен целиком. Каждый мой нерв обнажен. Я плачу.
Джим шумно шмыгает носом. То ли из участия, то ли потому, что у него насморк. Мне никогда этого не узнать. Я и не предполагал, что Джим может быть таким деликатным. Он все-таки сохранил где-то в глубине души некоторое благородство, и в чрезвычайных обстоятельствах оно внезапно проявляется. Я должен был бы пожалеть и Джима тоже.
Дома Тереза уже все знает. Вероятно, об этом сообщили по радио в программе новостей. Покой мирного февральского вечера нарушен сенсационным событием! Маклинцам будет сегодня чем поживиться. При виде меня Тереза, и без того заплаканная, разражается рыданиями. Я оставляю ее на кухне, иду в гостиную и сажусь в серое кресло, где некогда залечивал раны, которые наносила мне Мадлен. Напротив стоит розовый диван; отсюда путь Мадлен начал раздваиваться, и здесь же был разыгран второй акт, еще оставлявший надежду, что герои в конце концов будут счастливы.
Страдание от смерти Мадлен проникает в меня медленнее, чем некогда горечь от ее измены. Неужели мне действительно удалось закрыться от всего, спрятаться с головой под панцирь? Нет, просто смерть — слишком ошеломляющее событие. Оно обрушивается на нас с такой силой, что боль приходит лишь позднее, намного позднее. Смерть надо осознать. Изо дня в день я буду видеть, что Мадлен не возвращается. Дом еще весь полон ею. Невозможно поверить, что ее везут, мертвую, в полицейском фургоне, когда розовый диван хранит отпечаток ее тела, по ковру в спальне рассыпана пудра и все комнаты пахнут Мадлен. Мой взгляд останавливается перед окном. На полу белеет маленький скомканный платок, который она целый день мяла в руке, словно Мадлен растаяла в воздухе, и платочек чудом уцелел. Как будто колдун, заставивший ее исчезнуть, забыл уничтожить и эту крохотную улику. Я поднимаю платок. Он пропитан ее духами, чуть-чуть сладковатыми. Обыкновенный лоскут материи, который не может вернуть мне даже самую малую частицу Мадлен.
— Как она могла на это решиться?
Тереза, опухшая от слез, стоит, прислонясь к косяку кухонной двери, и обращается не столько ко мне, сколько к себе самой, не в силах осмыслить абсурд случившегося. Впрочем, я и не смог бы дать ей ответ. Никто не знает, как человек решается на такой шаг. Они, вероятно, сделают мне подарок, написав в своем заключении, что Мадлен была «невменяемой», «не несла ответственности…» и так далее, дабы не бросить тень на репутацию элиты, к которой я имею честь принадлежать. Ответственности Мадлен действительно не несла. У нее не оставалось иного выбора, кроме как совершить то, что она совершила. Она была несвободна, так же, как был несвободен и я в решающую минуту заступить на ее место, выйти вместо нее на сцену и принять на себя предназначенный ей удар. Чего же стоит такая жалость?
— А мы-то ничего не заметили… ни о чем не догадались!
Тереза впервые в жизни столкнулась с чем-то ей непонятным. Она широко раскрывает глаза во мраке и удивляется, что ничего не видит. Но я тоже потрясен, ибо я не сумел предусмотреть поступка Мадлен, не сумел разгадать выражение ее лица, ничего не понял. С моей стороны это была какая-то чудовищная оплошность — все равно, что уронить спичку на пол, где пролит бензин. Я не выпускал Мадлен из поля зрения до той самой минуты, когда она нажала на курок. Я закрыл глаза в тот единственный миг, когда нельзя было их закрывать. Словно целый день я спасал ее от смерти, а вечером сам нечаянно столкнул в колодец.
— Вчера мы ходили в кино, и она сказала мне, что с этим покончено, что она поедет к матери и начнет все сначала… когда вернется.
На середине фразы Тереза вдруг спохватилась, что вмешивается не в свое дело, и последние слова пролепетала еле слышно. Знала бы она, насколько смерть Мадлен сделала для меня нечувствительными уколы самолюбия. Чтобы осмыслить все до конца, надо как-нибудь расспросить ее о том, что Мадлен поверяла ей и чего никогда не говорила мне. Но торопиться некуда. У меня впереди вся моя жизнь, чтобы пытаться понять, почему Мадлен не захотела прожить свою. В сущности, все, быть может, очень просто. Думаю, Мадлен не верила по-настоящему, что револьвер может выстрелить. Только увидев, как упал Ришар, она вдруг поняла, что играет во взрослую. И, обезумев, вместо того чтобы остановиться, продолжила игру и проделала то, что делают в таких случаях взрослые, — совершила непоправимое. Я не узнаю этого никогда, никогда.
Тереза рыдает от отчаяния и непонимания. Мне хочется сказать ей, что понимать тут нечего, ибо смерть таит в себе не больше смысла, чем, например, булыжник, и что лучше жить не задумываясь. Но за Терезу я спокоен, она оправится. Возможно, у нее навсегда останется в душе маленькая трещинка и будет ныть иногда в дождливые дни, но в ее жилах течет слишком живая кровь, которая очень скоро снова заставит ее взбодриться и не отворачиваться от радостей жизни. Раз или два Мадлен привидится ей в кино, она всплакнет, потом вернется к своим повседневным заботам. Это и есть то, что называется здоровьем.
Я хотел было отослать Терезу домой, но она отказывается. Решила ночевать у меня. Кто знает, что может случиться… Жители Маклина ждут. Они не удивятся, если завтра окажется, что занавес поднялся снова, так как один из актеров забыл произнести реплику… или даже сыграть целую сцену.
Но у меня нет больше сил. Выпив виски, я засыпаю тяжелым беспокойным сном. Мой карточный дворец лежит в пыли. Его разрушила огромная безжалостная рука. Я жду, чтобы пыль улеглась, но она все клубится. Покой не наступает. Мне остается только спать, и я сплю, мучительно вглядываясь в багровую звезду на рыжих волосах.
VI
Буря постепенно утихла. Город может снова заняться своими делами. Полиция была корректна. Ришар был корректен. Официальная экспертиза под руководством доктора Лорана не обнаружила ничего такого, чего мы бы не знали. Холодным топом, без всякого выражения в похожих на дупла глазах, доктор Лоран сообщил мне, что Мадлен умерла сразу, что она не страдала. Однако что же, если не страдание, привело ее к гибели? Но доктор Лоран не обязан в это вникать.
Револьвер, как оказалось, принадлежал Кури. Нервно вздрагивая, будто его собирались обвинить в соучастии, он сообщил: месяц назад показал Мадлен револьвер в ящике под кассой. Как и когда она нм завладела, Кури не знает. Следствие удовлетворено. Дело сдано в архив.
Водоворот в городе успокоился, но во мне он по-прежнему бурлит. Я стараюсь с ним свыкнуться.
Тереза покинула меня. Ей у меня больше нечего делать. Она была частью мира Мадлен, но не моего. Я остался один в доме, который по-прежнему мне враждебен. Он извергнул из себя Мадлен. Но я пока держусь. Впрочем, время работает на него. Не будет меня — здесь поселится другая семья. Вещи живут дольше, чем люди, — наверно, оттого, что вещи не страдают.
Меня никто не тревожит. Им нужно освоиться с мыслью, что я не умер. В один прекрасный день они обнаружат, что я торчу здесь, как заноза.
Сегодня вечером я сяду в поезд и повезу покойницу к матери. Я могу вернуть ей только тело. Душа Мадлен осталась жить во мне, и я по-прежнему несу за нее ответственность. Не знаю, когда я сюда вернусь и вернусь ли вообще. Я должен сначала залечить свою рану, приручить душу Мадлен, отвести ей надлежащее место.
Я увижу маму, ее спокойное лицо. Она встретит меня молча. Она первая сдалась перед неистовой натурой Мадлен. Вероятно, с того самого дня она и ждет меня. Матери очень чутки и очень терпеливы. Я никогда не узнаю, что она обо всем этом думает. Она будет спокойно смотреть, как я живу подле нее, и не произнесет ни слова, заботясь лишь о том, чтобы я был сыт и здоров. Она поймет, что Мадлен, которая заставила ее отступить, все еще владеет мною, и отступит снова.
В отношении своей тещи я далеко не так спокоен. Необузданность Мадлен бушует и в ее матери, но на иной лад, превращая ее в фурию. Моя мать может хоть издали наблюдать, как живет ее сын. А мать Мадлен получит лишь мертвое тело да обломки своей мечты о том, как она выдаст дочь за врача. Я сочувствую ей, но у меня никогда не хватит мужества ей это высказать. Как не хватит мужества и снести ее ненависть и озлобление за то, что у нее отняли дочь. Скорее всего, я вообще не пойду к ней.
Я допиваю последний стакан виски. Медленно глотаю горечь. Виски помогло мне ценой потери воли не разлюбить Мадлен. Больше я в нем не нуждаюсь. Ниже пасть невозможно.
VII
За окном внезапно наступила ночь. Сначала она зашевелилась на горизонте, потом снизу, исподволь, принялась лизать одну сторону неба — как пламя, которое набирает силу, хотя кажется, будто оно отступает, — и вдруг разом заполонила все, не принеся с собою прохлады. Прорезающие темноту огни горят тускло, словно изнуренные влажностью.
Я не зажигаю лампы, и красноватое свечение неоновых вывесок делает мои окна похожими на витражи. Оглушительный рев мотоциклов раздирает слух. Не проходит вечера, чтобы они не тарахтели. Впечатление такое, будто все молодые шахтеры решили специально этим летом обзавестись мотоциклами, чтобы съезжаться после ужина под мои окна. Ничего не поделаешь, они завсегдатаи ресторана. Ленивый, невозмутимый Кури не обращает на них внимания. У него можно часами сидеть перед одной чашечкой кофе — он и бровью не поведет. Меня вполне устраивало бы соседство с Кури и его заведением, если бы не мотоциклы. Едва нервы успокоятся от минутной тишины, как вдруг эти дьявольские машины взревут снова, и в мозг словно вонзается игла. Длится это обычно чуть ли не до полуночи.
Мне хочется погрузиться в оцепенение, и темнота помогает мне в этом. Мебель вокруг меня ощетинилась острыми углами, которых я прежде не замечал. Ночное освещение создает причудливые тени и удваивает глубину комнат, будто пытается сбить меня с толку, подменить декорацию, тщательно замаскировать все, что было раньше, чтобы я поверил, будто прошлого не существовало вовсе. Я кажусь себе театральным зрителем, чьи губы еще шепчут последнее произнесенное актером слово, когда весь зал уже перестал рукоплескать. Я оказался на сцене один — тот самый единственный, оставшийся в живых персонаж, о чьей дальнейшей судьбе никто никогда не задумывается. Но вещи забыть не могли. И, однако, если я вздумаю разбить лампу на маленьком столике в гостиной, растоптать ногами розовый абажур, никто не остановит меня криком ужаса, никто не напомнит мне, что это Мадлен его выбрала и любила его. Мадлен? Имя уже не сразу вызывает в памяти взгляд, фигуру, реальное живое существо. Где-то есть фотография. Застывшее, скованное лицо. А Мадлен была само движение.
Быть может, достаточно зажечь свет, и все действующие лица окажутся на своих местах. Я, сидящий все в том же сером кресле в ожидании телефонного звонка, который освободил бы меня, позволив уйти за кулисы. Мадлен, полулежащая на розовом диване в противоположном конце комнаты: она листает журнал, не глядя в него, и все время беспокойно меняет позу — то поджимает, то вытягивает ноги или внезапно садится и смотрит на меня из-под опущенных иск, делая вид, будто глядит мимо. Если Ришар здесь, он тоже сидит на розовом диване, очень прямой, напряженный. Мадлен суетится вокруг него. Он прикрывает глаза, чтобы не отвечать на мой испытующий взгляд. Пустые руки Мадлен сжимаются от бессилия. Ее тоже освободит телефонный звонок.
Ришар. Тот самый, кто так жестоко мучил меня, кого я ненавидел и в то же время почти любил, ибо не в его силах было пощадить меня. Он разрушил мою жизнь, этот парень с голубыми глазами, то растерянно блуждающими, то пристальными и жесткими, с черными волосами, вечно падающими на лоб, широченными плечами, которые свободно распрямляются лишь под открытым небом, со своей детской наивностью, кротостью и бесхитростностью, со своей могучей силой и неспособностью понять, отчего ему так неуютно в моем доме. Мне жаль и его тоже. Он живет, и в этом его пытка. Сознание, что он тоже уязвим, тайное удовольствие от того, что он несчастлив, несмотря на свое счастье, и все эти прошедшие дни, неумолимо сменявшие друг друга, хотя, казалось, жизнь не может не остановиться, привели меня к некоей покорности, которая не есть приятие своей судьбы, а, пожалуй, просто единственно возможная форма душевного равновесия. Время сделало меня мудрее.
Я вновь и вновь воскрешаю среди непереносимой пустоты гостиной эти тени, ибо чувствую, что у меня вырвали из рук разгадку. Я держал в руках ниточки судьбы Мадлен, но понял это слишком поздно, когда они уже порвались. Глухое страдание, которое точит меня, порождено мгновением, когда я должен был что-то предпринять, но ничего не предпринял. Однако прошло уже три месяца с тех пор, как занавес упал, и здесь давно уже дают другой спектакль.
Сегодня я возобновил консультации. На прием пришли две женщины. Доктор Лафлер, Артюр Прево и Кури тоже нанесли мне визит. С их помощью я смог увязать минувшее и настоящее.
Я дал в газете объявление, что с сегодняшнего дня снова начинаю практиковать. Но после полудня мужество оставило меня. Мне вдруг мучительно не захотелось возвращаться к прошлому, опять выставлять себя им на позорище, но едва раздался звонок, как я непроизвольно поднялся. Рефлексы все еще срабатывают.
Женщины, которым нужно было только одно — поглазеть на мое горе, явились с каменными лицами, даже не пытаясь изобразить сострадание.
— Ах! Все это очень печально, доктор. Но она наказана по заслугам!
Я вскипел. Наказана! Она! Да вся ее жизнь была сплошным терзанием. Чтобы взять себя в руки, я принялся перекладывать на столе бумаги. Потом спросил:
— Наказана, мадам? За что?
Она разинула рот, не смея сказать мне в глаза то, что говорит за моей спиной весь город. Я вывел ее из замешательства, назвав цену консультации, — цену беседы о ее муже и детях. Обе женщины разглядывали меня с хорошо знакомым мне выражением лица: так все они обычно смотрят на человека, который скоро умрет.
Доктор Лафлер приветствовал меня сердечной, чуть усталой улыбкой. Не знаю, было ли ему известно о моих семейных сложностях, но он никогда не касался этой темы. Сегодня он не мог избежать необходимости выразить мне соболезнование, и я весь сжался. Он спокойно взглянул на меня своими молочно-голубыми глазами.
— Ну, как прошел прием?
Он не осмелился добавить: «Не слишком мучительно?» Глядя в его безмятежное лицо, я был не в силах признаться, что мне пришлось медленно, по капле, глотать яд их жестокости. Я навсегда останусь здесь «человеком, чья жена…».
— Пришли всего две женщины.
— Вы очень мне нужны. Мои ноги не выдерживают этой жары. В лучшем случае я могу работать по нескольку часов в день, и то с утра. Значит, только больница и прием дома. Я уже неделю не езжу по вызовам.
Он улыбнулся, как-то странно наморщив лоб.
— Я начинаю чувствовать свое сердце. Не гожусь я больше на то, чтобы помогать увеличивать население Маклина.
Он не дал мне времени запротестовать.
— Сегодня ночью или завтра должна рожать Мари Теру. Не можете ли вы взять это на себя?
Мари Теру. Она рожает каждый год и всякий раз чудом остается жива. Розовая кровь течет и течет. Доктор Лафлер принимал роды еще у ее матери: у той кровь тоже свертывалась плохо, причем в те времена переливания были редкостью. Ему случалось сидеть возле нее целую ночь, вводя соляной раствор, кое-как восполнявший потерю жиденькой светлой крови.
Я согласился. Старый доктор умолк на минуту, потом глухо сказал:
— Вам придется здесь нелегко.
Никто в городе не ожидал, что я вернусь. Слова доктора Лафлера создали между нами атмосферу, опасно располагающую к откровенности, атмосферу тепленько-сладкую, — когда было бы так легко призвать доктора в свидетели и поведать ему все разом. «Я ведь не железный, доктор. Эти несколько месяцев совершенно опустошили меня. Вся моя душевная энергия ушла на бесплодные попытки осмыслить происходящее и смириться, позволить отнять у себя все, чтобы другой человек был счастлив. И я потерпел поражение. Все оказалось впустую, все зря. Город понял из этого лишь то, что хотел понять, но сегодня вечером я почти готов признать его правоту». Что ответил бы мне этот добросердечный человек? Он мог бы только попытаться понять, так же, как и я.
— Посмотрим. Я положил себе испытательный срок.
Старый врач наклонился вперед, словно решившись однажды высказаться до конца.
— Я никогда не давал вам советов. В моем возрасте это слишком легко и… бесполезно. Но сегодня мне все-таки хочется это сделать. Я знаю жителей нашего города уже больше сорока лет. Они беспощадны и к себе, и к другим. Для них вы единственный виновник. Вы единственный, кто не пострадал…
— Не пострадал?
Этот крик вырвался у меня невольно. Я с трудом удержался, чтобы не расплакаться от неожиданной обиды.
— По их мнению, вы не пострадали. Они считают, что вы сами виноваты в своем несчастье.
— А вы как считаете, доктор?
Мне вдруг стало жалко себя. В конце концов пусть он ответит, ведь мне так важно знать! Взгляд доктора омрачился. С моей стороны это было некоторым насилием над его застенчивостью.
— Как считаю я? — медленно проговорил он. — Я никогда вас не судил. Мне не так много известно о вас — только ваша работа, ну, и еще то, что известно всем… Я долго пытался вас понять. Мой вам совет — уезжайте. Вы молоды. Вы можете в другом месте начать все сначала. А здесь уже поздно.
— Но они осудили меня, даже не выслушав, ничего не зная!
Мой ответ вызвал у него чуть заметную улыбку.
— Не выслушав! Я еще не знаю ни одного случая, чтобы город выслушивал того, кого осуждает. И даже если бы вас выслушали, это ничего бы не изменило. Они боятся громких слов, а простых вы не нашли бы в свое оправдание. Вас обвиняют в малодушии. Вам никогда не простят этого, и всей вашей жизни не хватит, чтобы снять с себя обвинение.
Я внутренне содрогнулся. Мне читали обвинительную речь после приговора. Малодушие! Я проглотил это слово, как лекарство, закрыв в страхе глаза, чувствуя себя больным какой-то непонятной болезнью, не имеющей определенного очага. Какое дряблое, вязкое слово!
— Я могу помочь вам устроиться в другом городе.
Я поднял голову. В дверях с тусклым, ничего не выражающим взглядом стоял Кури. Он вошел, не позвонив, Кури вообще в двери не входит, а проскальзывает. Он, видимо, слышал последние слова доктора. Я пристально посмотрел на него. Лицо его ничего не выражало. Он спокойно сказал:
— Я зайду попозже. Извините.
Но доктор Лафлер уже встал и начал прощаться. Взгляд его выдавал усталость. Он протянул мне руку.
— Я загляну к вам завтра. Надеюсь, Мари Теру не родит до утра. Известите меня, если у вас будут затруднения.
И, ссутулившись, склонив голову набок, он вышел.
— Ну, Кури! На что жалуешься?
Кури все еще стоял в дверях, худой, черный, загадочный. Он скользнул к креслу, из которого только что поднялся доктор Лафлер, и неторопливо сел.
— Ни на что. Я просто пришел повидать вас.
Торопить Кури бессмысленно. Сцепив пальцы, он смотрел прямо перед собой; волосы его были взъерошены, лицо неподвижно. У Кури всегда будет нечиста совесть из-за револьвера.
— Вам не следовало бы сидеть в четырех стенах.
— Куда же, по-твоему, я должен отправиться?
— Не знаю. Может быть, в путешествие.
— Я только что три месяца отдыхал.
— Ну…
Еще одна долгая пауза. Он запустил руку в волосы.
— Вы бы доставили большое удовольствие мадам Кури, если бы приехали на несколько дней погостить к нам на озеро.
Озеро — это персональный земной рай Кури, в нескольких милях к югу от Маклина. Он сам проложил туда дорогу через лес для себя и своей семьи, выстроил там огромный дом в том же стиле, что и его ресторан, и похоронил прекрасный пляж под бетонной эспланадой. Кури живет там пять месяцев в году с женой и малышом, не принимая за все время никого, кроме одного-двух гостей. Кури — мой ангел хранитель.
— Спасибо, Кури, но я снова начал работать. Я действительно не могу сейчас все бросить.
— Вы могли бы приезжать по вечерам. В такую жару у нас лучше спится.
— А как же ночные вызовы?
— Есть и другие врачи.
Оказывается, я не единственный врач в Маклине — это была для меня большая новость. Кури снова погрузился в молчание. Потом лениво полез в задний карман и вытащил оттуда бутылку виски. Одна из его странностей. Где бы вы ни были, когда вы меньше всего этого ожидаете, он извлекает откуда-то бутылку виски и приглашает вас выпить. О том, чтобы отказаться, не может быть и речи. Потом Кури пожал мне руку и исчез так же, как и появился — медленно и бесшумно.
Следующим вошел Артюр Прево, который не провел в моем кабинете и двух минут. Он был очень официален — классическое воплощение бизнесмена — и сказал мне, что ожидает меня завтра у себя в магазине.
— Вы понимаете, почему я не требовал раньше… Эти события… Но теперь пора привести наши дела в порядок.
Сирена, предупреждающая город о начале взрывов, воет пронзительно и надсадно. А через несколько секунд раздаются и сами взрывы. Они сотрясают дом, волнами прокатываются по городу и замирают среди холмов, по ту сторону озера. Двадцать минут двенадцатого. Я стаскиваю с себя прилипшую рубашку и подхожу к окну, тщетно ища прохлады. Внизу мотоциклы тарахтят громче прежнего. Напротив, у доктора Лафлера, свет во всех окнах погашен. Чуть багровеющее над городом небо где-то совсем близко проваливается в яму тьмы. Перед горящей вывеской Кури медленно падает на землю асбестовая пыль. Будет дождь. Когда белая завеса пыли становится видна — это всегда к дождю.
Я шагаю из угла в угол. Малодушие. Слово прилипло к моему мозгу, как рубашка к телу. Интересно, как отнеслась бы к этому слову Мадлен? Быть может, она первая и произнесла его? Но нет, я брежу!
Я медленно провожу рукой по розовому дивану. И не могу пробудить даже тень Мадлен. Пусть Мадлен вернется! Пусть вернется! Хоть на секунду! И я сумею обнять ее так, что она поймет. Она должна понять. О, эти упущенные мгновения, когда я ничего не сказал, ничего не сделал, а ведь в моих силах было что-то изменить. Малодушие! Нет! Ты не могла произнести этого слова! И все-таки я уверен, что ты думала, как они, что ты предпочла бы честный разрыв той двусмысленности, в которой вы из-за меня увязли и в которой я сам так неумело плавал, пока в конце концов не утонул. Мадлен! Мадлен! Безмолвие. Никакой вопль не воскресит ее. Никакое, даже самое горячее страдание не уничтожит непроницаемую пелену, навеки разделившую нас.
Уехать. Но я не могу этого сделать, не разобравшись во всем до конца. Наконец-то я выхожу из своего оцепенения, начинаю жить уже не на малых оборотах, как прежде, но все путается, приходит в беспорядок. Остановите калейдоскоп! Я хочу рассмотреть картинки по очереди, отыскать в них смысл. Чтобы, убедиться в своем праве называться живым, мне необходимо постичь логику жизни. Я обязан вырваться из замкнутого круга, и должно еще пройти время, чтобы я смог это сделать. На первых порах было счастье, бездумность, были чувства, над которыми мы не размышляли, и доброе начало в нас самих. Мы не знали друг друга, нас несло течение. Розовый диван еще был обыкновенным диваном, а не тем, чем он стал для меня потом. Посредственность. Возможно. Но может ли счастье быть иным? О, Мадлен, почему мы не остались посредственными? Неважно, что, лежа в одной постели, мы были бы далеки друг от друга, не подозревая об этом! Появились бы дети и с ними — семейный очаг, пусть серенький, ненадежный, но его укрепили бы привычка и сознание долга. Это была бы жизнь, Мадлен, теплая и уютная, без порывов и восторгов, но и без опасностей. И мне не пришлось бы искать твою тень на розовом диване!
Телефон. Да, да, жизнь продолжается. И надо жить. Мари Теру делает мне подарок — она рожает сейчас. Я останусь. Останусь, наперекор всему городу. Я заставлю их полюбить меня. Я затоплю их жалостью, которой так неумело пытался спасти Мадлен. У меня прекрасная профессия, в ней жалость может, не иссякая, бить ключом. Я продолжу свою борьбу. Бог и я, мы еще не квиты. У нас одно и то же оружие: любовь и жалость. Но я применяю его на земле. Я не правлю мирами. Я врачую людей. И мы поневоле стоим на разных позициях.
Любя их, я буду любить в них Мадлен. Если они сочли ее правой, значит, признали ее за свою.
Я не верю своим глазам: толстый Джим возвращается в свою халупу, пошатываясь. Неужели и ему не чуждо ничто человеческое? Он в стельку пьян!
Мари-Клер Бле
Marie-Claire Blais. MANUSCRIPT DE PAULINE ARCHANGE / Otawa, 1968 Перевод Ю. Стефанова, редактор М. Финогенова«Дневник Полины Аршанж»
Посвящается Режану Дюшарму
Глава первая
Словно хор моих давних невзгод и застарелых обид, которые со временем окрасились улыбкой жалости (жалости, слегка отдающей смертью), монашенки, когда-то лелеявшие мою жизнь своей жестокой добротой, все еще подстерегают меня у ограды своей обители, затерявшейся среди безотрадных полей под брюзгливым небом, на грани бури, которую, однако, не способен отпугнуть тлетворный ладан их заунывных молитв, песнопений в честь Святых Даров. Щеки их пожелтели от полуночных бдений, глазки бегают, точно бильярдные шарики, по умильным лицам; на лбу, под аркадой чепца, гордо подрагивает — свидетельство тайного легкомыслия — жесткая черная прядка; они прильнули к окошкам; я и сейчас еще вижу широкие белые спины, склоненные перед алтарем; чью-то узкую коричневую туфельку, нескромно блеснувшую из-под тяжелой рясы; не завязанный впопыхах и кажущийся оборванным шнурок — вижу все это глазами Настоятельницы, не упускающей из виду ничего, что творится в ее обители, и ревностно следящей за порядком в доме божьем, — монашенки взирают из окна с презрительной миной, столь хорошо знакомой нерадивым ученицам, к которым принадлежала и я: «Полина Аршанж плохо себя вела, не достанется ей ни кусочка от тела Господня…»
Руки мои посинели от холода; волосы стянуты ледяными гребнями; меховая шапчонка нахлобучена кое-как и съехала на ухо, оставляя другое на растерзание ветру, но сердце вздрагивает от шального и в то же время пугливого меланхолического порыва, подчиняясь мистическим вздохам органа, выстанывающего «Tantum Ergo», — сердце вздрагивает, упиваясь — до обморока, почти до отвращения — томительной мелодией. Нищенки вроде меня, выскочив из класса при первой трели звонка, застывают в ожидании перед строгими ресницами решетки, заслоняющей от них младенца Иисуса, укутанного золотыми складками потира, — сейчас он далеко-далеко в своем теплом и благоухающем гнездышке из драгоценной парчи, которую в час ранней мессы приподнимет усталый священник; его чуждая всякой робости, густо заросшая волосами рука обнажит божьи сокровенности с такой же простотой, с какой открывает укладку в собственной спальне.
— Приходите через неделю, сегодня облаток больше не осталось.
Говорят, что монахини питаются только салатом да молитвами, что они не спят и не моются, однако реальность свидетельствует о другом — она дышит сквозь решетку, разнося острый запах капусты, запах бедности и скаредности. Их безмолвный экстаз долго преследует нас по коридорам, под серыми сводами, и даже за порогом, где потер и снег вольно стегают по лицу, толкают в спину, впиваются и затылок, несутся неуемным, буйным ледяным потоком.
Одной закоченевшей рукой я прижимаю к груди хрусткий пакет с остатками облаток, другой крепко держу голую ручонку Серафины Леу; она потеряла шерстяную варежку и плачет; щеки и нос у нее мокрые от слез, падающих на пальто как росинки. Машины сбиваются с пути в тумане, ослепительно и слепо озираясь по сторонам; лучи фар, не знаю уж почему, наводят на мысль о стаде неведомых зверей, затаившихся среди тьмы и впивающихся в ночь зловеще горящими глазами. Метёт. Серафина Леу не может отыскать ни своей улицы, ни своего дома. Она всхлипывает все сильней, чувствуя, как ветер яростно треплет длинные полы ее чересчур широкого пальто, перешедшего к ней по наследству от старшей сестры, которая уже успела проносить его не одну зиму.
— Давай съедим облатки. Тогда мы обретем истинный путь. Разве не так нас учила матушка Схоластика?..
Мы усаживаемся рядом на тротуар, боясь улететь в небеса при первом же вздохе яростной вьюги, ополчившейся против хрупкости человеческой. «Тебе пять лет, а мне уже пять с половиной, я умею читать, а ты еще ничегошеньки не умеешь». Вот от такой первой встречи, как бы ни были случайны связанные с ней обстоятельства, и рождается подчас настоящая дружба. На другой день Серафина Леу, опустившаяся на колени, чтобы вместе с другими ученицами пробормотать в классе утреннюю молитву, склонила перед моим восхищенным взглядом свой затылок — многострадальную, истерзанную вшами голову с парой тонких, не расплетавшихся месяца два, туго стянутых бечевкой косичек;, зато вокруг узкого лица клубилось целое облако давно не мытых, но прекрасных волос, сквозь которые глядели на меня лихорадочно блестевшие карие глаза, чуть притененные густой мглой длинных ресниц.
— Полина Аршанж, молите Духа Святого вместе со всеми, — взывает матушка Схоластика со своей кафедры у окна; ростом она ненамного выше своих учениц, изможденный лик ее заключен в гофрированный чепец, как нельзя лучше вписывающийся в пейзаж, который создают цветы в горшках на фоне грифельной доски. Румянец на ее щеках светится добротой и взывает к послушанию. Ее любили. Но той любовью, которая вот-вот готова была сойти на нет по мере все большей изощренности изобретаемых ею наказаний. На колени в коридор, на колени в угол, да и указка матушки Схоластики отличалась завидной лихостью. Матушка Схоластика была молода, и учениц у нее набиралось каждый день столько, что, боясь забыть, как кого зовут, она велела нам пришпилить к воротничкам картонки с именами.
— Кто эта малышка в последнем ряду, с косичками наподобие крысиных хвостов? Скажите ей, чтобы вытерла фартуком лужицу под партой… Если вам, барышни, приспичит выйти, нет ничего проще: попросите разрешения, и я вам разрешу…
Тут же в спертом воздухе вырастал целый лес умоляющих рук, и матушка Схоластика возмущенно кричала:
— Ну прямо как дети малые, вот возьму да и пожалуюсь Настоятельнице…
Серафина Леу, униженная, закусившая губу от смущения, граничащего со стыдом, чувствовала себя большей мученицей, чем все святые на картинках, и подтягивала непослушным пальцем широкую резинку на съехавшем до колена чулке; Серафина Леу, чья гордыня кровоточила, как букет лилий, как свежая, но обманчивая невинность юных созданий, во цвете лет растерзанных божьими львами и леопардами на воображаемых аренах, «созданий, чья душа, — по словам матушки Схоластики, — была так чиста, что они попадали в объятья ангелов, не успев даже испустить последнего вздоха», — Серафина Леу, должно быть, ждала меня во дворе монастыря, где заходящее солнце рисует странные узоры на стенах, отполированных пальцами мороза, — ждала утешения, соответствующего мере ее страданий. Обняв друг дружку и прижавшись к стене, мы слушали, как ширится вокруг нас тишина. Каток, казалось, обрел огромную душу, спавшую на спине, раскинув руки крестом. Одинокое дерево разевало призрачный рот прямо в небеса, хоть из него и не вырывалось ни единой жалобы. Как только ветви зашумят, мы убежим, почуяв в душе тревожный трепет… Успокоение нам приносит вопль трамваев, пересекающих город, наполняющих улицы шумной толпой рабочих и их жен, чересчур расплывшихся или слишком хрупких, — острые каблучки скользят по зеркалу обледеневших тротуаров, и стоит кому-нибудь упасть — вокруг так и брызнут потоки веселого, безудержного смеха. Казалось, город озарился огнями, чтобы уберечь от воров и убийц своих жителей, чтобы они могли наконец спокойно, легким шагом пройтись по улицам, оставив дома детей наедине с их недоученными уроками и сонными грезами. «Не обижайте Иисуса, — говаривала матушка Схоластика, — ни во время игр, ни в мыслях своих». Но ведь и самому Иисусу, с его чувствительностью, пришелся бы, наверное, по сердцу этот доверчивый час, когда никто на земле не умирает с городу, когда во дворах своих бедных домов Серафина Леу и Полина Аршанж возводят снежные крепости, дабы укрыться в них, если в город нагрянет чума или война. Серафина, должно быть, уже забыла о муках, испытанных ею всего несколько часов назад. Ей нечего больше бояться в этом снежном замке, таком высоком, таком крепком, что мать Схоластика выглядит оттуда «малюсенькой, как спичка, и мерзкой, как муха». А если холод, подобно дурному воспоминанию, проберет ее до костей, можно броситься на грудь Полины Аршанж и поваляться в обнимку по мягкому, утоляющему все страдания снегу, который не только придает силы объятьям, но и великодушно превращает загаженный двор, по которому только что прошмыгнула голодная крыса, в царство неземной белизны и здоровой красоты, заливающей жарким румянцем щеки, обычно бледные, как недозрелые яблоки.
Однако при первых звуках назойливой шестичасовой сирены играм приходит конец. Колеса трамваев скрежещут по рельсам, восходит холодная оранжевая луна, поднимая, как на увеличенной картинке из катехизиса, висящей на школьной доске, презрительное веко, под которым кроется властное око господне, горящее неукротимой злобой. «Этот взгляд будет преследовать и подстерегать вас повсюду», — любила повторять матушка Схоластика, с довольным видом прикрепляя свое варварское произведение к доске; и в самом деле, этот глаз, схожий с хмурым циферблатом, ни на мгновение не оставлял нас в покое, отмечая каждый час школьной вечности невозмутимым созерцанием всех наших прегрешений, как уже содеянных, так и тех, что мы только еще намеревались совершить.
В шесть вечера Серафина Леу опрометью бросается домой, заранее всхлипывая от предчувствия неизбежного наказания: ее поставят в угол за то, что она опоздала к обеду. По городу в этот час еще бродят прохожие; пьяницы с неловкой улыбкой выуживают из карманов своих потрепанных пальто плоские фляги с ромом и глотают заключенную в них жгучую сладость, набираясь, так сказать, храбрости силою волшебства, заключенного в бутылке, — храбрости, которая поможет им с достойным спокойствием вынести побои жен. Я с завистью уставилась на одного из бражников, а он, видя, как я волочу за собой на ремешке портфель, набитый книгами, которые я так и не удосужилась раскрыть, пригласил меня пройтись с ним по мосту.
— Небось сирота?
— Нет.
— Хорошенькое дело, малолетки шляются в такую темень одни! Ты где живешь-то?
— А я почем знаю!
Мы вступили в беспросветную тьму, откуда не было исхода. Мой хмельной спутник был стар и кроток, он то и дело задавал мне вопрос за вопросом. Но временами в его дребезжащем голосе звучали злобные нотки, от чего мне становилось не по себе. Куда же мы идем? Как отыскать в этой ночи улицу и дом, где меня давно уже ждет встревоженная мать? «Да где же она запропастилась, негодница?» На краю стола остывает тарелка с супом, рядом, словно верная подружка, примостилась ложка… «Ты, видно, хочешь доконать свою мамочку, а я ведь и без того больна… Хочешь доконать меня, что ли?» И однако все материнские увещевания теряли свою грозную силу, стоило только взглянуть на этого странного человека, уводящего меня невесть куда.
— Мне пора домой, говорят же вам, мне пора домой!
После вялого сопротивления старик отпустил меня, но долго еще хихикал вслед из темноты, похожий на те неуловимые создания, что обитают в глубине кошмаров, — безликий, безротый, — мне уже ни за что не вспомнить его диковинных черт, растворившихся в ночи; вскоре я оказалась на железном мосту, по которому, смеясь, шагала в полдень с Серафиной — она то и дело останавливалась, чтобы кинуться мне на шею, умоляя любить ее больше неба и больше земли, любить вечно, любить и в этом мире, и в раю, где мы, если нам повезет, тоже будем рядом, ведь мы умрем в один и тот же день, умрем в благодати, лучше всего — в день первого причастия. С одной стороны моста виднелось не внушающее доверия здание больницы, с другой — церковь, которая благодушно потягивалась всем телом, весело скаля зубы-окна под спокойными деревьями, склонившимися над ней в позах царей-волхвов. Хорошо бы всегда жить вместе с Серафиной… Едва мы с ней расстались, как я начала томиться: без нее у меня пропадет аппетит, без нее мне никогда не заслужить почетную звездочку в школьной тетради, никого нам на свете не нужно, кроме нас двоих. Играть бы без конца в снежки, никогда не ходить в школу, никогда не возвращаться домой, любить Серафину до самозабвения — ведь без нее мир снова станет враждебным, природа — коварной, жизнь — бессмысленной, без нее земля разверзнется под ногами, обратится в жуткую черную дыру, где кишмя кишат взрослые, смахивающие на огромных насекомых, ползущих на слабый огонек нашего к ним презрения, пьющих, едящих, произносящих нелепые слова и без конца плодящихся — самим себе на горе. Порой кто-нибудь из взрослых нерешительно, как крот, высовывает из норы лицемерную физиономию и зовет к себе своего ребенка, словно принадлежащую ему вещь, требует так, словно это какой-то предмет — кресло или банный халат: «Иди домой, деточка, пора обедать, ты сегодня вдоволь наигрался…», и ребенок, польстившись на ласку, бросается к матери, подавляя в душе первые признаки подозрения и начатки ненависти. Но мы с Серафиной с презрением отвергаем эти нежные слова, похожие на липкие бутерброды, которыми иные матери пичкают своих изголодавшихся отпрысков после школы; сидя на зеленых скамейках а парке, они с видом заботливых нянек вяжут шарфики или платки, чтобы зимой стянуть их на шее своей хрупкой жертвы, доверчиво играющей тут же, в песочке, под неусыпным и благодушным взором. «Ты не простыл, мой ангелочек? Ты не кашляешь, моя радость? Ты не проголодался, золотко мое?» Этому мертвенному языку мы предпочитаем строгость матушки Схоластики или крикливые попреки наших суматошных родительниц, которых мы не выбирали и которые сами встали у нас на пути, притворяясь любящими, но не получая в ответ любви, ибо в своем яростном порыве к независимости мы отвергли кровные узы, чтобы на свой лад переродиться в царстве наших сокровенных грез, пережить некое духовное рождение, в котором отец и мать не играют ни малейшей роли, позволяя нам избрать собственную форму существования, а затем заполнить ее, заселить, как пустынную страну, нашими бесчисленными желаниями. Иной раз смотришь на родителей как бы издалека и со смутным почтением — так в иные летние вечера боязливо: следишь за полицейскими, вышагивающими под уличными фонарями, не в силах оторвать зачарованного взгляда от белой дубинки, которую они вертят за спиной. У этих взрослых диковинные нравы, таинственные и непостижимые привычки, нечего и пытаться их понять. Даже в ту пору, когда совсем еще маленькими мы были отданы на милость этих инквизиторов, которые купали и баюкали нас, неустанно оберегая от детских болезней, когда мы сами были всего лишь крохотными мятежными созданиями, что сучат ручками и ножками за решетками кроваток, вопя или хныча от ощущения несвободы, — даже в ту пору никто не хотел замечать наших бесплодных мучений, нашего желания жить независимо, так, чтобы нас не касались ненавистные родительские руки. Однако, подрастая, начинаешь понимать, что от этих чужаков никуда не денешься, что волей-неволей нужно жить с ними под одной крышей, разделять все их тяготы и лишь втихомолку мечтать о побеге. Настанет день, когда ты наконец сможешь вырваться из-под ревностной родительской опеки, а пока все члены этого тайного трибунала, именуемого семьей, вместе с примыкающими к ней дядюшками и двоюродными сестрицами, — всеми этими жадными и жестокими, рассеянными и добродушными существами, которые в силу родственных связей частенько сходятся вместе, чтобы позлословить за общим столом, — пока все эти люди хором твердят, что я не такая, как все, что «Полина, тут и говорить нечего, бессердечный ребенок…», — и они правы, ибо сердце мое, полное щедрой любви к Серафине Леу, никогда не раскрывалось навстречу им, оно было наглухо отгорожено от них стальной дверцей, за которой я плакала в одиночестве, в то время как они безуспешно стучались в нее снаружи.
В тот вечер, когда я рассталась с Серафиной, меня привела в отчаянье моя неспособность любить кого бы то ни было, кроме нее, — ведь дома меня ожидали люди, о существовании которых я вспоминала лишь тогда, когда мне нужно было к ним возвращаться, и которым я помимо своей воли приносила одни лишь огорчения. Чтобы отдалить этот миг и пропустить очередную тягостную трапезу в обществе людей, которые желали мне только добра, тогда как я причиняла им одно зло, я долго гуляла по улице, ожесточая сердце голодом и холодом. Я знала, как беспокоится мать, когда я опаздываю, знала, что сразу же после окончания уроков она принимается обзванивать матерей моих подружек, плаксивым тоном сообщая о моем исчезновении: «Она едва ходить научилась, Полина моя, и тут же начала убегать из дому, пропадать незнамо где. Ах, если бы вы знали, мадам Пуар, как это ужасно!» Но я шла своим путем, бросая вызов единовластию, казавшемуся мне чудовищным, считая недоразумением, ошибкой судьбы то бремя страданий, которое я взвалила на ближних, на тех, кто, по словам матери, взывавшей к мадам Пуар, любил меня «беззаветной любовью». «Мы столько сил положили на эту девчонку, а она хоть бы раз спасибо нам сказала…» На что миролюбиво настроенная мадам Пуар отвечала, грызя засахаренный миндаль: «Что поделаешь, мадам Аршанж, такова жизнь, у этих девчонок одно на уме — сбежать из дому да выскочить замуж, моя Югетта ничем не лучше, только и знает, что лазать по оврагам со своим Жаку, но ведь молодым нужно перебеситься, грехов и без того вокруг хватает…» Должно быть, последнюю ремарку, сопровождаемую плотоядным смешком, мать встречала ледяным молчанием, так как мадам Пуар тут же переходила на более строгий тон: «Спору нет, мадам Аршанж, у вашей малышки такие умненькие глазки, в жизни она пойдет дальше нас с вами, и все же я притащу ее к вам за ухо, если она у нас объявится, даю вам слово…» Когда же я у них объявлялась — а объявлялась я в самый подходящий момент, когда все члены семейства Пуар усаживались за стол и с размаху вонзали вилки в тощие и желтые, под стать их лицам, блины, обмакивая их в густой бурый сироп, стекавший по подбородку, — мадам Пуар, в бигуди и в халате, кротко напоминала мне, что моя мать звонила ей уже четырежды, «но раз уж я ей сказала, что моя Югетта ничем не лучше тебя, что вы с ней по части проказ друг дружке не уступите, то нечего стоять столбом, снимай-ка шапку, коли пришла, да съешь с нами блинчик». Поскольку отказываться от столь любезного приглашения было просто немыслимо, я возвращалась домой, «только чтобы переночевать, словно пьянчужка», как выражалась моя мать. У нас в горбатом проулке, именовавшемся Улицей Прекрасных Видов, где было полным-полно помоек и крыс, все знали, что Югетта якшается с самыми скверными мальчишками в округе, но ее снисходительная мамаша утверждала, что «лучше уж гулять с мальчиками, чем лгать». Во время моих поздних визитов Югетта обычно уже готовилась ко сну и по части костюма не уступала своей мамаше, с утра до вечера щеголявшей в ночной рубашке; волосы у нее были накручены на белые тряпицы; освободившись от них на следующее утро («Хочешь быть красивой — терпи», — приговаривала мадам Пуар, когда ее дитя стонало под натиском расчески), шевелюра Югетты топорщилась, точно жесткие мехи аккордеона, являя ветру и взглядам сверхъестественные завихрения торчащих во все стороны волос — «ради вящего соблазна очей», как выразилась бы матушка Схоластика. Сидя рядом со мной, Югетта, у которой щеки лоснились от сиропа, шептала мне на ухо разные разности, потом прыскала, втянув голову в плечи, и так продолжалось до тех пор, пока ее отец, который с перепоя был особенно мрачным, не призывал дочь к порядку, легонько ударив ее вилкой по локтю.
— Заткни глотку, — приказывал он, — болтаешь не меньше матери.
Наши пересуды разом прекращались. Югетта меланхолично проглатывала очередной блин. Я любила Серафину, Югетта же была влюблена в Жаку. То был порочный красавчик, первый мужчина, которого нам довелось поделить. Осенью ему стукнуло семь лет, что служило ему поводом для откровенного превосходства над нами. Со времени моей встречи с Серафиной я уже не могла хранить верность Жаку, и, хотя воспоминание о его хилой обнаженной груди все еще пылало в моем сердце и затмевало мистический образ Серафины, которую я знала только с духовной стороны, я чувствовала, что моя к нему любовь пошла на убыль, и это очень радовало Югетту.
Было еще одно обстоятельство, бросавшее тень на чары Жаку, — жестокая трепка, учиненная мне отцом, трепка, от которой у меня до сих пор горели ягодицы: пламень обиды в любую минуту мог с новой силой вспыхнуть в моей измочаленной плоти. К отчаянью мадам Пуар, привыкшей относиться снисходительно к такого рода прегрешениям, приносящим усладу чувствам («в конце концов, мадам Аршанж, жизнь так коротка, нельзя же лишать себя удовольствий»), моя мать поволокла меня к священнику, чтобы я выложила ему всю скорбную правду об этой истории, но, поскольку я еще не доросла до таинства исповеди, меня выставили вон, сказав: «Помни, что ты довела до слез бедного Иисуса…» Мое покаяние ограничилось «неделей продленного сна», сладостной пыткой дремотного сознания, когда, лежа в постели с семи часов (мать заходила за мной после уроков, чтобы таким образом тоже участвовать в покаянии), я снова видела, как Жаку, голый, словно звезда, выскакивает из малинника, дико крича: «Эй, девчонки, раздевайтесь поскорей, мне некогда», и как мы послушно приступаем к выполнению его желаний, удивляясь простоте, с какой постигается колдовская наука ласк. Всегда верный своей природе, кичащийся откровенностью своих страстей, Жаку устремлялся в предназначенный ему круг бытия с такой же жадностью, с какой впервые накинулся на материнскую грудь; ему была суждена жизнь, полная побед и приходящей вслед за ними усталости; мог ли он ее отвергнуть, если уже теперь в его присутствии девчонки становились столь нетерпеливыми и любопытными, что от этого подчас гасло его собственное любопытство. «Что с них взять, с этих девчонок!» — думал, наверное, он, пожимая плечами и сплевывая в сторону, чтобы лучше выразить всю полноту своего презрения. В нем уже угадывался будущий мужчина, командующий целым гаремом любовниц и озирающий свое царство сытым взглядом, в котором, однако, уже сквозили печаль и скука. В его присутствии я впервые испытала головокружительное ощущение: один за другим, словно пораженные молнией, рушились все образы мира, с первого дня жизни хранимые в глубине души. А для Югетты Пуар Жаку был не только принцем, посвящающим ее в таинство любви, но и отчаянным сорванцом, у которого можно поучиться всяким любопытным штучкам. «Если б ты только знала, что он вытворяет…» прошептала она мне на ухо, сидя за семейным столом, и папаша Пуар во второй раз взревел:
— Да закроешь ли ты наконец свой погреб?
Покончив с блинами, Югетта уселась учить уроки, примостившись на краешке стола по соседству с пустой тарелкой, на дне которой ей еще виделись узоры из объедков — все эти пятна, тропинки и долины, которые она окидывала задумчивым взглядом, выводя в тетради свои каракули. Тем временем ее сестра Юлия, с почти болезненной медлительностью убрав со стола молоко, масло и посуду, принялась яростно вытрясать скатерть над головой домашнего пса. «Нужно сосредоточиться на том, что ты делаешь…» — заметила она Югетте, и в эту самую минуту захрипело радио, а папаша Пуар, придерживая рукой живот, словно некий драгоценный музыкальный инструмент с не изведанными до конца возможностями, целиком отдался исполнению импровизированного концерта, возносящегося из глубин его желудка. У репродуктора были голос и глаз, он походил на назойливого приживальщика, занимающего в доме слишком много места и без умолку несущего заумный вздор. Югетта обернулась к нему, как бы прося совета. В конце концов она расплакалась над тетрадкой, и ее отправили спать вместе с Юлией, тремя другими сестрами и братом — все они ютились в одной темной комнатенке.
— Ах, господи боже, Полина, я совсем о тебе забыла, — внезапно произнесла мадам Пуар, — я могла бы положить тебя с Югеттой, чего уж там, но у нас даже для собаки места не найдешь; погоди-ка, я обуюсь и провожу тебя…
Мы шагали по белому пустынному городу; лицо мадам Пуар в кирасе из бигуди дышало добродушной простотой. И как всегда, она грызла засахаренный миндаль. Ревниво относясь к влиянию мадам Пуар, мать встретила меня не особенно сильной оплеухой, избавив таким образом от порки, причитавшейся за более тяжкие преступления, и прошипела сдавленным шепотом: «Ты, видно, решила доконать меня, Полина, совсем отбилась от дома, днюешь и ночуешь у соседей. Ну, открывай портфель, я помогу тебе сделать уроки». Измученная каждодневными визитами в больницу, где ее лечили от какой-то неведомой мне болезни, мать, подперев лицо рукой, водила моим пальцем по тетрадке, но было видно, что и ей встреча со мной доставляет мало удовольствия: она то и дело отвлекалась, а когда наши взгляды встречались, поспешно опускала глаза, повторяя: «Ну что мне с тобой делать, Полина?» И тогда меня охватывала острая жалость к этой молодой, но такой больной, разбитой непосильным трудом женщине, однако мысли мои тут же разбредались, и я погружалась в бесстрастные грезы, не имевшие никакого отношения к матери, боясь, как бы меня не разжалобило это бледное лицо, склонившееся над заляпанной кляксами страницей, а пуще всего боясь оборвать соединившую нас непрочную нить целомудренной тишины жестом утешения, которого она от меня ждала, — я была не из той забитой породы, к которой принадлежала моя мать. Иногда ее светлый волос падал на тетрадку, и я долго разглядывала его под лампой, смутно догадываясь о том, что в этой женщине, быть может, таилась не узнанная мною сестра — сестра, затерявшаяся так далеко в жестоком тумане жизни, что нам не оставалось ничего иного, как все больше и больше отдаляться друг от друга.
— Зачем ты живешь на свете?
— Чтобы любить Господа и служить ему.
Она словно заучивала вместе со мной урок, горя мучительной верой, о сути которой давно уже перестала задумываться. Мать прервала чтение, тронула мой острый подбородок, коснулась впалой щеки.
— Ты долго не протянешь, если не будешь есть как следует; ты что, хочешь умереть? Ты стала похожа на капустную кочерыжку, матушка Схоластика говорит, что у тебя в школе бывают обмороки. Почему ты не хочешь есть? Вспомни, сколько детишек на свете умирают с голоду! Постыдилась бы, Полина!
На самом же деле мать думала вовсе не о моей, а о своей собственной смерти, чья близость угадывалась в полном упадке сил, темных кругах под глазами и жестоких приступах рвоты, после которых мать без сознания валилась на постель. Должно быть, она в отчаянье твердила себе, что все это неспроста, что человек не станет чахнуть беспричинно и что этому мучительному удушью рано или поздно наступит предел. Впрочем, она старательно отгоняла от себя эту мысль и, если в воскресенье выдавалась хорошая погода, брала нас с братишкой в парк, где внезапно оставляла на мое попечение этого хилого, поминутно заливающегося смехом слюнявого мальчишку, умоляя меня быть паинькой, пока у нее не кончится приступ рвоты где-нибудь под деревом. Возвращалась она белая как полотно; на спинке скамейки безвольно повисала ее рука, казавшаяся совсем прозрачной под солнечными лучами, — рука, пронизанная голубоватыми жилками, которые жили какой-то своей, обособленной, тревожной и трепетной жизнью; капельки пота медленно сползали вдоль хрупкой шеи, затекая под кофточку, на которой не хватало одной пуговицы — вместо нее торчала уродливая английская булавка. Когда мы сидели вот так втроем на скамейке, жуя прихваченные из дому бутерброды с маслом и джемом в ожидании бутылки молока, которую управление парка бесплатно выдавало в полдень всем желающим, мне казалось, что другие семьи нарочно останавливаются, чтобы поглазеть на нас — ведь мы, как откровенно заявляла мадам Пуар, выглядели полутрупами, — они останавливаются и, пялясь на наши изможденные лица, думают, что мы похожи на живых мертвецов, которых лучше было бы поскорее предать земле, дабы не заражать их самих, пока еще пышущих здоровьем. Вот почему моя мать, чья гордость не могла смириться с этой постыдной картиной, без конца попрекала меня признаками собственной болезни и, случалось, даже будила среди ночи, суя мне в рот кусок хлеба, который я отшвыривала прочь. «Ты опять ходила к этим чахоточным, не отпирайся, ведь ходила?» Все обитатели нашей улицы страдали от истощения, но мать, говоря так, имела в виду прежде всего семейство Карре — трое из этой семьи скончались в туберкулезном санатории. «Ты опять играла с Люсьеной Карре? А я что тебе велела? Хочешь подцепить от нее заразу?» В семье Пуар одной только Юлии суждено было скончаться от чахотки, не дожив до двадцати пяти лет. Все годы своего отрочества она лениво тыкалась крупным костистым телом то в столешницу, то в стенку подвала, служившего жильем их семейству; она была так худа, что казалось, будто ее легкие выперли наружу и выглядят географической картой, испещренной черными пятнами, обозначающими страны и города, вымершие от голода; ни веселая, ни грустная, она безропотно ждала своей кончины, перекидываясь в карты с благополучно пережившим ее отцом, покуривая сигареты на крылечке и почитывая романчики про любовь, столь же легкие и сладостные, как тошнотворный дымок, вылетавший из ее рта. В жару Юлия частенько задремывала над раскрытой книжкой, склонив на плечо темноволосую голову; сигарета одиноко тлела у нее между пальцами, а изо рта тянулась тоненькая кровяная ниточка; можно было подумать, что Юлия уже умерла, но стоило кому-нибудь поблизости шаркнуть подошвой о каменную ступеньку, как она тут же просыпалась и снова принималась за чтение, торопливо утерев рот рукой.
Что же касается остальных членов этого семейства, то они чувствовали себя более или менее сносно; они свыклись со своей болезнью как с неизбежностью, появившейся на свет вместе с ними; смерть словно бы вросла в них; то и дело они кашляли и отхаркивались, но, являя чудеса выносливости, перешагивали через болезнь, как через порог, словно речь шла всего лишь о насморке или мигрени; в конце концов их болезнь и впрямь приобрела обличье этих невинных недомоганий.
Мать подталкивает меня к постели, забыв про раскрытые на столе книги, и прибавляет, что ради моего же блага ей придется наказать меня за постоянное бродяжничество, иными словами — не пустить в воскресенье утром в кино. Из всех возможных обид эта кажется мне самой горькой, ибо, сама того не сознавая, мать лишала меня единственной за всю неделю радости: это утро волшебных видений, пусть даже порожденных низкопробным вдохновением наших благочестивых наставников, на миг озаряло мое скованное тисками школьной дисциплины воображение. А кроме этой услады для глаз, впившихся в экран, наслаждающихся пошловатыми картинами с таким восторгом, словно передо мною был витраж, исполненный божественно-неземного экстаза, — кроме этого я ощущала близость сидящей рядом Серафины: она вертелась на стуле, перекатывала за щекой карамельки и подолгу комкала в ладонях конфетные бумажки, словно стараясь лишний раз привлечь к себе мое внимание, — я наслаждалась близостью существа, которое обожала, хотя и не переставала нетерпеливо ворчать: «Скажи-ка, Серафина, что за муха тебя укусила? Ты не смотришь кино, а пялишься на меня, словно я игрушка в витрине, можно подумать, что ты меня впервые в жизни видишь, я больше ни за что не пойду с тобой в кино…» Впрочем, это не мешало ей, забравшись с ногами на стул, болтать с сидящими позади нас ребятами, обнимая меня за шею холодной ручонкой, торчащей из рукава чересчур короткого свитерка… «Захотелось — и смотрю, а главное, не твое это дело, Полина, хочу я на тебя смотреть или нет…» Пропустить одно из таких свиданий с Серафиной значило лишиться целого дня общения с нею, истомиться в одиночестве — это было просто невыносимо. Я отправляюсь спать, снова — в который раз — решив не подчиниться матери, и впервые в жизни проворачиваю в мозгу великолепную идею кражи монеты в десять су; моя дрожащая рука уже погружается в мраморную вазочку, где поблескивают тусклым золотом скромные материнские сбережения. Неужели же для того, чтобы встретиться с Серафиной, продержать ее в своей власти хоть несколько часов, я не пожертвую вечным своим спасением и репутацией, и без того уже подмоченной в глазах тетушек и двоюродных сестриц? Разве одним решительным прыжком я уже не перенеслась через адское пламя в тот день, когда Жаку с ликующей физиономией выскочил из малинника, потрясая, словно победным знаменем, своими рваными красными штанишками, развевающимися на ветру?
— Ты же знаешь, как я люблю тебя, Серафина! — шепчу я, уткнувшись в подушку, набитую колючими перьями, которые, вылезая из ветхой наволочки, иной раз попадают мне в рот. — Ах, Серафина, ради тебя я пойду даже в адское пекло!
Младший братишка — он спит совсем рядом, стоит только руку протянуть, — прерывает мои мысли зверским младенческим зевком; в лунных бликах, пробивающихся сквозь занавески, я вижу его широко разинутый рот, его редкие, липкие от ночного пота волосенки — иногда я провожу по ним пальцем, чтобы вызвать в себе стойкое отвращение к брату. Распятие бодрствует во тьме, спокойное и унылое, уставшее от нашего храпа, от этих тусклых обоев, на которых покоится его истерзанная плоть обществе менее благочестивых изображений: картинки с парнем, шагающим на рыбалку среди зеленого весеннего пейзажа, и календаря, на котором во всю глотку хохочет лысый беззубый младенец с носом, похожим на сморщенную черносливину, — жуткое чудовище, смахивающее на моего братца Жанно; взглянув на него, я всегда спешу отвернуться. В те дни, когда меня одолевает какая-то внутренняя слабость и я не решаюсь отправиться в школу, боясь свалиться в обморок на первой же утренней молитве, мать насильно усаживает меня рядом с собой на постель, и мы разговариваем, повернувшись друг к дружке спиной, храня каждая свою тайну.
— Нанять бы прислугу, да ведь это слишком дорого обойдется… А у меня нет больше сил и стирать, и готовить обед отцу… хоть бы какую помощницу найти… Она бы и за тобой присматривала, когда я хожу в больницу на процедуры, чтоб ты не таскалась за мной повсюду, как обезьянка, — невеликая это радость и твои годы… Может, отправить тебя в деревню к дяде Жерому? Как ты думаешь?
Однако, как только мать произносила эти слова, я тут же покидала ее и, на цыпочках, крадучись, удалялась в кухню, а там открывала дверь на улицу, почерневшую от пыли и истомленную июньским зноем куда больше, чем я сама. Я бесцельно слонялась по немым тротуарам в долгие послеполуденные часы, когда школьники засыпают от унылой скуки в классах, а взрослые едва дышат и кажутся живыми мертвецами.
Воскресные дни, когда я воровала больше двух монет для Серафины и для себя, сгорали и огне кощунственной свободы, которая казалась особенно прекрасной именно в силу своей кощунственности; выйдя из кино, мы покупали мороженое и, забившись под стойку ресторанчика, рассматривали иллюстрированные журналы — стоя на коленках, в полутьме, среди гвалта, учиняемого подростками, которые вместо того, чтобы отправиться с родителями в церковь, собираются в заведении «Лорель, конфеты и сигары», отчаянно дымя, возбужденно галдя и время от времени бросая косые взгляды на наше чтиво — страницы, где полно нагих силуэтов, сирен, женщин-змей, историй о чудовищных изнасилованиях; страницы, где крылатый молодой человек в маске порхает в космосе, облаченный всего лишь в голубой плащ, позволяющий ему преспокойно приземлиться прямо на кухне у своих благодушных жертв и придушить их с такой скоростью, что они даже ничего не успевают почувствовать, — жаль только, что нелепая его накидка скрывает от наших глаз массу прелюбопытных подробностей.
— Малы вы еще, ничего не понимаете, а хуже всего — даже читать-то не умеете…
Грубый смех грохотал над нашими головами. «Лорель, конфеты и сигары», воплощенный в одном лице, но олицетворяющий собою оба вида изделий, пользовавшихся наибольшим спросом в его заведении, направлялся к нам, оправляя белый фартук на внушительном брюхе; его колено, обтянутое черным твидом, застывало на уровне наших глаз.
— Эй вы, малолетние гулены, рано вам еще этим заниматься, сматывайтесь-ка отсюда!
И мы, оскорбленные до глубины души, сматывались, вполголоса понося его на чем свет стоит…
Если, вернувшись домой, я замечала, что мать торчит на пороге кухни, сразу становилось ясно, что сейчас следом за ней из тьмы явится целый тайный трибунал, дабы осудить меня за утреннюю кражу. Расхрабрившись, я даже не пыталась загладить свою вину и готовилась защищаться, но весь мой запал пропадал даром: мать долго смотрела на меня с обычным выражением покорной усталости и произносила оправдательный приговор:
— Я неважно себя чувствую, Полина, и все же не пойти ли нам пообедать к бабушке, может, это хоть немного отобьет у тебя охоту шляться по улицам…
А порой она сухо добавляла:
— Приведи себя в порядок, маленькая растрепа, прямо стыдно смотреть на твое грязное платье…
Чтобы не тратиться на проезд, мы обычно отправлялись к бабушке пешком; мать смотрела вокруг безучастным и горестным взглядом, толкая перед собой коляску с братиком, а если дело происходило зимним вечером — санки, в которые она усаживала и меня. Я грезила наяву, глядя, как снежные хлопья садятся на покрасневший носик Жанно, забывая о том, как трудно матери тащиться с двумя детьми через весь город. Бабушка Жозетта спешила нам навстречу, судорожно цепляясь дрожащей рукой за лестничные перила; на ней были заимствованные у деда шлепанцы с узкими, похожими на глаза прорезями; взяв Жанно на руки, она тут же принималась выспрашивать, почему с нами нет отца:
— А куда же это Джо запропастился, доченька? Я никогда его не вижу…
— Ох, — грустно отзывалась мать, — ему ведь день и ночь приходится работать, он даже по воскресеньям работает. Легко ли в наше время поднять детей, все никак концы с концами не сведем…
— Невеселая история, — вздыхала бабушка. — Можно подумать, что Господь только о том и думает, как бы насолить добрым людям…
— Я прошу тебя, мама, прошу тебя, не надо так говорить о Господе… По крайней мере при детях…
Пока мать высказывала эти сдержанные упреки, я взлетала по лестнице, торопясь первой увидеть деда, но то ли он и в самом деле был ко всему безразличен, то ли прикидывался, будто не замечает меня, дед продолжал поглощать свое морковное пюре с таким негодующим видом, что мне становилось не по себе.
— Ты все злишься, дедушка Онезимон?
Он молчал, свесив над тарелкой огромный нос, заросший серой шерстью.
— Не любишь, когда тебя заставляют глотать эту гадость? Вот и я тоже… А если я скажу, что нос у тебя похож на сад, изглоданный гусеницами, ты небось еще больше разозлишься?
В конце концов дед отвечал, что он «прямо-таки почернел от злости», что он и в самом деле терпеть не может морковного пюре, но, поскольку у него не осталось ни одного зуба, он ничего, кроме этой гадости, есть не может, а к тому же все обитающие в доме особы женского пола, и бабушка, и эти ее «треклятые девки», истязают его, «как кошки мыша».
— Кушай свое пюре, Онезимон, — повелевала бабушка, нацелив палец в деда, — а ты, Полина, не подзуживай его, он только этого и ждет, упрямец этакий…
— Пойдем, Полина, нечего нам тут делать в этим бабьем…
Но перед тем, как пройти вслед за дедом в его мастерскую, я спешила заглянуть в запретную для меня часть дома, о которой бабушка выражалась так: «Это апартаменты жениха и невесты, а также покои бедного дяди Себастьяна. Обрученных и обреченных не следует тревожить. Поиграла бы ты лучше в кубики, Полина, вместо того чтобы совать нос куда не следует…» Слушая краем уха эти вялые увещевания, я на карачках подползала к застекленной двери с намалеванным на ней букетом скромных цветов, прямо под которым, в соседней комнате, видимые несколько смутно, как бы сквозь дымку, с притворной стыдливостью обнимались тетя Алиса и ее жених Бонифаций. В те часы, когда Бонифаций не предавался созерцанию прелестей сухопарой Алисы, уже воссевшей на царственный престол, с которого она, разумеется, не собиралась спускаться, он меланхолично разглядывал свои лежавшие на ковре ступни, похожие на побитых собак, широкие и плоские ступни, лишенные малейших признаков одухотворенности, хотя самому Бонифацию они представлялись легкими, шальными стопами, способными вознести его застенчивую душу к вратам брака…
— Ах, Алиса, — вздыхал он, — давай поженимся поскорее…
— Погодите, Бонифаций, мои чувства по отношению к вам все еще находятся в той стадии, которую принято называть неопределенной… Любовь придет сама… Любовь не может не прийти…
Эта женщина, как с ноткой завистливой укоризны отмечала моя мать, «всегда изъяснялась ну прямо по-королевски… Оно и понятно: одной Алисе посчастливилось доходить в школу до конца, другим-то пришлось работать в шляпном магазине…». Если моя тетка и в самом деле питала страсть к некоему худосочному красноречию, то происходило это отчасти потому, что она пыталась подражать своему брату Себастьяну, чей фантастический нрав приводил ее в восторг, но главным образом — под воздействием «Тысячи и одной дороги к браку», «Священных врат женитьбы» или «Добродетельного изъяснения сущности любви» и тому подобных сочинений, которые она читала во множестве, смакуя их полный скрытых намеков лексикон, влекущий ее к призванию, казавшемуся ей единственно достойным и возвышенным, воплощающим все ее земные и небесные идеалы… Увы, после первого же объятия, при первом прикосновении руки, поросшей бархатистой черной шерстью. К ее сухой и твердой груди, а особенно при виде столь плоских и бездуховных ступней Бонифация все теткины мечты о возвышенной страсти рассеивались как дым, и холодноватая ее влюбленность мигом сменялась сварливым тиранством.
— Эй, промыра, ты что здесь делаешь? Подглядываешь за обличенными? Жагляни-ка лучше ко мне, я скучаю, как жаба…
Я раздумывала: зайти или нет к дяде Себастьяну, ведь в судьбе этого молодого человека, которого я так любила, таилось, как я полагала, нечто угрожающее и странным образом связанное с витавшими в воздухе отголосками трагедии, которая могла внезапно разлучить меня с Серафиной, — меня томила смутная угроза, связанная с обожаемым существом, я не хотела домысливать, с каким именно, ибо кошмарные предчувствия подсказывали мне, что дядюшка Себастьян, пришибленный собственным несчастьем, мог, сам того не ведая, накликать какую угодно напасть и на Серафину, и на меня.
— Ну что же ты не идешь? Ведь ты у меня одна на свете, никого больше нет. Полина-а-а!
В конце концов жалость брала верх, и я уступала.
— Тебе про что сегодня рассказать? Про серую жабу — как она каталась на коньках по церкви? Или про верблюда, что воровал свечи? Жагляни под кровать, там сложены все мои рассказы, я пишу их по три штуки в день… Прочтешь, когда вырастешь… Вот увидишь, сколько разных разностей мы с тобой сотворим… Стаканчик воды, Полина, только никому не говори, принеси мне стаканчик воды… Тут никто не виноват, просто все обо мне забыли… А меня жажда мучит…
Но когда я пытаюсь помочь ему напиться, он деликатно отстраняет мою руку.
— Я сам управлюсь, промыра, я преотлично себя чувствую, только не могла бы ты капельку приоткрыть окно? Боюсь, что ты здесь задохнешься… А заодно мы выпроводим чудовищ… Ты их видишь? Я-то их не боюсь, мы подружились. Я с ними по-хорошему, вот они на меня и не рычат. Никогда не нужно злобствовать, Полина, чудовища этого не любят.
— Где же они? — спрашиваю я.
— На столе, в чернильнице. Всюду. Видишь огонек? Это чья-то пасть светится. Вот те на! Погас! Наверное, жар у меня спадает… Завтра же встану на ноги, будь уверена.
Запах лекарств щекотал мне ноздри, когда я приближалась к дяде Себастьяну, чтобы получше рассмотреть его лицо и уловить некое подобие вымученной улыбки, противоречащей горячечному бешенству взгляда, — подходила и застывала на полпути, словно посреди тропинки, ведущей в неведомую лесную глушь.
— Да ты что, боишься меня, Полина? — спрашивал он ласково и закрывал глаза, будто его внезапно сморил сон.
Однажды весенним утром, во время одного из таких внезапных приступов сонливости, бедняге Себастьяну, не перестававшему бредить, и было суждено мирно скончаться. На изможденном лице застыло выражение иронии и надежды (разве не говорил он в то утро бабушке Жозетте, что чувствует себя гораздо лучше?) — можно было подумать, что губительную пневмонию он схватил по ошибке, сбитый с толку огневой круговертью, бушевавшей в его мозгу… Вот тогда-то, глядя на белую простыню, прикрывавшую уже несуществующего Себастьяна, я и почувствовала, что сердце мое сжимается от невыносимой тоски. Значит, все, что любишь, обречено на гибель? И только тишина ширится вокруг. Значит, каждый, куда бы он ни шел, стиснут кольцом неотвязной черной агонии? В этом жестоком мире, вся безграничная жестокость которого внезапно встает перед тобой, приняв обличье мертвенного распада, кажется бессмысленной и моя любовь к Серафине, и особенно мое желание уберечь ее от напастей, ведь на свете ежесекундно умирает множество людей; об этом узнаёшь не только по радио или из газет, об этом твердят все твои сны, сотканные из кровавых видений — видений, в которые ты окунулась, едва появившись на свет, ибо весь мир — кровь и огонь, и ничего больше. Как же в этом мире, который, надо полагать, чреват еще более враждебным и кровавым будущим, сможет выжить любовь?
— Эй, Полина, пойдем со мной, посмотришь новые игрушки…
Слегка стыдясь того, что моя неистовая любовь к жизни все еще не иссякла, хотя дядюшка Себастьян один-одинешенек гниет в земле, я следую за своим сумасбродным дедом в его мастерскую, где мы вдвоем любуемся чудесными игрушками, которые он смастерил, «чтобы продать по дешевке родителям богатых детей, таким же скаредным, как и бедняки», как он презрительно выражается. «Эй, Полина, а как тебе этот паровозик — красный с синим? Представляешь, до чего ж было бы здорово сесть однажды утречком в такой паровозик и смотаться в горы — одному, без жены, спокойненько покуривая трубочку, хе-хе, вот это и есть подлинное мужское счастье… А как тебе эта кукла, ничего? Волосы рыжие, точь-в-точь как у бабушки Жозетты в те годы, когда она была молоденькой и хорошенькой. Ты, должно быть, частенько встречалась с ней в ту пору, она ведь не очень-то любила ходить в церковь, впрочем, я забыл, что…»
Но больше всего притягивали мой взор белые санки: их изящество было столь совершенным, а форма столь чарующей, что воспринималась как намек на трогательный союз между будущим обладателем этой вещи и самой вещью; обладателя этого я представляла себе таким же шикарным, как Жаку, только он не шлялся по оврагам, а стрелою летел, лежа на санках, по пустынному склону холма, принадлежавшего, катилось, ему, и только ему…
— Эй, Полина, о чем-то ты задумалась, чего рот разинула?
Мне вдруг снова становится грустно — как личное оскорбление ощущаю я не только преждевременную кончину Себастьяна, но и неизбежную кончину всего, что живет и дышит вокруг меня… Пять лет прожито на этой холодной и непонятной земле, и шестой год уже выступает из потемок, словно нищий, окидывающий тебя оценивающим взглядом и в то же время требующий доброты и доверия… «Ох, Полина, до чего же быстро ты старишься, скоро мы с тобой станем одногодками…» Но бывали дни, когда все эти размышления о смерти, о непостижимом беге времени словно бы улетучивались, и тогда я легко взбегала по тоскливой лесенке часов, которые еще вчера, в томительной их медлительности, казались мне вечными: шестой год наступал так же, как и все предыдущие, нисколько не усугубляя драматизма бытия. Не изменялась и Серафина, дни роились вокруг нее точно так же, как и вокруг меня; и хотя близился мир нашего расставания, мы были слишком счастливы вдвоем, чтобы в полной мере осознать неизбежность тога мгновения, когда счастью нашему придет конец.
Мать чувствовала себя настолько плохо, что ей была уже не под силу сидеть со мной после уроков, и она последовала совету мадам Пуар, которая всех своих дочерей, доросших до шести лет, отдавала под патриотическую опеку «Сообщества Стрелков», или «Маленьких Стрелков»; достигнув почтенного четырнадцатилетнего возраста, члены этой организации приносили присягу настоящих скаутов, крепких, мужественных, в полной мере осознавших свою связь с родной землей. «Да поймите же, мадам Аршанж, — говорила госпожа Пуар моей матери, которая все не решалась доверить меня этой армии вожатых и их помощниц, верховодивших в отряде „Голубая лента“, — поймите же, детям необходим свежий воздух, не след им вечно болтаться на улице, и потом, „Стрелки“ — организация солидная, там у них бывают собрания, и правила уличного движения они изучают, хотя нельзя сказать, чтобы все это пригодилось девушкам после замужества, но ведь самое главное — лето они проводят на лоне природы… Да, мадам Аршанж, на лоне природы, в горах, и мало того — в конце недели они совершают прогулки по лесу, где изучают ботанику, птиц и всякие растения, хотя опять же нельзя утверждать, что после замужества все это пойдет впрок…»
Таким же манером я заманила в «Стрелки» и Серафину, и мечты о жизни в горах, под благостным ночным небом, в палатке, на гребне которой примостился лунный серп, на время приглушили кое-какие из моих мрачных предчувствий. На первом же собрании «Голубой ленты», состоявшемся в пыльном подвале, который был окружен для меня ореолом тайны, словно в этой темной конуре, арендуемой для наших нелепых сборищ, решались судьбы мира — решались теми самыми девчонками, которые, возвращаясь по вечерам домой, частенько плутали среди сугробов и редко ложились спать, не получив основательной взбучки, — в первый же день нас с Серафиной Покорила рослая вожатая с мужскими ухватками и высоким сладким голоском и ее помощница, до такой степени на нее похожая, что, если мы заговаривали об одной, другая тут же возникала перед глазами, улыбаясь такой же широкой улыбкой. Одну звали Агнессой, другую — Бертой. Едва заметив, что Серафина наклонилась ко мне и цепко схватила за руку, вознамерившись сообщить о своем новом увлечении, а я собиралась сделать тоже самое, — едва заметив это, вожатая Агнесса заорала своим нежным голоском:
— Эй вы там, левая, правая, не забывайте, что «Стрелки» — общество свободное и независимое! Надо бы вас обеих выгнать из отряда — и левую, и правую. «Стрелки» прежде всего служат родине…
Однако в суровом голосе Агнессы или Берты не чувствовалось тех холодных ноток, от которых я вздрагивала в классе, когда матушка Схоластика задавала нам очередной урок; напротив — утешительная энергия исходила от этих женщин, весьма мужеподобных в своих ботинках на низком каблуке и тесных костюмах, обтягивающих плоские бедра; даже сама внешность их, казалось, выражала волю и отвагу, и в то же время они были преисполнены материнских чувств — правда, эту свою слабость они пытались скрыть под весьма условным военным обличьем, — в их энергии, в их беспокойной силе таилась грубоватая нежность, которой мы были до сих пор лишены. Каждый день вглядываясь в новые лица, жадно мечтая о жалких скаутских почестях, я все больше забывала Серафину, любя скорее свою давнюю привычку к ней, нежели ее саму. Когда во время состязаний в горах рука Серафины выскальзывала из моей, я уже не сходила с ума, как раньше, и тут же забывала о ней, глядя на лица наших вожатых и их помощниц, которые, будто ошалелые дикие козы, карабкались к ледяным вершинам, громко подбадривая остальных: «Отряд, который придет первым, получит почетное знамя! Вперед, „Стрелки“, вперед!..» Я слушала, как позвякивают, словно колокольчики, блестящие котелки и ножи на черных кожаных поясах у вожатых, и говорила себе, что непременно встречусь с Серафиной вечером, у очага, в залитой светом хижине, куда доберутся наконец, валясь с ног от усталости, наши отряды…
Встречаться-то мы с ней встречались, но теперь мне уже было неприятно видеть ее личико, отмеченное печатью болезненной робости, хотя я же сама и внушила ей это чувство, — ее бледное личико с горящими глазами больше не притягивало мой взгляд; мне хотелось скорее обратиться к другим лицам, к тем, что порумяней и повеселей, и все это выдавало мою тягу к взрослым, которых не понять Серафине, внезапно ставшей в моих глазах совсем малышкой. Неблагодарная моя любовь выродилась в простую привычку время от времени удостоверяться, что Серафина по-прежнему там, где я привыкла ее видеть, — в школьном коридоре или рядом со мною за партой, где лежали открытый учебник и заляпанные кляксами тетрадки. Когда я пилила ее, направляясь в воскресный день в кино, я уже не решалась встретиться с ней взглядом — теперь я говорила с подругой, стараясь на нее не смотреть. Раз Серафина мне надоела, думалось мне, я могу полюбить кого-нибудь другого. А она, захлебываясь от слез под градом моих упреков, все более частых и несправедливых, умоляюще твердила, утирая нос рукавом:
— Зачем ты меня так изводишь, Полина? Неужели ты такая злюка?
Но я уже не могла не тиранить эту новую Серафину, ведь ничего, кроме неприязни, я к ней теперь не испытывала.
Нужно было услышать предсмертный крик Серафины, раздавленной колесами одного из тех безглазых автобусов, от которых мы когда-то морозными и вьюжными вечерами так часто спасались вместе; нужно было воочию увидеть ее гибель, чтобы понять, что я потеряла подругу по собственной воле; эта истина внезапно предстала передо мной в беспощадном свете. Однако этот мой грех, порожденный небрежением, не только не остановил поток моих будущих предательств по отношению к другим и к себе самой, но и стал источником множества творимых исподтишка измен, таких, как беспричинная усталость, вызванная долгим обожанием, любовь, готовая внезапно растоптать близкое существо или дорогую для тебя вещь, чтобы проложить себе путь вперед, — эта неустанная пытливость сердца, которой нет сил противиться. В минуты бредовых наших откровений мы с Серафиной дали друг дружке зарок никогда не разлучаться; легковесные эти клятвы сами собою срывались с губ, едва мы выходили из школы, и вот теперь, когда счастливым мгновениям настал конец, я мало-помалу смирилась с этим, не слишком остро ощущая, сколь трагичным было исчезновение Серафины в неведомом, непроницаемом мире; я видела лишь крохотный гробик, который унес ее от меня на мглистое кладбище в тени деревьев, я видела лишь запрокинутый недвижный профиль, казавшийся мне сейчас почти незнакомым.
— До чего же ты бессердечная, Полина! — вздыхала мать, неприязненно глядя на мое жесткое, застывшее лицо. — Я-то думала, что Серафина была тебе дороже всех на свете, дороже родной матери, а теперь смотрю — ты прямо каменная. Ну и злюка!
— Это она злюка: так вот запросто взяла да и бросила меня…
А ведь это я сама бросила Серафину несколько месяцев назад, но теперь мне казалось, что ее смерть — это нескончаемое мщение, и отныне страшным наказанием станут для меня все дни, что мне предстоит прожить без нее.
— Ты совсем не любила Серафину, — повторяла мать, — нет, никогда ты ее не любила…
Внимая голосу раскаяния, я думала о Серафине, упрекая себя за то, что в последние недели ее жизни мне не пришлось, как случалось прежде, страдать от побоев, которыми осыпала ее матушка Схоластика, не пришлось терзаться, молча улыбаясь при виде града оплеух, от которых горели уши моей подружки, и любя ее на манер самой матушки, привыкшей измерять степень нашей к ней привязанности количеством пыток, которые мы способны вынести. Насколько страстно я рвалась к свободе, подальше от Серафины, в скупой райский сад, куда ей не было доступа, настолько она стремилась быть поближе ко мне, и ничто не ранило так жестоко ее любящее сердце, как столкновение двух наших одиночеств, которым не суждено было примириться.
Ее призрак будет теперь вечно преследовать меня, обдавая мою память ледяным и сумрачным дыханием. Дерзость наших проделок с Югеттой и Жаку в овраге утратила свою остроту. Каждый из нас был бесконечно одинок и, готовый к чудовищному беспамятству по отношению к брату своему, был до ужаса опьянен самим собой. Этот чувственный хмель был разлит во всей природе; стоило только захотеть, и вся земля превращалась в царство забвения, в роковую обитель наслаждений, где нет места милосердию и жалости. В иные из летних дней, осененных торжественной голубизной небес, воздух, точно жарким плащом, обволакивал нас восхитительной беспечностью, пустотелым блаженством, когда, казалось, было не только невозможно, но и преступно помышлять о ком-либо другом, кроме самого себя.
Алчба человеческая, казалось, была разлита в воздухе, но нигде не находила удовлетворения, равного моей жажде. Наказанная за гордыню матушкой Схоластикой, я каждый вечер протирала в школе грифельные доски, и через приоткрытую дверь в соседний класс мне не раз случалось видеть живое воплощение этой алчбы — ласки, которые расточала монахиня одной из школьниц. Какое множество внезапно всплывающих на поверхность делишек, неожиданных и постыдных выходок приходилось всем нам совершить, чтобы разобраться в этой головокружительной неразберихе!
Мне ничего не стоило простить сумасбродство матушки Сен-Бернар де Круа, избравшей в качество своей пассии глуповатую, но смазливую девчонку, чей тусклый взгляд не обещал ничего сверхъестественного, но я не могла вычеркнуть из памяти жестокую властность матушки Схоластики и руководимый ею церковный хор, состоящий из маленьких озлобленных хищниц.
В течение всего пути, ведущего к окраине того прозрачного сумрака, которым завершается детство, нас терзают две силы: одна из них — тираническая и разрушительная сила кнута, вторая — источник нежности и сердечных угрызений, сила слепой тяги, соблазна, сила телесных и духовных искушений; рассудок не в состоянии противопоставить ей ничего, кроме снисхождения. Бывает, что раны от ударов потихоньку затягиваются сами собой, бывает, что их так и не удается излечить — настолько они глубоки, а иной раз раны эти оказываются до такой степени постыдными, что мы даже и заикнуться о них не смеем, — в любом случае законы ужаса и страха оплетают человека столь сильно, что он становится как бы незримым для окружающих. Слишком долго живя в окружении этих мутных зеркал, искажающих твой облик, в конце концов становишься чуждым и самому себе. Моя больная мать, каждую неделю принимавшая молодого францисканца, которому она исповедовалась, невольно закрывала глаза на непростительные шалости, которым предавался со мной (мне шел тогда двенадцатый год) сей духовный пастырь — предавался, несмотря на мое сопротивление, ибо меня некому было защитить. «Почему у тебя ноги в крови? Ты что, опять лазала по деревьям, как мальчишка какой-нибудь? Когда же ты наконец остепенишься?» — выговаривала мне мать в святой своей простоте, которая не позволяла ей даже и помыслить о чем-то дурном и уж тем паче — заподозрить в чем-то зазорном «сие живое воплощение веры», каковым она считала странного францисканца с блудливым взглядом, чье поведение вне стен ее спальни оставалось для нее совершенною тайной. Когда я плакала от его истязаний, мать не слышала меня: ей было дурно, ее одолевала рвота. Скрещение наших мук было бесплодным: мать старалась скрыть все следы своей болезни, а я зарывала в землю замаранное кровью белье. Да настанет ли когда-нибудь конец этим затянувшимся недомолвкам, этим мукам? Мать верила, что настанет, и, не поднимая на меня глаз, слушала, как я повторяю ежедневный урок из катехизиса:
— Невинность, надежда, милосердие…
Слово «невинность» в моем представлении было связано с тлением и распадом; все мое существо бурно восставало против этой злой силы…
— Да что у тебя на уме, Полина? Не хочешь учить катехизис? Значит, ты и боженьку больше не любишь? Значит, ты никого на свете не любишь?
Смерть Серафины не только покончила со всякой невинностью в этом мире — оказалось, что невинность эта, подобно рассеявшемуся в воздухе зыбкому сну, никогда и не существовала вовсе. Это пламенное убеждение оставалось единственной верой, единственной надеждой моих беспросветных дней. Если человек недобр, чего ему еще остается желать, кроме зла, свершение которого наполняет его душу горькой радостью и желчью?
С приближением лета нас снова обступили болезни. Тяжелые зеленые мухи набрасывались на что попало: на оконные переплеты, на остывшую безвкусную еду, на лица младенцев — мух особенно привлекала их нежная влажная кожица. Тщедушные малыши хлопались в обморок повсюду: в трамваях, в парках, — они медленно сползали на руки матерей, словно пораженные отравленными стрелами смертной истомы, которые носились в нечистом городском воздухе, до самой осени застревая в груди. Семьи победнее искали прибежища в санаториях: один за другим все отпрыски семейства Карре, которых я часто навещала, несмотря на материнские запреты, отбыли в таинственную обитель исцеления, о которой мать запрещала мне и заикаться, заявляя, что «стоит только заговорить о санатории, как тут же начнешь харкать кровью…». Если у меня на несколько дней подскакивала температура, она, тронув мой лоб, начинала причитать: «Это она и есть, та самая хворь! Чем взрослей ты становишься, Полина, тем меньше ешь. Надо бы тебе отправить в деревню, и как можно скорее, завтра же, как только проснешься…»
Так вот и случилось, что однажды утром дядюшка Викторин с торжествующим видом вылез у нашего крыльца из своего крохотного черного автомобильчика, чей округлый верх как нельзя лучше сочетался с круглой шляпой, лихо сидевшей на его лысой и тоже круглой, как яблоко, голове, — вылез, объявив матери, что я поеду с ним «в горы, на свежий воздух, там девчонка будет лопать как чушка, потому что у нас, в Сент-Онж-дю-Делир, лупят тех, кто воротит нос от еды…». По его словам, в этой захолустной деревушке меня ждали «десятка три двоюродных сестриц, толстых, словно бочки», а кроме того — «с полдюжины тетушек, кажная поперек себя шире, и бабка, упрямая, как осел…».
— Там тебе не будет скучно, — добавила мать, — а то ведь здесь, со мною и с отцом, ты, можно сказать, одна-одинешенька…
— Эй, Полина, чего надулась? Моя женушка таких дутиков лупит, ох как лупит… Улыбнись хоть чуток дядюшке, стервозина ты этакая!
Необозримые пространства проплывали у меня перед глазами. Отворачиваясь в сторону всякий раз, когда бедный дядя Викторин делал попытку заговорить со мною, словно с дикой зверюшкой: «Эй, да вылезай же ты из своих кустов, лисичка-сестричка, не то, попомни мои слова, женушка пропишет тебе по первое число, нынче же вечером и пропишет!», я ощущала, как во мне нарастает чувство гадливости, смешанное с негодованием, к этому толстенькому, совсем незнакомому человеку, который, сидя рядом со мною, дымил сигарой и, пересыпая свою речь солеными словечками, бахвалился, что «числится поваром в лагере лесорубов и может лопать от пуза — хоть цельную ночь и цельный день», — я ощущала эту смутную неприязнь, даже не представляя, что настанет день, когда мне покажется просто очаровательной сценка с участием этого самого дядюшки Викторина: деловитый, одетый в белое, он стоит в окружении взмокших от пота дровосеков и ловко переворачивает блины на сковородке, а над ним клубится туча мошкары, приплывшая на закате из пахучей лесной чащобы; однако сейчас у меня такого и в мыслях быть не могло, сейчас я никого не любила и, думалось мне, никогда не смогу полюбить.
— Городские дети почище бесенят, верно тебе говорю. Белый хлеб лопаете, не то что мы, деревенские, — хлеб у нас черный, лесная ягода тоже черная, зато мы в вере крепки…
К деревне мы подъезжали вечером, по узкому проселку, ведущему, казалось, прямо на край света, будто по ту сторону гор линии горизонта уже не существует. Нескончаемые песчаные дороги, на удивление похожие одна на другую, дороги, по которым мы с наступлением темноты принялись кружить, словно попали в заколдованное место («Да куда же он запропастился, этот Сент-Онж-дю-Делир?..»), встречая повсюду все ту же изгородь у обочины, тех же овец за нею и тот же крест у въезда в деревню, — эти ухабистые, пыльные проселки долго еще змеились вдоль обочин моей памяти словно символ чего-то незавершенного и гнетущего, словно напоминание о нерешенной и брошенной на середине задаче.
— Глянь-ка, что-то там светится — должно быть, керосиновая лампа. Ну вот мы и дома.
Наконец-то он показался — дом моей бабки и моих дядюшек, освещенный чуть заметным красноватым огоньком, мерцающим в проеме ворот, и внезапно я оказалась в замызганном чистилище, где обитали мои родичи, словно бы только что сотворенные господом богом, к вящему моему изумлению, ибо до этого вечера я и не подозревала об их существовании, об их жизни, столь непохожей на мою собственную. Я всматривалась в надвигавшиеся на меня лица, стараясь уловить выражение суровой доброты в очертаниях могучих челюстей, словно бы вырубленных топором в подражание какому-то древнему прообразу, в котором, без сомнения, таилось что-то жутковатое, и не находила его ни в этих грубых чертах, ни во взгляде холодных голубых глаз, притушенном, к счастью, поразительно густыми бровями и ресницами.
— Вовремя подоспели: еда на столе, — заявила, уперев руки в бока, здоровенная бабища. — Только боюсь, не грех ли ее скармливать городским девчонкам вот с такими-то бледными личиками, ну чисто как у мертвецов…
— Личики бледней воска, зато грехи черней угля! — выкрикнул мальчишка-уродец и принялся хохотать как сумасшедший, втянув голову в костлявые плечи. — Это верно, что ты моя двоюродная сестрица?
— Заткнись, Жакоб! — проревел чей-то голос, но мальчишка, получивший вслед за окриком здоровенную затрещину, заржал пуще прежнего.
Жакобу никогда не суждено было переступить порог своего отчуждения. В лоне собственной семьи он принадлежал к презренной касте «выродков», в которую входили его младший брат эпилептик, глухонемая сестра, сухорукая, как и он, тетка, тоже страдавшая искривлением позвоночника, пригнетавшим обоих к земле и вынуждавшим их постоянно прижимать к груди искалеченные руки, которыми они все-таки ухитрялись кое-что делать, и, наконец, среди наказанных богом братьев и сестер Жакоба числился еще один каверзный подарок Провидения, изнемогавшего под гнетом собственной неуемной щедрости: то был так называемый «голубенький братец» — никто даже не осмеливался произносить вслух настоящее имя этого монстра, воплощавшего в себе все уродство, все муки и, должно быть, все грехи мира. Он был самым младшим отпрыском в семье, но мать Жакоба утешалась, вынашивая в дряблом своем лоне, под бессменной холщовой рубахой, четырнадцатый жуткий плод, от которого было бы лучше всего избавиться, повинуясь праведному голосу милосердия, но, поскольку милосердие существовало только в грезах Жакоба, на свет появился еще один уродец, дабы продолжить непорочную родословную бедствий. Полчище здоровых мужчин и ребятишек поднималось поутру в этом доме не только для того, чтобы измываться над калеками, но и чтобы ковыряться в земле, дабы прокормить самих себя и скотину. Что же касается Жакоба, то он с утра до вечера возился со свиньями и, похоже, ел из одного с ними корыта. Семья относилась с известной снисходительностью к немощам его тетки Атталы, к припадкам его брата эпилептика, но строптивый, упрямый, порою всю ночь напролет бродивший по лесам Жакоб занимал столь низкую ступень в семейной иерархии, что в конце концов привык к посвисту кнута, полосующего его костлявое тело, как привыкают — по собственному его выражению — «к дуновению ветерка в засохшем лесу».
Я делила с Жакобом матрас, кишевший клопами; в углу спальни, всю ночь не смыкая глаз, вертели своими жирафьими шеями сестры-двойняшки Эвелина и Руфь; они лениво почесывались и бесстыдно хихикали всякий раз, когда бедная наша тетушка Аттала извергала очередной яростный потоп в ночной горшок, дремавший у нее под кроватью. Жакоб во сне что-то тихонько бормотал нараспев, будто плакал; я слушала его, в безнадежной тоске отсчитывая жуткие часы. Бессвязный бред Жакоба пугал меня; он часто рассказывал о жестоких битвах, что вершились в горах между взбунтовавшимися свиньями и их пастырями — людьми из рода его отца, «исполинами, у которых черные зубы, а глаза голубые, словно плевки. В конце концов свиньи растерзали и пожрали великанов, начиная с головы и кончая сердцем, а клочья окровавленной кожи оставили орлам, прилетающим ночью…». Жакоб вздрагивал от восторга, рассказывая об этих кошмарных пиршествах, словно жуткое повествование смягчало боль от изведанных им унижений. Я боялась этого десятилетнего мальчугана, с виду такого доброго, — в сердце его неимоверная мстительность сочеталась с жертвенным состраданием. По ночам его холодная искривленная рука прикасалась к моим волосам.
— Если ты завтра откажешься лопать, отец задаст тебе такую же лупцовку, как и мне. И кровь твоя растечется по всему столу… Кап-кап… Вот увидишь, задаст он тебе выволочку, сестрица…
Отец Жакоба заставлял меня есть силком, а его жена и тетка Аттала иной раз помогали ему, распяливая мой рот цепкими, словно клещи, пальцами. В рот мне, как в бездонный колодец, лили и пихали что попало; патоку, молоко, в котором плавали мухи, куски хлеба — диковинное зрелище для Жакоба, которого постоянно морили голодом за насмешки над сельским кюре и вообще надо всем, что имело отношение к религии, которую он считал делом никчемным и даже чудовищным, называя ее «убийцей бедняков, который плюет в тарелку калеки». При виде моего безразличия к хлебу насущному Жакоб, который всегда так решительно вставал на мою защиту, так заботливо укрывал меня по ночам, если чувствовал, что я зябну, в такие минуты молчаливо одобрял сумасбродные выходки своего отца и сам становился похожим на него. В его безумных зрачках вспыхивал крохотный недвижный огонек — отблеск жестокости и дикого бешенства, и это наводило меня на мысль, что все обитатели этого дома прокляты, осуждены на веки вечные.
Но как только тягостная трапеза подходила к концу, к Жакобу возвращалось его обычное настроение: смесь чуткой нежности, невинного коварства и того драгоценнейшего из чувств, которое он сумел сберечь в своей полной тягот жизни среди людей, не знающих, что такое улыбка, — обостренного чувства абсурдности бытия, помогавшего ему отбросить видимость явлений, чтобы вернее судить об их сущности, но судить с откровенной и веселой усмешкой, как бы удостоверяющей, что лицемерие человеческое не способно противостоять смеху. «Гореть тебе в адском огне, богохульник!» — кричали ему, когда он, взобравшись на стол и прижав руку к животу, передразнивал спесивого кюре; его хрупкое тело содрогалось от задорного и в то же время злобного хохота, избранного им в качестве наивернейшего из орудий мщения, — ведь из вороха впечатлений от той дикости, свидетелем и очевидцем которой ему довелось быть в детстве, он сохранил лишь меланхолическую и мечтательную улыбку, затаившуюся в уголках губ… «Волосенки-то у него гладкие, ровно птичьи перья, да только мозгов под ними нет, живет дурак дураком, и грешит вдобавок, возводя хулу на священников и самого господа бога!»
— Ваш боженька тоже дурачок, послушали бы вы, как он над вами потешается!
Больше всего на свете, больше смерти Жакоб боялся сумасшедшего дома: он словно предчувствовал, что ему не миновать этой скорбной обители, куда его заточат «до скончания времен и погибели демонов», и он навеки останется в этой бездонной я беспросветной дыре. Его опасения были не напрасны — всю жизнь ему пришлось перебираться из одной лечебницы в другую; поначалу он бунтовал, придумывая все новые и новые богохульства, потом мало-помалу смирился с болезнью, которой никогда не страдал, разве что в примитивном воображении своих родичей, и в конце концов превратился в угрюмого и ко всему безучастного парня — ни о чем больше не помышляя, кроме безмерности пустоты, окружавшей его, он бессмысленно топтался в зловонной сердцевине приюта для душевнобольных детей. А покамест дни Жакоба были окрашены кровью, и единственным прибежищем ему служила лесная чаща. Как-то в воскресенье, когда Жакоб изловчился «харкнуть в кропильницу, чтобы досадить святой Маргарите», отец выволок его за ухо из церкви, притащил домой и там, на глазах матери и тетки, отхлестал сухими и колючими прутьями терновника.
— Эй ты, Деревяшка, покажи-ка нам свою деревянную ногу! — орал Жакоб.
В час ночных откровений он рассказал мне, как однажды застал отца, когда «этот хряк, перед тем как завалиться спать, отстегивал свою деревянную ногу».
— Правду тебе говорю, сестрица, у него деревяшка вместо ноги, настоящую-то ногу ему молотилкой оттяпало. Прямо умора! Он лупит меня, потому что я скрючен в три погибели, а сам стыдится этой деревяшки и прячет ее на ночь под свой паршивый матрас!
— Да будь у меня деревянная нога, гаденыш, я уж давно бы тебя этой деревяшкой укокошил!
— Сам ты гад!
— Свиненок!
— И не стыдно тебе, Жакоб? Да и тебе, муженек, тоже? — встревала мать. — Как вам не совестно драться! Тут ведь и до смертоубийства недалеко. Что бы сказал господин кюре, если б вас увидел? Стыдись, Жакоб, у тебя все лицо в крови. И ты постыдился бы, муженек: шею готов свернуть парнишке, ровно куренку. Помолись, Жакоб, и ступай-ка спать. Какой стыд! Что скажет бедный господин кюре?
— Скажет, что у нас в семье не люди, а сплошь свиньи. Хуже всего, что так оно и есть. А еще хуже, что и сам он свинья.
Мать обмывала окровавленного сына под краном.
— Я тебя отправлю в сумасшедший дом, Жакоб, если ты не образумишься, поганец этакий! Ни стыда у тебя, ни совести, одни только зубы, чтоб кусаться…
В «дни большой порки», как называл их Жакоб, отец лупил всех ребятишек без разбору, всех, кого заставал дома, переходя от одного к другому осатанелой танцующей походкой, а жена тем временем вопила:
— Да ты с ума сошел, что ли? Полине глаза чуть не выстебал! Добро бы лупцевал собственных детей, они наши, их нам господь дал, а чужого ребенка бить — где же это видано? И бил бы хоть по мягкому месту, а не по лицу!
— Дак ведь гордыня, она как раз на лице-то и обозначена, — отвечал отец, лютуя пуще прежнего.
Какое ему было дело до наших глаз, разве палач видит тех, кого терзает?
— Ну погоди у меня, Жакоб, вышибу я твои паскудные гляделки, покатятся они по полу — ворону на зависть.
Я получила удар по глазам, и веки у меня кровоточили. Надо мной склонились Жакоб и его злобно ухмыляющийся отец.
— Хе-хе, Полина, вот и тебе досталось, ну-ну, вставай, нечего прикидываться.
— До крови избил, как меня, — заключил Жакоб в выражением болезненного удовлетворения, которое он обычно испытывал при виде чужих несчастий. — А мне руку выкрутил, прямо как старую тряпку, мерзавец, вот взгляни-ка, сестрица… Да только я все равно плевать на него хотел!
— Что скажет господин кюре, если увидит? — гнула свое мать. — А ну-ка, муженек, запрягай лошадь, нужно отвезти Полину в больницу. Ох, что скажет господин кюре!
Над полями спускалась ночь. Угрюмый туман заволакивал неприглядную и безропотную равнину. Скрестив руки на груди, Жакоб хулил бога, сплевывая в дорожную пыль.
— Н-но, пошевеливайся, проклятущая! — рычал отец, дергая вожжами.
Так завершалась пора, которую дядя Викторин поэтически окрестил «временем сытной кормежки, благословенной порой каникул».
Глава вторая
— Ты еще не умерла, Полина, ты все еще здесь, все продолжаешь изводить свою мать? Никогда ты, видно, не исправишься! Ах, если б господь бог наказал тебя так, чтобы ты наконец одумалась!
Мать, как всегда, была права. Я убивала время, прыгая через скакалку из конца в конец дома. Серафина вот уже год как лежала в могиле. Жакоб медленно угасал в приюте для слабоумных. Мои глаза, из-за которых я без малого два месяца промаялась в больнице, теперь почти зажили и с безразличием взирали на чуть подернутый туманом мир, лишенный тех странных чар, что обычно сопутствуют выздоровлению. Мысленно я все еще находилась среди молчаливых больных; вспоминала столы и стулья, мимо которых на белой каталке перевозили из палаты в палату бледную девочку с голубоватыми венами на висках, и даже мать, резавшая для меня красное мясо, «бесценную телячью печенку, которая могла бы спасти жизнь всем изголодавшимся малышам на свете…», — ей приходилось каждую субботу разоряться на этот деликатес, — даже мать напоминала мне того лекаря в забрызганном кровью халате с ухватками мясника, который принимал нас поздно ночью в Сент-Онж-дю-Делире и орал, дыша винным перегаром: «Я только что спать собрался, уж и свет погасил, и вот на тебе — являются тут всякие с выбитыми глазами… Положите девчонку на пол, чтоб гляделки совсем не вытекли, а я пойду посмотрю, есть ли у меня бензин в баке, отвезем ее в больницу там ей живо глаза приклеят, хоть соплями, да приклеят…» Мать суетилась где-то вне сферы моих ощущений, в мире своих собственных тревог, взбаламученном лишенными смысла воспоминаниями… «Шла бы ты поиграть на солнышке, свежим воздухом подышать… А то с утра до ночи толчешься возле меня, словно в клетке…»
Мне было незачем больше жить, незачем любить, я надеялась, что ослепну и отныне буду следить лишь за тусклыми переливами порождаемых памятью видений, однако постепенно, вовсе того не заслуживая, я начала прозревать, и вместе со зрением ко мне возвращалось мучительное сознание того, что меня видят окружающие, что взгляды родственников, как и прежде, преследуют меня, — и снова я не могла найти успокоения ни в себе самой, ибо душа моя изнемогала от тоски, ни вокруг себя, ибо никогда еще солнечный свет не казался мне таким беспощадным, а воздух — таким мутным.
— Пора тебе понемногу приниматься за дела, пора начинать заниматься…
Расставшись с матушкой Схоластикой, я перешла под опеку матушки Феофилы — истязательницы куда более осмотрительной и осторожной; она обладала способностью мигом учуять смрад греха, откуда бы он ни исходил, и в этом ее вдохновлял гений матушки директрисы.
— Ах, дети мои, вы даже не представляете себе, какой благодатью Господней осенена преподобная наша матушка… Все милости ей дарованы, все добродетели… Ах, если б вы только знали, как я рада, что рядом с нами бодрствует столь святая душа, совсем-совсем рядом — за дверью нашего класса…
Неотвязные, липкие испарения греха, измысленного матушкой Феофилой, исходили от нее самой при каждом ее слове; уж не знаю, какой она была на самом деле — высоконравственной или порочной, — но мыслями о грехе упивалась сверх всякой меры и помимо своей воли повсюду оставляла за собой острый запашок сладострастия, к которому ее воспитанницы чутко принюхивались — кто с интересом, а кто и со злорадством.
Не обращая внимания на болтовню матушки Феофилы, на ее визиты к директрисе и на появление самой директрисы у нас в классе, я засыпала прямо за партой, «усталая, — по выражению моей матери, — как тысяча мужиков, и разбитая, как целое полчище солдат», — засыпала, не выдержав напора ослепительных световых струй, которые, врываясь в класс, застывали в тяжкой, лишенной сновидений дреме.
— К великому моему сожалению, добрая моя матушка Феофила, я вынуждена передать вам с рук на руки сию паршивую овечку; поступайте с нею, как хотите; ее уже выгоняли из трех школ за неблаговидные поступки, но, поскольку наше заведение славится милосердием, как нам не дать, добрая моя матушка, последнюю возможность исправиться этому бедному ребенку?
— Мы очень рады, преподобная матушка, — ответствовала Феофила, ущипнув за локоть Луизетту Дени, которая, скорчив злобную гримасу, пересела на мою парту.
— Парочка идиоток! — зашептала она мне на ухо. — Болтливы как сороки, целый день только и делают, что треплются, нужно поскорей сматываться отсюда…
Однако она не только никуда не смоталась, но и сумела заразить весь класс духом такого бунтарства, что мне уже не пришлось спать во время уроков. Матушка Феофила вынуждена была отступить под натиском этой отличницы.
— Господь щедро одарил вас частицей божественного своего разума, но забыл отделить в душе вашей доброе зерно от плевел… Матушка директриса сказала, что вы так бесчинно вели себя нынче утром в коридоре, что она не могла поверить ушам споим… Извинитесь же перед нею, Луизетта, немедля извинитесь…
Дни Луизетты проходили в сплошных прогулах, за которыми, однако, никогда не следовало никаких извинений, и, наблюдая ее стремительную беготню по коридорам, я чувствовала, как во мне самой пробуждаются уснувшие было демоны. В Серафине я любила ребенка, в Луизетте полюбила старшую сестру, к тому же куда более независимую, чем я сама, и если мне оказалось не под силу уберечь первую из них от несправедливости и жестокости, то теперь я могла вместе со второй, всегда готовой к бою, рвать на куски завесу ненавистной мне власти.
В тех случаях, когда матушка Феофила осмеливалась замахнуться на Луизетту указкой, та, по ее собственному выражению, начинала «защищаться, как тигр, и визжать, как чертенок, которому прищемили хвост»; она успела перебить немало тарелок о голову своей мачехи, которую терпеть не могла, она способна была запросто свернуть шею любой из своих сестер, она вообще не боялась никого на свете — ни бога, ни людей.
— Давай считать, что ты мой брат и я твой брат, поклянемся в вечной дружбе, и я уколю тебя ножом до крови, а нарушишь клятву — убью…
Но, уже зная изменчивую свою натуру, я не отваживалась на подобные клятвы. «Я ничего не могу тебе обещать, я ведь такая лживая…»
— Вечно ты фальшивишь, как испорченный тромбон, — твердила мне мать, — я еще не видела такой врушки; ты врешь, как дышишь, вон даже нос у тебя горит, прямо как свечка перед образом господним… Надо бы тебе признаться в своем вранье исповеднику, надо бы исповедаться как следует, Полина…
И вот мы буйной ватагой врываемся в сумрак церкви, торопясь излить душу в бездонный сосуд покаяния, хранимый в руках бедных исповедников, пожизненный узников своего долга, — они внимают нашим тайнам, подставив огромные бесстыжие уши, заросшие клочковатой шерстью, слушают нас, прильнув к решеткам своих каморок, и повторяют сомнамбулическим шепотом! «И сколько раз вы совершали это, дитя мое? В мыслях или на самом деле? Пытались ли вы противиться искушению? Предавались ли сим греховным усладам в одиночку, или с вами был еще кто-то? Ах, какой ужас, можете не продолжать, вы идете прямехонько в ад, покайтесь скорее…» Мы заливаемся краской от смущения и от сознания того, что все мы рабы греха, потом опрометью бросаемся к молитвенным скамеечкам, дабы припасть к стопам Господа и выклянчить его прощение; обхватив голову руками, мы бормочем слова покаяния, искоса поглядывая друг на дружку и чуть заметной улыбкой призывая выстроившихся и шеренгу мальчишек принять вместе с нами участие в этом суде совести. Покидаем мы церковное подземелье так же, как и входили в него, — тараторя, захлебываясь от кашля, намеренно громка шаркая подошвами.
Но едва мы ступаем за порог церкви, как наша черноногая стая норовит разлететься во все стороны, и без помощи директрисы матушке Феофиле ни за что не собрать нас.
— Ах, что бы я делала без матушки директрисы! Бедные дети, как вы торопитесь покинуть лоно церкви!
Луизетта Дени толкает меня локтем в бок.
— Ну что за дуры эти две болтливые сороки! Вечна, потчуют друг дружку любезностями, кто кого перещеголяет; они, наверное, и спят вдвоем в одной ночной рубашке, и панталоны у них тоже общие, а еще я должна тебе сказать: монашенки никогда не ходят в уборную, я пыталась подсмотреть, но из этого ничего не вышло — и очень уж они боятся прогневить своего боженьку…
Долго еще после исповеди, когда дух покаяния уже успел испариться, слова исповедника продолжают жужжать у нас в ушах.
— А что это такое — греховные услады? — спрашивает меня Луизетта. — Ты в этом что-нибудь смыслишь?
— Ну, это те штуки, какие мы вытворяли с Жаку в овраге.
— А, тогда мне это тоже знакомо, мы этим занимались по ночам с младшим братом, но что же тогда называют настоящими смертными грехами, о которых отец Кармен говорил? Может, попробовать как-нибудь?..
— Я не могу, и не упрашивай. Моя совесть и без того похожа на верблюда — целый горб грехов на спине…
Я заметила, что в разговорах люди то и дело перебрасываются, словно мячиком, словом «совесть». «Видно, у тебя ни крупицы совести нет», — часто повторяет мать. «Нужно иметь чистую совесть», «Пусть совесть наша будет чиста, как лилия…» — твердит матушка директриса. «Сейчас я малость подчищу твою грязную совесть!» — угрожал Жакобу его отец. А если кто-нибудь хочет похвалить человека, то говорит, что у него на редкость «спокойная совесть».
— Пошли ко мне после школы, запремся на ключ и посмотрим, что это такое, так ли уж они греховны, эти греховные услады… — Стянув с себя черное платьишко и швырнув его комком в угол, Луизетта продолжает: — Как я ненавижу эту старую тряпку, она мне от сестры досталась! Да раздевайся же, Полина, посмотрим, что это за штука такая… Ага, вот и вместилище греха, как говорит отец Кармен, и еще он говорит, что, если его коснешься, можно обжечься, но смотри — чем сильней касаешься, тем меньше жжет… Смотри-ка, Полина, пупок у тебя, оказывается, меньше моего, зато у меня коленки совсем как у мальчишки. И вообще не хочу я быть девчонкой! Ненавижу кукол, младенцев и всякое такое, они только и делают, что ревут да воняют, нет, что там говорить, я хочу быть мужчиной и ходить по сугробам на снегоступах, ну-ка подай мне лыжные брюки моего братца, они вон там висят. А еще мне хочется быть старьевщиком и продавать старое барахло на улице или тем очкастым человечком, что чинит зонтики и дерет с каждого по пять центов… Помоги-ка мне, Полина, перекинуть помочи крест-накрест, как у папы. Ох, как же я ненавижу эти сестринские платья со всеми сестрицами в придачу и все эти чулки и туфли, такие черные, словно моя настоящая мама до сих пор каждый день умирает, словно, куда ни сунься, всюду видишь ее гроб, словно папа — я так его любила — не женился на этой старой мерзавке Селестине, которая заставляет меня звать ее «мамочкой»… А сестры мои — точь-в-точь черные паучихи с желтыми ножками, если б господь бог и взаправду жил на небе, как нам говорят, он не сотворил бы таких гадин, у него просто совести не хватило бы…
Но вскоре Луизетта научилась запросто рассуждать о «половых признаках мотыльков, муравьев и крокодилов», привлекая к нашему классу настороженное внимание матушки Феофилы и директрисы, не отстававшей от нее по части всякого рода навязчивых идей.
— К какому же полу относится Святой Дух? — спрашивала Луизетта с чарующей вкрадчивостью, которая делала ее столь непостоянной в дружбе, столь изменчивой и неуловимой, точно годы, навсегда выскальзывающие из нашего бытия.
Серафина уже ушла далеко от меня по тропинке времени, и и вспоминала о ней с таким же чувством, с каким, наверное, через несколько лет буду вспоминать о полузабытых днях, которые теперь так спешила прожить в обществе Луизетты. Иной раз, когда мне на память приходила Серафина, я снова слышала, как в нашей палатке нарастает веселый и буйный гомон. «„Стрелки“ на подъем легки!» — вопят вожатые, бегая босиком по утренней росе. И вот мы уже стоим на поляне, поеживаясь от холода, делаем зарядку…
— Эй, барышни, кто там зевает, это же просто неприлично… раз… два… три… четыре… Ноги врозь, руки в стороны, да поживей, влево, вправо, слышите — в палатке у капеллана уже звонят, нам пора на мессу, одевайтесь…
Мы врываемся в эту палатку, еле переводя дыхание, держа ботинки в руках и поправляя сбившиеся галстуки.
— Живо всем надеть береты, без головных уборов не причащаются… Никогда не следует ронять своего достоинства…
Мы врываемся в палатку капеллана, более, чем когда-либо, веруя в силу божьей благодати именно здесь, среди меланхолического аромата цветов и клубов ладана, которым кадит нам в лицо исполняющая роль служки Югетта Пуар. А мы как бы в ответ неистово бренчим блестящими котелками, пристегнутыми к наспех затянутым поясам.
— Чуточку потише! — останавливает нас капеллан и устало машет рукой — он один с нетерпением ждет, когда же кончатся эти две недели и ему не придется больше маяться «среди такого скопища особ женского пола…». — Я, разумеется, свои обязанности выполню, хоть и не очень-то приятно иметь дело с этими маленькими чертовками.
— Не обязанности, святой отец, — перебивает его вожатая, — а свой долг. Обязанностей у нас не существует, скаутское движение зиждется на чувстве долга. Наш долг — служить богу и родине.
Ошалев от слишком ревностного исполнения этого долга, я и оттолкнуло от себя Серафину.
— Вы лучше всех лазаете по деревьям, вы всегда завоевываете своему отряду почетный вымпел на соревнованиях по бегу, поэтому я назначаю вас главной санитаркой; ваш долг — помогать бедняжкам, которые падают в обморок перед причастием…
Мы со звеньевой Бертой решительным шагом разносим бедняжек по палаткам и там окатываем их водой из графина.
— А что тут особенного, это наилучший способ привести человека в чувство, к тому же «стрелки» не должны бояться испытаний…
Расставание с лагерем превращается в слезную муку. Сбившись под деревьями захлебывающейся от рыданий стайкой, мы протягиваем друг дружке руки с поломанными ногтями, повторяя слова прощания:
— До свиданья, сестры мои, мы еще увидимся, не в этом мире, сестры мои, так в ином. Мы увидимся, сестры мои, когда-нибудь да увидимся…
А капеллан тем временем улыбается во весь рот и думает, как он сам не раз признавался нам мрачным тоном, «о своей доброй старой трубке, о своем старом друге кюре, что ждет его в городе, о своих важных делах» — вот о чем думает капеллан, расставаясь до следующего лета со «всеми этими особами женского пола, что жужжат вокруг него точно мушиный рой».
Однажды, покинув свои дальние берега, к нам собралось нагрянуть великое светило скаутского движения, что вызвало прилив небывалой активности во всех организациях нашего города.
— Вздымайте выше гордое знамя, барышни: никогда еще столь великая честь не выпадала скромным «Стрелкам»! К вам собственной персоной прибудет сама основательница нашего движения леди Топвелл! Ах, барышни, этого вам не забыть до конца дней…
Во всех отрядах сообщества — будь то «Быстрая косуля» или «Золотой лев», «Резвый кролик» или «Неустрашимый медведь», не говоря уж о «Стремительном олене», — сотни девчонок плели гирлянды из цветов и лозунгов, подлаживая свои хриплые голоса под несмолкаемый грохот военного оркестра, готового встретить леди Топвелл на вершине ее славы — эту увенчанную шлемом и обутую в сапоги даму с широченными плечами и пышным бархатным галстуком на мощной груди, украшенной несметным количеством орденов и медалей, казалось паривших вокруг нее на манер потревоженного осиного роя; подчеркнуто мужеподобная, с намеком на усики, оттенявшие верхнюю губу, она приветствовала нас с высокой трибуны, вызвав единодушный восторженный вопль бесчисленных сплоченных рядов, исходивший из самой глубины сердец, исполненных безграничного обожания столь важной и столь долгожданной гостьи. Груды роз увядали у ее толстых ног, задыхаясь, должно быть, в спертом воздухе актового зала. «Быстрые косули» и «золотые львы» возлагали на трибуну, в числе прочих почетных даров, свидетельства своей преданности скаутскому движению — стихи, написанные красными чернилами, символизирующими кровь.
Косуля быстрая вам до конца верна, Не зря воительницей названа она, У золотого льва не сердце, а гранит, Он верность вам навеки сохранит!Говорить по-нашему леди Топвелл не умела, и ей не оставалось ничего иного, как только окидывать растроганным взором свой придворный зверинец, чьи обитатели так преданно ей служат, да изредка восклицать взволнованным басом:
— We-e-ell… Go-o-od… Ah! We-e-ell… We-e-ell…[91]
Вскинув левую руку в торжественном приветствии, мы запели гимн во славу родины, и хмельной восторг переполнил чаши наших сердец. А в мозгу замельтешили сумбурные мысли о смерти, о готовности пожертвовать своим счастливым детством ради блага прекрасного и солнечного Запада, о телах, утыканных стрелами, об отрубленных головах — пусть только леди Топвелл прикажет! Ах, мы преданы вам до гроба, делайте с нами, что хотите, у вас такой шикарный костюм, такие великолепные кожаные сапоги, ваше имя не выговоришь, не сломав язык, вы прибыли к нам из такой дали, возьмите нас к себе на корабль, а то ведь матушка Феофила завтра опять даст волю рукам… Ах!..
Но леди Топвелл уже спешила к новым триумфам, уронив слезу и величественно высморкавшись в клетчатый носовой платок.
— Fare… we-ell… Fart… we-ell![92]
Тем и кончилось это грандиозное событие: великое светило отбыло восвояси, так и не прихватив нас с собой.
В ноябре матушка Феофила выпускала из чистилища души мертвых; в каждой снежинке мы должны были узреть очередного «праведника, нашедшего успокоение в руце Божией». Земля была прямо завалена этими белыми, липнущими к ногам душами. А развешенное на веревках окаменевшее белье баюкало на холодном ветру другие продрогшие души, облаченные в ночные рубашки и дырявые кальсоны, судорожно перебирающие штанинами…
— Все это — сплошное вранье, — говорила Луизетта Дени, — никакого чистилища и ада не хватит, чтобы вместить такую прорву душ! Ух, до чего же я ненавижу этих старых дур монашек!
— Ваше ежегодное уединение пойдет вам на пользу, Луизетта; мы с матушкой директрисой будем молить Господа, чтобы он направил вас на путь истинный; не забывайте к тому же, что месяц поминовения усопших является и месяцем покаяния.
Настоятель монастыря, где нам надлежало «уединиться», проходил, видно, выучку среди заключенных; он распахнул перед нами врата своей обители, словно то были двери великолепнейшей из тюрем.
— Входите, гостьи мои, настал час суда. Господь наш ждет вас под сим кровом…
Он развел нас по нашим спальням — по «кельям, озаренным светом Божественной благодати», — и оставил одних «перед судом собственной совести». Перепуганная этими полицейскими мерами, я проводила все ночи в спальне Луизетты, прячась под кровать при звуке шагов матушки Феофилы в коридоре.
— Наверное, она бросила директрису и объявила, что «предается уединению», а сама крутит любовь с отцом Гюставом; у нее на уме одни тряпки, все эти платья да юбки, что волочатся по земле наподобие черных змей… Разинет рот во время проповеди и пялится на отца Гюстава, а сама прямо млеет от любви — ну не дура ли, а? Знаешь, что у нее на уме? Я тебе сейчас скажу: у нее на уме одно начальство, ага, только одно начальство. А еще ее хлебом не корми — дай пошпионить за нами, чтобы потом задать нам выволочку… Знаешь, я в первый раз попала в такой паскудный монастырь, в первый, но зато уж и в последний, больше меня сюда не заманишь, я на ихний «истинный путь» становиться не собираюсь… Нет, никогда еще я не видела такого сволочного места, а потом, здесь жуткая вонь — от монашек, что ли, или еще от чего, не знаю! Даже поиграть во двор не выпускают, только молись да молись целую неделю — можешь себе представить? Нет, больше они меня сюда не заманят! А знаешь, что вчера отмочил отец Гюстав? Я ему сказала, что нет у меня никаких грехов и исповедоваться мне не в чем, так он заявил, что запрет меня в «темную келейку, где кишмя кишат крысы». Идиот, форменный идиот! Попомни мое слово, если он меня в эту келью засадит, я его до крови искусаю…
— Матушка директриса говорила, будто ты одержима бесом, будто тебя нужно кропить святой водой, чтобы изгнать нечистую силу. Не везет тебе, Луизетта… да и мне, впрочем, тоже…
— Я из нее самой нечистую силу выгоню, из этой старой идиотки с сизыми губами и восковыми пальчиками, да я ей рожу намылю в лохани для грязной посуды!
Закинув руки за голову и задрав вверх ноги, мы с упоением чихвостили своих наставниц, как вдруг дверь отворилась и перед нами в лунном свете предстала матушка Феофила, смахивающая на одно из тех ноябрьских привидений, которые наводили на меня такой ужас; испепеляюще безобразная, с выпученными глазами под белым полотняным чепцом, она била себя в грудь и кричала:
— Ах, я это знала, я давно уже это знала, да и матушка директриса предупреждала меня об опасности…
— А что мы такого сделали? — поинтересовалась Луизетта. — Может, вас завидки берут? Что, уж и поговорить нельзя? Не станем же мы молиться всю ночь, мы ведь еще не монашки — правда, Полина? И вообще, я хочу домой, осточертело мне это уединение, давай-ка, Полина, сматываться отсюда…
И, стоя на кровати, Луизетта принялась рвать волосы на глазах у остолбеневшей матушки Феофилы.
— Не была бы я острижена под гребенку, будь у меня волосы подлиннее, я бы их все повыдирала! Ух, до чего мне надоела вся эта монашеская братия — и вообще все на свете!.. Пошли, Полина, что нам тут делать?
— И вы еще осмеливаетесь… — матушка Феофила наконец собралась с духом, — …вы еще осмеливаетесь спрашивать, что вам тут делать? И у вас хватает на это наглости? Эй, кто-нибудь, помогите, позовите отца Гюстава! На помощь, на помощь!
— Ну что возьмешь с этой трухлявой идиотки? — сказала Луизетта, краем глаза следя за истеричной суетой матушки Феофилы, ринувшейся в коридор. — Давай-ка поскорее соберем свои манатки и смоемся отсюда, пока отец Гюстав не успел нас зацапать! Да пошевеливайся же ты, Полина, с этими полоумными шутки плохи, речь идет о жизни и смерти…
Мы уже собирались шмыгнуть в монастырские ворота, когда на нас обрушилась карающая десница отца Гюстава.
— Правонарушителей надлежит удерживать силой, — разглагольствовал он, шагая вслед за нами, — но не должно забывать, добрая моя матушка Феофила, что обуянных бесом можно исцелить токмо лишь кротостию.
В часовне Луизетта отказалась встать на колени.
— Нет и еще раз нет! С меня довольно, я хочу домой, я все расскажу отцу — будь он здесь, ничего подобного не случилось бы…
— Мы ждем от вас чистосердечного покаяния. Наш вердикт будет исполнен милосердия, если вы во всем покаетесь.
— Да что вы там такое несете, я ни слова не понимаю в этой околесице…
— Признайтесь, дитя мое, признайтесь, а не то я запру вас в каморку, где полным-полно крыс…
Мне самой в конце концов был вынесен оправдательный приговор.
— Бедная малышка была околдована, да-да, это типичный случай бесовского наваждения, такое случается в наши дни… А вот вы, Луизетта, и впрямь одержимы диаволом, он вселился в вас, да притом в самом мерзостном из своих обличий. Его надлежит изгнать, я исполню свой долг, дитя мое, не бойтесь…
— Что правда, то правда: я битком набита бесами, их зовут Барабу, Контигу и Барагуэн, и вся эта бесовская свора ненавидит вас, дьявольски ненавидит! Неужели вам не страшно? И не стыдно?
— Вы были правы, дражайший отец Гюстав, — скорбным голосом произнесла матушка Феофила.
На следующий день Луизетту заперли в темную каморку, где не было ничего, кроме молитвенной скамеечки да распятия, однако никакого намека на крыс не было и в помине. Когда по прошествии суток к ней заглянул отец Гюстав, она так укусила его за палец, что он взвизгнул от боли.
— Это не я, это крысы… — поспешила утешить его Луизетта.
Так завершилось на сей раз наше «ежегодное уединение».
Когда я, вернувшись из монастыря на три дня раньше срока, с невинным видом передала матери записку от матушки Феофилы, в которой сообщалось о моих дурных знакомствах, она не решилась взглянуть мне в глаза, притворившись, будто целиком поглощена ненавистными хлопотами по хозяйству.
— Всем вам, и родителям, и наставникам, — любил повторять в своих проповедях наш кюре, — надлежит помнить, что понесший наказание ребенок не страдает; страдаем мы, вынужденные прибегнуть к наказанию ради его же душевного блага; лишь нам дано испытать муки Авраама, приносящего в жертву сына своего…
— Какая же ты злюка, Полина, — ну можно ли так изводить свою мать?.. У меня сегодня неладно с сердцем и просто сил нет, чтобы тебя проучить, но погоди: придет отец, спустит с тебя штаны и так отлупит, что ты долго сидеть не сможешь…
Но отец, который вернулся с работы усталый и голодный, грел закоченевшие ладони о края миски с обжигающей похлебкой и делал вид, будто не понимает, о чем ему толкует мать.
— Послушай, Джо, дай супу остыть, так все нутро недолго ошпарить! И вот еще что: нельзя распускать детей, нельзя идти у них на поводу, нужно, чтобы они знали, что хорошо, а что плохо…
— Я подыхаю с голоду, — ото шился отец, — позволь мне хоть согреться для начала… У хозяина три машины, четыре особняка, а вот чтобы как следует отапливать цех — на это денег не хватает…
И даже когда обед был закончен, а посуда убрана, отец все еще колебался.
— Да не кипятись ты так, женушка, дай хоть сигарету выкурить… Должны же быть у мужчины хоть какие-то радости в жизни… Ну, где она, эта Полина? — наконец решился он, подымаясь из-за стола и поддевая большими пальцами брючные подтяжки. — Ты куда подевалась, Полина?
Он отвесил мне здоровенную оплеуху, желая как можно скорее покончить с этой малоприятной процедурой, но, заметив, что у меня из носу потекла кровь, тотчас сбавил тон:
— Иди спать, Полина. Господь тебя накажет в день Страшного суда…
Но этот судный день уже настал, и никому из нас не было пощады.
— Нужно быть позубастей, — учила меня Луизетта, — нужно показать этим христовым невестам, что мы не кроткие овечки, а ядовитые змеи…
Внезапно я вспомнила о Жакобе, томящемся в своей лечебнице. Раз в год мы с матерью наведывались к нему. Перед глазами стояла фигура узника с обритой головой, в сером балахоне, похожем на мешок, стянутый вместо пояса веревкой. Жакоб давно уже утратил свое имя, а его больничный номер был неразличим в ряду других номеров. Сестры милосердия из приюта Спасителя для убогих были озабочены слишком многими несчастьями сразу и не могли приглядываться к каждому горемыке в отдельности; помутившийся рассудок Жакоба блуждал, словно призрак, в толпе иных, еще более зыбких привидений. «Душа у него теперь вроде как размякла, а ведь на что шустрый был парнишка — палец в рот не клади…» Что верно, то верно: попав в это расслабляющее и отупляющее чистилище, душа Жакоба, какой бы стойкостью она ни обладала, должна была рано или поздно раствориться в восковом месиве других душ, нагих, лишенных спасительной оболочки, которая защищала их от внешнего мира. И тем не менее сестры милосердия старались поддержать хоть какое-то подобие жизни в этих полубесплотных тенях: денно и нощно они являли чудеса подвижничества, скрытого под маской сухости, изо всех своих сил боролись с закосневшим и непостижимым недугом, но все их усилия пропадали даром, словно поглощенные некой бездонной пустотой, — усилия, устремленные к богу и в часы утренних молитв, и во время полночных самобичеваний, когда больные плакали от голода и холода. Приют Спасителя высился на фоне великолепного пейзажа, на берегу окруженной холмами реки, но овевавший его чистый воздух никогда не проникал внутрь, где копошились невольники, занятые своей грязной работой. Когда бы мы ни навещали Жакоба, он, стоя на коленях, мыл полы в зале. «Он только и делает, что моет полы, это у него мания такая, но мы ему не запрещаем, мы никому ничего не запрещаем, лишь бы вреда не было…»
— Нельзя здесь оставлять этого парнишку, — говорила мать, — я возьму его к себе и буду воспитывать вместе со своими детьми. Эй, Жакоб, одевайся, поедешь с нами в город…
— Плевать мне на вас, — невозмутимо отвечал Жакоб.
Жакобу разрешили ненадолго приезжать к нам — «чтоб хоть немного проветриться», как говорила моя мать. Но когда он появлялся, его странное поведение каждый раз поражало всю нашу семью… Привыкнув жить среди шума и гама, Жакоб либо орал, либо часами молчал, стоя на коленях посреди кухни на кафельном полу, который ему непременно хотелось отдраить.
— Послушай, Жакоб, ты ведь его уже три раза мыл сегодня — тебе не кажется, что этого достаточно?
Жакоб бросался на мать с перочинным ножом, а отец начинал разговор о том, что пора бы выдворить племянника.
— На сей раз, женушка, тебе пришла в голову не очень удачная мысль. Напиши-ка ты его отцу, пусть приедет и заберет своего мальчишку в деревню… Ты уже малость его подкормила и кушетку выделила, да ведь лопает-то он столько, что просто уму непостижимо, вчера я видел, как он стоит, разинув пасть, в молочном отделе, а перед этим он как-то стащил с тарелки у Полины всю печенку и заглотал в один миг, ну прямо зверь… Не сможем мы его содержать, нам это не по карману.
Когда Жакоб увидел на пороге своего родителя, он задрожал всем телом и забился под стол.
— Не смей трогать ребенка в моем доме, — предупредил дядьку отец, — и не вздумай лупить его у меня на глазах.
Однако тяжелая рука уже вцепилась в извивавшегося змеей Жакоба, и он попал в немилосердные родительские объятья. Предвкушая, как он всласть помучает вновь доставшееся ему сокровище, отец Жакоба, ухмыляясь, распахнул дверь. А тот орал, заливаясь слезами:
— Меня тащат в ад, сестрица! Не уберегла ты братца, значит, не любишь меня, Полина… Меня волокут прямо в ад…
Глава третья
Наконец остался позади месяц поминовения усопших, и классы озарились светом приближающихся рождественских праздников. Белый чепец матушки Альмы порхал над грифельными досками, изнемогающими под бременем цифр.
— Возликуйте, дети мои, скоро Господь родится, возликуйте и поскорее сотрите всю эту мерзость с досок: ни к чему нам цифры, когда близится Рождество Христово. Вы не согласны со мной, матушка Феофила?
— Нет, — отвечала та, — мы с матушкой директрисой вас не одобряем. Мы полагаем, что воспитанницы наши должны готовиться к Рождеству Христову не в радости, но в покаянии…
— Довольно с них и одного месяца покаяния! Послушайте, дети мои, мне требуется несколько ангельских голосков для моего хорала; Луизетта Дени, Югетта Пуар, Полина Аршанж, Юлия и Виктория Пулэн, я рассчитываю, что вы будете участвовать в моей пьесе под названием «Да пребудет радость на небесех, яко и на земли». Приходите к трем часам в класс для музыкальных занятий…
— Вот они, мои рождественские ангелочки! — приветствовала она нас на пороге класса. — Пожалуйте за фортепьяно, барышни, но сегодня гаммы отложим и посвятим часок хоровому пению…
Однако слов ее уже никто не слышал — все тридцать учениц, усевшись каждая за свое фортепьяно, принялись долбить гаммы, даже не пытаясь вслушаться в дребезжащие звуки, вырывающиеся из разбитых инструментов: одни просто-напросто перебирали белые клавиши, погрузившись в грустные музыкальные грезы, другие изо всех сил барабанили по ним тоненькими пальчиками, но все были довольны собою — щеки пылают, осанка, несмотря на вертлявые табуреты, гордая — кажется, что сознание собственного достоинства облекло каждую в стальной корсет…
— Что же это они там играют? — недоумевала матушка Альма. — По-моему, отчаянно фальшивят… Сделайте милость, Луизетта, попросите их прекратить эту какофонию… Ну, ангельские голоски, двинемся вперед…
Матушка Альма коснулась клавиш и, прислушавшись, как вибрирует звук, патетически воскликнула:
— До! До! Ну, барышни, начинаем, это же просто, как дыхание, пойте, пойте!
Божественный младенец родился, Слава божественному младенцу…Мы пели — все три десятка учениц, завороженных собственными голосами, пели под взмахи снисходительной дирижерской палочки матушки Альмы, которая случайно пропустила несколько нот и даже не попыталась их наверстать, настолько ее смущали простудное сопение и кашель, прерывающие наше вдохновенное пение; уши ее, надо думать, были оскорблены этими звуками, но ей ничего иного не оставалось, как только улыбаться, и она улыбалась все шире и шире, чтобы хоть как-то подбодрить нас, ибо ей прежде всего нужны были не ангельские голоса, а сами ангелы. Голоса, милостью всемогущего господа, сами прорежутся в рождественскую ночь, а вот эфемерную ангельскую красоту она могла создать и сама.
— Платьица из белой гофрированной бумаги, крылышки из картона — ах, что за прелесть! Да вам настоящие ангелы позавидуют!
Не переводя дыхания, мы перешли от хорала к пьесе.
— Луизетта Дени, вы будете святым Лакримонием, вы, Полина Аршанж, — гладиатором и львом, вам придется четыре раза менять эти роли во время представления; ну а вы, Виктория Пулэн, будете изображать гору…
Луизетта Дени, облаченная в полупрозрачную тунику мученика, сверкая голыми плечами и коленками, гордо прохаживалась по сцене с венком на мальчишеской голове и пальмовой ветвью в руке.
— Что за бесстыдство, — негодовала матушка Феофила, — голые коленки! Видела бы вас сейчас матушка директриса!
А Луизетта, явно довольная тем, что ей удалось пройти невредимой сквозь огонь, и воды, и медные трубы, презрительно поглядывала на своих истязателей и твердила, точно вызубренный наизусть урок:
— Я все пе-ре-несу, Бог — моя опора, Бог — мой крепкий панцирь…
— Не будьте же столь безучастной, Луизетта! — волновалась матушка Альма, увидев среди бушующего пламени равнодушный лик мученика Лакримония, — ведь огонь как-никак должен вас обжигать…
— Чем сильнее жжет, тем приятней, на то я и святой Лакримоний…
Окруженная золотым нимбом лучей, Юлия Пулэн слишком рано вознеслась над горой, которую изображала ее сестра Викториями та немедля сбросила ее с себя.
— Ты с ума сошла, Юлия, разве солнце поднимается среди ночи?..
— Успокойтесь, успокойтесь, — умоляла матушка Альма. — Лакримоний все еще погружен во всенощную молитву, так что солнце может пока присесть.
Каждая из наших репетиций была, по словам моей матери, «лишним поводом увильнуть от занятий и наилучшей причиной для простуды…». Мы покидали школу возбужденные и счастливые и, захлебываясь от кашля, глотали декабрьскую стужу, словно горький напиток, даже не замечая сжигавшего нас лихорадочного жара. Дома я нехотя забиралась в холодную постель, угрожая матери, что заболею еще сильнее, если завтра она не выпустит меня из дому.
— Полежи, Полина, а я приготовлю тебе горчичники, хотя, по правде говоря, мне непонятно, чего ради я так вожусь с тобой, — ты же настоящее чудовище.
Прикосновение щедро смазанного горчицей полотенца к окоченевшей груди обрекало меня на пытку, схожую с той, которую так восторженно принимала Луизетта Дени, игравшая в нашей пьесе роль умирающего на костре мученика; для меня же она стала привычным, хотя и мучительным ритуалом: по меньшей мере уже пятый раз за год матери приходилось пользовать меня этой неопалимой купиной.
Материнская тренога, ее молчаливая сосредоточенность напоминали мне о том, что зима самое тяжкое и самое долгое время года. Погруженная в свои мысли, мать подчас не вспоминала обо мне целыми днями; я все реже и реже умывалась, с грустью замечая, как чернеют на белой скатерти мои грязные пальцы. Иной раз серая полоска на шее напоминала мне, что пора уже становиться единственной хозяйкой той плоти, которая в силу таинственной случайности облекла мои кости, ведь каждый из нас, если разобраться, лишился родительской опеки еще в колыбели, и я в одиночестве своем давно должна была приучиться к опрятности, ведь эта обязанность — сущий пустяк по сравнению с массой других, что меня ожидают. Ну, например, с обязанностью самостоятельно зарабатывать себе на пропитание, о которой я уже начинала задумываться, — она кажется особенно неотвратимой, если начинаешь размышлять о ней в пору зимней стужи. Кроме того, у меня могут появиться новые братья и сестры, и в один прекрасный день мне, возможно, придется отказаться от такой роскоши, как школа, расстаться с собственной ленью, да и с друзьями, которые, на мамин взгляд, весьма способствовали развитию этого порока. При каждом удобном случае она повторяла: «Вместо того чтобы развлекаться с Луизеттой, покачала бы лучше братика да вымыла посуду…» Эти тирады не могли оставить равнодушной Луизетту: она была полна жалости ко мне и ненависти к моим будущим обязанностям, о которых я ей беспрестанно твердила.
— Папа говорит, что после шестого класса девочкам нужно идти работать…
— Если ты бросишь школу, Полина, я тоже уйду, и мы с тобой будем подметать улицы вместе…
Есть у зимы еще одна примета: натянутые в кухне — и у нас, и у Карре, и в семье Пуар — веревки для сушки белья, с которых во время обеда, словно в насмешку, на нос тебе шлепаются капли… Кап… кап… Прямо в чашку с кофе… И вот папаша Пуар, с присущим пьянице тираническим наличием, поднимается из-за стола и, задев головой пижамную штанину, в ярости начинает срывать с веревок белье здоровенными ручищами, словно вступая в рукопашную схватку с неблагодарным полотняным существом, которое целый день протомилось над холодной плитой, но до сих пор еще исходит влагой — на зависть любому утопленнику…
Дни стирки были для матери днями горького унижения, которое она пыталась скрасить мечтами.
— Почему бы нам не переехать, Джо? В нашем квартале детям не жизнь. Почему бы нам не переселиться в Сен-Тома-де-Руа? Это приличное место, там и зелень, и говор чище, чем здесь…
— Нам и тут хорошо. Куда уж лучше.
Разочарованно улыбаясь (отец редко замечал всю прелесть этой улыбки), мать упрекала его за избыток простодушия и неумение бороться за свое счастье. Она не знала, как втолковать ему, что она желает для нас того, к чему когда-то стремилась сама, — иного, более достойного существования. Мысль о том, что мне, как и ей, придется, возможно, бросить школу, не достигнув пятнадцати лет, еще больше углубляла пропасть между ней и другими, более «достойными» людьми.
— Мы не бедствуем, живем не так уж плохо, а вспомни-ка, что творилось в моей семье, когда я был мальчишкой. Нас было семнадцать душ — и всем пришлось работать. А ведь мой отец вовсе не был слюнтяем, он был настоящим мужчиной. Ладно, обещаю тебе: настанет пора, и мы съедем отсюда… будет у нас свой дом…
Днем отец трудился на заводе, вечером учился, по ночам подрабатывал на строительстве дорог — и при этом еще удивлялся, что, «не дожив до сорока, похож на выжатый лимон»; он худел, лысел и, однако, постоянно сравнивал теперешнее наше благополучие с былой неустроенностью, с нищетой, царившей на ферме его отца.
— Справедливый был человек, ничего не скажешь: если на Рождество у него было всего четыре апельсина на всех детей, он делил их на семнадцать частей, и, представьте себе, всем хватало…
Единственным удовольствием, которое мог доставить мне отец, были наши воскресные прогулки на мотоцикле; он усаживал меня в коляску и, гордо махнув рукой соседям, мчался вперед под грозовым небом, на которое я хмуро поглядывала из-под его локтя. Сидя в мотоциклетной коляске, я думала не об отце, а о Луизетте Дени. Наша дружба достигла той стадии, когда начинаешь ждать какой-то счастливой случайности, способной преобразить обеих, заставить взглянуть друг на дружку иными глазами. После монастырского заточения мы вели себя в школе паиньками, едва узнавая самих себя, так что матушка Феофила почти страдала от нашего примерного поведения и полнейшего равнодушия к отметкам, которое на самом деле было всего лишь чем-то вроде странного оцепенения, какого-то временного затишья. Изнывая от того, что нас теперь не за что наказывать, она жаловалась директрисе:
— Мне всегда казалось, добрая моя матушка, что у этих двух девчонок слишком много ума и совсем нет сердца…
Во время уроков мы с Луизеттой подолгу глядели друг дружке в глаза и грустно вздыхали: что-то нас ждет впереди? Это немое вопрошание стало для нас блаженством. Мы часами смотрелись одна в другую, как вода смотрится в небо: тихо и бесстрастно, и лишь изредка чуть заметная тревожная рябь пробегает по поверхности этой глади.
Совершенно преобразило нас появление Жермены Леонар. Впервые порог нашей школы, где гнездились разные болезни, переступил врач; впервые раздался твердый голос, потребовавший: «Нужны решительные перемены, матушка настоятельница, коренные перемены, иначе вы потеряете еще немало своих воспитанниц…»
— Коль скоро ваше милосердие вдохновлено верою, — отвечала матушка настоятельница, — мы будем вам признательны за ваши труды. Вот только платить вам, по правде говоря, нечем: мы трудимся здесь лишь ради вящей славы господней…
Жермена Леонар прервала ее, потребовав, чтобы ей тут же открыли двери лечебницы, и недовольным тоном добавила:
— Этим закутком теперь буду ведать я.
Не видя конца нашим хворям, мы всем скопом ринулись к ней на прием — демонстрировать гнилые зубы и воспаленные глотки; раскаты кашля возносились как призывы о помощи, и в этой лихорадочной сутолоке, среди учениц, которые что есть силы толкались, желая обратить на себя внимание врача, мадемуазель Леонар, захватанная множеством рук, задыхающаяся от смрада множества ртов, казалось, изнемогала под бременем жертвенного вдохновения, приведшего ее к нам.
— Оставьте меня в покое, — протестовала она, — или хотя бы станьте в очередь, не могу же я осматривать всех вас разом.
Поток школьниц мало-помалу вернулся в свое обычное русло. Мы разбрелись по полутемным классам: за окнами сгущалась снежная темень, хотя было всего три часа пополудни. Мадемуазель Леонар продолжала работать у себя в кабинете, покусывая кончик карандаша, шелестя страницами папок, а мы с Луизеттой, забившись в уголок, исподтишка следили за ней. Нам казалось, что ее могучий мозг должен гудеть словно пчелиный рой, ведь Жермена Леонар не только решилась предложить свои услуги школе, она, кроме того, работала еще в больнице и писала диссертацию об атеизме, из-за которой, кстати сказать, ее потом и выставили из нашего заведения. Некрасивая жесткая гримаска порой кривила губы нашей новой знакомой, линии ее рта говорили о почти животной чувственности, но в глазах светился неизменный огонек сострадания и пытливого ума; сострадание это и было как бы связующим звеном между двумя столь несовместимыми выражениями, господствовавшими на ее лице. Мы тянулись к ней своекорыстно, надеясь надолго укрыться под сенью ее величия; каждая из нас рассчитывала с ее помощью добиться того счастья и той свободы, которые пока еще были для нас недосягаемы. Нас волновали духовные радости, но мысль о том, что помимо них существуют и другие утехи, менее чистые, но столь же прекрасные, и что для мадемуазель Леонар были доступны и те и другие (несмотря на присущую ей суховатую сдержанность, она не могла скрыть своего пристрастия к мужскому полу), эта мысль побуждала нас еще глубже проникнуть и в ее душу, и в ее жизнь, так много значившую для нас…
— Ах, если б мне тоже было тридцать лет! Ты подумай, Полина: сколько свободы, сколько радостей! Днем я ухаживала бы за больными, а по ночам…
Тут Луизетта осеклась: ей были уже известны кое-какие подробности, смутно выступающие из мешанины света и тени, но собрать их воедино она не могла; если по вечерам, по выходе из больницы, Жермена Леонар и отвергала ухаживания своих собратьев по профессии, то призывное выражение ее глаз и губ говорило об обратном; мы с Луизеттой подозревали, что наблюдаем нечто вроде головокружения на краю бездны, что эта женщина, посвящавшая нам все свои дни, отдавалась по ночам кипению страстей и тогда начисто о мае забывала.
— Здесь неудобно, приходи ко мне вечером… Не сейчас… Нас могут увидеть…
Но ловкий ухажер все-таки успевал впиться губами в затылок мадемуазель Леонар — в то самое место, с которого мы с невинным вожделением не спускали глаз целыми днями…
Сколько дней, сколько часов, почти не расставаясь, провели мы с Луизеттой в ожидании великих событий! За время этого лихорадочного ожидания мы стали неразлучны; взявшись за руки, мы, «как пара самовлюбленных и преданных обезьянок», повсюду следовали за мадемуазель Леонар и, судя по всему, уже начали ей надоедать. Однажды, покончив с замечаниями чисто медицинского порядка («У вас горло воспалено уже целый год, Полина, а вы ничего не сказали матери, потому-то вы и не можете есть как следует»), она сказала мне, что наша с Луизеттой взаимная привязанность кажется ей чрезмерно пылкой…
— Или скажем так: несколько преувеличенной. Боже мой, оно и понятно: ведь вам всего восемь лет и вы еще не дружили с мальчиками…
Я, конечно же, угодила в расставленную мне ловушку и однажды, в припадке откровенности, поведала ей историю моей жизни; потребность излить душу перед любимым существом была тем более естественной, что всех нас с колыбели заставляли открывать свои тайны, исповедоваться, стоя на коленях перед священником, а тут соблазн свободной исповеди без последующего покаяния был настолько велик, что я просто не могла остановиться…
— Довольно, — прервала меня мадемуазель Леонар, — остальное вы доскажете в следующий раз.
— А потом Серафина умерла… Ах, маленькая моя Серафина, как я ее любила! Никогда нам больше не играть вместе!
— Стало быть, и это чувство было неумеренным, — отрезала мадемуазель Леонар, заодно напомнив мне, что занятия окончены и пора возвращаться домой. — Будьте осторожны, Полина, вы склонны к преувеличениям.
Она яростно пропахала гребнем волосы.
— Уже пять часов, чего вы еще ждете?
— Мы могли бы выйти вместе, мадемуазель Леонар, я проводила бы вас до больницы, а потом пошла домой.
— Нет, я тороплюсь. Всего хорошего.
Именно так чаще всего и заканчивались наши беседы.
— Это просто невыносимо, — прибавила она резким тоном, — что могут подумать люди, видя, как вы с Луизеттой всюду ходите за мной по пятам?
Сама того не желая, мадемуазель Леонар подливала масла в огонь вековечных предрассудков — предрассудков, которые определяли поведение ее родителей, а ей самой служили всего лишь хрупким панцирем, скрывающим ее страстную и щедрую натуру. Потому-то она столь часто и становилась на сторону тех, кто мог ее осудить, делая уступку их слепой предвзятости и жестокости. Я любила ее за душевную чуткость — свойство, в котором нам не раз случалось убеждаться; помню, как ее тронула судьба ученицы, больной лейкемией; стыдясь своих слез и не в силах сдержаться, мадемуазель Леонар казалась подавленной всякий раз, когда ею овладевало чувство жалости или возмущения. Однажды она чуть не задушила меня в объятиях, думая, что я умираю; это было в тот день, когда меня угораздило на несколько минут потерять сознание; такое со мной и раньше случалось, сама я внимания не обращала на обмороки; если это происходило на перемене, Луизетта опрометью бросалась в туалет, чтобы приложить к моим вискам свой мокрый и грязный носовой платок, который вынимался из набитого апельсинными корками кармана лишь раз в году — по случаю весенней стирки. Вот и на этот раз, придя в себя, я преспокойно поднялась, хотя сердце мое бешено колотилось от слабости и только что пережитого восторга, могучего и многоцветного…
— Ах, боже мой!.. — воскликнула мадемуазель Леонар, очевидно придавая этому обыкновенному обмороку какое-то невероятное значение.
Я очнулась, все еще слыша сквозь тихую пульсацию крови этот горестный вопль, впервые в жизни доказавший мне, что я не совсем одинока.
К сожалению, вскоре Жермена Леонар обвинила меня в том, что я хлопаюсь в обморок нарочно, лишь бы привлечь к себе внимание. Видимо, и ей случалось иногда подчиняться голосу недоверия — недоверия к людям, которое она выражала с неизменной твердостью. Чтобы понять, откуда у нее взялись все эти навязчивые идеи, следовало бы отыскать лазейку в ее прошлое, но это было невозможно, ибо до встречи с нами она успела пройти немало чуждых нам дорог… Жизнь, по всей видимости, столкнула меня с нею в тот момент, когда она, чувствуя, что ее душа уязвлена ненавистным ей городом, чья нищета связывалась в ее сознании с черствостью сердца и ума, вообразила, будто наше спасение — в ее руках… Быть может, она больше всего опасалась, что в этом захолустье, где злословие в любой миг готово обрушиться на человека словно всесокрушающий град, раскрытие ее личных связей может послужить помехой для избранной ею цели? Мы уже были свидетелями увольнения нескольких учителей по более или менее неопределенным моральным причинам; особенно запомнилось мне поспешное бегство матушки Бернар де ла Круа, бросившей на произвол судьбы свою любимицу, «бедную цыпочку Соланж», как мы ее звали за глаза, втайне упиваясь злобной радостью, которая, скорее всего, была отголоском всеобщего осуждения. Потому-то Жермена и старалась жить в соответствии с теми строгими мерками, которые мы сами ей навязали, «Весьма странная женщина, — говаривала матушка настоятельница, — однако не лишенная святости…» И благодарила бога, ниспославшего ей столь простодушную помощницу, только и помышляющую о том, как бы понизить уровень смертности в ее монастыре. Жермена Леонар, судя по всему, презирала этот свой ложный образ, но что поделать: покров добродетели, скрывавший ее истинную натуру, служил ей, помимо прочего, еще и защитой от нас.
Пришел хмельной месяц май. Суровая зима сменилась весенним теплом; мы спешили к статуе богоматери, белеющей в сумраке часовни, чтобы осыпать цветами ее пречистые босые ноги, словно призывающие побегать по улице наперегонки с самою пресвятой девой. Мы шептали молитвы, видя в ней вовсе не великую матерь наших земных страданий, о божество радости и наслаждения.
Волосы наши развевал шильной ветер, когда, выбегая из школы, мы столкнулись с молодым аббатом, идущим соборовать одного из своих хворых прихожан; его взгляд из-под опущенных век был устремлен на прижатую к груди дароносицу; вместо наших сияющих на солнце лиц ему уже мерещились исхудавшие руки, воздетые над белоснежной постелью, и ангел смерти, касающийся своим незримым факелом щек умирающего.
Мы же думали только о том, как бы поскорее очутиться на жаркой улице, гудящей от ребячьих голосов, где озорные мальчишки гоняли мяч, а девчонки прыгали через скакалку, останавливаясь лишь для того, чтобы пропустить стадо машин.
— Да проезжай ты поскорей, старая железяка!
Стальное чудовище исчезало в облаке газа, всего на миг расстроив наши ряды.
— Господи боже, неужели нельзя найти другое место для игр? — раздавался негодующий голос, и на крыльце появлялась моя мать, делавшая мне таинственные знаки, но я притворялась, будто ничего не понимаю. «Чет-ки, Полина, возьми чет-ки!» — читала я на ее озабоченном лице. Сама же я дожидалась часа полуденной молитвы лишь затем, чтобы залпом выпить в кухне три стакана воды, насладиться ее обжигающей прохладой, о которой я мечтала, прыгая через скакалку с Югеттой Пуар и Викторией Пулэн, совершенно мокрыми от пота, как и я сама, под своим монастырским одеянием.
Юлия Пуар с улыбкой наблюдала за нашими играми, сидя в тени решетчатых ставней, в стороне от уличной сутолоки. Судя по всему, она теперь совсем не выносила солнца. Она курила и читала, искоса следя за нами, и время от времени я чувствовала, как на мне останавливается ее взгляд, полный тоски и зависти.
По воскресеньям, после мессы, упрятав косы под уродливые фетровые шляпы, которые неизменно сопутствуют нам от дня крещения до самых похорон (под их безликой и скорбной сенью полусонные кошачьи глаза новорожденного впервые различают дядюшку, отца и крестного, встречающих его в этом мире), мы с Луизеттой выбирались подышать воздухом в Исакиевский парк. Автобус изнемогал от груза набившихся в него рабочих семей; наступая друг другу на ноги, упираясь локтями прямо в живот несчастного соседа, чувствуя, что прихваченные на завтрак бутерброды превращаются в сплошное месиво, мы вылезали наружу, еле переводя дыхание после этой кошмарной давки. И с чувством облегчения ступали за ограду парка, где росли настоящие деревья, где повсюду на свободе цвели цветы — цвели лишь для услады глаз, ибо их было запрещено рвать. Травка здесь была шелковистой, словно песок на взморье, а лучащееся добротой небо смягчало даже мое сердце — я со смутной нежностью вдруг вспоминала о матери, думая, что прогулка по этому парку пошла бы на пользу и ей, но тут же давала себе клятву соврать, если она спросит, почему я не явилась домой к обеду. Сжигаемые любопытством, мы с Луизеттой спугивали затаившиеся в кустах парочки, обнаруживая их присутствие по кончику босой ступни, высунувшейся из зеленого укрытия. Однажды мы вот так же наткнулись на мадемуазель Леонар; думаю, что она вовеки не простила нам этой невольной дерзости. А ведь мы сумели урвать всего лишь жалкий клочок ее тайны — в парке, как, впрочем, и на улице, она ни на минуту не позволяла себе уронить собственное достоинство, не позволяла этого и другим: выпрямив спину, она сидела на некрашеной скамейке рядом со своим другом, который что-то нашептывал ей на ухо, и все же мы успели прочесть на ее лице удовольствие, которого она не сумела скрыть, хотя и почувствовала наше присутствие. Приложив палец к губам, мадемуазель Леонар испуганно уставилась на две невесть откуда взявшиеся фигурки, которые, словно в сонном видении, проглядывали сквозь занавес, сотканный из сиреневых кустов.
— Боже мой, за нами подсматривают! — воскликнула она, но мы уже бросились вниз, к речке.
О мука этих дней, когда все, что бы мы ни делали, оборачивалось в дурную сторону и все наши поступки, с точки зрения взрослых, оказывались сплошной бессмыслицей и жестокостью. «Да еще какой жестокостью!» — твердила мадемуазель Леонар, когда мы со смиренным видом предстали перед нею в кабинете. «Вы ведете себя подчас как настоящие чудовища…» Она забывала о том, что мы существовали в разных мирах… Ей не приходилось совершать проступков, в которых она нас обвиняла, но, быть может, не приходилось лишь потому, что не представилось случая. «Что толку любить столь далекое от себя существо, — рассуждала я, — ведь у него одни понятия о собственном достоинстве, а у тебя совсем другие…» Мадемуазель Леонар боялась разоблачения своих тайн, ибо не хотела расстаться с моральным превосходством над окружающими, но это было ничуть не похоже на странную гордость, которую испытывала я, когда поступала наперекор взрослым или лгала им. Мадемуазель Леонар повторяла слова, которые я не раз слышала от собственной матери: «Ты погрязла в гордыне и себялюбии». А себялюбцу, как известно, нечего ждать прощения.
Когда мы с гордостью говорили «о тех, кто имел возможность отправиться в санаторий или на морс», мадемуазель Леонар хмуро поглядывала на нас, не испытывая никакой жалости к нашему неведению. По наивности своей мы не скрывали от нее этого своего неведения, для нее же, как она сама признавалась, оно было самым лютым врагом.
Порой мне казалось, что мои мучения в конце концов приведут меня только к одному — к смерти, как это случилось с Серафиной, да и не с ней одной. Однажды в июне, самый разгар экзаменов, наша директриса, теребя костлявой, похожей на лапку хищной птицы ручкой нагрудный крест, висящий поверх глухого платья, объявила нам, что в городе началась эпидемия детского паралича и что одному господу ведомо, скольким из нас будет суждено вернуться в школу в сентябре. И снова каникулы предстали перед нами в виде кладбищенской аллеи… Но тем не менее каждой из нас пришлось вслед за тем без запинки отвечать на такие, к примеру, вопросы: «Что есть божия любовь? Что есть надежда?»
— Божия любовь есть безмерная доброта, неизбывное милосердие, им же — несть конца.
Директриса не слушала нас.
— Знаю, знаю… Все вы проведете это лето в пороке и праздности, вместо того чтобы молиться о спасении души.
Мадемуазель Леонар питала не меньшее отвращение ко «всем этим порокам, порождаемым бедностью», но предпочитала не говорить о них вслух, стыдливо отводя глаза от проступков, за которые, без сомнения, осуждала меня в душе, даже если я еще не успела их совершить.
Как же мне пережить это долгое лето, так похожее на все остальные? Огромные молящие глаза Жанно следили за мной повсюду. Во время каникул мать частенько просила меня присмотреть за братцем, но я, случалось, на полдня бросала его в каком-нибудь подъезде, где он, посасывая большой палец, погружался в свои горькие думы. Иной раз я заглядывал в подпал напротив, где подростки, предоставленные самим себе, упиваясь собственной жестокостью, мучили мышей и крыс, поджаривая их живьем на раскаленных угольях, или свирепо дубасили друг друга. Так проводила я нескончаемое лето, смакуя гнилые плоды, даруемые праздностью.
В августе отец заявил, «что девчонке, которой пошел девятый год, пора приносить пользу обществу», и отвез меня на мотоцикле к дядюшке Ромео и его четырем дочерям, вместе с которыми я занялась продажей «отборных яблок по пять центов за штуку, неподражаемого хрустящего картофеля и бесподобного, тающего во рту мороженого», получая за это двадцать су в день. Под неусыпным оком дядюшки Ромео, то и дело задевавшего нас своим необъятным пузом, мы непослушными пальцами вылавливали зеленые яблоки, где прятались белые черви, из великолепного красного сиропа, который нам строго-настрого запрещено было пробовать. «Есть в рабочее время не дозволяется», — говорил дядя; но едва работа кончалась и он начинал убирать свой товар, как мы, повернувшись к нему спиной, набрасывались на хрустящий картофель, принимались уписывать шоколадное мороженое, а завершали свой день катанием на качелях, стараясь как можно выше взмыть в небеса, чтобы, очутившись вновь на грешной земле, незамедлительно извергнуть на мостовую все съеденные тайком лакомства.
— И поделом вам, маленькие чертовки: будете знать, как обворовывать бедного человека!
Дядюшка запирался в ванной комнате и долго не показывался оттуда, подбивая счета, а потом брился и через закрытую дверь давал распоряжения на завтра.
— Кто не встанет в шесть часов, у того я вычту десять су! Будете знать, как лодырничать!
Нечего было и думать звать его к вечерней молитве… Тетушка, сама едва не засыпая под наше благочестивое бормотание, в конце концов отсылала меня и мою кузину Сесиль спать.
Однако я долго не смыкали глаз: мне не лапали покоя сбережения двоюродной сестры, завязанные в носовой платок и спрятанные у нее под подушкой. Мой отец любил повторять, «что лучше уж отличиться по торговой части, чем быть отличницей в школе»; я тоже так считала и мучительно завидовала Сесиль, которая по сто раз в день развязывала и завязывала у меня на глазах свой узелок с тремя долларами. Но мне до нее было далеко: я была еще в том никчемном возрасте, когда девчонки баюкают кукол, а не пересчитывают монеты.
С тех пор как умерла Серафина, мне уже не о ком было заботиться, кроме себя самой, и лихорадочная щедрость, с которой я одаривала вверенным мне товаром изумленных девчонок с нашей улицы, оборачивалась стыдом, когда я замечала слезы на глазах у кузины. Скоро все семейство дядюшки Ромео до такой степени истерзало меня своими жалобами и упреками, что меня и впрямь начали мучить угрызения совести, будто я и в самом деле была преступницей. Я забивалась к себе в спальню задолго до ужина, когда мои подружки еще играли во дворе, и не решалась подойти к окну, сколько бы они меня ни звали.
В сентябре меня должны были отправить в пансион. А пока я томилась в этой черной дыре вместе с двоюродными сестрами, такими же мелкими воришками, как и я, и невозможно было представить, что скоро я снова увижу Жермену Леонар и Луизетту Дени! Луизетта дала мне слово никогда со мной не расставаться и навещать меня в этой тюрьме, но я, помня о собственном вероломстве по отношению к Серафине, не смела поверить обещаниям новой подруги. К тому же я вполне заслужила ту жестокость, с которой обошелся со мною отец. Как знать, может, меня направит на путь истинный мое собственное беспросветное одиночество? «Я очень довольна вашими успехами, — скажет мадемуазель Леонар, — наконец-то вы ведете себя примерно». А вдруг эта благочестивая мечта возьмет да и сбудется, вдруг со мною и вправду случится это внезапное превращение?
Изнывая в своем заточении, я вечерами принялась по кусочкам собирать прожитую жизнь; покуда тело мое притворялось спящим, в сознании одна за другой всплывали яркие картины минувшего. Я вспоминала о тех покаянных днях, когда мать запретила мне встречаться с Жаку в овраге. Исполинские облачные кони уже не мчались по небу, иные образы, иные существа, порожденные моим воображением, оживали и комнате. Как ни гнала я прочь это горестное видение, перед глазами вставал Жакоб — крохотное воплощение великой скорби. А мать, которая, по сути, и не жила для себя, вечно раздаривая свою жизнь другим, выступала из сумрака словно неоконченный портрет с расплывчатыми и тревожными чертами и, казалось, взывала: «Дорисуй, заверши мой беглый набросок!» Однако ни один из этих образов прошлого — ни Жакоб, ни мать — не могли пробудить во мне любви к жизни и ко всему живому.
Я прочла слишком мало книг, ведь никому даже в голову не приходило покупать их для меня. Я обрела истинный дар речи только благодаря Серафине, но со времени ее смерти мне стало казаться, будто я растеряла все слова, что жили вместе с ней, жили ради меня. Если мне иной раз и случалось вести какие-то записки, я водила пером словно во сне, пытаясь оживить какие-то смутные образы, но не умея облечь их в слова.
Приближался сентябрь. Мой объемистый чемодан пылился в темном углу, набитый тряпьем, столь же нечистым, как и мое прошлое.
Глава четвертая
В конце длинного туннеля, по которому ведет меня память, царит ночь. Матушка Габриэла Египетская подремывает в глубине дортуара; на ее лице — никаких признаков жизни; тощая шея сдавлена завязками ночного чепца; она так спокойна, так беззлобна, что даже начинает казаться, будто наша мучительница покинула нас вместе с дневным светом. Однако стоит кому-нибудь из нас пошевельнуться в постели, как хитрая притворщица мигом просыпается. Окна наглухо закрыты, дабы уберечь нас от всяческих соблазнов, и все же с улицы сюда долетает забористая ругань подгулявших бродяг, которых, судя по всему, выставили из продымленного и мрачного кабака.
— Опять мне дали пинка под зад, ох уж эти треклятые ханжи! Пресвятая богородица, куда ж теперь деваться?
Они, наверное, давно сгубили свои души в угаре богохульства и пьянства, а вот каково нам, чьи души еще можно спасти? Просто жуть берет! И, однако, бесстрашно всматриваясь в лик матушки Габриэлы, поневоле поддаешься расслабляющим ночным надеждам: а ну как поутру эта мегера подобреет? Но вот раздается звон колокольчика — раздается в тот ранний час, когда я только-только погружаюсь в дрему; матушка Габриэла с указкой в руке пускается в обход между койками, и мы начинаем беззвучно и безнадежно молиться: «Господи боже, благослови сей день и избави нас от напастей…», а потом бежим умываться, а потом одеваемся, снова забравшись под одеяла, как того требуют правила приличия. В животах у нас бурчит — это дает о себе знать вчерашний неутоленный голод.
— Всем надеть белые вуали, сегодня пятница, постный день.
Из столовой доносятся аппетитные запахи еды, но она предназначена не для нас, а для послушниц, что всю ночь простояли на молитве. Мы шагаем по коридорам и, прильнув губами к вуали, жуем кружева; на лестнице нас встречают нищие, ждущие остатков вчерашнего рагу. Они смотрят, как мы со смиренным видом проходим в часовню. При первом звуке трещотки мы все разом бухаемся коленками на холодные плиты, при втором — бросаемся к своим скамейкам и раскрываем молитвенники, где полно благочестивых и мрачных картинок, изображающих улыбчивых мертвецов в обрамлении каких-то усопших весенних цветочков. Вот дядюшка Себастьян в обличье обретшего бессмертие молодого красавца, вот Серафина, наряженная в платье для конфирмации, ее лицо наполовину скрыто букетом, который она держит в руке. Я завидую Серафине — ей уже не придется кощунствовать, принимая причастие, она давно в раю. Что же касается меня, то грехи мои слишком тяжки, чтобы в них можно было признаться священнику. Я-то отправлюсь прямехонько в ад в компании себе подобных. Но что такое ад? Безумный и жуткий звон в ушах, в котором мне слышатся стенания навеки осужденных грешников, когда я лежу в тишине спальни, или страх перед куда более ужасным наказанием здесь, на земле? Впрочем, кто знает, а вдруг господь бог свершит свое отмщение, наказав вместо меня кого-нибудь другого, ну, к примеру, моего братца Жанно, еще сохранившего невинность, которую я утратила, или мать — она в последнее время так расхворалась, что уже не может меня навещать… А вот мадемуазель Леонар обо мне не забывает: каждое воскресенье передает в приемной пансионата несколько пачек печенья и пузырьков с рыбьим жиром и справляется, не мучает ли меня кашель, хорошо ли я ем. Я бесстыдно лгу в ответ на ее расспросы, и тогда она сухо говорит:
— Я хожу сюда не ради вас, а ради вашей бедной матери…
Иногда она приносит книжки; я нежно поглаживаю страницы, хотя мне совсем не нравятся душещипательные названия — «Приключения узницы» или «История заживо погребенного», — мне кажется, что пальцы мои, пробегая по строчкам, приобщаются к свободе.
Из часовни мы выходим парами, стараясь не задевать друг дружку локтями: это считается грехом. Матушка Габриэла объявляет, что перед тем, как набить желудок, мы должны прибраться в классах. Мы моем грифельные доски, соскабливаем бритвенными лезвиями чернильные пятна на полу, а матушка Габриэла с ироническим и усталым видом стоит у нас над душой. Что и говорить, невеселое это занятие — тиранство! Неужели ей не противно видеть на наших лицах, безрадостных и беззлобных, только тень животного страха — и ни намека на подлинное уважение? Неужели она не догадывается, сколько лжи и притворства таится в наших глазах? Но вот наконец раздается второй звонок — пора завтракать. Перед нами проплывает блюдо с кашей, и мы ощущаем привычный тошнотворный запах. «Благословите и нас, и пищу, которую нам предстоит вкусить». Нас пробирает дрожь то ли от омерзения, то ли от голода, но есть все равно надо. Бородатая матушка надзирательница скупо отмеривает ложкой омерзительную подливку и, шевеля волосатой губой, бубнит: «Восхитительная каша!» Мы глотаем это месиво с облегчением, ибо ощущение пустоты в желудке сменяется другим, уже не похожим на давешний голод. И вот мы закончили трапезу, помолились и вымыли посуду за послушницами.
— Матушка Габриэла, можно выйти?..
— Выйдете после уроков.
— Мне совсем невтерпеж.
— Ничего, потерпите.
Все утро она с умилением поглядывает на бедных страдалиц, делая вид, что совсем забыла о муках, причиняемых бренной плотью, которой столь опрометчиво облек нас господь, и даже находит в себе силы разделить эту пытку с нами, до самого полудня не покидая классной комнаты. Лишь в такие мгновения нам дано увидеть, как она, побагровев и поджав губы, чуть ли не на крыльях возносится на третий этаж, так и не раскрыв нам тайны своего внезапного бегства. А до той поры она утешает нас, говоря, что «плоть — это ничто, пустая видимость и суета сует». Ах, если б так оно и было! Но увы!..
Впрочем, каждому приходится волей-неволей смиряться с требованиями жалкой и непонятной плоти.
«Перетягивайте грудь эластичной лентой, дабы не искушать диавола», «Носите корсет и елико возможно вбирайте живот» — такие советы давались старшеклассницам, и когда мы видели их телеса, скованные цепями столь жестоких предписаний, нас разбирала жалость.
Матушка Габриэла держала нас под своим неусыпным надзором. Она отобрала у меня одну за другой все книги, принесенные Жерменой Леонар.
— Это чтение не для вас, возьмите лучше «Подражание Иисусу Христу».
Она любила под покровом темноты красть наши дневники и тетрадки со стихами. Кто дал нам право погружаться в глубины собственных душ, право думать и вообще жить, если сама она с момента ухода в монастырь отреклась от всякой жизни, от всяческих сует? Одним лишь страхом божиим был обуян ее мятежный мозг (чьи вспышки, впрочем, давно уже не вырывались наружу, превратившись в замкнутый круговорот наваждений) — страхом божиим и ненавистью к мужскому полу. Как-то раз, задыхаясь от гадливости, она во всеуслышанье заявила: «Все мужчины — свиньи» — и тут же, словно испугавшись собственного признания, поспешно прикрыла рот ладонью. Малолетки слушали ее развесив уши и, должно быть, верили всем этим глупостям. Но я-то знала, что такое наслаждение, я помнила, как мчалась навстречу Жаку, ожидающему меня в овраге, мчалась навстречу слепящему свету, сквозившему меж деревьев… Никогда не вернется то лето, та осень, когда мы играли вдвоем с Серафиной… И нет теперь рядом со мною ни одной живой души, которую я могла бы полюбить. А если случается, что во время урока мне передают записку: «Полина, жди меня на перемене во дворе, поиграем вместе. Любящая тебя Огюстена Жандрон», я жестокосердно избегаю Огюстены и ее отдающего нищетой дыхания. На перемене я стою посреди двора, похожего на колодец, и с тоской смотрю в небо.
В один из воскресных дней мадемуазель Леонар сообщила, что у меня теперь есть еще один братик. Его уже крестили и назвали Эмилем. Я слушала ее рассеянно, глядя, как падают снежинки за окном.
— Да слышите ли вы то, что я вам говорю? — вспылила она. — Известно ли вам, что есть на свете существа, которые рождаются только на горе своим ближним?
И направилась к дверям, дрожа всем телом — как всегда после очередного бурного приступа жалости. А я не очень-то огорчалась, думая об Эмиле. Сравнивая его с Жанно, я представляла, как он пищит и пачкает пеленки. Однако Эмиль не плакал, и это не на шутку тревожило мою мать. До двух месяцев он рос как все дети, а потом братика словно подменили; мать продолжала его кормить, но казалось, что он внезапно открыл в себе самом и источник питания, и путь развития, чуждый для нас и непостижимый. Сохраняя знакомые черты, улыбку, взгляд, Эмиль начал терять человеческое обличье, словно обрастая какой-то растительной оболочкой. Я пыталась играть с ним, теребила его, но не чувствовала в ответ ни единого отзвука. Он тупо смотрел куда-то вдаль.
— Да на что же он там уставился?
Мать тихонько всхлипывала, спрятав лицо в ладонях: «Господи боже, господи боже!» А если отец пытался ее утешить, рыдала еще отчаяннее. Не понять им было неодолимого любопытства, которое влекло меня к этому тихому существу, исполненному тайной гармонии и непостижимой кротости. Хотелось бы мне очутиться в крохотном тельце брата и увидеть его глазами то, что было недоступно моему взору. Стать такой хрупкой и нежной, что никто не осмелится грубо к тебе прикоснуться. Жизнь — это всего лишь дыхание, готовое в любую минуту оборваться, поэтому меня брали бы на руки с величайшей осторожностью, боясь хоть чем-то мне навредить. Именно поэтому мне самой нередко запрещали подходить к Эмилю и даже запирали его комнату на ключ. Он казался мне чем-то вроде диковинного домашнего растения. Иногда в его глазах мелькал отблеск робкого и бесплодного сострадания, обращенного, должно быть, к той неприкаянной душе, что нашла приют в его теле, и тогда, вглядываясь в лицо брата, я пыталась найти в нем отражение черт Серафины. Возвращаясь в пансион, я каждый раз тешила себя надеждой, что общение с Эмилем поможет мне поскорее стать взрослой. Кто знает, а вдруг его удастся расшевелить и в один прекрасный день он очнется от своей растительной дремоты? Однако никому так и не удалось пробиться к его сознанию. Шли месяцы. Эмиль больше не играл в молчанку — он целыми днями ревел, об этом мне писала мать. «Раньше он только и делал, что дремал, а теперь целыми днями мучается», — сообщала мне она, так и не решаясь, как видно, сказать всю правду до конца.
Что же касается отца, то он не переставал «уповать на милость Провидения». Однажды ему взбрело в голову, что всем нам нужно совершить паломничество к святыням церкви Сент-Жюстис: омыв Эмиля в тамошнем чудотворном источнике и сотворив молитву, мы поможем ему исцелиться. Он решил было отправиться туда пешком, но, так как бабушка Жозетта стала ныть, жалуясь на свои «изъеденные язвами ноги», ему пришлось смириться и взять билеты на поезд. Вырванный из своей хрупкой скорлупы, оказавшийся в наших руках, которые не могли причинить ему ничего, кроме боли — ведь в нем уже начала укореняться не поддающаяся никакому лечению хворь, — Эмиль захлебывался, буквально заходился от крика.
— Господи, да что же это с ним? — причитала мать, трогая его лобик, и, не в силах вынести эту пытку, передавала сына бабушке Жозетте, которая в свой черед принималась укачивать его под перестук вагонных колес.
— Утешайся, доченька, тем, что слезы Эмиля смывают грехи рода человеческого, — говорила она, и в ответ на это невольное оскорбление мать могла только сдавленно шептать:
— Уж лучше бы он умер.
В церкви, когда бабушка с дедом преклонили колени, молясь об исцелении Эмиля, мать не последовала их примеру. Стоя в темном углу, она просила для своего сына смерти, не замечая висящей над ее головой аляповатой картины в нестерпимо багровых тонах — один из эпизодов крестного пути: Христос в терновом венце среди людей, которым он хотел принести спасение. Серая фигура матери и ужасающая бледность ее лица придавали церковному образу недостающий ему оттенок скорби.
За стенами, под лучезарным осенним небом, кишели паломники: одни катили к церкви инвалидные коляски, другие тащили носилки, с которых свешивалась чья-то костлявая рука; из белых венчиков сбившихся простынь выглядывали чудовищные подобия лиц с беззубыми, слюнявыми дырами вместо ртов. Над скопищем этих лежащих и сидящих полутрупов стоял сплошной стон; заплаканная женщина застыла возле больного ребенка, глядя перед собой невидящими глазами. И в самой церкви, и в саду, где журчал чудотворный источник, — всюду виднелись целые штабеля костылей: исцелившись, калеки тотчас бросали их. Набирая святую воду в прихваченные с собой пузырьки, я думала о том, как, мгновенно выздоровев, увечные переносят это потрясение; кто знает, помнят ли они о мертвенном сне, в котором прозябали прежде; глядя на маленьких дебилов, что сидели на лужайке, хныча и пуская слюни, я пыталась представить, с каким буйным восторгом они ощутят, как под их толстыми черепами заклокочет обжигающий поток мысли, забурлит, после стольких лет застоя, свежая струя воображения. Но ведь не исключено, что, узрев свою жалкую телесную оболочку, они почувствуют себя несчастными, и чувство это усилится во сто крат, когда они заметят в зеркале источник отражения своих лиц — идиотских масок, от которых им вовеки не избавиться. И все же я уговорила отца искупать Эмиля прямо в ручье, погрузить его в самую глубину чудотворных вод. Братик слабо сопротивлялся, но ручонки не слушались его, и он завопил пуще прежнего. Мы равнодушно смотрели, как он бессильно мотает головой, пытаясь увернуться от купанья. Единственное курьезное чудо, свидетелями которого нам суждено было стать, заключалось в том, что его нежная кожа чуть заметно изменилась в цвете, на висках и бледных исхудалых щечках выступили, как прогалины и небе, голубоватые крапинки. Эмиль задыхался.
— Остается только надеяться на медицину, — заключил отец, — она тоже может творить чудеса.
А мадемуазель Леонар сказала напрямик, что надежды нет никакой и что матери пора расстаться с Эмилем. «Иначе будет поздно, у вас не хватит духу оторвать его от себя…» Мать слушала ее с отсутствующим видом. И застывшее лицо, и неподвижный взгляд — все говорило о том, что в душе она уже отреклась от сына. А отец, вне себя от отчаянья, целыми вечерами выискивал в газетах адреса «целителей».
Мадам Фланш, например, готовила «чудодейственные притирания», пекла лепешечки на меду и виноградном соке, ей не впервой было пользовать «таких вот малышей, у которых ручки и ножки все равно что сухие прутики». Не обращая внимания на страдания матери, она выхватывала у нее из рук Эмиля и укладывала его, голенького, на стол.
— Сейчас я разотру его моей лучшей мазью, — говорила она, засучивая рукава, — помассирую как следует спинку…
Мадам Фланш любила смотреть мне прямо в глаза, повторяя, что она «читает все мои тайные мысли…». Быть может, она знала, что именно я была причиной несчастья, — приключившегося с Эмилем, что он несет ответ за мои преступления, в которых я не признавалась никому: за то, что я отступилась от Серафины, за то, что забыла Жакоба, за то, что я обворовывала кузину… Я зажмуривала глаза от стыда. И в то же время хрупкость Эмиля, его отстраненность от окружающего мира наводили меня на мысль о существовании загадочной породы людей, неподвластных обычным нашим законам, живущих только по велению собственного сердца, — людей, с самого рождения отмеченных печатью тайны, окруженных бесконечным одиночеством и нередко — бесконечным состраданием. Я думала о мадемуазель Леонар, которая изо всех сил старалась походить на нас, чтобы скрыть таким образом разделявшие нас различия. Вопреки собственной воле я стремилась к встрече с существом, способным уловить зов моих мыслей и желаний. Но проходил день за днем, а я продолжала перебирать четки в школьном коридоре, видя вокруг себя только ватные лица одноклассниц да пыльное знамя лицемерия, которое каждое утро вздымала во время уроков закона божия матушка Габриэла, разглагольствуя о «грязи и мерзости, что подстерегают нас повсюду в сем мире»… Мне казалось, что этот пыльный привкус пересиливает мою любовь к жизни, а дыхание благодати, коснувшееся меня в минуты общения с Эмилем, рассеивается, едва я заслышу голос матушки Габриэлы. И однако в те часы, когда решетчатые ворота нашего монастыря распахивались для ежедневных прогулок, я обнаруживала, что при свете дня иные из моих сверстниц кажутся не такими уж хилыми, не столь уж изможденными. Я никогда раньше не замечала, что и среди монахинь попадаются иной раз добрые души, — настолько меня угнетала жестокость остальных. У той, что выводила нас на прогулки, было красивое, печальное лицо; она то и дело смиренно возводила глаза к небу, словно говоря: «Боже мой, мое место вовсе не здесь, не в этом монастыре, дай мне силы оставить его…» И если одна из старшеклассниц нарушала строй, делая вид, будто завязывает шнурок на ботинке, а потом, пропустив мимо себя остальных воспитанниц, бросалась в дверь ближайшего магазина, чтобы выйти с черного хода и погулять часок на свободе, матушка Адель притворялась, будто ничего не замечает; вместе с любимой ученицей она словно отпускала на волю и частицу своей пленной души… Я мечтала последовать примеру этой беглянки, но не решалась. А Женевьева Депре была уже далеко, и я больше не различала ее залитого солнцем лица — видела лишь высокий гладкий лоб да две косы, летевшие вслед…
В час, когда я отбывала очередное наказание, сидя в классе и переписывая целые страницы словаря или в сотый раз выводя в тетрадке фразу, выражающую покаяние: «Я буду почтительна по отношению к матушке Габриэле Египетской», — в этот час Женевьева Депре каталась во дворе на коньках со своими одноклассницами, и от переливов ее звонкого смеха моя пытка становилась еще более мучительной. В другой раз меня выгнали из класса за то, что я болтала на уроке с Огюстеной Жандрон, и я тут же помчалась во двор, чтобы увидеться с Женевьевой; теперь она уже не каталась на коньках, а сидела под деревом рядом с матушкой Аделью, и та что-то негромко ей говорила. Потом Женевьева вскочила и побежала к подружкам, что ждали ее возле ограды. Матушка Адель грустно улыбнулась ей вслед и вскинула руку в благословляющем жесте; затем рука ее устало опустилась на колени. Через несколько месяцев она уйдет из монастыря — она уже подала прошение настоятельнице, — вероятно, у нее появятся муж и дети, но никогда — думалось ей — не забудет она Женевьеву и дружбу с нею. И откуда было ей знать, что постепенно она сделается рабыней этого мужа и этих детей и в тусклом свете новой жизни образ Женевьевы настолько выветрится из ее памяти, что если одна из ее прежних учениц попытается пробудить в ней это воспоминание, Адель, скорее всего, ответит с горечью: «А кто это такая — Женевьева Депре? Ах да… эта малышка… Что же с нею стало?»
Со времени смерти Серафины я не могла видеть никого из близких, не пытаясь представить себе, во что они превратятся в будущем. Кто знает, может быть, Женевьева казалась мне теперь такой очаровательной только потому, что ее недостатки были для меня еще незримы, а скорее всего — потому, что ей еще не выпала возможность проявить все задатки добра и зла, таящиеся в ее сердце, — подобно мне, подобно всем людям, она уже несла ответственность за все свои еще не совершенные прегрешения. Каждый человек, которого я в ту пору встречала, возбуждал во мне одни и те же мучительные вопросы: «Что таит он в себе? Во что со временем превратится?» Мать всегда казалась мне доброй душой, но с появлением на свет Эмиля жестокие мысли, которые она уже не в силах была скрыть, сквозили подчас в ее взгляде, угадывались в жестах. Как избавиться от Эмиля, не убивая его? Можно забыть малыша в ванне, оставить без присмотра на столе или на стуле… Даже отец, судя по всему, в какой-то мере разделял эти чудовищные помыслы — он ведь знал, с каким пренебрежением относится мать к Эмилю. А мне казалось, что преступление уже совершено, и сам факт существования Эмиля навевал на меня глубокую скорбь, которую я ни с кем не могла разделить. Мать почти ничего не ела, словно не желая вскармливать свои черные мысли, а если ей случалось проглотить кусок, ее мучила рвота, казавшаяся возмездием за еще не совершенное злодеяние. Отец приходил с работы пораньше, стараясь как-то перебороть овладевшее матерью отвращение к жизни; когда я вырывалась на несколько дней из пансиона, мне часто доводилось видеть, как он придерживает ее голову над тазом; не в силах вынести эту тягостную картину, я убегала на улицу.
Мне хотелось увидеться с Луизеттой. Дени, но та не появлялась. Если я стучалась в дверь к ее родителям, мне говорили: «Луизетта уехала далеко-далеко, но вернется, как только выздоровеет». Я вспоминала о Серафине, и внезапно мне начинало казаться, что и над Луизеттой нависла смертельная угроза. Куда только подевались ее здоровье и веселье? Суждено ли нам еще увидеться? Маясь от одиночества, я писала ей письма: «Ты такая же, как все, как Себастьян и Серафина, ты тоже хочешь меня покинуть, но я не желаю, чтобы ты уходила от меня, ты не имеешь права болеть, ты самая сильная в классе — так сама мадемуазель Леонар говорит — и самая умная — она это тоже утверждает, — ты быстрее всех бегаешь и, значит, не можешь заболеть, как Юлия Пуар, — заболеть и исчезнуть»…
Я все представляла себе нашу встречу с Луизеттой; нерадостная это была встреча, мы не узнавали друг друга, сколько ни вглядывались. Она лишилась здоровья, я — надежды.
Если мы уже столько раз убивали Эмиля — и в мыслях, и на словах, — кто знает, на какие еще преступления мы способны? Глаза плоти должны быть настолько замутнены, чтобы видеть лишь внешнее обаяние, чтобы мгновенно слепнуть от миража доброты… Свет истинного зрения исходит, наверное, откуда-то издалека и свысока, подобно холодному солнцу, мерцавшему в недоступной для меня душе Эмиля. И напрасно мой собственный взгляд искал успокоения в невинности и чистоте; теперь мне казалось, что невинность равнозначна смерти и что даже безжалостный огонек в глазах матери — отблеск зла и убийства — был все-таки и отблеском жизни. Я не могла уже повернуть вспять, забыть об этом откровении; жестокость царила повсюду, едва скрытая покровом плоти, а иной раз отчетливо зримая именно благодаря ему. Когда грань внешних обличий пройдена, начинаешь сомневаться в достоинстве плоти, испокон веков совмещающей в себе человеческое и скотское; и какая разница, убиваешь ты и насилуешь или просто любишь, наслаждаешься, приходишь на помощь ближнему — этому чужаку, который способен хоть чем-то тебя ублажить?
Любовь, должно быть, чудовищная штука, потому-то мои родители так ее стыдились. Даже матушка Габриэла Египетская, вздрагивая от омерзения, говорила об этом «запретном плоде, оставляющем на губах привкус пепла», и тут же прикусывала язык, вспомнив о груде холодной золы, в которую превратилось ее собственное сердце, никогда не знавшее любви. «Быть может, она и права», — думала я, представляя себе дядюшку Мариуса. «Он часто низвергается в пучину запоя, — говорила о нем мать, — он настоящая свинья, пьет целыми днями…» Дядюшка распродал всю свою мебель, чтобы легче было плыть по океану хмеля — плыть, напевая меланхолическую песенку:
Возьми пивка и хлеба корку, Возьми-ка ты пивка, старик, Возьми-ка ты пивка — и в норку Скорее шмыг!Слишком поздно было пытаться «вырвать его из объятий порока». Он только изредка выныривал из дурманного омута, да и то лишь затем, чтобы выкинуть какой-нибудь дурацкий номер и в очередной раз загреметь в тюрьму. Иногда мать просила меня сделать одолжение, купить ему кусок хлеба, «чтобы этот выродок не подох с голоду». Я вздрагивала, видя, как, опережая дядю Мариуса, этого жалкого спившегося человечка, на пороге появляется чудовище, порожденное его слепой страстью к алкоголю, как оно, шипя, разевает свою огромную пасть. Что и говорить, маленькая девятилетняя девочка вполне могла стать предметом дядюшкиного вожделения, но ведь в таком забросе, в таком одиночестве, покинутый всеми, за исключением любимого порока, он мог точно так же накинуться на лампу или стол — словом, на любую вещь, зыбко мерцающую в затуманенном его сознании. Мать говорила, что «этот человек большой бедолага и большой грешник», а мне думалось, что нашей семье просто везет на несчастья и что если мне посчастливится выжить, то, наверное, лишь затем, чтобы спуститься в подземелье, полное грязи и прелых листьев, чтобы взглянуть на всех этих живых и мертвых выродков, а затем найти в себе силы не для рождения и не для жизни, а для чего-то большего — для воскрешения.
Взрослые скрывали от нас тайну плотской любви, которую у них принято считать неприглядной, для нас же вся тайна заключалась скорее в чрезмерной нарочитости их слов и намеков, и мы с грустью замечали, как мрачная тень греха ложится на столь простые и привычные вещи. Как мы тянулись к свободе, к гармоничному союзу между плотью и счастливым духом! Во время воскресных молитв старшеклассницы забирались на чердак, выряжались во что попало, украшали себя перьями и принимались плясать, выражая таким образом презрение к нашему тюремному быту, делая вид, будто они уже завоевали сердца воображаемых поклонников, хотя у них не было еще ни времени, ни возможности для таких завоеваний.
Мне казалось, они тоже знают, что любовь лишена тайны. Но, судя по всему, к концу воскресного дня они забывали об этом, и можно было только гадать, сколько угрызений совести просыпалось в их душах. Когда эти девицы, стоя у окна и подталкивая друг дружку локтями, глазели на проходивших по улице парней, Женевьева Депре держалась в сторонке, обхватив голову руками. Давно уже не слышала я ее смеха: матушка Адель вот-вот должна была уехать.
Молчание Женевьевы внезапно напоминало мне, как несчастна была и я сама… Ежеминутно моя память с натугой порождала то один, то другой скорбный образ: Жакоб, Серафина, Луизетта… Они сжимали меня в горячечных объятиях, и я уже не решалась гулять по двору одна, боясь, что меня может убить собственная жалость. Тело Жакоба подчас казалось мне сияющей дарохранительницей, сосудом всех мирских скорбей; никакие муки не могли ни разбить ее, ни расплавить, ибо она сама являлась воплощением страдания, а вот я, думавшая только о собственных удовольствиях, не желавшая ни для кого пожертвовать собою, — я чувствовала, что боль вот-вот хлынет сквозь все швы моей телесной оболочки и мне ничего не останется, как только плакать, плакать без конца под этими небесами, чреватыми дождем, — плакать до тех пор, пока не изойдет слезами все мое существо. Матушка Габриэла Египетская, переставшая на меня ворчать, ибо, как она заявила, «это бесполезно, из вас ни единой слезинки не выжмешь, вы не тикая, как все», — матушка Габриэла удивлялась чтим беспричинным слезам, катившимся по моему окаменевшему лицу, — ведь ей самой никогда не удавалось меня растрогать. Эти слезы повергали ее в еще большее недоумение, когда, отдавая мне в конце месяца дневник, полный хороших, но никому не нужных отметок, она замечала, что мне самой эти успехи внушают скорее отвращение, нежели гордость. Если иногда меня и можно было счесть лучшей ученицей в классе, то вовсе не благодаря уму, направленному на весьма низменные предметы, а просто оттого, что я была не такой уж посредственностью, как все остальные; я и мысли не допускала, что со временем стану чем-то вроде мадемуазель Леонар; «Ты не рождена для этого», — говорил мой отец — и, безусловно, был прав.
В то время как другие встречались с родителями в приемной, я тщетно пыталась поймать тень Женевьевы, которая ускользала от меня все дальше и дальше, в глубь двора, чтобы слиться там с рекою тени под деревьями. Я была одинока и недостойна любви… — кто полюбит оборванку? Я могла бы, разумеется, заштопать свое платье, но любая касающаяся меня перемена казалась мне лишенной смысла.
Каждое утро я поднималась, чтобы жить, но нередко с самого пробуждения жизнь моя оборачивалась цепью тягостных кошмаров. Мы вставали и одевались, еще дрожа от ночных ужасов, но вместе с наступающим днем нас обступали новые, еще более страшные видения. Едва Матушка Габриэла Египетская бралась утром за колокольчик, как меня охватывала бесконечная тоска — та самая, что овладевала мною под бурой сенью леса, куда я часто наведывалась во сне. Ведущие в спальню коридоры один за другим открывались в просторные камеры моих кошмаров, где ревел избиваемый своим отцом Жакоб, где, одна-одинешенька, бежала по сумрачному лугу Серафина…
Тем временем светало. Мы парами шли в часовню; из глубины моего нескончаемого леса восставало солнце, страх перед воспоминаниями мало-помалу ослабевал. Скоро каждая из нас вновь обретет свое место в пестрой мозаике дня… Как же это тяжко — вечно жить в себе самой, словно в тюрьме! А матушка Габриэла продолжала потрясать осатаневшим колокольчиком, словно связкой ключей, в которых таится залог нашего освобождения.
Я находила в собственной душе тех чудовищ, тягу к которым столь сурово осуждала в других. Когда во время полуденной прогулки рука Огюстены Жандрон доверчиво касалась моей руки, я мысленно сжимала и ломала ее хрупкие пальцы, надеясь таким образом притупить свое отчаянье. Мне становилась понятной безжалостность палача к своей жертве: мы пытаем других, чтобы самим избежать таких же пыток. Но мучить Огюстену было бесполезно: я все равно пережила бы вместе с нею ощущаемые ею страдания. У меня не хватало решимости даже на то, чтобы полюбить зло, которое я причиняла другим. А ведь столько людей не боится порвать оковы совести и поднять руку на ближнего своего! По субботам я читала дяде Мариусу рассказы о таких убийствах, публикуемые в иллюстрированных журнальчиках «Спокойной ночи, полиция» и «Утреннее преступление», и подробности этих описаний долго еще терзали мое воображение.
— Клянусь божьей матерью, — ворчал дядюшка, склонившись над моим плечом, — все это наводит меня на весьма мрачные мысли. Ну взять хотя бы исповедь вот этого убийцы! «Я простой бедняк, и ничего больше, и я прошу прощения у господа бога за то, что потерял терпение, но ведь у меня ни гроша в кармане не было, а детей — семеро душ, и все галдят, как голодные птенцы в гнезде, смотрят на меня да клювы разевают, все грязные, паршивые, а мать ихняя забилась под стол и облапила бутылку с джином. Терпения у меня всегда не хватало, это верно, а уж тут оно и вовсе лопнуло, а к тому же еще этот чертов сквозняк из-под двери, ну прямо всех на свете хочется поубивать, добро бы еще летом дело было, а то ведь зима — в эту пору я прямо сам не свой становлюсь, а так ведь я не злой, просто бешеный — бешеный, и все тут. Стало быть, господин начальник, прихожу я в пятницу вечером домой, а мои огольцы глядят на меня — ну так глядят, что я вам и сказать не могу, глазенки прямо горят от голода… Ох, до чего ж это тяжко! А худущие до того, что кости сквозь кожу просвечивают, худущие и грязные, и в доме повсюду грязь, стены склепаны из жести, занавески из серой бумаги — боже ты мой! Нужно их пожалеть, думаю, отправить псом скопом прямо в рай! Нетерпеливый я человек, что правда, то правда, а все ж таки и вы, господин начальник, поступили бы на моем месте точно так же — порешили бы всех семерых; одно плохо, что кровищи больно много было, цельная лужа…» Да, все это наводит меня на весьма мрачные мысли, — продолжал, сморкаясь, дядя Мариус, — такие истории берут за душу сильней, чем проповеди кюре, аж до слез пронимают. Было время, когда я хотел утопить твою тетку, да только страх меня остановил, когда подумал, что меня могут повесить как собаку!
Еще пуще дядюшка рыдал над «прелестными любовными историями». Особую его симпатию вызывали «славный парень Гастон Сорей, сорока восьми лет от роду, из округа Мон-Каприс, обвиненный в преступной связи с полоумной шестидесятилетней старухой», и «Раймон Жирар, шестидесяти пяти лет, покушавшийся на невинность девятилетнего мальчика».
— Видишь ли, — говорил он, отгоняя рукой тучу комаров, налетавших с улицы, — все это называется «пожить в свое удовольствие»; так с какой же стати засаживать людей в тюрьму за то, что они живут в свое удовольствие?
— Нельзя этого делать, дядя Мариус. Ты рискуешь угодить в преисподнюю. Вот когда ты смотришь на меня своими мутными глазищами, сразу видно, что ты грешник. Боженька таких не любит.
«Вы должны изо дня в день творить ДД, — наставляла нас вожатая, — ДД означает: Добрые Дела; творите их, даже если вас от этого тошнит». Следуя ее завету, я навещала дядю Мариуса, покупала для него малопристойные журнальчики… Но мне лично были больше по душе ДД, совершаемые во время каникул, когда отряды «Маленьких стрелков» разносили по богадельням баночки с повидлом. Тамошние обитатели изнывали от бессонницы и буквально дышали на ладан; посмотришь на такого, и кажется, что от живого существа не осталось ничего, кроме жадного рта, зияющего меж костей, обтянутых бледной кожей, да неуклюжего языка, который лениво выползает из своего логова, слизывает капельку повидла и так же лениво убирается восвояси.
— Кушай, бабушка, кушай, — приговаривала монашенка, сидевшая у изголовья. Казалось, сама смерть, желая полакомиться повидлом, представала перед нами в обличье морщинистого чудовища вместо седенькой старушки.
— Старенькая она у нас, в ее годы не очень-то хочется есть, — продолжала сиделка. — Вы мне не поверите, но ей уже девяносто восемь лет!
Костлявые пальцы умирающих ласково касались нас, когда мы проходили мимо. «Это моя маленькая Доротея вернулась… Это моя покойная девочка пришла…» Одни из обитательниц богадельни, розовые и почти прозрачные в утреннем свете, баюкали, словно давнюю свою мечту, нарядных кукол; другие приподнимались на постели, чтобы взглянуть на сад за окном, и тут же застывали, вперив глаза в пустоту, где маячили доступные только им блаженные видения. Между коек шествовала грудастая медсестра, неся вонючие ведра, содержимое которых давно уже не вызывало у нее отвращения — зловоние нищеты сливалось в ее представлении с благоуханием добра.
— Я ему и говорю: дедушка Барро, не ешь этого мяса, худо тебе от него будет, кому потом убирать за тобой? Кроме меня ведь некому, это уж точно. Раза четыре за ночь встанешь к этому старикашке, а он — словно младенец, даже спасибо не скажет. Вот так и возишься с ним с утра до вечера, не говоря уж про ночь… И все-таки чувствую, что, когда Господь приберет его, у меня что-то оборвется внутри. Как-никак он у меня самый болезный. Вот приберет его Господь, и не о ком мне будет так заботиться.
Я представила себе, как долгими ночами она склоняется то над одним, то над другим горемыкой, находя для каждого слова утешения и ласки.
— Воды тебе, пузырь ты этакий, опять воды? Только и знаешь, что пить да пить. Посмотрел бы ты на меня — каково мне приходится? До самых петухов глаз не сомкну. Да не крутись ты, сейчас принесу… Но уж это в последний раз.
На исходе ночи ее обычно подзывают те, кому не суждено дожить до рассвета.
— Ну, что с тобой, милочка, где болит? Тебе нужно поспать, а плакать нечего, слезами последние силы изойдут. Да не кричи ты так, у меня в ушах звенит!
— Я отхожу, сестрица, отхожу! Чую, смерть за мной пришла.
— Ну уж нет, милочка, погоди, сейчас я тебе кислороду дам. И успокойся ты, не изматывай себя.
Вырываясь из-под кислородных мисок, стенания этих полутрупов, и без того берущие за душу, казались еще страшнее.
— Ну что ты там бормочешь, никак я не разберу…
— Р-р-р… х-р-р… р-р-р…
— Родичей вспомнил? Верно, давно им пора тебя навестить…
— Х-р-р… од… но… му… по… ми… р-р-р… ать… р-р-р…
— Как это одному? А я тебе кто — мебель, что ли? Тумбочка? До чего ж вы неблагодарные, доброго слова от вас не дождешься!
Родичи появлялись чаще всего тогда, когда все уже было кончено.
— А, вот и вы наконец! Только теперь ему до вас никакого дела нет, он уже в раю, с ангелами беседует. А уж вырядились-то! Штиблеты начищены, воротнички накрахмалены! Стыда у вас нет, вот что я вам скажу! Иначе не заявились бы сюда к самым похоронам!
Сосредоточенные и повзрослевшие, мы покидали богадельню, невольно думая о том, что старость превратит и наши загорелые, омытые солнцем руки в трясущиеся костлявые плети. Однако, заметив вдалеке под деревьями серебряную ниточку ручья, мы живо сбрасывали с себя одежду, и по сигналу вожатой лавина тел в синих трусиках рушилась в воду. Вожатая, сидя на камне, ожидала конца купания. Когда Югетта Пуар приглашала ее присоединиться к нам, она сухо отвечала:
— Что хорошо для детей, не всегда годится для взрослых.
Выждав некоторое время, она аккуратно развязывала свой галстук, снимала пилотку и принималась сигналить, призывая нас на берег. В ответ из реки доносилось козлиное блеянье. «Да, — думала я, — день ДД — это чаще всего удачный день!» И тут же вспоминала о бабушке Жозетте, о которой за последнее время совсем забыла.
— Сердце у нее бьется все слабей и слабей, — говорила мать, — что поделаешь, старость подошла…
— Да ей же всего шестьдесят восемь, — возражала я, — а она уже сбавляет скорость, словно изношенная машина. Это несправедливо!
— Все справедливо, — отвечала мать. — От смерти не уйдешь. Зато она ведет нас к будущей жизни.
Я не очень-то пеклась о бабушке Жозетте. Если меня просили приглядеть за ней, пока она дремлет в качалке во дворе, я чаще всего бросала ее и убегала играть к соседям. Иногда она останавливала качалку, бросала в мою сторону нежный взгляд и снова погружалась в свою странную дремоту, наводившую на меня страх.
— Бабушка, нельзя спать на солнце!
Она не отвечала. А потом внезапно просыпалась, бормоча извинения:
— Ах, Полина, если бы ты знала, какие диковинные сюрпризы готовит людям старость… Не след человеку стареть…
Клонящийся к концу день переходил во владения смерти.
Раньше мать частенько говорила о том, что «нужно стремиться к лучшей жизни, нужно перебраться в другой квартал, сменить обстановку», но со времени рождения Эмиля отреклась от всех мечтаний.
— Как бы избавиться от этого ребенка, я не могу его больше видеть, как бы от него избавиться…
Жаркими июльскими днями, когда Югетта и Жаку, бросая камешки в окно, приглашали меня кататься на велосипедах по Исакиевскому парку, я думала об Эмиле как о самой себе: в страхе перед смертью я была не в силах отделить его от собственного существа. Но директрисе воспитательного дома было понятно странное желание моих родителей. Чувствовалось, что эта горбатенькая старушка с ласковым взглядом готова принять Эмиля «как истинный подарок Провидения». Меня утешало сознание, что его жизнь, растворившись в душе этой женщины, обретет свой смысл, свое счастье.
— Если их любишь, малышей этих, они живут себе годами, словно ягнятки, забытые Господом на нашей земле. Посмотришь на такого со стороны — и ручками-то он не двигает, и на ногах не стоит, и не видит ничего, а полюбишь его, понянчишься с ним, он, глядишь, чему-нибудь да научится: сначала сидеть, потом потихонечку бултыхаться в бассейне, а там со временем и ходить нач «нет.
В коридоре, где-то совсем близко, слышится звук шагов, скрип тяжелого железного аппарата, который кто-то толкает перед собой.
— Входи, Андре, знакомься с Эмилем, вы будете друзьями.
Вошедший подросток бессмысленно улыбается. Монахиня подходит к нему, берет за руку и кладет его ладонь на лоб Эмиля.
— Любовь, — говорит она, поглаживая его по руке, — любовь.
Бедный Андре продолжает молчать, но в его молчании угадывается намек на какие-то слова, на какое-то подобие речи, и монахиня все понимает, глаза у нее загораются.
— Он тоже счастлив, вы видите? Их только любить нужно — и тогда все уладится.
Ничего не поделаешь, я все-таки потеряла Эмиля. Но когда я думала о нем, он представлялся мне в виде сухого ствола, окруженного свежими побегами; то была директриса воспитательного дома и ее помощницы, которые старались сделать все, чтобы его жизнь не растворилась в небытии. Вероятно, они были слишком преданы своему делу, чтобы вглядываться в суть зла, с которым им приходилось бороться. Нелегкий это труд — оберегать каждое дыхание, не дать ему угаснуть в бездне беспамятства! Эмиль больше не боялся воды. Переставал плакать, когда директриса касалась его лба. Немые и кроткие существа плавали вместе с ним в зеленоватых струях бассейна. Стоя по пояс в воде, директриса направляла чью-нибудь неловкую ручонку или ножку, благодаря бога за каждое удачное движение, за каждый намек на него.
— Сколько месяцев я бьюсь с этой лапкой, чтобы ее расшевелить… Вот так, хорошо… Еще разок… Еще… Молодцом, так и надо… Они все понимают, это не детишки, а сущие ангелы!
Радостно было думать, что директрисе есть смысл любить Эмиля, ведь он по крайней мере никогда не отплатит злом за любовь, не то что я… Сколько зла я причинила моей обожаемой Серафине.
Когда Эмиля забрали в приют, я перестала выходить из дому после семи часов вечера. Небесный свет падал в раскрытое окно, я играла с пляшущими в лучах пылинками, перебирая их, словно собственные мысли, и не отзывалась, когда мать окликала меня со двора.
— Что ты там делаешь одна, взаперти, когда все дышат воздухом?
Но я уже три недели ни с кем не разговариваю.
— Нет, мадам Пуар, это не ребенок, а чудовище какое-то. Не желает разговаривать с собственной матерью.
— Ах, мадам Аршанж, я была бы просто счастлива, если бы моя Югетта так молчала. А то ведь она трещит целый день как сорока, даже тогда не утихает, когда отец задает ей выволочку.
Я высовываюсь из окна и вижу внизу головы соседок» усевшись в тесный кружок, они начинают вечерние пересуды.
— Ах, кто бы мог подумать! Да разве это христианский брак? Где же это видано, чтобы ребенок рождался через месяц после свадьбы? Вы такое видели?
— Я? Никогда!
— Какой скандал! В наше время для молодежи не осталось ничего святого!
— Вы тысячу раз правы, мадам Каквастам!
В бедняцких кварталах мужчины по вечерам вытаскивали стулья на тротуар: женщинам надо было купать детей. Все потели и задыхались под душным августовским солнцем, но наперекор всему продолжали с упоением сплетничать.
— Надо вам сказать, мадам Пуар, мне не нравится, что ваша Югетта якшается с этим паршивцем Жаку, он только и знает, что стрелять из рогатки, а она от него ни на шаг…
— Знаете, мадам Аршанж, я не сторонница раздельного воспитания, молодость пролетает незаметно, вспомните о моей Юлии — у нее от легких одни ошметки остались…
Однажды я увидела, что мимо нашего дома идет мадемуазель Леонар. Мать остановила ее и что-то прошептала на ухо. Наверное, жаловалась, что «это чудовище не желает выходить вместе со всеми на улицу». Мадемуазель Леонар слушала ее с сочувствующим видом, и мне это не понравилось.
— Загляните к ней, — попросила мать, — может, она хоть с вами поговорит.
Услышав шаги Жермены, поднимавшейся по лестнице, я почувствовала, что у меня не хватит духу с ней говорить. Спрятавшись за креслом, я смотрела, как она бродит впотьмах по комнате и зовет меня:
— Полина, где вы?
Но я не отзывалась.
— Ну ладно, не хотите меня видеть — можете прятаться. Я вам только хотела сказать, что… — Она помолчала и устало проговорила: — У меня, как и у всех, бывают мелкие неприятности: в сентябре не удалось найти места ни в одной школе. Придется, видно, снова работать в больнице. Ну, до свиданья, быть может, мы еще увидимся.
Я слушала, как она спускается по лестнице. Как много я утратила, потеряв Эмиля! Дом казался мне теперь совсем пустым, а тишина — угрожающей.
— Шествие пожарников! Шествие пожарников! Спускайся же, Полина!
Сначала вдали показались пять огромных красных марионеток; под звуки невидимых фанфар они поочередно вскидывали то правую, то левую ногу. Вслед за ними шагал начальник пожарной команды, про которого говорили, что «он прочел слишком много книг и обладает чересчур широкими взглядами». Он исторгал из барабана траурную дробь, потому что, как мне объяснила Югетта, «семеро из его команды недавно погибли в горящем отеле».
— Зато похороны — просто шикарные, жаль, что Юлия их не видит.
Затем на перекрестке появились и остальные пожарники — двадцать, тридцать, сорок человек, — они маршировали перед Дворцом Правосудия, пронося мимо нас, словно в бредовом сне, гробы семерых героев, упавших с объятой пламенем крыши.
— Смерть, достойная настоящего мужчины, — с восхищением сказал мой отец. — Эти семеро все-таки успели спасти одну женщину; она, правда, через несколько часов скончалась от ожогов.
Они шли мимо нас бесконечной чередой, несокрушимые и гордые; их выпученные от жары глаза блестели под касками.
— Хоть бы скорее гроза, прямо подохнуть можно.
Дождевая капля шлепнулась мне на лоб. Главное — не отчаиваться.
Начальник вскарабкался на трибуну и начал речь:
— Мы гордимся тем, что в нашем городе все пожарники — настоящие герои, они бесстрашно сражаются с пламенем повсюду, где оно палит и сжигает, истребляет и убивает, они работают в этом аду, в этом паршивом квартале, где одна-единственная спичка может обратить в пепел все наши дома, сжечь людей, сжечь отели, спалить все, кроме Дворца Правосудия, ибо Дворец Правосудия не горит. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз заверить всех собравшихся, что Ассоциация пожарников выступает за счастливое детство, против пожаров и смертной казни. Так давайте же в этот скорбный день споем все вместе гимн пожарников и поклянемся в вечном братстве!
— Как жалко, что Юлия не поднимается с постели, — прошептала мне на ухо Югетта, — она так любит всякие речи, похороны и прочее, а уж пожарники просто восхищают ее до слез… Надо ее навестить… Пойдем, Жаку…
Лежа на диване в кухне, Юлия отвернулась к стене, словно не желая нас видеть. Она почти беззвучно кашляла в носовой платок, потемневший от крови.
— Я не могу встать, сил нет… Такая слабость…
— Да когда же ты еще сможешь увидеть таких роскошных пожарников, это настоящие короли, а кругом — красные пожарные машины, и музыка гремит, и повсюду гробы на улице, это так прекрасно, что прямо дрожь берет… Идем, Юлия, мы с Полиной будем вести тебя под руки, а Жаку — подталкивать сзади…
— Ну ладно, я пойду, но только для того, чтобы вам удовольствие доставить, я так слаба сегодня…
Нет, никогда Юлия Пуар не видела столь чарующего зрелища, разве что читала о таком в своих любовных романчиках. Чтобы не упасть, она вцепилась в мое плечо потной рукой. Ее дыхание обдавало мне щеку. «Огонь, злодей коварный, тебя мы укротим», — пел начальник пожарной команды. Юлия не спускала с него глаз, горящих лихорадочным ожиданием.
Шел редкий дождь, и, тесно прижавшись друг к другу, мы следили за тем, как исчезают вдали последние силуэты шествия. Внезапно нас обдал порыв восхитительной свежести, и я подумала, что довольно мне играть с матерью в молчанку. Я знала, что с наступлением ночи ко мне вновь вернется тоска, от которой я вроде бы избавилась сейчас. Быть может, эта тоска будет даже расти вместе со мной как память обо всех обидах, которые я причинила тем, кого любила. Если мне будет суждено родиться для иной жизни, я, быть может, смогу испытать хоть капельку сострадания, глядя на девочку вроде меня, смогу рассказать ей свою историю, но теперь, родившись на страницах мною самой написанной книги, я хотела только одного — поскорее выбраться из нее. Больше всего меня огорчала мысль о том, каким долгим и трудным делом оказалась для меня жизнь, описание которой в книге заняло всего несколько десятков страниц; но без них, наверное, я ни для кого и не существовала бы.
Бетти Уилсон
Betty Wilson. ANDRÉ TOM MACGREGOR Toronto, 1976 © Betty Wilson, 1976 Перевод с английского О. Кириченко, редактор А. Корх«Андре Том Макгрегор»
I
Осторожно открыв дверь хибары Альберта Роуза, Андре Том Макгрегор шагнул во двор. Даже в середине лета ночи на севере Альберты бывают прохладные; фланелевая рубаха в красную клетку, надетая на голое тело, не согревала.
— Ласточка, куда тебя черт понес? — послышался за спиной хриплый со сна голос Доди Роуз. — Говорю же, не явится до утра этот выродок Альберт.
— Здесь я, здесь, куда я денусь!
Андре усмехнулся. Ну и дурища баба.
— Так ты…
— Лежи, лежи. Силы побереги, пригодятся.
Из дома послышалось приглушенное хихиканье.
— Ну и даешь ты нынче! У-у-ух! Здешние мужики все нос дерут, думают, они о-го-го! А куда им против тебя, мальчишки.
— Погоди, то ли еще будет.
Осторожно ступая босыми ногами, Андре двинулся в темноту за угол хибары и там, возле отливавшего серебром в лунном свете газового баллона Альберта Роуза, долго, с желанным облегчением мочился.
Вот счастливый мерзавец этот Роуз. Газ у него. Ишь, в его хибаре, как у Доди за пазухой, тепло и зимой и летом.
Андре покосился через забор на лачужку своего отца, на ободранные листы толя по стенам.
Интересно, что они, власти: собираются соорудить нам нормальное жилье или нет? Еще колодец бы вырыть надо. А свет у нас все горит. Черт, затянулись сегодня их картежные посиделки. Хоть бы старик выиграл. А не то опять в ход пойдет все пособие по безработице, матери не на что станет покупать еду. Не будет чая, не будет сахара. Андре вздохнул. Значит, как принесу завтра получку, так придется не только за себя выложить.
Он застыл в темноте под навесом посреди лунной ночи, его охватила тревога. А тут еще это… Возьмет кто и заложит, ляпнет Альберту Роузу, что, мол, балуюсь с его бабой. Его охватила дрожь. Вон ведь взял тогда да и выпотрошил, мерзавец, кишки Гарольду Кьюсаку у пивной…
Только убедившись, что все в ночи тихо, Андре побежал обратно по обжигающей ноги холодом, мокрой от росы траве.
— Пусти под бочок погреться. Согреешь — не пожалеешь! — гаркнул он с порога, захлопнув за собой дверь.
— Тише! Хочешь, чтоб все узнали?
— Что, дверью сильно хлопнул? Сама ж встаешь среди ночи.
Андре скинул рубашку, отдернул край одеяла, нырнул в постель, притянул Доли к себе.
— Скотина! — завизжала Доди. — Пятки как лед, прямо до мозгов проняло. — Она стукнула Андре кулаком по уху. — Ублюдок чертов! Кыш отсюда. Забыл, кто ты есть?
Она еще раз стукнула его кулаком, Андре отодвинулся на край, потянув на себя одеяло.
— Ну вот! Заледенил всю меня вонючими пятками, а теперь еще и одеяло на себя тащит! Чтоб тебя!
Андре вскочил с постели — голый, обиженный, его трясло от ярости.
— Ублюдок, говоришь? Брезговать стала! Прошлой зимой, чуть Альберт надолго в рейс, к тебе то Джейк Пучеглазый, то Алекс Маллиган бегали, так не брезговала?
Наступила тишина, слышно было, как возбужденно сопит Доди.
— Прости, мой сладкий, — произнесла она наконец. Иди ко мне, я тебя согрею, я тебя…
Пронзительный плач послышался из дальнего угла, где стояла детская кроватка.
— О господи! Ну вот, ребенка разбудили. Лезь в постель, ложись. Может, мы потихоньку…
Андре постоял в нерешительности, потом прилег на самый край и замер, не касаясь Доди. Отчаянный рев ребенка сменился полными страха повизгиваниями и рыданиями.
Вот бедолага! Неужто она так и не подойдет?..
Доди прильнула к Андре, жадно поцеловала в губы.
— Ты про что это говорил, когда вошел, о чем я не пожалею? — промурлыкала она. От нее пахло пивом и табаком.
— Так ребенок ведь…
— Да шут с ним. Зубки режутся. — Она зажала Андре рот поцелуем, рука скользнула вдоль его бедра.
Но желания у Андре как не бывало. Он лежал разбитый, беспомощный и чувствовал себя преотвратно. Плач ребенка выводил его из равновесия. Андре сдавил руку Доди, увернулся от ее губ.
— Прости, я, кажется… — У Андре вырвался легкий смешок, он пару раз кашлянул, прочистил горло. Ребенок зашелся ревом.
— Это я тебя обидела, солнышко, да? Честное слово, не выношу, когда пятки холодные. Пойду успокою парня, тогда, может…
Доди села в кровати, сонно потянулась, как кошка. Кожа у нее поблескивала в лунном свете, четко были видны торчащие темные соски. Доди дернула плечами, вскочила с кровати и направилась в дальний угол комнаты к плачущему малышу.
— Ну, в чем дело? Фу! Нашел время, тоже мне! Лежи спокойно, черт тебя подери. Хочешь всю постель изгадить, что ли? — Она повернулась к Андре. — В шкафу есть пара бутылок пива. Поди достань себе. Я сейчас, только пеленки поменяю этому поросенку.
Пиво? К чертям собачьим… Спать хочу, только ведь, когда успокоит ребенка, она… Ну чего рот разевал, хвалился, когда на двор шел? Вон, приспичило ей. А мне-то уже… Надо что-то придумать, как бы удрать от нее домой, к отцу. Что-нибудь поумнее…
Вопрос решился сам собой: внезапно резкий луч света озарил один за другим три угла комнаты, послышалось урчанье мотора, и тяжелый грузовик, громыхая на ухабах, вкатил во двор.
— О господи! Альберт! — вырвалось у Доди.
Но Андре и так уж все было ясно. Он заметался, хватая в потемках одежду, причитая под нос, как поскуливает собака, предчувствуя побои.
— Не смей одеваться, — прошипела Доди. — Хватай все как есть — и мигом к задней двери. — Она сунулась в окно. — Быстрей! Он идет.
Ботинок куда-то делся!
— Господи, да вон он, на кресле.
Андре схватил ботинок и ринулся к задней двери. Только взялся за ручку, как Доди, словно кошка, набросилась на него.
— Не открывай! С той стороны бельевое корыто. Я забыла воду выплеснуть.
Андре отскочил прочь, чуть не выронив из рук ком одежды, открыл внутреннюю дверь и попытался плечом через загородку сдвинуть корыто с места.
— Не надо! Услышит.
— Пусти!
— Погоди, еще есть минутка. Он остановился поболтать с Джонни Крейном и Уилли Эверилом возле вашего дома. Лезь под кровать. Альберт спит крепко. Как захрапит, так ты и вылезай…
Андре нырнул под кровать и растянулся плашмя, уткнувшись носом в грязный линолеум; сердце стучало, тело били дрожь, он отчаянно надеялся, что в охапке, прижатой к груди, вся его одежда.
— Ведь не пощадит, подлец. Точно не пощадит!
Андре раскрыл рот, чтобы унять шумное дыхание, и изо всех сил зажмурил глаза.
— Кровать, Доди! Прибрать надо. Он поймет.
— Тише! Сейчас, сейчас.
Она стояла рядом, у самой кровати, большим пальцем ноги почти упираясь ему в нос. Андре услышал, как она давится, напрягая горло. И тотчас стало совсем темно: громадная черная тень загородила окно снаружи. Доди поднатужилась, и, судя по звукам, ее стошнило. Андре догадался: она специально засунула пальцы в рот.
Тяжелые сапоги загромыхали на пороге.
— Ну, ребята, как утиная охота пойдет, так свидимся, — послышался голос Альберта, обращенный к кому-то во дворе. — А покуда придется мне за рулем задницу просиживать.
Когда Альберт пинком распахнул дверь, Доди принялась метаться по постели, тяжело дыша, комкая и таща на себя грязные простыни. Щелкнул выключатель, и комната залилась режущим глаза светом. Андре под кроватью со страху прижался к самой стенке и тут же вляпался рукой в еще свежий кошачий помет.
— Что за черт, что здесь происходит? — проревел Альберт.
— Альберт, как хорошо, что ты приехал! Меня весь день выворачивает наизнанку, а ребенок, он…
— Опять пивом накачалась, вонища кругом.
Альберт протопал по комнате к детской кроватке, где ребенок заходился плачем.
— Ну, парень, что, что такое? Не желает тебе мать сменить подгузничек, глянуть, не раскрылся ль, не замерз ли ночью-то?
Альберт вынул ребеночка из кроватки и понес его к креслу-качалке у батареи.
— Только сменила ему пеленки, и тут меня…
— Сменила! Хоть бы покормила дитя…
— А я что, не кормила, да? Думаешь, я…
— Чего тут думать? Тут, черт подери, как ни явишься домой после четырех суток рейса, так парень орет благим матом, а ты пивом накачиваешься — сколько можно? Ну-ка, постель прибери. Я всего пару-тройку часов спал за двое суток, не больше.
Когда в горле Альберта заклокотало и он захрапел, Андре выбрался из-под кровати. Прикрывая за собой дверь, он услышал, как Доди тихонько прыснула. Нащупав в темноте ступеньки, Андре понесся что есть духу к забору, возвышавшемуся посреди зарослей пырея, перепрыгнул — и приземлился голой пяткой прямо на острый осколок пивной бутылки. Ступая на носок и оставляя за собой кровавый след, он добрался до отцовской лачуги.
Освещенный лунным светом, Исаак Макгрегор сидел на стуле с прямой спинкой, положив прямо перед собой на кухонный стол, покрытый старой изношенной клеенкой, руки. Изборожденное складками лицо в полутьме выдавало в нем индейца.
— Застукает тебя Роуз со своей бабой, и будут твои кишки болтаться на елке, — произнес отец на наречии племени кри.
Исаак шумно встал и направился в глубь комнаты к кровати.
Андре сложил одежду на освободившийся стул.
Надо бы зажечь свет, осмотреть чертову рану. Кровищи — как из зарезанной свиньи. Нет, не буду, мать разбужу, та поднимет крик. Отнесу-ка лампу к Синичке, зажгу там. Синичка славная девчонка. Не будет охать и ахать. Фу ты, черт. Совсем позабыл. Синичка-то сегодня спит у Симоны в комнате. А эта стерва, если проснется… А, ладно! Подумаешь, стеклом порезался! Ерунда, главное, Альберт Роуз меня не засек.
Андре снял полотенце с гвоздя, туго перевязал ногу и заковылял к кровати. Потянувшись за будильником, он бросил настороженный взгляд на Рейчел, свою мать, спавшую рядом с отцом. Андре принялся заводить будильник под подушкой, чтоб не слышно было; поднял кнопку звонка, поставил будильник на пол.
Мать терпеть не может этот будильник. Вечно шипит на меня, не нравится ей, как тикает; или начнет пилить, мол, ношусь с этой машинкой как с писаной торбой; не дай бог зазвенит, ее разбудит…
Андре улегся рядом с Джои, шестилетним сынишкой Симоны, осторожно пристроив перевязанную ногу под кучей сбившихся одеял.
II
Утром Андре проснулся оттого, что по жестяной крыше дубасил клювом дятел.
Гад! От его долбежки мороз по коже, а матери хоть бы что — спит себе. Вот если б будильник зазвонил…
Андре потянулся вниз, прижал кнопку звонка. Тело так ломило от усталости, будто по нему колесами проехали. Пятку дергало и жгло, но он все-таки спустил ноги с кровати и размотал полотенце. Взглянув на глубокий порез, он стиснул зубы.
Зашивать, видно, придется. А мне весь день стоять, качать бензин да лобовые стекла протирать. К черту! Не пойду.
Андре снова забрался под одеяло и с удовольствием представил себе разговор хозяина мастерской с отцом Пепэном.
«Вы меня, отец, просили, и я взял меньшого Макгрегора, — скажет Билл Мейсон, — хоть он и метис, ублюдок. А вы сами знаете, на метисов разве можно положиться?» — «Он молодец, мистер Мейсон. Я возлагаю на него большие надежды».
Старый хрыч. Да идите вы все! Что я, идиот, чтоб надрываться? С такой-то раной.
А ведь сегодня суббота. Сегодня как пить дать в гараж пожалуют Олсоны. Их Долорес на меня глаз положила. Нет, шут с ней, с раной, надо все же пойти.
Андре поднялся на ноги, захромал к стенке, где на гвозде висело посудное полотенце, оторвал полоску, чтоб перевязать ногу.
Услышав треск материи, Рейчел перевернулась на бок.
— Зачем рвешь?
— Ногу порезал.
— Где ночью был?
Андре повел плечами. Знает ведь где.
Мать тихонько прыснула в кулак.
— Шлюхи этой Роуз, что ли, подарочек?
Андре повернулся к матери спиной, надел поверх замотанной тряпки грязный носок, сунул ногу в ботинок. Поднявшись, он почувствовал, как опять потекла кровь из раны.
— Есть чистые штаны и рубаха?
— А это что? — Мать вопросительно ткнула пальцем в груду одежды на стуле.
Брезгливо морщась, Андре вытянул помятую рубаху с присохшим к рукаву комком кошачьего помета. Взял кухонный нож и принялся с омерзением соскребать помет прямо в остывшую печку, потом надел рубаху.
Воняет, конечно, куда деваться… А, черт с ним!
Андре направился к грубо сколоченным полкам, где Рейчел держала продукты.
— Хлеб есть?
— Что, хлеб? Ишь ты! — Голос матери дрожал от негодования. — Хочешь хлебца — купи сам, беленький-богатенький.
— Я ж тебе деньги даю.
— Деньги, тоже мне! Ты, значит, немного дашь, мы все голодные ходи, а ты при деньгах, да? Кто так делает? Белый-сытый так делает.
— Но я ж откладываю. Отец Пепэн говорит…
— Тебе твой чертов святоша скажет: головой в реку, и ты — бултых!
Андре провел расческой по прямым черным волосам и поспешил за дверь; его встретило ясное, влажное от росы утро.
Думает, игрушки — все лето проторчать в этом поганом гараже. Господи! Хоть бы на озеро взглянуть! Вон там, в Заливе Француза, на скалах уж пеликаны гнездятся. И бакланы. А мне и глянуть-то некогда.
Да что пеликаны! Тут и ребят-то не увидишь. А они небось и рыбу ловят, и за девками носятся, а то возьмут да и просто разлягутся на солнышке — загорают. А я болван — пороху не хватает сказать этому святому отцу, этой вонючке старой, чтоб не совал свой нос в чужие дела. Голова, говорит, у меня светлая. Идиот!
Городок Фиш-Лейк с населением почти в восемь тысяч протянулся на милю вдоль озера. Главную улицу, что идет по берегу озера, ни разу в жизни не мостили. И лишь торговый центр — три магазина, гостиница, пара гаражей да киношка — щеголял тротуарами. От квартала на северной окраине городка, где жили метисы, и до гаража Билла Мейсона было около полумили. Но нынче утром Андре показалось больше, намного больше.
Когда Андре подходил к гаражу, хозяин как раз отпирал двери. Билл Мейсон — долговязый, с виду суровый, голубоглазый, с взъерошенной копной седеющих волос — застыл с ключом в замочной скважине, оглядывая Андре с головы до ног.
— Что это у тебя? — внезапно присев на корточки и нахмурившись, спросил Билл Мейсон. — Гляди-ка! Весь ботинок в крови.
— Так. Порезал.
Мейсон выпрямился и отпер дверь мастерской.
— Давай-ка поглядим.
Андре покорно вошел вслед за ним, снял ботинок и тряпку с ноги.
— Ты что же, с эдакой ногой собираешься работать? — сердито спросил Мейсон. — Давай сейчас же в больницу, пусть швы наложат.
— Да она и так заживет.
— Говорят тебе, к доктору Пешу. Если он скажет, можно сегодня работать, — пожалуйста. А нет… — Мейсон повел носом. — Чем это от тебя несет? Похоже, кошкой! Имей в виду, парень, раз ты здесь у меня работаешь, с бензином возишься и вообще, значит, ты вроде лицо моей мастерской. То есть как бы я сам. А я не являюсь на работу в кошачьем дерьме. Садись в пикап. Езжай в больницу. И пока не приведешь себя в божеский вид, на глаза мне не показывайся.
Вот она, расплата за шашни с Доди Роуз. А эта дурища даже за ребенком ходить не может. Не дай бог у нас в доме пожар, Доди Роуз и бровью бы не повела. У нас бы никогда в жизни ребеночку не дали столько плакать. Да ну ее к дьяволу, эту Доди Роуз. Ни за что к ней больше не сунусь.
Однако Андре знал, что сунется. Рано или поздно.
Он вернулся на бензоколонку после одиннадцати. Ему наложили швы, поверх — чистую повязку, ноги его были обуты в тщательно вымытые, еще чуть влажные ботинки, брюки и рубаха постираны.
Мейсон ухмыльнулся.
— Так-то лучше. Иди работай.
В ту субботу в гараже работы было невпроворот. Мейсону не удавалось выкроить времени для любимого дела — ремонта допотопной «Жестянки Лиззи», машины образца 1917 года, которую он восстанавливал к августовскому автородео. У Мейсона на уме только и было что эта колымага.
— Надеюсь, Оле Олсон все же прикатит сегодня, — с волнением говорил Мейсон Андре. — Вытянуть бы из старикашки эти самые колеса с деревянными спицами, которые он у себя в хозяйстве раскопал. Только к нему за этим ехать нельзя. Сразу поймет, что они мне позарез нужны, еще заломит долларов по шестьдесят за штуку.
Да пошел ты со своими колесами! Вот если б старик прихватил Долорес с собой. Андре затрясло от возбуждения, даже жарко стало. Эх, вот бы оказаться с ней вдвоем!..
В половине пятого старый грузовик Олсона подкатил к бензоколонке. Накачивая Олсону бензин, Андре почувствовал, как сжалось сердце, потому что он заметил Долорес, застывшую в ленивой позе на скамейке в кузове. Он поднял голову, заглянул в ее кошачьи зеленые глаза. Долорес подмигнула ему, вытянула губы трубочкой и тихонько присвистнула.
Кровь бросилась Андре в лицо. Он кинул взгляд в сторону кабины. Оле следил за стрелкой на бензоколонке, а миссис Олсон, бесцветное существо с впалыми щеками, разглядывала трещинки с въевшейся в них грязью на своих натруженных ладонях. И только Астрид, девочка-дебил, застыв на сиденье между родителями, не сводила с Андре невидящих, бессмысленных глаз.
Долорес, заметив, как Андре оглядывает ее семейство, еле слышно прыснула в кулак. Но лишь только Оле двинулся навстречу Билли Мейсону, с ее лица мигом исчезло прежнее лукавство, будто его смахнула невидимая рука, и оно изобразило равнодушие и скуку.
— Долорес!
— Что, папочка? — немедленно отозвалась она с готовностью примерной девочки.
— Отрули грузовик с дороги, когда парень закончит протирать лобовое стекло. Мне надо с Биллом потолковать.
— Да, папочка. Хорошо, — тоненьким голоском пропела Долорес.
Стоило Оле отвернуться, как она, прищурившись, тут же высунула вслед его удаляющейся спине язык. Потом встала и, легко пружиня коленями, спрыгнула из кузова на землю прямо перед Андре. Подняла голову, посмотрела ему в глаза. Андре не выдержал, отвел взгляд, и Долорес расхохоталась.
В последующие полчаса она медленно прохаживалась по площадке перед гаражом, то и дело неуклюже застывая в рассчитанных на Андре вызывающих позах. Миссис Олсон дремала, девочка-дебил перекатывала в пухлых пальцах клубочек красной шерсти.
Наконец из гаража показались Билл с Оле.
— Долорес, в понедельник надо съездить в Сент-Пол, — приказал Оле.
— Эй, Андре, сможешь снять двигатель со старого «понтиака» у моего брата, если он тебе домкрат даст? — спросил Мейсон.
— Конечно, смогу!
— Ну вот так. Поедешь, значит, туда с Долорес. — Мейсон повернулся к Оле, затряс ему руку. — Хоть ты, старый хрыч, с меня шкуру спустил, все же, клянусь богом, я отделаю свою «Жестянку Лиззи» и поеду на ней на автородео.
Сердце у Андре бешено заколотилось. Перед ним мелькнул аккуратный кругленький зад Долорес — она залезала в кузов. Грузовик тронулся, Долорес не спускала с Андре зеленых глаз.
— Ну и Долорес эта…
— Выбрось из головы, — оборвал его Мейсон. — Оле, он только с виду тихий, а так крутой, черт. Запросто пришьет на месте, если сунешься к его дочке.
— А чего? Я ничего.
К концу работы нога у Андре разболелась нестерпимо. Он отдраил лобовое стекло последнего грузовика, кинул сдачу в мозолистую ладонь водителя. Билл Мейсон снова отпер уже было закрытую дверь мастерской и, вынув из ящичка кассы деньги, отсчитал Андре получку.
— Валяй домой, — сказал Мейсон.
— Надо подождать отца Пепэна.
— Ах да. Я все забываю, что он твою зарплату тебе откладывает. — Мейсон с любопытством посмотрел на Андре. — Ты что ж, правда осенью собираешься в Эдмонтон, поступать в университет или в техническое училище?
— Тьфу ты! Это все отец Пепэн бубнит, а я — не знаю я…
Мейсон оперся локтем на ящичек и поглядел в окно.
— Вон мать твоя, поджидает. Если вцепится в тебя раньше Пепэна, плакали твои сбережения за неделю.
По противоположному тротуару бочком кралась Рейчел. Несмотря на жару, на ней была наглухо застегнутая на молнию куртка; грязный платок в красную клетку повязан вокруг головы, поверх мокасин — старые галоши. Засунув руки в карманы куртки, Рейчел прошаркала по улице шагов с полсотни вперед, оглянулась на гараж, повернулась и зашаркала обратно.
— Хочешь, выпущу через задний ход?
— Не-а. Отец Пепэн идет.
Андре кивнул на прощанье Биллу Мейсону и вышел навстречу священнику, семенившему через площадку станции обслуживания; пыльная ряса развевалась вокруг ног, а седые кончики усов подрагивали на ходу. Отец Пепэн откинул голову назад, вглядываясь в Андре сквозь толстые, сильно увеличивающие стекла очков.
— Здравствуй, Андре. Здравствуй. Завтра первое августа у нас, — ворковал отец Пепэн.
— Ну и что?
— Результаты экзаменов. Какие у тебя оценки. Пришлют почтой — на днях. Ты решил, какой наукой будешь заниматься?
— Тьфу ты, святой отец! Если, ну, даже если я решу… в общем, будь я проклят, кто мне позволит такое! Я же метис. Это вот белым парням, дьявол их возьми, — пожалуйста, а мне…
— Учиться хочешь? — прервал его отец Пепэн.
Совсем спятил! Чтобы мне целых два, а то и три года учиться на деньги, которые я заработал летом подсобником на бензоколонке! Андре старательно изобразил на лице почтение и пожал плечами.
— Программы достал для тебя. Технологического института Северной Альберты, университета. А ну пойдем ко мне в приход и…
Не успел Андре обдумать очередной отпор, как на них налетела Рейчел:
— Зачем берешь деньги моего мальчика, святой отец? На что еду купить?
— Я беру? — с возмущением воскликнул священник. — Я коплю ему деньги! — Он нахмурился и посмотрел на Рейчел. — Тебе пособие меньше дали?
Женщина поскребла носком галоши по пыли и угрюмо проговорила:
— Исаак в пивную ходит.
— Так и ты ходишь!
— Я ж не играю в карты. Джонни Крейн с Уилли Эверилом его обчистили. До цента.
Священник поджал губы, воздух со свистом вырвался у него из ноздрей.
— Пособие получаешь — сразу в магазин, поняла? И купи продуктов на месяц.
Рейчел бросила на Андре колючий, злобный взгляд.
— Ему — так деньги! А остальным есть нечего.
— Он даст свою долю.
— Долю! Как же…
Отец Пепэн властно подставил ладонь под нос Андре. Тот вытащил из кармана недельную получку и опустил скомканные бумажки в руку старика.
Насупив брови, отец Пепэн расправлял и складывал бумажки, шевеля при этом губами — считая про себя.
— Восемь долларов где?
— Утром сегодня не работал.
— Не работал? Когда я тебя устраивал сюда, что я говорил?
— Помню, что сказали.
Глазки отца Пепэна сузились.
— За эту неделю ты не заслужил на личные расходы.
Старый хрыч. Твои, что ль, деньги… Ну и дьявол! Еще и возмущается.
Дрожа от обиды, Андре смотрел, как отец Пепэн отсчитывал сорок долларов в руку Рейчел — на его, Андре, содержание, — остальные деньги свернул и засунул в допотопный кожаный кошелек с щелкающим замочком.
Для меня копит! А вдруг возьмет да и скажет, что никаких я ему денег не давал? Нет, глупости! Знаю, что не скажет, и все-таки…
Рейчел зажала деньги в кулак, бросила на Андре презрительный взгляд и зашаркала, покачиваясь бесформенным телом, на тонких, как палки, ногах к магазину. Внезапно из-за деревьев в конце улицы выскочил Джои и припустил следом за бабкой.
Священник проводил их неодобрительным взглядом, потом повернулся к Андре.
— Пойдем ко мне. Программы дам…
Опять чертовы программы! Андре замотал головой.
— Как ты не понимаешь! Очень важно, чтоб ты попал…
— Ну как я туда попаду, скажите, как?
Пепэн лукаво улыбнулся, шутливо ткнул Андре локтем в бок.
— У англичан есть поговорка: «Было бы желание, а возможность найдется».
О господи! Чтоб тебя…
— Святой отец, я, пожалуй, пойду. Нездоровится как-то.
— Поговорим завтра, после мессы! — Слова прозвучали как приказ. Священник отошел, сел в автомобиль и исчез, оставив за собой облачко пыли.
Хоть бы раз предложил подвезти до дому!
Охая на каждом шагу от боли, Андре побрел к окраине, где, обращенные к озеру, стояли домишки метисов.
III
Когда Андре приковылял к дому, Доди Роуз в плотно облегающих штанах и прозрачной блузке на голое тело делала вид, что пропалывает в огороде худосочные грядки с овощами. Ступая вдоль изгороди, она выдирала сорную траву и чертополох. Андре молча махнул ей рукой и, не останавливаясь, двинулся было в дом, тогда она окликнула его:
— Эй, Андре!
Он нехотя заковылял к ней.
— Что это у тебя с ногой?
— Порезался о разбитую бутылку, когда ночью прыгал через забор.
Доди громко расхохоталась.
— Надо же! Нет, самое смешное — как ты, тряся голым задом, кинулся к двери, только Альберт захрапел. Вот умора!
Андре усмехнулся:
— Ты бы хоть после вчерашнего корыто опорожнила.
— Слушай, он опять уехал. Явится только во вторник ночью. — Доди покачала бедрами. — Я бы тебе яичницу с салом сделала, а?
Андре сорвал длинную травинку, принялся жевать, отрывая зубами и выплевывая по кусочку от стебля.
— Не сегодня. Устал очень.
Уголком глаза он увидел, как к дому подходит Рейчел с набитой продуктами сумкой. Мать вошла в дом, не глядя на Андре с Доди, и с силой захлопнула дверь.
Андре отошел от забора.
— Приходи, Андре, а?
— Не… Выдохся. А завтра рано вставать, к обедне идти.
— К обедне? Это еще зачем? — С лица Доди сошла улыбка, в глазах сверкнула подозрительность. — Исповедоваться идешь? Растрезвонишь всем, мерзавец, про меня, дойдет до Альберта, уж он…
— Отец Пепэн небось не протреплется, — бросил о усмешкой Андре через плечо, ковыляя к дому.
Поднявшись на полусгнившее крыльцо, он заметил рядом с уборной старенький «форд» Обри Слэддена. Андре скривил лицо и не успел распахнуть дверь, как услышал возмущенный голос Обри:
— Нет, пять долларов тебе, Исаак, и пять Симоне. Да послушай же ты, черт тебя дери…
— Семь старику и семь мне, — не уступала Симона. Она бухнулась Слэддену на колени и пощекотала ему ухо кончиками пальцев. Слэдден спихнул ее, закинул ногу на ногу, смущенно фыркнул.
Симона хихикнула, зажав рот ладошкой.
— Если так баба нужна, накинь пару долларов.
Андре незаметно скользнул в комнату и, усевшись на край кровати, снял ботинок с зудящей болью ноги.
— По рукам, Слэдден? — приставала к гостю Симона.
Рейчел, мрачно насупившись, стояла у печки, скребла кастрюльки в тазу, полном жирной воды. Она повернулась к Симоне, подбородок у матери трясся:
— Скоро Джои придет. Что про мать думать будет? — Рейчел ткнула в сторону Исаака мокрой кастрюлькой: — Сводник! Бесстыжий!
— Заткнись! Я тебе что, миллионер? Работу она бросила? Бросила! Заявила, чтоб пособие дали? Нет! Нету пособия. Мы кормить будем? Я без работы.
— Звал тебя Джонни Эванс с бойни…
— Молчи, зараза! — Исаак замахнулся.
Рейчел попятилась к двери.
— Мерзавец! — Она плюнула в сторону Исаака. — Ты, Симона, стыда нет, с этой падалью идешь. — Она ткнула кастрюлькой в Слэддена.
— Подумаешь! Ты ж ходила с Джейком Рыбий Глаз? И еще с тем, Джимми, пока не разжирела и не состарилась…
Рейчел запустила в Симону кастрюлькой. Симона увернулась, и кастрюлька брякнулась об печку.
— Бесстыжая! — гаркнула Рейчел. Она кинулась вон, с силой хлопнув дверью так, что Андре вздрогнул.
Симона сидела, болтая ногами, на краешке стола, от «кинувшись назад и опершись на руки, выставляя грудь вперед, напоказ.
— Ну как, Слэдден, идет?
Слэдден провел языком по пересохшим губам.
— Шесть тебе, шесть Исааку.
Исаак хитро посмотрел на него.
— Симона сказала — семь.
Симона соскочила со стола и метнулась к старому мутному зеркалу над умывальником. Принялась мазать губы помадой. Обри, вытянув шею, следил за ее движениями.
— Пойдем, малышка, а? У меня бутылка припасена. Прокатимся к Заливу Француза…
Симона хохотнула, схватила грязную, наполовину, беззубую расческу, вонзила ее в заросли жалких, завитых на скорую руку кудряшек.
— Семь долларов, — неумолимо отрезала она. — И сигарету дай.
Слэдден вздохнул, достал из нагрудного кармана пачку сигарет и кинул на стол. Симона вынула одну, прикурила от спички и швырнула распечатанную пачку Исааку. Тот, не спросив, взял сигарету.
Симона подошла к Слэддену, прильнула, потрепала ему волосы на макушке.
— Я такая заводная, — промурлыкала она.
Слэдден шумно засопел, лицо у него побагровело, он встал.
— Ладно, черт с вами, семь тебе и…
— …десять мне, — вставил Исаак.
— Как! Ты же сказал…
— Десять. Кушать надо.
— Слушай, Исаак, старая каналья…
— Десять.
Слэдден запустил в карман руку, при этом его разбухший от пива живот перевалился через ремень, и вытянул пачку денег. Чертыхаясь, он послюнил большой палец, отсчитал деньги и швырнул на стол. Не успел Исаак протянуть руку, как Симона выхватила из пачки семь долларов и засунула себе за пазуху. Затем повернулась к Слэддену, обняла его за шею, выронив сигарету изо рта, и прижалась к нему всем телом.
— Ну что, пойдем?
Слэдден затопал к двери, таща Симону за руку. Через мгновение раздался рев мотора.
Исаак сунул деньги в карман. Опершись ладонями о стол, он поднялся и побрел в угол комнаты. В груде наваленной на полу одежды отыскал свою засаленную куртку, натянул. Прикрывая за собой дверь, он повернулся лицом к Андре, и тому показалось, что отец улыбается.
В пивную небось. Мать следом потащится, будет с ним ругаться, а потом надерется пивом еще похлеще отца. Поесть бы. С утра ничего во рту, кроме пакетика сухой картошки да трех бутылок шипучки.
Андре принялся шарить по полкам.
Банка питьевой соды, полпакета муки, кулинарный жир в миске, чай и сахар в сумке, что мать приволокла из магазина. Можно бы лепешку испечь, только придется печку растапливать.
Дверь отворилась, и из темноты возник Джои. Застыл на пороге — руки в сильно оттопыренных карманах штанов, — молниеносно обшарил черными бусинками глаз комнату. Потом улыбнулся Андре. Из одного кармана извлек пакетик земляных орешков, из другого — пакетик леденцов.
— Хочешь, Андре?
— Мать купила?
— Не-е.
— Ох, смотри, накроет тебя старый Фэрфекс, полицию вызовет.
— А я его не боюсь.
— Ну и зря.
Джои повел плечами.
— Мать сама стянула бутылку кока-колы.
Он взялся зубами за кончик пластикового пакетика, оторвал уголок, сплюнул кусочек пластика на пол, на» сыпал орешков на ладонь, засунул пригоршню в рот и, жуя, проговорил:
— Сам не воровал, что ли, когда как я был?
Появление Синички, шумно ворвавшейся в дом, спасло Андре от ответа. Сестренка тащила три довольно большие, насаженные на проволоку рыбины. Если б не тугие черные косички, отброшенные назад, к плечам, на сразу догадаешься, мальчик Синичка или девочка.
— Гляди какие! — радостно затараторила она. — Щучка и два щуренка. — И шлепнула свой улов прямо на стол. — У-ух! Ну и денек. Мы с Максом подались на ту сторону озера. Он форель поймал. Большущую, килограммов на десять. Он ее битых полчаса вытягивал. Это там — слыхал про Гранатовый берег? Где, говорят, песок розовый. Правда-правда, розовый!
Синичка подбежала к Андре и, запустив руку в свой карман, вытащила целую пригоршню песка.
— Вот. Прихватила для твоей коллекции. Полный карман набила.
С минуту Андре молча смотрел на песок, и сердце у него забилось от радости.
— Ишь ты. Надо же!
— Там за уборной валяется жестянка с крышкой, из-под табака. Пока ты свою коллекцию камней не разложишь, держи песок в жестянке. Джои, поди принеси, ладно?
— Не-а! — запротестовал Джои. — Темно уже. Я чертяки боюсь.
— Какой еще чертяки? — фыркнул Андре. — Кто это тебе всякой дремучей дурью башку забивает?
Глаза Синички испуганно заблестели.
— Почему дурью? Мать говорит, что она ее видела, и бабушка еще рассказывала…
— Прекрати, Чик-Чирик! Хорошо хоть, тебя не слышит сестра Бригитта…
— Пожалуйста! Не боишься — сам иди.
— Очумели совсем, — пробормотал Андре, однако, оказавшись в темноте, с трудом заставлял себя не смотреть по сторонам. Жестянка из-под табака заблестела у него перед глазами, отражая свет лампы, лившийся из распахнутой двери; только Андре нагнулся за банкой, как тотчас над головой взмыла дикая утка; от внезапного свиста крыльев волосы у Андре встали дыбом на затылке.
Тьфу ты! Камни коллекционирую, отец ругается, что очень образованный, а вот поди ж ты, под стать бабке трясусь как овечий хвост, привидений дурацких боюсь.
Андре схватил банку и поспешно, как мог, заковылял в дом. Сердце у него стучало.
Идиот, больше никто! Знаю же: нет никакой старухи-чертяки, никто меня не съест, а все же…
— Вы что, ребята, не ужинали еще? — спросила Синичка, высыпав весь песок из кармана в жестянку. — Ах, чтоб вас… Джои, ну-ка растопи печку!
Синичка взяла большой кухонный нож и принялась чистить и потрошить рыбу. Пес Вонючка с виноватым видом вылез из-под кровати и подошел к столу, подняв вверх голодные глаза.
Синичка разрезала очищенный кусок рыбы пополам и шмякнула половинку на пол. Тощий щенок схватил рыбу в зубы и поспешил назад, под Исаакову кровать, словно опасаясь, что кто-нибудь отнимет его добычу. Синичка собрала внутренности, вывалила их в помойное ведро и сполоснула скользкие от рыбы руки в миске с холодной водой.
— Вон я сальца принесла. А готовить вам, ребята.
— Нет, Синичка, давай лучше ты!
— Никаких разговоров!
Андре вздохнул, снял черную, закопченную сковородку с гвоздя, положил на нее кусок жиру, поставил на печку. Пока он обваливал рыбу в муке, Синичка, встав на цыпочки, застыла у зеркала.
Когда она повернулась, комически застыв в обольстительной позе, губы у нее были намазаны помадой, а веки подведены тенями Симоны.
— Ну как?
— Сейчас же вытри рот и смой с глаз эту пакость. Старик увидит — и в следующий раз Слэдден знаешь к кому придет?
— А Симона говорит, что это обалденно здорово.
— Дура твоя Симона. Шлюха поганая! «Обалденно здорово», кто бы говорил! Она же ляжет с кем угодно, хоть со зверем паршивым, лишь бы денежки у него водились.
— Ладно-ладно. Как там отец говорит; не худо бы пожрать!
IV
Утром в понедельник парило, как перед грозой. Когда Андре подошел к гаражу, хозяину уже было явно не до него, на измазанном маслом лице Мейсона застыла улыбка. Все его внимание было приковано к желанному сокровищу: к груде останков старой колымаги с открытым верхом, принадлежавшей некогда Оле Олсону.
— Погляди, какие колеса! — бормотал Мейсон.
А спицы — ей-богу! — деревянные. Где теперь такие сыщешь! И лобовое стекло в порядке, и радиатор с виду ничего. Из своего барахла кое-что отберу, отсюда возьму что получше — и будет она у меня как новенькая, прямо картинка!
Он отступил на шаг, любуясь машиной, и, не отводя от нее глаз, вынул из кармана двадцатидолларовую бумажку.
— Долорес к нам выехала. Оле звонил. Сказал, она тебе поможет двигатель снять, а то мой брат чинит тут комбайн одному. Инструмент там, в мешке. Бери деньги, вы там поешьте как следует…
— А помельче нет?
— Да ладно! Сдачу привезешь. — Мейсон посмотрел на Андре и хитро улыбнулся. — Небось трудновато придется с эдакой помощницей — какая уж тут работа, а? — И, внезапно посерьезнев, сказал: — Вообще-то жаль девчонку. Оле никуда ее не пускает, забыл, что не дитя уж. А в ней кровь играет. Видно, мучается девка, дело молодое; только ты голову-то не теряй — для своей же пользы — и руки не вздумай распускать.
Снаружи засигналил грузовик. Андре взвалил мешок с инструментом на плечо и пошел к машине, где ждала Долорес. После той сцены в субботу у гаража он и не знал, чего от нее теперь ждать; сейчас Долорес робко поглядывала на него, и на губах ее то и дело возникала, подрагивая, полуулыбка.
— Не знаю, что у меня получится с той машиной, — сказала Долорес. — Вообще-то я помогаю отцу чинить косилки и всякое такое.
Андре метнул взгляд на ее руки, сжимавшие руль. Руки у Долорес были грубые, с изгрызенными ногтями, натруженные, как у каменотеса.
— Ничего, разберемся.
Водит неплохо, отметил про себя Андре, после того как они проехали несколько миль по шоссе. И язык за зубами держать умеет. А то боялся, что она всю дорогу будет тарахтеть без умолку.
Андре успокоился и принялся следить за ястребами, парившими с подветренной стороны дороги, выглядывая мышей и крыс, что забились от шума проезжающих машин глубоко в норы. Листья тополей подрагивали, серебрясь на ветру, даль колебалась, утопая в зное.
Ехали долго, наконец Долорес заговорила:
— Ты учишься?
— Кончил в июне.
— Двенадцать классов?
— Ага.
— Надо же! — с завистью протянула она. — А меня отец заставил из седьмого уйти. По правде говоря, с учебой у меня не ладилось.
— На ферме лучше, да?
— Лучше! Хоть бы она пропала. Господи! Вот Торвальд, он везучий. Ему небось корова на ноги не гадит…
— Торвальд — это кто?
— Брат. Он уж три года в Эдмонте учительствует, — Долорес заерзала, пристраивая худенькое тельце поудобней на сиденье, и умолкла, в раздумье покусывая губы. Грузовик взобрался на гору, и внезапно перед ними в голубоватой загадочной дали распахнулась ширь лесов и лугов.
— Гляди! — воскликнула Долорес. — Ну и лето нынче. Чувствуешь, лесом пахнет? — И она принялась насвистывать какой-то мотив, простой и приятный, как птичье щебетанье.
В половине одиннадцатого Долорес подрулила к небольшому гаражу в поселке Сент-Пол.
— Сегодня жара, в помещении сдохнуть можно. Хотя, если дело пойдет, можем к трем закончить. — Долорес соскочила с подножки, достала из кабины тяжелый мешок с инструментом и направилась к гаражу.
Андре, чувствуя себя несколько задетым и даже одураченным, поплелся вслед за ней.
Думал, девка — огонь, ишь, как тогда задом виляла передо мной у Мейсона, а она…
Когда Андре вошел в гараж, Долорес уже разговаривала с хозяином. Машина, с которой им предстояло возиться, стояла под лебедкой.
— Послушай, ты не левша? — спросила Долорес.
— Нет.
— А я левша. Ты работай с этой стороны, а я буду с той.
Не успел Андре двинуться с места, как Долорес открыла крышку капота и разложила инструмент. Брат Мейсона наблюдал за ними, ехидно улыбаясь. Направившись к машине, Андре споткнулся о гаечный ключ, лежавший на цементном полу, и еще пуще смутился.
Чертова кукла! Выставляется, будто заправский мастер, а сама небось ни черта в технике не смыслит.
Однако не прошло и получаса, как Андре пришлось признать, что смыслит, и нисколько не меньше его.
Тьфу ты! Глядеть противно. По локоть в масле, чумазая, как поросенок. Ну нет, на что мне такая сдалась…
Когда в полдень с пожарной вышки прозвучала сирена, Долорес оторвалась от работы, тыльной стороной ладони утерла пот со лба.
— Уф! Порядок. Через пару часов все будет в полном ажуре. Есть хочешь?
— Билл сказал, чтоб мы как следует пообедали, — ответил Андре, доставая из переднего кармашка джинсов двадцатидолларовую бумажку.
— Зачем? Мама надавала мне с собой всего, тут поблизости рощица славная есть, помнишь, проезжали?
Андре пожал плечами, свернул деньги и запихнул поглубже в брючный кармашек. Долорес равнодушно следила за ним, машинально потирая черным, замасленным пальцем маленький прыщик под носом.
В рощице, в пятнистой от листвы тени, чуть продувал приятный ветерок. Они съели приправленные горчицей пухлые бутерброды с жареным мясом, а вслед за ними — пирожки с крыжовником. Потом, отдыхая в тени, Андре от нечего делать принялся приманивать бурундука хлебными крошками.
— Эх, до чего не хочется опять переться в этот гараж, — проговорил он. — В эту духотищу. Хоть бы дождь, что ли, пошел.
— Деваться некуда. Идем. — Долорес метнула на него взгляд из-под ресниц. — Помнишь, по дороге озеро проезжали? Классно бы искупаться после этой душегубки, а? — Она со смешком ткнула его легонько кулаком в бок.
Мгновенно — Андре даже сам испугался — его словно током ударило.
— Точно! Искупаться — это дело.
Окончив работу, они покатили по шоссе на север. Было пасмурно, нещадно парило. Ни ветерка. Под коленками у Андре холодило от капелек пота, стекавших с распаренного тела, рубашка прилипала к спинке сиденья. Он глядел, как с запада надвигается грозовая туча.
— Скорей бы прорвало, в самый бы раз!
— Да уж! Люблю, когда молния полыхает. Мама обычно хватает Астрид в охапку — и в чулан, а по мне — хоть бы что, хоть бы всю ночь громыхало. Чтоб и сарай наш спалило, и дом, и… — Долорес рассмеялась, — да хоть бы и меня вместе с ними!
Неожиданно впереди проглянуло озеро, тусклым зеркалом утопавшее в зное; по берегам в камышах сонно застыли кулики. Долорес притормозила, свернула на песчаную обочину, потом направила грузовик прямо к густой заросли ивняка, которая сразу отгородила их от дороги. Долорес выключила двигатель и потянулась сладко — руки вверх, кулаки сжаты. Андре почувствовал, как напряжение ее натянутых мускулов, словно ток, через сиденье передалось ему. Долорес обернулась, усмехнулась и выпрыгнула из кабины.
— Кто остался, тот попался! — выкрикнула она, хлоп дверцей и помчалась к воде, сбрасывая на бегу одежду. Не успел Андре вылезти из грузовика, как она уже с радостным визгом шлепнулась в воду.
Ишь психованная!
Приятно разгоряченным, вспотевшим телом погрузиться в прохладную воду. Андре, мощно загребая, быстро поплыл к середине озера, то и дело переворачиваясь и кувыркаясь в воде. Он ушел под воду, вынырнул с победным видом, зажав в кулаке камушек со дна, и вдруг понял, что плывет один. Андре развернулся, загребая руками в воде, посмотрел в сторону берега. Долорес стояла по пояс в воде и смотрела на него.
— Я думал, ты плаваешь.
Издалека, с того берега, долетел ее голос — тоненько, прерывисто:
— Я не уме-ею!
А я, как видишь, умею и за все лето первый раз до воды добрался.
Через четверть часа, вволю наплававшись, Андре повернул к берегу, ожидая услышать заискивающую похвалу Долорес, и с удивлением обнаружил, что она, уже одетая, стоит на берегу.
— Эй! Ты чего не позагораешь?..
— Давай скорее. Надо отсюда мотать.
— Мотать?
— Тут какие-то ребята по кустам шныряют.
— Ну и что?
— Если отцу скажут, что я купалась с парнем, он меня убьет.
— А ты что, знаешь этих ребят?
— Я их не особенно разглядела, но лучше нам поскорей отсюда двигать. Давай одевайся.
Андре прямо перекосило от ярости. Не успели приехать! Этой бы только, чтоб никто — ни-ни! Я там плаваю, а она тут трясется. Откуда здесь ребята? Да нет, просто ей… Тьфу ты! Какой же я идиот!
Домой Долорес гнала машину на полной скорости. Андре смотрел, как разрастается грозовая туча, у него не было желания говорить с Долорес. К гаражу Мейсона, где она высадила Андре, подкатили к концу рабочего дня. Перед тем как тронуться, Долорес кинула на Андре настороженный взгляд, прежнего кокетства как не бывало.
Все, хватит, завязал, сердито решил про себя Андре.
Когда он вошел в мастерскую, Мейсон подсчитывал дневную выручку.
— А, Андре… давай-ка сдачу…
— А я их и не тратил. — Андре запустил пальцы в передний кармашек джинсов. — Что за черт! Где ж они? Тьфу ты! Я ведь днем проверял…
Мейсон сурово посмотрел на него.
— Как это — потерять деньги из переднего кармана штанов?
— А я и не терял…
Долорес! Она их вытянула, пока я плавал. Ах, стерва! Ребят каких-то приплела…
— В других карманах ищи, — сказал Мейсон.
Андре перерыл все карманы, после чего мрачно опустил голову, в недоумении пожимая плечами.
— Ну что ж… можете, если надо, удержать из моей получки…
— Уж я удержу, будь спокоен! Черт побери! Деньги на земле небось не валяются.
Андре медленно вышел из гаража. В этот самый миг на город обрушился первый поток ураганного ветра, предвестника грозы. Вспыхнула зеленая молния, и тут же раздался такой оглушительный треск грома, что у Андре душа ушла в пятки. Он побежал. Дождь хлестал его по голове, по плечам. До дома оставалось совсем немного, как вдруг с ветром в потоке дождя накатил град; пришлось, окунаясь в потоп, перебраться через улицу и искать защиты в заброшенном курятнике. В носу противно щекотало от запаха куриного помета; Андре, весь дрожа, съежился у дверной притолоки и глядел на дождь.
Не часто в этих местах так яростно полыхало небо. Молния с шипением и треском возникала то тут, то там. Земля содрогалась от грома.
Ишь, молнии ей захотелось. Чтоб тебе весь зад спалило!
Внезапно Андре расхохотался.
Получилось, что он двадцать долларов выложил за науку! Не бросай штаны где попало, чтоб любая девка могла карманы обшарить!
А может, не она? Может, и впрямь ребята какие прятались в кустах?
А, ладно! К черту все. К Доди заглянуть, что ли?
V
Последующие дня три отношения Андре с Биллом Мейсоном были подчеркнуто прохладные, а вот погода оставалась прежней. Жарило нестерпимо. Как-то посреди дня, в самое пекло, Мейсон, держа в руках толстенный, в оранжевом переплете технический справочник, озадаченно насупившись, грузно опустился на низенькую скамеечку позади «ситроена» доктора Пеша.
— Ах ты черт! Течет, — произнес он — и потом еще раза четыре: помолчит — повторит то же самое. Тыльной стороной ладони Мейсон утер струившийся со лба пот; от него пахло мазутом. Мейсон держал справочник в вытянутой перед собой руке и глядел в него, прищурив глаза. — Ох уж эти иностранные модели, будь они неладны, — внезапно взорвался он. — Да еще в этих очках ничего не вижу… — Мейсон протянул справочник Андре. — На, прочти-ка, что там пишут насчет гидравлики, если эта посудина течет?
Андре пробежал глазами нужный раздел, потом медленно прочел вслух, время от времени тыча пальцем в тот или иной узел машины. Мейсон насупился, взявшись пальцами за подбородок, потом просветлел и расплылся в улыбке.
— Ишь ты, разобрался! Подумать только — разобрался! — Он с уважением посмотрел на Андре. — Не хочешь механиком стать?
— Не. — Андре перебирал в пальцах камешки, что подобрал утром по дороге на работу.
— Вечно у тебя полны карманы камней!
Андре пожал плечами, вышел из гаража, вывалил камешки в ивовые заросли на пустом участке по соседству.
Это точно, засели у меня камни в башке! На чердаке вон их сколько ящиков, и я про каждый камень все могу рассказать. Нравится мне это, интересно.
Прислонясь к дверной притолоке, Андре стоял снаружи. Жарко, ни ветерка. К руке присосался маленький комар — к концу лета они прямо озверели. Андре смотрел, как комар наливался кровью и вот взлетел, отяжелев настолько, что еле шевелил крыльями.
К бензоколонке подкатил допотопный «фольксваген», весь залепленный переводными картинками-цветочками. Из окошка высунулась рыжая голова Дейва Крамли.
— Как успехи, мыслитель? — крикнул он.
Какой я ему мыслитель? Дурак! Еще Мейсон услышит…
— Какие успехи?
— Ты что, не знаешь? Прислали аттестаты за двенадцатый класс.
В животе у Андре тревожно заныло. Ему не хотелось говорить про экзамены.
— Слушай, а чего ты сейчас делаешь?
— Я-то? В университет готовлюсь, — Крамли включил двигатель. — Интересно, какие у нас с тобой отметки по математике и химии…
— Может, подкинешь до почты? Я отпрошусь у Мейсона минут на десять.
Крамли залился краской.
— Знаешь… по правде говоря, я спешу, но если встречу отца Пепэна, то я ему…
Брезгуешь, сукин сын! Эта старая калоша и так сюда припожалует на мою голову.
— Говорят, ты вроде собираешься в техническое училище? — спросил Крамли.
— Мало чего говорят.
— А что думаешь делать?
— Не знаю. Захочу — ничего не буду.
Крамли осклабился, отпустил педаль сцепления и тронулся с места.
Окажется — отметки плохие, чтоб им пусто было, тогда уж точно бездельничать придется, мрачно подумал Андре.
Весь день он слонялся по гаражу без дела. Работы оказалось мало. Клиентов почти не было. В конце дня Андре набил кузов пустыми канистрами из-под масла и поехал на свалку. Посреди дневного пекла от свалки тянуло зловонием. Чайки бились между собой за куски заплесневелого черствого хлеба, зеленые мухи неистово жужжали над каким-то мертвым животным. Выгрузив канистры из кузова, Андре с облегчением забрался в кабину. Не успел повернуть ключ зажигания, как в окно всунулись две смуглые улыбающиеся физиономии.
— А, Альфонс, Уилли… привет! Сто лет не виделись…
— Когда тут видеться: по уши в дерьме, один зад кверху торчит, — смеясь, сказал Альфонс.
— Вот именно, гад буду! — вставил Уилли. — Как мусор выгребать — так нам, ублюдкам, значит, а как наваливать — так им. — Он облокотился обеими руками о стекло дверцы и, увидев, что Андре усмехнулся на его слова, расплылся довольной улыбкой.
— Слушай, подбрось до Лун-Пойнта! — попросил Альфонс. — У нас там сети расставлены…
— Притом нас там поджидают Энджи Снегирек и Бесси Желтоножка, — добавил Уилли. — Пива им страсть как хочется.
— Пиво везем, — подхватил Альфонс. — А «форд» у нас отказал. Сначала было нормально; потом пошли в кустики по нужде, приходим, а он не заводится. — Альфонс открыл дверцу кабины и, не дожидаясь приглашения, взгромоздился на сиденье рядом с Андре, Уилли последовал задним.
— До Лун-Пойнта! Туда часа два ходу. Нет, не поеду, Мейсон искать будет, еще полицию вызовет.
— Ерунда! Дадим пару бутылок.
— Тьфу ты, братцы, не пойдет. Придется вам своей старой посудиной воспользоваться. Посмотрим, может, и раскочегарим вашего старикашку. Видать, ему прочихаться надо.
Альфонс и Уилли сразу притихли с унылым и поникшим видом. Понуро сидя, руки в карманах, съежившись, как побитые курицы, под козырьками кепок, клювами торчавшими над лбами, они молча смотрели, как Андре заливал в радиатор «форда» воду из котлована. Потом Андре попробовал включить двигатель; машина затарахтела.
— Что, белым заделался, не желаешь с вонючими выродками пиво пить? — на ходу бросил Альфонс через плечо, когда они с Уилли тронулись в своем «форде».
— Совсем спятили, идиоты! — прошипел Андре сквозь зубы, с силой пнув ногой глыбу мусора на краю свалки. Потом машинально нагнулся, подобрал несколько упавших камешков, поглядел на них, положил в карман.
У гаража под навесом его поджидал отец Пепэн.
— Андре! Скорей, почта закроется. Мистер Мейсон позволил.
О господи! Опять…
Через полчаса Андре сидел напротив отца Пепэна за письменным столом в его аскетически строгой комнате. Старик замер, вытянув шею, глядя перед собой и смахивая на только что вылупившегося из яйца цыпленка; черные глазки буравили аттестационный лист с отметками Андре.
— По точным наукам отметки лучше. Мог бы хорошо успеть и еще по… да, еще по четырем предметам. — Отец Пепэн бросил лист на стол, откинулся на спинку стула. — Я ждал двух моментов. Первый — этот. — Пепэн указал на аттестационный лист. — Хотя, конечно, знал, что так и будет… Второй, и самый, я думаю, важный, — чтобы ты не бросил работу. Многие метисы бросают, не хотят. Мейсон говорит, ты работник надежный. Так вот… — Отец Пепэн сделал многозначительную паузу. Андре почувствовал, как ладони у него стали влажными. — Так вот… скажи, чему хотел бы учиться?
— Я, видно, тупой какой-то, только никак до меня не дойдет, как можно на мои-то деньги…
— О! Я еще с девятого класса отметил твои успехи. Буду платить за твою учебу. Решай, куда пойдешь.
Кровь застучала у Андре в висках, ногам вдруг стало тесно в ботинках. Он не смел поднять глаз на отца Пепэна.
— Ну, говори же!
Андре молча замотал головой, взгляд его почему-то все время притягивало стеклянное пресс-папье на столе. А напряжение внутри все никак не отпускало.
— Знаешь, сколько я прожил среди индейцев? Сорок два года. И за это время только ты один у меня окончил школу. Ты один! Коллеги не верили, говорили: не может быть. Как не может, ты же окончил!
— Да, святой отец, я окончил. Так что ж теперь делать? Ведь такой, как я, только и годится, что подносить в лаборатории пробирки какому-нибудь сынку богача-адвоката, но к себе в машину он меня не посадит — вдруг мать увидит да спросит: чего это он со всякими ублюдками раскатывает, — а у меня даже пороху не хватило послать к чертям Мейсона с его гаражом, взять да и укатить днем с Уилли и Альфонсом. Альфонс мне так и сказал: «Что, белым заделался, не желаешь с вонючими ублюдками пиво пить?» Куда же мне податься? Куда ни глянешь, всюду плохо.
— Послушай, Андре… этот поселок, эта глушь — какая здесь жизнь? — заговорил священник мягко, вкрадчиво. — Придет время, и ты, если захочешь, займешь свое место рядом с самыми образованными белыми в Канаде…
— Белым стать? Чего хорошего! Чтоб вы потом сказали своим приятелям: «Глядите! Я из этого тупого болвана белого сделал!»? Нет уж, мне никогда белым не быть. Вот в школе. Камнями в меня, правда, не пуляли, но никогда не говорили: «Эй, Андре! Заходи к нам!» Да меня в школе вообще не замечали. Вспоминали, только когда надо было, к примеру, правильно решить задачку по математике. А вы хотите меня еще в одну такую же тюрьму упрятать, и там мне опять голову позабивают всякой ученой мурой, только посолидней, но я-то… я ведь ничто!
Священник поднялся, упершись морщинистыми кулаками дубовый стол.
— Ты сказал — тюрьма? Сказал — не замечали? Я всю жизнь один. Ради тебя, таких, как ты. Я положил все к твоим ногам, а ты — плюнул! — Пепэн вышел из-за стола, подошел к Андре, встал перед ним. — Не говори глупостей — «не замечали»! Ты мой должник. Терпи свое одиночество ради будущего. Я не позволю тебе отступить. Столько лет молил бога за тебя, столько в тебя вложил.
Пепэн отошел, выдвинул верхний ящик стола, вытащил оттуда пару буклетиков и швырнул их на стол перед Андре.
— Прочти. Образумишься — приходи, поговорим.
Долго сидел Андре посреди овсяного поля Сая Гроссмена, раскачиваясь в раздумье или разражаясь вслух бранью.
Старый хрыч, ни в жизнь не отвяжется. Вон они, справочники для поступающих в университет Альберты и Технологический институт Северной Альберты.
Внезапно Андре разобрал смех, да такой неудержимый, что слезы из глаз потекли.
Господи, да что я!.. Должен ему что, в самом деле? Ору, как дурак, что никому не нужен. Один я, что ли, такой? И чего бояться ехать в Эдмонтон? Город большой. Другие-то устраиваются, живут.
Андре подобрал с земли оба справочника и медленно побрел через поле по пояс в высоком овсе. Выйдя к глухому, частому ельнику, он присел под сенью большой елки, слушая тишину леса. Остро и сладко пахло разогретой солнцем смолой. Из тишины встрепенулся посвист синички-белогрудки. На кусте черемухи у края опушки перед самым полем зрели, наливаясь, ягоды, а за спиной, в лесной чаще, чуть шелестя, подрагивали в знойном безветрии листья осины.
Лес. Ей-богу, не знаю, смогу ли я прожить без леса.
Когда Андре возвратился домой, в лачуге никого не оказалось. Дверь была распахнута настежь. Андре вспомнил: Рейчел говорила, что они все пойдут в лес по голубику.
Андре рухнул ничком на кровать. Вздохнув, открыл справочник для поступающих в Технологический институт Северной Альберты. Полистал, уже в который раз отыскал раздел «Геологический факультет», перечитал.
Два года, ну и дела! Ну допустим, ну и что?.. Окончу, наймусь работать в какую-нибудь фирму по горному делу. Или пойду в такую же вот сейсмическую партию, как работает у нас, — может, не так уж плохо. По крайности не торчать все время взаперти в какой-нибудь конторе. Да нет же, никогда мне не окончить его, этот факультет…
Камешки в кармане впились в бедро, лежать стало неудобно. Андре вынул камешки, разложил перед собой поверх справочника.
Ничего особенного — кристаллический сланец. Должно быть, там, откуда Синичка приволокла песок, полно таких. Иногда в них вкраплены зерна граната. А эти так, ерунда. Кусочки обычного сланца.
Андре с размаху стукнул камешком по раме железной кровати. От камня откололся кусок; на поверхности скола оказалось окаменелое насекомое.
— Ишь ты! — Андре привстал с кровати, любуясь своей находкой.
— Эй, Андре, чего делаешь? — В дверях стояла Доди Роуз.
— Посмотри! Кембрийский трелобит! Он жил здесь миллионов пять лет тому назад, когда повсюду тут был океан.
— Господи, еще чего не хватало! Океан!
— Да ты посмотри, посмотри!
— Чушь какая. Козявка она и есть козявка. Чего так рано дома?
На Доди был яркий оранжево-голубой цветастый купальник-бикини. Взглянув на нее, Андре почувствовал, как его с ног до головы обдало жаром. Он притянул Доди к себе.
— Иди ко мне…
Доди увернулась.
— Ишь! Только о том и думаешь. Жара — нет сил, даже в купальнике у плиты вся запарилась, а он…
— Будто ты не для меня вырядилась!
Доди мотнула головой, как отряхивается от воды кошка, откинула назад длинные светлые волосы и шлепнула ладонью по бедру, прихлопнув комара.
— Комары проклятые! Проклятая жара! Ребенок орет весь день, минут десять только, как успокоился, играет.
Доди прошлась по комнате, с брезгливостью косясь на стол, заваленный грязными тарелками, и повторила:
— У плиты вся запарилась, а тут еще комары проклятие. — Она хлопнула себя по шее.
— Чего это все белые звереют от мух и от комаров? Или от погоды — с погодой-то ничего не поделаешь: какая есть, такая есть.
— Хоть бы сетки повесили от комаров. У нас Альберт кругом понавесил. Может, зайдешь ко мне, пивом угощу?
Доди заметила на кровати справочники, взяла в руки, принялась разглядывать.
— Это еще что такое?
— Может, пойду учиться на геологический.
— Врешь! — В голосе Доди слились изумление и недоверие.
Задетый, Андре вынул конверт с аттестационным листом, метнул ей. Доди смерила Андре косым взглядом, подняла упавшую на пол бумагу и, молча, шевеля губами, прочла. На лице Доди заиграла вдруг хитрая и несколько злорадная усмешка.
— Слушай… Знаешь что? — Она прыснула. — А я ведь не доучилась.
— Не доучилась?
— Ага. Учительница засекла меня на автостоянке с одним парнем… Мы с ним в машине на заднем сиденье развлекались.
— Да уж, с сестрой Бригиттой от такого сразу может удар приключиться!
Оба покатились со смеху.
Доди утерла глаза тыльной стороной ладони и с ненавистью произнесла:
— Черт бы побрал эту школу! Ну ладно, пошли. А то комары меня сожрут совсем.
На крыльце Доди остановилась, обернулась к Андре.
— Ты что, серьезно насчет этого… как его там, технического училища, что ли?
— Не знаю. Отец Пепэн говорит…
— Опять отец Пепэн! — фыркнула Доди. — Вот уж барахло старое! Ну куда тебя несет? Работа есть, и я покуда под боком. Тут Альберт какой-то договор подписал. Надолго, до января. Южнее Эдмонтона дорогу строят. Вряд ли он часто будет по триста миль по субботам до дома отмахивать ради одной ночи.
VI
Прошло две недели, и все это время Андре жил как в лихорадке: его кидало от радости к отчаянию. Работал каждый день, каждую ночь ходил к Доди, подолгу листал справочники, раздумывая, как же быть. И никак не мог решиться пойти к священнику, не знал, что сказать.
Как-то воскресным утром Андре осторожно, боясь разбудить Доди, скользнул с кровати. Узнав, что он собирается к обедне, Доди подняла его на смех. Только Андре потянулся за брюками, как ее рука с силой обвила ему шею, острые зубы вонзились в спину.
— Вот так-то лучше, — сказала Доди, притянув его обратно. — Интересно, куда это ты вздумал бежать?
— Пусти, Доди. Мне надо…
— Надо? Что значит «надо»?
— Пусти, говорю.
— Ну уж нет! Никуда я тебя не пущу. Надо ему! Есть кое-что и поважнее.
— Все, хватит! — отрезал Андре, отрывая руку Доди от шеи.
— Выходит, поутру уж и мочи нет? — со смешком процедила Доди.
В Андре вскипела ярость.
— Тьфу ты! Сказал же, конец!
Доди расхохоталась.
— Ах ты боже мой! Устал? Бедный пупсик… — пропела она с издевкой.
— Да заткнись ты, к чертям собачьим! Надоели твои шуточки…
— Ах так, надоели? — Доди рывком села в постели. — Сам убирайся к чертям собачьим. Это мне надоело кормить тебя, спать с тобой, да еще выслушивать всякие бредни про геологию, биологию и пес его знает про что еще!
— Что? «Геологию, биологию и пес знает что еще»? Да куда тебе до этих наук! Даже в уме не можешь сосчитать, сколько кассирше платить.
Доди спрыгнула с кровати, схватила со стола справочники и запустила ими в Андре.
— Забирай этот мусор и проваливай! — злобно крикнула она, указав ему на дверь. — Ублюдок метисский! Все вы такие — пыжитесь, из кожи вон лезете, а потом все равно тебе ведь на пособии куковать, клозетной бумаги и той не купишь, картинки из журнальчиков все повыдергаешь!
Андре схватил куртку, сгреб справочники и, хлопнув дверью, ринулся вон из хибары. Захотелось перебежать прямо через дорогу — и в лес, но утро было хмурое, промозглое. Ночью прошел дождь, с деревьев капало. В воздухе пахло осенью. О том, чтоб пойти сейчас домой, не могло быть и речи, к обедне — тем более. Андре побрел к центру поселка. Может, гостиничное кафе уже открыто.
В кафе было тепло, пахло крепким, только что заваренным кофе, тостами, поджаренной свиной грудинкой. Дочь хозяина Дюпэ, Женевьева, хлопотала за стойкой. Андре знал ее с первого класса, вместе учились. Женевьева подняла глаза и, увидев Андре, заулыбалась и сказала запросто, по-приятельски:
— Привет, Андре! Что, к обедне не идешь?
— Нет, не иду.
— И я. Сегодня с утра работаю. Чего тебе дать?
— Дай кофе. Еще тостик и джему, пожалуй.
— Сейчас их обслужу и подойду. — Женевьева взяла с подноса кофеварки чашечку кофе, поставила перед Андре. — Минутка есть?
— Найдется. Спасибо. — Андре опустил в чашечку три полные ложки сахару, налил сливок, потом сидел и смотрел, как сливки кружатся по поверхности кофе. Ярость все еще кипела в нем.
Дура Доди, дура, дрянь паршивая! Ублюдком сколько раз обзывала, а я все терплю! Только и знает измываться… будто я против нее идиот плюгавый… мол, куда мне до нее… хоть и балуюсь с ней, а ведь не дай бог Альберт меня с ней застукает… Чтоб ей пусто было! А вдруг захочет мне отомстить? Андре отхлебнул кофе. Огненный глоток жаром ожег все внутри. Замер в желудке — вот бы такое тепло да навсегда!
Женевьева подавала грудинку и пирожные сейсмологам, постояльцам гостиницы. Сейсмологи переговаривались, заигрывали с Женевьевой, время от времени взрываясь громоподобным добродушным гоготом.
От запаха жареной грудинки у Андре слюнки потекли.
Надо же, счастливые! Сыты, обуты-одеты, при машинах роскошных. Уж конечно, бабы у них обалденные, это точно. Красотки. Как… ну хоть как Женевьева.
А ведь она ко мне всегда по-доброму. И в церкви, и в школе тоже. Интересно, ну а если бы… Ишь, дубина, размечтался! Разве старина Дюпэ со своей старушенцией позволили б дочке якшаться со всякими ублюдками?
Хотя я внешне в общем ничего. Андре рассматривал себя в зеркале над стойкой. Говорят, вполне бы мог за белого сойти, за смуглого только. Зубы у меня ровные. Ладно, хватит дурака валять! Подумаешь, зубы ровные! Ну и что из этого?
Андре вынул из кармана куртки оба справочника, разложил перед собой на стойке и вновь принялся перелистывать.
Эх, разузнать бы поподробней, как там у них на самом деле, — да когда, уже вот говорить надо, что решил. А то папаша Пепэн такой цирк мне завтра устроит…
Андре настолько ушел в свои мысли, что, когда Женевьева принесла ему тостик, даже вздрогнул от неожиданности.
— У тебя университетский справочник? Надо же! Отец Пепэн мне рассказывал про твои успехи.
— Ну а твои как дела?
— Ничего. Приняли на курсы медсестер при центральной университетской больнице Альберты.
Эта — в медсестры, Крамли — в доктора. А я, у кого башка варит, прямо скажем, получше, почесываю себе за ухом да ублажаю Доли Роуз. Нет, если сейчас же не приму решения, так и будет, как насулила Доди, — придется куковать на пособии, на клозетную бумагу и ту не хватит…
— Послушай, Андре, а ты куда будешь поступать?
— На геологический. Полезные ископаемые изучать. В Технологический институт Северной Альберты — слыхала про такой?
Неужто это я говорю? Быть не может. Вот это да.
— Ну и молодец. — Женевьева задумчиво слегка взбила на одну сторону свои темные волосы. — А помнишь, в девятом классе ты делал доклад, про камни и минералы рассказывал? Так интересно было. — Она рассмеялась. — Скажи, ты до сих пор камнями карманы набиваешь?
Андре рассмеялся. Неожиданно ему стало легко, свободно, он полез в карман за своей последней находкой, показать Женевьеве.
— Гляди, что у меня есть. — Он протянул ей камешек. — Как, ничего не замечаешь?
Женевьева озадаченно вертела камешек в руках.
— Ну, круглый такой…
Андре протянул ей другой, похожий, для сравнения. Женевьева взвесила оба в ладонях.
— Ой! Первый тяжелее.
— Ну да, и он еще ржаво-коричневый. Значит, в нем полно железной руды.
— Потрясающе! А по мне — камень как камень.
Женевьева взяла оба камешка, понесла к столу, где сидели и пили кофе сейсмологи, протянула камешки худощавому, лет тридцати с виду парню.
Тот внимательно оглядел камни.
— Ты где это взяла?
Женевьева указала на Андре.
— Вон он нашел. Эй, Андре, подойди-ка, я тебя познакомлю. Это Боб Томпсон. Боб, Андре тоже хочет заниматься геологией.
— Ну да? — Томпсон улыбнулся Андре и указал на стул рядом. — Кофе хочешь?
Сейсмологи поднялись и ушли, а Андре с Томпсоном все разговаривали.
— Ну спасибо, вы мне здорово все рассказали, — произнес Андре после третьей чашки кофе. — Теперь вроде не так уж страшно.
— Надо ведь знать, что тебя ждет.
— Я-то… я еще нигде в жизни не был.
— Ну и что! До университета я тоже с фермы у нас в Саскачеване почти никуда носа не высовывал.
Андре поблагодарил Томпсона за кофе и вышел из кафе. Уверенным шагом он направился в гору к приходу священника. Внезапно серые облака прорезал яркий солнечный луч.
Пойду, так и скажу отцу Пепэну.
Но вдруг Андре замедлил шаг, остановился.
Хорошо тому говорить — «ну и что»! А я уж, дурак, уши развесил. Совсем из головы вон: он-то небось белый. А я — индейский ублюдок.
Андре резко свернул в сторону, пересек дорогу, вышел к маленькому причалу, откуда открывался вид на озеро. В то воскресное утро рыбаки уже вышли на лов, причал был пуст — только чайки да пара сгнивших лодок на песке. Андре опустился на мостки, сел, свесил ноги вниз и, сощурившись от ярких бликов, мерцавших на воде, стал глядеть на озеро. Так он сидел долго, уставившись вниз с мостков на темную воду.
— Нет, черт подери, делать нечего, — со вздохом наконец произнес он. — Через все это придется пройти.
Неделя выдалась невообразимо тяжелая. Андре все время казалось, что у него за спиной стоит отец Пепэн и протягивает ему то какие-то бумаги, чтоб подписал, то счета за телефонные переговоры с Эдмонтоном, которые старик вел с дирекцией института.
— Тебе удача, — сообщил священник. — Сначала на геологический мест не было, но трое студентов отсеялись. Тебя взяли потому, что я долго уговаривал, и потому, что хорошие отметки. — Пепэн с удовлетворением потирал ладошки. — Дело сделано. Я нашел, где тебе жить в городе. Лучше не придумать. Хозяйка — из метисов. Хоть не католики, но, я знаю, очень славные люди. Еще целая неделя до сентября. Потом я сам отвезу тебя до Эдмонтона, чтоб устроить там. — Отец Пепэн хлопнул Андре по плечу. — Ну что, обрадовал тебя?
— Не знаю, отец Пепэн, — неуверенно произнес Андре. — Боязно как-то.
— Не надо бояться! Перед тобой такая прекрасная жизнь.
Дай-то бог, если старик соображает, что говорит, думал Андре, бредя вечером к дому. Только мне теперь кажется, будто у меня тормоза отказали и я лечу с крутого берега прямо в воду.
Подходя к лачуге Исаака, Андре заметил Доди Роуз: она стояла у самого забора в зарослях пырея и развешивала узорчатые полотенца на обвислой бельевой веревке. В его сторону даже не глянула. Если б не едва заметное напряжение в ней, можно было бы подумать, что Доди попросту не заметила Андре.
Разговаривать не хочет. Ну и слава богу. Сейчас мне и без нее мороки хватает, одна мать со своими разговорами чего стоит!
— Придется тебе еще неделю походить в том, что носишь, — выпалила Синичка, едва он переступил порог. — Мы с матерью все белье тебе приготовили, вон, в ящике. Все выстиранное. Я тебе даже носки заштопала.
— Мало в семье двух идиотов, вот еще один — нате, пожалуйста! — ворчала Рейчел. Она примостилась, поджав ноги, на кухонном стуле с отломанной спинкой, зажав в коленях пачку табака «Макдональд», и скручивала сигарету. — Куда тебя несет; метису что в город, что к чертовой матери! Вон они подались туда — Гэри Последнее Одеяло, Лора Пикар, Симона наша… — Рейчел повернулась к Исааку, который точил карманный нож, поплевывая на точильный камень, зажатый в руке. — Парень из дома ради камней каких-то бежит, а этот молчит как пень.
Исаак смерил Андре долгим угрюмым взглядом, попел плечами, сплюнул на камень и возобновил свое занятие.
— Я же знаю, мне все объяснили: как кончу учебу, буду работать в какой-нибудь нефтяной компании или на горных разработках, — пробормотал Андре.
— Как же! Если только сортиры им чистить!
Исаак кончил точить нож. И теперь сидел, замерев и напрягшись, склонив голову набок — казалось, к чему-то прислушивался.
— Снег будет, — пробормотал он. — Дней через семь. Может, восемь…
— Через неделю, значит? — подхватил Андре, обрадовавшись, что можно переменить тему. — Как раз к празднику. Ох, Мейсон же с ума сойдет, если не сможет выехать тогда на своей «Жестянке Лиззи».
— Снег будет, — повторил Исаак и попробовал острие ножа о край пластиковой клеенки на столе.
Рейчел поднялась и направилась к печке. Она открыла духовку, сунула туда руку — проверить, жарко ли, — подбросила пару поленьев в огонь, потом запихнула в духовку четыре домашних каравая.
— Ишь ты, камни. Тьфу! — Рейчел повернулась к Андре. — Камни изучать вздумал, да? На двор поди. Вон их там сколько, на всю жизнь хватит.
VII
Настал день ежегодной ярмарки и родео, последний день августа, последний день работы Андре в гараже. В это теплое солнечное утро он спешил на работу по дороге вдоль озера, любуясь листьями тополя, причудливо усеянными желтыми пятнышками осени.
Старик все про снег талдычит. Андре усмехнулся. Видать, заклинило папашу.
Мейсон поджидал Андре у ворот гаража. Он вырядился под шофера в начале века: напялил перчатки с крагами, большие защитные очки.
— Беру себе на полдня выходной, — заявил Мейсон. — А ты без меня заливай бензин да покрышки меняй, больше ничего не делай. Ну, еще, может, ремни вентилятора сменишь, всякую такую мелочь. Не обижу, плачу в полуторном размере.
Мейсон кинулся в гараж заводить «Жестянку Лиззи». И с ребячьей радостью в глазах укатил, тарахтя, чтобы поскорей занять свое место на автородео.
Андре стоял в дверях гаража и смотрел, как двое ковбоев посреди Главной улицы упражнялись, раскручивая свои лассо. В конце улицы, не обращая внимания на Андре, маячили Альфонс и Уилли с какими-то девицами. Стайки перекрикивающихся ребятишек шныряли туда-сюда. Лениво прошла Симона, ведя за руку Джои. Мальчик, по-видимому, был сильно простужен. Он кашлял, то и дело вытирая нос рукавом.
Чертова работа! — думал Андре. Интересно, что бы стало с Мейсоном, если б я дверь на замок — и айда на родео? Эх! Неплохо бы смотаться, только вот… Андре вздохнул.
Дел с утра навалилось по горло. Машины подъезжали одна за одной, иногда выстраиваясь у бензоколонки по четыре сразу, и Андре приходилось носиться со всех ног туда-сюда. Риз посреди такого наплыва в одной из машин, что стояли, ожидая очереди, девичья рука опустила стекло, и внезапный пронзительный свист заставил Андре вздрогнуть. Долорес Олсон, сверкая зелеными глазами, смеясь, пялилась на него, высунувшись над опущенным стеклом кабины.
— Привет, Андре! — крикнула Долорес. — Ну как там у тебя с двигателями?
Тот, кто сидел за рулем, должно быть брат Долорес, учитель, обернулся и резко ей что-то сказал. Женщина, сидевшая с ним рядом, прикрываясь рукой от солнца, дернула сердито подбородком, лицо ее пылало от возмущения. Долорес откинулась на спинку сиденья, но, когда машина подъехала к бензоколонке, снова метнула на Андре острый взгляд и вызывающе улыбнулась, не переставая при этом жевать резинку.
Умылась, платье надела. Интересно, куда это они ее везут?
Брат Долорес вышел из машины посмотреть, как льется в бак бензин. Его жена, скользнув на водительское место, крикнула:
— Эй, Торвальд! Не забудь про дворники.
— Ладно! — отозвался Торвальд и сказал Андре: — Сегодня во второй половине дня обещали дождь со снегом, а у меня на дворниках резина стерлась. Найдется что-нибудь для замены?
— Для вашей модели нету. Но поискать можно, если подождете, пока все машины обслужу.
— Подожду. Все равно собирался глянуть, какую такую старую колымагу Мейсон себе отделал. Отец рассказывал.
— Мейсон минут десять как подъезжал на ней к дому, отсюда видно было.
— А! Это недалеко. Что, Сандра, пройдемся?
— Нет, милый, я не любительница старых машин, — нарочито равнодушно сказала женщина. — Мы с Долорес тут подождем. Только недолго. Нам надо в четыре быть в Эдмонтоне в парикмахерской, нужно же Долорес прическу сделать.
Торвальд двинулся по улице, а жена умело отрулила задним ходом к гаражу, освободив место перед бензоколонкой.
Покончив с заправкой, Андре принялся колдовать над дворниками.
— Чего это вы с Торвальдом так на меня окрысились? — услышал он голос Долорес.
— Знаешь, Долорес, приличные девушки не свистят и не кричат парням. Ты готовишься в секретарши. А это не только печатать на машинке и стенографировать. На хорошее место берут только тех, кто умеет себя прилично вести. А ты жуешь резинку! Из-за одной только этой дурной привычки можешь лишиться работы.
— Подумаешь! — с обидой отозвалась Долорес.
— Ты учти, мы с Торвальдом берем тебя к себе в дом, мы платим за твое обучение. Уж хотя бы…
Такая баба зевать не станет, если Долорес вздумает вытащить у нее из кармана деньги… Хотя… Да что я, в самом деле! Откуда я знаю, что это она украла тогда у меня двадцать долларов?
Когда Торвальд вернулся и машина тронулась, Долорес оглянулась на Андре. Еле заметно шевельнула пальцами на прощанье… Андре усмехнулся и тоже махнул ей.
Вот смеху будет, если столкнусь с ней в Эдмонтоне нос к носу! Да нет, вряд ли.
Появился Мейсон в комбинезоне. От него разило пивом, но он был в порядке, только очень радостный и слишком разговорчивый.
— Эх, черт, жаль, тебя там не было, — сказал Мейсон Андре. — Ты тут небось в заправского мастера превратился. Гляжу, у тебя в руках все так и горит. Тебе б не в геологию, а по машинам учиться — тут бы и работа готовая нашлась.
— Не люблю, когда бензином воняет, хотя… все равно, спасибо, я… в общем, спасибо вам!
К середине дня погода резко испортилась. Откуда-то, наверно прямо с Северного полюса, перемахнув через Впадину Маккензи, налетел ветер и ударил по поселку порывами ледяного дождя. Праздник мигом расстроился. Легковушки и грузовики с дрожащими от холода родителями и детьми в легких рубашках и летних платьях засновали по улицам. Перед непогодой работы было хоть отбавляй, теперь же ее стало невпроворот. Андре с утра был в рубашке с закатанными рукавами, сейчас он, щурясь и поворачиваясь спиной к ветру, застегнул ее на все пуговицы.
— Снег будет, как пить дать, — предсказывал Мейсон, включая газовое отопление в мастерской при гараже.
Громыхая ящиками в кузове, к стоянке подкатил тяжелый грузовик. Сражаясь с порывами ветра, Андре добрался до бензоколонки, подошел к кабине.
Альберт Роуз! Сердце у Андре учащенно забилось. Но даже если Роуз и признал Андре, он виду не подал.
— Заправь-ка, — рявкнул Роуз.
Щурясь от ветра, он вылез из кабины проверить покрышки и уровень масла. Андре, как завороженный, не мог отвести взгляда от могучих плеч и мощных рук Альберта Роуза.
Почувствовав на себе взгляд, Роуз, присевший на корточки у заднего колеса, обернулся с сердитым видом.
— Чего стоишь! Стекло лобовое протри, внутри и снаружи.
Зажав влажную замшу в руке, Андре влез в кабину. Она пропахла йогом и табаком. Протирая изнутри запотевшее стекло, Андре посматривал в зеркало бокового вида. Сзади вытянулась вереница машин, водители нетерпеливо ждали своей очереди на заправку. Роуз сам убрал шланг, залез в кабину, хлопнув дверцей. Андре бочком соскользнул с сиденья, схватился за ручку, дернул. Она не поворачивалась. Попался! Сердце забилось, в груди, стало больно.
— Сиди спокойно, — рыкнул Роуз. — Ручка сломана. Погоди-ка, отъеду с дороги, чтоб тем, кто сзади, заправиться… — С третьего раза мотор, прочихавшись, затарахтел. Роуз не отрывал взгляда от стрелки.
— Проклятый аккумулятор! Ни черта не заряжается.
Роуз наконец тронулся, отъехал от бензоколонки.
Ох беда, и впрямь попался! Он все знает! Хочет, видно, чтоб я сам раскололся…
Роуз выехал с площадки станции обслуживания и остановился у обочины размытой дождем дороги. Повернулся к Андре, спросил:
— Что, Мейсон сегодня здорово занят?
— А? — испуганно отозвался Андре.
— Да что с тобой, черт подери! Я спрашиваю: Мейсон сегодня здорово занят?
— Мейсон? Ах Мейсон! Нет. Ремонта нет. Заправка только.
— Значит, мной займется, хочет он того иль нет, и я с него, старой канальи, глаз не спущу. Деньги загребает, а сам даром задницу просиживает.
Роуз открыл дверцу кабины, спрыгнул вниз. В каждом его движении, в каждом рывке чувствовалась мощная сила.
Андре скользнул через сиденье, обогнул руль, метнулся мимо Роуза. Спрыгнув на землю, почувствовал, как трясутся коленки. Со всех ног кинулся к гаражу.
Уж думал, пропал. Поймал меня, собака. О господи! А что, если… Да нет, кому болтать? Мать не скажет, а отцу зачем? Да и Доди. Если скажет, он же ее прибьет. Ничего, еще неделя, и меня уж и след простынет.
Перед концом работы Мейсон, застрявший у верстака под злобным оком Роуза в трудах над нудной зарядкой аккумулятора, поднял глаза и произнес:
— Знаешь что, Андре, возьми-ка сам все, что тебе причитается, в кассе. Ну и… встретимся, наверно, до твоего отъезда в Эдмонтон?
Эх, не надо бы так много денег с собой брать, а тут еще и отец Пепэн далеко, уехал на похороны в Гран-Прери. Может, Биллу сказать, пусть пока полежат в кассе? Да ну, бред! Что я, маленький, что ли?
Как только Андре взял деньги и задвинул ящик кассы, Роуз шагнул к нему и наказал:
— Скажешь Доди, что вернусь после восьми. Пусть приготовит мяса на ужин, и побольше.
Черт тебя дери. Еще не хватало, к Доди… А сказать «не пойду!» нельзя, глупо как-то.
— Ладно, передам, — буркнул на ходу Андре и нырнул в темноту.
Он согнулся, спрятав лицо от мокрого ветра со снегом, и быстрыми шагами двинулся к дому.
Доди, держа в руке сигарету, открыла дверь на его стук.
— Чего надо?
Андре передал распоряжение Роуза.
— Мяса? Ах, сукин сын! Мяса он захотел! Что ж мне ему, корову, что ль, зарезать? Сам оставляет денег с гулькин нос. Фэрфекс уже жмется, в долг не отпускает.
Врешь, стерва! Сам видал, как в новом пальто задом виляла, да еще и костюм моднющий с брюками себе отхватила. А пиво? Это тебе что?
— Ну ладно. Все. — Андре двинулся вниз с крыльца. — Пошел я.
— Погоди-ка минутку. — Доди потянула его за рукав промокшей рубахи. Андре, не сопротивляясь, позволил втащить себя в дом. Доди, борясь с ветром, захлопнула дверь и стали, привалившись к ней, заложив руки за спину, словно отрезав Андре путь к отступлению.
— Деньги получил?
— Получил.
— Слушай, дай мне деньжат, а? Положение у меня — хуже некуда. Сам знаешь, что будет, если Альберт узнает, что у меня в доме пусто.
С проснувшимся где-то глубоко внутри тайным злорадством Андре вынул пачку долларов из кармана, вытащил десятидолларовую бумажку, протянул Доди.
— Что, всего десять долларов? Что на них купишь! Мне хотя бы полсотни.
— Полсотни? Сдурела, что ли?
Доди протянула руку.
— Давай, давай!
— Да ты что?
— Ну гляди, пеняй на себя! — В голосе ее послышалась ярость. — Ты у меня небось за лето пил и жрал на эти самые пятьдесят долларов. Ты мне должен!
— Должен? Неизвестно, кто кому! Ишь ты, должен! — Внезапно Андре затрясло от злости. — Может, это ты должна мне приплачивать.
Андре не успел заслониться. Доди как молния налетела на него, вцепилась накрашенными ногтями в лицо. Андре схватил ее за руки, отбросил к двери. Увернулся от колена, нацеленного в живот. Оттащил Доди от двери и с силой швырнул через комнату прямо на кровать, после чего кинулся из дома, не позаботившись закрыть за собой дверь.
— Ну погоди, стервец! Ну погоди! — слышал он за собой среди тьмы пронзительный вопль Доди.
Андре с шумом ворвался в темную лачугу.
Никого.
— Андре, это ты?
— Джои? Ты что тут делаешь один в темноте?
— Болею. Мне холодно… очень.
Андре долго шарил по полкам, наконец наткнулся на коробок спичек. Зажег дрожащей рукой керосиновую лампу. В лачуге было холодно; плита, должно быть, давно прогорела.
Джои свернулся крохотным комочком под грудой грязных одеял, поверх были накинуты еще две старые куртки. Лицо у ребенка было землисто-желтого цвета, черные бусинки глаз утратили прежний блеск, помутнели.
— А мать где?
Молчание.
— Эй, Джои!
Мальчик шевельнулся, пробормотал что-то, Андре не разобрал — что.
О господи! Где мать-то? Ах да, сегодня ж воскресенье. Ясно где. И Симона там же. А Чик-Чирик после праздника отправилась с Максом и его матерью в Бонивилл.
— Холодно. — Джои весь дрожал.
Андре открыл заслонку у печки. Порыв ветра, проникший через трубу, разметал остывшие серые угольки. Дров в ящике не было, нигде ни одной даже щепки для растопки.
Андре вышел во двор под неунимавшийся ветер, взял валявшийся у колоды топор. Ледяную крупу сменил поваливший тяжелыми хлопьями мокрый снег. Андре выбрал большое сосновое полено, сухое и ровное, понес его в одной руке, топор — в другой в дом и там расколол полено на щепы. Потом принес со двора еще несколько охапок дров.
Дрова промокли. Черт знает сколько времени промаешься, пока разгорятся.
Волоча в дом четвертую охапку, Андре покосился на газовый баллон у хибары Альберта Роуза.
Жаль, что этой стерве не приходится колоть дрова. А то занялась бы делом — глядишь, злобы и поубавилось бы.
Тут Андре налетел на Джои, который стоял босиком на запорошенном снегом крыльце.
— Чертяка! Чертяка!
— Немедленно в постель, Джон! Нет тут никого, никто тебя не съест.
Но ребенок, не слушая, покачиваясь на слабых ножках, двинулся во тьму. Андре бросил свою ношу у печки, выбежал вслед за Джои, подхватил на руки, понес его в дом, уложил в постель, укрыл всем, что было под рукой.
— Вот, лежи не двигайся!
Малыш в горячке, думал Андре, поднося спичку к груде щепок. Господи, что же делать? Ведь мне же надо поскорее выметаться отсюда, пока Роуз не вернулся. Черт бы побрал эту Доди! Ведь ляпнет небось, что я к ней приставал. И этот мерзавец явится, чтоб выбить из меня потроха. Как же мальчишку-то бросить? А кругом — ни души, везде темно, гнету нет нигде. Все на празднике, танцуют. Хоть бы Чик-Чирик появилась, я б ее за матерью послал. Должна бы скоро уж приехать.
В печке загудело: жар пошел по трубе, в лачуге стало теплее, и надежда с новой силой всколыхнулась в душе Андре. Но время шло, вот уж скоро семь, и Андре снова впал в отчаяние. За окном совсем стемнело, и началась метель. Джои ворочался, метался по постели, бормотал что-то. Пару раз он порывался встать, крича в бреду от страха. Андре прикоснулся к нему рукой; мальчик был в жару, но дрожал как осиновый лист, когда Андре хватал его, выскакивающего из постели, на руки и нес обратно.
Нет, нельзя его оставлять. Тьфу ты! Хоть бы пришел кто… Никто не идет. Единственное, что остается, — забаррикадировать дверь и вот то окошко, через которое можно влезть в дом. Лампу потушу. Как будто дома нет никого.
Он зажал дверь ножами, вбив их покрепче в притолоку, подпер дверь стулом, всунутым ножкой в дверную ручку. Потом повалил набок кровать Исаака и Рейчел, снял пружинный матрас. Подтащил к самому большому окошку, загородив его и прижав матрас с боков скамейками. Задул керосиновую лампу.
Джои вскрикнул в бреду.
— Тише, парнишка! Тише! — зашипел Андре.
Мальчик застонал. Андре присел рядом с ним на кропать, то и дело шикал, чтоб больной стонал потише.
Между тем ветер, разошедшись до шквального, прорывался в дом сквозь щели в листах толя. По крыше грохнула ветка; шурша и скрежеща, покатилась вниз. Пару раз Андре чудились какие-то голоса снаружи. Тяжелые удары сердца отдавались где-то в горле.
Когда же фары грузовика Альберта Роуза осветили загороженное матрасом окошко, у Андре вырвался стон.
Эх, топор бы… Дурак, идиот! Оставил во дворе. Кухонный нож! Хоть бы найти его. На пол уронил, когда… где же он?
Андре ползал в темноте, хлопая по полу ладонями.
Вот ложка… вилка… столовый нож… тарелка… Надо найти этот нож, надо найти! Пусть даже лампу для этого зажечь придется.
Когда он накрывал стеклом дрожащий язычок пламени, снаружи, заглушая рев ветра, грянул голос, от которого у Андре душа ушла в пятки:
— Эй ты, выродок сопливый, Макгрегор, открывай! Я тебе покажу…
Тяжелое плечо навалилось на дверь. Раз. Другой. От страха Андре заметался по комнате, как койот в клетке. С третьим ударом дверь рухнула. Сорвавшись с отлетевшей дверной ручки, стул грохнул об пол, спинка отскочила. Когда Роуз вваливался в дверь, Андре хотел было проскочить мимо, скрыться в темноте. Но споткнулся о сломанный стул. Роуз с ревом кинулся к нему.
Остальное произошло молниеносно. Напоследок с силой пнув Андре под ребра огромным, подбитым железом сапогом, Роуз проревел:
— Теперь заруби себе на носу, чертов ублюдок: чтоб к утру духу твоего здесь не было. Увижу еще раз, клянусь господом богом, убью на месте.
Роуз повернулся, с размаху пнул сапогом по матрасу, заслонявшему окно, скамейки отъехали, матрас рухнул на пол.
Где-то далеко-далеко Андре услышал плач Джои. Очень далеко. Перед глазами плыли, разбегаясь, черные круги, исчезали, снова плыли. Потом он почувствовал, что его тошнит. И он не может остановиться. Его не переставая выворачивало наизнанку. Из носа шла кровь, каждый вздох отдавался смертельной болью внутри.
На холод! На снег… на воздух! Сказал… сказал… что убьет. Надо встать… кровь… нос в крови… Надо, надо встать… Как стекло битое… все кости ноют.
Андре поднялся на четвереньки, голова то и дело бессильно клонилась вниз. Соленая пена, смешиваясь с капающей из носа кровью, текла изо рта. Опять эти страшные черные круги.
— Нет, нельзя… Убьет меня. Надо… пойду.
Сколько прошло времени — год, десять лет, вечность? — прежде чем он сумел подобрать с пола куртку, надеть на себя.
— Нет сил… Надо идти! Он убьет меня. Убьет…
Андре не помнил, как выбрался из лачуги. Когда сознание вернулось к нему, он увидел, что бредет вперед, ветер пробирает его до костей, раскисшая земля облепила подошвы, мокрый снег бьет в лицо. Он держит что-то в руке, что — не видно, но почему-то он упорно тащит это с собой. Вдруг под ногами он чувствует что-то твердое, и, словно от какого сигнала, Андре тотчас и окончательно приходит в себя.
Шоссе. Все тело ноет. Нос разбит. Ребра… Надо укрыться… Был бы Джонни Крейн, он бы… Что это у меня в руке? Синичкин шарф… Надо повязать голову…
Внезапно его осветило двумя световыми конусами фар несущегося прямо на него автомобиля. Спотыкаясь, Андре метнулся к обочине. Обдав его фонтаном брызг, машина проехала мимо.
Зажглись тормозные огни, машина медленно задним ходом шла на него.
— Эй, парень, ну и ночку ты выбрал для путешествий! А ну открывай заднюю дверцу, прыгай сюда.
VIII
Без колебаний Андре рванул дверцу и втиснулся в машину.
— Гляди-ка, шарфом голову обвязал, — заметил тот, что сидел за рулем. — Неплохая мысль, по такой-то непогоде. Куда направляешься?
— В Сент-Пол. — Это первое, что пришло Андре в голову.
— Должно быть, очень приспичило тебе туда, раз в такую метель из дома на дорогу голосовать понесло.
Женщина, сидевшая рядом с водителем, не обернулась к Андре, когда тот садился в машину. Она не оглянулась и теперь. Подавшись вперед, сделала громче радио.
В ушах внезапно зазвучали скрипки симфонического оркестра.
— Ради бога, Джин! — взмолился мужчина.
— Джордж, я же слушаю!
— Ну ладно, ладно. — Он обиженно засопел. Машина катила по заснеженному шоссе.
Женщина прикрутила звук и, закрыв глаза, откинулась на спинку сиденья.
Андре сидел сцепив зубы, едва справляясь с дыханием от жестокой боли в ребрах. Он нашел для себя более или менее удобное положение и старался сидеть не двигаясь.
Сент-Пол? Тьфу ты! Но надо же убраться отсюда поскорей куда-нибудь. Не то этот гад меня прибьет… Мутит! И в кости как будто битого стекла насовали. Сейчас вырвет… Задержу дыхание — может, обойдется… Слава богу, что эти двое ни разу не обернулись. Весь, как черт, в крови. Ладно, ладно. Может, все-таки обойдется…
Позывы к рвоте мало-помалу утихли. От музыки и мерного стрекотания мотора укачивало. Временами Андре казалось, что он вот-вот погрузится в сон. Вдруг он почувствовал, что машина сворачивает с шоссе. Они затряслись по гравию, подруливая к ночному кафе. От тряски у Андре нестерпимо заныли ребра, а от бьющей в глаза красно-зеленой светящейся рекламы перед ним заплясали дьявольские огоньки.
— Разбудим его? — спросила женщина.
— Сент-Пол. Он сказал, что ему туда. Может, угостим его кофе?
В машине внезапно вспыхнул свет. Андре не успел обмотаться шарфом, чтоб прикрыть разбитое в кровь лицо. Женщина уставилась на него. Наступило небольшое неловкое замешательство. Наконец женщина испуганно выдохнула:
— Джордж! О боже, взгляни.
— Господи! Что с тобой такое?
— Да вот, смазали по лицу кулаком. Пару фонарей навесили, да? — Андре потянулся к дверце, взялся за ручку. Глаза так заплыли, что он с трудом бы различил куда идти.
Пара на переднем сиденье переглянулась.
— Сиди, — приказал Джордж. — Сейчас в больницу тебя отвезем.
— Что вы! Зачем?
Джордж оставил реплику Андре без ответа. Завел мотор, и они покатили по темным улицам спящего городка. Машина остановилась перед больницей, и Джордж сказал:
— Схожу за санитаром. А ты, Джейн, позвони-ка в полицию.
Что? Как он сказал? Ах, сукин сын, я…
Не успели хозяева машины скрыться за дверьми больницы, как Андре поспешил выбраться наружу. Видел он плохо, дышать мог только через нос, боль в ребрах была адская, и все-таки Андре заставил себя припустить трусцой. Он обежал больницу, двинулся по глухим переулкам, потом пересек дорогу, пролез под каким-то забором из колючей проволоки и устремился и чащу леса. И там, среди зарослей, остановился, тяжело дыша, его била дрожь: снег, тая, стекал по щекам.
Холодно здесь… не выдержу. Надо где-нибудь укрыться. Надо искать…
Огни города призрачным отблеском подсвечивали нависшее над фермерскими полями завьюженное небо. Посреди жнивья Андре заметил собранную недавно в копну солому. Направился к ней, едва держась на ногах, ступни коченели от холода. Зарылся в солому с головой, снял промокшие насквозь ботинки и носки. Он весь дрожал, как бездомная собака.
Вдруг вспомнилось: Джои! Господи боже… Ведь он мог отправиться из дому в такую метель! Сам не помню, как это я ушел… Может, вернуться?.. Ах, черт, теперь-то уж поздно! Что я теперь могу сделать?
Всю ночь он провел в соломе, забываясь иногда беспокойным сном, ворочаясь, ища места поудобней для избитого тела. Проснулся он внезапно. Стояла холодная, ясная и звездная ночь. По положению на небе Большой Медведицы Андре понял, что скоро рассвет. Выбрался из своего приюта, стряхнул солому с одежды, подумал: что же, теперь делать? Есть хотелось до смерти. В кармане шестьдесят долларов. Но вид у меня такой — если кто заметит, тотчас побежит в полицию звонить. А на кой черт мне с полицией связываться?
Снегом все запорошило, а то бы ручей сразу углядел. Кровь бы смыл с одежды, умылся.
Андре пошарил в соломе, отыскал ботинки. Но натянуть их и завязать шнурки оказалось очень больно.
Ребра ломило нестерпимо. Ладно, нечего тут сидеть, от холода дрожать. Днем, наверно, потеплеет. Хоть бы вон до того огорода добрести, пока хозяин еще спит.
Господи! Как там Джои-то? — думал Андре, тащась по жнивью к ферме. Слава богу, собака не залаяла, пока он ходил вокруг дома, силясь рассмотреть в предрассветной мгле огородные грядки. Ухватившись за припорошенную снегом ботву, он вытащил несколько морковок и, стряхнув землю, тут же их съел.
Посреди огороженного загона, равнодушно уставившись на Андре, стояли три коровы.
Молоко! Вот бы банку консервную… или хоть пивную бутылку.
Андре прокрался за угол сарая. Там, припертый к ограде заднего двора, стоял газовый баллон.
Так, помойка. Значит, есть консервные банки.
Осторожно, боясь задеть колючую проволоку, Андре перелез через ограду, отыскал среди мусора банку из-под супа «Кэмпбелл» и благополучно, без шума, вернулся к загону.
Самая смирная с виду корова подпустила его к себе со второго захода. Андре осушил три полные банки парного молока и отправился на прежнее место, к соломе. Когда он подошел к убежищу и зарылся в солому, начало светать.
Снег растаял, к середине дня стало по-летнему тепло. Андре поднялся, побрел через поле, дальше по проселку и вышел на выгон, через который протекал маленький грязный ручей. Андре двинулся вдоль ручья, пока не набрел на освещенный солнцем пологий спуск к берегу. Там и расположился, чтоб привести себя в порядок.
Тьфу ты! Как ребра-то ломит, подумал он, склоняясь над ручьем и плеская воду пригоршнями себе на лицо. Хоть видеть получше стал, и нос вроде уже ничего. По крайней мере не болит, если не дотрагиваться.
Снимая с черемухового куста рубаху, высохшую на солнце после стирки, Андре почувствовал, как в животе урчит от голода.
Вот доберусь до какого-нибудь злачного заведения, возьму штуки четыре бифштекса и жареной картошки тонну, не меньше. Так, куда теперь?
Андре застегнул рубашку, заправил в штаны.
Куда? А куда хочу! Вон какая ширь. Леса, луга кругом. И в кармане шестьдесят долларов. Конечно, неплохо б к этому добавить четыре сотни с гаком — те самые, на которых отец Пепэн задницей сидит, — но мне теперь домой пути нет. Либо отец Пепэн заграбастает, чтоб в институт упрятать, либо Роуз нагрянет, и тогда…
Андре перелез через изгородь и пошел по проселку, что выводил к шоссе. Солнце пригревало, деревья золотились и багровели на солнце, опушенные снизу алым кустарником.
Теперь я свободная птица. Что хочу, то и делаю, думал Андре, стоя у обочины шоссе и выставив руку с вытянутым книзу большим пальцем навстречу проносящимся с визгом мимо и обдающим его на лету ветром машинам. Наконец большой красный «бьюик» съехал на обочину, поджидая. Андре пошел к нему.
Впереди сидели двое. Водитель обернулся, взглянул на Андре.
— Мать честная, что это с тобой?
Андре замер у открытой дверцы.
— Так… ничего.
— Ничего, говоришь!
— Угу.
— Тебе куда?
— Мне?..
— Мы в Эдмонтон.
— В Эдмонтон? Идет.
Какого черта я это сказал? Сроду не бывал в больших городах. Кто его знает, как там…
— Ну что, садишься?
— Я? Да, сажусь.
В последующие часа два Андре то и дело косился на спидометр. Всю дорогу стрелка колебалась около отметины восемьдесят пять миль в час. Мимо пролетали фермы, поселки, мохнатые лесополосы. Двое на переднем сиденье молчали. Потому-то Андре вздрогнул, когда водитель вдруг произнес, обращаясь к соседу:
— Ну вот, Тони, и Эдмонтон. Как раз к ужину домой поспеешь.
Как — Эдмонтон? Эти три высокие башни и есть Эдмонтон? Дым какой-то — туман, что ли?
Андре одновременно и обрадовался и огорчился. Но машина постепенно все замедляла и замедляла ход. По обеим сторонам улицы потянулись неровными рядами низенькие магазинчики и конторы. Вот слева открылось огромное приземистое серое здание. Вокруг на специально выделенной стоянке — машины, столько машин сразу Андре в жизни не видал. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРНОЙ ОКРАИНЫ.
Обалдеть!
Оторвав взгляд от этой диковины, Андре посмотрел по сторонам и с бьющимся сердцем убедился, что попал в большой город.
Сколько машин! Откуда столько? А вот городской автобус. Отец Пепэн говорил, проехать стоит два цента… Дома какие!.. Да тут и заблудиться недолго.
Внезапно Андре охватила паника.
Господи, здания-то какие высокие! Прямо под облака.
Он отсчитал двадцать три этажа башни «Кэнэдиен ньюс», и в это время водитель спросил, где Андре собирается выходить.
— Все равно! — вырвалось у Андре.
Машина нырнула в туннель и вынырнула прямо посреди уличного рева в самом центре города.
Водитель подрулил к краю тротуара у магазина фирмы «Итон».
— Ближе к центру, пожалуй, не подъехать, — сказал он.
Андре выбрался из машины и захлопнул за собой дверцу.
IX
Было пять часов вечера. Никогда еще Андре не видал разом столько людей и столько машин. Гвалт стоял несусветный. Прямо на Андре налетел патлатый, босоногий хиппи в голубых джинсах — обернувшись, он выкрикивал на ходу что-то через плечо своей подружке. Налетев на Андре, хиппи тотчас же поднял, вытянув, указательный и средний пальцы и произнес:
— Привет, мужик! Мир!
Шарахнувшись от хиппи, Андре угодил прямо на старуху, нагруженную сумками.
— Осторожней! — рявкнула она.
Андре попятился к огромной застекленной витрине магазина, втиснувшись между двумя простенькими, но нарядно одетыми девушками. Одна посмотрела на Андре, тут же обменялась взглядом с подругой, та скорчила гримасу. Они отступили, отошли подальше от Андре. Первая сказала что-то другой, обе смерили его недобрыми взглядами, после чего повернулись к нему спинами.
От усталости у Андре тряслись колени, есть хотелось так, что в ушах звенело.
Какого дьявола меня сюда понесло? Куда теперь идти? Кого спрашивать? Не знаю даже, как улицу перейти, чтоб под машину не угодить. Ну хорошо, скажем, перейду я улицу, а дальше куда?
Бочком, мимо витрины, он пробрался до угла магазина и остановился, внимательно изучая светофоры.
Так: машины едут на зеленый свет, а останавливаются на красный. Положим, это каждый дурак разберет, а вот зачем надо ждать, пока тот, в белом, махнет рукой, и почему все останавливаются, когда он поднимает руку в красной перчатке? Почему у машин красные огни зажигаются? Ничего не понимаю. Но не торчать же здесь до бесконечности! Вот они, деньги, в кармане; пойду-ка — может, найду где поесть.
Андре слился с толпой, переходившей через Сто вторую улицу, и благополучно перебрался на противоположную сторону. Двинулся по западной стороне Сто первой улицы, то и дело задирая голову кверху и пялясь на непонятные гроздья реклам, пока не углядел надпись: «Король Эдуард. Бар. Гриль».
Гриль? Значит, можно поесть.
Он ступил на прорезиненный коврик у входа и протянул было вперед руку толкнуть дверь, но та сама скользнула внутрь, не дожидаясь его прикосновения.
— Что за черт!
— Вы идете? — Двое мужчин делового вида, оба в костюмах с иголочки, чуть не наскочив сзади, окинули его взглядом, нетерпеливо топчась на месте.
Андре прошел вперед, уступив дорогу шедшим сзади, и очутился в вестибюле гостиницы, застеленном красными коврами и отделанном ореховыми панелями. Андре впервые оказался среди такой роскоши. Где-то в глубинах мягкого, неяркого света щебетала канарейка. Голоса возникали приглушенно, а бешеный шум машин словно канул куда-то под землю. Один из мужчин, шедших следом, с удивлением уставился на растерявшегося Андре, затем двинулся дальше.
На кушетке у стены сидел какой-то старик, опустив руки на набалдашник палки, зажатой между колен, рядом с кушеткой стояла пальма в кадке; такие пальмы Андре видел только в кино.
— Я думал, здесь поесть можно, — пробормотал Андре, подходя к старику. — Там написано…
— Ну да, здесь есть кафе, но… — Старик протянул руку, взял из пепельницы окурок сигары, поднес спичку и затянулся, разглядывая Андре сквозь дым. — Что, сынок, первый раз в большом городе? Понятно. Значит, так… Я бы на твоем месте вышел бы, прошел три-четыре квартала вон в ту сторону, — старик ткнул пальцем в сторону окна, — там есть кафе. Дешевле, чем здесь, да и место тебе попривычней покажется.
— Правда? — Андре огляделся еще раз. — Ах да, спасибо вам.
Он повернулся и направился к той самой двери, через которую вошел; как раз в это время две дамы, треща как сороки, подошли со стороны улицы и ступили на прорезиненный коврик у входа. Дверь распахнулась, чуть не ударив Андре по носу.
— Читать не умеешь? — бросила одна из дам. — Это вход.
Стушевавшись, Андре выскользнул через другую дверь.
Тьфу ты! Что такое: машины все куда-то делись. Можно и без светофора улицу перейти.
У входа в гостиницу стоял полицейский, холодный взгляд голубых глаз остановился на Андре, приготовившемся у края тротуара перебежать улицу.
— Ты куда это собрался?
— На ту сторону…
— Здесь нельзя. Вон у того угла переход, а то штраф придется платить.
Ну и местечко! И чего меня сюда понесло? Единственный тут человек — тот старик с сигарой.
Обогнув угол Девяносто седьмой улицы, Андре увидел двух молодых индианок, толкующих о чем-то с белым мужчиной.
— Пятнадцать, — отрезал белый. Он откашлялся и сплюнул.
Самая смазливая произнесла со смешком!
— Двадцать.
— Ну и катись! — Мужчина махнул рукой и шаркающей походкой направился прочь по улице.
Андре подошел к индианкам.
— Есть тут поблизости кафе?
Вторая, не такая смазливая, окинула его с головы до ног равнодушным взглядом.
— Вон, через улицу. — И она улыбнулась, обнажив гнилые зубы. — Может, пойдем порезвимся? За десять долларов.
Андре мотнул головой. Он еле доплелся до кафе. Войдя, сел на высокий табурет у стойки. Подошел китаец-официант и грубо спросил:
— Чего надо?
— Два бифштекса, картошки побольше и кофе.
Принеся заказ, китаец остановился с тарелками в руках на приличном расстоянии от стойки, где сидел Андре.
— Сейчас плати.
— Так я ж еще не поел! — возмутился Андре, едва сдерживая слюнки.
Китаец был неумолим.
— Сейчас.
Андре вынул пачку денег из кармана, бросил на стойку пятидолларовую бумажку. Китаец поставил перед ним тарелки и взял деньги. Постоял в нерешительности, склонился к Андре и, понизив голос, спросил:
— В городе не бывал раньше?
Андре замотал головой.
Китаец засмеялся тихоньким, словно извиняющимся, смехом и ткнул пальцем в руку Андре, все еще сжимавшую деньги.
— Зачем всем показываешь деньги?
Тьфу ты! Какой же я идиот! Как поем — сразу в уборную, засуну деньги в ботинок.
Андре кончал расправляться с третьим бифштексом, как вдруг на него упала чья-то тень. Андре обернулся — знакомая физиономия расплывалась улыбкой.
— Гэри! Гэри Последнее Одеяло! Не узнаешь?.. Я…
— Вижу, Исаака Макгрегора сынок. Андре зовут, так, что ли?
Вообще-то Гэри Последнее Одеяло был темной личностью. Даже Исаак его недолюбливал, но в тот момент Андре кинулся к Гэри, как к самому близкому другу.
— Чего делаешь в городе? — полюбопытствовал Гэри, критически разглядывая лицо Андре. — Кто тебе нос расквасил? Неплохо отделали.
— Да так. Только что приехал. Хочу работать устроиться.
— Ишь чего захотел! Кто тебе тут работу даст?
— Тот же, кто и тебе.
Гэри зашелся смехом так, что весь затрясся.
— Устрой меня…
Но Последнее Одеяло не слушал, он уже не смотрел на Андре. В кафе вошла молодая метиска. Крупная, высокая, веки вымазаны тем же едким зеленым цветом, что у Синички в тот вечер, когда она притащила Андре гранатовый песок с озера. На метиске было короткое ярко-красное платье с таким глубоким вырезом, что груди оказывались почти все наружу. Свисавший на цепочке тяжелый серебряный крест утопал между ними. Эта метиска чем-то напоминала Андре Симону.
Гэри с видом хозяина подозвал девицу, мотнув подбородком, присел на высокий табурет, положил на стойку руку ладонью вверх и, сощурившись, уставился на подходившую девицу.
— Выкладывай, — резко сказал он, протягивая к ней пятерню и растопыривая пальцы, но не снимая руки со стойки.
Девица засунула руку в вырез платья, достала из-за пазухи несколько банкнотов и положила в ладонь Гэри Последнее Одеяло. Пока тот пересчитывал деньги под стойкой, метиска тихонько поскуливала:
— Есть хочется…
— Я тебе скажу, когда есть. — Гэри бросил взгляд на белого в угловой кабинке, следившего, сдвинув брови, за Гэри и девицей. — Вон, видишь, человек сидит. Тебя поджидает.
Девица взглянула туда, куда показывал Гэри, и тут же забормотала умоляюще, но в то же время с отчаянием:
— Ой, нет, только не этот потаскун. Он мерзавец, Гэри.
— Заткнись! Даст тебе двадцать, если не будешь кочевряжиться. Пошла!
— Гэри…
— Ты что, оглохла?
Девица закусила губу, попятилась. Обернулась, еще раз взглянула на человека в углу, потом покорно, — ссутулившись, повернулась и, изобразив на лице скорее гримасу, чем улыбку, мотнула головой в сторону двери и вышла из кафе.
Белый тотчас поднялся, швырнул на стойку два доллара и двинулся вслед за ней.
Последнее Одеяло повернулся к Андре, осклабился, легонько ткнул локтем в бок.
— Вот на кого я работаю. У меня три девочки. Пикнуть не смеют, не то я им покажу.
— Так она говорит, тот мерзавец.
— Подумаешь! Ничего он ей не сделает. Сейчас Ребекка придет, со своим разделается. Хочешь попробовать? Двадцать пять стоит. А Ребекка знаешь какая, о ней не соскучишься!
— Нет, не хочу.
— Денег нету?
— Есть…
— Тогда чего ж не порезвиться? Зачем тогда в город ехать? А Ребекка…
— Нет. Скажи-ка, где тут можно заночевать?
— Заночевать? Зачем тебе спать? Пойдем погуляем, пива выпьем. Можем к Джози заглянуть…
— Мне еще нет восемнадцати. Пива не отпустят…
— Во дает! Будто только из яйца вылупился… — Гэри зашелся глухим смехом астматика. — В этом городе тебя никто и не спросит, сколько тебе лет. Деньги есть, и все.
— Нет. Спать хочу. Присоветуй какое местечко. Чтоб подешевле.
— Местечко? Подешевле? Сейчас. — Гэри на мгновение умолк, задумался и вдруг хлопнул Андре по плечу. — Иди вон туда, квартала два-три пройдешь. И напротив вывеска будет; «Отель Макдональд». Хорошее местечко.
Андре с радостью расстался с Гэри Последнее Одеяло, которого всегда недолюбливал. И хоть понимал, что Гэри готовит ему какую-то пакость, все же так измучился, что у него не было сил ломать над этим голову. Сейчас его занимало только одно — поскорей бы прилечь, куда угодно, на что угодно.
Андре шел по Джаспер-авеню, которая в ослепляющем свете закатного солнца казалась золотисто-красным туннелем. Не пройдя и двух кварталов, Андре увидел красную неоновую рекламу: «Отель Макдональд». Массивное каменное старое здание с медными башенками на крыше выглядело вызывающе неприступным.
Мне — туда? Понятно теперь, почему этот гад скалился.
Андре повернул и вновь пошел в сторону Девяносто седьмой улицы, остановился на углу, постоял, наконец решился, спросил у проходящего мимо парня, по одежде — рабочего, где можно снять комнату.
— Да тут везде можно. В окнах объявления: «Сдается комната». Возьми да постучись.
Андре прошел квартала четыре, прежде чем увидел в нижнем окне большого старого дома с покосившимся деревянным крыльцом размытое дождем объявление. Когда шел по дорожке к крыльцу, засохшие ветки кустарника, росшего по обеим сторонам, цеплялись за рукава. Андре постучал, дверь открыла женщина со злобным лицом и копной рыжих крашеных волос.
— Сдаете комнату? Я по объявлению.
Женщина разглядывала его, поджав губы.
— Ну, сдаю, да только не таким, как ты… Драк в доме не терплю.
Андре не знал, что сказать. Хозяйка отступила на шаг; стягивая одной рукой у горла синий выцветший халат, махнула другой — входи! Провела через кухню, всю пропахшую жареным луком, потом по ветхим ступенькам спустилась вниз, прошла через захламленную бельевую и ввела Андре в мрачную подвальную комнатушку, где в углу стояла кровать с продавленным матрасом. Кроме кровати, в комнате оказались еще зеленого цвета кухонный стол у стенки и старый ореховый комод, а над ним — мутное кривое зеркало.
— Двадцать долларов за неделю вперед и десять в счет будущего ущерба.
— Какого такого ущерба?
— Если в доме ничего не изгадишь, деньги верну, как будешь уходить.
Чтоб тебя! Это ж половина всех моих денег!
— Мне просто комнату на ночь, и все!
— На ночь не сдаю. И плата вперед.
Поискать бы, конечно, чего получше, но, ей-богу, сил никаких нет, и в ребрах ломит, чтоб им пусто было.
Андре помялся, вытащил тридцать долларов, протянул хозяйке.
— Там в коридорчике за углом — ванная. Чтоб девок не водить и в комнате не пьянствовать.
Хозяйка затопала вверх по ступенькам, а Андре присел на кровать. Сейчас бы лечь, растянуться; но вместо этого Андре поднялся и на цыпочках вышел в бельевую, огляделся, наконец заметил дверь, которая, по-видимому, вела в ванную.
Ему приходилось видеть раковины и унитазы в кафе и на заправочных станциях, но никогда еще он не был в настоящей ванной комнате. Андре прикрыл за собою дверь. Стоя над туалетом, он разглядывал все вокруг.
Эх! Помыться бы… А что, если эта старая калоша сунется?.. Ничего! На двери защелка. Господи, как помыться хочется!
Андре стянул грязную одежду, так и оставил грудой на полу, забрался в ванну, наполнил ее водой доверху. Намылил тело, помыл голову и растянулся в ванне, озабоченно разглядывая многоцветные синяки на теле и осторожно ощупывая больные места.
Интересно, что у меня с физиономией?
Вытираясь полотенцем, он взглянул в зеркало и замер, пораженный.
О господи! Перебил-таки нос, мерзавец! Понятно, почему все на меня так косятся.
Андре подошел к груде одежды на полу. Стирка в ручье мало что дала. От одежды пахло грязью и потом, и еще оставалось полно кровавых пятен.
Надо бы простирнуть. Развешу в комнате. К утру высохнет.
Андре сгреб все и кинул в ванну. Выжав выстиранную одежду и убедившись, что путь свободен, он кинулся через бельевую к себе в комнату, разложил мокрую, каплями капающую на пол одежду на стуле и на комоде. Ему и в голову не пришло выпустить воду из ванны, развесить мокрые полотенца и вытереть грязные подтеки на полу.
Кровать так себе, отметил он, ложась. Но все-таки кровать.
Комната выходила на юго-запад. Андре проснулся только после полудня, — когда солнечные лучи проникли в комнату. Одежда высохла и, поскольку он расправил ее, разложив, выглядела не сильно жеваной.
Порядок, удовлетворенно отметил он про себя, одевшись. Не забыть бы купить расческу и зубную щетку. Сестра Бригитта говорит, если каждый день чистить зубы, они не будут…
Громкий, назойливый стук в дверь прервал его мысли. Дверь распахнулась, на пороге стояла рыжая хозяйка.
— Это что тебе, хлев, что ли… — Уставившись на комод, на полированной поверхности которого белели подтеки от мокрого белья, хозяйка осеклась. — Мой комод! Что ты с ним сделал?.. В ванной будто стадо свиней плескалось, войти невозможно… Комод мне изгадил! Ну вот что. Сию же минуту выметайся.
— Я не знал, что мокрое нельзя… — беспомощно развел руками Андре, глядя на комод. — Я вымою пол, я… Тьфу ты! Совсем позабыл в ванной убрать.
— Небось сроду не мылся! — Хозяйка отступила, освободив Андре путь, взметнула рукой в сторону выхода. — Живо. Выметайся.
— Я же за неделю вперед заплатил.
— Ну, поразговаривай у меня! Оставишь такого на неделю, все стенки мне пробьет или крышу проломит.
— Но я же заплатил!
— А ты докажи! Пошел вон, не то полицию позову.
Огорошенный, раздавленный этим вероломством, Андре поплелся мимо хозяйки, вверх по ступенькам и очутился на улице.
Тридцать долларов коту под хвост! У самого меньше осталось, а спать так и негде. Надо б на работу устроиться, да где тут ее сыщешь?..
Внезапно его охватила тоска по дому.
Хоть бы лесок тут какой! Под кустом бы прилечь… У входа в то самое кафе, где обедал накануне, он столкнулся с полицейским, волокущим за руку угрюмую индианку.
— Скажите… где тут можно работу найти? — робко спросил Андре.
Полицейский подозрительно покосился на него.
— Ты на полном серьезе?
— Чего? Ну да, на полном!
— На биржу иди. — Полицейский быстро затараторил подряд какие-то цифры, Андре ничего не понял, но решил, что это адрес.
Тут, улучив момент, индианка вырвалась и припустила через улицу. Чуть не сбив ее, завизжала тормозами машина, другая, шедшая следом, со скрежетом врезалась в переднюю. Полицейский чертыхнулся и, игнорируя столкновение, бросился вдогонку за убегавшей индианкой.
Андре так и не понял, что ему надо делать. Только китаец из кафе объяснил ему наконец, куда нужно идти.
Чиновник на бирже труда, с добрым усталым, испещренным глубокими морщинами лицом и с залысинами надо лбом, покачал головой, поглаживая подбородок.
— Я тебе честно скажу. Сейчас и не думай, чтоб найти работу в Эдмонтоне. Тут даже опытные и с квалификацией в безработных ходят.
— Я могу работать заправщиком на бензоколонке.
— Заправщиком! Кому теперь нужны заправщики? — Клерк, нахмурившись, щелкнул кнопкой шариковой ручки. — Ты ведь метис, верно? Конечно, это несправедливо, я никогда этого не понимал, но вашего брата тут пристроить почти невозможно. Я бы, сынок, на твоем месте возвратился бы туда, откуда приехал. — Он повел плечами. — У нас в городе просто так болтаться нельзя, тотчас в беду какую-нибудь влипнешь. Такая у нас жизнь… Но я тебе этого не говорил, понял? Проболтаешься про меня кому, скажу, что ты врешь. — Клерк принялся изучать анкету, заполненную Андре. — Двенадцать классов кончил? — недоверчиво спросил он. — В институт зачислили? — Клерк помолчал. Оттопырив губу, он смотрел куда-то вдаль, обдумывал что-то.
Сейчас начнет… Ступай, мол, себе в университет, то да се…
— Знаете… а может, на стройке спросить, вдруг там нужно?..
Чиновник скривил рот в улыбке.
— Спросить-то, конечно, можно, почему не спросить?
— А где тут у вас стройка?
— Да повсюду. Как пойдешь, сразу увидишь.
Чего на ночь глядя стройку искать, подумал Андре, выходя с биржи. Только время зря терять.
Он решил было обосноваться на ночь в вестибюле дешевой гостиницы на Девяносто седьмой улице, но, едва закрыли пивной бар, портье тут же выставил его за двери. Андре долго бродил по центру города, пока не наткнется на автобусную станцию. Войдя, он увидел, как дежурный выпроваживал из вестибюля молодого индейца в женой.
— Нечего вам тут ошиваться, — говорил дежурный. — Никуда не едете, никого не ждете, уходите отсюда.
Женщина, боязливо косясь на дежурного, взялась за потрепанную бумажную хозяйственную сумку. Судя по вздувшемуся животу, она была беременна. Муж скрутил сигарету, закурил и, не глядя на жену, пошел к двери. Женщина глухо закашлялась и побрела вслед за ним.
Дежурный придирчиво оглядел Андре.
Чтоб убить время, тот принялся внимательно изучать огромное, во всю стенку, автобусное расписание. Немедленно в голове родился план.
Куплю-ка билет на какой-нибудь ночной рейс, тогда меня отсюда не вытурят.
Андре выбрал маршрут до Спрус-Гроув, деревушки неподалеку от Эдмонтона, автобус отправлялся в шесть тридцать утра. Вооружившись автобусным билетом, Андре отыскал свободное место в зале, постарался принять вид отъезжающего и благополучно проспал до утра. Перекусив в кафе при автобусной станции, отправился бродить по улицам в поисках стройки.
К пяти вечера итог был таков: ни на одной из четырнадцати строек работы ему не нашлось, зато в результате хождения по стройкам дешевые ботинки измочалились в пух и прах. Подошва у одного вообще оторвалась, приходилось ступать — шаг с прихлопом, — слегка волоча ногу. Приметив еще раньше убогий магазинчик на Уайт-авеню, походивший на привычную Андре сельскую лавку, он завернул туда перед самым закрытием.
Продавец был в целом обходителен, однако все же настоял, чтоб Андре, прежде чем мерить ботинки, купил себе пару носков. Андре вышел из магазина с четырнадцатью долларами и двадцатью центами в кармане. К семи часам вечера он снова явился на Девяносто седьмую улицу. И тут же наскочил на Гэри Последнее Одеяло: тот не спеша прогуливался там.
— Привет, Андре! Как тебе «Макдональд»?
— Да катись ты!
Гэри заржал.
— Шутка-малютка! Не злись. Куда делся? Весь день тебя ищу.
— Где тут у вас работу найти?
— Работу? Рассмешил. Откуда здесь работа?
— Мне очень надо. Всего четырнадцать долларов в кармане.
— Четырнадцать долларов? Черт возьми, да ты миллионер!
— Меня с квартиры вытурили, спал на автобусной станции. Весь день промотался по городу, работу искал. По уши в цементе…
— Я тебе сдам комнату. Хорошую комнату. Недорого.
— Почем?
— Два доллара.
— А девицы твои где?
— Разобрали всех на ночь. А то вот бы тебе сейчас парочку девочек, а? — Хитро подмигнув, Гэри заржал. — Ты на меня смотри, по мне небось не скажешь, что со стройки, по уши в цементе!
X
Неужто спать в вонючей постели Гэри Последнее Одеяло? А сколько можно слоняться день-деньской по городу, покупать билеты неизвестно куда, лишь бы не выперли ночью с автобусной станции?
— Так, говоришь, два доллара?
— Третий добавишь — ящик пива купим. — Гэри фамильярно хлопнул Андре по плечу. — Устроим выпивон на двоих. А может, в картишки сыграем?
У Андре не было сил препираться. Он протянул три доллара и поплелся за Гэри сначала покупать пиво, потом вдоль по улице, дальше — по бесконечным ступенькам деревянной лестницы, в грязную трехкомнатную квартирку над каким-то дешевым магазином.
— Где лечь можно?
— Лечь? Еще чего! После смерти належишься. Нет, мы с тобой выпивончик устроим. — Гэри вспорол крышку ящика, открыл, вынул две бутылки, откупорил их прямо об угол кухонного стола. Одну протянул Андре, залпом опустошил половину своей. Отнял бутылку от губ и смачно рыгнул.
— Уф! Ничего пивцо, а?
Андре с полной бутылкой пива в руке уставился на дешевый настенный календарь с изображением голой девицы в завлекающей позе.
Гэри ухмыльнулся.
— Сладкая бабеночка! Жаль, пощупать нельзя. А ты Ребекку пощупай. Тебе за десять уступлю. Для друга чего не сделаешь!
Четвертое сентября. Занятия эти самые, по земным ресурсам, уже завтра начинаются. А я вот без работы, будто подонок какой, сижу тут с Гэри Последнее Одеяло, пиво распиваю.
В памяти возникли злобные слова Доди Роуз: «Все вы такие — пыжитесь, из кожи вон лезете, а потом все равно ведь на пособии куковать, клозетной бумаги и той не купишь, картинки из журнальчиков повыдергаешь!»
Да ну ее, мало ли что она ляпнет! Вот найду работу и расплююсь с Последним Одеялом. Эх, деньжат бы… Ах, черт! Отец Пепэн небось зажал мои пять сотен. Если б перед Альбертом Роузом поджилки не тряслись…
Последнее Одеяло вышел в другую комнату и вернулся с колодой карт. Он сдвинул грязные кружки на край стола и бросил колоду прямо под нос Андре.
— Сыграем?
Сколько себя помнил Андре, вокруг него все играли в карты. Сам он в детстве играл на камешки и на спички, потом, когда завелись мелкие монеты, на них. Андре считал, что играет неплохо. Гэри предложил поставить пятицентовики. Андре тут же согласился, не сомневаясь в успехе. Первые полчаса он выигрывал. Потом Последнее Одеяло сказал, что на пятицентовиках ему не везет, и предложил сыграть на десятицентовиках. И тут Андре стал проигрывать. Мало-помалу до него дошло, что Последнее Одеяло шельмует. Но хотя Андре и следил за ним изо всех сил, даже глаза начало резать, уличить Гэри никак не мог.
Нет уж, ни за что не брошу! Вот выслежу, тогда…
Андре опустошил четыре бутылки пива и проигрался в пух и прах, у него осталось всего пятнадцать центов.
— Все, шабаш! Ты меня обчистил… — выдавил из себя Андре, силясь скрыть обиду и гнев. — На чем у тебя лечь можно? Спать хочу. Утром обратно в поселок подамся.
— В поселок? Чего ты там забыл?
— У отца Пепэна мои пять сотен хранятся. Заберу, а потом… — Андре пожал плечами. — Потом и не знаю чего.
— Пять сотен твои, у отца Пепэна? Врешь!
— Ничего не вру!
Последнее Одеяло исподлобья уставился на Андре. Глаза Гэри хитро сощурились.
— У тебя есть пять сотен?
— Угу.
По ступенькам застучали чьи-то шаги.
— Пусти, пусти, мерзавец! — взвизгнул женский голос.
Послышался шум драки, раздались звуки тяжелых ударов кулаком. Потом, судя по всему, кто-то упал, покатившись по ступенькам.
Не успел Андре вскочить на ноги, как Последнее Одеяло уже вылетел за дверь и бежал по ступенькам вниз. Через минуту он вернулся, толкая перед собой Клару, ту самую девицу, которую Андре видел в кафе. Она прикрывала рукой разбитый в кровь рот.
— Ишь, сукин сын, не понравилось ему! Он… он… Увязался за мной, гад! И по лицу меня — хрясь!..
— Деньги давай! — приказал Последнее Одеяло.
— Он ничего не дал. Он…
Гэри схватил девицу за плечи, тряхнул, а потом, развернувшись, что есть силы смазал ей по щеке, да так, что от удара голова у девицы запрокинулась назад. Из разбитой губы на стол брызнула кровь. Капелька попала Андре на губу. Девица, одной рукой прикрывая рот, другой заслонялась от очередного удара.
— Не надо, Гэри! Не надо… — скулила она.
Гэри отпихнул ее к стулу. Ударившись о стул, девица упала на пол рядом с батареей. Когда Гэри бросился к ней, Андре показалось, что он сейчас ее убьет, но Последнее Одеяло, остановившись над девицей, проревел:
— Ты, шлюха, деньги должна приносить, или я выброшу тебя за дверь. Иди приведи в порядок свою вонючую пасть — и в постель. Я потом тобой займусь.
Подойдя к Андре, сидевшему за столом, Последнее Одеяло произнес вкрадчиво, заискивающе:
— Пять сотен, говоришь? Тогда, может, и я с тобой завтра поеду. Мы с тобой добавим в дело еще пару-тройку девиц. Квартирку приличную подыщем, не такую дыру, как эта. Разбогатеем, черт побери, как белые будем жить! Ничего не делать, только пиво пить да в картишки перекидываться. У тебя же сестренок двое, верно? Одна Симона — я ее здесь, в городе, видел. А вторая маленькая. Неплохо для начала, да еще трех моих шлюх. — Он подмигнул. — Это тебе не на грязной стройке возиться!
Клара с трудом поднялась и поплелась через кухню в ванную. Послышался шум пущенной воды.
Последнее Одеяло направился в дальнюю комнату, где не горел свет. Проходя мимо ванной, он дернул головой в ту сторону, откуда слышался плеск воды.
— Ну что, может, займешься этой после меня?
Андре покачал головой.
— Так где мне лечь?
— Вон кушетка.
Это была вся замызганная, ветхая, допотопная кушетка, из рваных подлокотников торчала вата, спирали пружин пробивались через подушки. Устраиваясь поудобнее, Андре растянулся на кушетке прямо в одежде, скинув только ботинки.
Вот чертовщина! Поскорей бы отсюда убраться. Хоть псу под хвост пущу свои пять сотен, только б не связываться с Гэри Последнее Одеяло и его шлюхами. Еще хочет, чтоб я Синичку ему отдал! Падаль эдакая!
Если повезет, к ужину завтра дома буду. Сначала надо изловчиться незаметно пробраться к отцу Пепэну. Он скажет, дома Альберт Роуз или нет. А, черт! Устроит, конечно, мне дым коромыслом по поводу геологии, только учиться все равно не поеду. Ну ее к дьяволу, эту учебу!
Пружина врезалась ему под ребро. Андре заерзал, устраиваясь поудобнее. Уже засыпая, он увидел, как Клара выползла из ванной и скользнула в комнату, где исчез Последнее Одеяло.
И правда на Симону похожа. Если ту избить до полусмерти.
Дверей в комнатах не было. Андре изо всех сил зажимал уши, чтоб не слышать, что происходит в дальней комнате.
Сукин сын! Скотина! До чего противно, сил нет. Ведь это ж зверюга, а не человек!
Долго Андре лежал без сна, уставившись в темноту. Уже проваливаясь в сон, он услышал, что Клара плачет.
Андре проснулся на рассвете от воя промчавшейся по улице пожарной машины. Попытался заснуть опять, как вдруг уловил в комнате необычный запах, чуть сладковатый, резкий и тошнотворный. Запах был знакомый, но Андре никак не мог понять, чем пахнет. Пружины, всю ночь терзавшие его тело, вынудили повернуться на бок. Андре открыл глаза. В нескольких шагах от кушетки на полу, разметавшись, лежала Клара. Остекленевшие глаза, казалось, смотрели прямо на Андре. Он поднялся и сел. Ноги оказались в луже застывшей крови. Андре увидел нож, перерезанное до кости запястье. На одном из пальцев Клары было дешевое колечко. Граненый голубой камешек блестел в лучах пробившегося сюда солнца.
Андре чуть не задохнулся от собственного крика:
— Гэри! Гэри, скорей, ради бога…
В кухне появился Последнее Одеяло в грязной дешевой нижней рубашке и без кальсон. Лицо опухшее, заспанное. Гэри уставился, моргая, на тело Клары.
— Вот чертова кукла! Что делать будем?
— Будем? Я-то здесь при чем…
— Давай-ка полицию вызови.
— Да пошел ты!
Пока Последнее Одеяло пялился на мертвое тело, Андре натянул носки и ботинки на вымазанные в крови ноги, бросился вниз по лестнице, выскочил на улицу. Единственным, с кем он столкнулся в тот ранний час, оказался пожилой китаец, семенивший по улице со свертком в газетной бумаге под мышкой.
Андре побежал из города прямо на север. Промчавшись квартала два, он перешел на шаг, потом вновь побежал — и так бежал до тех пор, пока в груди не сдавило до боли. Только тогда он опять перешел на шаг. На окраине города у бензоколонки Андре заметил тяжелый грузовик-транспортировщик.
XI
Поселок Фиш-Лейк тянулся вереницей беспорядочно разбросанных домишек и лачуг примерно милю вдоль озера. На одном конце поселка, на высоком холме, откуда открывался прекрасный вид на озеро и его живописные мысы, стояла маленькая католическая церковь и рядом с ней дом священника. На другом конце ютились лачуги метисов, среди которых была и хибарка Исаака, а также построенные на скорую руку полуразвалюхи белых бедняков и таких, как Альберт Роуз, наемных рабочих, кого судьба забросила в эту глушь.
Андре попросил водителя грузовика ссадить его за милю до поселка, у огромного густого леса. В этом лесу Андре были знакомы, как морщины на лице Рейчел, все тропинки. Если на кого здесь и наткнешься, то уж не на Альберта Роуза, это точно; и из тех, кто может повстречаться в лесу, никто Роузу доносить не побежит, что, мол, видел Андре. В этот дремучий, местами заболоченный лес мало кто ходил. Узкая полоска леса уводила от массива и тянулась почти до самой церквушки на холме.
Андре соскочил в кювет, в несколько прыжков обогнул застоявшееся болотце, вскарабкался на противоположный край кювета и скрылся в чаще. Солнце вот-вот зайдет. Воздух предвещал мороз, пахло прелой клюквой, ноздри щекотало вяжущим запахом чистого, только что упавшего тополиного листа. Андре пробирался сквозь заросли шиповника, ивовую поросль и бурелом и вышел наконец на знакомую тропинку.
Как там дома? Андре следил за полетом падающего листа, слушал, как стучит дятел, смотрел, как тянутся к югу стаей ласточки, на лету хватая мошкару. Метрах в ста от него, посреди лесного болотца, послышался всплеск и затем шорох; видно, водяная крыса полезла утеплять травой свою нору. Андре задрал голову вверх, к пламенеющим верхушкам деревьев, к безоблачному небу.
Лес… Эх! Да как же я его брошу? Нет, ни за что!
Андре повернулся, посмотрел в ту сторону, где за лесом находился приход отца Пепэна.
Надо бы пойти, хоть просто поговорить… Ох, до чего ж не хочется! Устал, мочи нет, сейчас бы сгреб листья в кучу да и свернулся под деревом. Нет, не пойду сегодня. Не хочу его рожу видеть. Домой пойду.
Пятница, вечер. Роуз, видать, залег с ружьем где-нибудь в траве у отцовской лачуги, меня поджидает. А, ладно, попытка не пытка!
Андре не трогался из леса до тех пор, пока перед ним не мелькнул в сгущавшихся сумерках силуэт совы, вылетевшей на охоту, и пока его дыхание облачком пара не затрепетало в надвигавшейся с легким морозцем ночи. Примерно через час, проделав окружной путь через лес, через поля, снова через лес, Андре застыл в глубоком сумраке под елками, росшими через дорогу от хижины Исаака.
Ущербная, сплюснутая с одного боку, луна выплыла из-за озера, заиграли искрящиеся лучики на водной глади. Холодным, печальным лунным светом высветило хижину и одновременно домик Роуза.
Но что это?.. У нас лампа горит, а в том логове темно.
Андре напряженно прислушался и уловил металлический скрежет ложки по стенке кастрюли.
Мать ужин готовит. У Андре потекли слюнки. Какая-то машина перед домом торчит. «Импала», что ли? Чья?.. А-а, это же отец Пепэн! Какого дьявола ему тут надо? Меня ищет? А может, что другое?
От недобрых предчувствий Андре бросило в дрожь.
Вокруг дома Роуза никого. Это точно. И все-таки лучше красться незаметно, прижимаясь к поленнице, и надо спешить, пока луна не поднялась.
Подкрадываясь к своей лачуге с противоположной от дома Альберта Роуза стороны, Андре метнулся к поленнице, слился с нею в темноте. С бьющимся сердцем он присел на корточки, приоткрыв рот, чтоб не так шумно дышать. Поднялся ветерок. До Андре донеслось тихое, жалобное поскрипывание двери. Он прокрался до края поленницы, осторожно подался вперед, взглянул через забор на домик Роуза.
Дверь настежь! Ходуном ходит на ветру. Грузовика не видно!
Андре выпрямился, мотая шеей туда-сюда, вглядываясь в темноту.
Окна выбиты. Видно, этот гад сгреб Доди с мальцом и драпанул… У Андре вырвался тихий, облегченный смешок. А ребятишки Джейка Эверила уж и окна повыбили.
Глаза защипало, навернулись слезы. Андре почувствовал, что у него нет сил двигаться. Заплетающимся шагом он обогнул лачугу и взобрался по перекошенным ступенькам.
Не успел за дверную ручку взяться, как дверь сама распахнулась ему навстречу. Андре и отец Пепэн молча стояли, уставившись друг на друга.
Наконец между ними возникла Рейчел; бесцеремонно отпихнув отца Пепэна, она потянула Андре в дом. В ее воспаленных глазах стояли слезы, пальцы бережно ощупывали разбитое лицо Андре.
— Уж думала, прибил тебя. Болит? Сильно болит?
— Сейчас что! Три дня назад бы посмотрела.
Андре поплелся к кровати, туда, где они спали вместе с Джои, и дрожащие колени у него подкосились. Перед ним возникли Синичка и Исаак, только как-то совсем далеко.
Отец Пепэн медленно произнес, глядя на Андре;
— Не позвать ли доктора Пеша, Рейчел?
— Не надо! — Рейчел яростно замотала головой и резко провела ребром ладони под подбородком. — Хватит с меня. Хватит!
Но отец Пепэн все-таки медлил, стоял в нерешительности, хмуря брови.
— Андре, ты ничего такого не натворил?
Андре заворочался в постели и вздохнул так тяжело, что отдалось в его избитой груди.
— Да как сказать, отец Пепэн… Просто сейчас… пошло оно все к чертям!
Уже проваливаясь в глубокий, без сновидений сон, он вдруг сквозь наплывающую дремоту понял: Джои нет в постели рядом. Спрашивать было ни к чему. Нет Джои.
Когда Синичка растолкала его поутру, в комнате было солнечно, входная дверь распахнута. Андре открыл глаза и увидел, что рядом стоит Рейчел, держа в одной руке миску с дымящейся тушенкой, в другой — ложку.
— Давай-ка поешь. А то священник вот-вот явится.
Андре спустил ноги, сел на постели, упершись локтями в колени, подперев кулаками щеки.
— Тогда, в тот вечер… ведь Джои… не помню, как все случилось…
— Что теперь вспоминать, — устало произнесла Рейчел. — Нету больше Джои. Ну что, будешь есть?
Андре одним махом проглотил тушенку, даже не почувствовав вкуса.
Откуда-то с озера донесся крик гагары. Отозвалась другая.
— Улетать собираются, — сказала Синичка. — Ты тоже скоро уедешь.
— Кто — я?
— А то кто же? Про тебя говорят — голова светлая.
— Как же! Светлая! — Андре смотрел в окошко на домик Роуза.
Отец Пепэн никогда не снимал сутаны, только если уезжал куда из поселка; вот и сейчас он вошел в лачугу в своем неизменном черном одеянии.
— Ну, Андре, что ты такого натворил?.. Я хотел бы знать, пока тебя не забрала полиция. Рассказывай!
Запинаясь, Андре рассказал про все, что с ним было. Рассказывая, он поглядывал на священника, надеясь хоть что-то прочесть в его глазах, однако глаза Пепэна оставались бесстрастными. Андре до боли хотелось освободиться от внутренней тяжести, но признаться в этом он не мог. Андре рассказывал и презирал себя за сбивчивую речь, за свой смущенный, оправдывающийся тон.
— Ты правду рассказал?
— Да, отец Пепэн. Я не вру.
Священник пожевал губами в раздумье.
— Что ж, ты получил тяжкий урок — этот Роуз здорово тебя избил… да вот еще и Джои… Тяжкий урок, очень. Но ушибы, ссадины заживут… Я попрошу доктора Пеша, чтоб посмотрел тебя до того, как…
До чего, старый хрыч? Если ты рассчитываешь, что упечешь меня в…
— Ну а тот ужасный дом в Эдмонтоне… Ты проснулся, девушка мертвая. Нельзя было уходить. Ты ушел.
Холодный пот ручьями потек по телу Андре.
— Ты уже пропустил один день занятий в институте. Больше никто не позволит. — Отец Пепэн повернулся к Рейчел. — Ты приготовила ему одежду и вещи?
— Но, отец Пепэн, не хочу я… — начал было Андре.
— Слушай и запомни. Если полиция захочет привлечь тебя к тому делу с Последним Одеялом и девушкой, придется подчиниться. Не лучше ль уйти до этого? — Внезапно старик осклабился. — Сколько раз в эту неделю я думал: все, что сделал для тебя, вся моя надежда, — он развел руками, — все прахом пошло. Нет, не пошло!
Боженька милостивый! Да что ж это такое! Никакого спасения. Что ж теперь делать-то, ведь никуда не деться от этой старой калоши.
Едва машина тронулась, Синичка побежала рядом, заглядывая в спущенное стекло кабины.
— Писать мне будешь, будешь писать?
Проезжая мимо того самого леса, где только вчера клялся ни за что не покидать этих мест, Андре заметил лосиху с двумя лосятами, забредших по брюхо в болото и погрузивших морды в воду посреди камышовых зарослей. Андре обернулся и, вытянув шею, долго глядел на животных. Они так и не подняли голов, и изгиб дороги скрыл их из виду.
XII
Андре сидел, съежившись, не поднимая глаз, на переднем сиденье рядом с отцом Пепэном. Старик правил молча. Стиснув руль так, что костяшки побелели, он не мигая глядел вперед на шоссе. Стрелка спидометра колебалась у отметки «35». Позади на добрую милю растянулась вереница нетерпеливых легковых автомобилей, автобусов, перевозящих скот автофургонов, то и дело угрожавших нагнать, обойти.
— Права для водителя имеешь?
— Есть. Я у Мейсона на грузовике ездил.
Отец Пепэн подрулил к обочине, они поменялись местами, и священник тут же заклевал носом.
Андре ездил еще как-то и на легковушке, это был видавший виды старый «форд», которым Исаак разжился в ту пору, когда работал на лесопилке. В сравнении с той развалиной «импала» священника была роскошным лимузином. Андре вскоре освоил управление и, пока старый священник похрапывал рядом, выжимал шестьдесят миль в час. Тоска постепенно отступала.
Ух ты! Ну и машина, хороша. Поддашь газку, так и летит. Эх, полжизни бы за такую отдал…
— Что, нравится автомобиль? — приоткрыв один глаз, другим отец Пепэн жмурился на Андре. — Ничего, когда-нибудь и себе купишь… Когда будешь устроен хорошо… — Отец Пепэн вздохнул и снова откинулся на спинку сиденья. — Разбуди меня до Эдмонтона. В городе тебе будет трудно, большое движение.
Часам к трем дня, когда все в барашках-облаках небо посылало на землю рассеянные солнечные лучи, отец Пепэн въехал на автостоянку перед центральным входом в Технологический институт Северной Альберты.
Андре прошел вслед за священником через застекленный вход по выложенному зеленоватыми плитами коридору прямо в помещение дирекции. Мимо сновали студенты с книгами под мышкой. Спешили куда-то девушки в белых лабораторных халатах, щебеча на ходу. Четверо мужчин постарше, с виду преподаватели, вышагивали в ряд, трое внимательно слушали четвертого, который, что-то рассказывая, размахивал руками. Сквозь стеклянные стены Андре увидел, что там, позади дворика, поросшего ярко-красной травой, тоже высятся стеклянные стены и тоже коридоры, коридоры.
Ах ты, черт, тут и заблудиться недолго!
В ближайшие полчаса пришлось неловко топтаться в дирекции, выслушивать скороговорку — какие предметы, какие нужны учебники, где какие аудитории находятся. Молодая женщина с картой-схемой института в руке облокотилась о конторку, подняла глаза на Андре, улыбнулась.
— Что, растерялся?
— Тьфу ты! Растеряешься тут.
— Ничего, скоро пройдет. Если что нужно, обращайся ко мне. И немедленно на занятия. Ты и так опоздал. Тут три дня пропустить — как целый месяц в школе. Есть где жить?
— Есть, есть, — вставил отец Пепэн. — Прямо сейчас я его провожу туда.
Андре показалось, будто им пришлось исколесить бог знает сколько миль по городу, прежде чем отец Пепэн остановил автомобиль у грязноватого, обшитого фанерой двухэтажного домика. Не успели они дойти по цементной дорожке до крыльца, как дверь распахнулась. Им навстречу выкатился круглый как шарик мальчишка лет двенадцати, а вслед за ним с лаем выскочил смахивающий на половую щетку лохматый пес. Мальчик, придирчиво глянув на Андре и отца Пепэна, сорвался с места и припустил вприпрыжку домой с криком:
— Мам! Священник с тем парнем приехали.
В дверях, вытирая руки о красно-белый льняной фартук, показалась смуглая женщина.
— Заходите! — приветливо сказала она.
Рядом с ней возникло трое подростков. Высокий парень, примерно ровесник Андре, глядел на него и ухмылялся, сестрица помоложе разглядывала Андре из-под заслонявших лицо распущенных светлых волос. А самая младшая, высунувшись из-за притолоки, насмешливо выкрикнула:
— У-у! Смотрите, как выпендрился!
— Донна! — смеясь, укоризненно произнесла мать, и покачала головой. — Ну и девчонка! Пойдемте, комнату покажу…
Женщина поднялась по ступенькам и рукой поманила за собой Андре и отца Пепэна. Все трое вошли в небольшую комнатку с кроватью.
— Мы берем шестьдесят долларов в месяц. — Хозяйка улыбнулась Андре. — Будем жить одной семьей.
От отчаяния у него запершило в горле, он закашлялся. А что, если я опять впросак попаду, как у той рыжей хозяйки?
— Знаете, миссис Бейрок, по правде говоря, я никогда не жил в этом… в…
— В современном городском доме? — подхватили хозяйка. — Ну и что, и я когда-то впервые в город приехала. Я ведь тоже из метисов. Отец Пепэн не говорил?
— Мам, сколько можно, сейчас опять заведешь про предков, мол, жили здесь испокон веку и все такое, — недовольно пробурчала светловолосая девочка.
— Ну и что такого, Барбара? Тут стыдиться нечего. — Миссис Бейрок повернулась к Андре. — Ну как, нравится комната?
Лицо Андре выражало полную растерянность при виде такого неожиданного великолепия.
— Может, ознакомите с домашними правилами, миссис Бейрок? — вмешался отец Пепэн.
Она улыбнулась.
— А у нас без правил.
Брови отца Пепэна взметнулись вверх, он напрягся, будто хотел что-то сказать. Потом, вероятно раздумав, пожал плечами, повернулся и вышел из комнаты и, сходя по ступенькам, бросил через плечо:
— Андре, надо поговорить.
Выйдя из дома, старик подошел к машине, влез в нее, поманил за собой Андре. Затем достал из чемодана плотный конверт.
— Твоя летняя получка. Скажи миссис Бейрок, пусть поможет открыть счет в банке. Потом чтоб написал мне номер счета. Последний день каждого месяца буду перечислять девять долларов на твой счет. Если ты не подведешь, если будешь хорошо учиться. — Отец Пепэн буравил Андре взглядом. — Смотри. Не позволю, чтоб за мои деньги ты обманул или надул меня.
Андре отвернулся, чтобы священник не заметил, как он покраснел, услышав слова:
— Буду платить за обучение. Ты будешь покупать одежду, книги, оплачивать проезд. Понял? — Отец Пепэн беспокойно заерзал на месте. — Ну, а теперь мне пора обратно, ехать далеко.
Священник укатил, а Андре остался стоять посреди коротко подстриженного газона, скудные пожитки лежали у ног прямо на земле.
Старший из ребят, Дик, ленивой походкой вышел из дома с охапкой старых дешевых книжек, но, проходя мимо Андре, нагнулся, заглянул в ярко-оранжевый решетчатый ящик, набитый камнями. Заморгал глазами от удивления. Одна бровь озадаченно изогнулась, Дик дернул плечом, взял один из ящиков с камнями и понес в дом.
Андре, зажав в зубах конверт, взял под мышку ящик, в другую руку — чемодан с одеждой и пошел вслед за Диком.
— Чего у тебя в конверте? — с любопытством спросил Дик, ставя ящик к Андре на кровать.
— Получка за лето. Почти пять сотен…
— Ух ты!
Вошла миссис Бейрок со стопкой чистых полотенец.
— Давай-ка деньги, пусть пока у меня полежат, потом в банк положишь.
Донна, младшая, увидала камни и удивленно хихикнула.
— Эй, девчонки, а ну вон отсюда! — решительно приказала миссис Бейрок. — Знаете ведь, нечего вам здесь делать. Барбара, помоги-ка мне с ужином. А ты, Донна, до сих пор свою комнату не прибрала. — Она повернулась к младшему мальчишке. — Ронни, всю морковку в погреб уложил?
— Морковку? Так ведь…
— Немедленно ступай и уложи!
Ронни скривил недовольную рожицу и поплелся вон из комнаты к лестнице.
— Дик тебе поможет устроиться, — сказала миссис Бейрок Андре. — Придется тебе порядком поучиться… Тут-для тебя столько нового будет. Ничего, не тушуйся. Лучше спроси. Мы подскажем. — Откуда-то снизу послышался плач младенца. — Ой-ой! Есть просит. — И миссис Бейрок бросилась из комнаты, уже снизу донесся до Андре ее голос: — Ужинать через полчаса.
В комнате воцарилось неловкое молчание.
— Можем вместе в институт ездить, — робко начал Дик. — Я учусь там же, только на архитектурном.
— Правда?
Опять молчание.
— Автобус дотуда через весь город идет, плетется еле-еле… — сказал Дик.
И снова они не знали, что говорить друг другу. Чтоб скрыть смущение, Андре вытянул пачку табаку, решил свернуть сигарету.
— Эй, парень! — остановил его Дик. — Ты это лучше брось. По крайней мере в доме не кури. Папа терпеть не может. — Дик поднялся. — Если правда курить хочется, давай выйдем.
Пока они слонялись по садику, Дик наскоро обучал Андре всяким новым премудростям. Например, как пользоваться проездным билетом. Где купить одежду подешевле. Как подлизаться к Белолапке, тому самому маленькому черному псу. Когда Андре докурил сигарету, Дик сказал:
— Ах да, еще стиральная машина… Сейчас покажу, как ею пользоваться!
Не успели войти в дом, Дик снова напустился на Андре:
— Погоди-погоди! Ботинки снять надо. Мама не выносит, когда следят на полу.
Тьфу ты! Говорят, в доме правил никаких, а тут — того нельзя, другого нельзя, подумал Андре, возясь с узлом на шнурке.
Спустились вниз. Дик обучил его пользоваться стиральной машиной. И еще рассказал, что их отец работает техником на нефтеочистительном заводе.
— Работа неплохая, — говорил Дик, — только в разную смену. Если приходит после ночной, мы все по дому на цыпочках ходим, пока спит. Только в такие дни на мать и напускается, зачем, мол, с младенцами брошенными нянчится, это когда они ему спать не дают.
— С брошенными младенцами?
— Ну да. Она за ними ходит, пока их не разберут…
Про такое Андре никогда не слыхал. Еще не успел как следует разобраться — что да как, миссис Бейрок позвала ужинать. В столовой в уютном кресле сидел плотный светловолосый мужчина в комбинезоне. Он пристально оглядел Андре с головы до ног, отложил в сторонку «Эдмонтон джорнэл», широко улыбнулся и, протянув руку, дружелюбно спросил:
— Как, осваиваешься? Ну, привет, меня зовут Сэм Бейрок.
Ну и дела, озадаченно подумал Андре, только с работы, а пива не пьет! Чудной какой-то.
Миссис Бейрок заняла свое место у обеденного стола.
— За стол, — пригласила она. — Ты, Андре, садись вот сюда.
— Мам, а мам! А ты скажешь, что ему по дому делать? — спросил Ронни, скользнув на стул рядом в Андре.
— Ладно, ладно, — со смехом ответила мать. — Дай человеку хоть поесть спокойно.
Андре между тем помирал с голоду. Он крепился изо всех сил, еле сдерживал слюнки, но за столом никто не притрагивался к еде. Миссис Бейрок принесла и поставила на стол керамический чайник и кивнула Донне.
Девчонка, уткнувшись подбородком в грудь, скороговоркой пробубнила молитву.
Черт! Если сейчас взять и начать уписывать эту еду, ведь засмеют, не иначе. А жратва-то какая! Ростбиф. Сок так и течет. Горох этот и картошку терпеть не могу, но раз у них положено, съем…
— Мам, а на сладкое что? — спросил Дик.
— Яблочный пирог с мороженым.
После этого всего еще и сладкое? Что они, каждый день так едят?
— Ронни, не держи вилку лопатой. Вот так. Понял? — И миссис Бейрок показала, как надо правильно держать вилку. — А ложечку из чашки вынуть надо.
Фу-ты ну-ты! Выходит, и мне так? И как это — пить чай, чтоб ложку в чашку не опускать!
Покончили с пирогом, и тут Ронни опять вылез со своим, насчет домашних обязанностей.
— Ну что ж, давай, Сэм, прикинем, — сказала миссис Бейрок.
— Значит, так, — сказал Бейрок, взглянув на Андре. — Ты уж знаешь, что берем мы шестьдесят долларов в месяц. У нас в городе обычно берут от семидесяти пяти до девяноста. Бывает, даже за жалкие каморки дерут. С тебя, видишь, дешевле, потому что у нас придется кое-чем по дому помогать. Ну-ну, спокойно! Никто тебя от занятий отрывать не будет. Просто поучишься малость по хозяйству. Всего понемногу — комнату прибрать, постирать себе… Снег раскидать с дорожек. Всякие такие дела.
— Это поначалу страшно, когда первый раз в город попадешь, — сказала миссис Бейрок. — Уж я-то знаю. В той семье, куда меня взяли, когда учиться приехала… — она рассмеялась. — В общем, железное терпение надо было той хозяйке иметь… Ведь я тогда даже часы в глаза не видывала. Сколько она со мной билась, пока я в доме не освоилась, не стала ей помощницей. Все-таки выучила меня. Если б не она, — миссис Бейрок повела плечами, — околачиваться бы мне на Девяносто седьмой улице.
Андре попытался представить себе миссис Бейрок в компании Гэри Последнее Одеяло. Никак не получалось.
— Тебе, между прочим, нечего туда таскаться, — сурово произнес Бейрок. — А то жила у нас тут девчонка одна, пару лет назад. Все шло ничего, пока не стала шляться туда, по барам шататься.
Андре возмущенно вскинулся:
— Вы что, решили меня в белого перекрасить?
— Да нет же, нет. Мы хотим, чтоб ты, метис, научился жить среди белых. Это совсем другое, — спокойно произнесла миссис Бейрок. — И нечего в бутылку лезть! Ты что ж, не понимаешь? Чтоб выжить, нам надо научиться жить среди белых. Прошли нынче времена прерий с бизонами да Габриэля Дюмона.
Андре, недоуменно моргая, уставился на нее.
— Неужели не слыхал про такого?
— Не слыхал.
Хозяйка поднялась, подошла к буфету, вынула из ящика книгу, раскрыла, подала Андре.
Со страницы на него глядел великан-индеец в украшенной бахромой одежде из оленьей кожи, под левым локтем зажато несоразмерно крошечное ружьецо. Острый и свирепый, ястребиный взгляд, как живой, пронзал Андре насквозь.
— Ну как же! Он же был генералом у Луи Риля[93], — сказала миссис Бейрок. — Вот это был человек! Если б оружия ему побольше да если б все индейцы за ним пошли, этот бы белых отогнал за озеро Виннипег… если б сам Риль меньше совался, дал бы Габриэлю волю… если б… если б… — Миссис Бейрок невесело рассмеялась. — А в общем слава богу, что бедняге Габриэлю это все не удалось. Потому что, если б удалось, тогда бы белые, когда назад вернулись — а они вернулись, куда они денутся! — ни одного бы метиса не пощадили.
— Мам, так что он по дому делать будет? — снова встрял Ронни.
— Вот привязался! Тебе небось лишнюю тарелку трудно помыть.
— Я помогу, хочешь? — предложил Андре.
— Ишь вымогатель! — добродушно рассмеялся Дик.
Сэм Бейрок тоже осклабился.
— У тебя, молодой человек, дело есть, вот и делай себе. Ну а ты, Дик, давай-ка за учебники, как со стола уберут.
— А можно мне книжку почитать про этого самого Дюмона? — спросил Андре, собирая грязные тарелки со стола. Он подошел к раковине и сложил туда тарелки прямо с остатками пищи.
— Эй! — взвился Ронни. — С тарелок надо все счистить. И потом, сначала моют стекло, дальше вилки-ножи, а там уж и…
— Вот сам и покажи, Ронни. А то раскомандовался, — сказала миссис Бейрок. И добавила, обратившись к Андре: — Вот видишь, сколькому надо учиться, чтоб жить среди белых. Даже посуду мыть и то следует по-особому.
— Нелли, нам через полчаса в церкви надо быть, — прервал ее Бейрок. — Я не люблю опаздывать.
— Сейчас, только причешусь и передник сниму. Донна, сегодня твоя очередь за малышами приглядывать, — крикнула миссис Бейрок в глубь дома. — Пеленки я им поменяла, покормила, хлопот с ними немного. К десяти мы будем дома. Да, Андре, если хочешь, пожалуйста, бери книгу, читай.
Едва родители ушли, Дик вытер стол и сел заниматься, разложив перед собой учебники. По его виду было ясно: он занят, к нему лучше не приставать.
Появилась Донна, подошла к холодильнику, открыла, заглянула внутрь. Потом кинула робкий взгляд на Андре, который в это время вытирал тарелки, и спросила:
— А зачем у тебя ящик с камнями?
— Это коллекция, только надо ее где-нибудь разложить. Есть очень редкие камни.
— Редкие? — В ее голосе прозвучало недоверие.
— Ну да. Пойдем, покажу. — Андре пошел по лестнице наверх, Донна за ним.
— Донна! — раздался окрик Дика. — Слыхала, что отец сказал?
— Ну пожалуйста! — заканючила Донна. — Мы только камешки посмотрим.
— Хотите смотреть — сюда несите. Не забудь, тебе еще по хозяйству надо управиться. — И Дик снова принялся за учебники с достоинством старшего, чьи указания должны беспрекословно исполняться.
С минуту Донна молча глядела на него, потом повернула обратно, села с книжкой в гостиной.
Ошарашенный и обиженный, Андре, прихватив с собой книгу, которую дала ему миссис Бейрок, поплелся к себе наверх. Сел за письменный стол, принялся листать новые учебники, но в голову ничего не шло. Такой уж насыщенный выдался сегодня день.
Андре оглядел комнату, все, что в ней было, попробовал, удобна ли кровать, выдвинул и осмотрел один за другим все ящики письменного стола, недоумевая, откуда набрать столько барахла, чтоб их все забить. В доме было тихо, и все-таки дом был наполнен каким-то особым дыханием, неведомым Андре до сих пор. Ему стало как-то не по себе. Позевывая от возбуждения, он скинул ботинки.
Тьфу ты, устал как черт. От ног воняет. А простынки-то у них какие!.. Надо же, никогда таких белоснежных не видел. Надо бы помыться. Спросить разрешения или нет? Все-таки я же теперь знаю, что полотенца после купания надо выжать и повесить, а пол за собой вытереть.
Через полчаса Андре вышел из ванной чистый и довольный собой. Дойдя до лестницы, он остановился в нерешительности.
Интересно, что там ребята поделывают? Вниз бы спуститься, посмотреть. Нет, не пойду! Почитаю лучше ту книжку про Габриэля.
Книжка оказалась обыкновенной дешевой рекламной брошюрой. Андре почитал ее с полчаса, потом полистал, нашел опять портрет индейца и долгое время его рассматривал.
Как его, Габриэль Дюмон? Ишь ты! Вот он какой.
Андре услышал, как вернулись Бейроки. Раздались голоса, началась суета. Через несколько минут миссис Бейрок постучала к нему.
— Послушай, Андре, там под умывальником в шкафчике есть банка с пастой и губка. Мой каждый раз после себя ванну, ладно?
— Ладно! — выдохнул Андре.
Вот остолоп! И когда только я всему научусь?
Андре разделся, побросав одежду грудой на пол, и юркнул в постель. Заснуть не мог долго, прислушиваясь к тому, как щелчком включается и отключается отопление в доме, как стрекочет холодильник, как время от времени бьют большие часы. Его окружал новый, полный незнакомых звуков мир. От тоски по дому даже голова разболелась.
Еще ни разу не приходилось спать одному в закрытой комнате, кроме как в том чертовом подвале у рыжей хозяйки. Дверь закрыта, а я будто голый напоказ лежу. Словно кто-то меня всего взглядом щупает. Дьявол! Все бы отдал, лишь бы обратно вернуться. В лес бы, тьма сгущается, снег идет. Нет, назад уж не вернешься, а раз так, надо приникать.
XIII
Наутро Андре вскочил с постели как ошпаренный, разбуженный резким стуком в дверь мощного кулака Сэма Бейрока.
— Вставай-ка, парень. Через час твой автобус.
Так вот и начался для Андре этот кошмарный месяц.
Не успел доесть завтрак, как его затормошил Дик:
— Пошевеливайся, Андре. Не забудь с собой поесть прихватить.
От новой институтской жизни голова шла кругом. Андре плутал в бесконечных коридорах. Долго не мог научиться присматривать за своим имуществом. Без конца терял учебники, тетради, папки; приходилось покупать новые. За одну неделю он умудрился посеять пять шариковых ручек и две пары защитных очков. Андре трепетал при виде сложнейшего лабораторного оборудования, с которым приходилось работать.
Все время он был среди людей, но никто ни разу с ним не, заговорил. По ночам в кошмарных снах ему являлся Альберт Роуз. Андре то и дело просыпался среди ночи — ему казалось, что рядом стонет Джои. Тоска по дому изводила Андре. Записочку от Синички он носил с собой в кармане, без конца перечитывая ее, пока листок не превратился в грязную, замусоленную бумажку.
В его жизни все теперь было рассчитано по секундам. Бейроки постоянно опекали его, оставляя в покое только на время учебы или сна. В институте Дик даже в обеденное время заглядывал к Андре. По воскресеньям приходилось вместе со всем семейством идти в какую-то чужую церковь Армии спасения.
Андре подумывал сбежать, но возможность все никак не представлялась; и еще — ему все-таки приятна была забота Бейроков, идущая, несомненно, от чистого сердца.
С особым нетерпением Андре всегда ждал заветного часа перед ужином. Семейство гудело как улей, обменивались друг с другом новостями, тискали младенцев, смотрели телевизор. Бывало, они втроем, Ронни, Дик и Андре, устраивали посреди столовой на ковре дружескую потасовку. Если борьба принимала угрожающие формы, Нелли прекращала схватку, сунув на руки тому, кто оказывался поближе, младенца.
Как-то вечером Андре сидел в кухне и пичкал чем-то одного из младенцев с ложечки, а Нелли Бейрок готовила ужин.
— Отец Пепэн звонил, — сказала Нелли. — Спрашивал, как у тебя дела.
— Отец Пепэн? — Андре фыркнул. — Ну и что вы ему сказали?
— А ты как думаешь?
— Откуда я знаю!
— Ну уж, прямо совсем доконали тебя твои занятия!
— Еще бы! Как мухи старую корову…
— А ведь только конец октября. Живешь ты по-прежнему у нас, являешься домой вовремя и уже обходишься почти без всяких напоминаний. Комнату свою прибираешь, за одеждой следишь, по дому помогаешь… — Заваривая мукой соус в жаровне, миссис Бейрок улыбнулась Андре. — Выражаться стал поменьше, есть за столом научился. По-моему, ты молодец!
Гордый собой, Андре смущенно потупился.
— Только не разговаривает со мной никто, — вырвалось у него. — Почти никто, кроме как у вас.
— И не будут, не жди. Тебе самому надо научиться с ними общаться.
Хорошо ей говорить! Ей-то что, может с кошкой своей разговаривать, если нет никого рядом.
— Да, вот еще что. — Нелли нахмурилась. — Отец Пепэн спрашивает, ходишь ли ты к обедне.
— К обедне? Вот еще!
Нелли задумчиво посмотрела на Андре.
— Тебе в последнее время пришлось нелегко, но, честное слово, самое трудное позади. Я ведь знаю, о чем ты думаешь. Хочешь сбежать при первой же возможности. — И она расхохоталась, увидев, как смутился Андре. — Что я, не знаю, что ли? Я ведь тоже когда-то впервые в город попала… И все-таки, — тут голос Нелли зазвучал тверже, — приходит день, когда опека кончается. Мне кажется, такое время для тебя пришло. Слушай, хочешь, оставайся по воскресеньям один дома, пока мы в церковь ходим? За малышами присмотришь, то да се…
Подумать только, целых два часа один!.. Никто не командует… Никто не учит…
Конечно, хочу!
Что за чудесные это были утренние воскресные часы, когда Андре оставался один в пустом доме.
Никто меня не видит. Никто. Ни один сукин сын во всем мире. И никто не слышит. Сам не знаю… но когда на меня все смотрят… прямо мурашки по телу.
Жить, как белые живут, говорите? Ну ладно, учиться в их заведении я могу. Еще могу им краны чинить, чтоб не гудели, но все равно, кто я им — козявка незаметная! Они про меня даже и не думают. Они меня не замечают. Будто я мразь какая. Да нет, что там! Будто и нет меня вовсе.
Нелли говорит, сначала трудно. Господи! Ну а было бы легко — все равно: зачем все это! Ох, голова непутевая, может, мне просто бабу надо? Нет уж, только не здесь, это точно. Роуз избил меня до полусмерти за шашни с Доди, а этот Сэм Бейрок небось и вовсе меня прикончит за одно то, что на дочку его пялюсь.
Правда, в институте — там девчонки всякие вертятся… Вон Саймонс как-то в аудитории про одну рассказывал Долли, или как там ее… Она, говорит, такая… Да что это я, обалдел совсем? Как это я здесь девчонку себе найду? Хожу вечно носом в землю, будто потерял что.
На следующей неделе Дик и миссис Бейрок оба сильно загрипповали. Дик не ходил в институт, а Нелли слегла, предоставив семейству самому заботиться о себе. Как-то после утренних занятий Андре обнаружил, что забыл захватить себе из дома завтрак; кроме него самого, теперь приготовить завтрак было некому. Есть очень хотелось. И Андре решил рискнуть, пообедать в институтском кафетерии.
Он взял себе несколько бутербродов и большую чашку кофе, отнес к столику в углу, сел. За соседним столом он увидел сокурсников с факультета. Хотел было подсесть, но ни один не глядел в его сторону, а у самого Андре не хватило духу встать и подойти запросто, без приглашения. Все, вытянув шеи, слушали Саймонса. По выражению лиц было ясно, что Саймонс травит какую-то похабщину. В момент кульминации парни, содрогаясь от хохота, откинулись на спинки стульев.
Худенькая девушка продвигалась между столиками, собирая грязную посуду и складывая ее в тележку. Андре не обратил на девушку особого внимания, пока Саймонс не окликнул ее:
— Эй, Долли! Поди-ка!
Девушка подошла, и Саймонс, притянув ее к себе, зашептал ей что-то на ухо. Та зашлась от смеха, но высвободилась из объятий Саймонса.
— Да ну тебя, Билл, слушать противно! — сказала она, отходя к тележке.
Долорес! Не может быть. Долорес Олсон! Черт побери. Что же случилось, почему она не на курсах? Должно быть, с Торвальдовой женой сцепились.
Парни многозначительно улыбались, перемигиваясь.
Один повернулся, увидел Андре.
— Привет, Макгрегор! Как жизнь? — крикнул парень, поднимаясь со стула и махнув на ходу рукой, когда компания потянулась из кафетерия.
Долорес обернулась посмотреть, кому махнул парень. Увидела Андре, побледнела. Пепельница упала у нее из рук. Покатилась, гремя, по полу. Долорес нагнулась, подняла пепельницу, потом, оставив тележку посреди зала, подошла к Андре. Попеременно то заливаясь краской, то бледнея, она спросила:
— Ты чего тут делаешь?
— Я тут учусь. Думал, и ты учишься в этом… как его…
Долорес скорчила гримасу.
— Ты дома… давно был?
— Давно. Теперь, может, на рождество поеду.
Долорес закусила губу, кинула на Андре косой взгляд.
— Слушай-ка, я тебя очень прошу… Не говори там никому, что меня здесь видел, хорошо? Отец узнает, что я тут работаю… А я ни за что на его ферму не вернусь, ни за что! Честное слово, лучше повешусь!
— Ладно, я тебя не видел.
— Обещаешь? — не отставала она.
— Подумаешь, дело какое! Кому я когда…
— Нет, скажи, обещаешь?
— Тьфу! Да отвяжись ты! Никому я не скажу.
Чего это ее заклинило? Как Саймонс ее назвал — Долли? Верно, Долли. Ба, так ведь он о ней самой тогда рассказывал. Треплется, будто она прямо бесплатно, за так…
Весь ноябрь ему было не только ни до Долорес — вообще ни до кого. Страх перед надвигающимися экзаменами за первый семестр изматывал его изо дня в день, заставляя просиживать за учебниками далеко за полночь.
Но вот экзамены позади; на следующее утро в коридоре Андре неожиданно остановил один из преподавателей.
— Макгрегор! Могу тебя обрадовать, экзамены за первый семестр, а он у нас тяжелый, сдал молодцом, не завалил.
— Еще бы, вкалывал как лошадь!
Преподаватель рассмеялся.
— Знаешь, ты даже обскакал многих ребят, что с Севера приехали. В чем секрет?
— Почем я знаю!
— У кого ты живешь?
— Да тут в одной симпатичной семье. Хозяйка — метиска. А хозяин белый — может, знаете?
— Симпатичные, говоришь, люди? Вот бы тем ребятам таких же хозяев подыскать! Может, тогда б они не так тосковали по дому, не порывались то и дело бежать! — сказал преподаватель и с добродушным смехом добавил: — Ну а тебе — удачи и чтоб ладил со своими хозяевами!
XIV
Контроль за Андре в семействе Бейроков ослабевал, это было заметно. Не то чтобы сразу прекратился, и все, — нет, он убывал постепенно, день ото дня. Сам город уже не казался Андре таким зловещим. Ему перестало чудиться, что за ним постоянно следят. Теперь, бывало, сокурсники приглашали Андре с собой выпить кофе в кафетерии. Во время лабораторных занятий он чувствовал себя уверенней. Случалось, в доме Бейроков по нескольку дней кряду обходилось без наставлений и замечаний.
Время летело быстро, близилось рождество. Нелли то бегала по магазинам, то занималась домом — скребла и натирала полы, пекла всякие восхитительные вещи. А Сэм после работы торчал в подвале, в своей мастерской, реставрируя старый кофейный столик из орехового дерева, что купил в какой-то дешевой лавке. Это был его подарок Нелли к рождеству. Когда Сэм приволок покупку домой, Андре помог оттащить столик вниз, в мастерскую. Про себя, однако, думая, что такую рухлядь даже Исаак побрезговал бы подобрать на барахолке.
Как-то вечером Андре спустился в мастерскую за клещами — вытащить гвоздь из подошвы. Сэм поднял глаза, он заправлял в это время наждачную бумагу в шлифовальный станок.
— Ну что, как столик?
— Ух ты, черт! Как это вам удалось?
— Пришлось попотеть, хорошее дерево стоит того.
— Гладко-то как!
— Это что, поглядишь, когда я его лачком покрою. Как зеркало заблестит.
Дня за три до рождественских каникул Андре занимался в своей комнате. Он услышал, как внизу зазвонил телефон. Сэм с кем-то разговаривал. После телефонного звонка Сэм с Нелли некоторое время о чем-то совещались.
— Эй, Андре! Домой на рождество поедешь? — крикнул снизу Сэм.
— Угу! Отец Пепэн прислал билет на автобус.
— К Новому году вернешься?
— Обязательно. У меня занятия…
Дверь в комнату распахнулась. На пороге стояли Сэм с Нелли.
— Слушай-ка, если мы уедем дня на три, ты присмотришь за домом? — спросил Сэм. — Старики зовут нас к себе в Калгари на Новый год.
— Конечно, присмотрю. Не беспокойтесь.
— Малышей к рождеству разберут, — пообещала Нелли. — Еды я тебе много оставлю, надо будет только за Белолапкой и кошкой приглядеть.
В последний день перед каникулами преподаватель математики запаздывал. У Джимми Бейли, соседа Андре, не ладилось домашнее задание.
— Слушай, Андре, как тут дальше, у меня чего-то не сходится…
Андре плюхнул перед ним на стол свою тетрадь.
— Фу ты, черт! — произнес Джимми, сверяя свои записи с решением Андре. — Вот где, значит, я сбился. А ты молодец, классно соображаешь! — Джимми откинулся на стуле, потянулся так, что затрещало в суставах. — О господи, хоть бы пару деньков от всего этого передохнуть, надоело все, даже если б тут новогодний выпивон устроили, сюда бы не пошел, дома остался. Ты как Новый год встречаешь?
— С собакой да с кошкой.
— Домой поедешь?
— Нет, у людей, где живу. Они сами в Калгари уезжают.
— Значит, ты совсем один в доме остаешься?
— Ну да…
Джимми замер, вытянувшись в струнку на стуле, уставившись на Андре блестящими карими глазками.
— Не может быть, в самом деле один?
— В самый бы раз девочку… — неуклюже сострил Андре.
— Девочку? Будет тебе девочка, старик! Закатимся все к тебе, выпивончик устроим и…
Тревога охватила Андре.
— Хозяева мне ни за что не разрешат…
— Да пошли они! Откуда они узнают?
Не успел Андре и слова вымолвить, как Джимми вскочил и заорал на всю аудиторию:
— Эй! Назначается новогодняя пьянка, у Андре! — Он взглянул на обложку учебника Андре, где значился адрес Бейроков, написал адрес на доске.
О господи! Что же теперь делать? Скажи я им: нет, ничего не получится, — подумают, я прохиндей какой-нибудь, а ведь ко мне здесь только-только стали относиться по-человечески. У Сэма спрашивать разрешения смешно. Он не позволит устраивать пьянку в доме. Как бы это ребятам все объяснить…
Но Андре не мог подняться. Ноги словно онемели.
В тот же день вечером, мчась домой в автобусе через заснеженные леса, Андре терзался непоправимостью происшедшего.
Все этот Джимми, мерзавец! Да нет, он-то тут при чем? Сам я и виноват, идиот безмозглый. А вдруг они чего разобьют, сломают?.. Ладно, просто надо стараться вести себя в доме поаккуратнее. Вот и все.
Начало светать, когда автобус остановился перед гостиницей Дюпэ. Валил снег. Пока остальные трое пассажиров выбирались из автобуса, Андре смотрел в окошко на замерзшее озеро: поросшие ельником мысы таяли в вихре снежных хлопьев. Андре почувствовал, как к горлу подступил комок.
Дом. Наш лес. Господи! Как давно я здесь не был…
Андре не спал целые сутки. Он еще не отошел от шума и ритма бесконечной езды. Подойдя к дверям автобуса, он увидел Рейчел, Синичку и Исаака: они прижались к гостиничной стене, съежившись, засунув руки в карманы курток. Нетвердым шагом Андре сошел по ступенькам. Он глядел на своих, а те глядели на него, и никто не решался сделать шаг навстречу по грязному снегу. Никто не произнес ни слова. Наконец Синичка вытащила из кармана маленький квадратный пакетик, протянула навстречу Андре, улыбнулась.
Шутиха! Андре рассмеялся.
— Там у нас дома лосятина, — пробормотала Рейчел. — И хлеб прямо из печки.
Только прошли квартал, где жили белые, Синичка запустила веселую, шумно хлопающую шутиху. Из лачуг метисов высыпали ребятишки, вслед за ними показались заспанные родители. Громко здоровались, отпуская по поводу Андре незлобные шуточки. В этот миг и семейство Бейроков, и Технологический институт Северной Альберты, и предстоящая новогодняя пьянка — все показалось чем-то далеким, совсем из другой жизни.
— Чему тебя в этой самой школе для белых учат? — спросил Исаак, как только все сели за стол.
— Да так, ерунде всякой.
Исаак захихикал.
— Ерунде, говоришь? Что, больше, значит, не поедешь туда?
Андре едва не подавился куском свежего хлеба, он никак не мог его проглотить в замешательстве.
— Что же ты там делаешь? — строго спросила Рейчел.
Андре отчаянно искал слова, чтобы мать поняла.
— Ну, например, мы изучаем, через что свет быстрее проходит — через стекло, воздух или воду.
— Свет ходит? Спятил, что ли? Свет не ходит, свет светит.
— Понимаешь, мама, свет… — Тут Андре увидел, с каким недоумением, с какой настороженностью все трое уставились на него.
— Свет ходит? — переспросил Исаак. И рассмеялся тихим слабым смешком. — Свет, говорит, ходит! Правду сказал, ерунде учат.
— Ты там Гэри Последнее Одеяло не встречал? — полюбопытствовала Рейчел.
— В тот квартал, где он, лучше не соваться.
— Не соваться? Кто так сказал? Кто ты такой, щенок, чтоб так говорить?
Андре сидел потупясь, уставившись в тарелку.
— Негодяй он, этот ваш Последнее Одеяло. Не хочу с ним дела иметь.
Воцарилось долгое молчание.
— Значит, метис теперь тебе неподходящая компания, — припечатал Исаак.
— Не потому, что метис… Сам вспомни, как тебе этот Последнее Одеяло всучил краденую винтовку за лосиную тушу; что, приятно тебе было из-за него три месяца торчать в тюрьме в Форте Саскачеван, а?
Этого-то как раз и не следовало говорить, понял Андре раньше, чем произнес все до конца.
Стало как-то неприятно тихо. Потом Исаак поднялся и оттащил за собой стул к окну. Уселся, куря, уставившись в окно на падавший снег. Рейчел, нарочито громко кастрюльками и ножами, принялась убирать со стола. Она проделывала все это, обиженно надув губы.
Ох, тупица, идиот, распустил поганый язык! Не успел домой войти — на тебе…
Пытаясь скрыть неловкость, Андре попытался было выманить Вонючку из-под кровати. Однако пес забился в угол, поблескивая на Андре зеленым недобрым глазом, и предупреждающе рычал.
— Что это он, не узнает меня?
Молчание.
Синичка расположилась у умывальника и принялась красить грязные ногти, макая кисточку в бутылку с алым лаком.
— А Симона где? — еще раз попытался нарушить молчание Андре.
— С Джонни Крейном ушла, — проворчала в ответ Рейчел.
И снова между ними повисло зловещее молчание, затаив в себе столько невысказанного, и снова Андре сделал попытку нарушить молчание:
— Чик-Чирик, как там у тебя дела в школе, ладишь с сестрой Бригиттой? Ты ведь в этом году в восьмой пошла?
— Больно надо учиться! Думаешь, я, как ты, малахольная? Меня теперь в эту школу и пряниками не заманишь.
Окрысились. Все до единого… Сам, дурак, виноват.
А ведь как у меня захолонуло-то внутри от тоски по дому. Пойду-ка выйду…
Андре принялся натягивать куртку, но никто даже не взглянул в его сторону…
Поднимался ветер. Подмораживало. Андре вспомнил, что оставил перчатки в автобусе. Не прошел и сотни шагов по обледенелым колеям проселка в глубь еловой чащи, как почувствовал, что идти дальше трудно. Приходилось балансировать руками, чтоб не оступиться, но по такому холоду руки из карманов не больно-то вынешь.
Дурак, идиот!
Андре постоял немного, уставившись на верхушки высоких елей, раскачиваемых налетавшим ветром. Холодно. Холод вокруг. Андре съежился от стужи.
Нет, так долго не выдержать. К Альфонсу, что ли, зайти?
У матери Альфонса, Эрнестины, был гость. Белый, из тех, кто с деньгами. Эрнестина в дом Андре не пустила.
— Ты к Альфонсу? Слыхал новости? Жюстэн Лакарьер помер. Мари одна осталась… Домик у ней как картинка, власти им выделили… с ванной. Колодец. Воды много. Коровы есть, как картинки… Все есть. Альфонс, уж он так за дело взялся. Стену в коровнике пробил, воду коровам провел, ванну поставил, чтоб пили. Так у них все как картинка стало. — Эрнестина в восхищении затрясла головой. — Так ты все в Эдмонтоне живешь? Видал там небось бабу этого Роуза? Говорят, она тоже там теперь.
Андре вынул руку из кармана куртки, осторожно провел пальцами по искривленному носу.
— На что мне она?
Эрнестина захихикала.
— В другой раз, если Роуз тебе в нос заедет, так, верно, выправит.
— Эрнестина, что ты, в самом деле, хватит болтать, дверь закрой! — раздался раздраженный мужской голос откуда-то из темноты в глубине лачуги.
Эрнестина ухмыльнулась и захлопнула дверь прямо у Андре перед носом.
Куда ж теперь? Может, к отцу Пепэну? Пусть уж все одним разом! Все равно ведь надо наведаться к старому хрычу перед отъездом.
Когда Андре выходил от священника, над поселком уже сгущались ранние зимние сумерки. Всю дорогу, пока Андре спускался вниз по холму и пока шел затем вдоль озера, в его ушах непрерывно зудели вопросы и наставления Пепэна.
Когда Андре вошел в лачугу, она оказалась пуста. Огонь в печке прогорел уже давно, в доме было почти так же холодно, как посреди зимней тьмы за дверью, Андре зажег керосиновую лампу и развел в печке огонь. Доедая остатки разогретой лосиной тушенки, Андре главами Нелли Бейрок оглядывал свой дом.
Все в грязи. Все в запустении. На окнах ни одной занавески. Ни семейного уюта, ни попыток создать его. Ветхая обстановка, собранная из имущества пяти различных семей, повсюду толстый слой грязи, накопившейся за много лет от прикосновения немытых рук.
Андре знал, что Исаак и Рейчел сейчас в пивной, но идти искать их уже не было сил. Он поддерживал огонь в надежде, что вот-вот появится Синичка. Глаза слипались от усталости. Андре уж чуть было не задремал, но вздрогнул, проснулся, отогнал сон.
Под конец он все-таки забрался в постель, туда, где когда-то с ним рядом спал Джои. Закрыл глаза, и лицо малыша, озаренное доверчивой улыбкой, то вставало, то исчезало перед ним. Одеяла были грязные, от них пахло сыростью. В ляжку впился клоп. Андре почесал зудящее место.
Беспокойно заворочался, теперь сон не шел.
Черт побери, где же Синичка? В пивную ее не пустят, а ведь уже поздно. И вдруг Андре пронзило — Синичка сейчас с Обри Слэдденом или с другим таким же подонком!
Спустя три дня, морозным и ясным зимним утром, Андре сел в автобус до Эдмонтона. Проводить его явился один отец Пепэн.
В институте сокурсники дружески хлопали его по спине. В ушах гудели разговоры о предстоящей встрече Нового года.
— Ну, старик, в загул так в загул, — бубнил Джимми Бейли. — Погоди, старик, увидишь, какую я тебе красотку приглядел.
Андре натянуто улыбался. Он никак не мог отрешиться от предчувствия чего-то ужасного.
Когда к вечеру он вернулся домой после занятий, Бейроки уже уехали. Андре повернул ключ в замочной скважине, вошел в темный дом, где его встретили только собака и кошка. Он принялся ходить из комнаты в комнату.
Тьфу ты! Надо мне было разевать свой поганый рот при Бейли и всей этой компании. Может, встретить их у дверей, когда вечером заявятся, да и сказать, чтоб проваливали? Нельзя! Разобидятся на меня как черти. Дьявол! Конечно, это не то чтоб Джонни Крейн пожаловал или там Гэри Последнее Одеяло, но все-таки…
Девять часов вечера, пока никого.
Не едут. Может, вовсе не приедут?
В этот самый момент зеленый «понтиак» Билла Саймонса подрулил к дому. Из машины показались Билл с парой сокурсников и с ними четыре девицы. Громыхая ящиками с пивом и зажав в руках бутылки вина, компания шумно потянулась по дорожке к дому. Саймонс вышагивал, распевая:
Наш Макгрегор, сукин сын, Устроил пьянку не один!Подкатила вторая машина. Из нее вывалилось еще три пары. Подхватили песню.
Идиоты проклятые! Как койоты, воем воют!
Пока компания просачивалась в дом мимо Андре, стоявшего у дверей, он видел, как в домах на противоположной стороне улицы пялятся в окна соседи.
Все разболтают! Ах ты, черт! Ну что я скажу Сэму Бейроку?
Саймонс двинулся на кухню, распахнул холодильник, вынул оттуда все, что Нелли Бейрок наготовила Андре на три дня каникул, уложил кое-как в раковину.
— Надо пиво остудить. Давайте, ребята, суйте его сюда.
Андре был настолько поглощен действиями Саймонса, что на остальных гостей он едва взглянул.
— Эй, Андре! — крикнул Джимми Бейли. — Вот тебе пара — ну что, хороша куколка? Знакомься, ее Долли зовут.
И Джимми, отступив на шаг, многозначительно подмигнул Андре. Долорес с Андре в удивлении уставились друг на друга.
И как это их угораздило притащить ее сюда? Ничего себе вечерок выдался!
— В чем дело? — спросил Саймонс, заметив огорошенный вид Андре. — Сегодня надо веселиться. Будь погалантней. Хлебни-ка пива.
Андре с бутылкой пива в руке прислонился спиной к дверной притолоке у входа в кухню. Долорес застыла, не глядя на Андре, в неловкой, неуклюжей позе у притолоки напротив.
Кто-то запустил магнитофон-стерео на полную мощность. Две пары двинулись танцевать. Остальные, сидя на стульях, покачивали головами в такт. Подрулило еще несколько машин, пары с шумом заполняли дом.
После долгого молчания Долорес, искоса взглянув на Андре, еле слышно произнесла:
— Ты что, домой ездил?
— Да, только оттуда.
— Небось порассказал там всем, что видел, как я работаю официанткой в институтском кафетерии?
— Только и дел мне, что про тебя рассказывать, я уж и думать забыл! Брось. Выпей-ка лучше пива.
Долорес с жадностью отхлебнула из бутылки, стоя по-прежнему у притолоки. Мимо них то и дело сновали гости за новыми бутылками. Андре и Долорес наблюдали за остальными, не глядя друг на друга.
— Еще хочешь? — спросил Андре, заметив, что у Долорес бутылка пуста.
— Да, хочу, конечно.
А что, если взять и обнять? Ишь, юбка-то выше колен, едва задницу прикрывает. А ножки ничего…
Почти опустошив вторую бутылку, Долорес спросила!
— Это ты здесь живешь? А симпатично тут.
Андре неопределенно хмыкнул.
— Выходит, они разрешают тебе гостей приводить, когда сами в отъезде? — расспрашивала Долорес. — Надо же! Я вот тоже комнаты снимаю, только моя хозяйка скорее меня убьет, чем…
Господи, хоть бы помолчала!..
Наконец Андре собрался с духом, обхватил Долорес за талию, оторвал от притолоки. Никакого сопротивления. Поджав под себя ноги, Долорес прильнула к Андре на тахте в гостиной, держа бутылку пива в руке.
Веселье было в полном разгаре. Не поделив что-то между собой, Билл Саймонс с каким-то малым громко переругивались. Музыка гремела. Пол сотрясался от топота танцующих. Джимми Бейли сгреб в охапку какую-то девицу и, поднявшись наверх, исчез с ней в спальне Бейроков.
Одна из танцевавших, блондинка в какой-то длинной хламиде, наступила себе на подол, зашаталась и повалилась на Долорес. Та завизжала, отпихнула от себя блондинку и взгромоздилась на колени к Андре.
— Спаси меня от нее, — произнесла она жеманно, картавя, как маленькая девочка.
Андре, запрокинув ей голову, жадно поцеловал. Она не сопротивлялась, ответила. Дрожащими пальцами он коснулся ее груди. Долорес провела рукой по его щеке, пощекотала мочку уха. Андре всего трясло от возбуждения.
— Пойдем куда-нибудь, а?
— М-м-м… Пошли. — Она потянула его за руки.
Внезапно до Андре дошло, что кто-то распахнул входную дверь. В дом ворвался поток свежего морозного воздуха. Танцоры застыли на месте, хотя музыка продолжалась. Мимо Андре пробежало несколько ребят, на подмогу тем, кто уже стоял у двери.
— Убирайся отсюда, О’Хейген! — орал Билли Саймонс. — Все веселье испохабил.
— А ну тронь, попробуй!
Андре с колотившимся сердцем, чувствуя, что голова вот-вот лопнет от возмущения, бросив Долорес, протискивался сквозь толпу. На ступеньках у входа стояли три незнакомых парня-здоровяка.
— Валите к чертям собачьим! Валите отсюдова!
— Ах «отсюдова»? — передразнил один из троицы.
Андре рассвирепел. И так пихнул малого, что тот, зашатавшись, упал и покатился по ступенькам крыльца.
Другой из троицы пихнул Андре. Он оступился, попятился задом и столкнулся с Биллом Саймонсом, потерял равновесие и упал спиной на выдвижной столик под телевизором. Доска обломилась, пивные бутылки покатились по полу. Кто-то из девиц завизжал. Не укрощенная никем музыка гремела вовсю.
Пока Андре оправлялся от удара, О’Хейген пробился вперед, на середину столовой. В это время несколько ребят с геологического блокировали вход, не пуская в дом приятелей О’Хейгена, другие обрушились на него самого, оказавшегося в ловушке.
О’Хейген поднял с пола бутылку, и с этого момента всем стало ясно, что уже не до шуток. Однако четверо ребят успели повиснуть на нем, прежде чем тот смог пустить в ход бутылку. Все пятеро повалились прямо на кофейный столик клубком перевитых рук и ног. Сквозь громкие крики, ругательства и звуки ударов Андре различил вдруг сухой треск деревянных ножек, подломившихся под тяжестью тел.
Ребята с геологического мигом скрутили О’Хейгену руки. Потом его оттащили к дверям и выбросили прямо в сугроб.
Все трое, выкрикивая угрозы и оскорбления, забрались в машину и унеслись прочь.
Андре почти не слышал общего гвалта вокруг. Он не отрываясь глядел на кофейный столик, привалившийся, словно пьяница, к тахте: две ножки были сломаны, а глянцевая ореховая поверхность до такой степени изуродована, что Сэму Бейроку не восстановить теперь ее во веки веков.
Тяжело дыша после драки, Джимми похлопал Андре по плечу.
— Вот, понимаешь, как получилось… Честное слово, мы не хотели.
— Да чего там! Не крышу же, в конце концов, проломили, — сказал Билл. — За столик заплатим.
У Андре внезапно помутнело перед глазами.
— Ребята, знаете что… может, лучше того… я думаю, давайте-ка лучше по домам, а?
— По домам? Мы, что ли, виноваты? Ты же сам первый в драку полез. И потом, мы О’Хейгена не звали.
— Ладно, ладно, ребята, потопали, — проворчал Джейк Куилли. — Скинемся в счет ремонта — и айда, мотель поищем. Еще не вечер.
Через несколько минут компания оставила дом, прихватив с собой привезенные бутылки. Андре пересчитал деньги, кинутые на кушетку.
Почти восемнадцать долларов. Он облегченно вздохнул. Сэм, конечно, разъярится, но все-таки есть чем возместить урон.
Магнитофон-стерео все еще вопил «Я знаю, кто…». Андре выключил его. Дом погрузился в зловещую тишину.
Что-то зашевелилось за спиной, Андре обернулся. На верхней ступеньке лестницы стояла с белым от страха лицом Долорес и глядела на него сверху вниз испуганными глазами.
— Какого рожна ты там делаешь?
— Я в ванной спряталась, когда драться начали. — Долорес пригнулась к перилам, оглядела комнату под лестницей. — Господи! Ну и содом. Надо все прибрать.
Когда они убрали все пивные бутылки, вытрясли все пепельницы и пропылесосили ковер, Долорес плюхнулась на стул, раскинув в разные стороны — как огородное пугало — долговязые ноги и неуклюжие руки.
— Господи, как же я испугалась!..
— Ладно, пойди приляг где-нибудь. Надо свет потушить. А то вдруг этот О’Хейген с парнями надерутся и обратно пожалуют…
— Ой! — Долорес вскочила и принялась гасить везде свет. — Если ты думаешь, что они могут вернуться, так лучше, наверное, не ложиться?
Андре фыркнул.
— Ну что ж, там ребята вроде пару бутылок оставили…
Они тихо сидели в темном доме. Не успел Андре допить пиво, как услышал посапывание: Долорес спала. Он снял с кушетки вязаное покрывало, накинул на нее. Казалось, до утра еще целая вечность.
Андре разбудил Долорес в половине седьмого, услышав за углом рычание первого автобуса.
— Этот автобус сделает круг и через десять минут вернется обратно.
У самой двери Долорес обернулась и сунула в руку Андре какой-то клочок.
— Вот, это номер моего телефона, если надумаешь позвонить, — Долорес распахнула дверь и скрылась в темноте.
XV
Было темно как ночью. Долорес брела, осторожно ступая по заснеженному накату посреди улицы. Ноги, обутые в дешевые пластиковые лодочки, замерзли. Поджидая автобус, Долорес примостилась у запорошенной снегом скамейки на остановке, став спиной к ветру, разминая закоченевшие пальцы ног. К тротуару подкатил автобус. Облаком выхлопных газов обдало с головы до ног. Шофер с ехидным любопытством разглядывал Долорес, пока та шарила по карманам, ища проездной.
Ну была на вечеринке, ну всю ночь гуляла, тебе-то что? Плевать я на тебя хотела!
Долорес съежилась на сиденье, поставив замерзшие ноги на панель обогревателя. Кроме нее — никого, пусто. Автобус завернул за угол и двинулся навстречу ветру — на север, по Сто девятой улице. Промелькнуло несколько кварталов, Долорес приподнялась на сиденье, прильнув щекой к оконной рейке. Впереди показалась крыша ладного беленького коттеджа.
Может, сойти, заглянуть к Торвальду с Сандрой позавтракать? Долорес усмехнулась. Вот уж невестка осатанеет!
«Сколько для нее сделали, а она!..»
У, гадина!
Через полчаса, после двух автобусных пересадок, Долорес засеменила по мрачной улочке бедного квартала, завернула в проулок к заднему крыльцу ветхого оштукатуренного коттеджика. — Фонарь у входа не горел, и Долорес долго возилась с ключом, силясь попасть в замочную скважину, но стоило ей отворить дверь, как тотчас в доме вспыхнул свет. Запахивая на груди поношенный купальный халат, хозяйка стояла на лестнице, подозрительно уставившись вниз. Где-то за ней, из глубины комнат, доносился разноголосый щебет волнистых попугайчиков.
— С Новым годом, миссис Сэвчек!
Может, если с ней поласковей, старуха не станет…
— Где была?
— У брата ночевала.
— Гляди! Часто что-то у брата ночевать стала. — Хозяйка повернулась и направилась к себе, бросив через плечо: — Сегодня чтоб заплатила.
Как только дверь за ней захлопнулась, Долорес скорчила рожу и спустилась к себе в унылый полуподвал. Сбросила с ног промокшие лодочки, скинула измятое выходное платье, швырнула на стул. Услышав над головой тяжелые шаги хозяйки, Долорес театральным жестом указала на платье и, обратившись к потолку, прошипела:
— Вот они, красотка, денежки твои! Все сорок пять долларов. Может, тебе дать примерить платьице, а?
Долорес распахнула холодильник, заглянула внутрь.
Ничего, кроме кулинарного жира, придется им мазать хлеб. Даже кофе нет. Бр-р-р. Спать лягу. Может, согреюсь, перестану дрожать.
Долорес свернулась клубочком на узкой кушетке, завернулась в одеяло, плотно подоткнув его под себя. Но ей не спалось. Никак не согревались ноги. Долорес перевернулась на спину, скрестив ноги и подогнув коленки, но так лежать было неудобно. Она повернулась, легла на бок, уткнулась подбородком в колени, свела ступни вместе.
Старуха отопление выключила. Деньги экономит. В желудке у Долорес урчало. Ну что ты будешь делать! На той паршивой вечеринке даже и поесть-то было нечего. Ой! Пиво, гадость какая, сейчас стошнит!
Долорес выбралась из-под одеяла, кинулась в крохотную ванную, где ее стошнило.
Дай бог, чтоб с пива! Долорес протерла глаза, уставилась на календарь, висевший на стенке. Прикинула дни. Пока вроде нечего опасаться. Надо с силами собраться, к врачу пойти. Эсси, правда, говорит, если пьешь таблетки, бояться нечего. Может, ее попросить со мной к врачу сходить, согласится?
Долорес нагнулась над умывальником, пустила холодную воду, принялась пить, подставив губы под кран.
Громкий птичий щебет наполнил дом, это хозяйка вошла в превращенную в птичью вольеру комнату прямо над головой Долорес.
Долорес передернуло. Господи! Неужто опять заведет свое?
— Бобби красавчик! — прогремел сверху бас хозяйки. С секунду было тихо, хозяйка ждала, повторит ли птица, потом раздалось снова: — Бобби красавчик!
Боже ты мой! Хоть бы сегодня заткнулась… Долорес возвратилась в комнату, легла, накрыла голову подушкой. Но сверху донеслось еще раз сто, а может, двести:
— Бобби красавчик! Бобби красавчик!
Не хватало, чтоб все ее пятьдесят попугайчиков заверещали разом да еще с иностранным акцентом! Долорес хихикнула.
Засыпая, она продолжала слышать над собой неунимавшийся голос хозяйки.
Проснулась часа в три дня с острым чувством голода. Лучик солнечного света светло-лимонной каплей подрагивал на цветочном узоре обоев. Долорес встала, стараясь не шуметь.
Если услышит, что я проснулась, тотчас спустится вниз и станет требовать денег. А что я ей скажу? В прошлом месяце всего неделю просрочила, и то какой крик подняла. А сейчас она вообще может взять и вышвырнуть меня ко всем чертям. Надо бы повидаться с Эсси. Завтра все магазины работают, а у нас с ней выходной.
Умывшись, натянув старенький свитер и джинсы, Долорес заметалась от одного к другому окошку под потолком, пытаясь разобрать, что там на улице. Но, даже поднявшись на цыпочки, ей не удалось увидать ничего, кроме грязных сугробов, до половины загородивших окна.
Долорес пошарила по карманам, заглянула в дешевенькую пластиковую сумку.
Пятьдесят семь центов и проездной… если дотяну до вечера, может, Эсси пригласит с ними поужинать? Мать ее, правда, ко мне не очень-то… ну да что там…
Долорес прошла в ванную, подкрасилась, отступила на шаг перед зеркалом, рассматривая свое отражение.
Вот Эсси — это мастерица! Если она за меня берется, я у нее каждый раз по-новому смотрюсь. А я вот так не умею…
Долорес натянула куртку, сапоги, с досадой отметив, что каблуки сбиты. Ей страшно не хотелось выходить на мороз, страшно не хотелось видеть натянутой физиономии матери Эсси. Долорес ходила взад-вперед по комнате, не отрывая взгляда от часов, дожидаясь, пока стрелки покажут половину шестого.
Мороз был лютый, северо-западный ветер сыпал в лицо пригоршнями сухой, как песок, снег. Долорес проехала в автобусе несколько остановок дальше на север, вышла. Было уже совсем темно, когда она шла по заснеженной пустынной улице к дому Эсси. Свет не горит, шторы опущены, но Долорес все же поднялась по ступенькам и несколько раз позвонила в дверь. В доме было тихо, только собака отозвалась злобным лаем. Долорес постояла еще, потом повернулась и пошла обратно на автобус по той же улице, рукой в перчатке прикрывая от ветра замерзшие щеку и нос.
Новый год празднуют. А я одна. И с голоду помираю.
Слезы навернулись ей на глаза.
Возвратившись в свой район, Долорес зашла в какое-то захудалое, замызганное кафе. Было пусто, только трое старшеклассников бросали монеты в проигрыватель-автомат да молодой китаец с кислой миной, который с ходу спросил, едва Долорес успела войти и оглядеться:
— Чего кушать будешь?
Долорес быстро взглянула на цены в залитом томатным соусом меню, заказала сосиску с булочкой и кофе. Вышла из кафе с тремя центами в кармане.
Придя домой, Долорес прокралась к себе вниз, в холодный, неуютный полуподвал.
Нельзя прибраться даже, хозяйка услышит. Черт бы побрал эту квартплату! Ох, ну что я за рохля такая!.. Ведь было же сто двадцать долларов, из тех, что мы с Эсси в прошлом месяце добыли, да еще моя получка… Куда все подевалось?
Эсси говорит, что я с парнями не умею, как надо; уж она-то своего не упустит: «Десять долларов, и точка, и не морочь мне голову!» Нет, так у меня язык не повернется. В конце-то концов, мне же это тоже нужно! Может, даже больше, чем им.
Долорес взяла потрепанный журнал с новостями из жизни кинозвезд, полистала. Наткнулась на заголовок, рекламирующий какую-то ссору между двумя известными киноактрисами. Попыталась читать, медленно шевеля губами. Не дочитав страницы, потеряла нить. Вздохнула, отложила журнал, забралась под одеяло. Лежала тихо-тихо, вслушиваясь в звуки наверху — там у миссис Сэвчек по телевизору показывали что-то смешное.
Эх, мне бы телевизор! Долорес даже заерзала от возбуждения. Кто его знает… кто его знает, если нам с Эсси в этот месяц повезет…
Проснувшись, она позавтракала тремя сухариками, намазав их кулинарным жиром. Хотела было незаметно выйти из дома, но хозяйка остановила ее.
— Где деньги?
— Вот банк откроется, и я…
— Банк? Гм! До вечера не заплатишь, кыш отсюда!
И хозяйка, хлопнув дверью, удалилась в свои апартаменты.
Долорес, глотая слезы, бежала по улице к автобусной остановке. Когда позвонила в дверь к Эсси, открыла толстуха мать в бигуди и с чашкой кофе в руке.
— А, это ты… Эсси еще спит.
— Мне… мне очень нужно… это очень важно…
Толстуха фыркнула и, бормоча под нос: «Господи, ведь это надо!», подошла к лесенке, ведущей вниз, и заорала:
— Эсси! Тут к тебе Долорес.
— Угу-у, — промычала Эсси откуда-то снизу. — Ладно. Пусть спускается.
Когда Долорес вошла, Эсси, лежа в постели, повернула к ней заспанную, всю в прыщах физиономию, не изобразив ни малейшей радости от встречи. Мигая спросонья, она уставилась на Долорес.
— Чего пришла?
— Сегодня магазины открыты.
Эсси потянулась за пачкой сигарет, шмыгнула носом.
— Что, опять на мели?
— В общем — да…
Эсси вздохнула, затем многозначительно произнесла:
— Да, сегодня в самый раз, это точно. Суета, до сих пор рождественские подарки покупают, а продавцы еще не отошли после новогодней пьянки. В самый раз.
— Чего же мы ждем?
Эсси насмешливо взглянула на Долорес.
— Мы ждем своего часа — пока в магазины не набьется народу побольше. — Она села в постели, прикурила от дорогой зажигалки и промычала: — У-у-у, кофейку бы! — Помолчала, спросила: — Завтракала?
— Н-нет…
— То-то мать обрадуется. Вчера весь день меня терзала: на что, мол, тряпки дорогие покупаю, где шляюсь в новогоднюю ночь, почему домой являюсь в шесть утра? Ох, взорвать бы к черту это логово!
Они выждали до середины дня. Потом Эсси с решительной и деловой хваткой, которую Долорес одновременно и обожала в ней, и ненавидела, стала готовиться в поход.
— Сегодня нельзя бросаться в глаза. Убери всю мазню с лица, заплети две косички потуже, а я тебе передние зубы замажу, чтоб казалось, будто наполовину выбиты.
— Но Эсси!
— Спокойно! Имей в виду: как сделаешь дело, немедленно соскреби ногтем краску с зубов и расплети косички.
— Мне переодеться?
— Останься как есть.
Сама Эсси надела гладкие темно-синие лыжные брюки и куртку из тех, что носят обычно в Эдмонтоне женщины из бедных рабочих кварталов.
— Расклад такой: сегодня твоя младшая сестрица украла у тебя из кошелька все деньги, и ты кричишь: как приду домой, так убью ее, и все, поняла? — инструктировала Эсси Долорес. — И сразу в автобус. В три часа встречаемся в магазине дамского платья в Саутгейт-Вудварде.
Эсси осмотрела готовую выйти Долорес с ног до головы.
— Обалдела! Немедленно сними красные перчатки и значок «Желаю удачи!». Ничего такого, что бросается в глаза.
Эсси отколола значок от пальто Долорес, порылась в ящике комода, вынула пару черных перчаток.
— Давай, иди! Я — следующим автобусом.
— Ты мне денег не одолжишь? Надо же что-нибудь в магазине купить для отвода глаз? А то у меня…
Эсси нахмурилась, потом достала из сумочки пять однодолларовых бумажек.
— Потом из своей доли отдашь.
— Ты мне в прошлый раз всего тридцать дала!
Эсси нагло усмехнулась.
— Ты что же, половину захотела? Я-то ведь больше рискую!
— Нет, ну все-таки…
— Хватит тебе, Долорес!
Долорес блуждала по универмагу, толкаясь в толпе покупательниц, ощущая сладкий прилив возбуждения и вместе с тем страха. Мимо нее прошмыгнула Эсси, ничем не выказав, что заметила Долорес.
Долорес взяла с полки пару трусиков и направилась к кассе, держа в одной руке покупку, в другой — две долларовые бумажки. Она протолкалась к кассе слева, пропустила вперед Эсси, которая остановилась справа у кассы, притворившись, будто рассматривает висевшие на кронштейне пальто.
Едва сдерживая дыхание, с бьющимся до боли в ребрах сердцем, Долорес подошла к кассирше. Протянула одновременно покупку и два доллара.
Кассирша, не взглянув на деньги, протянутые Долорес, выбила стоимость покупки, ящичек с разменными деньгами кассы открылся.
— С тебя, милая, два доллара сорок девять центов. — Кассирша указала на ценник.
— Ах, еще сорок девять? Сейчас! — Долорес открыла сумочку и заглянула внутрь. — Нету кошелька!
Кассирша озадаченно уставилась на нее.
— Может быть, ты его просто не положила в сумку.
— Нет, положила! Прямо сюда! — Долорес трясла открытой сумкой под носом у кассирши. — Сюда. Вот! — Точно по сценарию из сумки вылетели несколько монеток, упали на прилавок, покатились, подскакивая, под ноги кассирше.
Повернувшись спиной к раскрытому ящичку, кассирша наклонилась поднять монетки. Эсси невозмутимо протянула руку и выгребла все двадцатидолларовые бумажки из ячейки, пока Долорес в возбуждении била кулаками по прилавку, истошно крича:
— Это все сестра! Воровка такая… Ну, я до нее доберусь! Отдайте мои два доллара. Мне нечем вам заплатить…
Она с плачем кинулась бежать из отдела, кассирша ошалело глядела ей вслед. Пригибаясь в толпе покупателей, Долорес незаметно распустила косички, сдернув тугие резинки, и стерла черную эмалевую краску с передних зубов. Выбежав на улицу, она запетляла между машинами на автостоянке и подскочила к остановке автобуса на Сто одиннадцатой улице как раз вовремя.
Отпирая ключом свою комнату, где должна была поджидать Эсси, Долорес все еще дрожала от возбуждения. Ей хотелось вновь и вновь прокручивать в памяти каждое мгновение дневной операции.
Появилась Эсси, неприступно деловая.
— Вот твоя доля, — сказала она, выложив на облезлый, из древесной стружки столик четыре двадцатидолларовые бумажки, — минус твой долг, пять долларов.
— А сколько ты всего взяла?
— Неважно.
Желание обсудить происшедшее оказалось сильнее, чем недовольство.
— Слушай! Какая у кассирши-то была физиономия!..
— Угу. Извини, мне некогда, — равнодушно произнесла Эсси, направляясь к дверям.
— Когда еще пойдем?
— Не знаю. Может, никогда.
— Как? Ведь это так просто! И мне телевизор хочется. Тут за неделю можно озвереть от скуки. На неделе ни с кем не погуляешь, парни только по субботам да воскресеньям объявляются…
Эсси кинула на Долорес ястребиный взгляд, желчно рассмеялась.
— Не погуляешь? Это у тебя так называется?
Долорес почувствовала, что заливается краской.
— Ну и что, почем ты знаешь… Кто-нибудь возьмет и женится… — Голос у нее дрожал от обиды.
— Ну-ну, девочка, успокойся! Просто я никогда бы за так с ними не стала. Пусть сначала платят.
— Но Эсси…
— Господи, нельзя же быть такой дурой!
Вот гадина! Глаза бы мои не глядели… Но одной в этой каморке торчать сил больше нет…
— Хочешь, Эсси, я сейчас поесть приготовлю? Сейчас сбегаю в магазин…
— Не надо. Тут у меня с одним малым в восемь свидание.
— Так когда же мы опять в универмаг?
— Я думаю, хватит.
— Мне бы телевизор…
Эсси задумалась, рассеянно тыча большим пальцем в зубы.
— Ладно, мне бы тоже нужно кое-что подкупить. В ближайшие пару недель стоит наведаться. И хватит, девочка. Не то спугнем везуху. Да, и вот что, больше ко мне не ходи, не надо.
«Больше ко мне не ходи, не надо!» — еле слышно повторила Долорес, когда дверь за Эсси закрылась. Подумаешь, какая птица!
Долорес с вызовом двинулась к двери, когда постучала хозяйка.
К шести вечера Долорес уже успела купить поесть, поужинать, помыть пару грязных дешевых тарелок и поставить их в буфет. Больше выходить на мороз не хотелось. Ее ждал бесконечный и нудный, ничем не заполненный вечер.
Хоть бы позвонил кто! Любой. Даже этот Андре. Все лучше, чем одной сидеть.
Долорес прилегла на кушетку, лениво вытянулась. Интересно, на что он сгодится? Вот если б под Новый год не затеяли эту дурацкую драку… Долорес усмехнулась. Да уж, наверно, не хуже того труса, Джейка Куилли. Вечно трясется, будто его мать вот-вот нагрянет…
Ладно, ладно! Погодите, возьму вот и выйду замуж. Захочу и выйду! Эсси болтает, будто на мне никто не женится… Ничего, я ей покажу. За первого выйду замуж, кто предложит. Ух, прямо так бы и повертела у ней под носом обручальным кольцом!
Сверху доносилась тяжелая поступь хозяйки. Наконец та вышла из дома, громко хлопнув за собой дверью.
Пошла в бинго играть. Видно, мои денежки ей руки жгут!
XVI
В то первое утро нового года, как только Долорес ушла, Андре улегся спать. В середине дня его разбудил Белолапка, скуля, просясь погулять. Накормив кошку и выпустив пса, Андре пошел взглянуть на столовую после новогодней ночи.
Так посмотришь, вроде ничего. Если б не этот проклятый столик! Интересно, сколько он стоит? Скажем, сниму со счета пятнадцать да плюс то, что ребята оставили… Ну сколько же такой вот столик может стоить?. Кто его знает! Долларов двадцать пять, наверное.
Сегодня как следует приберу. Завтра откроются магазины. К приезду Бейроков все будет в полном ажуре.
Весь первый новогодний день Андре пылесосил, мыл и натирал полы. Собрал все бутылки из-под вина и пива, сложил в зеленые пластиковые сумки, выставил на улицу к мусорным контейнерам, тщательно размел от снега дорожки и подъезд к дому. На следующее утро к самому открытию магазинов поспешил в центр.
Домой вернулся к вечеру — в смятении, встревоженный не на шутку. Весь Эдмонтон из конца в конец изъездил. Какое там, купить столик за тридцать долларов! За один похожий с виду просили пятьдесят семь, так тот даже не целиком из дерева. Господи, что же делать!
А эти мерзавцы, институтские приятели, — кинули каких-то жалких восемнадцать долларов! Ведь знают же… Конечно, знают! Держат меня за раззяву, ну и правильно, раззява и есть. Вот Сэм Бейрок увидит, что он скажет?
Снаружи хлопнула автомобильная дверца, шумные, веселые Бейроки всей семьей поднимались по ступенькам.
— С Новым годом, Андре! — крикнула Нелли, открывая дверь. Но, заметив выражение его лица, настороженно осеклась. — Что такое?
Андре сглотнул, пытаясь произнести что-нибудь, но язык словно прилип к гортани, отказывался повиноваться.
В дом ворвался Сэм.
— В чем дело?
Андре указал на столик.
— Тут ребята были, вот…
Сэм в три прыжка перемахнул через ковер. Остановился, уставился на столик.
— Ну, выкладывай, что еще?
Голос у Сэма был тихий, леденящий, под стать морозному вечеру за окном.
— В-все.
— Что тут происходило?
— Просто мы с ребятами с нашего курса… Так все неожиданно вышло…
— Значит, только мы за порог, сразу гостей назвал?
— Нет, ребята в общем сами как-то… — Андре боязливо повел плечами. — Сначала все ничего, потом вот О’Хейген…
— О’Хейген? — воскликнул Дик. — Ох и оторва! Этот вечно…
— А ты помолчи! — оборвал его Сэм. Он опять повернулся к Андре. — Ну и…
— Значит, О’Хейген… в общем, он сюда к нам ворвался, понимаете… Ну, ребята на него и… вот, на столик этот…
Господи! Как у старика, голое дрожит…
— Я заплачу… сразу, как…
— Стало быть, нельзя тебе доверять? Четыре месяца с тобой носились, как с младенцем, и все впустую!
— Не надо так, Сэм, — вмешалась Нелли. — Вспомни, как я девчонкой работала у Грейспирсов… Судья разрешил мне водить старенький «форд» — детишек развозить, по магазинам за покупками и вообще… А как устроили пикник, я дала Джонсону за руль сесть, помнишь? Знала ведь, что не умеет, а дала… Так как-то вышло, все вместе сидели…
— Вот-вот, рассказывай ему, пусть думает, что так и надо, пусть выставляет себя чтим лоботрясам на посмешище! Пусть разрешает крушить мебель в нашем доме!
— Так ведь он заплатит! Я же заплатила за машину судьи. Сам поймет, как исправлять…
— Да хватит тебе!.. — Сэм подхватил чемодан и двинулся по лестнице наверх.
Только тогда Андре смог перевести дух. Он был благодарен Нелли за передышку. И тут внезапно ударило в голову: в ту самую ночь Джимми Бейли с подружкой побывали в спальне у Бейроков. Только сейчас вспомнил про это.
Как ошпаренный Сэм вылетел из спальни.
— Вон до чего дошло! В нашей спальне гнездышко устроили! Прямо в нашей постели!
Сэм с грохотом устремился вниз по ступенькам, кинулся к Андре, и тот инстинктивно заслонился рукой в ожидании удара.
— Что он такого натворил? — выдохнула Донна.
— Не твое дело. Дети — в машину! — взревел Сэм.
Дик, Ронни и девочки в момент испарились. Внезапно, побелев как полотно, Нелли попятилась к дверям.
Сэм наступал на Андре. Глаза его угрожающе сощурились.
— Ну вот что! Твои ящики там, в гараже. Собирай барахло, вызывай такси. Сейчас мы с детьми ужинать поедем. Чтоб к нашему возвращению духу твоего здесь не было!
— Боже мой, Сэм, только не сейчас, — взмолилась Нелли. — Где ж ему ночевать?
— А мне плевать! Верни ему, что он внес, и пусть живет как знает.
Через полчаса Андре стоял у окна, поджидая такси. На крыльце, упакованные в ящики, были сложены все его пожитки. Когда, такси, развернувшись, подъехало к дому, Андре облегченно вздохнул. Помог шоферу запихнуть ящики в багажник, постоял немного на дорожке, оглянувшись на дом.
— Куда ехать?
Андре влез на переднее сиденье рядом с шофером. Он садился в такси впервые в жизни.
— Не знаю.
— Давай думай скорей. Деньги идут. — Шофер включил счетчик. — Есть чем платить-то?
— Есть.
— Ну так куда?
— Можно на автостанцию.
Точно! На автостанцию. Ну конечно же! Поеду к себе домой в Фиш-Лейк. Буду там у Мейсона работать. Или капканы ставить, охотиться… А на пособие — так на пособие! Кому какое дело? Отцу Пепэну скажу, чтоб заткнулся. На кой черт мне ради него надрываться…
Приехав на автостанцию, Андре узнал от кассира, что по всей Северной Альберте метет жестокий буран. Автобусы стали.
Ну и дела, вот чертовщина, что ж делать-то? Вещи тут не оставишь. Украдут. И с собой не потащишь!
Андре бочком пробрался к креслу, поставил у ног свои ящики, сел.
Подошел дежурный.
— Куда? Фиш-Лейк? Туда только дня через два, не раньше, дорогу расчистят.
— Ну а как же вещи?
— Можно оплатить багаж, сдать. Или самому в ящик запереть… Вон они по стенке, ящики, стоят. — С этими словами дежурный отошел.
Сдать? Это как? Ну а ящики эти — курам на смех; говорят, любым ключом можно отпереть. Тьфу ты! Знать бы телефон хоть одного из институтских ребят!
Прошло еще с четверть часа. Дежурный исподлобья поглядывал на него.
— Эй, парень, чтоб я больше не повторял — здесь не положено без дела околачиваться!
Тебе, сукин сын, хорошо! А мне-то что делать?
Вспомнил! Долорес — она же мне телефон свой оставила!
Андре лихорадочно зашарил по карманам и наконец отыскал тот самый клочок бумаги.
По телефону голос у Долорес казался тоненьким, по-детски писклявым.
— Ко мне?
Долгая пауза.
— Деньги-то у меня есть. Я могу…
Его прервал смех Долорес.
— На кушетке как-нибудь устроюсь. Где скажешь…
— У меня только стол и пара кухонных стульев. Ну и моя постель.
— Ладно. Я могу и на полу. Ты не думай. Всего на пару дней…
Опять долгая пауза. Наконец Долорес произнесла со смешком в голосе:
— Моей хозяйки, миссис Сэвчек, сейчас дома нету, в бинго пошла играть. Давай-ка по-быстрому!
Долорес встретила Андре у входа.
— Скорее! Сноси-ка свое барахло вниз, кто его знает, может, старухе сегодня в игре не пофартит, раньше домой явится.
Андре засуетился; снуя взад-вперед, перетащил ящики вниз, сложил их штабелем на маленькой кухне. Потом, расплатившись с шофером, спустился вниз, захлопнул за собой дверь и огляделся.
Надо же! У Бейроков по сравнению с этой конурой прямо дворец. Тут и повернуться-то негде…
Наверху хлопнула дверь.
— Вот она, — зашептала Долорес. — Вовремя успели. Ну, если пронюхает, что у меня парень…
— Как же я тогда, если надо будет выйти?..
— Что-нибудь придумаем. Ты ел?
Наверху рекламной программой взревел телевизор.
— Нет, я…
— Только что свежее ореховое масло купила. Там а ящике хлеб. Сейчас кофе поставлю.
Андре ел, а Долорес, сидя за столом напротив него, прихлебывала кофе и расспрашивала о том, что было после новогодней вечеринки.
— Сказать по правде, — заключил Андре, — сам же я во всем и виноват. Выставил себя круглым идиотом.
— Я тебя понимаю. У меня ведь тоже тогда у Сандры с Торвальдом… — Она запнулась, в голосе послышались слезы.
— Ну да, ты ведь собиралась на эти… на курсы секретарш, что ли?
— Вот именно, только Сандра… — Долорес помрачнела.
— Что она, выгнала тебя?
— Да вроде того.
Оба умолкли. Каждый про себя сочувствовал другому.
— И никто не знает, где я, — с вызовом сказала Долорес. — Даже отец. Ничего, сама справилась. А на ферму ни за что не вернусь. Никогда!
Во дает! Молодчина. Эх! А я-то тряпка. Чуть что не так — сразу домой. Хорошо хоть, не успел ей ляпнуть…
Долорес исследовала дорожку спущенных петель на чулке.
— А вот ты свой геологический факультет закончишь, после куда?
— После? Ну, это когда еще будет!
— Что значит «когда еще будет»? Джейк Куилли сказал, вам еще учиться полтора года. Притом самое трудное уже позади.
— В общем-то — да…
Черт! Ну как ей скажешь, что бросить решил?
— Так где же тебе потом работать? — не унималась Долорес.
Андре повел плечами.
— Ну, например, можно в сейсморазведку наняться… можно колодцы бурить. А можно на горных работах, скажем в верховьях Атабаски, в горах, там нефть добывают.
— Здорово! Это, наверно, очень интересно.
Андре вместо ответа смущенно улыбнулся.
— Счастливый ты!
— Ну мало чего там болтают, самому хорошо бы увидеть.
— Ты и увидишь! — сказала Долорес, и чертики заплясали у нее в глазах. — А когда себе машину купишь, прокатишь меня?
— Чего там! Я тебе и за руль сесть дам.
Дубина, идиот! Теперь, конечно, в самый раз сказать ей, что хочу мотать домой.
Помолчали, потом Долорес спросила:
— Послушай, Андре, а ты кто?
— Как — кто?
— Ну… из англичан там, из ирландцев, из норвежцев?..
Андре с удивлением уставился на Долорес.
— Черт, ты же прекрасно знаешь, что я метис.
— Ты — метис? — Изумление Долорес было явно искренним. — Надо же, я и не знала. Ты совсем не похож…
— Ну уж мать-то и старика моих небось видала?
— Может, и видала. Только не знала, что твои. Отец нас никогда одних в поселок не пускал, не разрешал ни к кому заходить. Только к родственникам, — со злобной усмешкой сказала Долорес. — Ведь это надо! Всю жизнь прожила в Фиш-Лейк, а никогошеньки не знаю. В школе меня все звали: чудная Олсонова дочка. — Она вдруг зарделась, закусив губу. — Тебя-то впервые увидала у вас в гараже только прошлым летом. Честное слово, я не знала, что ты метис. — Долорес сдвинула брови, соображая что-то. — Значит, ты в другую школу ходил, для метисов?
— Ну да.
— Надо же! А отец говорит, что никто из метисов больше восьми лет не учится, если только…
— Это все отец Пепэн меня подстегивал и платил за меня.
— Да что ты? Правда?
Именно, платил! Кто его знает, как он теперь заговорит, если узнает, что Бейроки меня выперли. А, ладно, чего раньше времени переживать! Сейчас бы… Эх! Взять бы ее в охапку да…
В половине одиннадцатого хозяйка выключила телевизор. Долорес с Андре, примолкнув, — не сводили друг с друга глаз, пока у них над головами она топала из комнаты в комнату. Отворила дверь к птицам. Послышался щелчок — вероятно, она зажгла свет, в ту же минуту комната наверху наполнилась оглушительным птичьим щебетом, клекотом, хлопаньем крыльев.
— Это еще что такое?..
— Попугаи. Ура, вот и выход!
— Ты о чем?
— Пока они у нее орут, ты можешь входить и выходить. Старуха без ума от этих дурацких птиц. Скажем, утром я к ней зайду, попрошу булавку или еще там чего, отвлеку, пока ты выйдешь из дому, ну а днем зайду скажу, что хочу купить попугайчика. Только не знаю, какого выбрать. Понял?
— Обалдеть! Здорово соображаешь.
Зеленые глаза Долорес искрились смехом.
— А ты думал!
Мурлыча себе что-то под нос, Долорес прошла в ванную. Послышался шум душа. Вскоре она появилась в дверях ванной в длинном розовом пеньюаре с соблазнительно-откровенным прозрачно-кружевным передом. Подойдя к Андре, Долорес принялась игриво теребить ему волосы за ухом, и он уловил запах духов. В голове у него помутилось, он подхватил Долорес на руки и понес в спальню.
— Уф! — вырвалось у Андре, когда он в изнеможении откинулся на спину рядом с Долорес на узкой кровати. — Мочи нет рукой-ногой пошевелить.
Долорес похлопала его по животу ладошкой.
— Неплохо, а?
— Неплохо! Еще бы.
Куда там Доди Роуз против нее, жалкая приготовишка!
Долорес прижалась к Андре, засмеялась тихонько.
— Представляю, если б отец меня сейчас с тобой увидел. Он метисов не выносит. Завелся бы с полоборота, не дай бог…
— Завелся б? Честно говоря, не хотел бы я попасть ему под руку.
— А мне, милый, думаешь, хочется? Ничего, пусть найдет, попробует.
На следующий день Долорес на работу не вышла, а Андре и думать забыл про автобус. За окнами, завывая, мела по улицам метель, а Андре с Долорес наслаждались друг другом, потом вскакивали, принимались доедать, что осталось, и снова занимались любовью.
— Уф! Как будто… — Долорес повернулась на спину, сладко потянулась. — Прямо как медовый месяц у нас.
— Так бы лежать и не ходить вовсе в этот занудный институт. Ничего больше не надо.
— Нет уж, придется идти. Завтра пойдешь. А я на работу выйду.
— К дьяволу, завтра не пойду. Послезавтра.
— Нет, завтра! Помнится, Джейк с Биллом говорили, что больше дня у вас пропускать нельзя…
— Да ну их к богу!..
— Мальчик мой. — Долорес склонилась над Андре, поцеловала. — Ты им всем должен показать. Мы им должны показать. — Она снова легла на спину рядом с Андре, вытянулась, устремила взгляд куда-то в темноту. — Вот придет время, получишь хорошую работу…
Андре рассмеялся.
— Ну а если отец Пепэн разозлится и перестанет платить? Придется мне тогда, самое лучшее, пойти в шоферы на грузовик…
— Ну и шут с ним, пусть перестанет. Сами заработаем. Я, например, могу… — Долорес осеклась. Под рукой у Андре еле заметно поднималась и опускалась ее грудь. Долорес повернулась к нему. — Ничего, мой сладкий, справимся! Найдем выход. — Она прижалась к Андре, положила ему на плечо подбородок. — Ой! Глаза слипаются. Я уже совсем… — И Долорес сморил сон на полуслове.
А Андре так и лежал не смыкая глаз, пока ранний рассвет не просочился в комнатку. На плече у него покоилась голова Долорес, рука затекла, но Андре не смел шелохнуться. По всему телу словно разлилась волна нежности. Он зарылся лицом в роскошные светлые волосы Долорес, любуясь, как блестит нежная кожа у нее на плече.
Моя Долли. Втрескался по уши. До обалдения. Так бы всю и съел. Подумать только, у меня — белая девушка. Боже ты мой! Ну нет, мои дела не так уж плохи.
XVII
Наследующее утро, когда Андре спешил по коридору в аудиторию, его окликнул Дик Бейрок.
Андре нехотя остановился.
Тьфу ты! О чем с ним говорить? Он, конечно, ни при чем, но все-таки…
— Вот, слава богу, что тебя поймал, — задыхаясь от бега, проговорил Дик. — Тебя вчера не было на занятиях, мы все испугались, что ты… Отец с мамой по барам рыскали на Девяносто седьмой, тебя искали…
— Искали? Что ты несешь? Меня ж отец твой выгнал.
— Фу-ты ну-ты! Пора бы уж отца раскусить. Разойдется дальше некуда, а потом сам жалеет. Послушай, я сейчас убегаю, а ты… В общем, мама просила передать, захочешь вернуться, я после занятий пригоню грузовик, перевезем твое имущество.
— Вернуться? Мне? Черт… Значит… как это… В общем, я уже устроился и…
— Ах так! Ну что ж… — произнес Дик, отходя. — Словом, вот что, захочешь, приезжай в любое время.
Ах ты, чертова петрушка! Ну что за люди, кто их разберет!
Андре едва не налетел на Джимми Бейли в дверях аудитории.
— А! Привет, Андре! Э-э… как там у тебя с хозяевами, обошлось?
— Выставили меня.
— Да ты что!
Андре протиснулся мимо Джимми, отыскал свободное место, швырнул книги на стол. Джимми не отставал. Он стал рядом, потирая большим пальцем ноздрю.
— Слушай… может, нам с ребятами еще деньжат наскрести? Если, конечно, это самое…
Тут возникли Билл Саймонс и Джейк Куилли. Заметив Андре, тоже подошли.
— Его хозяева выгнали, — сообщил Джимми.
— Ух ты! — произнес Куилли. — Где ж ты теперь живешь?
— Вообще-то могу и к Бейрокам вернуться. Хозяин вроде поостыл, только… — Андре пожал плечами, — тут у меня девушка появилась.
— Кстати о девушках, мы сейчас из кафетерия, — вставил Саймонс, — там Долли нас заарканила и сказала, что забыла тебе вот это передать. — Он кинул Андре на стол ключ. — И еще просила напомнить, чтоб ты подождал, пока свет в комнате, где старуха птичек держит, зажегся, — хоть я и не понял, в чем дело.
— Так, значит, вот кто у тебя — Долли? — воскликнул Джимми Бейли.
— Ну да.
Трое парней переглянулись.
— Для того чтоб разок переспать, Долли в самый раз, — произнес Джейк Куилли с нервным смешком. — Но вообще…
— Что «вообще»? — взорвался Андре. — Между прочим, когда я, как собака, дрожал на морозе, она единственная меня приютила…
— Да такой прямая дорожка в бордель! — фыркнул Билл.
— Заткни пасть! Она одна из всех вас ко мне хорошо относится.
— Да ради бога! Нравится тебе — пожалуйста…
В этот самый момент в аудитории появился преподаватель, и все трое разошлись по своим местам.
В последующие две недели Андре пребывал в состоянии счастливого опьянения. Утром ходил на занятия, усердно корпел над книгами весь день, а по вечерам тайком проскальзывал в подвал к Долорес. Она все твердила, чтоб он занимался, но едва он заканчивал, они вдвоем наслаждались любовью, пока не засыпали в объятиях друг у друга. Заботы о деньгах, мысли о прошлой жизни, планы на будущее — все меркло перед неизбывной сиюминутной радостью.
Андре было наплевать, что сокурсники стали на него коситься. Ему даже ни разу не пришло в голову сообщить в канцелярию, что у него изменился адрес. Он начисто позабыл и про отца Пепэна, и про очередную месячную плату за учебу. Кроме Долорес, не существовало ничего. Днем, когда ее не было рядом, Андре то и дело думал о ней, чувствуя, как при этом сладко сжимается и ноет сердце.
Но вот однажды во время лабораторной Андре внезапно вызвали в канцелярию, и это сразу как-то отрезвило его.
— В соответствии с правилами каждый студент обязан сообщить свой адрес и номер телефона, — сухо сказала женщина из канцелярии. — Если вы переезжаете, должны заявить об этом, а вы ведь как будто переехали? — Она помолчала, выжидательно нацелив карандаш на соответствующую графу в карточке.
— Куда переехал? — Андре похолодел, сообразив, что не может сообщить свой адрес. — Я… я не знаю. Я могу показать, где…
Женщина презрительно фыркнула.
— Вы хотите сказать, что не знаете, где живете? Ну что ж, узнайте, пожалуйста, а заодно и номер телефона. И сообщите мне не позже завтрашнего утра — перед занятиями. Кстати, вас ожидают в кафетерии, что в северном крыле. Католический священник.
— Отец Пепэн?
Но женщина уже отвернулась и принялась молча просматривать картотечные ящики.
Андре попятился из канцелярии, от стыда у него даже мурашки по спине пошли. Пробираясь через плотную толпу студентов, он двинулся в кафетерий. У входа в коридоре сидел отец Пепэн. Глаза его метали молнии.
— Ты что наделал! — рявкнул отец Пепэн, увидев Андре.
— А что такое, святой отец?
— Хозяин тебя прогнал из дома! Мебель поломал! Позволил себя облапошить! А когда тебя позвали обратно, посмел отказаться!
Привлеченные криком, проходившие мимо студентки повернули головы, уставились на Андре и священника. В глазах у девушек так и плясали смешинки; пройдя по коридору, они не удержались, прыснули, прикрывшись книжками.
У Андре запылали уши.
— Отец… вы бы выслушали сначала…
— Выслушал? Ну говори, где сейчас живешь?
— Я… какая разница где! В одном месте.
— В каком еще месте? Что за семья? Есть условия заниматься?
— А? Да… есть условия, есть.
— Поедем туда. Мне самому надо посмотреть.
— Н-нет, отец… Туда нельзя.
— Нельзя? — Брови священника взметнулись, переносицу перерезала глубокая складка, кончики усов задрожали от негодования. — Раз я плачу, я должен посмотреть.
Андре и не заметил, как сзади подошла Долорес, пока ее рука властно не сжала ему локоть.
— В чем дело, солнышко? — осведомилась Долорес и, взглянув на священника, спросила: — Кто это такой?
Андре поспешил освободиться от ее руки под угрожающее восклицание отца Пепэна!
— Кто она такая?
— Долорес, — робко начал Андре. — Ты бы лучше отошла, нам с отцом Пепэном нужно поговорить…
— Кто она такая? — настойчиво повторил отец Пепэн.
— Я его невеста, — нагло заявила Долорес. — Вопросы будут?
Наступила долгая пауза. Священник, вытягивая тощую шейку, переводил взгляд с Долорес на Андре и обратно.
— У вас с ней связь?
— Я, отец Пепэн… мы…
— Ты с ней имеешь греховную связь?
— Греховную? — возмущенно вскинулась Долорес. — Сам бы хоть разок попробовал. Тогда б, может, иначе заговорил…
— Долли!.. — беспомощно залепетал Андре.
Отец Пепэн не удостоил вниманием ни Долорес, ни ее слова. Негодующе поджав губы, он сердито уставился на Андре.
— Ты… ты пойдешь со мной! Тебе не место с этой… с этой… Ты должен жить в приличном доме. Запрещаю тебе с ней встречаться.
— Нет, отец, я не могу. Долорес и я… мы… нет, я не могу.
— Не могу? Ты хочешь сказать, что любишь ее?
— Я не могу бросить ее, отец. Она… мне… я не могу, отец.
Старик еле сдерживался, наливаясь краской от досады.
— Тогда женись. Что можно поделать…
— Мы сами сообразим, жениться нам или нет, — вставила Долорес. — Нечего нас учить. Меня вон всю жизнь пытались учить, тебя еще в учителя не хватало.
Отец Пепэн сделал отчаянное усилие над собой, чтоб сдержаться.
— Андре, наверное, сказал вам, что я плачу за еда учебу?
— Ну говорил, а при чем здесь это?
— Я не буду тратить на него деньги, если он не живет как праведник.
— Деньги? Да при чем тут деньги? Он в своем институте — молодцом, а что у нас с ним… так это никого не касается!
Отец Пепэн побагровел. На лбу налилась, задергалась жилка.
— Андре, как ты позволяешь этой девице так разговаривать со мной, твоим духовным отцом? Пойдем! Мне надо поговорить с тобой наедине.
— Ему от меня скрывать нечего, — отрезала Долорес.
У Андре задрожали колени. Он беспомощно переводил взгляд с Долорес на священника.
— Пойдем! — скомандовал священник.
Долорес схватила Андре за руку.
— Никуда он без меня не пойдет!
— Отец! — умоляюще протянул Андре.
Краска сошла с лица священника. Вне себя от гнева и отчаяния, Пепэн махнул рукой.
— Ты глупец! Ты хуже, чем глупец. Но теперь ни единого цента от меня не получишь. Хватит! — Он повернулся и зашагал прочь.
— Иди, иди! Кому ты нужен! — презрительно крикнула ему вслед Долорес. — Ничего, мальчик, я буду платить за твою учебу. Не тушуйся.
И она при всех открыто поцеловала Андре прямо в губы.
Потом, слегка отстранившись, Долорес порылась в кармашке и вынула пару тоненьких металлических, под золото, обручальных колечек.
— Гляди-ка, что я купила. Как сможем, так сразу всем и объявим. Нам уже по восемнадцати, и притом мне надоело каждый раз прятаться и жаться в своем подвале, а так мы утрем нос старухе Сэвчек!
Долорес взяла Андре за руку и с трудом надела одно из колечек ему на палец.
— Вот! А теперь, мальчик мой, подожди минутку. Мне нужно Эсси позвонить, прежде чем пойдем домой.
XVIII
Хотя Андре и не показал этого Долорес, на самом деле разрыв с отцом Пепэном потряс его.
Какой же я идиот! Правда, всегда терпеть не мог, если старый хрыч принимался совать свой нос повсюду и то и дело поучать меня, и все же… Тьфу ты! Как же мне теперь быть?.. Долли насела основательно, твердит, чтоб я не бросал учиться. Ладно, раз ей так хочется… Интересно, сколько им там платят, в этом кафетерии? Не думаю, чтоб много. Но, судя по всему, деньжата у нее есть.
Начиналась метель, с каждым порывом ветра ввинчиваясь в институтские закоулки потоками мелкого снега. Поджидая Долорес, Андре смотрел сквозь вьюгу на блестящее мозаичное панно на противоположной стене здания. Стоило ярким соцветиям слегка расплыться в снежной мгле перед глазами, как тотчас увиденное напомнило ему бисерный узор расшитых бабушкой оленьих мокасин, что она готовила на продажу. Бабушка уже давно умерла, но каждый раз Андре вспоминал о ней о тоской и щемящей болью.
Она вот знала свое место. Была метиской, и все. Никем другим быть не хотела. И никто ее ничему не учил. Так что же… Что же мне-то?.. — мучительно думал Андре.
Вприпрыжку выбежала Долорес, долговязая, как мальчишка. Лицо горело от возбуждения, зеленые глаза сияли.
— Скорей домой, пока метель не разошлась. Надо в магазин зайти, поесть купить. Ух ты! Не терпится поскорей поглядеть, как вытянется у старухи рожа, когда она узнает. — Долорес распирало от радости. — Вот войдем в дом, вниз спустимся и нарочно будем громко разговаривать. Она услышит мужской голос, тут же заявится с криком — а мы ей обручальные кольца под нос: нате, пожалуйста!
— Долли! Тьфу ты… зачем все это!
— Как зачем? Вот уж смеху-то будет!
— Тоже мне, смех. Давай пошли-ка скорей, ладно? У меня дел полно…
Вечер выдался ненастный, порывистый северо-западный ветер набрасывался снежными вихрями. Перчаток не было, и Андре, тащась рядом с Долорес по заснеженным улицам, втянул руки поглубже в рукава, перекладывая то и дело на ходу книжки из замерзшей руки в другую.
У черного хода они столкнулись с хозяйкой, старуха выносила мусор в пластиковом пакете. Пока Долорес знакомила с ней Андре, та, поджав губы, пытливо рассматривала его, потом повела плечами, криво усмехнулась:
— Муж твой? Что ж, будет вам и подарок свадебный. Только мусор вынесу. — И она прошла мимо них, двинувшись навстречу метели.
Долорес с Андре стояли в заднем тамбуре, ожидая хозяйку. Андре было не по себе. Он не поднимал глаз на Долорес.
— Заходите, — пригласила хозяйка, протискиваясь мимо них в узком проходе, поднялась по ступенькам, скинула с ног мужские сапоги.
Андре с Долорес прошли за ней в дом, в ту самую маленькую комнату, что располагалась над жилищем Долорес. Миссис Сэвчек зажгла свет. Попугайчики в клетках, висевших по стенам, тут же захлопали крыльями, заклекотали, принялись кричать на разные голоса.
— Вот этот — вам, — сказала старуха, подходя к клетке с бирюзовой птицей. — Один для своей жены купил, а она птиц не уважает. Прямо с клеткой берите, еще корму дам ему на неделю. Ты ж, Долорес, говорила все, что птицу хочешь, — на, бери, красавчика! В самом соку, а я ему крылышки подсекла, не скоро отрастут. А пока отрастут, можно его быстрее приручить. Только не пугать и не обижать. У них память крепкая. Под шейкой почешите, он привыкнет, только хвост не трогайте. Не любят.
До сих пор Андре видел попугайчика всего один раз, и то мельком, проходя мимо зоологического отдела универмага «Итон». Когда он сидел за учебниками в подвале, а наверху поднимался птичий гам, это его раздражало, он никак не мог сосредоточиться. Сейчас же Андре глядел на маленькое существо в клетке, которую держала хозяйка, со смешанным чувством неприязни, жалости и восхищения. Птица уцепилась за прутик клетки, испуганные, круглые, черные, беспомощные, как у младенца, глазки не отрываясь глядели на Андре.
— Будет в папашу, бирюзовенький, с отливом. — И хозяйка указала на роскошного попугая в большой клетке.
— Надо же! Как вы добры, миссис Сэвчек, — произнесла Долорес, оставшаяся в дверях. — Прямо не знаю… Такого подарка мы не ожидали…
— Берем, мне он нравится, — сказал Андре, забирая клетку у старухи. — Ой, надо же, спасибо большое! Его что, так в клетке и держать?
— Зачем? Вы его почаще выпускайте. Вот, смотрите… — Она распахнула дверцу большой клетки, и тот самый восхитительный бирюзовый попугай выпорхнул, сев хозяйке прямо на руку, прошелся до плеча, приласкался к шее и вдруг отчетливо, так что Андре от неожиданности рот разинул, произнес:
— Сержи красавчик. Серж любит Ольгу.
— Ух ты! Он… это он…
— И ваш заговорит, если у вас терпения хватит. Так с любым зверем. Верный путь к душе — через желудок. Дайте ему… ну, хоть груши, банана или яблока, хоть еще чего, каждый раз, как из клетки выпускаете, и так недели две, тогда будет ручной, как Серж.
— И говорить будет так же?
— Ну, говорить… Для этого много времени надо.
Андре попятился к двери, держа клетку с птицей в одной руке, мешочек с кормом — в другой. Ему не терпелось поскорей спуститься вниз и выпустить попугайчика из клетки.
Долорес с недовольным видом шла за ним.
— На что тебе эта дурацкая тварь? — холодно спросила она, лишь только они закрыли за собой дверь. — И так сверху их трескотни хватает.
— Никогда не думал, что они такие умные. — Андре поставил клетку на стол и, улыбаясь, смотрел на птицу.
— Ты не забыл? В магазин надо сходить.
— Ах да! Слушай, сходи ты, ладно? Я хочу его выпустить полетать. Кстати, не забудь купить ему груш, яблок, всякого такого.
Долорес раздраженно фыркнула и вышла, хлопнув дверью.
Примерно через час, вернувшись, она застала такую картину: Андре сидел, выставив указательный палец, а на кончике пристроился попугайчик, вертя головкой от наслаждения, поскольку пальцами другой руки Андре почесывал ему шейку.
— Ты посмотри, какой шельмец! — давился от смеха Андре.
— Ах боже мой, радость какая! Хоть бы кофе поставил.
— Я назову его Габриэлем.
— Как?
— В честь Габриэля Дюмона.
— Это еще кто?
— Самый выдающийся метис во все времена, правда, Габи? — Андре нежно потянулся носом к клювику птицы, попугайчик сначала отпрянул, но потом сам потянулся навстречу и осторожно, едва-едва, коснулся клювом ноздри Андре.
— Гляди-ка! Надо же. Признал меня.
— Послушай, ненаглядный! Оставь ты свою птицу, давай лучше поужинаем.
Андре подчинился без разговоров. Он принялся накрывать на стол, в то время как Долорес резала лук на сковородку, где жарились бифштексы.
— Гляди-ка, — усмехнувшись, произнесла она, — как твой старикашка Пепэн рассердился, когда я его сегодня отшила!
Внезапно Андре охватила злость.
— Нехорошо как-то все вышло. Ясно, конечно, ему прихвастнуть охота, дескать, вот, метиса школу кончить заставил, всякая такая дребедень, только… — Андре умолк, перебирая в руках разрозненные ножи и вилки. — Только все-таки, наверно, он делал это искренне. И потом, если тебе так хочется, чтоб мы поженились, зачем же, черт возьми, дразнить старика?
— Подумаешь, дело какое! — Долорес резко повернулась к Андре, негодующе блеснув глазами. — И ты — кретин, если позволяешь какому-то старикашке в рясе вертеть тобой, как ему вздумается.
Когда она злилась, Андре терялся.
— Долли! Ну, черт… ну не сердись, пожалуйста… Я просто хотел сказать… — начал он, запинаясь.
Но Долорес отвернулась к плите. Накрывая на стол, Андре бросал в ее сторону виноватые взгляды, однако Долорес не произнесла ни слова, пока не пришло время раскладывать бифштексы по тарелкам.
— Сольешь картошку. Мне некогда. Я к Эсси бегу.
— К Эсси? Это еще зачем? Ты ведь только что с ней…
— Мне надо к Эсси, понятно?
— Зачем?
— Ну, прическу помочь сделать, — раздраженно огрызнулась Долорес.
Она молниеносно поужинала, не удостоив больше Андре ни словом. На ходу допив кофе, Долорес выбежала из комнаты, оставив Андре одного посреди вороха грязной посуды.
Он убрал, вытер со стола, разложил учебники.
Вот черт! Противно как-то. Вроде причин особых нет, а вот поди ж ты…
Когда к одиннадцати вечера Долорес вернулась, Андре все еще сидел за учебниками, а малыш попугайчик уютно примостился у него на плече.
Лицо у Долорес побелело от мороза, но вид был торжествующий, глаза возбужденно сияли. Андре потянулся помочь ей снять пальто, и она тут же чмокнула его в щеку. От нее пахло какими-то незнакомыми духами.
— Ну что, мальчик, в постельку? На сегодня занятий хватит!
Тут Долорес заметила попугайчика у Андре на плече и отпрянула.
— Мерзкая птица! Немедленно запихни ее в клетку!
XIX
В последующую неделю события развивались стремительно. Днем в понедельник Долорес потащила Андре в центр в поликлинику для иногородних, где им сделали анализ крови. В пятницу Андре не пошел на занятия. В сопровождении Эсси и какой-то девицы, ее имени он так и не разобрал, они с Долорес отправились на автобусе в магистрат зарегистрировать свой брак.
Та, неизвестно кто, была сильно простужена и во время краткой официальной церемонии беспрерывно сморкалась.
Перед тем как поставить свою подпись в графе «свидетель», Эсси перевела взгляд с Долорес на Андре, покачала головой:
— Кошмар! Вы оба просто спятили.
— Никогда еще с таким удовольствием не отдавала четырнадцать долларов, — тарахтела Долорес. — Это надо отметить. Угощаю всех бифштексами по-гамбургски.
Та, неизвестно кто, еще громче шмыгнула носом.
— Без меня. Пойду домой, лягу.
— И я не могу, — отозвалась Эсси. — Мне надо туфли купить.
— Завидует, — самоуверенно заявила Долорес, когда они с Андре смотрели вслед удалявшимся девицам.
— Да шут с ней. Пойдем пива выпьем.
— Пива? Что ты, родной, нам надо экономить! Притом к завтрашнему дню я приготовила тебе сюрприз. Ну а сейчас… — Долорес тихонько рассмеялась. — Будто нам дома заняться нечем!
Примерно в половине девятого вечера они решили, что хватит любовных утех, пора бы поесть.
— Насчет пойти домой это ты хорошо придумала, — сказал Андре, хлопнув ее по заду, когда она нагнулась за шлепанцами. — Куда лучше, чем пиво пить, это точно.
Поужинали, и Андре решил выпустить Габи из клетки. Птица взлетела ему на плечо и принялась деловито исследовать клювом ухо.
— Погляди-ка, Долли! Решил уши мне почистить, — проговорил Андре, радостно хохоча.
— Смейся, смейся, сейчас он тебя укусит.
— Еще ни разу не куснул.
— Зато меня кусал.
— Чует небось, что ты его не любишь.
Долорес фыркнула.
— Тебе что, еще заниматься?
— Сегодня-то? Да нет, шабаш, хватит!
— Завтра днем нам домой нельзя. До ужина надо потерпеть.
— Это еще почему?
— Сюрприз. Поэтому сегодня сделаешь задание на послезавтра.
— Да ты что? Спятила?
— Сегодня, мальчик, посидишь.
Вот, докатился! Занимайся теперь, когда она скажет!
— Мы им покажем. И Торвальду, и отцу… и Эсси… и твоим институтским приятелям. Мы с тобой им покажем. — Долорес уселась к нему на колени. — Ты у меня молодец.
— Да уж наверное, — пробурчал Андре, остывая, позволяя ей ласкать себя. — Вроде и лабораторные теперь стали получаться. Да и вообще теперь легче запоминается…
Долорес рассмеялась, обвила ему шею руками. Но тотчас, вскрикнув, вскочила, озабоченно уставившись на крохотную треугольную ранку на руке.
— Чертова птица, опять укусила!
— Тьфу ты, Долорес! Ты ж его напугала.
— Будет меня кусать, я ему еще не то устрою.
Андре вздохнул и взялся за учебники. К понедельнику надо было писать сочинение. Язык у Андре шел туговато.
Пока он мучился над сочинением, Долорес уселась за стол напротив него и уставилась на Андре, грызя ногти. Негромкий треск обкусываемых ногтей отдавался посреди тишины дробной канонадой в ушах Андре. Время от времени Долорес принималась заговаривать с ним. Когда же она в третий раз какой-то пустой фразой перебила ему ход мыслей и он не мог вспомнить предложение, что только сложилось у него в уме, Андре, пряча досаду, с усмешкой проговорил:
— Хоть бы учебник геологии взяла полистала. Там и картинки есть.
— Ах так! Уж и поговорить с тобой нельзя? Ну и скучища! Ты, значит, работаешь, а я — на тебя смотри?
— Сама твердишь, чтоб я учился. А я не могу заниматься и болтать одновременно.
— Ну и пожалуйста! — обиженно вспыхнула Долорес и двинулась в спальню.
Но уже назавтра, когда они оба сходили днем с автобуса на Джэспер-авеню, Долорес пребывала в благодушном настроении. Они бродили по залитым зимним солнцем улицам, толкаясь в толпе прохожих и пялясь на витрины больших магазинов. Стоял один из таких дней позднего января, когда свежесть воздуха уже сулит приход еще неблизкой весны и глаза слезятся от ярко сияющего на солнце снега.
— Может, в кино сходим? — предложила Долорес.
— Ну уж нет. В такой день надо на природу, в лес.
— Смеешься?
— Слушай, есть же тут хоть где-нибудь место, чтоб деревья росли и машины воздух не портили?
— Ну есть, парк например. Прямо у здания парламента, — нехотя отозвалась Долорес.
— Парк, говоришь? Ну так пошли в парк.
Они повернули к югу, направились к реке, что текла через город, зашагали по старым, обсаженным деревьями улочкам и вышли к той части города, где находились правительственные учреждения. Обошли здание парламента с южной стороны, где солнце, посылавшее лучи на особняк из известняка, казалось особенно жарким. Однако само здание не понравилось Андре.
— Пойдем-ка лучше к реке спустимся!
— Там снег, я не пройду.
— Да вон же спуск, и расчищено вроде.
По бетонным ступенькам они спустились к дороге, пошли по ней, прижавшись друг к другу.
— Красиво, правда? — сказала Долорес.
Красиво? Господи, что ж это они с бедными деревьями-то сделали! Как это можно так елки обрезать? А тополя!.. Тьфу ты! Будто человеку взяли да и отрезали, руки, и у него тогда в рост другие части пошли, только что с ними делать — он не знает.
И когда Долорес предложила вернуться в центр поглазеть на витрины, пока, как она выразилась, не «приспеет» пора идти домой, Андре с облегчением согласился.
У дома миссис Сэвчек, засовывая ключ в замочную скважину, Долорес вся пылала от возбуждения.
Андре переступил порог их жилья. И сразу же заметил — у стенки, явно не на своем месте, стоял телевизор.
— Что за черт!
— Это пока дешевый, черно-белый. Зато теперь, когда ты занимаешься, я перестану сидеть как квашня, умирая от скуки.
Долорес присела на корточки, щелкнула тумблером и, пока не появилось изображение, обернулась к Андре.
— Ты рад?
— Еще бы. Только как мне теперь тут заниматься?
— Привыкнешь.
Внезапно Андре охватила тревога.
— Послушай, Долли… эта штука ведь черт знает сколько стоит. Откуда у тебя…
— Милый! Ведь ты же, как въехал, дал мне почти полторы сотни.
Долорес вскочила, кинулась к Андре, принялась его щекотать.
По телу Андре пробежала волна неприятной судороги. Он скорчился, повалился на пол.
— Прекрати! Прекрати! — молил он, хватая Долорес то за одну, то за другую руку.
— Откуда, говоришь, мой сладкий? Какая тебе разница — откуда? Есть у нас телевизор, и все. Успокойся, садись и смотри, а я пока соберу поужинать.
XX
Резко похолодало, и мороз не ослабевал, однако первая половина февраля прошла для Долорес безмятежно. Облачившись в теплые свитера, куртки, боты, теплые перчатки, обвязавшись шарфами так, что только нос торчал на морозе, они с Андре сновали туда-сюда — от дома до института и обратно. С детства привыкшая к суровой жизни, Долорес легко переносила холода.
Тревожило ее совсем другое.
Надо пойти к врачу, чтоб таблетки выписал. Противно, конечно, но ничего не поделаешь. Сами себе яму-то роем — вдруг что, придется с работы уйти, а он еще учиться не закончит. Ой, не знаю, не знаю!.. Хотя вон у нас, в Фиш-Лейк, Мэри Беттери, сроду никогда никаких таблеток. И только через восемь лет забеременела. Нет, все-таки не должно, не может быть…
Надо бы Андре перчатки купить. Вторую пару посеял. Как бы его приучить за вещами смотреть? Еще свитер бы ему, логарифмическую линейку… все деньги, деньги. На еду сколько уходит — таскаю, таскаю сумками домой, а в холодильнике все пусто.
Хватит причитать! Целый день только и знаю, голову ломаю, где деньги взять. Сегодня, кстати, все магазины открыты. Эсси, правда, носа не кажет, с тех пор как я замуж вышла… Сама небось без денег сидит. Всю неделю на работу не показывалась. Не думаю, чтоб у нее что серьезное. Позвонить бы. Нет! Мать может к телефону подойти. Возьму-ка прямо и зайду. Ах, черт, нового проездного не купила, неужели пятьдесят центов выбрасывать? Пешком пойду. Авось не замерзну. Что мне мороз, подумаешь!
Открыв ей дверь, мать Эсси даже не пригласила Долорес войти.
— Эсси в Ванкувер уехала. Понятия не имею, куда, к кому. Не пишет. — И она сердито захлопнула дверь перед самым носом Долорес, дрожавшей от холода на покрытом инеем крыльце.
Долорес, едва сдерживаясь, чтоб не расплакаться, закусила губу. Она шла по улице, и ее душили слезы.
Уехала! Хоть бы слово сказала… Как я теперь одна в магазине управлюсь? Ах ты, черт! Хоть бы Андре ел поменьше…
Ее затрясло, мышцы свело от холода.
Бр-р-р! Холодина. И ветер еще прямо в лицо. Надо бы заслониться, не то лицо отморозить недолго. А тут — еще нога левая, чтоб ее… Пальцы закоченели. Попробую шагать побыстрей.
Спустились сумерки, в воздухе летали, кружась, редкие обледенелые снежинки. Над городом повисла зеленоватая мгла. У фонарей подрагивали облачка света, а сугробы между столбами утопали во мраке. Тихонько постанывая от холода, Долорес брела по улице: темнота, свет, снова темнота.
Когда она ввалилась в комнату, Андре сидел у телевизора, глядя веселую детскую передачу, и грыз шоколад, делясь крошками с Габи.
— Где ты была? О господи, Долли! У тебя лицо отморожено.
— Нога тоже. Помоги снять сапоги.
Когда Андре снял сапог у нее с левой ноги, оказалось, что нога побелела, пальцы начали синеть.
— Снегом потри, — попросила Долорес.
— Не поможет. Лучше всего в ванну, не очень горячую.
Погрузившись в ванну, Долорес взвыла от боли. Андре обтер ее полотенцем, отыскал в шкафу старую фланелевую пижаму. Укутавшись двумя одеялами, Долорес пристроилась у батареи, дрожа от пробиравшего ее озноба. Нога, щеки и нос покрылись блестящими, водянистыми волдыриками, просвечивавшая под ними покрасневшая, тусклая кожа казалась неживой.
Подавая Долорес тарелку с горячим супом, Андре спросил:
— Все-таки, где ты была?
— У Эсси.
— Прямо жить без нее не можешь. Надо было в такую холодрыгу переться.
Долорес молча поплелась в спальню.
На следующее утро она не смогла подняться и на работу не пошла. Так и проспала до середины дня, но мысль о том, что в доме нечего есть, заставила ее подняться. Долорес встала и с радостью отметила, что сильно обледеневшее за месяц стужи окно начало понемногу оттаивать.
Слава богу, потеплело! Оденусь-ка. Интересно, сапоги-то можно еще носить? Надо в магазин, на три доллара накуплю несколько пачек «обедов-полуфабрикатов», пачку овсянки и сухого молока. Пока хватит. Может, завтра на работу пойду.
Но не успела она добраться с сумками до дому, как ей стало ясно: на работу она не только завтра, а еще несколько дней ходить не сможет. Распухшей, обмороженной ступне было до боли тесно в сапогах. В последующие трое суток Долорес не выходила из дома. Она сидела, положив ногу на кухонный стул, уставившись в экран телевизора, и все ломала голову: где бы достать денег. Опасалась, что Андре вот-вот начнет роптать от однообразия пищи, но он этого словно не замечал.
В пятницу, после занятий Андре с шумом ворвался в комнату.
— Красота! Благодать на улице. Видать, скоро…
— Где твои боты?
— Не знаю, прихожу в раздевалку, а их там нет…
— Ты что же, не запер их в свой ящик?
— Я…
— Так, боты, учебники, логарифмические линейки… Что дальше?
— Слушай, черт подери! Что я, без бот не обойдусь?
— Ну а если опять мороз?
Андре, виновато моргая, потупился, уставился на лужицы, стекавшие с ботинок, и молчал.
— Ладно, куда деваться, — Долорес вздохнула. — Ни за чем до понедельника выходить не будем, в понедельник — получка. Как раз на работу выйду, а во вторник выходной. Может, повезет, продержится теплая погода. Расплачусь со старухой Сэвчек, продуктов накуплю, потом в центр смотаю, присмотрю тебе боты. У тебя какой размер, десятый?
Хозяйка повысила квартплату на десять долларов. Цены на продукты подскочили, а это значило, что при всем желании денег у Долорес останется разве что на галоши.
Это что же, совсем без гроша до очередной получки? Черт бы побрал эту Эсси! Ладно, отправлюсь в центр, похожу, посмотрю. Может, обломится что.
И обломилось. Долорес поняла, что ей крупно повезло.
Дело шло к вечеру. Весь день Долорес прослонялась по трем крупнейшим в городе универмагам. Она устала от постоянного высматривания, сильно проголодалась.
К дьяволу, хватит! Спущусь в подвал, где у них уцененные товары, куплю Андре галоши, и все…
Проходя через секцию меховых шуб в универмаге «Хадсонз-Бей», она углядела прилично одетую матрону, беседовавшую с другой, помоложе, видно дочерью; та слушала мать рассеянно, то и дело поглядывая на своего двухлетнего малыша, он устал и все время хныкал.
Матрона открыла сумочку из дорогой кожи, вынула пачку сигарет и зажигалку, как раз в этот момент показалась продавщица с роскошным манто из голубой норки.
— Вы такого тона хотели, миссис Соддерстром? — спросила продавщица, выкладывая манто на прилавок. — Вот, пожалуйста, — она подула на мех.
Матрона кинула сигареты в сумочку, поднялась и подошла к прилавку. Раскрытая сумочка осталась на стуле.
— Ну что, нравится тебе, Берта? — спросила матрона дочь.
Та, повернувшись спиной к малышу, подошла вслед за матерью к прилавку посмотреть манто.
Долорес подвинула кронштейн с меховыми пальто, чтоб загородиться от дам, воровато огляделась, затем, сдвинув брови и сделав страшное лицо, двинулась на малыша. Тот, раскрыв рот, взвизгнул от страха и кинулся к матери, зарылся лицом ей в юбку.
Воспользовавшись тем, что внимание женщин было отвлечено ребенком, Долорес с невозмутимым спокойствием — эх, жаль, не было рядом Эсси! — взяла из открытой сумочки бумажник и направилась в дамский туалет. Она вошла в кабинку, закрыв за собой дверь, и дрожащими руками развернула бумажник. Вытащила деньги, сунула в карман, запихнула бумажник поглубже в корзинку для мусора, потом поспешила вон из универмага.
Придя домой и закрыв за собой дверь, Долорес пересчитала деньги.
Боже! Почти шестьсот долларов! Спасены. Ах, если б можно было Андре рассказать… С эдакими деньгами до лета дотянем. Ну а летом, может, подыщет денежную работу…
Если б только не это… У-ух! Увидала того чертенка в магазине, сразу в голову ударило… Глупости, чего зря себя травить. Завтра непременно к врачу запишусь.
Голос регистраторши в трубке звучал холодно, устало:
— Я вас слушаю, миссис Макгрегор… Так… так… Когда у вас в последний раз были месячные?
— Когда?.. Я… я посмотрю…
— Будьте добры. Я подожду.
Долорес вновь взяла трубку, проговорила, натянуто смеясь, скрывая смятение:
— Надо же! У меня почти неделю задержка. Нет, это ничего не значит… У меня… у меня… раньше тоже так было.
Но сама она понимала, что это значит. Поделиться с Андре своими опасениями Долорес не решалась. Ей предстояло провести целую неделю в напряженном, беспокойном ожидании приема. За это время они несколько раз схватывались с Андре по пустякам.
На прием к врачу Долорес явилась на час раньше назначенного. Она была так напугана, что ее больше не смущала даже процедура осмотра.
Когда все кончилось, врач взял Долорес за обе руки и произнес:
— Таблетки, дорогая, вам больше ни к чему. По крайней мере сейчас. Вы беременны, срок — шесть-семь недель.
Долорес мигом поднялась, села:
— Я? Да вы что? Этого не может быть!
— Что ж, мы, конечно, проверим по анализам, но у меня нет ни малейшего сомнения.
XXI
Андре вышел из института и направился домой. Лучи вечернего солнца ласково грели щеки. Потоки талой воды неслись вдоль обочин, стремительно стекая в водосток. Весна, подумал Андре, ей-богу, весна! Он вдохнул полной грудью, расстегнул куртку. И все-таки не настоящая. Городская. К чертям бы собачьим эти дома-коробки, все эти по линейке расчерченные дворы и площадки. Деревьев бы побольше. Да тут ничего и не растет, ни травинки под ногами.
А скоро ведь верба сережки развесит… Боже ты мой! Бывает, так в лес потянет, даже на губах лесной привкус. Интересно, как там сейчас мои старики? И от Синички давно нет вестей.
Надо бы Долли со стариками познакомить… только когда вот, не знаю. А вдруг… Да нет, глупости! Ведь знает же, что я метис. Подумаешь, отец ее, чем он лучше? Да и мать, если на то пошло?
С Торвальдом, с тем вообще не видимся. Долли к нему будто и не тянет. Кто их там, этих белых, разберет! Вот Симона, может, она где-нибудь тут в городе пристроилась?.. Пусть я к ней и не очень-то… все же повидаться б неплохо. Чудно, Долли про Торвальда будто и думать забыла.
Андре переложил тяжелые книги из руки в руку. Чертовы учебники! Как откроешь, так воротит… И будильник проклятый, не дает поспать вволю. Вставай, мол, на занятия пора! Прямо по нему и спать ложись и за стол садись! Слава богу, хоть с Долли без его указки обхожусь.
Андре вздохнул. Эх, если б не Габи… Во дает! Ох и смышленый, мерзавец! «Андре, — говорит, — сукин сын, давай поцелуемся!»
А Долли его терпеть не может. Ну уж нет!.. Без Габи прямо не знаю, что б я делал…
Андре отворил калитку во дворик миссис Сэвчек и двинулся по нерасчищенному снегу прямо к черному ходу. Над головой, хрипло о чем-то судача, пролетели две вороны.
Вон и вороны! Надо же! Весна пришла. Надо Долли вытащить. Пойдем гулять… куда глаза глядят. В парк, к реке… все равно куда.
Андре сбежал по ступенькам вниз, ворвался в комнату.
— Долли! А ну-ка…
Дверь спальни закрыта. Из-за двери доносились приглушенные рыдания. Андре открыл дверь, заглянул:
— Эй, Долли! Что такое?
Она не отвечала. Глаза после яркого солнечного света еще не освоились с полумраком, он с трудом различал силуэт Долорес: она лежала в позе отчаяния, уткнувшись лицом в подушку.
— Да что с тобой, Долли? — Андре присел на кровать, уставился на Долорес.
В чем дело, что с ней такое? Вот черт! Воет, как пес Вонючка, угодив хвостом в капкан. Не хватало, чтоб она, как мать или Симона, принялась кастрюльками бросаться, орать… Они-то хоть таких концертов не закатывают.
Он все еще был под впечатлением от недавней прогулки под весенним солнцем и, застав дома такую картину, едва сдерживал раздражение:
— Ну, Долли же! В чем дело…
Захлебываясь от рыданий, она бросилась к нему на шею, уткнулась носом в плечо.
— Андре, я… я беременна.
Андре замер — не ослышался ли?
— Ты… ты… у нас будет ребенок?
Он с силой оторвал Долорес от себя, заглянул ей в лицо. Не открывая глаз, она кивнула. Руки у Андре опустились, Долорес, плача, снова уткнулась ему в плечо.
— Это точно?
— Доктор сказал.
Возбуждение охватило Андре, отпустило, снова накатило. То ли в шутку, то ли всерьез он затряс Долорес за плечи.
— Нет, правда? Фу ты, ну ты! Радость-то какая!
Андре разжал руки, Долорес упала на подушку, а он принялся расхаживать по комнате, возбужденно тыча кулаком в ладонь.
— Ничего себе! Папашей буду!
Долорес ошарашенно уставилась на него красными от слез глазами.
— Ты что, сдурел? А как же учеба? Я же работать не смогу…
— Учеба? Да ну ее к шутам! Я и так мечтаю поскорей уйти оттуда, хлопнуть за собой их стеклянной дверью.
— А дальше?
— Дьявол его знает. Какая разница?
Долорес вывалилась из постели, запутавшись в куче одеял, освободилась, поднялась на ноги, гневно взглянула на Андре.
— Не смей! Не смей!
— Это еще почему?
— А потому! Я хочу, чтоб ты стал человеком.
— Человеком? Бедным, забитым идиотом, живущим по будильнику, вот кем ты хочешь, чтоб я стал!
— Но Андре, нам же ничего не стоит дотянуть. Ничего! Если бы не это… — Долорес, опустив глаза, с отвращением посмотрела на свой еще плоский живот. — А может, все не так? Может, доктор ошибся? Может… — Внезапно она замерла, прижав ладони к животу. Медленно подняла голову, тяжело дыша открытым ртом, не мигая, взглянула на Андре.
— Я знаю, что делать! Помнишь ту Бесси Корни, из вашего института? Худенькая такая, в очках? Прошлой осенью она аборт сделала. Я спрошу у нее, как…
— Аборт? Это, чтоб они тебе?.. — Андре схватил Долорес за плечи, сжал ее худенькое, костлявое тело. — Прекрати, чтоб я этого больше не слышал, да я тебе за такие слова голову оторву!
— Пусти! Больно! — она отпрянула, поглаживая руками плечи. — Он мне голову оторвет! Прямо как отец Пепэн стал. — Долорес ткнула пальцами себе в живот. — Этот-то тебе на что?
— Он мне нужен. И молчи, когда я говорю.
— Ты спятил. Ты совершенно спятил! В этом году у тебя в институте все гладко. Еще осталось пару месяцев всего учиться до каникул! Надо только непременно хорошую работу на лето подыскать… Ведь если рожу, я работать не смогу.
— А тебе и не требуется. Уйду к чертям из института.
— Не смей так говорить!
— Долли!..
— Ну уж нет! — На ее лице появилось злое, жесткое выражение. Взгляд остановился, глаза сузились. — Значит, ребеночка хочешь?
— Да, черт побери, я хочу, чтобы у нас был ребенок!
— Будь по-твоему. Но только учебу ты закончишь. А не то… И нечего болтать, голову он мне оторвет!
Андре, сжимая кулаки, беспомощно уставился на нее.
Они не разговаривали четыре дня. В пятницу после лабораторных работ Андре пошел с однокурсниками в бар гостиницы «Кромдейл» выпить пива. Он смутно припоминал, будто подрался с Билли Саймонсом. Но не помнил, как добрался до дому. Проснулся на следующий день поздно с разбитой губой и жестокой головной болью. Из кухни доносился плач Долорес. Андре накрыл голову подушкой, снова заснул.
Проснулся только к вечеру. Услышал шипение душа: Долорес в ванной. Андре перевернулся на спину, заложил руки за голову. Все тело ломило, рта нельзя открыть, расквашенная губа давала о себе знать.
Ну что за кретин! Нажрался пива за чужой счет да еще и с кулаками на Саймонса полез. Опять коситься на меня будут. Чего хорошего? Мне ж с ними работать. Надо бы в понедельник самому поставить им пива. Возьму-ка у Долли десятку. Как выйдет из ванной, так скажу. Где у нее деньги-то лежат? Вроде она их в сумочку совала, где у нее помада, тушь и все такое.
Андре, пошатываясь, подошел к комоду, выдвинул ящик, вынул сумочку-косметичку.
Всего одна двадцатидолларовая бумажка? Столько брать нельзя, много. Возьму, все в баре спущу.
Андре открыл сумку Долорес, висевшую у зеркала.
Два доллара и мелочь. Если с этим пойти — мало, неудобно как-то. Попрошу, чтоб разменяла двадцатидолларовую бумажку.
Андре положил деньги обратно в сумочку-косметичку и сунул ее в комод, где она лежала, рядом со стопкой белья Долорес. И тут вдруг заметил, что из-под бумаги, проложенной по дну ящика, выглядывает помятый бумажный конверт. Андре поднял брови, вытащил конверт.
Чего, чего? Больше пятисот долларов?.. Боже милосердый! Откуда у нее столько?.. Андре снова пересчитал деньги, затем аккуратно сунул конверт туда, где тот лежал. Его охватила тренога. Он снова прилег на постель и уставился в пустоту, быстро соображая про себя.
Говорит, что получает два доллара в час… Даже если те деньги прибавить, что я ей дал, когда въехал… и квартплата, и еда, и телевизор, учебники, шмотки… Тьфу ты! Никак не может быть!
Язык прилип к небу, ладони покрылись потом.
В дверях появилась Долорес. Вид у нее был удрученный, нездоровый и крайне несчастный.
— Милый, — жалобно протянула она. — Я не могу, когда ты на меня злишься.
— Прекрати ныть! — раздраженно отозвался Андре.
— Ну вот, ты опять злишься… Ладно, злись, только учись, пожалуйста… Я знаю, ты можешь. Я знаю.
— Ах, знаешь? Ну ладно, пойду помоюсь.
Он долго не выходил из ванной. Разные мысли, противоречивые, путаные, роились в голове.
Наконец решил: нечего ходить вокруг да около. Надо все выяснить до конца.
Он оделся, причесался, и тут Долорес позвала его ужинать. В обычные дни бифштекс на столе считался королевским блюдом. Теперь же Андре ел, не чувствуя вкуса. Он даже не обращал внимания на кокетливые заигрывания Габи.
Андре размешивал ложечкой сахар в кофе. Ну так, сейчас…
— Долли, в понедельник я пою ребят пивом.
— Пивом?.. Но у нас же нет денег…
— Неохота в другой раз битым быть. Хватит и десяти долларов. Ребята злятся, а мне с ними работать.
— Послушай… но ведь у нас до получки совсем чуть-чуть осталось.
— Скажи-ка, Долли. — Андре набрал в легкие побольше воздуха, внутри у него все напряглось. — Откуда у тебя та куча денег, что ты прячешь в ящике?
Глаза у Долорес расширились.
— Как? Ты нашел…
— Откуда они?
— Мама дала.
— Мама? Ты же говорила, что мать и понятия не имеет, где ты живешь.
— Понимаешь, я тут написала Мэри Беттери. Соседке нашей, помнишь? И вот…
— Долли, ты врешь!
Она залилась краской до кончиков волос. Беззвучно шевелила губами.
— Откуда у тебя эти деньги?
— Хорошо, я скажу. В универмаге «Хадсонз-Бей» одна старая богачка выпялилась на норковое манто, ну я и вытянула бумажник у нее из сумки. Что ей эти деньги, подумаешь…
— Сколько там было?
— Я только боты тебе из них купила, ну, может, еще долларов тридцать потратила…
— А на что телевизор покупала?
— На то, что заработала…
— Долли, не морочь мне голову! Я не такой идиот. Даже если мы каких-нибудь пять центов будем в месяц откладывать, нам хватит твоей зарплаты только, чтоб платить за квартиру и на еду. Ну а телевизор? Даже самый паршивый? Говори, черт побери!
Долорес расплакалась, закрыв лицо руками.
— Я же все для тебя делала!
Андре вскочил из-за стола, бросился в спальню, хлопнув за собой дверью. Долго сидел там на краешке постели, у него дрожали руки. Долорес плакала в кухне.
Когда она отворила дверь в спальню, прислонясь к дверному косяку, словно ее не держат ноги, вид у нее был довольно жалкий.
— Что ты, Андре?
— Дьявол, не знаю, что и делать! Да прекрати ты к чертям свои причитания! Сдохнуть от этого можно!
— Я же все для тебя делала…
Не отдавая себе отчета в том, что творит, Андре принялся собирать в охапку разбросанную по комнате одежду.
— Андре, что ты? Не уходи, не надо! Честное слово, я не вынесу. Я не могу одна.
Он обернулся, посмотрел на нее, зажав в руке грязные носки.
— Думаешь про себя — ишь, ловкая какая, да? Просто тебе повезло покамест, и все. Повезло тебе, черт побери! Погоди, схватят тебя за руку… — и он внезапно о яростью швырнул носки поверх скомканной в кучу одежды.
— Андре, я больше никогда не буду! Честное слово, Андре, никогда!
— Попробуй только еще, и клянусь господом богом… Хватит с меня матери и отца с их делишками. Полицейским-то не зря деньги платят…
— Андре, ну не надо… Обещаю тебе… Я никогда больше…
Но Андре перестал теперь верить Долорес. Если не знал, где она, немедленно вспыхивали подозрения. Презирая себя, он стал отныне считать, сколько она тратит, сверял цены по чекам, сопоставляя с суммой в конверте.
Вроде поганого тюремщика стал. А сам-то… сколько сам на ветер швыряю. Теряю каждую неделю по учебнику. Слава богу, хоть аппетит не потерял, этот на месте.
Недовольство их жизнью возрастало в нем по мере наступления весны, которая, несмотря на незначительные атаки холода, нагрянула внезапно и неотвратимо. Только что Андре ходил в институт в ботах и куртке, и вот уж пора надевать легкие ботинки и рубашку с коротким рукавом. Как-то вечером по дороге к дому Андре загляделся на стаю гусей, пролетавших высоко над городом, спеша все дальше на север. Полет диких гусей наполнил его гнетущей тоской.
Сережки на ольхе, пушистые барашки на вербе. Лягушачье кваканье всю ночь напролет. На болотах дикие утки. Лосята выходят, оленята… Я ж индеец, я не могу без звуков, без запахов весны. Как там мои? Мать, старик… Сколько уж я их не видел. Интересно, что Долли скажет, когда их… Говорит, что для нее все метисы на одно лицо. Дьявол! А вдруг ребенок родится темнокожим уродцем в моего отца? Во мне-то много от белого. Но он не обязательно в меня пойдет. Каково тогда Долорес будет?
Бедная, бедная Долли! Да уж, туго ей приходится. Какой я ей сейчас помощник? И все-таки… с того дня, как у нее деньги нашел… Прямо прикасаться к ней противно.
А как свирепеет, когда я с Габи играю! Возмущается, что глупая птица ее в грош не ставит. Черт! Вот умора, когда Габи ее передразнивает! Я ей втолковываю, мол, птица не соображает, что лопочет. Просто повторяет звуки, и все, а она не верит. Иногда кажется, вот возьмет и свернет Габи шею.
Как-то поутру Андре вызвали с занятий, велели зайти в канцелярию.
Хоть бы Долли не стало хуже, думал он, мчась по залитому солнцем коридору. Ей с утра, видно, нездоровилось, осталась дома, на работу не пошла.
Войдя в канцелярию, Андре увидел Исаака и Рейчел, те ждали его, неуклюже развалясь на стульях у стенки, у обоих к нижней губе прилипла сигарета-самокрутка. Комната пропахла родным, знакомым запахом новых мокасин из дубленой лосиной кожи.
XXII
Долорес открыла глаза, остановила взгляд на циферблате будильника, снова закрыла глаза.
Почти полдень — надо бы встать. В комнате все разбросано, но вставать… О господи! Если в таком кошмаре до родов жить, то хватит, пусть другие рожают! Даже запаха газет не переношу. А кофе… или табачный дым… так уж и подавно. Стоило ей вспомнить об этом, как уже внутри все зашлось. Долорес вздохнула, сделала над собой усилие, села в постели. Больше нельзя лежать. Надо одежду в чистку отнести, и еще…
— Не смей кусаться! — нахально произнес Габи из клетки.
— Заткнись ты, зверюга! — Долорес схватила большой теплый свитер и накинула на клетку. — Хоть немного отдохнуть от твоего скрипа.
Напялив старый ночной халат, который уже еле сходился на животе, Долорес бродила по комнатам.
Есть хочу. Умираю. А поем, тут же стошнит. Уф-ф. Пойду опять лягу.
Ребенок шевельнулся внутри. Долорес никак не удавалось удобно улечься. Хватит вертеться, сама знаю, что ты тут. Невелико счастье, конечно, что и говорить… еще месяцев пять терпеть. Доктор сказал, примерно двадцать восьмого сентября… страшно подумать! Сколько мама ужасов рассказывала про то, какие дети, бывает, рождаются… Астрид, например! А вдруг и у меня такое будет?.. Я не вынесу! Сама не знаю, что сделаю.
Ее охватил ужас. А вдруг… О господи, нет!.. Долорес уткнулась в подушку и заплакала навзрыд.
— Мама! Мамочка!
Стукнула дверь. Долорес сглотнула слезы, утерла нос.
— Это ты, Андре?
— Ты что, все еще в постели? К нам гости.
— Какие еще гости?
Долорес приподнялась на локте, заглянула в кухню.
За спиной Андре топтались двое, хорошо знакомые ей по Фиш-Лейк. Она не знала, как их зовут, но для нее они всегда были «грязные индейцы». Долорес вспомнила, как женщина, тыча палкой, рылась в вонючем мусоре на свалке. А мужчину она видела как-то на задворках, гостиницы, пьяный до омерзения, он едва держался на ногах. И вот сейчас эти оба вперились в нее мутными черными глазами, застывшими на широкоскулых, тупых лицах. У Долорес снова волна тошноты подступила к горлу, едва она уловила запах дубленой кожи мокасин. Она потянула одеяло к подбородку, хотелось укрыться, спрятаться от них.
— Кто… кто это?
— Мои старики.
— Твои?
— Ну да, мать и отец.
— Это… твои старики?
— Да. Может, встанешь, сваришь кофе, а?
— Кофе? Знаешь ведь, что меня от запаха воротит. Дверь закрой.
— Дверь? Ах, ну да. Конечно.
Долорес села в постели, не сводя глаз с закрытой двери.
Его родичи? Эти вот? О господи, если б я раньше знала… Нет, я просто безумная…
— Долли! — крикнул Андре через закрытую дверь. — У нас чай кончился. Да и родители наверняка пива хотят. Мы со стариком пойдем купим.
Долорес молчала. Она притаилась, прерывисто дышала, полуоткрыв рот.
— Ты б встала, с матерью поговорила.
— А?.. Да, сейчас, — с трудом выдавила из себя Долорес.
Она встала, шатаясь, принялась искать, что бы такое надеть на себя. Все теперь стало ей тесно. Наконец отыскала платье, в котором работала вчера целый день. От него пахло потом, перед точно в крови — забрызган томатным соком. Долорес натянула платье, застегнула молнию, взялась за дверную ручку, помедлила.
Поговорить? С кем… с этой?
Рейчел сидела, широко расставив ноги и упершись жирными локтями в жирные колени, разминала в пальцах сигарету из потрепанной пачки «Макдональд». Если б не один-единственный, как бы случайно скользнувший по Долорес взгляд, никак не скажешь, что Рейчел заметила ее появление.
О чем с ней говорить? Что ей сказать?
Тишина в комнате нарастала.
Рейчел зажгла сигарету, глубоко затянулась.
О господи! Хоть бы окно открывалось. Три дня уж Андре прошу…
— Как вы… как вы до города добрались? — еле слышно пролепетала Долорес.
— Как… Джон Мартино, — усмехнулась Рейчел.
— А-а…
Кто такой Джон Мартино? И чему она смеется? Что тут такого смешного?
Снова повисла мучительная тишина.
— Хорошо, что весна, правда? У вас там, наверно, красиво сейчас?
— Угу.
Молчание.
Прекрасно! Не хочешь разговаривать — не надо, тупая старая коровища!
Время тянулось в молчании.
Ох! Хоть бы Андре поскорей приходил! Окно бы открыл. Я больше не могу.
Долорес подтащила к окну кухонный стул, встала на него и принялась колотить ладонью по оконной раме, Рейчел с полным безразличием взирала на нее, продолжая пыхтеть сигаретой. Внезапно рама подалась, и фрамуга подскочила кверху, прищемив Долорес пальцы.
— Ой! Черт!..
Рейчел загасила сигарету об яичную скорлупку посреди немытой с завтрака тарелки и принялась за очередную.
— Как… как, по-вашему, Андре выглядит? — в отчаянии произнесла Долорес.
— Хорошо.
Протаскивая мимо Рейчел стул, чтоб задвинуть его под стол, Долорес бросила взгляд ей на голову.
Вшивая! Старая, грязная скотина…
Вошел Андре, волоча ящик пива, за ним топал Исаак с другим ящиком. Исаак водрузил свой ящик на кухонный столик, рванул на себя крышку, вынул четыре бутылки, одну за другой вскрыл их зубами. Мерзкие зубы, прямо клыки звериные, подумала Долорес.
Исаак отпил из одной бутылки и, скривившись, протянул ее Долорес.
— Чертовы зубы… уже не те стали. Пора открывалку покупать.
Долорес, едва подавив тошноту, уставилась на горлышко протянутой бутылки.
Мне пить… после него?..
— Давай-ка, Долли, телевизор матери включим, — сказал Андре, наклоняясь, чтоб повернуть тумблер.
Едва на экране появилось изображение, Исаак вытащил из-за стола свободный стул, подтащил поближе, плюхнулся на него, вытянув ноги и приподняв кепку со лба за козырек. Не отрываясь от экрана, смачно отхлебнул из бутылки, затем звучно рыгнул. Ни Андре, ни Рейчел при этом и бровью не повели.
Андре сел на пол.
А мне куда садиться? Тоже на пол, что ли, эти два чучела ведь стулья заняли… Черт побери, взял бы Андре да и выставил их отсюда! Вшивые дряни! Как он смеет меня с ними равнять!..
Долорес демонстративно вылила пиво из бутылки в раковину. Подавшись к Андре, она потянула его за рукав, мотнула головой в сторону двери.
— Ты что, знал, что они приедут? — шепотом спросила она, когда дверь за ними закрылась.
— Нет, откуда?..
— Ну и как, не думаешь ли ты их выставить? Я тебе не…
— Выставить? Это ж мои старики. Может, они у нас погостить захотят.
— Чего, чего? — тонко взвизгнула Долорес. — Чтоб они тут спали? Интересно, где ты их уложишь!
— Вы с матерью на кровати. А мы с отцом на полу.
— Чтоб я… с ней?.. У нее вши, может, она еще и клопов привезла!
Андре усмехнулся.
— Подумаешь, дело какое! Дегтярным мылом помоешься.
— Что?!
Он повел плечами, опять усмехнулся, открыл дверь, шагнул в комнату. Остановился посредине, кинул через плечо:
— В магазин бы лучше сходила. Чесночная колбаса очень к пиву годится, а мои сегодня не обедали.
Тут он заметил, что на клетку Габи накинут свитер.
— Ах ты, господи, Габи! Зачем она тебя так? — проговорил Андре, открывая дверцу клетки.
Попугай что-то залопотал, выпрыгнул из клетки и принялся радостно летать по комнате, потом наконец опустился к Андре на плечо и провозгласил:
— Бросай, Андре, все к чертям, давай поцелуемся!
Гости позабыли про телевизор. Рейчел с Исааком корчились от смеха. Исаак указал пальцем на птицу и произнес что-то на языке кри. Рейчел подхватила. Андре ответил им тоже на кри.
Ишь, по-индейски начали. Этого еще не хватало!
Все трое обменялись несколькими фразами на непонятном языке. После того Андре взглянул на Долорес, застывшую в дверях.
— Ну что, пойдешь за колбасой, Долли? Нам есть охота.
— Ах, колбасу тебе? Сам покупай. Я ухожу…
Долорес выхватила жакет из стенного шкафа в передней и выбежала на улицу.
Она брела наугад под теплым солнцем позднего апреля. Горки крупнозернистого песка, которым зимой посыпали обледеневшие тротуары, так и застыли, нетронутые, вдоль улиц. Несколько песчинок попало ей в туфли, они перекатывались при ходьбе, впиваясь в пятки. Долорес было все равно.
— О господи, — то и дело бормотала она про себя. — Господи, если бы я знала…
Долорес пересекла Кингсуэй, двинулась прямо по буйной траве к высокой ограде Промышленного аэропорта, вцепилась обеими руками в проволочную сетку. Перед глазами садились и взлетали самолеты, большие и маленькие, Долорес едва замечала их.
Маме бы сейчас все рассказать… Или даже Торвальду. А чем они помогут? Ничем. А отец?.. Ее передернуло. Ведь метисы же! Если он узнает…
Думала, вот как я все ловко устроила. Вот, мол, какая умница. Мало ли что Андре метис — был метисом… Окончил бы институт, получил бы работу, мы бы с ним… Пусть бы для этого пришлось воровать, ну так что же… А он только и знает, вопит, как ему надоело учиться. Вон он, сейчас, прямо расплылся весь, пиво хлещет с этими старыми, этими вшивыми… Именно, вшивыми… «Подумаешь, дегтярным мылом помоешься!» — передразнила она.
Шевельнулся ребенок.
Ну почему я, дубина такая, не догадалась вовремя от него избавиться?
Погруженная в мысли, Долорес бродила взад-вперед по заросшей сорняками полоске вдоль изгороди, не замечая, что солнце садится и становится прохладней; надвигалась первая весенняя гроза.
Внезапно порыв ветра пронизал Долорес холодом до костей, легкая не по погоде одежда облепила тело. Прогремел гром, принесенный ветром леденящий дождь окатил ее с ног до головы. Сцепив зубы, дрожа, прикрываясь от ветра рукой, Долорес, перебежав главную улицу, кинулась вперед, укрываясь под разметавшими кроны на ветру деревьями.
Когда она вошла в комнату, с одежды текло, а волосы висели мокрыми прядями. В ноздри ударил табачный дым, и снова откуда-то изнутри к горлу подступила волна тошноты.
Андре, едва оторвавшись от телевизора, бросил:
— Дождик на улице, что ли?
Долорес кинулась в ванную, еще не соображая, что лучше — нагнуться над умывальником, чтоб стошнило, а потом содрать мокрую одежду, или наоборот. Оказалось, выбора не было: ее стошнило.
Все еще тяжело дыша, вытирая влажные глаза, Долорес кинула мокрую одежду в ванну и надела старый махровый халат. Пальцы окоченели, и ей никак не удавалось завязать пояс. Босиком она прошла через кухню. Рейчел, слегка раскачиваясь на стуле, равнодушным взглядом проводила Долорес. В спальне на кровати, растянувшись во весь рост, храпел Исаак. Дорожка слюны пролегла от уголка рта к подушке. Ноги в черных калошах покоились прямо на белоснежном пушистом покрывале.
Долорес кинулась к нему, сжимая кулаки:
— Тварь поганая! Вон с моей кровати! Вон! Вон! Вон!
Смущенно хрюкнув спросонок, Исаак вскочил, заслоняясь от Долорес рукой.
Андре схватил Долорес, оттащил ее от отца.
— Что за черт! Ты сдурела?
Рейчел разинула рот, окурок упал на пол рядом с другими, веером усеявшими пол вокруг стула.
— Ты посмотри на нее! Посмотри на них обоих! — не унималась Долорес. — Свиньи! — Она яростно пнула наполовину опорожненную бутылку пива на полу. Бутылка покатилась, пиво полилось на окурки.
— Вонючая белая потаскуха, — пробормотала Рейчел, направляясь к двери. Исаак, беспомощно моргая, неверным шагом потянулся за ней к лестнице.
— Ма, погоди минутку… послушай! — умоляюще крикнул Андре.
Исаак и Рейчел, не оборачиваясь, вышли из дома под проливной дождь.
— Мама, мама, послушай!..
В ответ обитая жестью дверь клацнула, притянутая пружиной, и закрылась.
Андре метнул на Долорес полный лютой ярости и отчаяния взгляд, схватил пиджак и кинулся по лестнице вверх.
— Давай, давай! Беги! Беги, никчемный ублюдок, черт бы тебя побрал. Прав был отец, тысячу раз прав. Где мои глаза были!.. — кричала Долорес вслед Андре.
Напуганный скандалом, Габи как безумный метался по комнате. Долорес погналась за ним, попыталась сбить, еще, еще раз. Задохнувшись от погони, измученный, удивленный попугайчик сел наконец на рукав ее махрового халата. Долорес схватила его. Габи успел больно клюнуть ее до того, как она свернула ему шейку. Долорес кинула мертвого попугая в лужу пива, к окуркам.
Через полчаса она выбиралась из такси перед зданием клиники. Регистраторша застегивала пальто, собираясь домой.
— Миссис Макгрегор, кажется? Что с вами… что-нибудь стряслось?
— Мне надо к доктору. Сейчас же.
Женщина медлила.
— Знаете что, пройдите-ка прямо в приемную, к его кабинету. Я… я скажу ему.
Регистраторша указала Долорес на открытую дверь. Долорес вошла и тяжело опустилась в кресло.
Потом, вся в слезах, в истерике она объясняла что-то, а доктор молча, с печальным видом, слушал, потупившись. Когда Долорес пришла в себя, доктор задумчиво потер ладонью щеку, потом почесал в затылке.
— Видите ли, милая, вы, конечно, знаете, что при таком сроке аборт исключается. Если вы действительно не хотите ребенка, можете отказаться от него, когда он родится. Сейчас же вы взвинчены, чтобы принять трезвое решение. Время есть, у вас впереди еще месяцев пять. А пока, — врач, сжав губы, слегка приподняв брови, взглянул на Долорес, потом потянулся к телефонной трубке, — пока я бы положил вас на пару дней в больницу. Вам необходимо успокоиться, привести в порядок мысли.
XXIII
Андре стоял в грязной луже рядом с Исааком и Рейчел в самом конце выводящего на север из города Двадцать восьмого шоссе. Дождь бил ему в спину, а старикам прямо в лицо. Они застыли у обочины, пытаясь остановить попутную машину. На Андре не глядели, с ним не разговаривали. Вода — ручьями текла у них с одежды, дождевые капли, как слезы, бежали по коричневым щекам.
Допотопный «олдсмобиль», битком набитый индейцами, съехал на обочину и остановился. Исаак я Рейчел втиснулись туда. Машина с ревом унеслась по дороге, оставив Андре одного под проливным дождем.
Застыв от холода, он оцепенело повернулся и пошел в сторону города. Часа через полтора Андре стоял, прячась от дождя под крышей гаража на заднем дворе миссис Сэвчек.
Неужели опять в этот чертов подвал? А как же Долли? Черт возьми! Ведь я…
Он стоял, его сотрясала дрожь, и никак не мог решиться войти в дом. Решившись и сойдя вниз по ступенькам, он увидел, что дверь распахнута настежь. В комнатах темно. Андре щелкнул выключателем. Грязная посуда, окурки, пивные бутылки… Что-то пушистое, голубое с отливом лежало на полу в луже пива.
— Габи? Ах, черт возьми… Габи! Скотина. Мерзкая скотина!
Андре сгреб в ладонь маленькое влажное тельце птицы. Потом бережно положил его на задачник дифференциальных уравнений на столе.
Стены комнаты давили со всех сторон. Он заметался — в спальню, потом в ванную, к ведущей наверх лестнице.
Бежать отсюда! Сейчас же! Пока она не появилась…
Он скинул с себя промокшую одежду, пуговицы то и дело выскальзывали из-под дрожавших пальцев; торопливо, машинально переоделся во все сухое. Смахнул в ладонь горстку монет с комода, сунул в карман. Мгновение колебался, потом рванул на себя ящик, вынул из запрятанного Долорес конверта двадцатидолларовую бумажку. Закрыл глаза, выставил вперед руки — только бы не видеть, не ощущать этих давящих стен.
Нагло затренькал будильник. Андре схватил его и, выходя из кухни, с размаху грохнул им о дверцу холодильника. В дверях чуть не сбил с ног хозяйку, которая только что вернулась домой из Вегервилля, где пару, дней гостила у сестры. Старуха подозрительно уставилась на Андре. Он метнулся мимо, прямо в сгущавшуюся темноту, под холодный, косой дождь.
Он брел куда глаза глядят, лишь бы подальше от Долорес, подальше от этих стен, от самого себя. Пока доплелся до центра, опять промок до костей. На душе было гнусно, голова кружилась.
Здесь и приткнуться-то некуда, господи, что же делать?
Андре попятился, укрылся от дождя под навесом у входа в магазин и стоял там, дрожа от холода. Случайный прохожий пробежал трусцой мимо, отвернув лицо от косого дождя. Залитый дождевой водой асфальт блестел, и в нем сверкающими бликами плыли отражения автомобильных огней… Андре заметил на углу освещенную телефонную будку. Долго стоял, не отрывая от нее взгляда, прежде чем решился подойти позвонить. Руки его окоченели, и он едва смог сунуть монетку в щель.
Может, Бейроки приютят на пару дней. Может, если я честно все расскажу, они…
Он трижды набирал номер. К телефону никто не подходил.
Уехали, верно, куда-нибудь. Попробую чуть погодя еще разок… Дьявол. Согреться бы где. Всего пару кварталов до Девяносто седьмой. Зайду там в гостиничный бар, пересижу дождь. Пива выпью…
В баре было людно, сильно накурено и пахло влажной шерстяной одеждой. Андре проскользнул в угол, сел, прислонившись спиной к стенке. Заказал пару пива, клянясь себе, что, как допьет, тут же попытается снова позвонить Бейрокам. Голова кружилась. Он почти ничего не ел за день, если не считать пары кусочков сухого хлеба с яйцом на завтрак да нескольких ломтиков чесночной колбасы, которой закусывал пиво.
Может, зайти в кафе поесть, или… Нет! Только отогреваться начал. Пиво допью, тогда…
Андре поставил на стол второй опустошенный стакан, красномордый парень за соседним столиком шумно потребовал добавить пива своей компании. Затуманенный взгляд остановился на Андре, и красномордый заорал:
— Эй, малец! Чего сидишь, как в воду опущенный? — Он подцепил носком сапога свободный стул, подтащил к себе. — Давай-ка, двигай сюда! — повелительно выкрикнул он и бросил бармену: — Еще парочку — вон, для моего приятеля.
— Спасибо, но…
— Чего кочевряжишься? Говорю, садись!
Еще врежет! Ладно, выпью с ним стаканчик, а после смоюсь.
Но стоило Андре опустошить еще один стакан пива, он и думать забыл, что собирался уйти. Принялся сам угощать пивом своих новых приятелей. В мозгу пронеслось было — что же такое я собирался сделать? Но он так и не вспомнил. Вокруг в тумане плыли чьи-то лица, гремел утробный хохот, сопровождая байки, смысл которых до Андре не доходил. На мгновение подумалось: хорошо бы сейчас прилечь на стол, он опустил голову на руки, забылся…
Очнувшись, Андре обнаружил, что трясется в кузове грузовика в компании каких-то людей. Голова то и дело беспомощно валилась на грудь. Шея ныла так, будто ее переломили, он был зажат с обеих сторон двумя недавними собутыльниками, которые затеяли спор по машинной части. Тот, кто пригласил Андре выпить, сидел за рулем, вел грузовик по ухабистому проселку.
— Плохо мне, — выдохнул Андре.
Грузовик остановился. Андре полез через своих соседей, распахнул дверцу, высунулся наружу, его вырвало. Дождь продолжал лить.
Пива перебрал! Господи, сколько же в меня вошло! Понятно теперь, где ж ему там уместиться…
Облегчившись, он снова полез в глубь кузова. Водитель грузовика даже не оглянулся. Завел мотор, и машина поползла по размытой дождем дороге.
Наконец выкатили на какое-то поле, посреди которого стояли жилые автоприцепы, обшитые жестью, несколько экскаваторов мокло под дождем.
Водитель выбрался из кабины со словами:
— Давай, ребята! Кончен бал. Пора баиньки.
Его спутники высыпали из кузова. Протрезвев, стряхнув сон, Андре пошел следом за ними в автоприцеп, стал в дверях, дрожа от холода, глядя, как остальные ныряли в койки.
Красномордый, моргая, застыл со спущенными штанами на краю своей койки, уставившись на Андре, словно видел его впервые в жизни.
— А ты, черт побери, как сюда попал?
— Не знаю. Не помню…
Человек обмяк, опустив руки, вид у него был такой, — будто на нем целый день воду возили.
— Ну ладно, шут с тобой, — выдохнул он и ткнул пальцем в пустую койку. — Скотти у нас где-то откололся. Полезай в его спальный мешок, утром разберемся.
Андре, как мог, развесил мокрую одежду, потом плюхнулся в чужую постель, от которой пахло патом и лосьоном для бритья.
Проснулся он от шарканья ног, табачного дыма я приглушенных голосов. Открыл глаза. Четверо сидели за столом, резались в карты. За окном потоками лил дождь. Андре потянулся, сел. Один из картежников поднял на него глаза.
— Привет! Как здоровьице?
— Голова трещит.
— Еще бы не трещать, сколько пива вчера принял. — Парень добродушно осклабился. — Сходи до ветра, а потом дуй на кухню. Мы Саре велели, чтоб поесть тебе оставила.
Андре выбрался из койки, принялся натягивать одежду.
— А где… Как мне до города добраться?
— Повезло тебе, — сказал Красномордый. — Дождь хлещет, значит, работы нет. Поешь, я тебя отвезу.
Выйдя во двор, Андре огляделся. Под дождем мокли пара бульдозеров, уложенные штабелями секции канализационных труб, кругом навалены груды досок, горы желто-серой земли.
Направившись к кабинке-уборной, Андре вспомнил про деньги, что взял вчера вечером из ящика комода, однако, пошарив по карманам, ничего кроме свалявшихся обрывков нитки там не обнаружил. Вынул, уныло уставился на них. К автоприцепу, где, как сказали Андре, находилась кухня, двинулся неуверенно, однако голод взял свое. Войдя, Андре увидел женщину средних лет с выпирающим из-под грязного фартука животом, она мыла за столом в миске посуду.
— Возьми себе там в печке и по-быстрому, понял? — пробурчала она. — Уж обед скоро.
Блины ссохлись и стали как подметка, колбаса подгорела, но Андре подобрал все до последней крошки. Встал, отнес Саре грязную посуду. Та, не глядя на него, уставилась в окно, вытянув шею.
— Старик явился.
— Какой старик?
— Старый Сэндон. Хозяин здешний, — она рассмеялась. — Ишь, ругается на чем свет стоит. Дождь хлещет, а эти расселись по углам, никто носа не кажет.
Андре подошел, стал у нее за спиной, посмотрел, куда глядела Сара. Посреди двора стоял высокий старик в замызганном костюмишке. Весь какой-то серый: серый костюмчик, землисто-серое лицо, сизо-серая щетина на подбородке. Губы на желчном лице беспрестанно шевелились.
— Точно, ругается. Ты погляди! — восторгалась Сара.
Сэндон двинулся в сторону кухни.
— Ой! Идет кофе пить, сейчас меня так расчехвостит… — Она отпрянула от окна, обернулась к Андре, выпучив глаза от страха. — Господи! Куда ж мне тебя девать?
— Зачем девать?
— Сэндон велит гнать всяких проходимцев. Если узнает, что Красномордый тебя привез, мигом его турнет. — Сара вырвала тарелку и нож с вилкой из рук Андре, кинула в миску с водой. — Садись. Ты, значит, зашел минут пять назад, понял? — Она зачерпнула чашкой кофе из кастрюльки на плите и поставила перед Андре, выговаривая певуче:
— Пожалте, мистер Сэндон! Кофе с пылу с жару.
Сэндон вошел в кухню, остановился, держась одной рукой за дверь, другой в это время красноречиво размахивая в такт своим словам:
— Нет, ты посмотри, как хлещет, а? Прямо жуть! Льет так, словно с весны и до холодов будет шпарить не переставая. Ну как теперь, в эдакую погоду? Ей-богу, не знаю! Вот, помнится, в двадцать седьмом… — он запнулся, заметив Андре.
— Тут паренек работу ищет, — вставила Сара. — Я знаю, что вот-вот вы должны подойти, решила, дам ему кофе, пусть подождет.
Какую еще работу? Кто ее, черт побери, просил?.. Хотя… почему бы нет? Вот именно! К дьяволу Долли, к дьяволу институт.
— Работу, говоришь? — Сэндон, сжав губы и прищурившись, оглядел Андре с головы до ног. — У нас работы нет, правда… изгородь проволочную ты тянул когда?
— Было дело, парню одному помогал, дня два тянули.
— Я тут от города к западу участочек прикупил. Хочу для внуков парой лошадок обзавестись. Дейва от работы освобожу, поедешь с ним, участок огородите. Если тебе и впрямь работа нужна.
Колючая проволока… вот еще не хватало! Но денег, ни шиша, куда деваться…
— Жить-то у вас тут можно?
— Живи. За постой вычту из получки. Утром свезу вас двоих на участок, к вечеру обратно.
Сэндон ушел, и только тогда Андре стукнуло в голову, что позабыл спросить, сколько тот заплатит.
Назавтра к середине дня, после бесконечного бурения ям для столбов и вытаскивания оттуда тяжеленного, облепленного землей бура, натруженные спину и плечи сводило. Напарник Андре, Дейв, молодой, сильный, неразговорчивый парень, сам, как тот столб, что один за одним вгонял в землю, длинный и крепкий, работал, не давая продыху ни себе, ни Андре. Когда наконец в полдень Дейв провозгласил перекур, Андре плюхнулся наземь в тени под елкой, озабоченно осматривая мозоли на ладонях.
— Ух, чтоб тебя, выдохся! Уж не помню, когда так вкалывал… — Он поднял глаза на Дейва. Тот ухмылялся.
Да никогда я так сроду не вкалывал! Руками по крайней мере. Ишь, сукин сын, думает, я слабак. Попробовал бы, как я, в институте над задачками попотеть. Тогда б небось иначе заговорил… Черт, что же я наделал-то? Дурак паршивый! Может, взять да сказать старику Сэндону, чтоб отпустил, и — в Эдмонтон. Улажу с Долли, на занятия завтра пойду.
Сказать или не сказать? Опять ведь придется жить, как в застенке… при Долли… при ее поганом телевизоре… Нет уж, пусть лучше все руки в кровь собью.
Андре умял солидный ростбиф с хлебом, запил кофе из термоса, потом вытянулся на солнышке, стремясь расслабить напряженные мышцы. В болотце по соседству раскатисто заливались лягушки. Солнце приятно грело, ветерок нежно обвевал лицо… Андре проснулся от того, что Дейв довольно бесцеремонно тыкал его носком сапога.
— Эй, как тебя, Текумсе[94], вставать пора!
— Меня Андре зовут.
— Да ну? А я гляжу — захромал с непривычки, ну, думаю, из вождей небось.
Сукин сын! Ничего, я тебе покажу; а на мозоли плевать!
К шести вечера Андре едва держался на ногах от усталости. Ладони саднили и кровоточили, спину ломило так, что не было мочи тянуть бур из ямы.
— Ну что, сейчас мотать будешь или все же сначала отужинаешь с ребятами? — спросил Дейв, собирая инструмент, пока они оба поджидали Сэндона.
— Да катись ты, пошел к черту!
— Если остаться надумаешь, поройся-ка в мусоре, откопай жестянку покрупней, вместо ночного горшка, — сказал Дейв уже гораздо добродушнее. — После… туда руки прямо и сунь, загрубеют. Ей-богу! Самый быстрый способ, мозоли мигом затягивает.
— Иди ты… — смешком отозвался Андре. — Ну, если, говоришь, мигом…
Первый день возни с проволочной изгородью оказался мукой, второй — того хуже. Однако к третьему дню ладони Андре начали грубеть. В тот же день вечером, поужинав, он взял большую жестянку, пошел поглубже в лес, с глаз долой, сел, прислонившись спиной к стволу тополя. Пара голубых птиц перелетала взад-вперед через небольшую полянку.
Как Габи, такого же цвета. Эх, смышленый попугайчик был! А Долли, вот мерзавка… Если… если Габи вот так шейку свернула, что ж она… с ребеночком-то может сотворить?
Изгородь была поставлена, вечером приехал Сэндон, принял работу и сказал:
— Слушай, Андре, тут от меня парень сегодня ушел. Говорит, у него от лопаты в руках чесотка. Не хочешь попробовать?
— Ну что ж. Это можно.
Работа была такая: в ров, метра два с лишком глубиной, опускать на тросе, одну за другой, секции канализационной трубы, а внизу трубоукладчик принимал и монтировал секции вместе. После мытарства с колючей проволокой эта работа показалась Андре сплошным отдыхом.
К вечеру зарядил дождь. Красномордый, который был у них десятником, объявил конец работы. Андре потянулся было за остальными, двинувшимися толпой к автоприцепу, как вдруг Красномордый отозвал Андре сгрести в кучу разбросанные по земле трубы, чтоб завтра бульдозеру было где разворачиваться, когда станет засыпать рвы. Пока Андре сгребал трубы в одно место, Красномордый подошел к самому краю рва и уставился вниз.
— Что-то мне земля тут не нравится, — проворчал он себе под нос. — Если ночью дождь сильней припустит… — Красномордый повернулся к Андре. — Подсоби-ка. Надо б подпорку отсюда выбить и вбить вон туда, поближе к бульдозеру. — Шагнул на распорку между досками, спустился в ров. Взглянул снизу на Андре, скомандовал: — Подними вон ту доску, выбей распорку и дай мне.
Андре сделал, как ему велели. Красномордый передвинул верхний конец доски, потянулся поднять нижний, и в этот момент с того боку, где только что была прилажена доска, обрушилась земля, засыпав Красномордого по колено. Он не мог пошевельнуться. Глядел снизу вверх на Андре, его обычно красное лицо вмиг побелело ка «полотно.
— Помоги, ради бога!
Кинув тяжелую распорку, Андре спустился по стенке в ров. Работая лопатой, отбрасывая землю от засыпанных ног Красномордого, он почти не думал об опасности.
Потом обхватил Красномордого рукой, с силой выдернул из земли.
— Давай туда, между распорками! Скорей! — выдохнул Красномордый.
— Андре рванулся кверху, за ним Красномордый. И тотчас с глухим гулом земля с обеих сторон обрушилась в ров. Туда, где они только что стояли оба, рухнула почти трехметровая лавина смешанной с песком земли.
Подбежали рабочие, выпучив от страха глаза, выкрикивая что-то бессвязное. До самой ночи Красномордый без устали делился с каждым, кто проявлял интерес, как Андре спас ему жизнь. Всякий раз Андре протестовал» говорил, что и понятия не имел о том, какая опасность им грозит, но его никто не слушал.
В команде у Сэндона и вкалывали — дай бог, и пили — дай бог. С понедельника до субботы яростно ворочали трубы, доски, рыли землю, с субботы до понедельника яростно кидались в загул, пили, тискали девочек, потом так же яростно боролись с похмельем. Андре приняли как родного. Он стал своим в команде. О Долорес и думать забыл, разве что когда внезапно просыпался посреди ночи, увидя ее во сне.
Как-то раз в конце августа, в воскресенье, Андре с Дейвом решили съездить купить себе новые спецовки. Чтобы побыстрее отовариться и поспеть к вечерней попойке, заглянули в универсальный магазин для военнослужащих. Выгребая мелочь из кармана, Андре с огорчением отметил про себя, что от летнего заработка не так уж много осталось. И тут впереди, через пару проходов, он увидел Долорес, сильно раздавшуюся в талии. Сердце у Андре екнуло. Лицо бледное, ни кровинки, длинные волосы слиплись, висят, как веревки, будто она их бог знает сколько не мыла. Приоткрыв рот, Долорес равнодушно слушала Эсси, которая, напряженно сдвинув брови на прыщеватом, со шрамами лице, втолковывала ей что-то.
Долли! С этой паскудиной! Мать честная! Какой живот-то у нее. Ведь август уже на исходе. Меньше чем через месяц ребеночек должен… Ах ты, господи!
У Андре перехватило дыхание, затряслись руки. Он кинулся к выходу, где его уже ожидал Дейв.
— Что случилось?
— Ничего… я… Слушай, Дейв, может, забросишь мое барахло в грузовик, отвезешь? Ты уж извини. Я обратно на попутках доберусь.
Всю следующую неделю Андре мучился, его изводили противоречивые мысли, и все же он неизменно приходил к одному и тому же: на Долли эту — глаза б мои не глядели, но ведь там у нее мой ребеночек…
Андре перестал играть со всеми в карты после ужина, бродил по строительной площадке, то и дело останавливаясь, впиваясь взглядом в маячащие вдалеке в сизой дымке высокие здания Эдмонтона.
Интересно, живет ли Долли еще в тех комнатах? Что, если переехала, как я ее разыщу, как узнаю про… Тьфу ты! С Эсси, чертовкой этой, шляется. Она, она во всем виновата, а Долли просто… Может, она без денег сидит? Может, ей опять придется воровать, чтобы…
Через час он уже был во дворе миссис Сэвчек, лежал прямо на земле у полуподвального окошка, силясь разглядеть в щель между занавесками, что происходит внутри. Он с облегчением вздохнул, увидев, как Долорес тяжело опустилась в кресло, уставилась, грызя ногти, в телевизор. Андре прокрался к почтовому ящику и опустил конверт, адресованный Долорес. В конверте было почти двести долларов.
«Ну и что, ну опустил я этот конверт в ящик?» — думал Андре, возвращаясь на стройку. Скажем, хватит ей этого продержаться до того, как ребенок родится, а дальше что? Не желаю, чтоб она опять меня к рукам прибрала. Не желаю. А как же ребенок? Бедный малыш! Как вспомню Доди Роуз с ее парнишкой, так сразу и кольнет: а что, если и Долли так же со своим станет? О господи! Что будет… что же будет-то? Вот заплачет он, возьмет его тогда Долли на руки или нет, хватит у нее мозгов?
Андре стал избегать остальных, шарахался от всех, замкнулся в себе. Последний месяц много раз по ночам он мотался в город посмотреть, как там Долорес. В столовой то и дело отпускались шуточки насчет того, как он стонет во сне. Андре и работал словно во сне. Однажды он, оставив грузовик на нейтралке, выскочил из кабины, чтоб убрать пару досок с дороги. Грузовик поехал, врезался в сложенные штабелем трубы, и они покатились прямо в незасыпанный ров.
Красномордый выдал ему за это по первое число. Назавтра десятник послал Андре на грузовике привезти кое-что со склада, в том числе тачки для перевозки цемента. Про тачки Андре забыл. Тогда Красномордый устроил ему выволочку публично, сам прыгнул в грузовик и поехал за тачками.
— Подумаешь! Что я, нарочно?
— Слушай, что у тебя стряслось? — участливо спросил Дейв. — Ты прямо сам не свой.
— Не твое собачье дело!
Дейв пожал плечами и процедил:
— Ну тогда и катись, дубина, ко всем чертям! — С этими словами он двинулся к ребятам, расположившимся на перекур.
Ну вот. Сам против себя ребят настроил. Вот дурак. И никак не могу решить, черт бы меня побрал, что делать. Ведь уж сентябрь на исходе. Я завтра к Долли — а ее увезли… О господи! Не узнаю даже, как там с малышом.
Во вторник вечером Красномордый велел Андре заткнуть деревянной затычкой уложенную в ров трубу. Андре не заткнул, позабыл. Ночью шел дождь, и наутро в трубе оказалось полным-полно мокрой земли. Красномордый рассчитал Андре.
XXIV
Андре шагал по грязной дороге к Эдмонтону. На рабочие башмаки налипали сухие листья и комья влажной земли. Была пятница. Пятница — день невезучий, сказала как-то со смехом сестра Бригитта. Андре понимал, что она говорила не всерьез, и все-таки пятницы он не любил. День выдался холодный, хмурый. Вода в придорожных кюветах подернулась льдом, тополя почти облетели, только на самых верхушках шелестела редкая листва. Андре нес мешок из-под муки, который одолжила ему Сара, на мешке был изображен Робин Гуд, в мешке — вся одежда Андре.
Дождь тщательно промыл дорожную гальку, местами камешки блестели, как отполированные. По привычке Андре нагнулся, подобрал несколько любопытных камешков. В одном были вкраплены золотистые зерна. Рассматривая камешек, Андре переворачивал его в натруженных, с мозолями руках.
Камни! Идиот, чокнутый. Права мать: в башке ничего, кроме этих камней.
Андре со всей силы запустил камнем, смотрел, как тот летел, задев еловые ветки далеко за деревьями у края поля.
Ясно одно: надо искать работу. Как приду в город — сразу на биржу. Вчера за ужином ребята поговаривали, что с работой теперь вроде снова туго. Может, повезет?..
На окраине города Андре приметил автобусную остановку. Стал в ожидании автобуса, глядя, как с неба на землю слетают, кружась, причудливые снежинки. Завидя приближающийся автобус, принялся шарить по карманам в поисках мелочи.
— Мелочи нету, — смущенно улыбаясь, признался он водителю.
— Ну конечно, у всех у вас мелочи нету!
Двери захлопнулись прямо перед носом у Андре, автобус укатил.
— Вот собака! У самого небось в кармане шаром покати.
Андре шагнул с тротуара, попытался остановить машину. Но они проезжали мимо.
Остановятся, как же! По мне сразу скажешь, что я безработный. Ладно, пойду пешком. Хорошо бы жилье какое подыскать. Помыться, постирать.
Он двинулся с самой окраины к центру, на биржу труда, по пути обнаружил, что находится неподалеку от дома миссис Сэвчек. Сначала было решил не заходить, но потом, движимый каким-то смутным предчувствием, Андре все-таки свернул в переулок, ведущий к черному крыльцу дома, надеясь хоть по каким-нибудь, признакам определить, что Долорес еще там. Но все обернулось совсем иначе. На веревке перед домом висели два хлопчатобумажных коврика, что некогда лежали на полу у них в комнате, и занавески, которые Андре сам столько раз раздвигал и задвигал на окне.
Старуха уборкой занялась… Долли увезли! Ах ты, господи!.. Надо б зайти и… спросить, что ли…
Андре стоял, никак не решаясь войти, не отрывая глаз от дома. Но вот толкнул калитку, метнулся во двор, к гаражу, стал там, укрывшись в тени яблони-дички, на ветках которой еще висели тронутые морозом яблоки. Смелости войти в дом не хватало. По счастью, на крыльце с ведром в руке показалась сама хозяйка, на ее дородной, красной физиономии застыло свирепое выражение. Тяжело спустившись по ступенькам во двор, она выплеснула воду как раз под ту яблоню, где стоял Андре, едва не облив ему ноги.
— Ты?
— Где… Долорес у вас?
— Больше ее на порог не пущу. У тебя самого как духа хватило явиться?
— Вы… вы не знаете, где она?
— Только и видела, что ту прыщавую вертихвостку, с какой та все крутится… Эсси, как ее? Она и явилась за вещами Долорес. Ну что ты скажешь! Мне спасибо, значит! Как ты сбежал, так мне Долорес жалко стало. Ходила за нею, как за родной дочкой, а она меня так отблагодарила. Из больницы выходит, присылает ту Эсси — вещи давайте! А в комнатах — как хлев, вон, гляди, как хлев…
— Она в больнице?.. И… и… ребенок родился?
— Ребенок! Ишь вспомнил! Ты ж от него сбежал, еще не родился он. А та от него отказалась совсем, как от выродка. Ну вы и пара! Боже ж мой! Попугая и того не сберегли.
— Отказалась? Где она?.. Кто у нее?..
— Да Эсси сказала, что его, может, кто усыновит.
— Где это? Скажите, где?
Хозяйка перевернула ведро, вытрясла последние капли грязной воды.
— Иди, иди, других спрашивай! Может, в больнице «Ройал Элекс» или еще где. И кыш отсюда! Еще раз увижу, что ты тут рыщешь, полицию позову.
Андре кинулся прочь, промчался квартала два по улице, прежде чем сообразил, что понятия не имеет, где находится больница. Увидел какого-то старика, копавшего грядку под цветы, подбежал, спросил. Старик попятился поближе к восточно-европейской овчарке, привязанной посреди лужайки, только потом ответил. До следующего квартала Андре все еще слышал позади лай собаки.
Запыхавшись, вспотев от бега, он остановился у мрачно-желтых кирпичных корпусов больницы, глазея на указатели.
«Женское отделение» — вот где Долли, наверное. Если она еще там. Дьявол его знает, что ей скажу, когда увижу. Вот если б просто — шмыг туда, схватить ребеночка, и дёру… Схватить! Господи, совсем обалдел. Да стоит мне только, пусть к своему, прикоснуться, так они тут всю полицию на ноги поднимут. И потом: куда я, с ребеночком-то? Нет, так не пойдет! Надо зайти, просто узнать. Ах ты, черт, боязно… Все равно, надо.
Долгое время он так стоял, споря сам с собой, у клумбы поникшей от мороза красной герани. Весь дрожа, поминутно тяжело вздыхая. Потом медленно направился вперед по пандусу, где увидел табличку «К входу».
Мимо проехало такси, подрулило к главному входу, остановилось. Стеклянные двери больницы распахнулись. До Андре донесся знакомый смешок. У него перехватило дыхание. В нескольких шагах от него прошла Долли в сопровождении Эсси, они садились в такси.
— Как ты сказала, сдали медикам спеленутое имущество? — прыснула Долорес. — Ну, Эсси, ты даешь! Уф! Слава богу, отделалась.
Эсси протянула шоферу чемодан, чтоб положил в багажник.
— Еще бы! Короче, дело сделано. Видишь, как все устроилось, теперь, Долли, девочка моя, никто не будет у тебя под боком пищать.
Андре не успел и глазом моргнуть, как такси уже отъехало от больницы, двинувшись в сторону Кингстон-авеню.
Тьфу ты! Надо было б задержать ее… нет, зачем? Все равно бы ребеночка не взяла. А он где-то там. В больнице где-то…
Андре вошел и остановился, никак не решаясь обратиться к молоденькой регистраторше, заполнявшей на машинке какие-то бланки.
Она подняла на него глаза, улыбнулась.
— Я вас слушаю.
— Нет… мне ничего. Я просто… — Андре попятился, чтобы скрыться с глаз, завернул за угол, беспомощно огляделся.
Ординатор в белом халате и с марлевой маской, болтавшейся на шее, быстрым шагом шел по коридору. Бросил колючий взгляд на Андре. Двери лифта раздвинулись, оттуда вышли люди. Андре скользнул в кабину. Посмотрел на кнопки, задумчиво насупился, повел плечами, нажал кнопку второго этажа. Выйдя из лифта, он боязливо двинулся по коридору, придумывая на ходу, что бы такое сказать дежурной сестре, как вдруг очутился перед дверью с окошком. Там за окошком в металлической, отделанной пластиком кроватке спал уютно спеленутый младенец. Андре застыл на месте, уставившись на славную мордашку с закрытым ротиком и глазками. В той же самой комнате, только подальше — не так хорошо видно, лежали в таких же точно кроватках еще пятеро младенцев.
Сестра, дежурившая там, заметила Андре, улыбнулась, подошла к двери с окошком и спросила:
— Кого вам показать?
Сердце у Андре забилось еще сильнее.
— Мне Макгрегора… покажите…
Была не была, а вдруг?..
Сестра пытливо оглядела его с ног до головы.
— Макгрегора? — Она помолчала. — Ребенка только что забрали в ясли.
— Как в ясли? — выдохнул Андре.
— Видите ли, детей, от которых отказываются матери, берут на попечение благотворительные организации.
— Благотворительные? Куда же мне…
— А кто вы такой?
— Отец ребеночка, вот кто. Куда мне обратиться, чтоб его увидеть?
— Я скажу, вас проводят вниз в отдел патронажа, мистер… мистер Макгрегор. Там вам все расскажут.
Андре ввели в небольшую приемную у кабинета. Он съежился в кресле, отчаянно жалея, что у него нет под рукой сигарет. Из-за двери доносились голоса: убеждающий — женский и тоненький, дрожащий от слез, — девичий. Время от времени в паузах отрывисто стрекотала пишущая машинка. По коридору прошел санитар, толкая перед собой каталку. Вытянув шею, Андре увидел спящее лицо пациентки после наркоза.
На ладонях у Андре выступил пот, он мгновенно отвел взгляд. Санитар с каталкой прошел мимо. Снова коридор пуст.
Что же я здесь делаю? Эх, не будь дураком — ноги в руки, и по коридору, скорее вон отсюда, не то… Может, для моего малыша это самое лучшее. Ну что я ему могу дать?
И что я скажу, когда дверь откроется и меня позовут? Скажу, дескать, мой ребенок, и все, и не ваше, мол, собачье дело, захочу — в карман засуну, захочу — подвешу на суку, а сам буду свои канализационные трубы прокладывать, так, что ли? Андре возмущенно фыркнул. Хорош папаша, нечего сказать! Фу ты, черт, ну а если… если… к матери его отвезти, а? Ну нет, он покачал головой. Не пойдет. На черта его туда, что ему там, лучше, чем у Долли, будет?
Нелли! Внезапно осенило его, и лицо просияло улыбкой. Он потер потные ладони о бока.
— Нелли Бейрок… Ну да, это точно! Только вот согласится ли…
XXV
Декабрь выдался суровый даже для видавшего виды Эдмонтона. В канун рождества Андре стоял, прижатый к поручню, в переполненном автобусе, трясущемся по Сто девятой улице. От одежды Андре исходило зловоние. Он старался избегать взглядов, пассажиры посматривали на него с отвращением, сторонились. Автобус завернул за угол, и Андре потянул шнурок звонка, пробился к задней двери, выскочил на утоптанный снег. От холода заслезились глаза. Пригнувшись под порывами свирепого ветра, налетавшего с юго-запада, Андре переложил сверток, который он нес с собой, из одной руки в другую.
Проклятье, снова нос себе отморожу. Уж в пятый раз за этот месяц. Что поделаешь, такая работа. Раз платят, надо работать.
Примерно за квартал от дома Бейроков Андре услышал, как Ронни упражняется на трубе. Усмехнулся. Ишь, наяривает! Будем надеяться, Нелли запретит ему эти упражнения в рождественские праздники.
Андре обошел вокруг дома, отпер дверь черного хода, сбежал по ступенькам вниз и сунулся в маленькую ванную, где снял с себя грязную одежду и пустил душ. Вымывшись, вытершись насухо полотенцем и надев чистые джинсы и старый свитер, он побросал грязную одежду в стиральную машину, щелкнул тумблером. Затем, дрожа от нетерпения, подхватил сверток и направился вверх по лестнице.
Сэм, сидевший в столовой за чтением газет, уставился на Андре поверх очков.
— Ну как там у вас нынче на городской свалке?
— Сурово. На будущей неделе будут елки выбрасывать, так и похлеще станет.
— У нас малый один собирается уходить с завода. Погоди, может, пристрою тебя на его место к концу января.
— Ну да? Вот бы здорово! Хотя ладно, поживем-увидим! С мусором что хорошо, его всегда навалом, работы хватает.
Нелли высунулась из кухни навстречу Андре.
— Если ты не выберешь время, чтоб подлечить обмороженный нос, и не будешь носить шерстяной шлем, что я тебе связала, так и знай, станешь у нас в Эдмонтоне безносым мусорщиком!
— Эти, из социального обеспечения, говорят, что мне без работы нельзя.
— Правильно, но кому ты нужен с обмороженным носом?
— Ладно, с будущей недели возьмусь. Пусть уж нос подживет маленько.
— А к нам сегодня приходили, — сказала Нелли, накрывая на стол. — Один, из социального обеспечения, справлялся о тебе с Габи.
— Ну и что? — Андре с замиранием сердца ждал ответа.
— Ничего, доволен остался. Говорит, если у тебя все так пойдет, непременно в этом году дадут разрешение на усыновление.
— Что творится! — пробурчал Андре. — Родного сына усыновлять надо…
Он подошел к кроватке, улыбнулся младенцу, тот радостно потянулся к нему.
— Привет, маленький разбойник, как у нас сегодня дела? — Андре нагнулся, легонько подул малышу прямо в голенький коричневый животик. Габи залился радостным смехом.
— Смеешься? Ну и молодец! За это тебе полагается медвежонок на целых два дня раньше срока. — И Андре принялся разворачивать сверток. В это время в комнате возник Дик с тетрадью в руках.
— Слушай, Андре, не поможешь разобраться? У меня никак не получается, не пойму, где наврал…
Андре отложил игрушечного мишку, взял Габи на руки. Усадив ребенка на колени, заглянул через плечо в тетрадь Дика.
— Вот тут, кажется, сбился, — он ткнул пальцем в тетрадь. — Поди, сам посмотри, найдешь ошибку…
Дик хлопнул себя по лбу.
— Вот идиот! — Он посерьезнел, взглянул на Андре: — Послушай, ну что тебе стоит собраться и вернуться в институт?
— Пока не проработаю трех лет, мне пособия не будут выплачивать. И потом… — Андре усмехнулся. — Может, какую женщину хорошую найду, мы с ней еще парочку огольцов, вроде Габи, народим.
— Ведь это надо, до сих пор с Долорес не столкнулся! — вставила Нелли.
— Ну как же, видел ее! Бежал со всех ног, только б не заметила.
— Да что ты? Где?
— А в центре, в одной грязной забегаловке.
Шла, задом виляя, за одним из провинции, небось деньгами перед носом у нее помахал. Эх, бедная Долли! Что теперь из нее получится? Сначала появится какой-нибудь белый, вроде Гэри Последнее Одеяло, а дальше… Андре мысленно прикинул, пожал плечами: ну что — Клара получится, не иначе.
— Я, наверное, безнадежная дурочка, — сказала Нелли, — только вот никак не могу взять в толк, как это можно — отдать Габи, даже ни разу на него не взглянув?
— Слава богу, что отдала, — буркнул Андре. — Не то б она ему шею свернула. Он же как две капли воды — мой старик. Надо б тебя не Габриэль Джозеф, а Исаак назвать, верно, малыш? Никто сроду не скажет, что ты не индеец, а смугловатый белый.
— Не смей его обижать, — сухо проговорила Нелли. Она оглядела стол. — Ну, все готово. Идите ужинать. Садимся. Андре, может, лучше Габи в кроватку отнести?
Габи пискнул, пока Андре его укладывал, потом схватил обеими ручонками себя за дрыгающуюся пятку. Понравилось. Он моргнул, схватил еще раз.
— Глядите-ка, — воскликнул Андре. — Габи ножку свою нашел!
— Ну и молодец! — Нелли выплыла из кухни, держа в руках дымящуюся миску с тушеной морковью, поставила, подошла к Андре и вместе с ним, улыбаясь, любовалась ребенком. — Нам бы всем так!
— Ты про кого это?
— Да про нас, метисов… Так до сих пор и не знаем, есть у нас ноги, нет ли. Пока не знаем. Ничего, будет срок. Ведь если задуматься, этот мальчишка всего какое-нибудь шестое, ну, может, седьмое поколение метисов.
— Может, Габи сам разберется?
— Может быть. Не он, так внуки его. Станут сами на ногах держаться, может, даже бегом побегут. Только сперва бы надо сбросить резиновую галошу с одной ноги, мокасин с другой.
Примечания
1
Старейший университет в Нью-Йорке. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)2
Марка джина.
(обратно)3
Героиня популярного американского мюзикла «Мейм».
(обратно)4
Герой популярного американского радио- и телевестерна.
(обратно)5
Американские композитор и либреттист, авторы многих популярных мюзиклов.
(обратно)6
Медаль за ранение в ходе боевых действий.
(обратно)7
Битва на острове в Тихом океане с августа 1942 по февраль 1943 г.
(обратно)8
Кровопролитная битва с японцами на острове к югу от Японии, февраль-март 1945 г.
(обратно)9
Герой романов английского писателя Сакса Ромера (1883–1959).
(обратно)10
Герой комикса.
(обратно)11
На виду (франц.).
(обратно)12
Первый понедельник сентября.
(обратно)13
Название сборника рассказов английского писателя Джорджа Мура (1852–1933).
(обратно)14
Фетровая шляпа с узкими, чуть загнутыми полями, названа по городу Гамбургу, где такие шляпы стали изготовлять впервые.
(обратно)15
Известный американский джазовый музыкант.
(обратно)16
Выдающийся американский тромбонист.
(обратно)17
Отрезок трансканадской магистрали, названный так в честь майора Роджерса, который открыл этот путь в конце XIX века.
(обратно)18
Герои детских книг и комиксов, телепрограмм.
(обратно)19
Эдвард Прайер, премьер-министр провинции Британская Колумбия (1902–1903).
(обратно)20
Вечеров (франц.).
(обратно)21
Известные американские телесценаристы и продюсеры.
(обратно)22
Канадская радиовещательная корпорация.
(обратно)23
Шерстяная ткань.
(обратно)24
Фешенебельный универмаг в Лондоне.
(обратно)25
Популярный фильм по одноименному роману Г. Вука, главный герой которого капитан Куиг терроризирует команду своего корабля «Кейн». Хэмфри Богарт — известный американский актер.
(обратно)26
Герои комиксов и мультфильмов.
(обратно)27
Роман американского писателя Мортона Томпсона.
(обратно)28
Герои мультфильмов Диснея, мыши-мушкетеры.
(обратно)29
Герои мультфильмов Диснея.
(обратно)30
Американский писатель, автор популярных детективных романов.
(обратно)31
Вышедшей из строя (франц.).
(обратно)32
Популярный американский журнал.
(обратно)33
Одна из деталей укрепления водосточных труб.
(обратно)34
Популярные среди молодежи конца 60-х — начала 70-х гг. социально-философские исследования.
(обратно)35
Ведущий канадский университет в Монреале.
(обратно)36
«Прекрасная безжалостная дама» (франц.). Известные стихотворения английского поэта Китса (1895–1921).
(обратно)37
Концлагерь к северу от Ганновера (ФРГ).
(обратно)38
Известный современный американский актер.
(обратно)39
Лозунг был выдвинут Гербертом Гувером, президентом США (1929–1933).
(обратно)40
Американская кинозвезда 20–40-х гг.
(обратно)41
Скандинавские викинги, одни из первооткрывателей Северо-американского континента.
(обратно)42
Чикагская хоккейная команда.
(обратно)43
Английский поэт (1809–1892).
(обратно)44
Строки из стихотворения «Улисс». Перевод Г. Кружкова.
(обратно)45
Пусть покупатель будет осмотрителен (лат.).
(обратно)46
Дирижеры современных оркестров джазово-симфонической музыки.
(обратно)47
Домохозяйки (нем.).
(обратно)48
Популярный персонаж комиксов 50-х гг.
(обратно)49
Многосерийная пьеса-сказка о женщине-джинне.
(обратно)50
Умная собака Чарли Брауна.
(обратно)51
Популярный американский киноактер конца 30-х — начала 40-х гг.
(обратно)52
Песня из популярного в 60-е гг. мюзикла и снятого по нему фильма.
(обратно)53
Добрый вечер (исп.).
(обратно)54
Члены тайного религиозно-мистического общества, близкого к масонству. Его эмблема — роза и крест.
(обратно)55
От saragassum — вид водорослей (лат.). Море, поросшее водорослями и не имеющее берегов, в Атлантическом океане.
(обратно)56
Хлопчатобумажная рубашка свободного покроя, с широкими рукавами, одеваемая через голову.
(обратно)57
Американский джазовый музыкант.
(обратно)58
Американские актеры.
(обратно)59
Американский конферансье.
(обратно)60
Популярная старинная шотландская песня XVI в.
(обратно)61
Нью-йоркская хоккейная команда.
(обратно)62
Американские певцы.
(обратно)63
Фешенебельный магазин.
(обратно)64
Английская писательница (1882–1941), представительница литературы «потока сознания».
(обратно)65
В отсутствие (лат.).
(обратно)66
Ссылка на пьесу того же названия известного американского драматурга Н. Саймона.
(обратно)67
Меннониты — протестантская секта, образованная в XVI в.
(обратно)68
Многолетнее растение из семейства бобовых.
(обратно)69
Американский певец, мастер художественного свиста.
(обратно)70
Известная американская актриса 40-х гг.
(обратно)71
Известный американский актер 40-х гг.
(обратно)72
Орден монахов, имеющий монастыри в США и Канаде.
(обратно)73
Город на юге Франции, место паломничества католиков.
(обратно)74
Американский актер и режиссер 30–40-х гг.
(обратно)75
Звезды американского кино 30–40-х гг.
(обратно)76
Крупнейшая киностудия США.
(обратно)77
Известная американская киноактриса.
(обратно)78
Дерево высотой 30–40 м., толщиной около 1 м. с раскидистой кроной. Встречается в немногих районах Восточной Азии. В Европе разводится как декоративное дерево.
(обратно)79
Вид хвойного дерева.
(обратно)80
Род однолетних и многолетних растений. Их более 100 видов. Распространены в Европе и Азии. Соцветие из одного, реже из двух белых, пурпурово-фиолетовых цветков.
(обратно)81
Прохладительный напиток.
(обратно)82
Известный путешественник, в начале XVII в. открывший Квебек и ряд районов Новой Англии.
(обратно)83
Травянистое растение с желтыми цветками, собранными в соцветия.
(обратно)84
Многолетняя трава. Ее русское народное название «вороний глаз» происходит от сизовато-черного цвета ягод этого растения.
(обратно)85
Старинная китайская игра.
(обратно)86
Старинная японская игра.
(обратно)87
Американский композитор (1887–1951).
(обратно)88
От shrine — храм, алтарь (англ.). Орден в Северной Америке, который собирает деньги, пожертвования на больницы, где лежат дети-калеки и престарелые всех рас и вероисповеданий.
(обратно)89
Одна унция равна 31 г.
(обратно)90
Поэма английского поэта Колриджа (1772–1834) о моряке попавшем под воздействие чар за то, что он убил альбатроса.
(обратно)91
Хорошо, очень хорошо… (англ.).
(обратно)92
До свидания (англ.).
(обратно)93
Риль, Луи (1844–1885) — деятель национально-демократического движения в Канаде, в октябре 1869 г. возглавил восстание в долине Ред-Ривер и стал секретарем Национального комитета метисов, который руководил борьбой фермеров против посягательств федеральных властей на их земли. Восстание было подавлено в 1870 г. В марте 1885 г. стал во главе восстания поселенцев-метисов и индейцев долины реки Саскачеван против железнодорожных компании и представителей федеральных властей. В июле 1885 г. восстание было подавлено, а Риль повешен.
(обратно)94
Текумсе (1768?—1813) — вождь индейского племени шони. Возглавил борьбу индейских племен, живших к северу от реки Огайо, против захвата их земель американскими колонистами. Погиб в бою на реке Темс (территория Канады).
(обратно)
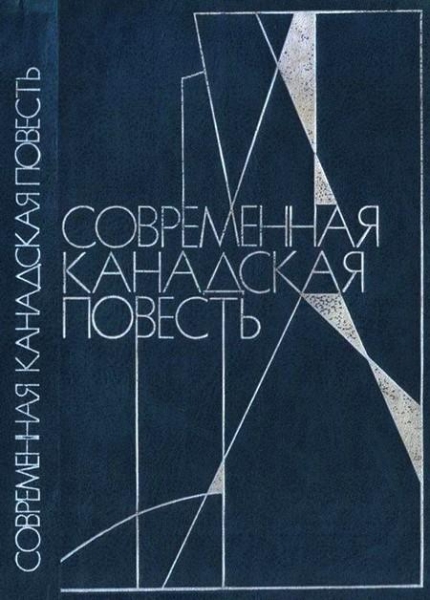
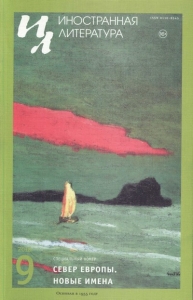

![Скорость тьмы [Истребитель]](https://www.4italka.su/images/articles/629269/primary-medium.jpg)




Комментарии к книге «Современная канадская повесть», Андре Ланжевен
Всего 0 комментариев