Эли Визель Завещание убитого еврейского поэта
Посвящается Полю Фламану
Что есть жизнь человеческая? Это тень. Но какая тень? Та, недвижимая, что отбрасывает дом? Или тень дерева, меняющаяся от времени года? Нет, жизнь человека походит на тень птицы в полете: только ее увидишь — один миг! — и пропала.
ТалмудБыла однажды страна, сосредоточившая в себе все страны мира, а в этой стране был город, соединивший в себе все города страны, а через него проходила улица, составленная из всех улиц города, а на ней стоял дом, под крышей которого вместились все дома этой улицы, и в том доме была комната, бывшая всеми комнатами дома, а в комнате сидел человек, вобравший в себя черты всех людей всех стран, и он, этот человек, смеялся, смеялся — и никто на свете так не смеялся, как он.
Рабби Нахман из Брацлава«Я встретил Григория Пальтиелевича Коссовера…»
Я встретил Григория Пальтиелевича Коссовера однажды июльским днем 1972 года в аэропорту города Лода. Только что приземлился и еще катился по взлетной полосе какой-то самолет. Снаружи толпились встречающие: родня, приятели, корреспонденты — все они внезапно замолкли, превратившись в воплощенное ожидание. Здесь обретение давно потерянных не стирает прошлого, которое состоит из насильно вырванных из привычной жизни, из тоски по былому, по отсутствующим.
Последнее время я часто приезжал в Лод, когда там собирались самые удивительные изгнанники нашего времени: мужчины и женщины из царства молчания и страха. Если бы когда-то я объявил им, что встречусь с ними на земле наших предков, они бы меня печально одернули: «Дорогой друг, не надо смеяться над нами, вы же знаете: ложные надежды приносят только горе».
Однажды мне случилось приметить там бывшего одноклассника, того самого пионера, с которым я когда-то пел и танцевал вечером перед большой московской синагогой, где праздновалась Симхат-Topа. В Лоде сапожник, увидев меня, разрыдался, а университетский преподаватель из Ленинграда расцеловал меня, как если бы я был его утраченным и вновь обретенным братом, — да, впрочем, я и был ему братом.
Люблю Лод в часы, когда туда приезжают русские евреи. Они по-особому ставят ногу на эту землю. Кажется, что они ждут знака, приказа, а без него не осмеливаются идти дальше. Бесконечно длится тот миг, когда они застывают перед самолетом, изучая голубое небо и проносящиеся облака, прислушиваясь к глухим звукам, доносящимся из административных зданий, и смотрят, всматриваются, только и делают, что всматриваются, ища подтверждения тому, что все, что у них перед глазами, существует на самом деле и теперь они сами — часть этой жизни. Никаких сцен, громких возгласов. Еще не пришло время. Может, оно придет через час, когда первая пара объединится, как только отец и сын, дядя и племянник, собратья по полку или лагерному бараку признают друг друга. Пока же две тесные группы держатся порознь. Напряженные, нервные эмигранты четко контролируют каждый свой жест. Они замолкают изнутри, замирают, прежде чем уронить первую слезу и вымолвить начальное слово благословения. Они боятся. Как бы чего не испортить торопливостью, как бы нечаянно не обмануться или не ввести кого-то в обман. Можно подумать, что им очень нужен их страх: он — то, что связывает их с прошлым. Пусть еще послужит напоследок, а потом можно с ним и распроститься.
Наконец какая-то фигура отрывается от их тесной кучки, бросается к нам. Рождается долгий, отзывающийся эхом, раздуваемый всеобщим наплывом чувств возглас: «Яков! Иа-а-ков!» И внезапно все исчезает, кроме этой набегающей тени и вопля, дырявящего память. Отныне воспоминание того дня обретет имя Иакова, так всегда и будет зваться: Иаков.
Сам же Иаков, молодой офицер, весь задрожал, он хочет броситься навстречу отцу, однако ноги не слушаются, будто приклеенные к асфальту, он ждет, ждет, что время потечет вспять, годы рассыплются прахом, он вновь станет упрямцем-школьником, который научился сдерживать слезы, хотя они уже заливают все лицо.
И, словно бы отвечая на этот таинственный призыв, обе группы распадаются, вот уже образуются десятки, сотни пар и троек. Люди окликают друг друга, обнимаются, смеются, плачут, повторяют одни и те же слова, передают снова и снова чьи-то пожелания, присланные через них, жмут те же руки, гладят все лица, и родных, и просто стоящих рядом. Все говорят невесть что невесть кому! Настоящий праздник, вот именно — праздник обретений. «А когда ты уехал из Риги?» — «Нет, не позавчера, а тысячу лет назад!» — «Я вот приехал из Ташкента». — «А я — из Тбилиси». — «А о Лейбише Голдмане тебе что-нибудь известно?» — «Лейбиш? Он все ждет своей очереди». — «А Мендл Поруш?» — «Он тоже ждет очереди». — «А Изя Мермельштейн?» — «Ждет своей очереди». — «Так они приедут?» — «Приедут! Да, приедут, все когда-нибудь приедут…»
А неподалеку двое братьев молчаливо разглядывают друг друга. Оба еще молоды, одиноки и не обременены семействами. Ни один из них не осмеливается сделать первый шаг. Они так и стоят лицом к лицу, с мучительной напряженностью глядя друг другу в глаза.
— Ничего у меня не спрашивайте! — выкрикивает коренастая решительная женщина. — И ни о чем со мной не говорите, дайте сначала поплакать, нужно хорошенько выплакаться, эти слезы давно уже ждут своего дня!
А чуть дальше какой-то верзила поднял в воздух худенькую черноволосую девочку и стал ее вращать над головой, твердя:
— Это ты, Пнина? Та маленькая красавица, что мне улыбалась с фотографии, это ты? А мой сынок — твой отец?
Этот дедушка настолько преисполнен счастья и гордости, что танцует, как пьяный, со своими воспоминаниями. У него теперь одно желание: чтобы ему позволили так танцевать целый день и всю ночь, и еще завтра, а хорошо бы — и до скончания дней.
Один молодой человек, всеми забытый, стоит в сторонке на бетоне полосы. Никто не явился пожелать ему счастливых дней, просто перекинуться словом. Я заговариваю с ним по-русски, спрашиваю, можно ли ему чем-то помочь. Не отвечает. Видимо, слишком взволнован и ошеломлен. Протягиваю ему руку, он пожимает ее. А в ответ на повторное предложение помощи снова молчание. Впрочем, это не важно: ответит позже.
По приглашению работника службы по приему вновь прибывших все переходят в большой зал. Вот уже сгрудились вокруг столов, накрытых белыми скатертями. Цветы, много цветов. Официантки разносят апельсиновый сок, фрукты, сухие пирожные. Кто-то выкрикивает: «А у нас припасено кое-что получше!», доставая из сумки бутылку водки. Другие следуют его примеру, все наполняют стаканы, чокаются. Кто-то встает, хочет произнести тост: «Хотелось бы только сказать…» — но слова путаются, застревают у него в горле. Он пытается снова: «Хотелось бы вот только сказать…» — и вновь голос его прерывается, он задыхается, почти судорожно вздыхает, будто давится воздухом: «Но мне на самом деле хотелось бы только сказать вам…» С искаженным от натуги лицом он обводит растерянным взглядом окружающих, словно прося у них помощи. И вдруг плачет, рухнув на стул, рыдание, пришедшее из невесть какого прошлого, сотрясает все его тело: «Не знаю, теперь даже не знаю, что такое мне хотелось сказать… Ведь всего столько, столько…»
Все застывают, опустив глаза, но тут кто-то кричит: «К черту речи! Выпьем — ведь это стоит всех речей и объяснений. Разве не так?» Головы поднимаются, на лицах сияют улыбки, все выпивают, говорят «Лехаим!» жизни, мирному будущему — с ума сойти, как легко стаканчик водки делает человека оптимистом и даже болтуном.
В другом конце зала я замечаю молчаливого молодого человека. Он ничего не съел и не выпил. Худой, высокий, очень прямой, с темными волосами и глазами, губы сжаты… Всё говорит, что у него нервы на пределе. Я поинтересовался у ответственного: кто этот юноша? Посмотрев в свой список, он ответил:
— Гриша Коссовер, его зовут Гриша Коссовер… Особый случай. Он немой. Это болезнь. Ты же сам видишь… Откуда он? Из какого-то украинского или белорусского городка. Кажется, Краснограда… Да, точно, из Краснограда…
Я бросаюсь к этому пареньку. Говорю ему, что мне знаком его город. Нет, я там никогда не бывал, но знаю поэта, который там жил: меланхоличного, благородного, непонятого, к несчастью, не слишком известного, да что там, если говорить прямо, — вообще неизвестного… Я путаюсь, упоминаю о своей страсти к поэмам на темы из Талмуда и к молитвам неверующего, принадлежащим перу этого еврейского песнопевца, которого Сталин в диком порыве гнева и безумия приказал расстрелять вместе с другими еврейскими романистами, поэтами и актерами тогдашней России… Я все говорю, говорю — и не вижу ни тени улыбки на губах, ни малейшего интереса, ни искорки в глазах. А я продолжаю, продолжаю говорить, но вдруг понимаю: какой я дурень! Ведь парня зовут так же! Немой Гриша Коссовер, юный одинокий эмигрант из Краснограда — это его сын! Ну да, сын Пальтиеля Коссовера! Как я не догадался? А я даже не знал, что Пальтиель был женат. Кровь ударила мне в голову. Захотелось к нему прикоснуться, торжествуя, понести его на руках. Я готов закричать, и я действительно кричу:
— Послушайте, люди добрые, да послушайте же: чудо существует, могу поклясться! — Изумленные лица поворачиваются к нам, я начинаю нервничать: — Вы не знаете? Не знаете, что произошло? Тут — сын Пальтиеля Коссовера! Да-да, сын поэта. Вам такой поэт не известен?
Нет, они такого не знают. Да они вообще ничего не знают, не читали… Толпа безграмотных тупиц.
— Идем, — говорю я Грише, — иди за мной.
Он не отправится в гостиницу вместе со своими попутчиками, это решено. Жить он будет у меня. В моем распоряжении большая квартира — у него там будет своя комната.
Я потащил его в иммиграционную службу, в полицию, на таможню, там я говорил за него, все объяснял, занялся его багажом, и вот наконец мы оттуда выбрались. Уже смеркалось. Моя машина была припаркована невдалеке, я завел мотор и выехал на дорогу. Мы молча помчались на большой скорости, словно нас издалека притягивали иерусалимские холмы и небо над ними. Я думал о Пальтиеле Коссовере, чьи стихи некогда обнаружил по чистой случайности.
Арестованный через несколько недель после своих знаменитых московских коллег, он был расстрелян одновременно с ними в подвалах красноградского НКВД.
Слух о его смерти расходился по округе медленно, осторожно, но все же пересек границы страны. Он не вызвал ни ярости, ни удивления: никто не знал ничего им написанного. Он ведь не был ни таким известным, как, скажем, Давид Бергельсон, ни столь одаренным, как Перец Маркиш. Читателей у него оказалось так мало, что они все знали друг друга.
Был ли он «великим поэтом»? Если по совести, то нет. Ему не хватало энергии, дыхания, напористости и удачи. Вот если бы он прожил подольше, кто знает?..
Его единственный сборник «Во сне я видел моего отца» весьма скромен: военные воспоминания. Стихи? — так, отдельные искорки; голос? — шепот, не более. Проза кажется освещенной изнутри дрожащим, мигающим огоньком. Нас немного, тех, кто всем сердцем воспринимает его самоистязательную суровость, его тоскливую меланхолию. Вечный изгнанник, лишенный корней, он, сдается мне, жил на отшибе. И его жизнь, и смерть выглядят каким-то черновиком, затерявшимся на столе среди бумаг.
Наши вечера, устраиваемые в память о нем, привлекают очень ограниченное число людей. Однако чем уже становится наш кружок, тем он делается фанатичнее. Нашим попечением восемь его стихотворений переведено на французский, пять — на голландский, два — на испанский. И мы не складываем руки: я, например, комментирую его произведения в своих лекциях и ссылаюсь на него при всяком удобном случае. Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как видеть, что один из моих студентов горячо заинтересовался его творчеством.
И вот теперь передо мной стоит гораздо более тяжкая задача: как сделать так, чтобы заговорил его немой сын? Однако мне это удается без особого труда. Впрочем, собственно моего вклада здесь нет: вся заслуга принадлежит его отцу.
Едва разложив вещи, Гриша вынимает из кармана томик. Не говоря ни слова, иду в спальню и возвращаюсь со своим экземпляром. Это та же самая книга. Гриша, вне себя от удивления, берет ее, осматривает переплет, читает один или два пассажа и возвращает сборник мне. Думаю, он потрясен так же, как я.
— Я всегда считал, что располагаю единственным экземпляром. Как и ты, конечно.
Гриша вынимает ручку и пишет несколько слов в моем блокноте. Читаю: «Есть и третий экземпляр. У одного ночного сторожа в Краснограде».
Из своего окна я показываю ему Иерусалим. Говорю об истории города, о моей страстной привязанности к нему, ведь здесь мне известен каждый камень, каждое облачко. Даю практические советы относительно завтрашнего дня и ближайших недель: где купить, куда пойти, что делать и зачем. Рассказываю о наших соседях: служащих, новых эмигрантах, солдатах и — «вон ее окно, как раз напротив, на первом этаже!» — о женщине, овдовевшей во время войны.
— Ты устал, Гриша, иди, поспи.
Он отрицательно трясет головой. Собирается не спать эту ночь.
— Один?
Да, один, впрочем, он делает жест, означающий, что ответ не точен: нет, не совсем один.
— Не понимаю.
И тут он жестом показывает, что хотел бы что-то записать.
— Так ты писатель? Как отец?
Нет, не как отец. От имени отца.
Москва 1965 — Иерусалим 1979«Я не смеялся ни разу в жизни…»
Я не смеялся ни разу в жизни. Ты можешь понять это, сынок? Даже если я старался себя рассмешить, когда развлекался, — сердце к этому не лежало, и я не смеялся. Ты не очень-то удивлен, но так было. Ну, скажи, ты знаешь много людей, неспособных рассмеяться? Ты, конечно, ответишь: «А что с того?» Понимаешь, без смеха можно прожить. Можно делать глупости, можно любить, нажираться, грезить, бегать за юбками, танцевать на натянутой проволоке, жечь облака и корчевать деревья, плевать на весь мир. Можно даже быть счастливым — и при этом не смеяться. Конечно, все это можно, но вот я, сын мой, я смеяться хотел. Хохотать. До посинения. Но нет — не получалось. Когда я смотрел на себя в зеркало, у меня был такой гнусно скучающий вид… Потому-то дома и нет зеркал. А потом в мою жизнь вторгся поэт, непохожий на других, — такой сумасшедший еврей — и изменил ее бесповоротно, рассказав о своей. И вот тогда…
За окном холмы вокруг Иерусалима внезапно затопляет тьма. От медно-желтого солнца остается маленькая горсточка искр, рассыпанных по чужим окнам. Обычно в это время Гриша стоит у окна, созерцая город, призывающий ночь. Но не сегодня. Сейчас он очень занят: перечитывает отцовское Завещание. Переворачивая страницы, он слышит ни на что не похожий глухой, прерывающийся голос Виктора Зупанова, который рассказывает ему историю еврейского поэта, убитого в далеком краю.
Вдруг его всего передергивает, как от судороги, сердце сжимается: он попытался было представить себе рассказчика, но ему это не удается. Множество физиономий проносятся в памяти: худощавые, щекастые, спокойные и встревоженные, хмурые и веселые — но ни одно не похоже на старого ночного сторожа из Краснограда. Он только слышит его голос: «И тебе не стыдно, сынок? Разве я не был твоим наставником и защитником? И как бы ты попал в Иерусалим, если б я тебя туда не отправил? Почему ты меня забыл, Гриша?» Завтра, говорит себе Гриша. Завтра я все узнаю. Завтра приедет Раиса. И моим первым вопросом будет: «Ты видела Зупанова? Опиши мне, как он выглядит?» И только потом спросит об отце: «Ты его любила, мама? Действительно любила?» Но все это завтра… А пока Гриша вновь углубляется в чтение:
«…Я проснулся ночью: сердце билось, как безумное. Бегство, полупридушенные крики — все это было во сне. Маленькая девочка, которая вот-вот упадет с башни, и та же девочка, притом в то же время, тонет. Это кошмар, ничего больше. В детстве я читал утреннюю молитву: „Благодарю Тебя, Бог живой, что дал мне жизнь“. Почему я вновь распознал ее, как эхо? Слушал, как бьется сердце, словно где-то снаружи падают градины. Инстинктивно я затаил дыхание и весь обратился в слух. Тишина, темная злая тишина поднимается от земли… Не знал, что тишина способна перемещаться. Может, сон еще продолжается? Бросил взгляд на окно: там ночь. Я лежу в своей комнате, на кровати. Справа — колыбель. Гриша спит мирным сном. Слышу, как он ровно, доверчиво дышит. А Раиса все время ворочается. Из каких силков она пытается освободиться? Может быть, надо потрясти ее за плечо. Сказать: „Рая, они идут, они уже у Козловского, слышишь?“ Я представил себе однорукого Козловского, жизнерадостного добряка, чьи глупые и пустые улыбки так меня раздражали… Интересно: улыбался он им, когда они стояли на пороге? Но нет, они к нему не вошли, может, они у доктора Мозлика? Это таинственный человечек. Иногда я вижу его на лестнице: что-то в нем есть настораживающее. Не его ли пришел черед?
Все это длилось какую-нибудь секунду, одну секунду после пробуждения, а удары железных кулаков уже бьют не в дверь, а прямо мне в висок. Вот они, здесь, рядом! „Займись малышом, Раиса, нельзя, чтобы он меня забыл, обещай, что не забудет!“ Я хотел было тихо потрясти ее за плечо, но не смог: совсем раздавлен. В дверь стучат. И бесполезно цепляться за пену на гребешке волны. Слушай, Пальтиель. Удары негромкие, вежливые, но настойчивые. Раз-два-три-четыре. Пауза. Раз-два-три-четыре. Раиса толкает меня локтем. Удары раздаются снова. Делаю глубокий вздох: что ж, Пальтиель, нечего разводить сантименты. Боль в левой руке и груди. Если сейчас случится сердечный приступ, вот будет умора. Раз-два-три-четыре. Как им не терпится!. Сумасшедшая мысль сверкнула в мозгу: а что, если не вставать? И не открывать? Прикинуться больным или мертвым? А вдруг это всего лишь продолжение давешнего сна? Сейчас маленькая белокурая девочка упадет с башни… и утонет… Она кричит, кричу и я, но люди спят, заткнув уши, сомкнув веки, не желают вмешиваться…»
«Нет, все кончено. Теперь моя очередь. Раиса сжимает мне руку. Я ей мягко говорю: „Ну вот, Рая“. Хотелось бы поглядеть, какое у нее лицо, но ведь сейчас ночь. Тем хуже: я смотрю на нее и ничего не вижу, просто чувствую. Она встряхивает головой. Ее волосы ложатся мне на плечо, мне тепло от них. „Все кончено, — шепчу я. — Ты позаботишься о нашем ребенке?“ Она ничего не отвечает, но странная вещь: я жду — и получаю ее ответ. И чувствую, что страх покинул меня. Ни следа паники. Мне уже не надо спасать маленькую золотоволосую девочку: она давно мертва. Тревожная оторопь, не отпускавшая меня месяцами, пошла прорехами, расползлась. Я испытываю новое, незнакомое чувство облегчения.
Освобождения».
Самолет из Вены должен прилететь завтра поздним утром. У Гриши, сидящего в своей иерусалимской комнате, есть в запасе ночь, чтобы подготовиться. В голове прояснилось. Он поедет за матерью в Лод и привезет ее к себе. Она будет спать в его комнате, а он — на раскладной кровати у входа. Самое время дать ей прочесть мужнино Завещание… Может, и она, в свою очередь, почувствует что-то вроде облегчения.
С тех пор как Гриша уехал из Краснограда, минул год. Бледное осунувшееся лицо матери.
— Ты уходишь из-за меня?
Он ответил не сразу, она глухо переспросила:
— Из-за меня, ну, скажи же?
И от стыда прикрыла его рот рукой: она ведь хорошо знала, что ее сын не может ответить вслух. Но Гриша научился так двигать губами, издавать звуки, помогая себе и жестами или просто взглядом, чтобы его понимали. Его ответ звучал бы как: «Нет, не просто из-за тебя».
Немного успокоившись, она спросила:
— Из-за доктора?
— Ни в коем случае. Я ухожу из-за отца.
Это было правдой лишь отчасти. Несомненно, и его мать тоже была в этом замешана. «А последнюю фразу рассказа об аресте ты прочтешь уже завтра, — прикидывает Гриша. — И я посмотрю на тебя, как никогда раньше не смотрел. И тебе придется пережить смерть моего отца».
А вот что скажет Раиса? «Гриша, сын мой, не суди меня. Прошу, не осуждай свою мать. Постарайся понять». Вот что я услышу от нее: каждый раз она так пытается оправдаться, и у нее не получается. «Сделай над собой усилие, Гриша. Постарайся представить все эти годы, ужас, одиночество. Особенно одиночество…» За окном Иерусалим вдохнул в себя ночь и удерживает дыхание.
«Я не смеялся ни разу в жизни, — говорил старик Виктор Зупанов так, словно пытался растолковать смысл какого-то неслыханного явления. — Ты можешь понять это, сынок? Ни разу в жизни не смеялся».
Работая над Завещанием, Пальтиель Коссовер прежде всего пытался быть точным. За любым словом угадывался второй, скрытый смысл, каждая фраза свидетельствовала о недюжинном опыте. Мог ли он догадаться, что эти записки его переживут? Что их будет читать, перечитывать, штудировать его сын? Как все заключенные и приговоренные, этот певец еврейского страдания, поэт погибших надежд знал, чего от него ждут: в темных одиночках чекистских застенков писали только для тех, кто допрашивал, пытал и судил. Ожидая смерти, посылали письма только тем, кто несет смерть. Верил ли Пальтиель Коссовер, несмотря ни на что, в невозможное? Он на это где-то намекает. На странице… какой? Гриша листает рукопись. Ах да, на странице 43, внизу:
«Вы спрашиваете меня, почему я пишу? И для кого? Раньше было бы легко ответить. Во время поездок по колхозам и коммунам именно эти два вопроса мне задавали на каждом моем выступлении. Советские люди хотели понять, а еврейский поэт пытался дать разъяснения. Я пишу, чтобы победить зло и прославить эту победу, чтобы оправдать тридцать или сорок веков истории, что ношу в себе. Слишком высокопарные и претенциозные заявления? Тем хуже: они соответствуют тому, что я чувствовал… А на второй вопрос (для кого я пишу?) отвечал: пишу для живых, то есть для вас, потому что вы сидите передо мной, мои современники, союзники, соратники, братья. Хотелось взять вас за руку, улыбнуться вам, когда вы слушаете мою историю, которая — и ваша тоже…
А теперь я уже не знаю. Пишу, но не ведаю, для кого: может, для мертвых — тех, кто покинули меня в дороге и теперь поджидают? Пишу, потому что у меня нет выбора. Кстати, вот история из времен давно минувших. Царь Давид любил петь, и, пока он пел, Ангел смерти не мог к нему подступиться. Потому псалмопевец Давид был бессмертен. Вот так и я. Пока я строчу, так долго, как мне удастся исписывать бумажные листы, Смерть будет бессильна меня одолеть: вам придется меня держать здесь, в этих отвратительных застенках. А когда я завершу последнюю историю, перескажу все, что приходит на память, за мной придут ваши эмиссары и отведут в подвал. Я знаю это, иллюзий не питаю. А значит, пишу я из-за вас, если не для вас же. И поскольку у меня есть одно право — все сказать (других я лишен), добавлю следующее: эти слова, которые, разбирая мой почерк, дано прочитать только вам, адресованы не вам, а другим. Можете уничтожить мои тетрадки (да, скорее всего, вы их и сожжете), но мой внутренний голос во мне твердит, что строки, написанные осужденным, живут своей собственной таинственной жизнью. Прочитав „таинственной“, вы хмыкнете? Однако я начинаю верить, что прав. Слова, которые вы душите, убиваете, оставляют после себя особое молчание, неповторимое и притом непроницаемое. Убить такую тишину вам никогда не удастся…»
Гриша листает страницы. Он уже не узнает собственного почерка. Удастся ли его матери все прочитать? «Досадно, что я немой, — говорит он себе. — Хотелось бы, чтобы отец заговорил моим голосом, чтобы от меня услышали рассказ о его загубленной жизни и никем не виденной смерти. Бедный отец! Твой сын, твой наследник может произносить только нечленораздельные звуки. Сын твой нем».
Читая, он шевелит губами, словно произносит что-то шепотом. Иногда он поднимает глаза, запускает пятерню во всклокоченную шевелюру, и его мысль уносится далеко, преодолевая года и границы: вот грустный ребенок, донимающий свою мать, он несчастен, его оскорбляет присутствие постороннего, пока это — существо, выбитое из колеи своим сиротством, потом — непокорный, экзальтированный подросток, привязавшийся к сумасшедшему старику, к ночному сторожу, о котором настолько ничего не известно, что, кажется, и лица-то у него нет. Женщина, которую он любит, которую он больше не любит, — она говорит ему: «Постарайся понять». А что же Гриша? Словно изгоняя какое-то тягостное видение, он трет глаза всякий раз, как подумает о матери. Однако же было время, когда он отказывался расстаться с ней даже на час, даже для сна, он ее любил, только ее одну. В те годы они были одни на всем белом свете. «Одни», — повторяет про себя Гриша, и у него сжимается сердце.
Он поднимается, подходит к раскрытому окну. Прохладный воздух освежает его. Иерусалимская ночь незримо вторгается в человеческую жизнь: она шествует по улицам, провожает прохожих, ютится под арками ворот. В Иерусалиме ночь служит вестником.
«Завтра, — мысленно повторяет Гриша. — Завтра утром самолет прилетает. В пятницу. Накануне Йом Кипура».
Кого он возьмет с собой в аэропорт? Надо, чтобы кто-то говорил за него. Наверное, своего приятеля Иоава, писателя, который знает всех на свете. Вот уже многие годы Иоав борется за права советских евреев. Многие из них обязаны ему освобождением, а то и просто свободой. Именно он сообщил Грише: «Твоя мать только что выехала из Вены. Она прибудет сюда через три дня». Гриша пошатнулся, и Иоав сочувственно положил ему руку на плечо: «Ты ее любишь, в этом все дело, да? Ты ведь не думал, что увидишь ее вновь? Ты взволнован, могу тебя понять. Я тоже. Семья Пальтиеля Коссовера, вернее — все, что от нее осталось, объединившаяся в Израиле, — это нечто такое, отчего у меня екает сердце…» — «Бедняга Иоав, — думает Гриша. — Ему кажется, что он все знает и все может предугадать».
Катя? Она бы, конечно, поехала с ним в аэропорт. И смогла бы стушеваться, когда потребуется. Но она может произнести слова, которые до времени незачем говорить вслух… «Нет, поеду один, — решает Гриша. — Формальности с полицией и таможней? Мать с ними разберется. Она не из робких. Бывший офицер Красной армии сможет за себя постоять».
Итак, завтра. Наступит час истины. Судный день. И накануне Йом Кипура. Забавное совпадение. Гриша глубоко вздыхает, и тут до него доносятся тысячи звуков, идущих с улицы и от соседних зданий. Орущее радио: новости, комментарии и комментарии комментариев. Как много говорят люди. Все желают иметь свое мнение по каждому вопросу. О русских, о китайцах, о правых и левых, об абортах, психоанализе, о мужчинах, женщинах и обо всех, кто посередине. А тут еще приближаются выборы. И День Искупления… следует ли поститься или можно пойти на пляж? Речи политиков, религиозные призывы. Господь хочет, Господь требует — как Его глашатаи многочисленны и уверены в своей правоте! Спасибо за год, что заканчивается, помолимся о том, что идет на смену. И чтоб не было войны, главное — чтоб ее не было.
Сейчас десять вечера, может, чуть больше, но улица еще полна движения. Вот ребе со своими учениками в зимних одеяниях, которых он не снимает, несмотря на жару, идет к Стене Плача умолять Всевышнего дать им силу и мудрость, чтобы завтра вечером молиться еще истовее. Запыхавшись, спешит домой какой-то служащий. Турист выслушивает объяснения гида, который читает ему надпись на фронтоне ешивы: «Это здание не может быть продано или сдано в аренду до прихода Мессии».
«Надо же! — подумал Гриша. — Отец бы одобрил такую невозмутимую уверенность, закрепленную грамматической конструкцией».
На улице громко перекликаются ребятишки. А их родители, недавно приехавшие из Одессы эмигранты, обмениваются советами и жалобами: «Хочешь иметь машину и не платить налога? Тогда надо всего лишь…»
Катя живет напротив в четырехэтажном сером доме, на первом этаже. Может, зайти к ней? Хороший она человек, Катя. Если бы Гриша мог, он бы охотно на ней женился.
Да, Катя. Порывистая, забавная, отзывчивая. Молчаливая на свой манер, когда речь заходит о ее муже, павшем где-то на Синае или на Голанских высотах. Она об этом не говорит. Вдова солдата, она не желает быть пленницей мертвеца. «Не то что я, — думает Гриша. — Я вот живу памятью мертвого отца, сделав ее своей. Обитаю в его тени. Посвящаю ему свободные часы, страсть, энергию, волю — все, чем располагаю. Я тень его тени, мы ждем только рассвета, чтобы вспыхнуть».
Нет, он не пойдет к Кате. По крайней мере, не сегодня. Он знает, чем это кончится. А отвлекаться ему не желательно. Нет, не сегодня.
С самого своего приезда в Иерусалим, после того как он поселился в комнате, предоставленной ему Иоавом, поклонником его отца, Гриша жил уединенно, ни с кем не виделся, кроме Кати. Дни он проводил, копируя, изучая и записывая заново стихи и Завещание своего отца. А вечером заходил к Кате.
В первый раз он некоторое время колебался: следует ли постучать к ней в дверь или в окно. Наконец выбрал окно. Она отворила его, не выразив ни капли изумления.
— Кто вы и что вам угодно?
Гриша нашел, что она красивая. Полноватая, но собой хороша. Как ей объяснить, что он немой?
— Ладно, входите, — сказала молодая женщина после того, как хорошенько его рассмотрела. И прибавила: — Я позволяю вам войти, потому что вы постучали в окно. В дверь — это не по мне. В нее звонят всегда лишь для того, чтобы принести дурные вести.
Гриша оглядел комнату, словно бы удивленный ее безукоризненной чистотой. Под зеркалом — фотографии в рамках. Офицер, отдающий честь военному министру. Тот же офицер в кругу товарищей. Он же на пляже в объятиях молодой женщины, немного крупноватой, но красивой.
— Меня зовут Катя, а вас?
Гриша не ответил. Просто смотрел. Много раз, различив ее силуэт за оконными стеклами, завороженный, он впадал в смятение. Боялся не только отказа, но и жалости.
— Вы ничего не говорите? Почему вы ничего не говорите? Вы что, немой?
Гриша кивнул: да, он немой. Она в смятении едва подавила желание отшатнуться:
— Ох, простите.
Гриша замотал головой: ей не за что извиняться.
— Как это случилось? Когда? На войне?
Нет, не на войне.
— Так что же, значит, вы немой от рождения?
Нет, не от рождения.
— Тогда я не понимаю.
У него вырвался жест, означавший: «Вы и не можете понять…» Что бы там ни было, он не станет рассказывать ей о своей жизни. Знакомить ее с творчеством отца, говорить о матери? Поведать ей тайную историю старого сторожа привидений по имени Виктор Зупанов? Даже не будь он немым, он бы умолчал обо всем этом.
Сначала он держался в стороне, не прикасаясь к ней. У него не проходило ощущение, что они здесь не одни. «Гриша, не зазорно ли заниматься любовью, когда на тебя смотрят мертвецы?»
А потом он дрогнул. Кровь загудела в висках, его затопил мощный порыв страсти. Тут можно забыть и отца, и мать, и павшего в бою офицера — он поддался зову плоти. Хотелось любить эту молодую женщину, однажды открыться ей…
«Нет, не сегодня вечером».
Я увижусь с ней завтра утром. Попрошу ее проводить меня в аэропорт. С ней мне будет удобнее, чем с Иоавом. На обратном пути в машине окажутся две вдовы. Может ли их что-нибудь связывать? Зачем там Катя, мне понятно, но мать? Почему она приехала? Что побудило ее оставить Красноград? Как ей удалось освободиться от доктора Мозлика? Гриша вновь вспоминает, как его мать и ее любовник жили в негостеприимном городе, где только ему одному были ведомы уютные местечки… Потом его мысли возвращаются к Иерусалиму с его четкими контурами, в которых нашли пристанище столько царей и преданий, Иерусалиму с его переменчивыми оттенками, с его далекими и близкими голосами. А над ним белые и серые облака отвоевывают друг у друга целые куски неба. «Но что делать с отцом? — Гриша вздрогнул. — С отцом, которому необходимо со мной говорить. А со мной? Что со мной? Со мной — ничего».
Встревоженный человек с невеселой улыбкой. Очень молодой и очень старый. Одновременно слишком грустный и столь же счастливый. Как все это понять? Фотография потрепанная, вся в пыли. Грише года три.
— Кто это, мама? — Он протянул ей книжку с фотографией.
— Где ты это нашел? Дай сюда!
Она вырвала книжку у него из рук и торопливо поставила на место, на самую высокую и самую недоступную из висячих полок, позади стопки тарелок, стаканов и кастрюлек. Гриша не может понять, почему мама так вышла из себя, он ведь не сделал ничего плохого. Книга? Он нашел ее на полу. Открыл просто так, не зная зачем, наверное надеясь найти картинки о невероятных приключениях забавных зверей и машин. Но там было только одно фото на обложке.
— Мама, этот дядя, это кто?
— Не видишь, я занята!
Гриша не мог забыть человека на фотографии. Его позу: как он, сцепив пальцы, выворачивает руки ладонями наружу… Он что-то искал, кого-то звал, рассказывал историю о диких зверях, голодных детях, о…
— Ну, мама, кто это?
— Оставь меня в покое!
Никогда еще Гриша не видел свою мать в таком плохом настроении. Обычно она с ним говорила спокойно, объясняла, что делать или говорить можно, а что — нельзя. А теперь она отворачивается от него, его избегает. Она вытирает посуду, складывает неубранную одежду и старается не смотреть на сына, которому сразу же становится не по себе, будто он в чем-то провинился.
— Что я такого сделал, мама? Я что-то плохое сказал?
— Ничего.
— Но ты сердишься!
— Я не сержусь!
Грише захотелось поплакать, хотя он все время старался унять подступающие слезы. Он сжал губы, вытаращил и без того широко раскрытые глаза, чтобы оставались сухими, и задержал дыхание. Раиса взяла его на руки.
— Я не хочу плакать, — проныл он сквозь слезы.
— Знаю, знаю. Ты уже большой мальчик, а большие мальчики не плачут.
Ему хотелось снова задать ей тот же вопрос, но он спохватился и не стал, чтобы не злить ее. Он любил маму и говорил себе, что ему повезло: она могла стать мамой другого мальчика.
— Ты должен мне кое-что пообещать, — тихо произнесла Раиса. — Обещай мне никогда не прикасаться к этой книге. А если тебя спросят, ты ответишь, что никогда ее не видел.
— Кого? Дядю на фото?
— Его. Никогда. И книгу тоже.
Тут, перестав что-нибудь понимать и догадываясь, что его тоже не поняли, Гриша принялся рыдать. Но вдруг он почувствовал, что плывет в воздухе, увидел себя сидящим на самой высокой полке с книгой на коленях, а тот самый дядя ему говорит: «Послушай, старина, тебе не стыдно так хныкать?»
— Это твой отец, — сказала Раиса.
И Гриша успокоился: «Мой папа — не такой дядя, как все остальные: мой папа — фото». Но секунду спустя он поправил себя: «Мой папа — книжка». Много лет он потом носил это открытие в самой глубине души как ценнейший из секретов.
Оставаясь один в квартире, он тайком забирался на стол, оттуда на сервант, чтобы, встав на цыпочки, дотянуться до запретной книги. И почувствовать отцовское присутствие, его теплоту. Или садился у изножья кровати, готовый спрятать томик при первой же тревоге, и с бьющимся сердцем листал его, хотя читать еще не умел. Отец обращался к нему на языке, которого он не понимал. Но ему это не было важно: он тыкал пальцем в строчки, в слова, и его охватывало счастье.
Однажды Раиса пришла неожиданно. Он подумал, что она станет его ругать, но она сняла пальто и уселась прямо на полу лицом к сыну. Казалось, ее что-то очень заботит, гораздо больше, чем обычно.
— Прости, я огорчил тебя, — прошептал Гриша. — Но я не смог удержаться… У Юры есть отец, у маленькой Наташи тоже, у Вани есть отец, и у меня тоже есть отец. Я хочу его любить, видеть, трогать…
Глаза Раисы наполнились слезами.
— Когда-нибудь ты поймешь.
— Обещаешь?
— Конечно, обещаю: однажды ты поймешь.
Она взяла книгу, открыла наугад, тихо прочитала несколько строк на идише, а потом перевела их:
Предлагаю тебе, человек, мою память и то, что ее питает, мой свет и его сумерки; а от тебя взамен хочу все то же, но твое.— Еще, — попросил Гриша, не понимая услышанного, но испытывая непонятное возбуждение. — Еще, читай еще!..
— Ты откусила от запретного плода без меня; ты ощутила дыхание жизни без меня; ты узнала меру бесконечного для меня. Но голодный ребенок, жаждущий странник, испуганный старик нуждаются — во мне, и я горд этим. А ты, ты далеко.— Это идиш, — пояснила Раиса. — Твой отец писал на идише.
— А это что?
— Это язык.
— Как русский?
— Нет. Это еврейский язык, он ни на что не похож: умеет так передавать горе и радость, как никакой другой. Это очень богатый язык очень бедного народа.
— Еще! — с горящими щеками взмолился Гриша.
Она продолжила чтение, потом закрыла книгу и сказала:
— Запомни: твой отец поэт.
— А что это такое?
— Это значит, твой отец был поэтом; поэты — это те, кто живет в настоящем времени.
— А это что значит?
— Это значит, что… твой отец не был похож на других людей. Он жил, мечтал, страдал, любил иначе. Для него жизнь была песней. Он думал, что слова могут всё.
Гриша захлопал в ладоши:
— Люблю, когда ты читаешь. Так и хочется открыть окошко и кричать: «Подходите, послушайте песни моего папы!..»
— Не надо, — тихо произнесла Раиса. — Нельзя об этом говорить.
— Почему?
— Потому, что это опасно.
— Для моего папы?
— Да нет же. Твой отец умер…
— Умер? Мой отец? Разве так может быть, ведь он поэт? Ты же сама сказала, что поэты живут в настоящем времени. Всегда живут.
— Да, я так и сказала.
— Тогда как же?
— Они мертвы, но из жизни не уходят, остаются.
— Нет, мама, мой папа не мертвый. Он — книга, а книги не умирают.
Раиса, с головой погруженная в свои мысли, посмотрела на ребенка с таким состраданием, что это его буквально потрясло.
— Не надо так грустить, мама. Я тебя люблю. Так же, как его. Так же, как ты его любишь. Ведь ты его любишь, правда?
Глаза Раисы потемнели, зрачки стали огромными. Гриша испугался:
— Что с тобой, мама?
— Ничего, ничего.
— Скажи, я хочу знать.
— Ты еще очень маленький. Слишком маленький, чтобы что-то понять.
В ее голосе, во взгляде Гриша различил какую-то дрожь и в замешательстве умолк. Почувствовал, что откуда-то надвигается угроза. Его комната ему больше не принадлежала, игрушки — тоже: кто-то хотел разлучить его с матерью, как уже разлучил с отцом. Мир был полон воров, тех, кто крадет души, убивает поэтов и рвет книги. В таком мире сироты живут одиноко, без родных и близких.
Завещание Пальтиеля Коссовера
С вашего разрешения, гражданин следователь, я хотел бы прежде, чем начать — а начну я с конца, так как чувствую: он близок, — выразить вам благодарность.
Вы любезно согласились дать мне разрешение и здесь заниматься своим профессиональным делом. Вы даже предложили мне тему: «Напишите книгу о собственной жизни».
И вот, благодаря вашему благорасположению, я пользуюсь привилегией, которая в нашей традиции дается одним праведным. Им сообщается о приближении смерти. Чтобы они оказались в силах дожить до нее, а особенно чтобы подготовиться, привести в порядок свои дела. И мысли. И воспоминания.
А буду ли я «праведником»? Конечно, я шучу. Превращусь ли я в него в ваших глазах или как минимум благодаря вам? Этот религиозный термин здесь, как мне представляется, самым забавным образом уместен, ибо разве наши отношения, гражданин следователь, не эволюционировали с самого начала под влиянием некой религии? Вы призывали меня «покаяться», «признаться, как на исповеди», «очиститься», «искупить», «загладить вину», заслужить «прощение», стать достойным «спасения» — все эти действия имеют религиозную подкладку. Священник вы или инквизитор, но вы служите Партии, чьи свойства уже из разряда божественных: она великая, героическая, всемогущая и несущая мир, непобедимая, всеведущ…
Если время мне позволит, гражданин следователь, я когда-нибудь к этому еще вернусь. А сначала о признаниях.
Тысячу раз вы меня допрашивали о тех обстоятельствах содеянного, которые мне вменяются в вину. И столько же раз я отвечал вам, что ваше обвинение разваливается на ходу.
Сегодня в качестве благодарного ответа на вашу услугу имею честь вам сообщить, что я уже так не думаю: я признаю, что виновен. Не по всем пунктам, не по тем, что касаются еще каких-то людей, кроме меня, а только в том, что для меня — а значит, и для вас также — имеет чисто символическую ценность.
Я объявляю себя виновным (я выражаюсь определенно: именно виновным, а не виноватым) в том, что испытывал чувство, родственное ненависти, по отношению к славной русской нации, в лоне которой вырос и за которую сражался на фронте.
Я признаю себя виновным в том, что питал (впрочем, запоздало, даже слишком) несоразмерно горячее чувство любви к тому упрямому народу, к коему принадлежу и который вы и вам подобные не устают поносить и преследовать.
Да, сегодня я рву все связи с тем миром, который охраняет и представляет эта тюрьма. Я берусь защищать еврейское дело, теперь я принадлежу ему полностью и без остатка. Да, я оставляю за собой право быть солидарным со всеми евреями, где бы они ни находились. Да, я — еврейский националист в историческом, культурном и этическом смысле этого термина: прежде всего я — еврей и жалею, что не заявлял об этом ранее и в иных местах.
А теперь перейду к фактам.
Вы будете смеяться, но мне было бы удобнее изъясняться стихами. В конце концов меня называют поэтом. Но это бы заняло целую жизнь…
Фамилия, имя, отчество — нужно ли мне здесь их писать? Вам хорошо известно, кто я такой. Конечно, пройдя череду допросов, можно дойти до того, что сам об этом забудешь. А вы, узнали ли вы после них что-либо новое? Простите за дерзость щелкопера, гражданин следователь, но его история вас с ним навсегда неразрывно связывает. Однажды в старости вы останетесь один на один с вашими соображениями, как вот я сейчас, и спросите себя: «Кто я есмь?», на что последует ответ: я — тот, которого один еврейский поэт видел перед тем, как его повели на казнь, я — тот самый человек, чей образ Пальтиель Гершонович Коссовер унес с собой в обитель смерти.
Да, Пальтиель Гершонович Коссовер — это я. Поэт по призванию, еврей по рождению и — да простится мне это — коммунист (или бывший коммунист) по убеждениям. Знаю: вы состроили гримасу. Мы отрицаете за мной право упоминать мои должности и заслуги. Я — враг народа, вы это мне достаточно повторяли. Но врагом народа не становятся, им бывают от рождения. Даже если человек сам об этом не догадывался, даже если он сам ретиво боролся с народными врагами. Это как благодать у некоторых христиан: она либо есть, либо ее нет — с нею рождаешься.
Моя история идеально прослеживается: я родился в 1910 году в том красивом городке Белеве, что впоследствии стал известен под названием Красноград. Увы, точнее определить дату я не в силах: где-то между концом мая и началом июня. Знаю лишь, что появился на свет во второй день праздника Пятидесятницы. Отец мой, видите ли, как все евреи, занимавшиеся промыслом, был глубоко религиозным человеком и жил только по иудейскому календарю: от праздника до праздника, от шабата к шабату: неделя начиналась в воскресенье, а год — в сентябре-октябре.
Странное совпадение: мой дедушка, чье имя я ношу, умер в тот же самый день того же праздника, но тремя годами ранее. О нем мне известно, что он владел лесопилкой в соседней деревне. Его уважали во всей округе. Бродяги произносили его имя, как благословение: он давал им приют и кормил их, словно дорогих гостей, внушая им, что они оказывают ему услугу, соглашаясь принять от него милостыню. Его также уважали за начитанность и набожность. Желая привлечь евреев в свое местечко, он построил Дом молитвы и учения, где знакомил взрослых и детей с Талмудом и комментариями к нему. Помнится, мне рассказывали, что самые известные раввины обеспокоились приехать на его похороны.
Будучи подростком, я отыскал в томике, принадлежащем моему отцу, фотографию, которая по необъяснимым причинам меня смутила. На ней был изображен какой-то хасид очень величавого вида. Крупный, мощный, с благородным и приветливым лицом. Я спросил о нем у матери:
— Кто это?
— Твой дедушка, — отвечала она. — Пальтиель Коссовер. Ты должен гордиться, что носишь его имя.
Я же по глупости, только чтобы ее задеть или сбить с толку, выкрикнул:
— Что значит гордиться?
И коммунист во мне зашел в своей наглости еще дальше:
— Мне гордиться каким-то хасидом? Да я стыжусь его!
Мама молча заплакала, а я вместо того, чтобы остановиться, попросить у нее прощения, продолжал с нечестивостью, достойной полного кретина:
— Ты забываешь, мама, в какое время мы живем. Мы верим в коммунизм, мы покончили с Богом и отвергаем тех, кто использует веру в Него, кто использует Бога для того, чтобы помешать евреям освободиться от старых повинностей, жить по своей воле, бороться за гражданские и человеческие права.
И на глазах у объятой ужасом матери, чей взгляд по сей день не могу забыть, я порвал желтую фотографию — верх грубого недомыслия! — в некотором роде отправляя в небытие собственного деда… Теперь я об этом сожалею, гражданин следователь. Впрочем, я пожалел об этом уже вскоре, но по совсем другим причинам. Мама не стала меня ругать или чем-то угрожать, только проговорила тихо:
— Я ничего не скажу твоему отцу, Пальтиель. Я ему ничего не скажу.
Тут мне захотелось вымолить у нее прощение, прижаться к ней и… Но я этого не сделал. Мне было слишком стыдно… или, напротив, недостаточно. Теперь я раскаиваюсь во всем этом, причем вдвойне: мне больно, что причинил столько горя матери, обидно, что предал отца, жалко, что надругался над лицом деда, чье имя ношу. Как хотелось бы, чтобы однажды сын увидел его портрет! Впрочем, он никогда не увидит даже моего. Мой сын… Не заставляйте меня говорить о сыне, гражданин следователь, имейте жалость, прошу вас, хотя знаю, что ее у вас нет. Спрашивайте меня о чем угодно, но оставьте сына вне ваших игр: ему только два года.
Он носит имя моего отца: Гершон. Уменьшительное от него — Гриша. Мой отец был одновременно властным и добрым. Будучи младшим из восьми сыновей, он, казалось, страдал неизлечимой робостью. Между тем он заставлял к себе прислушиваться, лишь только входил в комнату. Редко повышал голос, однако ему достаточно было кашлянуть, прежде чем начать говорить, как все внимательно замирали. То, что он хотел сказать, всегда укладывалось лишь в несколько фраз, подчас в одно слово. Ясно, сжато и справедливо. Вижу, как вы посмеиваетесь, гражданин следователь: мое обыкновение с такой любовью упоминать об отце вас, разумеется, забавляет. Тем лучше или тем хуже. Отец… я любил его, я им восхищался. Я никогда ему этого не говорил, вы единственный, кто это слышит. Он, видите ли, наверняка думал совсем не так. Признайте же, я прилежно воспринял уроки коммунизма: сын должен отречься от своих предков.
Отец… Я принес ему много горя… я его мучил, пытал. Тем не менее, когда он решал мне отвечать, опровергнуть какой-либо довод или просто поговорить с глазу на глаз, я слушал его, не перебивая.
Я — единственный из троих его детей (у меня еще были две сестры), кто причинил ему столько забот. Он хотел, чтобы я вырос хорошим евреем, я же сделал все, чтобы замазать грязью его мечты. Теперь, составляя это завещание, я пытаюсь добраться до истоков собственного бунта. В каком возрасте это произошло? Сразу после бар мицвы, то есть мне уже шел четырнадцатый год. Значит, это случилось после нашего отъезда из Белева.
Я вспоминаю о Белеве, о моем белевском детстве. Еврейский дом на еврейской улочке, проложенной в еврейском же квартале. Если перефразировать нашего великого поэта Ицхака-Лейба Переца: у нас в Белеве даже речка говорила на идише, и деревья из месяца в месяц хвастались или печалились тоже на идише, солнце же вставало, чтобы посылать еврейских детей в хедер, а каббалистов — к ритуальным омовениям. Время протекало, делилось по четвертям года, руководствуясь ритмом Торы. Все предавались отдыху в седьмой день недели, ели мацу на Пасху, постились в Судный день и пьянели, славя Талмуд. Зажигали свечи, чтобы отпраздновать победы и чудеса, отделенные от нас не одной тысячей лет, молились за восстановление Храма, чье разрушение всех еще ввергало в грусть. Давид со своими псалмами, Соломон с притчами, Илия со спутниками, Бешт с учениками жили прямо среди нас. Рабби Акива, рабби Шимон бар Йохай, маленький рабби Зейра из Вавилона были частью нашей повседневности: я слушал их, с ними говорил, играл с их детьми. Мы все цеплялись за настоящее, но жили в прошлом.
Когда мне исполнилось три года, отец завернул меня в свое бескрайнее, тяжелое молитвенное одеяние и отнес к наставнику реб Гамлиэлю. Суровый лик, густые брови, всклокоченная борода — реб Гамлиэль внушал ужас, нас у него было с десяток ребятишек или, может, два десятка (я еще не умел считать), и нам предстояло выучить, распевая их, те священные вечные буквы, с помощью которых Всевышний, как полагают, создал Вселенную, а теперь мы, Его противники, свирепые рационалисты, думаем все объяснить. Лентяи каждое утро дрожали, впрочем, и все прочие тряслись тоже: реб Гамлиэль при всяком удобном случае пускал в ход плетку, охаживая спины нерадивых, рассеянных — последних он обвинял в лени, расхлябанности и даже в склонности к бандитизму… Не верите? Он так считал. Реб Гамлиэль воплощал все, что я мог ненавидеть в трехлетнем возрасте. Но ныне, когда я подвожу итог этим дальним годам, я вспоминаю старого наставника тепло и ностальгически.
И не надо мне говорить, что это в порядке вещей: мол, евреи любят страдать. Мы не так глупы. Если я испытываю что-то вроде нежности к суровому старику, который когда-то причинял мне боль, то не из-за любви к страданию, а из почтения к знаниям. Скажу даже, что в то время я презирал реб Гамлиэля — его самого и все, вестником чего он являлся: учение через страх, принуждение к занятиям — душную тюрьму, где даже слова упрямо не желали повиноваться: они когтили и до крови обдирали рассудок.
Каждый вечер я возвращался домой в слезах. Отцу я их, разумеется, не показывал. Никогда бы не осмелился даже намекнуть ему, что подобное преподавание мне отвратительно, что я до смерти боюсь того, кто меня учит. Но я отводил душу перед матерью. Поскольку отец часто задерживался в магазине (он торговал тканями), мне выпадал час или два, чтобы стереть следы дневных мучений. Чтобы успокоить меня, мама напевала грустные колыбельные: под люлькой дремлет овечка, в люльке спит младенец, а на него льются слезы нежной прекрасной вдовицы, и имя ей — Сион… А мама прибавляла:
— Выучи эти слова: сегодня они навевают сон, но завтра ты их заставишь звучать, и они запоют.
Постепенно я приспособился к ритму такого существования: днем плакал, вечером улыбался. Так продолжалось два года. Два года подавленных печалей и приступов ярости; двадцать две буквы алфавита встречали меня с вызовом, но я, скрепя сердце, их все же укрощал.
Когда я ушел от реб Гамлиэля к более ученому наставнику, то вскоре понял, что не вполне освободился от страха: тот словно прилип к коже, стал частью моей жизни. И еще я понял, что так чувствую не я один: даже мои родители еще несли на себе его отпечаток, а также их друзья, евреи на улице, в квартале — все увязали в страхе. Боялись, конечно, не реб Гамлиэля, но окружающего нас мира, чьи неясные угрозы заставляли содрогаться и самого грозного наставника.
Одно воспоминание: вечер Нового года, меня отправили домой еще до дневной молитвы «минха», я спрашиваю у матери, в чем дело. Она объясняет: с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра запрещено изучать священные тексты. Почему? Она этого не знает. Набравшись смелости, я обратился к отцу, который знает все.
— Этой ночью, — отвечал он, — над нами проходит проклятье. Лучше не показывать ему наши тайные сокровища.
Позднее я узнал, что на всех христианских землях в эту ночь враги евреев преследуют их на улицах, чтобы наказать именем Господа и Его любви к ним; а потому считается более разумным не посещать в этот день ни школу, ни Дом молитвы и учения: осторожность велит евреям не выходить на улицу.
Я рос, созревал и понимал все яснее: быть евреем в христианском мире — значит познать страх и к нему приспособиться. Бояться надо неба, а плюс к тому — людей. Бояться жить и страшиться умереть, бояться всего, что дышит за твоей стеной, и того, что затевается с той стороны. Над всеми нами тяготел непроясненный страх, каждый боялся неведомо чего. Иногда опасение принимало определенную форму, угроза становилась явной. Так, я имел случай пережить от начала до конца мой первый погром и выжить. В каком возрасте? Уже не помню. Знаю только, что это случилось еще до Первой мировой войны.
В тот день мой отец с перевернутым лицом неожиданно появился в классе, отвел учителя в угол и там сообщил ему какую-то новость. Что дело плохо, стало тотчас ясно, так как учитель решил на один день закрыть хедер. При этом он вздыхал:
— О Всевышний! О Бог Авраама, Исаака и Иакова, смилуйся над их чадами, ведь они и Твои, смилуйся над ними.
Сбитые с толку, мы уставились на него. Столько свободных часов, какой подарок! Мы уже готовы были возликовать, но тут мой отец вернул нас на землю:
— Отправляйтесь домой, бегите быстро и, если Всевышнему будет угодно, возвращайтесь завтра.
Я взял его за руку и почти бегом последовал за ним. Никогда не видел, чтобы он так спешил. Мама была во дворе с веником в руках: она начинала готовиться к Пасхе. Заметив нас, она мигом все поняла и свободной рукой зажала рот, чтобы оттуда не вырвался крик ужаса.
— Где девочки? — спросил отец.
— Дома.
— Пусть остаются дома. Скажи им, чтобы никуда не выходили. — И добавил: — Я велел закрыть школу.
— А магазин?
— Тоже закрыл. Надо закрыть всё.
По виду мамы не скажешь, что она удивлена: у нее это был не первый погром.
Время близилось к полудню. Стоял великолепный апрельский день. Деревья в цвету — праздник запахов и разноцветья. Голубое небо с белыми полосками облаков. Золотое солнце, обещающее все блага мира. В отдалении — радующие прохладой рощи. Спокойная блистающая река. И посреди этого — короткое, жестокое, варварское слово, взрывающееся как женский вопль или ор толпы, которую рубят шашками, похожее на тело со вспоротым животом и на пробитый череп. Да, гражданин следователь, наступал, вероятно, полдень. Один из тех весенних полдней, когда человек чувствует, что проживает эти минуты в согласии с Творением, а Белев был красив… Той красоты Белева, того спокойствия будущего Краснограда я никогда не забуду.
Мне не забыть ничего из событий того дня.
Отец позвал старшую дочь Машу:
— Хочешь для меня кое-куда сходить?
— Конечно, отец.
— Не боишься?
— Нет, отец. В любом случае женщине не так опасно. Что надо сделать?
— Сбегать в молельню и велеть ученикам, которые не из города, прийти к нам, если они не знают, где схорониться.
Маша ушла и вернулась с тремя молодыми людьми, один из них потом по прихоти случая стал ее мужем.
Стоя в спальне — мне там помнится старая картина, изображавшая Стену Плача, — у двух кроватей, разделенных ночным столиком, отец рассказал свой план:
— У нас в запасе пять или шесть часов, воспользуемся ими с толком. Главное, не сходить с ума. Все будет хорошо. Если Господу угодно, мы переживем это испытание и выйдем целыми и невредимыми.
— Что вы намерены предпринять? — спросил будущий Машин муж. — Возвести баррикады? От чего они спасут? Вы действительно полагаете, реб Гершон, что запертые на замок двери остановят убийц?
— Приготовимся умереть как добрые иудеи! — вскричал его друг по имени Сендерл, худой подросток с лихорадочно горевшими щеками. — Будем достойны наших предков!
— У вас есть план? — спросил третий ученик. — План, как остановить убийц?
Мой отец терпеливо выслушал их, поглаживая короткую ухоженную бородку. Ответил не сразу. Помолчал, подумал и, наконец, произнес:
— Что до убийц, мои дорогие, один Господь может их остановить и остановит. Или обезоружит. Или поразит их слепотой и глухотой. Как некогда в Египте… Кто мы такие, чтобы давать Ему советы? Он знает, как взяться за дело. А вот что касается нас, послушайте… Если небеса нам помогут, мы сделаем вот что…
Далее мы распахнули все шкафы, разбросали по полу посуду, столовое серебро и одежду, чтобы создалось впечатление, будто, объятые паникой, мы пустились в бегство. Подготовив эту мизансцену, мы маленькими группами и поодиночке вышли во двор и перебрались в сарай. Отец поднял одну доску, и мы спустились вниз по узенькой лестнице. Сойдя по ней вслед за нами, он осторожно пристроил доску на место. В сумраке я различил старые балки и мебель в паутине. Отец, взмокнув от усилий, стал стаскивать все это к тому месту, где мы спустились, а прочие помогали ему, как могли. Наконец он вытер пот со лба:
— Если Богу будет угодно, враг нас не увидит; доверимся Спасителю, дети мои.
Враг, враг… я пытался его представить себе. Египтяне времен фараонов. Грабители на службе у Амана. Крестоносцы в тени икон с лицами, искаженными ненавистью. Враг не меняется. Евреи — тоже. И Господь неизменен, слава Создателю.
Несколько солнечных лучей пробили себе дорогу в наше убежище. Инстинктивно мы отстранились от них: если солнце может нас обнаружить, то и врагу будет легко нас разглядеть. А как бы хорошо сделаться невидимыми…
Если Богу будет угодно, возможно все… «Если Богу будет угодно» — только эти слова мы и слышали от нашего отца. Уж он-то доверял Всевышнему. Хранил в себе убеждение, что Господня воля не ведает преград. Но как определить, чего Создатель желает, а чего — нет? Ведь если, предположим, враг нас обнаружит, значит, Бог этого хотел? Бесконечные вопросы колотились в моей детской головке, но я не имел права их задавать. Надо было молчать. Даже дышать бесшумно, навострив уши и укрываясь под защитой тишины. В то время я еще не знал, гражданин следователь, что и молчание может превратиться в пытку. Я над этим начал задумываться всего лишь несколько недель, или месяцев, или несколько вечностей назад, когда вы сочли уместным запереть меня в изоляторе. О молчании как источнике потенциальной опасности и гибели. Густота молчания, пресс тишины, сила ее давления — теперь мне ведомо, что это такое. А вот там, в пыльном белевском убежище, я не оставался один. К тому же там враг был действительно врагом.
Помню, как из тишины воздвиглась стена, разделявшая два лагеря. Помню, что молчание преодолевало собственные границы, становясь вездесущим, чем-то похожим на Бога.
Наш квартал можно было бы описать как место, где прошел ураган или случилось землетрясение. Заброшенные улицы. Закрытые ставни, задернутые занавески. Ночь в середине дня. То там, то здесь лениво прошествует кошка, за которой следят тысячи невидимых глаз. Заржет лошадь — и тысячи ушей прислушаются, и тысячи грудных клеток вдохнут воздух, и тысячи голов готовы будут треснуть от боли, как, например, моя.
А часы текут, долгие, весомые. Изматывающие. Ожидание катастрофы, близость бедствия, вы знаете, что это такое, гражданин следователь? Что такое ожидать побоища — известно ли это вам, который не ждет никогда и ничего?
Мама раздает нам бутерброды, которые она, не знаю как, успела приготовить и засунуть в клеенчатую сумку: трое учеников были единственными, кто их отведал. Отец к ним не прикоснулся. Я — тоже.
Позже нас покинуло солнце, словно ушел друг. Отец прошептал: «Время читать вечернюю молитву».
Люди прочли молитву такими тихими голосами, что я не расслышал ничего. Настала полная тьма, и я прикасался к материнской руке, чтобы удостовериться, что мама все еще рядом.
— Пальтиель! Читай «Шма Исраэль»! — одним выдыхом приказал мне отец. — То, что враг близко, не дает тебе права отдаляться от Бога!
Я подчинился. Эту молитву я знал наизусть, потому что читал ее каждое утро и каждый вечер. Реб Гамлиэль утверждал, что она отгоняет демонов. Пришла пора это проверить.
Вдруг мы застыли. На еврейский квартал надвигались странные звуки, рожденные, или, скорее, выдавленные из себя тишиной. Мое — а может, отцовское — сердце билось так громко, что могло разбудить целый город. Неизвестность пожелала нам открыться, неизвестные явились овладеть моим воображением и заточить его в темницу. Сейчас мне предстояло узнать, на что способны люди. Их безумие собиралось вторгнуться в наш мирок, безумие мрачное и полное ненависти, дикое, жаждущее крови и убийства. Приближалось оно медленно, крадучись, рассчитанными шажками, как свора хищников обкладывает свою уже объятую ужасом, а потому заранее обреченную жертву.
Внезапно толпа сорвалась с узды. Из всех глоток вырвался крик, распоров тишину и сумрак: «Бей жидов!» Его подхватило бессчетное число глоток. Эхо крика донеслось до самых городских предместий, перевалило через леса и достигло крайних рубежей земли. Крик прошел сквозь дерево и камень, через скалы и реки, добрался до рая и ада, ангелы небесные и звери земные, стеная или хихикая, передали его дальше, чтобы он долетел до престола небесного, как напоминание о приключении, которое плохо кончилось, об огрехе на стадии творения… «Бей жидов!» Эти два слова среди всех, употребляемых людьми, внезапно обрели непосредственный, реальный и готовый к действию смысл. Услышать их, принять в себя, почувствовать, как они грабят и увечат мозг, — нестерпимо, от этого болят уши, глаза, все тело. Я не могу побороть дрожь, льну к матери, она прижимает меня к сердцу, и из-за меня ее тоже начинает бить дрожь. Мне хотелось бы почувствовать руку отца на лбу или плече, но он довольно далеко, слишком далеко. По сути, это даже неплохо: мне бы потом было стыдно, что я выказал такую слабость. И что бы из этого вышло? Я предпочел спрятаться. Желал паралича или смерти. Зубы стучали, и я не сомневался, что от меня больше шума, чем от погрома снаружи.
А погром добрался и до нашей улицы. Крики ужаса, предсмертные стоны, надрывающие душу громкие рыдания насилуемых женщин, моления о помощи. И завывания воров, убийц и тех, кто грабил трупы. Их ликующая ненависть и разнузданная свирепость праздновали свой пир в наших жилищах. Кто еще жив, кто простился с жизнью? Мне пришли на память молитвы Судного дня: кто-то (может, сам Господь?) занимался составлением списка, занося туда одни имена и вычеркивая другие.
Шум и грохот все приближались, и вот эти люди уже во дворе нашего дома. В самом доме. Общая сутолока. Звон разбиваемых окон, треск разбиваемых топорами шкафов. «Бей жидов, бей жидов!» Голос какого-то разъяренного пьянчуги:
— Ну, жидовье, куда же вы попрятались? Хотелось бы взглянуть на ваши грязные морды!.. Убежали!.. Ах, эти трусы, ах, подлецы!..
Другой голос:
— Да они хуже, чем… чем скоты: все деньги унесли! До копеечки!
Первый голос:
— Вот таковы они, евреи! Только деньги их и интересуют!
Третий голос:
— Так поступить с нами? Так поступить?!
Кто-то неуверенно спрашивает:
— А может?..
Еще голос:
— Что «может»?
— Может, Ванька со своими побывали здесь до нас?..
Они разграбили дом, потом вышли, испуская дикие вопли. Уже собирались убраться со двора и заняться следующим домом, когда какой-то крикун заметил сарай. Он подозвал своих подельников:
— Эй, парни, может, заглянем и сюда?
С факелами в руках они вошли в приоткрытую дверь, обшарили все укромные уголки, перевернули телегу без колес, разрезали мешок картошки, мешок высушенных орехов. Упрямый их заводила добрался аж до чердака и спустился оттуда разочарованный. Растянулся на полу, прислушался и заголосил:
— Ну, жидки, выходите! А то давно вас не видели! Имейте смелость, покажите ваши грязные рожи…
Нам казалось, что мы чувствовали даже как у него воняло изо рта. А у меня, не переставая, стучали зубы, глаза были готовы вылезти из орбит, в венах билась кровь — а железный кулак все колотил, колотил меня прямо в грудь, мешая дышать, жить… Хотелось закричать, выкрикнуть всю боль, всю тоску… Но отец протянул ко мне руку и приложил палец к моим губам, прижал так мягко, так успокоительно, что это подействовало не хуже маминых колыбельных: не надо, не поддавайся, нельзя стонать, нельзя моргать, нужно раствориться в ночной мгле, пропасть в молчании, уйти в забвение. И в течение одного нескончаемого мига враг, что уткнулся в пол, выслеживая малейший звук, отыскивая какую-нибудь, хоть самую малую щелочку между досками, — этот враг был единственным обитателем неба и земли.
Затем вся свора погромщиков убралась. Мы немного подождали, прежде чем разжать губы. Мама шепотом спросила:
— У всех все в порядке?
У всех было все в порядке. Будущий муж Маши воскликнул:
— Чудо! Настоящее чудо, реб Гершон! Они были совсем близко, рядом, и Создатель сделал их слепыми и глухими…
— А что до нас, то нас Он сделал немыми, — заметил один из учеников.
— Как когда-то в Египте, — подхватил мой будущий зять. — Спасибо, реб Гершон, что сотворили это чудо!
— Рановато для радости, — спокойно придержал их мой отец. — Они еще могут вернуться.
Я заснул и проснулся только после погрома. Солнце сияло, царственно освещая чудовищную картину содеянного. Улицу, усеянную обезображенными трупами. Дома с зияющими дверными проемами, где лежали зарубленные мужчины, женщины со вспоротыми животами, скорченные детские тела. Реб Гамлиэля с кровавым крестом, вырезанным на лбу. Распятого Ашера-могильщика. Его задушенную жену Маню и восьмерых забитых насмерть сыновей и дочерей.
На что смотреть в первую очередь? Кем заниматься сначала, кому оказать первую помощь?
Три Дома молитвы и учения украшали нашу улицу, теперь они были осквернены и разграблены, священные свитки, заляпанные грязью и порванные, валялись на земле, Шимон, синагогальный служка, лежал в луже крови.
С отцом, сестрами и тремя учениками я ходил от дома к дому, от одной семьи к другой, смотрел, слушал, плакал. Плакал от ненависти и горечи, оттого, что еще мал и не могу помочь жертвам, отомстить убийцам, я испытывал к евреям моего квартала огромную любовь, хотелось вернуть их всех к жизни, утешить, сделать счастливыми… Я страстно мечтал поделиться с ними тем чудом, что ниспослали нам небеса.
Что до грабителей-налетчиков, мне хотелось видеть их на коленях, исхлестанных плетью, в цепях, — да, да, гражданин следователь, я испытывал к белевским горожанам, а значит, к будущим красноградским жителям, а значит — к русскому народу, то есть в конечном счете ко всей России нутряную, чудовищную, безжалостную ненависть.
Да, гражданин следователь, я любил моих и ненавидел ваших.
Вследствие чего я, Пальтиель Гершонович Коссовер, проживающий в городе Краснограде, в доме номер 28 по Октябрьской улице, я, еврейский поэт, обвиненный в подрывной деятельности, уклонизме и измене, объявляю себя виновным: в пять лет (или в четыре?) я перенес свою любовь целиком на мой народ, который повинуется одному Господу, и этот Всевышний — не ваш. Иначе говоря: с этого возраста я уже виновен в еврейских националистических происках и в действиях, идущих против вашего закона, ибо ваш закон — враг моего.
«Как описать Красноград после войны?»
Как описать Красноград после войны? Те, кто там родился, не сомневаются, что их городок — под стать столице. Между нами говоря, Красноград вполне провинциален. Он ни хуже, ни лучше, ни уродливее, ни великолепнее всякого другого.
Разве что чуть-чуть более колоритен. Ночью сюда доносится отдаленный гул водопада. Летом молодые парочки отваживаются на лесную прогулку. Люди решительные штурмуют местную гору, чья вершина словно с вызовом взирает на тех, кто копошится внизу, особенно на детей. Если вас не привлекают ни гора, ни река, в вашем распоряжении какой-нибудь из пяти парков, коими очень гордятся городские власти. Красивее прочих сквер имени Горького. Но он часто пустует. И на то есть причина: отделение Госбезопасности — совсем рядом. Люди предпочитают диковатый, маленький, поэтичный парк, притулившийся у холма Семи Раскаявшихся Грешников, названного в честь семи разбойников XVIII века, на которых снизошло озарение, и они переменили участь, проще говоря — ремесло.
В Краснограде от ста до полутораста тысяч жителей разного происхождения, что довольно обычно для здешних мест. Здесь говорят на пяти языках, а ругаются на семи. Как и во всех советских городах такого типа и размера, в Краснограде имеются трамваи, заводы, газеты, дома культуры, театры и кинотеатры, школы и техникумы. Есть тут свои герои и негодяи, пьяницы и общественники. Имеются две церкви и синагога: кому-то надо заниматься стариками. Молодые, те предпочитают клубы по интересам, большинство из которых пристроилось под крылом пионерской организации и комсомола, но ничего не поделаешь: перед основным занятием приходится выслушивать их проповеди. Помещения там просторные, а в столовых кормят прилично. Туда идут отдохнуть: сыграть партию в шахматы, встретиться с приятелем или просто узнать местные новости.
Как и везде, люди здесь живут тесным кругом. Старики со стариками, молодые с молодыми… инженеры, ветераны войны, больные, пенсионеры, служащие, члены партии — социальные прослойки очень разграниченны. Евреи знаются только с евреями, учителя посещают только своих коллег, чекисты общаются только с чекистами.
Евреев в Краснограде осталось мало. Многие погибли с приходом немецких войск. Кое-кто ушел в леса к партизанам: молодые сражались, старики ведали амуницией и починкой. Им приходилось ждать беды с двух сторон: от оккупантов и от местных. Враги их врагов отнюдь не всегда оказывались друзьями. В те времена друзей у евреев совсем не было. Их изоляция пережила немецкое нашествие. У Гриши ею окрашены его самые ранние воспоминания, он натыкается на это каждый раз, когда бросает взгляд в прошлое.
С первых лет он в одиночку открывал для себя мир детства, то пространство, что огорожено глухими стенами. Его мама только усугубляла это одиночество, отбрасывая на него тень собственной изоляции. Она мало с ним говорила, да и его заставляла держать рот на замке. Мать и сын жили, как ссыльные, на дне, отторгнутые от всех. На них показывали пальцем. За их спинами перешептывались. Отсутствие отца делало пустоту вокруг них непреодолимой: ну сами посудите, кто станет иметь дело с женой шпиона и подрывного элемента, врага народа… Никто не улыбнется школьнику, чей отец уличен в политическом заговоре. Никто не протянет руку женщине, чей муж исчез.
Каждое утро Раиса доводила Гришу до входа в школу и бежала на работу в заводскую бухгалтерию. Когда она на его глазах изо дня в день пропадала в утренней толпе или ее глотали двери переполненного трамвая, Гришу охватывал страх, что этак ее можно потерять навсегда. Пряча от матери свою тревогу, он всякий раз, когда встречался с ней после уроков в одном и том же месте, очень старался скрыть, как он счастлив ее видеть. И потом целый день не отходил от нее, шел следом за ней на коммунальную кухню, в ванную, в продуктовый магазин. Расставался с ней, только чтобы нырнуть в кровать, стоявшую в той же комнате, где спала и она.
Для такого крохи совсем не шутка жить в постоянной тревоге и боязни разлуки. Всю свою энергию и все свободное время он тратил на то, чтобы утешить мать, которая делала то же самое: постоянно старалась его утешить. Как они сумели продержаться? Они и сами не знали. Просто надо было, вот и держались.
Но однажды все изменилось. Сначала — к лучшему. Новые хозяева страны объявили курс на демократизацию, открыли лагеря, тюрьмы, выпустили заключенных из самых гиблых мест. Судебные протоколы пересматривались, приговоры отменялись. Вот и Раиса Коссовер удостоилась визита троих мужчин, настроенных весьма торжественно.
— У нас для вас официальное сообщение особой важности.
— Садитесь, пожалуйста, — торопливо и с тревогой произнесла смущенная Раиса. Она вмиг разволновалась и совсем потеряла голову: — Только здесь не хватит стульев, сейчас сбегаю к соседям, одолжу…
— Не беспокойтесь, мы прекрасно устроимся на кровати.
Гриша, не понимая, в чем дело, заканючил:
— Мама, что им надо? Чего они хотят?
Мужчины объяснили Раисе цель своего визита, и она повторила, чтобы сын понял:
— У нас хорошие новости… официальное сообщение о реабилитации…
— Но кто они такие?
— По поручению Центрального комитета… — торопливо объясняла Раиса.
— А зачем они к нам? — нетерпеливо настаивал сын. В свои восемь лет он уже научился не доверять незнакомым людям.
Между тем главный из них, с набрякшими веками и широким лицом, источавшим доброту, словно пот в жару, принялся объяснять ему, как взрослому:
— Мы пришли поговорить с тобой о твоем отце.
Гриша испугался. Он украдкой взглянул на полочку, проверить, лежит ли еще там его отец, и с облегчением вздохнул: нет, пришельцы его не найдут. Но вдруг к великому своему удивлению увидел, как мама взбирается на стул, хватает запрещенную брошюрку и торжественно демонстрирует ее главному. Гриша протестующе закричал:
— Мама, не надо! Не показывай им папу! Не говори, где он спрятан!
Широколицый улыбнулся:
— Почему же, Гришенька?
— Это опасно, разве вы сами не знаете?
— Уже нет, милый маленький Григорий Пальтиелевич, уже не опасно. Времена переменились…
Он полистал книжицу, передал ее своему заместителю, который с самым серьезным видом осмотрел ее, прежде чем передать третьему гостю. Все трое грустно закивали головами, показывая, что сильно огорчены и сочувствуют, да вдобавок еще несколько раз присвистнули от восхищения и снова тяжело завздыхали:
— Да, вне всякого сомнения, это большой поэт…
— Да, нам, знаете, там, наверху, сказали, что он настоящий поэт.
— И мученик… Да, какая потеря, какая потеря…
— И какое негодяйство!
Гриша чувствовал, что его предали. Зачем все эти восклицания? А вот мама им не нарадуется! Никогда еще Гриша не видел ее такой сияющей, такой оживленной. Гости откланялись, пообещав зайти еще и обсудить кое-какие практические вопросы, касающиеся пенсии, компенсации… Раиса проводила их до самого крыльца. Вернулась возбужденная, почти вне себя:
— Видишь, Гриша, видишь? Они сами пришли, сами заговорили о твоем папе! Значит, теперь и ты можешь говорить о нем! Мы сможем держать его книгу прямо на столе…
Для Гриши теперь и в школе многое изменилось. Учителя и одноклассники уже не брезговали им, словно прокаженным. При всем том стоило ему упомянуть об отце, как одиночество возвращалось.
В этот же период детства он пережил две решающие встречи. Прежде всего с доктором Мозликом, а потом с ночным обходчиком, сторожившим несколько домов, где находилось их жилье. Этого странного человека звали Виктор Зупанов, он стал Гришиным защитником, наставником, союзником и другом.
Доктор Мозлик был врачом или вроде того. Гриша был уверен, что он часами простаивал перед зеркалом, любуясь собой, а может быть, и болтая с собственным отражением. Со своими усиками, с жесткими и пронзительными ледяными глазками он выглядел человеком, уверенным, что все в этой жизни он уже изведал и может себе позволить.
Гриша не понимал свою мать. Как могла она увлечься таким типом? Конечно, она была одинока, нуждалась в опоре и заботе, а сын лишь усугублял ее одиночество.
Мозлика Гриша презирал и не скрывал этого. Из-за него Раиса стала исчезать по вечерам и прокрадывалась в квартиру этажом выше. Чтобы ее успокоить, Гриша делал вид, что спит. Впрочем, она уходила бы, даже если б он не притворялся. Часто с заплаканными глазами, умирая от беспокойства, Гриша дожидался ее возвращения. Когда же скрипнет дверь? Пока она не отворялась, тревога не отпускала его, только услыхав звук дверных петель, он зажмуривался, изображая глубокий сон. Но однажды у него ничего не вышло. Веки не хотели опускаться. Гриша тер их, тянул — все напрасно. Раиса зажгла настольную лампу и увидела искаженное лицо сына:
— Что с тобой, Гриша?
— Ничего, мама. Совсем ничего.
— Ты не спал?
— Спал. Только что проснулся: страшный сон приснился.
— Я здесь, с тобой. Спи. — И она потушила лампу. — Тебе бы хорошо подружиться с кем-нибудь, — сказала она в темноте. — Сходить в гости. Теперь это не запрещается, уже можно.
— Я это хорошо усвоил, — пробубнил он угрюмо.
Она вздрогнула:
— Ты о чем?
— Ни о чем.
Она чуть помолчала, потом спросила:
— Ты на меня сердишься?
— Нет.
— Знаешь, доктор Мозлик — хороший человек, ты тоже его полюбишь, если…
— Если что?
— Если узнаешь его поближе. Да и он сам был бы не против.
Гриша немного подумал, потом спросил:
— А когда вы там вместе, что вы делаете?
— Ничего, — торопливо ответила она. — Просто разговариваем. Пьем чай и разговариваем. А Володя… гм… доктор Мозлик так хорошо умеет говорить!
— А мой папа?
— Что ты имеешь в виду?
— А мой папа хорошо говорил?
Недружелюбное молчание пролегло между ними глубоким рвом.
— Твой отец говорил мало, Гриша. Он был поэтом. Поэтам для того, чтобы в них запели стихи, необходима тишина. Твой папа подолгу молчал.
Гриша обещал себе, что однажды тоже умолкнет. И научится слышать слова до того, как они родятся на свет, и после того, как они отзвучат.
«Я никогда не смеялся, — повторял ночной сторож. — Ни разу в жизни. Родители пытались меня рассмешить, соседи старались, похитители детей тоже попробовали. Жизнь и смерть, валяющиеся вповалку, словно парочка пьяниц, пробовали, как могли, рассмешить меня. Родители водили меня к докторам, и те делали так, что меня рвало; потом — к цыганам, и те меня поили вином, а после пришел черед клоунов, монахов, мошенников, колдунов, акробатов, шутов гороховых, факиров… Но я всегда уходил с хмурым лицом.
В интернате учителя считали делом чести меня рассмешить. Они меня били, лишали пищи, воды и сна, это их смешило. Меня — нет.
Одноклассники меня изводили. Девчонки щекотали, их мамочки гладили по головке и лопались от смеха. Но ничего не помогало: я не смеялся.
Ни друзей, ни врагов у меня не было. Ни любовницы, ни внебрачных детей — никого. Да я и сам был никто. И все потому, что неумел смеяться.
На службе я видел все, что происходило, наблюдал, слушал, делал заметки — но и там мне ни разу не захотелось засмеяться».
Завещание Пальтиеля Коссовера (Продолжение)
Чуть позже разразилась война, но, клянусь, я тут ни при чем. Конечно, это вас шокирует, гражданин следователь, ведь вы убеждены, что все, что происходит на белом свете, — результат козней, задуманных и направляемых евреями. Но не в тот раз. Сараево обошлось без меня.
На самом деле я там не совсем во всем разобрался. Все эти имена, титулы, короны — слишком много чести для головы еврейского мальчишки. Взрослые все ходили озабоченные, я тоже, однако у меня для этого имелись веские причины: нам пришлось сократить летние каникулы, чтобы исправить то, что натворили погромщики. Подправить дома, заменить порушенную мебель, захоронить опоганенные книги. Тут всем хватило работы, ученикам — тоже.
Похороны жертв погрома произвели на меня огромное впечатление. Длинный кортеж погребальных носилок, покрытых черными покрывалами; несли их ученые мужи и раввины в траурных одеждах; вся церемония происходила во дворе большой синагоги, и на ней присутствовали официальные лица, приехавшие издалека: из Харькова, из Одессы, Петербурга. Толпа, сгрудившаяся под серым низким небом, выслушала поминальные проповеди, а потом зашагала к кладбищу. Впереди шли три синагогальных служителя — этакие страшилища в человеческом облике, они трясли деревянными плошками для пожертвований и кричали: «Цедака тацил мимавет!» («Милосердные дары сильнее смерти, они спасут вас от нее»)… Каждый боязливо приближался и бросал в плошку монету. Отец дал мне пять или десять копеек, но я все не решался подойти и опустить их. Знаю, вышло глупо, но эта высокорослая троица худых, как сама смерть, служителей, идущих впереди мертвецов, вводила меня в ступор, я цепенел от страха, еще и сейчас мне зябко об этом вспоминать.
А в конце лета церкви дали мне понять, что началась война: со всех колоколен разнесся похоронный звон. Мрачный, тревожный. Часами перекликаясь через поля и горы, колокола объявляли людям, что пришел их черед повстречаться со смертью: одним в качестве ее вестников, другим — жертв. Они названивали неумолчно, казалось, они никогда не перестанут колотить по нервам, готовить нас к бойне.
— А что такое война? — спросил я у отца.
Он попытался мне объяснить, заговорил о политике, о стратегии, о территориальных притязаниях, о национальной кичливости, об ожидании экономических перемен. Но я понял только, что австрийцы любят своего короля, англичане — своего, русские — тоже своего, но все эти короли завидуют друг другу и ненавидят своих коронованных соседей.
— Тогда почему же, — удивился я, — они сами не подерутся друг с другом? Почему они посылают вместо себя самих свои народы, чтобы те убивали и умирали? Ведь было бы куда проще…
Папа думал так же, но заметил:
— К несчастью, у королей голова устроена не как у нас.
А в другой раз он дал еще более удачное объяснение:
— Война — это своего рода тоже погром, только убивают гораздо больше людей.
— Значит, она — против евреев?
— Не только против них. Видишь ли, во время войны некоторые люди делаются евреями, сами того не ведая.
Город пустел, те жители, кто мог держать в руках оружие, исчезали, на их месте оказывались неизвестные чужаки. Призванные под знамена мужья и сыновья с песнями шли на вокзал, а мобилизованные в иных уголках рекруты вступали в наши пределы. Сначала война представлялась мне большущим путешествием, бесконечным перемещением, отрывом от родных корней в масштабе целых народов.
Признанный по здоровью негодным к военной службе, мой родитель никак не изменил наш повседневный уклад, а вот мои дядья по отцовской и материнской линии надели мундиры и отправились сражаться, отстаивая честь и славу повелителя всех россиян.
Как мне помнится, зимними вечерами соседи и друзья собирались у нас в столовой, а летом — во дворе под тополем. И обсуждали положение на фронте. Часто нас навещала та троица учеников, что разделила с нами невзгоды погрома. Двое приходили ради еды, третий — ради моей сестры.
Нередко в наших вечерних беседах заходила речь о видах на будущее. Что для евреев лучше: победа царя или кайзера? Впрочем, ту войну друг за другом проиграли оба, ни одному она впрок не пошла.
В то время в наших домах много говорили об очень высоко взлетевшем монахе, обладавшем большою злокозненной властью, о его влиянии на петербургский двор и высшее чиновничество, а еще о бедности в стране, об истощении всех сил, о том, что солдаты не воюют или воюют плохо, а богачи и аристократы вблизи и вдали от линии фронта проводят дни в пирах и попойках, между тем как в народе — мы это уже ощущали — растет возмущение…
Я услышал новые слова: большевизм, меньшевизм, социализм, анархизм. И однажды спросил отца: а что такое, собственно, «изм»?
— Это как нерешительная женщина, готовая обручиться с любым… словом, — объяснил он.
Заходила речь о заводилах бунта, их называли смелыми или безрассудными (это — как посмотреть). О тех, кто был в подполье или за границей и заявлял о своем желании и реальной возможности прогнать царя с престола.
— Ну, это просто смешно! — заметил кто-то из собеседников. — Свергнуть царя — ни больше ни меньше! Нет, все это несерьезно, просто несерьезно…
А еще говорили о революциях, о контрреволюциях, о Брест-Литовском перемирии, о мире, о белых и красных армиях.
Почему однажды мой родитель решился-таки уехать из Белева и обосноваться с нами в Румынии? Скорее всего, гражданской войны он боялся больше, чем коммунизма. Но неизвестного коммунизма опасался все же больше, чем традиционной ненависти отъявленных антисемитов.
Переезд был трудным и полным неприятных происшествий. Мы потеряли четверть всей поклажи. Матери переезд дался с трудом, но она никогда не жаловалась. Маша жалела, что расстается с будущим мужем, Злата, которая была на год моложе сестры, как всегда, держалась доброжелательно и всем помогала. Меня же такие приключения только будоражили: зрелище разграбленных городов и деревень, бегущие в поисках спокойного уголка мужчины и женщины с целыми ворохами историй, которые рассказывались между двумя рукопожатиями, — все это выходило за рамки обыденного. В моем восприятии то время осталось значительным событием, затронувшим все струны души. В детской головке подчас возникало подозрение, что вся эта война нужна была только для того, чтобы меня встряхнуть, кое-чему научить и дать попутешествовать.
Добравшись до Льянова, мы были радушно встречены и пригреты Шолемом, двоюродным братом матери, благоверным хасидом, последователем рабби Исроэля Фридмана из Ружина. Там мы быстро освоились. А что вы хотите, гражданин следователь? Евреи везде остаются евреями: отзывчивыми, милосердными, гостеприимными. Каждый знает, что роли могут перемениться и тот, кто сегодня дает мне убежище, завтра сам окажется оторванным от своих корней изгнанником и моим гостем.
Вы порицаете еврейский национализм за его интернациональную природу, и вы правы: между торговцем из Марокко и чикагским химиком, тряпичником из Лодзи и лионским магнатом, каббалистом из Цфата и филологом из Минска существует родство, более глубокое, прочное и древнее, чем между жителями одной страны, одного города, притом имеющими одинаковые профессии. Один еврей — никогда не одинок: он всегда полномочный член вневременной общности, даже если она неразличима глазом и ни географически, ни политически в тот момент не устоялась. Еврея не определить геополитическими терминами, гражданин следователь, он осмысляется в исторических категориях и исчерпывается ими. Евреи помогают друг другу, чтобы продолжить общую историю, чтобы испытать на прочность и обогатить совокупную судьбу, расширить поле своей коллективной памяти.
Понимаю: все, что я вам говорю, становится дополнительным доказательством моей вины. Я уже признался в том, что являюсь плохим коммунистом, изменником, предавшим рабочий класс, неисправимым врагом вашей системы. Пусть так. Но приговор собственного отца для меня весит больше, чем ваш. Да, по сути, теперь для меня только его слово и имеет вес.
В мой смертный час я увижу именно его образ. Перед его лицом я должен оправдать свое существование. Но, думая об этом, я испытываю чувство, близкое к стыду. Слишком много лет потрачено впустую, на совершенно бесплодные поиски того, что не могло мне принадлежать.
Чтобы понравиться ему, мне следовало бы идти, не сворачивая, прямым небесным путем, подчиняться закону Моисея, сподобиться божественной благодати. Но все эти его надежды не сбылись. Как и многие другие.
А в Льянове мне уже по возрасту настала пора учиться, познавать новое, делать его своим. Отец записал меня в лучшие школы, познакомил с выдающимися учителями, приобщил меня к радости и восторгу хорошего спора по поводу талмудических тонкостей. Сегодня я спрашиваю себя, не тщетны ли были его усилия?
Я полюбил Льянов, а Белев уже казался мне далеким. А может, я полюбил Льянов именно потому, что Белев уже казался мне далеким. Я был искавшим убежище апатридом, румынским подданным. Погром канул в прошлое. Ни о войне, ни о бегстве больше не было речи. Меня должны были целиком поглотить (и поглотили!) занятия. Короче, жизнь налаживалась.
Отец вновь занялся торговлей тканями. Злата помогала ему в магазине. Сияющая Маша считала дни: ей предстояло замужество с уже известным учеником белевской ешивы.
Помню эту свадьбу. Хорошо помню, поскольку она меня нос к носу столкнула с нищетой и отчаянием. Это случилось в 1922 году, тогда же, когда и моя бар мицва.
Свадьбу сыграли со счастливым размахом. Там были наши дядья и тетки, племянники и племянницы — а я и не знал, что их у меня так много. Прибавьте сюда друзей, деловых партнеров и знакомых. К счастью, отец уже мог себе это позволить, иначе такой пир его бы разорил.
Следуя обычаю, приготовили особую трапезу для бедных; Маша танцевала для них и с ними. Разглядела ли она их? Да, разглядела и потом плакала. Но может быть, просто от волнения. Я же смотрел и сдерживал слезы. Именно впечатления этой свадьбы позже внушили мне интерес к коммунистическим идеям.
Стол для бедных накрыли в длинной просторной зале. Там было невыносимо душно. Стоящие и сидящие мужчины и женщины самого жалкого и отчаянного вида налезали друг на дружку, норовя ухватить кусок рыбы или сдобную булочку. То тут, то там вспыхивали перепалки. Люди плевались, вопили, осыпали друг друга бранью, доходило до рукопашной, но все это шло, как положено: дети голода хотели есть. В лохмотьях, с сумасшедшим блеском в глазах, с чертами лица, искаженными злобной жаждой набить нутро, они, чудилось, были рождены для иного мира, заколдованного и проклятого. Но в другой зале, где сидели люди достойные, приглашенные из хорошего круга, все пировали и радовались так самозабвенно, так истово, что прочее забывалось, словно зло мира и всякие земные несчастья ушли навсегда.
Переход из одной залы в другую был для меня ужасным испытанием. Я больше не обращал внимания на веселые или грустные песенки приглашенных музыкантов, до моего слуха уже не доходили благословения раввинов и цитируемые ими отрывки из священных книг, уместные в данных обстоятельствах. Все выглядели счастливыми, кроме меня. Я опять казался себе изгоем, позабытым среди нищих.
Готовясь к своей бар мицве, состоявшейся несколько месяцев спустя, я решил, что моя обязательная для такого случая речь будет о том, как толкуют еврейские священные тексты вопиющую социальную несправедливость.
Я в ней цитировал Вавилонский и Иерусалимский Талмуд, Маймонида и Нахманида, Менахема Реканати, Махараля из Праги, поэтов Золотого века и Виленского Гаона, я негодовал и протестовал:
«Раньше думали, что, если иудей беден, в этом повинно общество, если он страдает, то потому, что народ — в изгнании, но забывали, что здесь есть и наша вина, моя и ваша. — А в заключение возгласил: — Ежели человеку дано совершать несправедливости, в его же власти исправлять содеянное. Если сотворение мира отмечено знаком Всевышнего, порядок в нем зависит от человека».
Речь моя вызвала у слушателей некоторое волнение. Один пурист поставил мне в упрек неточность какой-то цитаты, некий правоверный объявил, что услышал в моих словах явственные «кощунственные намеки». А вот отец был краток:
— Помни вот что, Пальтиель: в Боге возможно все; вне Его — ничему нет цены.
На той же неделе реб Мендл-Молчальник подошел ко мне в Доме молитвы и учения и объявил, что избирает меня своим учеником. Я попал в число избранных: реб Мендл не брал под свою опеку невесть кого. Часто он отвергал кандидатов, даже не вдаваясь в объяснения. Однако мне он соблаговолил открыть, почему я стал достоин его внимания.
— Я беру тебя с собой, чтобы помешать тебе пойти по ложному пути, — возвестил мне его хриплый голос. — Ты ищешь кору, а не древесину, хочешь понять, а не узнать, стремишься к справедливости, а не к истине. Ничтожный, как тебе жить, если ты поймешь, что и сама истина несправедлива? Скажешь, это невозможно? Но кому дано это доказать? Нет, надо делать все, чтобы это стало невозможно. А этому я тебя научу.
В моей жизни началась полоса истового служения, наступил самый будоражащий и богатый период жизни, когда смирение и амбициозность мистических откровений достигают своих пределов. Я гнался за молчанием в слове, в молчании, как в засаде, я слово подстерегал, чтобы мое «я» достигло расцвета. Я успешно низводил его в ничто, падал ниц, чтобы видеть все с большей высоты, усмирял плоть, чтобы познать наичистейшую радость. Ради веры во спасение я плясал у края пропасти.
Направляемый, подстегиваемый и охраняемый реб Мендлом-Молчальником, я торил свою тропку на путях мессианства. Пытался совлечь с них завесу загадочности, сделать их доступными для смертных.
Дни и ночи я проводил в Доме молитвы и учения. Когда не молился — штудировал тексты, когда не штудировал — молился. Если усталость и сон одолевали мое сопротивленье, в грезах я видел пророка Илию, который, как гласит предание, знает ответы на все вопросы.
Мои же вопросы без конца вращались вокруг Мессии: я горел желанием ускорить его пришествие. Чтобы уничтожить неравенство между богатым и бедным, униженным и счастливым, нищим и заводовладельцем, чтобы прекратить погромы и войны. Объединить справедливость и сострадание, сделав и то и другое истинными.
Вы улыбаетесь, гражданин следователь. А мне вас жалко. Жалко, что вас никогда не терзали такого рода мечты. Но нет, Пальтиель Гершонович Коссовер, ты несправедлив к славному гражданину следователю, он пережил те же метания, просто его учителя называли Мессию иным именем, у них оно звучало, как Карл Маркс… Однако вот загвоздка, гражданин следователь. У нашего — и имени-то нет. Таково величие нашего предания: оно учит нас, что имя Мессии пребывает как раз среди тех десяти вещей, кои предшествовали Творению. Никто его не знает и не узнает до самого пришествия.
По правде говоря, гражданин следователь, я становился коммунистом, сам того не сознавая. Я тоже хотел помочь всем бедным, голодным, всем проклятым этой земли. Только я пытался добиться этого, призывая Мессию: лишь он, он один способен устранить вопиющую людскую несправедливость, укротить трагизм земного существования.
Но как этого Мессию призвать? Реб Мендлу-Молчальнику было ведомо средство. Достаточно хорошенько изучить священные тексты, растворить себя в границах и смыслах нашей эзотерической традиции, узнать имена некоторых ангелов и освободить некие силы. Красота такого мессианского приключения не может не волновать душу: только тот человек, ради которого Мессия должен вернуться, способен и удостоен чести его призвать. Но кто тот человек?
А любой. Каждый из нас волен, если он того желает, получить ключи, отмыкающие врата небесного дворца, и принести его пленнику в дар полноту власти. Потому что Мессия, видите ли, это то, что получится, когда человек решит все дела с самим собой.
Однажды вечером я увидел, как дверь отворилась и в ней возник силуэт. Я задержал дыхание. Некто в очень широком лапсердаке быстро стрельнул глазами вокруг, но меня не заметил и наконец решился войти. «Конечно же это пророк Илия!» — подумал я и поднялся, чтобы идти ему навстречу и умолять о помощи и участии. Я был вне себя от счастья. Подумал: «Ну, наконец мои молитвы услышаны, пророк здесь, сейчас он поведет меня в небесный дворец, где все — из одного света. Возрадуйся, Израиль, приближается час твоего избавления!» Но этот пророк, похоже, совсем не ожидал нашей встречи: при виде меня аж затрясся от страха, лицо исказилось, он был чуть ли не в панике. Только тут я понял, как заблуждался.
— Эфраим, — несколько разочарованно вопросил я, — что ты тут делаешь в такую познь?
— То же, что и ты, — раздраженно ответил он.
— Ты тоже изучаешь каббалу?
— Да.
— А с кем?
— Не имею права об этом говорить.
— Ты тоже ищешь секрет великого свершения?
— Разумеется.
— И пытаешься достичь Алият-Нешама, воспарения души?
— Конечно.
Его ответы меня очень взволновали. «Значит, не один я хочу вмешаться в планы творения?» — думал я. А реб Мендл-Молчальник — не единственный наставник на этой стезе. Я пригляделся к Эфраиму повнимательнее. Известно было, что он очень набожный и много чего знает, ему предсказывали блестящую будущность. Вероятно, он унаследует отцово призвание, став одним из членов раввинского духовного суда. Я был доволен, что он пришел: мы могли бы подружиться, изучать одни и те же книги, вместе избегать гибельных заблуждений. Но почему он ведет себя так странно? Его лапсердак скрывал что-то весьма объемистое.
— Что это у тебя? — спросил я, движимый заурядным любопытством.
— Да так, ничего.
«Понятно, — соображал я. — Скорее всего, он позарился на какой-то редкий трактат».
— Не кочевряжься, Эфраим, покажи!
— Нет, не имею права. К тому же мне нужно уходить. Спешу. Меня ждут.
Я не настаивал. Он резко повернулся на пятках, однако неловко въехал боком в парту, протянул руку, чтобы не упасть, и — выронил свой сверток. Вы никогда не догадаетесь, гражданин следователь, что там было завернуто. Брошюры и памфлеты, весьма мало относящиеся к мистике. Выходит, первый урок коммунизма я получил от Эфраима, так случилось той ночью в Доме молитвы и учения. Лихо, не правда ли? Эфраим — коммунистический агитатор. Эфраим, будущий член раввинского духовного суда, распространял подпольные листовки! Он их рассовывал в парты и (только не смейтесь!) в торбы для священных свитков и предметов культа.
— Дай-ка посмотреть!
Он только пожал плечами, показав, что не против. Я уселся на ступени кафедры и принялся читать. Странные, сумасшедшие, кровавые строки, прославляющие деятельность террористов начала века. Покушения на царя и членов его семьи, бомбы, брошенные в кареты губернаторов, убийство министра внутренних дел… Как это глупо, подумал я. И как по-детски. Что у меня общего со всеми этими авантюристами и злоумышленниками, по которым плачет Сибирь? Царь лично мне ничего плохого не сделал. Его охранка за мной не гонялась, никому еще не пришло в голову заточить меня в одну из всем известных крепостей… Я прочитал все памфлеты, листки, повествовавшие о делах минувших, не слишком в них вникая: хотя авторы писали на идише, их язык оставался мне чужд.
Я неуверенно взглянул на Эфраима, не зная, рассердиться мне или рассмеяться.
— Эфраим, ты что, сбрендил? Ради этого ты забросил священные тексты?
Он растерянно сжал руками голову и ничего не ответил.
— Нет, серьезно, Эфраим, неужели ты именно так хочешь ускорить наше спасение?
— Да, — отвечал он, резко вздернув подбородок.
— Бедняга! Наши мудрецы неспроста запретили заниматься мистикой тем, кто еще не вышел годами: от нее разум может и пострадать.
— Я вовсе не потерял рассудок, Пальтиель. Послушай, что я скажу. Я все еще хочу спасти род человеческий, освободить общество от его болячек. Я все еще желаю прихода Мессии. Вот только… я нашел новый способ, в этом все и дело. Я испробовал медитацию, пост, аскезу — никакого успеха. Есть только один путь, ведущий к спасению.
— Какой?
— Действие.
— Действие? Но я тоже так думал, однако что есть молитва, если не действие? Что есть мистическая практика, как не воздействие на Бога?
— А я тебе говорю не о воздействии на Бога, а о влиянии на историю, на события, из которых она состоит, короче — на человека.
Сидя на скамейке перед двумя партами, я — со своей Книгой учения каббалы, как ее понимал рабби Ицхак Лурия, он — с пачкой идиотских памфлетов, мы имели довольно забавный вид, гражданин следователь.
— Ты действительно хочешь все это обсудить? — спросил Эфраим.
— Почему бы и нет?
— Тогда сначала пообещай никому ничего не рассказывать.
— Обещаю.
— Обещать недостаточно. Поклянись!
— Клянусь.
— Поклясться тоже недостаточно… Поклянись перед ковчегом, отодвинув завесу, и при этом прикоснись к священным свиткам.
С Торой шутки плохи. Я, естественно, отказался: на Торе никто не клянется.
— Если не доверяешь, тем хуже. На том и порешим.
— Да нет, я-то доверяю. И если требую от тебя клятвы, то для твоей же безопасности, а не только для моей: ты лучше будешь следить за своим языком. А иначе всякий может ненароком обронить словечко, которого бы не надо произносить там, где не следует.
— И что тогда со мной случится?
— Лучше, Пальтиель, об этом не знать. Ты что-нибудь слышал о тайной полиции, а? Так вот, она существует, и для нее пытки стали целой наукой. Если попадешь в ее сети, с тобой все кончено. Она никогда не поверит, что ты во все это не замешан.
— Во что не замешан? — почти вскрикнул я.
— В революцию, — торжественно заключил он.
Он попытался тоном законоучителя преподать мне ускоренный курс политграмоты. Но я слушал его не слишком внимательно, по крайней мере той ночью. При всем том ему действительно было страшно, хотя, как мне показалось, своих родителей он опасался больше тайной полиции. Однако невзирая на все его доводы и призывы, я держался, не соглашался поклясться перед ковчегом. Достаточно, считал я, моего слова. Или будет так, или никак. Он вскочил, и я подумал, что он собрался уходить. Ни в коем разе: совершенно хладнокровно он принялся за дело — по брошюрке в каждую парту, по листовке в торбу со священными текстами. Я недоверчиво следил за ним и не двигался. Но он, почувствовав себя как дома, имел смелость и сообразительность попросить меня о помощи: иначе у него не будет времени закончить, объяснил он. А я, как дурак, включился в игру. Не нашел ничего лучшего. Вот так, не отдавая себе в этом отчета, даже не задумываясь, я стал его сообщником. Он любезно обещал мне прийти на следующей неделе и продолжить прерванный разговор — и работу, разумеется. И, как вы понимаете, обещание он выполнил.
Что до его объяснений и доводов, теперь такие способен привести самый юный из пионеров. Простые и все упрощающие, но вполне искренние. И очень соблазнительные для романтически настроенного ученика шестнадцати лет от роду, поскольку обращаются не к разуму, а к чувствам. Они делают упор на человеческие несчастья, а не на тот выбор, который должен совершить верующий человек. Если бы Эфраим пустил в ход только марксистские термины, я бы просто рассмеялся ему в лицо. Но вместо цитат из Энгельса, Плеханова или Ленина он напоминал о наших общих мессианских упованиях. И я не мог не склониться в его сторону: он защищал жертв несправедливости, провозглашал достоинство рабов, и тут я и сам с готовностью сказал бы: «Аминь!»
— Мой отец — настоящий праведник. Он никогда не обидел ни одно живое существо, он беден. Мы голодаем, если тебе об этом неизвестно. Два горячих обеда в неделю — вот все, что мы можем себе позволить. Почему мы обречены на голод и нищету?
— Потому что так угодно Богу, — возразил я ему. — Кто мы такие, чтобы проследить, куда ведут Его пути? Вот придет Мессия, и…
— У меня четыре старшие сестры. Все должны бы выйти замуж, но не могут: денег не наскребем. Почему ты считаешь, что они должны остаться старыми девами?
— Намерения Бога угадать невозможно. Ты же прекрасно знаешь: нам не дано Его спрашивать о том, каковы Его цели. Вот придет Мессия, и…
— Мессия, Мессия! Вот уже две тысячи лет люди гораздо более достойные, чем мы, умоляют его объявиться, чтобы пришло его царство, но несправедливость все длится и длится… Знаешь Ханана-Кучера? У него ничего нет своего, даже лошадь ему не принадлежит, и фиакр — не его, и дом, даже его телом владеет другой. Он мотается туда-сюда с утра до вечера, а то и до поздней ночи. Видел его, как он возит Иойну Давидовича? Глаза у него слезятся от бессонницы, губы опалены голодом… И посмотри, как удобно восседает в своем фиакре Иойна, развалившись за спиной Ханана! Только посмей отрицать, что такая несправедливость призывает нас больше не ждать… Посмей только предложить Ханану потерпеть еще!.. А Броху-Прачку ты видел? Она набожна и смиренна, потеряв мужа, она выбивается из сил, чтобы прокормить семерых детей, заплатить за учение троих сыновей, чтобы было что поставить на стол в шабат. Она ведет хозяйство, готовит и стирает в доме Ксила Мессивера, того, что торгует овощами… Вот у Ксила есть время и средства ждать Спасителя, а у Брохи-Прачки его много? Подумай о ней, прежде чем отвечать.
Эфраим убеждал очень страстно, и его слова меня смутили. Как обычно, в Доме молитвы и учения мы были одни. На улице падал снег. То там, то здесь гасли последние свечки. Говоря, Эфраим раскачивался, словно штудировал вместе со мной головоломный текст, заданный рабби Элиэзером бен Гирканом и трактующий о чистоте и нечистоте некоторых предметов.
В заключение он провозгласил:
— У тебя на все есть ответ: «Так угодно Всевышнему». Тут ты прав лишь отчасти. Конечно, страдание человеческое в ведении Бога, но нас оно касается тоже. Почему люди заставляют страдать себе подобных? На этот вопрос, Пальтиель, придется отвечать и тебе, и мне!
— Но кто же заставляет страдать себе подобных? Злой и потерявший веру человек.
— Хоть меня и не оставляет равнодушным судьба жертв, до судьбы насильников мне дела нет. Почему в мире есть те, кто не верит в Бога, это должно волновать философов. Как объяснить, что творение несовершенно? Почему существует зло? Почему оно так сильно и притягательно? Если ответа мистиков тебе недостаточно, почитай Маймонида.
— Что до меня, предпочитаю дождаться Мессию.
— Ну что ж, мой бедный друг, ты рискуешь состариться в ожидании.
— Так ты что же, не веришь в пришествие Спасителя?
— Верю, Пальтиель, верю. Каждое утро я молю Его прийти, поторопиться. Как и ты, читаю молитву. Но Он заставляет себя ждать, а груз изгнания нести тяжело, нестерпимо для бедных вьючных животяг, рабочих, нищих… Ты можешь это понять, Пальтиель? Я-то способен терпеть и год, и век, а вот они не могут ждать!
Постепенно, медленно, неотступно он укоренял в моей душе свои представления о мире: мол, только коммунизм позволяет быстро покончить с неравенством и угнетением. Его послушать, так коммунизм этот — что-то вроде светского, социального мессианства без Бога, способного многое временно исправить в ожидании настоящего, подлинного пришествия Мессии.
— Оглянись вокруг, Пальтиель. Посмотри, кто нас окружает в Льянове. С одной стороны — богатые, с другой — отверженные. С одной стороны — властители, с другой — угнетенные. Богатые — богаты, потому что бедные — бедны, и наоборот. Если б богатым не было кого обдирать как липку, от их состояний ничего бы не осталось. Вывод: богатство богатых так же нестерпимо, как и бедность бедных.
Наши ночные встречи участились. Я помогал ему раскладывать его листовки и, конечно, нередко навещал с ним другие синагоги. Мы стали единой командой. При всем том он еще мне не признался, что состоит в подпольной партии. Наши с ним беседы касались мистики, литургии, истории, поэзии — всего на свете, кроме идеологии. Я помогал ему, потому что он стал моим другом, он и сам считал другом меня, позволял мне ему помогать, мы были друзьями, потому что… да, потому что подружились.
Мы вместе свято верили, что искупление мирового зла зависит только от наших усилий, да и все старые священные тексты постоянно внушали нам именно это. Бог создал этот мир, а отвечать за него доверил человеку — вот нам и строить его дальше, доводя до победного блеска. Помогая ближнему, мы содействуем Всевышнему. Будя сознание рабов, пробуждая в них начатки гордости и достоинства, мы вершим дело Господне во имя Вездесущего. Вот так мы примиряли человеческую свободу и всесилие Господне. Ибо Всемогущий сделал нас свободными, и теперь наша задача — восстановить утраченное первоначальное равновесие, вернув бедным то, что они были вынуждены уступить своим эксплуататорам, изменить весь порядок вещей, иными словами — сделать революцию.
— Ты разве не понимаешь? — кипятился Эфраим. — Мы должны сделать революцию, потому что этого требует от нас Господь! Создателю угодно, чтобы мы стали коммунистами!
Несмотря на все Эфраимовы объяснения, я все еще не представлял, что это слово обозначает. А также и не понимал, что оно связывает нас с СССР. Я даже не предполагал, что у нас, прямо в Льянове, существует подпольная ячейка коммунистов.
Я оставался очень наивным, гражданин следователь, был коммунистом и при всем том не знал этого.
«Не переставая мыть посуду…»
Не переставая мыть посуду на общей кухне, Раиса смущенно поглядела на сына, который, стоя в дверях, продолжал знакомую ей тему:
— Мама, ну пожалуйста, расскажи об отце. Ведь теперь это разрешено, сама говорила.
— Ты же видишь: я занята.
Как обычно, она была в раздражении. Ее состояние передавалось ему, словно инфекция.
— Ты всегда занята. А когда свободна, уходишь к доктору Мозлику.
— Ты снова за свое?
Гриша ушел было из кухни, но потом вернулся. К чему злиться? Этак ведь ее и не разговоришь.
— Послушай, мама, я плохо знаю отца, почти совсем не знаю. Это же ненормально. Сын должен знать отца, даже если того уже нет на свете.
— И что ты хочешь узнать?
— Всё.
Раиса замерла с кастрюлей в руке, она, как он почувствовал, была готова покориться его воле. Теперь она казалась ему красивой. Ранимой. С грустной девичьей улыбкой, тронувшей губы воспоминанием о былом.
И, все еще улыбаясь, переспросила:
— Всё? А что это значит — всё?
Гриша заколебался. Уверенность покинула его. С некоторых пор, оказываясь рядом с матерью, он выглядел в своих глазах одновременно и обвинителем, и обвиняемым. Почему она заставляет его страдать? Почему что-то скрывает? И зачем он на нее наскакивает? Потому что любит или потому что не любит?
— Ну же, Гриша, что это такое — всё?
Он покраснел. Мама права. Какое идиотское словцо, это самое «всё». Его произносят по делу и без дела. Для живых оно означает совсем не то, что для мертвых, для Мозлика звучит совсем не так, как для Коссовера. Для живых оно, быть может, вот этот солнечный лучик, пробравшийся на кухню и высветивший полоску танцующей пыли, или звук передвигаемых стульев на втором этаже, или такие минутки полной тишины, которые обжигают душу покинутого всеми ребенка.
— Скажи… Он был счастлив?
— Думаю, да. Иногда. А почему ты спрашиваешь?
— Я же сказал: хочу все разузнать об отце.
Грише вдруг отчаянно, прямо до чрезвычайности, захотелось уяснить, был ли отец счастлив. А ответить могла только Раиса.
— Да, Гриша, он был счастлив. Как и все.
— Мне такой ответ не нравится. Отец был не как все!
— Правильно, Гриша, он ни на кого не походил, но в том, что касается счастья и несчастья, он от других не отличался. Тут он чувствовал то же, что и прочие люди.
— А что делало его счастливым?
— Всё и ничего. Улыбка. Журчание ручья. Пришедшее вовремя слово.
— А несчастным?
— Улыбка. Журчание ручья. Не приходящее в голову слово. — Раиса замолчала. Потом добавила: — Ты прав, он был не как все.
— Он тебя любил?
Грише стало очень важно узнать прямо сейчас, любил ли отец Раису.
— Да, любил.
— А как ты узнала? Он сам тебе сказал?
— Да, сказал.
— Когда?
— Уже не помню.
— Как он это сделал? Вот так взял да и сказал?
— Не помню.
— Напрягись!
— Забыла!
Раиса уже почти кричала. Вошла соседка, злобно на них глянула, взяла чайник и вышла.
— А ты, — продолжал наседать Гриша, — ты его любила?
— К чему все эти вопросы? Почему сейчас?
— Ты его любила? Отвечай же! Я имею право знать, любила ли ты отца!
— Право? А кто его тебе давал? Я не позволю…
Раиса пришла в ярость. И вдруг услышала в собственном голосе ненависть. Тотчас взяла себя в руки:
— Ты еще слишком мал, Гриша. Не можешь понять. Между мужчиной и женщиной происходит много разного, они любят друг друга сегодня не так, как вчера. — Она глубоко вздохнула. — А тебя он любил. По-настоящему.
Она наконец убрала на место посуду и мокрые тряпочки.
— Вот этого ты не знал. И не мог знать. Но он любил тебя так… так, что я иногда даже чуть-чуть ревновала. — И поскольку Гриша не отвечал, торопливо закончила разговор: — Это слишком сложно. Тебе кто-нибудь может все объяснить гораздо лучше, чем я. Например…
— Например, доктор Мозлик?
Гриша вышел, не дожидаясь ответа. В его голове, как наваждение, крутилась мысль: отец не был счастлив, не был, не был. А его сын? Тоже несчастлив. А кто виноват? Может, мать — от нее несет несчастьем? Она распространяет его, как корь…
— А, это ты? Входи.
Катя отходит от окна и идет открывать дверь. Это уже часть ритуала: он стучит в окно, а она открывает перед ним дверь. Как обычно, пристально оглядывает.
— Ты чем-то раздражен. Впрочем, молчу: забыла, что ты умеешь все делать и чувствовать, не объясняя. Просто тебе сейчас тоскливо. Ну хорошо. Обойдусь без объяснений. Тем более что тут у меня нет выбора.
Гриша между тем уже плюхнулся на софу, он давно привык сидеть именно там.
— Тебе налить чего-нибудь?
Нет, он не хочет пить.
— Может, какой-нибудь апельсин?
И есть он тоже не хочет.
— Чего-нибудь еще?
Она ему улыбается… Нет, ничего другого ему тоже не надо. По крайней мере, сегодня.
— Ты уверен?
Да, он уверен.
— Ну хорошо. Посмотрим телевизор.
Политика, литература, последние сплетни — все это мелькало на экране. Ораторы от правых и от левых обещали гражданам счастье и благоденствие, скептически настроенные журналисты их комментировали, восклицая: «Ну, да!» или: «Ну, нет!» Новости дня: прибыло восемьсот туристов, а завтра, в день Всепрощения, их ожидается вдвое больше. Австрия: правительство собирается закрыть транзитный лагерь для русских эмигрантов. «Но что делать с теми, кто уже там находится?» Гриша вскочил: а как же его мать?
— Приедет, приедет, не волнуйся. К тому же Голда пытается сделать все, чтобы постановление отозвали. Она помчалась с визитом к Бруно Крайскому, который не предложил ей даже стакана воды.
Официальный представитель правящей партии: «Все хорошо, а будет еще лучше». Представитель оппозиции: «Все плохо, и надо ожидать, что станет еще хуже, деньги потеряют цену, а молодежь — веру, если немедленно не предпринять…» Избирательная кампания набирает обороты. Обычным людям на нее плевать. Речи с трибун — это несерьезно. Все переливают из пустого в порожнее. «Доверьтесь нам!» — «Помогите нам, и мы вам поможем!» Политики — это несерьезно: «Помните ли вы еще о победе шестьдесят седьмого года? Израильские солдаты, как всегда, на страже. Растет боевая мощь. Мы сейчас сильнее, чем когда-либо. Армия все видит и все знает».
Арабы ведут себя спокойно: они уже никогда не осмелятся делать глупости. Завтра — праздник.
— Хороший праздник Йом Кипур, Гриша. Ты постишься?
Да, он будет поститься.
— Так ты что, веруешь?
Нет, он не верует. Но он еврей. Если народ постится, он будет тоже. Как ей объяснить? На его счастье, она не требует никаких объяснений. Задает вопросы и сама же на них отвечает.
Поскольку Гриша дал понять, что сегодня вечером ничего не будет, она бесцельно бродит по комнате, что-то бубнит под нос, слегка шаркая ногами. Да, Катя всегда так медлительна… Она и раньше была такой? Вероятно, нет. Жизнь для нее кончилась со смертью Йорама. Никаких планов, ничто ее больше не манит. Живет Катя рассеянно. Даже любовью занимается как-то неторопливо. Однажды заметила:
— Иногда спрашиваю себя, уж не завидую ли я тебе. Ты — немой. Тебя спрашивают, а тебе достаточно только нахмурить бровь, чтобы дать понять: «Весьма сожалею, обратитесь в окошко рядом. А я закрыт…» Ой, извини, шутка не слишком удачна…
Сейчас она села около него на софу:
— Ты уверен, что?..
Да, он уверен в этом. На листочке бумаге пишет: «Завтра прилетает моя мать». Так, словно это объясняет его поведение. Катя не видит связи, однако не настаивает. Гриша пишет еще: «Мне бы хотелось, чтобы ты проводила меня завтра в аэропорт».
— Охотно, если от этого ты будешь хоть малость счастливее.
Тут она снова сбивается на свою любимую тему: о счастье. Теперь она крепко держит вожжи и никуда свернуть не позволит.
— Вот Йорам был счастлив, — врастяжку мечтательно сообщает Катя. — А до него был Эйтан. До чего невозмутимый парень, этот Эйтан. А до него была моя подружка, Мирьям. Мирьям, такая тонкая, прелестная, созданная для радости и счастья. Но я говорю и думаю о них уже в прошлом… Смерть так завистлива, это такая подлая тварь! Забрала у меня всех, кто был мне близок… Ты прав, Гриша, что держишься в сторонке. Тебе не надо… не надо слишком приближаться. Эта гадина всегда неподалеку. Я ее чувствую. Она подстерегает тебя, она за нами подглядывает. Кто следующий? Я ее чувствую, Гриша. Так кто же будет ее жертвой, ты или я? Может, твоя мать? Я ощущаю, что она снова вооружена, как во время войны…
Катя встает, подходит к зеркалу, вглядывается в свое отражение, словно ищет там кого-то другого. Какое-то существо без облика. Потом разочарованно трясет головой:
— Тебе сегодня не хочется, Гриша… Как я тебя понимаю: нельзя заниматься любовью, когда рядом смерть.
Она на что-то злится? Может, чувствует себя отвергнутой? Гриша ее не так хорошо изучил, а она его — и подавно. Все, что она знает, так это, что он — еврей из России, и вдобавок немой.
— Не пытайся быть счастливым со мной, — говорит она. — Это опасно для тебя. Эта гадина завистлива. Она завидует тому счастью, что я могу дать.
Счастлив ли он? Гриша думает, что нет. Он мысленно представляет себе мать, убившую в нем стремление к счастью. А был ли он когда-нибудь счастлив? Да, что-то такое или хотя бы похожее на счастье он когда-то испытывал. В Краснограде после того случая. Он тогда был так упоен, как всякий недолюбленный подросток, кому вдруг посчастливится завязать знакомство с непохожим на прочих обывателей стариком, неким вестником, который станет его большим и единственным другом. Ах, какие вечера он проводил у Виктора Зупанова, мастера рассказывать свои сказки Тысячи и одной одинокой ночи. Истории и воспоминания, которые Гриша заучивал наизусть. Они встречались почти как подпольщики. Это послание из прошлого было исполнено тайного смысла, но при этом четко сформулировано и благодарно принято. Да, тогда Гриша был счастлив. Неизданные отцовские стихи, главы из его «Завещания», пытка молчанием, освобождающие всплески смеха: Гриша вспоминал, как разворачивалась эта авантюра, и улыбался. Так он одержал победу над доктором Мозликом. И над матерью. Может ли понять Катя, почему немой парень испытывает желание улыбаться, когда она повествует о довольно грустных событиях?
Что до Кати, она заново переживает собственное прошлое, свои битвы и поражения. Она рассказывает Грише о лучезарных годах в кибуце, где жила вместе с родителями (уже умершими), и о солнечных годах с Йорамом (покойным), а потом о своем идиллическом союзе с Эйтаном (покойным), а затем о прочной, многогранной, искрящейся, на века рассчитанной дружбе с Мирьям (покойной). А Гриша размышлял о собственной жизни, о своих родителях, о матери: разве нормально ненавидеть мать? Нормально хотеть причинить ей боль в память о давно умершем?
За окнами ночь. И внезапно город вытягивается к небу, словно желая укорениться где-то на небосводе, среди все видящих и все помнящих звезд.
— Понимаешь, Гриша? — говорит ему Катя с нервирующей его неторопливостью, словно просыпаясь. — Ты понимаешь меня, дорогой мой безмолвный любовник? Иногда я спрашиваю себя: может, я — союзница смерти? И она пользуется мною, чтобы подманивать тех, кто ей подходит? Сперва я делаю их счастливыми, а потом отдаю ей… Так что ты, Гриша, в опасности. Завтра ты меня покинешь. Ты увидишь свою мать. Пусть она поживет у тебя. Твой друг-писатель возражать не будет, ты уж мне поверь. Мать нужна тебе, а ты — ей. А меня можешь оставить. Так надежнее. Отойдя от меня, ты сохранишь жизнь…
А с другой стороны окна город стал вовсе нереальным, он завис среди холмов и облаков, колеблясь меж тоской о былом и предчувствием чего-то нового.
Завещание Пальтиеля Коссовера (Продолжение)
Я все еще продолжал свои штудии. Не намечалось пока что никакого конфликта между моими религиозными исканиями, старинными спорами вокруг храмового культа и моими, так сказать, занятиями «политикой» вместе с Эфраимом.
Мой отец, казалось, не мог нарадоваться на сынка. Гордился мною. Если я бы продолжал в том же духе, меня бы ожидало посвящение в раввины, я женился бы на разумной и красивой, благовоспитанной девице из добродетельного, уважаемого семейства, у нас появились бы дети и подрастали добрыми евреями, а если бы Богу было угодно, мы бы все заслужили привилегию встретить Мессию на подходах к нашему городку, а потом… впрочем, никакого «потом» уже бы не было.
Эфраима же отец мой очень привечал, наша дружба, коей мы не скрывали от окружающих, его радовала. А как же иначе? Мы, как мнилось ему, вместе рылись в великолепных текстах Талмуда, никто не стал бы против этого возражать. Ведь наши мудрецы советовали ученику не только избрать себе наставника, но и обрести собрата по призванию.
Поскольку приличия были соблюдены, Эфраим, большой искусник по части совращения умов, стал постепенно приобщать меня к чтению светской литературы. Сначала в ход шли поэмы, рассказы и эссеистика религиозных авторов, а потом — и писателей свободомыслящих. Авраам Many, Менделе Мойхер-Сфорим, Давид Фришман, Ицхок-Лейбуш Перец, Хаим-Нахман Бялик, Залман Шнеур… Эфраим не облегчал себе задачи: тот талмудист во мне, что был куда меня взрослее, отчаянно ему сопротивлялся. Психологические конфликты и драмы вымышленных людей не слишком трогали меня, но, напротив, душа вскипала от самой простенькой истории из жизни или от притчи, которую приводил какой-нибудь рабби Иоханан бен Заккай или живший еще во времена царя Ирода мудрый Гилель, — память яростнее гипнотизировала разум, нежели фантазия. Однако же, как всякий терпеливый наставник, Эфраим не отчаивался. К роману из разряда социальных мы подбирались, словно к странице священной Агады, толкуя и анализируя его внутренний смысл. И в конце концов я подпал под колдовские Эфраимовы чары. Мне пришлось признать, что кроме трактатов об идолопоклонстве или разводе есть и другие книги, достойные, чтобы их листали. Стал глотать русских и французских классиков, разумеется, в переводе на идиш. Виктора Гюго и Толстого, Золя и Гоголя. Мой горизонт расширился. Я норовил покинуть Цфат с его каббалистами и пошататься по Парижу. Я вступил на путь эмансипации.
Следующая стадия оказалась более долгой и изнурительной. Чтобы полностью избавить меня от угрызений, Эфраим сунул мне под нос философские трактаты. Я засел за Спинозу, Канта, Гегеля. Разумеется, тоже в переводах на идиш. Тут я взъерепенился: «Что такое, они осмеливаются сомневаться в существовании Всевышнего? Дерзают отрицать истинность библейских писаний? Божественное происхождение самого Творения?» Эфраим спокойно доказывал, что слепая вера недостойна человека. Что дозволено задавать вопросы: сам Маймонид не гнушался этого. И Йегуда Галеви, и дон Ицхак Абарбанель. Чтобы опровергать неверных, необходимо узнать их доводы. Это написано в Этике наших вероучителей. «Библейская критика тебя, Пальтиель, страшит? Но почему? Это ведь лишь научное исследование Писания. Тебя что, пугает сама наука? Однако наши величайшие мыслители, самые знаменитые комментаторы были учеными…» Да, Эфраим умел взяться за дело. Он меня потихоньку приучал ко всему этому, а я уже не слишком сопротивлялся. Он подсунул мне Шлегеля, Фейербаха и Маркса. Мы все меньше дискутировали об изгнании нашего народа с тех мест, где было засвидетельствовано присутствие Бога, и все больше — о критике чистого разума. Вы, конечно, мне не поверите, гражданин следователь, но именно в том году я выучил наизусть здоровенные отрывки из «Капитала». Причем вместе с комментариями.
Действуя по заранее намеченному плану, Эфраим пробуждал во мне и любовь к стране, ставшей родиной всех изгнанников, то есть к нашей. И вот я, не слишком хорошо ориентировавшийся в географии и экономике, был вынужден все разузнать и вызубрить про города, республики, степи и горы Советской России, про ее журналы, университеты, военных героев, революционных писателей… таким образом, о жизни в СССР я стал знать больше, чем о стране, давшей нам приют. Теперь Россия сделалась для меня такой же знакомой, как небесный Иерусалим: я кивал в ней всякому прохожему, был вхож в любую семью. Если верить Эфраиму, Мессия покинул Иерусалим ради Москвы.
— Ты отдаешь себе отчет? — восклицал он дрожащим от чрезмерного напряжения голосом. — Они исполнили пророчества Исаии, благодаря им сбылись утешительные пророчества Иеремии… Нет ни бедных, ни богатых, ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, ни мучителей, ни их жертв. Невежество побеждено. Страх перед будущим, нищета — всего этого нет и в помине! Ты слышишь меня, Пальтиель? Там все люди — братья перед лицом закона. Они не имеют права не быть таковыми. Подумай, что это значит. Евреям там смерть уже не грозит, они больше не живут в страхе и неуверенности, им больше не приходится покупать себе право на счастье или на образование. Они свободны. И равны всем прочим. Их там не боятся, им не завидуют, их не держат в изоляции. Они живут, как считают нужным, поют на своем языке, строят жилища по своему вкусу, а мечты — по разумению… Вот что важно, Пальтиель: если сегодня существует страна, где евреи чувствуют себя как дома, то это Советский Союз. Почему? Потому что там победила революция. Она породила нового человека, человека коммунистической выделки, победившего капиталистов, она лишила их власти, одолев диктатуру богатых и фанатизм людских суеверий.
Поскольку и у нас в Льянове, и вокруг антисемитизм не утихал, горести и нищета его жертв разрывали мне сердце, а реб Мендл-Молчальник умер, не успев научить меня, каким образом с помощью хитроумных мистических пассов ускорить пришествие мессианского избавления, и при этом душе моей романтизм был так же близок, как идеализм (а еще по причине того, что мой приятель умел убеждать не хуже, чем соблазнять), — в силу всех этих обстоятельств я дал себя ослепить красивыми словами, поддался искушению и стал отзываться на то, что он называл «зовами Революции».
Однажды вечером у одного знакомого из буржуазной семьи я встретился с другими нашими знакомцами: с двумя учениками ешивы, портнихой, парикмахером и… Файвишем, приказчиком моего отца. При виде его я испытал нечто похожее на грустное раздражение: как и все, бывшие в комнате, Файвиш обличал жадных, хищных капиталистов, пьющих кровь рабочего класса. Я почувствовал, как щеки у меня багровеют: как? Мой отец — хищник? Кровосос? Я поднял руку и попросил слова:
— Ты врешь, Файвиш! Мой отец — человек мягкий и великодушный! Он работает тяжелее и напряженней, чем ты, тратит на это больше времени, чем кто-либо еще. И он делит с другими то, что зарабатывает. Он много дает, он это любит! И вам всем это известно. Вы знаете, что мы никогда не встречаем шабат без бедняка за столом. А когда кончаются молитвы, отец обходит все синагоги, проверяя, не осталось ли странника или нищего без крова и пищи. И каждую пятницу он устраивает во дворе кухню и кормит всех неимущих Льянова и голодных бродяг. Тебе, Файвиш, это известно лучше, чем кому бы то ни было. Так за что ты на него клевещешь? Может, таков ваш хваленый коммунизм? Может, он состоит из наветов и лжи?
В тот вечер, возвращаясь домой, Эфраим попытался исправить положение:
— Это моя ошибка. Я напрасно столкнул вас нос к носу, не развел тебя и Файвиша.
— Дело не в этом! — снова вскипел я. — Факт остается фактом: Файвиш лгал. А вы этому потворствовали. Врет ли он при мне или в мое отсутствие, в самом факте его вранья это ничего не меняет! А лжет он потому, что остальные поступают так же! Вот на этом и стоит твоя коммунистическая правда? На сплошной лжи?
— Понимаю, ты разозлился, — попытался охладить мой пыл Эфраим. — Но ты все преувеличиваешь. Не воспринимай общие рассуждения товарища как личное оскорбление. Коммунизм ценен прежде всего в качестве объективной обобщающей системы: говорить о частностях — значит, искажать его природу.
Может, он и был прав, но я — тоже. Я чувствовал боль за отца. А с Файвишем я так и не помирился, ни разу с ним больше не разговаривал. Мне тогда очень не хотелось, чтобы он у нас жил: находиться с ним под одной крышей было противно. Мать догадывалась о моем раздражении и часто украдкой внимательно следила за мной, как бы приглашая довериться ей. Догадывалась ли она, как глубоко я увяз в своих обязательствах? Не знаю. Но никогда я не видел в ее глазах ни тени упрека. Даже в тот день, когда я ей сообщил, что намереваюсь уехать и жить далеко от дома, она взглянула на меня с грустью, но без единого слова осуждения.
Я достиг призывного возраста, однако не имел никакого желания стать солдатом его величества короля Великой Румынии. И вот мы с Эфраимом оба решили улизнуть за границу. В Берлин, Париж и, если Богу будет угодно, в Москву.
— Когда ты думаешь ехать? — побледнев, только и спросила она.
— Через несколько дней.
— Отец в курсе?
— Нет. Я поговорю с ним об этом сегодня вечером.
Она покачала головой:
— Постарайся его не слишком огорчать.
На что она намекала? Я кашлянул, прочищая горло, и спросил ее об этом. Но она ответила вопросом, вроде бы не связанным с моим:
— А где твои тфилин?
— Мои филактерии в Доме молитвы и учения.
— Не забудешь взять их с собой?
Ее вопрос показывал, что она догадывается о моей тайной жизни: я еще соблюдал все основные предписания Торы, исполняя то, что приличествует верующему, еще не бросил изучение священных текстов, но душа больше не лежала ко всему этому, а значит, отъезд знаменовал непоправимый разрыв с прошлым — и моя мать это уже знала.
— Неужели ты думаешь, что вдали отсюда я перестану быть евреем?
— Все возможно, сынок. Вдали от родителей всякое случается. Вот почему я тебе сейчас говорю: чтобы изгнать лукавого, вспоминай о родных.
Мама уже знала, предугадывала, что нам суждено долго жить вдали друг от друга, но ей удалось не выказывать своей грусти. Я и теперь вспоминаю тот разговор, словно он случился еще вчера. Мы были на кухне. Мать вытирала ящик стола, ставила на место посуду. На лице ее появилась новая, совершенно неведомая мне ранее улыбка, от нее все нутро переворачивалось. Мне захотелось подойти к ней, попросить прощения, но я не двинулся с места. Не знаю почему.
Вечером, чуть припозднившись, пришел отец, а с ним и Файвиш заявился. Я сказал, что нам надо поговорить.
— Сейчас, сейчас, — отозвался отец, — вот только прочту вечернюю молитву.
На лице Файвиша застыла испуганная гримаса: он боялся, что я на него донесу. Он вышел, я остался на кухне наедине с матерью.
— Ничего не скрывай от отца, но не причиняй ему боль. Объясни, почему тебе следует уехать. Что ты получил на руки повестку и на следующей неделе должен отправиться в казармы, а еще, что мы с тобой оба думаем: было бы ошибкой тратить годы на службу в армии, где невозможно жить по еврейскому закону. Об остальном не заикайся.
Ну да, она все знала! Что я изменился и буду меняться все больше и больше. Тут к нам вышел отец.
— Пойдем в гостиную, — позвал он.
Там он положил перед собой на стол томик любимого комментария к Торе (он ни минуты не мог без него обходиться, даже в магазине книжка лежала перед ним на стойке), а затем сел за стол и сказал:
— Я тебя слушаю.
В общих чертах я обрисовал ему положение. Отец выглядел погрустневшим, но не удивленным и, пока я говорил, рассеянно листал книгу. До того мы много раз обсуждали, что делать во время призыва. В стране царила коррупция, и за хорошую взятку можно было освободиться вчистую или даже найти себе замену. Но такой выход его не устраивал. По его мнению, совращающий более грешен, нежели совращаемый. Оставалось единственное средство: бегство за границу. И возвращение после первой же амнистии.
— Когда ты думаешь уехать?
— Через несколько дней. В начале следующей недели.
— Сперва поедешь в Бухарест?
— Да, на день или два, пока не достану необходимые бумаги, а потом двинусь в Вену либо Берлин.
— Тебе кто-нибудь помогает?
— Эфраим и один из его друзей.
Положив правую руку на раскрытый томик, отец глубоко задумался. Куда он забрался в своих помыслах? Какого предка мысленно вопрошал? Затем приглушенно зазвучал его голос:
— У меня трое детей, ты — мой единственный сын. Ты прочтешь надо мной кадиш, ты сохранишь веру предков?
Пораженный отчаяньем в его голосе, я вскинулся: от него тоже ничего не укрылось!
— Ну конечно же, — забормотал я, — конечно. А почему… почему ты спрашиваешь?
Взгляд отца блуждал где-то далеко, в дебрях раскрытой страницы, которую не переставали поглаживать его пальцы. Он давал мне понять: я напрасно скрывал от него, что поделываю последние месяцы. И его тоже мне не удалось провести. Уже давно он понял, что мы с Эфраимом занимаемся чем-то незаконным. И не вмешался только из уважения ко мне. Тем более что касательно молитв и занятий меня ни в чем нельзя было упрекнуть.
— Ты надеешься изменить природу человека, — вздохнул он. — Это неплохо. И желал бы перемен в обществе. Великолепно! Рассчитываешь изгнать из обихода зло и ненависть. Замечательно! Тут мне нечего возразить.
Он выговаривал слово за словом напряженно, медленно, через силу, а я его слушал всеми фибрами души, всем существом… Но вдруг он резко переменил тему:
— Ты вспоминаешь иногда о Белеве?
— Да, отец. Вспоминаю.
— А о погроме?
— Как сейчас вижу погреб. Тамошний сумрак. Слышу, как там тихо…
— А помнишь похороны?
— Память о них не умрет до конца моих дней.
— Те носилки…
Я все это видел, как воочию. Черные носилки, толпу за ними, троих служителей в черном с плошками в руках…
— Помнишь, что кричали три служителя перед гробами? «Милосердие спасет вас от смерти!» Какая вроде бы нелепая фраза! Предположим, кто-то вбил себе в голову, что необходимо раздать состояние нуждающимся, допустим, он занимается этим каждый день и даже ночами… Значит ли это, что он никогда не умрет? Получат ли щедрые богачи, кроме денег, еще и гарантию бессмертия? Ведь нет же! Этот призыв означает нечто иное: помогая бедным, не отводя глаз и слуха от тех, кто в нас нуждается, мы просто пользуемся привилегией жить так, как нам свойственно. В полную силу. Но какое это преимущество! Ведь иначе мы стали бы живыми мертвецами. Вот смысл речения «Милосердие спасет вас от смерти»… То есть будет спасать, пока не наступит смерть. Это мой подарок тебе на дорогу, сынок. Теперь ты понимаешь, почему я не мешал тебе заниматься тем, что ты делал? Кроме Эфраима, я других твоих приятелей-коммунистов не знаю. Мне только известно, что они хотят уменьшить страдание в мире. Это им зачтется, только это им и зачтется. Кто-то говорит, что они богохульствуют. Но это их дело. Тут решать и судить может только Всевышний. Главное то, что они сражаются ради тех, у кого нет ни сил, ни возможности сопротивляться. Прежде всего ты должен не проходить мимо страданий ближнего. Пока ты не прекратишь бороться с несправедливостью, защищать ее жертв, даже тех, кто уже на небе, до той поры ты будешь чувствовать, что живешь, то есть ощущать в себе Бога, Бога своих предков, своего детства, а в собственной груди — кипение человеческих страстей и Божьего сострадания. Самую большую опасность, сын мой, нарекли равнодушием.
Никогда еще мой отец не вкладывал так много в такое малое число слов. Я же не отрывал глаз от его пальцев, блуждавших по раскрытой книге. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не склониться к его руке и не поцеловать ее, как когда-то в День Всепрощения.
— А помимо сказанного, — продолжил отец, — вот чего не забудь: ты правоверный иудей — это самое главное, именно оставаясь им, ты поможешь человечеству. Если ты забросишь братьев своих ради кого-то другого, ты кончишь тем, что отречешься от всех. Прими этот завет, который я оставляю тебе в наследство.
Он замолк на мгновение, рука замерла на открытой странице. А затем повторил:
— Обещай оставаться иудеем. Большего я не прошу.
— Обещаю.
— Обещай каждое утро надевать филактерии.
— Обещаю.
— Постарайся не есть свинины. Не забывай прерванных занятий. Отмечай наши праздники. И, тут я уверен, ты будешь поститься в День Всепрощения.
Эта его убежденность меня умилила. Как он мог знать, предвидеть? Ведь через какую-нибудь неделю я буду в столице, затем — в другом городе, потом — в третьем, встречу иных людей, услышу новые речи. Как знать, не придется ли мне отречься от самого себя, от него? Почему он так уверен во мне?
Отец между тем захлопнул книгу и достал из кармана платок. Больше ни слова он не произнес. Я — тоже. Потом мы прошли на кухню к матери. Она улыбнулась нам, счастливая оттого, что видит нас молчавшими, но явно примиренными.
Неделя прошла очень медленно и очень быстро. Мне следовало хорошенько подготовиться к путешествию, а я пытался как можно больше времени проводить с родителями. Наконец настал день отъезда. Чемодан был уже собран — бери и пошел. На столе меня ожидал толстый конверт с ассигнациями. На кухне мама приготовила чай. Мы выпили его стоя, обменявшись несколькими незначительными фразами, до краев наполненными сдержанной нежностью. «Ты будешь осторожным?» — «Буду-буду». — «Не забывай поесть». — «Не забуду». — «Пиши». — «Обязательно». — «Маше передай, что…» — «А ее детям…» — «Злате скажи, что…» — «А ее жениху ты объяснишь, что…» Никогда я еще не чувствовал такой близости к родителям, совершенно беззащитным и смиренным перед сыном и грядущими испытаниями. Никогда еще я их так крепко не любил. Если это преступление, гражданин следователь, признаю себя виновным. Виновным в том, что питал подобные чувства к отцу и матери — двум прямым и добрым, искренним и честным существам, принадлежавшим при всем том к проклятому классу буржуазии. Они верили в Бога и исповедовали религию своих предков, они были чисты, их помыслы были чисты, но при этом они не сделались коммунистами. Признаю свою вину в том, что любил их больше наших возлюбленных вождей, больше кого бы то ни было на целом свете, да и теперь, виноват, я их еще люблю, притом в тысячу раз, в шесть миллионов раз больше, чем при жизни.
Отец напомнил, что пора, время прощаться. Я проглотил слюну. Где-то ревел маленький мальчик, его мамаша отчитывала крикуна.
— Будет осмотрительнее, если мы не пойдем с тобой на вокзал. Лучше не привлекать внимания.
Он был прав. Доносчиков вокруг хватало. Поэтому мой чемодан понесет Эфраим, а я буду как бы его провожать, словно это он собирается провести недельку-другую у ребе в городке Вардейне.
Я поцеловал у матери руку. И у отца. Сердце билось так громко, что мне было слышно. К счастью, почти тотчас явился Эфраим. «Пальтиель, больше никаких слез», — таков был его молчаливый приказ. Я быстро вышел. Не вполне удобно плакать, когда ты уже в призывном возрасте и считаешь себя готовым сразиться со всеми воплощениями мирового зла во имя того, что прекрасно, справедливо, человечно, иными словами — во имя Революции.
На деревьях, которыми была обсажена улица, сияли тысячи золотых и медных бликов. Прохожие здоровались, их тени мирно следовали за ними, птицы что-то насвистывали, на меня натыкалась бегающая ребятня, а душу волновали смутные предчувствия. Я шел медленно, стараясь не оборачиваться, ощущая спиной обжигающий взгляд отца и затуманившийся взор матери. Казалось, эти двое, застывшие за моей спиной, шествуют впереди меня. Собираются заботливо опекать меня до самого конца.
Знал ли я тогда, что никогда больше их не увижу?
Гриша, сын мой,
я прерываю эту «исповедь», чтобы написать тебе письмо. Когда ты его прочтешь, ты будешь достаточно большим, чтобы его — и меня — понять. Но вот прочтешь ли ты его, дойдет ли оно? Боюсь, что нет. Как все, что пишется арестованными, оно, вероятно, будет пылиться в тайных архивах. И все же… Что-то во мне твердит, что завещания никогда не теряются. Даже если их никто не прочтет, их содержание в свой час доходит по назначению. Зов умирающих будет услышан, если не сегодня, то завтра. Все наши деяния записаны в большой Книге Творения — вот квинтэссенция того благородного учения, что зовется иудаизмом. И эту премудрость я передоверяю тебе.
Пишу тебе, потому что скоро умру. Когда? Не ведаю. Через месяц, через полгода. Когда закончу эту исповедь? Не спрашивай: у меня нет ответа.
Стоит ночь, но не знаю, во мне эта темнота или снаружи. Ярко горит лампочка, от которой я слепну. Скоро тюремщик откроет глазок в двери. Я уже узнаю его шаги. И не боюсь его: я пользуюсь некоторыми привилегиями. Могу писать, когда хочу, сколько хочу. И что хочу. Я — свободный человек.
Стараюсь представить, каким ты будешь через пять лет, через десять. Кем станешь, когда сравняешься со мной годами. Что ты будешь знать о допросах и страхах, терзавших твоего отца?
Я тебя вижу, сынок, так же ясно, как собственного отца. Как во сне, в той сновидческой реальности, на мой голос откликаетесь вы оба, хотя бы для того, чтобы сказать миру, как он уродлив, хотя бы затем, чтобы вместе крикнуть «На помощь!», вдвоем оплакать погибшие надежды и воспеть смерть Смерти.
Я — твой отец, Гриша. Мой долг давать тебе наставления и советы. Где их черпать? Моя жизнь не настолько удалась, чтобы я мог претендовать на право управлять твоею. Хотя я повидал людей, мне неизвестно средство для их спасения, я не смог их разбудить. Иной раз я даже спрашиваю себя, а хотят ли они быть спасенными и разбуженными? Несмотря на все, что мне удалось узнать (а я узнал в своей жизни много чего), я бы не отважился давать ответы на серьезные вопросы, те главные, что относятся к человеческой природе и ее сути. Отдельный человек перед лицом будущего, перед другим человеком — ближним — не имеет никакого шанса выжить. Остается вера. Всевышний. Как объект вопрошений, я бы Его охотно принял. Но Ему желательны не вопросы, а утверждения, я же отнюдь не спешу примыкать ни к какой конфессии. И все-таки… Мой отец и отец отца верили в Бога, я им завидую. Говорю тебе, чтобы ты знал: я, тот, кто никогда никому и ничему не завидовал, — я завидую их чистой вере.
Может быть, тебе выпадет оказия прочитать мои стихи. Они — своего рода духовная биография. Впрочем, нет. Звучит претенциозно. Может, биография поэтическая? Тоже не подходит. Гимны. Это просто гимны в дар отцу, которые я услышал во сне. Среди самых последних в моей голове еще звучит один, и я все стараюсь его переработать. Название у него одновременно наивное и ироническое: «Жизнь — это поэма». Но жизнь — совсем не поэма. Я так и не понял, что такое жизнь, и умру, не узнав ответа.
Мой отец, чье имя ты носишь, он знал. Но его уже нет. Вот почему я только и могу, что сказать тебе: помни, он знал то, что его сыну неведомо.
При всем том я искал ответ. Если у меня будет время, опишу, как я это делал.
По меньшей мере могу сказать следующее: не иди моим путем, он не ведет к истине. А истина для еврея — оставаться среди своих братьев. Соедини свою судьбу с судьбой своего народа, иначе ты никуда не придешь.
Не то чтобы теперь я стыдился своей прежней веры в революцию. Она позволила надеяться массам голодных и преследуемых. Но я знаю, к чему она привела, и больше в нее не верю. Великие исторические потрясения, драматическое ускорение развития… в итоге я стал предпочитать мистиков политикам.
Мне придется умереть через месяц или год, а я хочу жить. С тобой, для тебя. Чтобы познакомить тебя с некоторыми действующими лицами, которые в камере разделяют со мной мое ожидание.
Знай же, что в своей исповеди я признаю себя виновным. Да, виновным. Но не в том смысле, который желателен обвинению. Напротив, я виноват, что не жил так, как мой отец. Вот, сын мой, как парадоксально все повернулось: я прожил жизнь коммунистом, а умираю иудеем.
Над миром прошел ураган, люди теперь не те, что раньше. Вот и я вырос, созрел. Бродил по лесу, затерялся. Слишком поздно возвращаться назад. Такова жизнь: пути назад нет.
Твой отец.«Сдается мне, с тобой произошла неприятность…»
— Сдается мне, с тобой произошла неприятность, — сказал тогда ночной сторож Зупанов. — Тебя пришлось отвезти в больницу. А ты не плакал. Браво, малыш! Ты, Гриша, мне нравишься. Ты умный мальчик. И смелый. Давай поговорим. Да, я знаю: ты не можешь. Ну ничего. Мы все же поговорим. Пойдем ко мне. Там нам будет удобнее. Ты меня не знаешь? А вот я тебя знаю. Работа у меня такая: я знаю всех в этом квартале. Я в курсе того, что происходит в каждой квартире, в каждой семье. Знаю твою маму, ее соседей. Мне известно и о том, кого ты презираешь и кого — забавная штука! — я тоже терпеть не могу. Я говорю о докторе Володе Мозлике. Странный он доктор… Ну, пойдем же. Нам лучше поговорить у меня. Как мне приноровиться, чтобы тебя, немого, понимать? Не волнуйся: с этим все будет в порядке. Я научился слышать речи, которые не произносят, читать те слова, что только возникают в голове и человек клянется себе, что никогда не скажет их вслух. Ты только вообрази, что говоришь, — и заговоришь… Ты мне доверяешь?
Гриша ему доверился. Они сделались друзьями. Союзниками, не имевшими друг от друга секретов. Ведь Гриша нуждался в отце, а Зупанов — в сыне.
Эта встреча произошла в один из летних вечеров. Стояла ужасная жара. Красноград едва дышал, самомалейшее движение требовало усилий. Даже мухи и комары жужжали как-то заторможенно.
Раиса и Мозлик отправились искупаться. Гриша, один в квартире, сидел и жалел себя. Он поссорился с Ольгой, своей школьной пассией. К тому же то, что он вдруг онемел, усугубляло его одиночество. Ему стукнуло четырнадцать, а он уже без сил. Готов сделать над собой что-нибудь непоправимое. Чтобы наказать мать? Мозлик бы ее быстро утешил. Нет, это еще могло подождать. До завтра, до следующего года.
Он поднял с пола газету, там не оказалось ничего интересного. Полистал книжку на прикроватной тумбочке — тоже скукота. Переворачивал страницы, не останавливаясь на строчках. Даже не мог разобрать, о чем роман, выпущенный самым знаменитым из известных писателей. И отправился налить себе стакан воды, когда в дверь постучали. На пороге стоял низенький лысый человек.
— Можно войти?
Гриша кивнул.
— Я тебя увидел и сказал себе… Ах, прости, я не представился. Меня зовут Зупанов. Зупанов, ночной обходчик, сторож… Можно сесть?
Гриша знаком показал ему на стул и — тоже жестом — спросил, не хочет ли тот выпить стакан воды.
— Нет, спасибо. Я просто так зашел. Поговорить. В этот час мы в доме одни. Жильцы ушли купаться или немножко подышать в парке свежим воздухом. Я тебе не помешал?
Гриша отрицательно замотал головой. Ему ничего не могло помешать, ничто не волновало и не тяготило.
— Не хочешь зайти ко мне? Там нам будет удобнее, — предложил сторож.
Гриша посмотрел на него повнимательнее. Этот человек назвал себя сторожем. Как могло случиться, что он его до сих пор не замечал? Зупанов угадал, о чем он думает.
— Ты наверняка сталкивался со мной тысячу раз, но ни разу не пригляделся. Это тебя удивляет? А я такой: не привлекаю к себе внимания. Я среди людей как хамелеон или что-то в этом роде. Растворяюсь в обстановке, становлюсь частью пейзажа. Во мне нет ничего, что притягивало бы взгляд. Все во мне такое обыкновенное, что люди на меня смотрят и не видят. Зато я их вижу. А как бы ты хотел? Дело сторожа — сторожить.
Сколько ему было лет? Около шестидесяти. Чуть больше, чуть меньше — одним словом, человек без возраста. Уже в детстве у него, наверное, было такое же круглое невыразительное лицо, он глядел бледными тусклыми глазами, плечи, как и теперь, были покатые, голова без следов растительности, походка тяжелая — ничто в нем ни тогда, ни сейчас не возбуждало интереса. И Гриша понял почему: все черты казались как бы стертыми, настолько, что взгляд соскальзывал со лба к носу и губам, не задерживаясь ни на одной складочке, морщинке. Ничто не останавливало внимания. Полная безликость.
— Пойдем, сынок, — предложил Зупанов. — Я буду говорить за двоих. Расскажу тебе такие истории, каких ты не знаешь, а знать обязан.
Они спустились в полуподвал, Зупанов открыл одну из дверей, предложил войти, налил стакан газировки. Гриша пил ее мелкими глотками, оглядывая комнату. Раскладная кровать, стол, два стула, сундук, этажерка с книжками, по корешкам которых он пробежал глазами, читая названия. И застыл: там стоял томик Пальтиеля Коссовера «Во сне я видел моего отца».
— Ну-ну, сынок, тебе нехорошо?
Но тут сторож заметил, что Гришин взгляд прикован к этажерке.
— A-а, вот оно что! Этот сборник… ты удивлен? Почему же? Разве я не имею права любить поэзию? Он на идише? А что такого? Идиш я понимаю.
Он взял книжку и открыл наугад. Стихотворение называлось «Искры». Неуверенным голосом он начал читать, и Гриша тотчас едва не разрыдался. В его голове теснилось столько вопросов: «Кто вы, Зупанов? Где вы откопали книжку? Как долго вы тут в квартале сторожите? Вы знали моего отца?» Казалось, сторож его понял:
— Настанет день, и ты услышишь побольше. Ты придешь еще. А я тебе расскажу: ты должен узнать все.
Зупанов нагнул свою лысую голову, словно спрятал ее на груди. Может, желал скрыть, как ему трудно? Казалось, его тело растворялось в воздухе, и Гриша почувствовал необъяснимую тупую дурноту.
Слово Зупанов сдержал. Ночной сторож знал так много всякого! Восхищенный и испуганный Гриша слушал его, боясь упустить хоть слово или интонацию. Даже если б с ним заговорил собственный отец, вряд ли он слушал бы с большим вниманием.
Кто был этот человек? Почему он жил один, без семьи, без родни? Чем он был занят помимо работы? С кем виделся? Кто ему все это рассказал и кому еще он говорил об этом?
Со временем Гриша убедился, что его друг остается человеком совершенно закрытым. Если он и упоминает о других, то лишь для того, чтобы избежать разговоров о себе.
— Давид Гаврилович Биламер… Тебе это имя что-нибудь говорит? — однажды буркнул он. — Писатель. Крупный писатель. Еврей. Коммунист и друг больших людей. Так вот, послушай: однажды его вызывают в Кремль, а он приходит раньше назначенного времени. Его вежливо встречают. Приводят в приемную и оставляют ждать. У него от волнения так забурчало в животе, что он почувствовал мучительнейшую необходимость отправиться в туалет, но дверь ему никто не открывает, она заперта на ключ. Тогда-то он и понял, что пот может быть холодным. Короче, он сделал все прямо в штаны. А тут открывается дверь, появляется офицер и предлагает следовать за ним. Биламер пытается объяснить ему, в чем его проблема, но тот говорит: «Вас ждут». И вот они — перед «хозяином»: Сталиным. Какой-то кошмар. Биламер думает: «Они меня наверняка расстреляют». Он чувствует на своей спине страшную ледяную руку… и вдруг слышит знакомый голос: «Хотел бы лично сказать, товарищ, что я высоко ценю твою статью о мифах в литературе». И Биламер оказывается вновь в коридоре, затем на улице, на вольном воздухе.
Зупанов с болезненной или скорее ядовитой улыбкой на секунду умолкает, потом заключает:
— Арестованный во время борьбы с космополитизмом, Биламер был осужден за бесстыдную выходку и оскорбление вождя. И конечно, расстрелян.
«Откуда он все это знает?» — спрашивал себя Гриша.
Зупанов знал и не такое. Перед Гришей прошла целая вереница великих и посредственных, скромненьких и властных персонажей, не говоря о разных чудаках. Стоило ему поглядеть на правую руку рассказчика, как он уже догадывался о том, что последует: если пальцы поглаживали стакан с чаем, будет поведано о людях отвратительных, а если они сворачивали цигарку, значит, сейчас сторож заговорит о том, кто заслужил его восхищение.
— А тебе не известна история с Макаровым? — спросил он однажды, вытаскивая кисет с махоркой из внутреннего кармана. — Ах, что за человек был Макаров! Крепкий, как бык, и мягкий, словно ягненок. Верил, что можно заставить историю идти быстрее. Ведь для этого и нужна революция, разве не так? Целые века ничто не меняется, а тут разом горы рушатся и жизнь течет быстрее. Вместо того чтобы терять время на поиски ремесла или жены, Макаров вступает в партию — и вот он уже поднялся до поста, пардон, до очень высокого поста: не ведая того, он начал шагать вверх не по ступеньке за раз, а по три. Мои поздравления, любезный Макаров! А работать, кстати, этот парень умел. И голова от успехов у него не кружилась. Жил он скромно, навещал старых друзей, выпивал с ними и даже подчас защищал их своею властью. Но в один прекрасный день загремел вниз. Разом впал в немилость, совершенно неожиданно для себя. Однажды ночью его вытаскивают из постели. Он возмущается, протестует, но ему говорят: «Не сейчас. Все это ты скажешь после». Перед следователем он топает ногой, грозит пожаловаться в «высокие инстанции». А тот хмыкает ему прямо в лицо: «Да ты и так в инстанциях, куда уж выше, кретин!» И он, следователь этот, заявляет напрямик: мы-де знаем все, знаем, что ты невиновен, чист перед партией. Ты перед ней ни в чем не провинился, и то, что ты здесь, — знак нашего доверия. Тебе, говорит, предстоит выполнить особую миссию. Агитирует, стало быть, Макарова, вешает ему на уши еще несколько задушевных фраз в том же духе, а потом уточняет, в чем дело: вся загвоздка в Иванове. Того надо обязательно сломать. «Он же твой закадычный друг, с детских лет, мне это известно, потому-то никто другой не разоблачит его лучше, чем ты». — «Но в чем его обвиняют?» — «В принадлежности к зиновьевской банде». — «Это невозможно: я знаю Иванова, как себя, и могу гарантировать, что это ложь. Никогда вы не убедите меня, что мой друг Алексей Иванов — предатель рабочего класса! Ведь он посвятил ему всю свою жизнь! Никогда вы не заставите меня сказать, что он враг партии, ведь он проливал свою кровь за победу ее дела!» Вопящего Макарова волочат в камеру. Допрос повторяется снова и снова, в десятый, в сотый раз. Следователь прибегает к привычным приемам — впустую. Тогда он начинает распространяться об идеологической выдержанности, о патриотизме, о диалектике, о столкновении индивидуального и коллективного сознания, о великих целях, ради которых все средства хороши, о жертвенности и готовности всем поступиться ради коммунистического идеала. Все это время он теребит в пальцах остро отточенный карандаш, Макаров неотрывно следит за ним глазами, и это его спасает от помешательства. Он на все отвечает: «Моя любовь и душа принадлежат партии, но я стану сам себе противен, если ложно обвиню лучшего друга, я тогда буду недостоин партии». — «Короче, ты отказываешься исполнить приказ партии?» — «Никоим образом: партия требует, чтобы я говорил правду, и я говорю правду». — «О какой правде ты здесь талдычишь? О твоей или о партийной?» — «Правда одна». — «Но если партия говорит одно, а ты — другое, кто же прав?» — «Права партия, но так быть никогда не может». — «Никогда? Ну вот, слушай: партия осудила Иванова, объявила его виновным. А ты заявляешь, что он невинен!» — «Так не может быть! Партия не может осудить моего друга Иванова, потому что она не может лгать». Следователь злится. Макаров никогда не был силен в риторике, и ему совершенно наплевать на логику. И вот — уникальный случай в наших анналах — дело не заканчивается трагически. Десять лет каторги вместо пули в затылок, которую обычно всаживает палач, «работник четвертого подвала». А почему? Потому что оба друга отказались подписывать что бы то ни было. Их дело длилось так долго, что боги соскучились: заменили и цель, и преследователей.
Между тем Гриша удивлялся все больше и больше. Откуда брал Зупанов все эти истории? Он что, был знаком с жертвами или палачами?
— В одно прекрасное утро, — продолжил Зупанов, — Макаров и Иванов встретились на тюремном дворе. И упали друг другу в объятья. «Что ты сделал, чтобы выдержать?» — спросил Макаров. «Очень просто. Они пытались меня убедить, что я обязан себя оболгать для блага человечества, а я на это отвечал: как я могу способствовать благу человечества, если это должен сделать предатель, который будет сидеть во мне? Все это было нелегко, и тянулось, тянулось, но видишь: я пока здесь… А как продержался ты?» — «Ну, это было еще проще — я смотрел на карандаш в руке следователя, смотрел и приговаривал про себя: я не карандаш, не карандаш, а человек…»
Да, сторож много чего знал! О тюрьмах, пытках, о праведниках и шутах, словно он мог проходить через потайные двери и узнавать секреты, которых никто не осмелился бы произнести вслух. Но почему он открывал душу своему юному немому другу? Как он получил доступ к запретной памяти целого народа, приговоренного к молчанию? Что видели его глаза, когда он отвечал усмешкой на резкий поворот разговора или неожиданный жест? А он, Зупанов, только посмеивался, посмеивался, а не смеялся. Раздавались звуки, которые и желали бы быть смехом, но не могли. Он шевелил головой, облизывал губы, руки рисовали в воздухе что-то странное, и слышалось похохатывание, похожее на конское ржанье.
— Ха-ха-ха, ты видишь, что я хотел сказать?
Гриша видел не всегда. Но слушал внимательно.
Иногда ему казалось, что он вот-вот сойдет с ума. «Мир тюрьмы — это своего рода тот свет, — любил повторять Зупанов. — Там все непонятно, и ничто не похоже на правду. Часто в этих стенах осужденные сталкиваются со следователями, которые вели их дело. Прокуроры и приговоренные, мучители и мученики, свидетели и лжесвидетели сидят вперемешку, доведенные до положения недочеловеков…»
Гриша и Зупанов встречались частенько: жилище ночного сторожа стало для мальчика убежищем, куда ни его мать, ни доктор Мозлик не имели доступа.
«Кто ты, странный сторож, из какой тюрьмы? Сколько языков ты знаешь? Почему учишь меня идишу? И для чего тебе надо, чтобы я выслушивал твои истории?»
— А я рассказывал тебе про Гирша Талнера, того самого, историка? Ты о нем, наверно, слыхал. В камере он продолжал работать над своим научным трудом. Не имея возможности записывать, он повторял то тихо, то громко все, что хотел бы увидеть на бумаге. Однажды ночью происходит чудо: кто-то подсовывает ему огрызок карандаша и белый лист. Ты только попробуй, сынок, попробуй вообразить: вот сейчас он, уподобясь Золя, составит свое «Я обвиняю», и оно станет частью мировой истории. А ему надо столько сказать… слишком много для одного листика. Как уложить на двух страничках все кошмары и предсмертные вопли целого поколения? Стиснув голову руками, он обдумывает это, страдая сильнее, чем под пыткой, он мечется. А его память перегружена, она сохранила слишком много фактов и образов. Как их передать, чудовищно не обкорнав, не изувечив? Сознавая свою миссию, он перебирает в памяти перекошенные ужасом лица и выбитые зубы, признания и опровержения, завещания мертвецов и зовы умирающих… Он все это лихорадочно перепроверяет в уме, пытается решить, что спасти от забвения. Уже начинается рассвет, а ни одна фраза еще не написана. Охваченный паникой, он начинает всхлипывать: что же он за историк, если не может выполнить эту работу? И вот он уже рыдает так громко, что врывается тюремщик и отбирает у него карандаш и бумагу. Пропало послание потомкам, потерян единственный шанс. Несколько позже историка опять ведут на допрос. В жестком свете следовательского кабинета кто-то, узнавший его, едва удержался от крика: ярко-рыжие волосы Гирша Талнера стали совсем белыми. Ты понимаешь, сынок? Один листок чистой бумаги сделал из него старика!
Глаза рассказчика подернулись влагой, Гришины тоже. «А как же мой отец, — спросил себя мальчик, — он тоже постарел? И знает ли об этом сторож?» Ему чудилось, что Зупанов знал все.
— Ты послушай, сынок, — монотонно твердил он, увлекая мальчика в свое давнее время, в прежний мир, где люди молились и теряли надежду по одним и тем же причинам. — Постарайся понять, что я тебе рассказываю. Каждое поколение лепит и высекает из камня свою правду. Кто поведает о нашей? Кто расскажет о ней, когда свидетели убиты?
Он примолк на минуту, по его лицу снова забегали гримасы.
— А я знаю кто. Сумасшедшие историки. Параличные акробаты. А знаешь, еще кто? Не знаешь, так я тебе скажу: немые ораторы. Да, сынок. Немые поэты прокричат истину о нашей судьбе. Ты хочешь быть с ними?
Слушавший его подросток кивнул: да, он хочет. И ему очень надо поскорее состариться.
Завещание Пальтиеля Коссовера (Продолжение)
Берлин, 1928 год. Мне восемнадцать, и жизнь прекрасна. Вокруг меня мир рушился, но меня это только возбуждало: я чувствовал, что живу, живу интенсивно, как говорили тогда.
Я начал писать стихи, много стихов. Они были неважные, и теперь я их не люблю. Предпочитаю те, что родились здесь, в тюрьме. Но тогда для меня главным было найти себе занятие, выразить себя, поведать, что я думаю и чувствую о людях, не обо всех, естественно, не о капиталистах с их сумрачными торжественными рожами, но об их рабах, о таком же отребье, как я сам: их было много вокруг. При всем том жизнь была забавной: народец вроде нас корчился либо от смеха, либо от голода, но чаще и от того, и от другого разом. А я знай раздавал все, что имел, иногда меньше, но чаще больше. Деньги, которые я привез из Льянова, в то время казались настоящим богатством. В сравнении со своими новыми приятелями я был прямо Ротшильд. Конечно, сравнения с настоящим Ротшильдом я не выдерживал… Но в общем-то зачем мне было на него равняться? Впрочем, в то время это входило в моду. Я часто слышал: «Ах, если бы только я был, как такой-то или такой-то!» Меня это смешило. Однажды я рассказал приятелям историю про рабби Зусю, знаменитого хасидского законоучителя, который говорил своим ученикам: «Когда я предстану перед небесным судилищем, ангел-хранитель не спросит меня: „Зуся, почему ты не был Моисеем?“, или: „Почему ты не был Авраамом, Зуся?“, или же: „Почему ты не стал пророком Иеремией?“ Он спросит меня: „Скажи-ка мне, Зуся, почему ты не был Зусей?“»
На что мои новые знакомые отвечали издевательски: «Ты стал цитировать раввинов? Здесь и сейчас? Бедняга Зуся, что с тобой творится?»
Все они принадлежали к тому поистине фантасмагорическому берлинскому сообществу, где интеллектуальные клоуны и их собратья из артистической среды, бойцы от политики и борцы против политики кружились в нескончаемых дивертисментах, обретая для себя кто призвание, кто профессию, кто возлюбленного, любовницу или, наконец, исповедника.
Мы встречались в кафе «У Блюма», в «Новом Парнасе» или в различных клубах. Мы бузили, восторгались друг другом, ссорились, мирились — и все это в течение нескольких часов. Обсуждали Версальский мирный договор, Розу Люксембург или Париж, безумие Ницше или гомосексуальные склонности Платона. Политика, современная литература и философия, направления в искусстве и коммунизм, фашизм, пацифизм — обо всем этом мы говорили без конца. Опьянялись словами, причем всегда одними и теми же, такими, как «прогресс», «предназначение», «реализм», «пролетариат», «святая цель», «цель, подвергающая сомнению все прочие»…
Я тогда был счастлив и теперь этого не стыжусь. Счастлив. Впрочем, как и все остальные. Даже несчастливцы не были несчастны в том Берлине 1928 года.
Впрочем, точно ли счастлив? Конечно, я преувеличиваю. Скажем так: жизнерадостен. Мы развлекались и сами были забавны. Мы жили посреди разыгрываемого фарса. Тон задавали шансонье, юмористы, карикатуристы, а тех, кто не смеялся, остальные поднимали на смех.
Побежденная Германия производила такое впечатление, будто на ее территории можно позволить себе буквально все, кроме того, чтобы принимать ее всерьез. Там развенчивали идолов, демонтировали статуи, сдирали рясы с клириков, смеялись над всеми святынями, а чтобы было еще смешнее, обожествляли сам смех.
Мои друзья считали себя коммунистами или, по крайности, им сочувствовали. Они приняли меня в свой круг благодаря Бернарду Гауптману, автору эссе, заслуживших международную известность, и специалисту по средневековой поэзии, которого мой наставник Эфраим предупредил о моем приезде. Откуда они знали друг друга? Имели общих знакомых или какие-то объединявшие их воспоминания? Представить или даже допустить такое невозможно. Эфраим в своем лапсердаке и университетский преподаватель Гауптман в галстуке-бабочке рядом не смотрелись. Однако последний принял меня любезно:
— A-а, это вас дорогой Эфраим прислал к нам из Льянова? С приездом! В Берлине вы придетесь весьма кстати.
Он что, издевался надо мной? Как бы то ни было, он взял у меня чемодан и отнес в мою комнату.
— Входите, — пригласил он. — Чашечка скверного кофе, думаю, вам не повредит. А кусок хлеба с маслом тем более.
Кофе мы пили в гостиной. Гауптман, одетый с иголочки, словно собирался в оперный театр, осмотрел меня с ног до головы.
— Пейсы еще видны, вернее, след от них. Вы правильно сделали, что их убрали.
Я покраснел. В Бухаресте, прежде чем сесть в поезд, я отправился в привокзальную парикмахерскую.
— Какую желаете прическу?
— Современную… гм… очень современную…
Несколько раз щелкнули ножницы — и я уже не выглядел евреем. По крайней мере, правоверным. Я понимал, что отец меня не видит, но чувствовал себя провинившимся: я его обманывал. Но, папа, у меня же не было выбора. Мне нельзя было сходить с поезда в Берлине при пейсах, в лапсердаке и черной фетровой шляпе. Если я уезжал в изгнание, то не для того, чтобы проповедовать в немецкой столице, превознося прелести еврейского правоверия или углублять свои познания, штудируя рабби Шимона бар Йохая!
— Это настолько бросается в глаза? — смущенно спросил я.
— Да нет, — воскликнул Гауптман, — вы меня не так поняли. Ваши пейсы никто бы не увидел, но я их все же угадываю. Ах, да стоит ли об этом говорить, мой дорогой посланец из Льянова! Вскоре станет ясно, что в вас одержит верх: Берлин или Льянов.
Хитер, лукав и в высшей степени красноречив был Бернард Гауптман. С самого рождения он лелеял одну страсть: отвращать молодых религиозных евреев от их веры. На это уходили его состояние, время и умственные силы. В моем случае задача была относительно легко выполнимой, но муторной. Теоретически я охотно поддавался его марксистскому влиянию и атеистическим доводам, но практически продолжал стоять на своем. Результат вышел довольно своеобразным. Вечерами Гауптман водил меня послушать Хаима Варшавера, который громогласно расправлялся со Всемогущим, а наутро я надевал филактерии и молил Бога охранить меня от Нечистого, не дать иссякнуть моей жажде знаний и любви к истине, но прежде всего — восстановить священный вечный город Иерусалим в самом Иерусалиме.
Отчего такое раздвоение личности? Из уважения к Моисею? О нет! О Моисее я даже не думал, оставил его там, в древней пустыне. Но мне не хватало отца и матери. И какой-то тайный детский голосок мне нашептывал, что, ежели я перестану надевать филактерии, наказание за это настигнет их, а такого греха я не мог взять на душу. Конечно, Гауптман посмеивался надо мной и, если следовать чистой логике, имел на это все права. В его глазах я был воплощением человеческих слабостей, встающих препятствием между индивидом и его спасением: старые связи стесняли мою свободу, я был недостоин его дружбы. Потому я чувствовал себя вдвойне виноватым: и перед ним, и перед отцом. Трещина во мне росла и ширилась. Не выдержав дольше, я имел смелость пуститься в бегство. Я перебрался в мансарду, где смог в свое удовольствие молиться, напевая священные гимны, никому ничего не объясняя и не защищаясь.
Между тем Гауптман, цепкий, что твой жандарм, хотя от этого внешне еще более приветливый, хватки не ослаблял. Встречаясь со мной «У Блюма» или на вечерних дружеских посиделках, он меня поддразнивал. Вспоминается одна его маленькая реприза в кафе.
— Ну, как там господин Раббинер? Ты сегодня с ним говорил? Что он думает о теперешней ситуации? Обязательно держи нас в курсе.
Мне оставалось лишь смущенно пожимать плечами. Я уже назубок знал все его доводы относительно зловредного влияния религии, бесплодности устаревших обычаев, паралича традиционной нравственности, а также его воззрения на опасное воздействие на умы писаний наших пророков, мудрецов и праведников.
Нагнув голову, я наконец выдавил из себя:
— Предпочитаю это не обсуждать.
— Вы все слышали? Он предпочитает не обсуждать! И при этом называет себя марксистом! А как же диалектика? Ты когда-нибудь о ней слыхал?
— Хотел бы все же воздержаться от дискуссии, — упрямо повторил я.
— Ага, теперь ты хочешь увильнуть! Зажмуриваешь глаза и затыкаешь уши, не вынося противоречий? И при этом готов считать себя интеллектуалом? И симпатизировать коммунистической партии? На самом деле, Пальтиель, ты еще так и не распростился со Льяновом и его фанатичным, слепым и бескультурным еврейством! — Он не унимался: — Ну, сознайся, Пальтиель, признай, что ты еще не покинул Льянов, что ты еще ходишь утром и вечером в синагогу, обожаешь отсталых людей, верующих только в то, что обещает им чудо! Признай это и перестань ломать здесь комедию…
Тут он на секунду замер, переводя дыхание, и я смог вставить словцо.
— Тебе, Гауптман, не хватает понимания, — начал я сдавленным голосом. — И такта. Ты волен оскорблять Всевышнего и праотцев, но ты зря высмеиваешь их бедных адептов, которым те нужны, потому что от древних исходят толика тепла и капелька надежды. В чем ты их упрекаешь, Гауптман? Они в изгнании, несчастливы, не читали тех книг, на которых ты вырос. Они не ходили в те школы, где ты преподаешь, им не ведомо даже, что такие существуют. Разве в этом их вина? Почему ты издеваешься над ними, Гауптман?
— Ну, что я вам говорил? Он их обожает! — вскричал Гауптман. — Страстно любит! Да, поезд уехал из Льянова, но наш друг остался на платформе!
Эта шутка была встречена целым взрывом хохота. Действительно, как говорун и спорщик, Гауптман не имел себе равных. И на его стороне была вся компания, а у меня никогда не было союзников.
Впрочем, нет, тут я преувеличил.
— Придурки! Вы долго будете хихикать? Банда декадентствующих пьянчуг! Вам не стыдно? Куда подевалось ваше чувство локтя? Разучились быть товарищами, да?
Пораженный, я застыл и не сразу обрел дар речи. Так, значит, кто-то все же встал на мою защиту? Я поднял глаза: Инга, подруга Гауптмана. Наступила тишина.
— Одно из двух. Или Бог этих бедных евреев существует, и тогда они правильно делают, что обращаются к Нему в молитвах. Или же Его нет, и мы обязаны прежде всего пожалеть их, а потом просветить. Ведь они-то, они существуют! По какому праву вы их презираете? С каких пор марксисты начали плевать на человеческую природу?
Сидевшие вокруг стола недоверчиво поглядывали на нее, но присмирели. Попытка спорить с Ингой была рискованна: никому, кроме Бернарда Гауптмана, никогда не удавалось держать ее удары.
— Из тебя выйдет прекрасный талмудист, — атаковал ее Гауптман, пытаясь скрыть раздражение. — Если бы ты знала идиш, тебя бы можно было послать поработать в Льянове.
На этот раз стрела не попала в цель. Была ли та размолвка у них первой? Она станет, как впоследствии выяснилось, толчком к их разрыву и началу нового союза. Инга — мой первый костер, как говорят лицеисты. Так я открыл для себя любовь. И полюбил. Теперь она мне часто видится, когда вспоминаю о прошлом, и я всегда улыбаюсь. В ту пору ей было около тридцати или чуть меньше. Довольно красива… да что я! красивейшая из женщин! Это был удар молнии, ни больше ни меньше.
Почему она выбрала меня? Материнский инстинкт, желание защитить парнишку, которого терзала свора злых взрослых? Я был ей очень благодарен. Никогда я бы не осмелился за ней поухаживать: был слишком робок, чтобы проявить инициативу. Отказ, даже самый деликатный, меня бы уничтожил. Инга, должно быть, об этом догадалась. Она стала моим первым проводником в этом царстве, первым пристанищем, ангелом и демоном моего взросления. Очень образованная, решительная, но при всем том женственная, она наводила панику вокруг себя. Ее резких вспышек и болезненных, словно удар хлыста, ответных выпадов боялись все. Меня пленяли ее длинные темные волосы, большие, почти черные глаза, чувственные губы. Наблюдая за ней, я ощущал, что пускаюсь в путь по джунглям, где все разрешено.
Мне нравилось, с каким равнодушием, почти небрежностью она причесывалась и одевалась. Но никому бы и в голову не пришло ее за это осудить или, напротив, похвалить. Она не позволяла, чтобы ее оценивали. Желала свободы и была свободна. Я — тоже. С ней я разрешал себе такое, что в любом ином случае вызвало бы во мне самом настоящий бунт. Ей было достаточно взглянуть на меня, коснуться руки или лба, чтобы уничтожить все запреты. Если кому-то и удалось заставить меня позабыть о Льянове, так это ей.
Позже Гауптман признался, что его бывшая любовница ни больше ни меньше как выполняла партийное поручение. Ей велели содействовать моему политическому воспитанию, поскольку там, откровенно говоря, конь не валялся. Все это вполне возможно. Но любил бы я ее меньше, если б что-то такое знал? Факт тот, что я был без ума от нее даже тогда, когда она силилась втемяшить мне теории Энгельса и прочих деятелей. Думаю, что и она меня на свой манер любила. Ценила мою неопытность и невинность, полную неподготовленность к жизни. Ей нравилось заставлять меня что-либо делать в первый раз.
В первый раз…
Так, мы однажды шли с политсобрания, на котором Бернфельд с бородкой маленького старого грешника из кожи лез вон, защищая идею перманентной революции, что разрабатывал Троцкий, на которого, кстати, он был очень похож. Гауптман ему возражал. В зале — на втором этаже кафе «У Блюма» — атмосфера накалялась, как в цирке, когда кажется, что акробат вот-вот упадет и расквасит нос. Насилие витало в воздухе. Крики с места, перебивавшие друг друга возгласы, взаимные оскорбления — обе стороны были вне себя. Я же, гражданин следователь, да будет вам известно, аплодировал Гауптману. Но когда надо было орать, чтобы заглушить ответы Бернфельда, я тушевался; признаюсь, тут все дело в моей проклятой застенчивости, она мне мешала выполнять свой долг. Вместо того чтобы вопить во всю мочь вместе с остальными, я шептал, а мое возмущение выливалось в: «Нет, нет, довольно»…
К счастью, мои товарищи, целиком поглощенные спором, на меня не обращали внимания. Внезапно я почувствовал, что кто-то меня толкает локтем. Инга! С горящим лицом, взволнованная, наслаждающаяся стычкой, которую, казалось, она же и направляла, испепеляя противников, заставляя их уступать, разбивая в пух и прах…
— Громче, Пальтиель, громче! — приказала она.
— Я… я не могу.
— Ты как немой. Кричи, это приказ. Что угодно! Главное, чтобы был шум.
— Не могу, Инга, к большому сожалению, я…
— Ты должен! Кто молчит — саботажник!
— Не могу.
В приступе гнева она впилась пальцами мне в руку у плеча, сжала изо всех сил, словно желая причинить боль, но я даже не поморщился: то было нечто совсем непохожее на страдание, меня затопило какое-то сладостное и томительное чувство. Из-за этого вдобавок к моей растерянности я уже вовсе не мог выдавить из себя ни звука. Бернфельд пел хвалы Льву Давидовичу, Гауптман — Владимиру Ильичу, Инга — Гауптману. А я жалел, что покинул отчий дом, родителей, мой тихий провинциальный городок, где мужчины и женщины с ненавистью не набрасываются друг на друга, защищая чье-то слово или фамилию. Инга продолжала стискивать мне руку, а я задыхался, почти готовый потерять сознание. А потом ее ладонь соскользнула в мою, наши пальцы сплелись, и то, что я тогда испытал, гражданин следователь, уже не ваше дело. Мои пальцы касались центра Вселенной. Он стал мною, нами обоими. Меня пронзило, обожгло и приподняло страстное и успокоительное желание. А Инга тем временем, не переставая, вопила, меж тем как я все еще молчал. Мои товарищи и их друзья с пеной на губах спорили о том, по какому пути пойдет человеческий род, предсказывали в будущем реки крови, победу или смерть революции, а я чувствовал только собственное тело и пальцы Инги, на которую не осмеливался взглянуть из страха ее потерять. Тут-то, испугавшись этого, я превозмог стыд, подавил страсть и принялся орать, все громче и громче, как истый дикарь. Бернфельд так и не смог завершить свою речь, оставив поле битвы вместе с превозносимым им Троцким, а я в этот день нащупал связь, что может существовать между революцией и телом женщины.
С Гауптманом и всей кодлой мы отправились праздновать нашу победу в «Таверну горбуна», где нам наливали в кредит. Я хлебнул глоток вина — и на меня рухнул потолок.
— Это от перевозбуждения, — произнес кто-то над моей головой. — Его первый бой.
— Паренек еще ничего не повидал.
— Как ты себя чувствуешь? Тебе уже лучше?
— Слишком много эмоций, — предположил Гауптман.
— Мне нехорошо, — сказал я слабым голосом. — Я бы сейчас пошел к себе и лег.
— Я тебя провожу, — решила Инга.
Гауптман попробовал ее отговорить:
— Играешь в дочки-матери? Бедняжка, эта роль не по тебе.
Инга метнула на него такой презрительный взгляд, что он решил больше не подавать голоса. Я с трудом встал на ноги. Инга помогла мне дойти до входной двери. В лицо мне ударил свежий воздух, и я с наслаждением глотнул его.
— Идем? — спросила Инга.
Да, моя защитница была сильной, сильнее, чем я. О лучшей поддержке и мечтать не приходилось.
— Идем.
А что скажет моя консьержка? Храбрясь, я решил, что подумаю об этом потом. Пока же мне предстояло заняться чем-то более насущным. Опираясь на Ингу, с комом в горле я чувствовал собственное тело таким чужим, как никогда ранее. Глаза блуждали по опустевшим улицам, уши прислушивались к звуку наших шагов, ноздри купались в запахах, долетавших из уже закрытых ресторанов. Под нависшим серым небом я шел, переступая через кучки отбросов, и ощущал совершенно новый, упоительный страх оттого, что рядом было тело, которое тянуло и толкало меня, ранило мое собственное тело и одновременно помогало ему. Так что же скажет консьержка? А ну ее к дьяволу. Но вот Инга, что скажет она, если я попрошу ее остаться со мной? А что скажу я, если она согласится?
Моя консьержка ничего не сказала. Она спала. Весь дом спал. И улица, и квартал. Мы остановились перед парадным. Я достал ключ и заколебался: следует ли как ни в чем не бывало отпереть дверь и пригласить ее войти или пожелать ей спокойной ночи, попрощаться, мол, «до скорого»? Инга все решила за меня: взяла из моих пальцев ключ, вложила его в замочную скважину и повернула.
— Какой этаж? — шепнула она.
— Пятый.
Она хотела нажать на кнопку выключателя с таймером, чтобы при свете подняться на следующий этаж, но я ей не позволил: консьержка, а что скажет консьержка, если мы ее разбудим?
— Хорошо, хорошо. — Инга никогда не выходила из дому без спичек в кармане. — Давай поднимайся.
— Осторожно, осторожно, я пойду первым, тут ступеньки…
Перед дверью я остановился. Но и тут Инга взяла у меня ключ, вошла, нащупала выключатель и зажгла свет. Беспорядок, видимо, не слишком ее смутил. Она сняла с меня куртку, ремень, расстегнула рубашку и скомандовала без всякого стеснения:
— В кровать!
Я смотрел на нее, разинув рот. Что она говорит? Прямо так, в кровать, на ее глазах? Я, сын Гершона Коссовера, в чьей голове еще гудят заветы Всевышнего, некогда прозвучавшие на горе Синай, я должен лечь в постель в ее присутствии, и может быть… быть может…
— Тебе надо бы отдохнуть и выспаться, — пояснила она и принялась меня раздевать, быстро управившись с этим.
Растерянный, неловкий, я не понимал, что мне делать: следует ли протестовать или помочь ей, зажмуриться или смотреть на нее, молчать или говорить, обнять ее или отвернуться? Тысячи мыслей проносились в мозгу. А если, предположим, она останется, окажусь ли я на высоте? И потом еще глупый вопрос, такой идиотский и смешной, что просто выть хочется: как мне надеть филактерии, пока она в комнате или даже вдруг, да простят меня небеса, в кровати? Между тем я и так лежал уже в постели. Один, пока один. Инга что-то искала в уголке.
— Что-то не можешь найти?
— Электроплитку.
— У меня ее нет.
— Жалко. Завтра принесу. А тебе бы хорошо выпить горячего настоя. Или стакана молока.
— Я не хочу пить.
— Уверен?
— Уверен.
Она в последний раз внимательно оглядела комнату, кровать и сказала:
— Хорошо. В таком случае оставляю тебя спать.
Затем подошла к двери и погасила свет. Я боялся вздохнуть. Спать? Мне не хотелось спать. Я до боли страдал от разочарования: а я-то, что я вбил себе в голову? Да что я такое возомнил!
«Это все Льянов, — подумалось мне. — Гауптман прав: я там так и остался. Я все неправильно понял. Просто я идиот, деревенский дурачок. Имел смелость продемонстрировать ей свои желания, и только… Вот в чем ошибка! Мне следовало дать Инге понять, что ей надо остаться, переночевать здесь, что я себя плохо чувствую, что мне необходимо, чтобы она была рядом. Но я ведь не мог ожидать, что она падет так низко, чтобы отдаться, и кому, мне? Впрочем, слишком поздно. Инга уже ушла. Взяла и ушла. Ушла женщина, которая все во мне перевернула, да так, что больно…
Вернулась к Гауптману…
Однако странно: я не слышал, как хлопнула дверь… Впрочем, не так уж это странно… Инга! Ее рука во тьме… на моем лбу… Словно укус… Все это полный абсурд, но я неожиданно вспоминаю старого раввина из Дрогобыча. Ему-то что делать здесь, в Берлине? Последний раз я его видел еще ребенком, в гостях у его брата, в Белеве. Он, помню, спросил меня, как идут занятия, и благословил, положив обе руки мне на голову. Вот тогда-то я испытал то же обжигающее ощущение свежей ссадины. Инга, должно быть, встала на колени, ее лицо касается моего, наше дыхание смешивается…
Я болен, весь дрожу, лихорадка сейчас совсем меня одолеет… Старый раввин из Дрогобыча говорит со мной о Боге, но Бог молчит, молчу и я. Инга тоже молчит, и ее молчание наполняет меня. Боюсь вздрогнуть и вздохнуть, впрочем, дыхание перехватило. Ни легкие, ни губы не слушаются, Ингин рот намертво запечатал их. „Так вот что такое любовь! — проносится у меня в голове. — Мужчина и женщина любят друг друга в присутствии старого дрогобычского раввина, а ему хоть бы что. Двое слились в поцелуе, а пропасть в их жизни освещается сиянием. Они сплелись в одно — и тщета человеческая побеждена. Все так просто, так просто. Не нужно фраз, гигантских проектов, человечеству можно помочь совсем малыми силами…“ Другие, столь же наивные мысли бродят у меня в голове, пока Инга учит меня нежным, очень нежным поцелуям. А она такая ловкая, Инга, такая гибкая. Не отстраняясь, не останавливаясь ни на секунду, она стянула с себя блузку, юбку и все остальное — и вот она со мной в моей скрипучей кровати, на мне, подо мной, она меня ломает, разбивает вдребезги, заставляет окаменеть, чтобы лучше меня целовать, ее пальцы, губы, язык разжигают во мне тысячи костров, а я не знаю, что и делать, я ворочаюсь, копирую ее жесты, придумываю свои, темнота не мешает, я все вижу, вижу оба тела, сплетенных подчас до неразличимости, а потом вольно расплетенных… это битва? А что сказал бы раввин из Дрогобыча? И что скажет консьержка? Впрочем, к черту консьержку. И всех на свете вместе с ней! Я — одинок и свободен, один на один с Ингой, свободен, как она. Нас эта свобода объединяет, и ничто больше не в счет: мы едины в одном крике боли и страсти, в единой агонии освобождения. Я покинул один мир и очутился в другом, более просторном, объемлющем все мое существо. В мозгу рождается мысль: „Так, значит, это правда. Рай существует“».
Почему я подумал о рае? Потому ли, что в своей речи Гауптман вчера сказал (вчера, это было только вчера?), что Троцкий всячески изворачивается, пытаясь превратить рай в ад, в то время как следует делать совсем обратное? Да нет: Троцкий, Гауптман и их споры здесь совсем ни при чем. Рай мне вспомнился из-за Адама и Евы: все же я как-никак долго штудировал Талмуд и все к нему свожу. Только что я ощутил радость первого человека, узнавшего себя, познав свою жену.
— Почему ты улыбаешься? — спросила Ева, ах, простите, Инга.
— Вспомнил о нашем дедушке Адаме.
— Твоего деда звали Адам?
— И твоего, Инга, тоже.
Мне пришлось ей объяснить. Она приподнялась на локте и погладила меня по голове, будто ребенка, как приласкала бы собственного сына:
— Бедняжка Пальтиель, ты в это искренне веришь? Что до Библии, священной Библии, ты ее слишком долго читал. Теперь пора полистать и другие книги.
И прямо в кровати между двумя поцелуями она прочла мне ускоренный курс, затрагивавший учение Дарвина об эволюции видов, исторический материализм, историю зарождения Вселенной и мифологические основы религиозных учений. Я слушал, не шевелясь, слышал, что она говорила, но смысла сказанного не понимал. Значит, Бог — это измышление капиталистов? Авраам — крупный землевладелец, Моисей, Давид и Исаия — враги рабочего класса, то есть народа? Странное место и время было выбрано для того, чтобы привить мне научный подход к миру, усмехаясь про себя, подумал я. Но Инга научила меня и другому, причем гораздо успешнее. К счастью для меня.
Я заснул на рассвете в ее объятиях. Чуть позже я вскочил, словно ужаленный: как же мне надеть тфилин при ней? Я посмотрел на нее, и несказанный стыд обуял меня: только что я совершил грех, нарушил одну из заповедей, а теперь лицемерно буду замазывать содеянное с помощью филактерий? Я же недостоин их даже коснуться!
Между тем Инга спала, улыбаясь во сне. Кому? Чему? Может, она подсмеивалась надо мной? Я, конечно, уехал из Льянова, но этот город еще преследовал меня. Мне захотелось умыться, очиститься, причинить себе боль, забиться в норку, но Инга приоткрыла глаза и без слов притянула меня к себе. Мое тело напряглось от желания, я стал думать о другом, а потом уже ни о чем не думал.
Мы расстались около полудня. Едва она затворила за собой дверь, как я бросился к ящику стола, где хранились мои филактерии, развернув кожаные ремешки, надел их на лоб и левую руку и прочитал утренние молитвы. Я вздыхал от облегчения: легко отделался! А как я бы поступил, если б она решила остаться в кровати весь день? «Благодарю Тебя, Боже, — молился я, — спасибо, что позволил мне служить Тебе, не переставая любить Твоего отступника».
Впоследствии Инга наверняка заподозрила, что я изменяю ей с религией, поскольку частенько пыталась удержать меня подле себя или у нее дома и помешать оставаться в одиночестве, то есть наедине с Богом. Но она была слишком проницательна и умна, чтобы держать меня мертвой хваткой. Инга так устраивалась, чтобы у меня всегда оставалось время, час или два, однако часто приходила неожиданно, словно пыталась застать меня на месте преступления. Опасаясь такой неприятной возможности, я приспособился молиться все быстрее и быстрее. Я вел себя, как нашкодивший малыш, как преступник, скрывая от нее свою недозволенную связь. Будем же честными: я лгал на всех фронтах. Инге представлялось, что она склонила меня к верности идеалам коммунистической революции, а следовательно, и к атеизму, но она ошибалась. Притом именно потому, что я ее обманывал. Вы можете смеяться, гражданин следователь: я страстно любил эту женщину и обманывал ее с Богом, к которому охладел.
Но это уже другая история, и она не относится к вашему ведению.
Тем не менее Инге удалось повлиять на мою жизнь. Однажды ночью я сопровождал ее с группой товарищей в забегаловку у зоосада, где мы собрались дать бой нацистам. Нас было человек двадцать, их — в три раза больше. До тех пор я никогда не участвовал в уличных стычках. Я не создан для кулачного боя. Тщедушный, болезненный, не приспособленный к спортивным занятиям, а еще меньше — к ударам в челюсть, я считал себя скорее трусоватым и негодным к такого рода предприятиям. Однако чего не сделаешь ради любимой и любящей женщины?
И вот я оказался в гуще свалки. Но ненадолго. Уже через секунду меня выключили. Пришел в себя я на улице, прямо на мостовой, с громадным синяком под глазом, плюясь кровью, полуослепший, оглохший и едва живой. Приятели помогли Инге доставить меня домой. Она ухаживала за мной, была со мною нежна, меня любила… А вот на следующий день, надо признаться, я, совершенно выпотрошенный, забыл о своих молитвах. Не потому ли, что молодая женщина ни на минуту не отходила от меня целые сутки? А может, она и осталась, чтобы я наконец порвал с ее соперником? Так или иначе, о филактериях я вспомнил только через день. Слишком поздно, чтобы вернуться к прежним привычкам.
Таким образом, мой отказ от исполнения религиозных обрядов не стал результатом зрелого размышления, но произошел из-за случайной забывчивости, какую я никогда себе не прощу. Разорвать с Богом — понимаю. Но позабыть о Боге?
Впрочем, я не забыл. Я оставался к Нему привязан, надеясь, что Он не очень сердится на меня за то, что ночью я покидаю Его ради Инги. Мне нужны были Его наставления, само Его присутствие. Он же мог обойтись без моих молитв.
А что с филактериями? Они были припрятаны в укромном уголке.
«Йорам воспевал жизнь…»
— Йорам воспевал жизнь, — медленным монотонным голосом говорила Катя. — А лучше бы сказать: сама жизнь пела в нем и через него… Кстати, вот вопрос, на который ты бы мог мне ответить: немые поют? Хотя бы без слов? Вот Йорам — пел, и я вместе с ним. А если Бог есть — Он пел вместе с нами.
Катя встает и снова садится. Она слишком много говорит, но это нормально. Она же вдова, а вдовы говорливы. Иногда она останавливается перед окном, смотрит куда-то в ночь, и кажется, что обращается она не к нему, а к ночи. Нередко взгляд ее падает на дверь, и она замолкает: боится продолжать. Впрочем, и молчать ей тоже страшно. Ее лицо становится тогда растерянным и почти безумным.
Гриша же думает о матери, никогда не певшей, и об Ольге, певшей всегда. Мать, Ольга — это вчера. А что будет завтра?
— Во времена нашей молодости, в кибуце, мы пели в хоре, — сказала Катя. — Но я все время фальшивила. Все злились, кроме Йорама. Он меня любил и не обращал ни на что внимания. А парни ворчали. Они не понимали, почему мы не можем любить друг друга, не действуя им на нервы? Йорам отвечал: «Лучше любить чисто, а петь фальшиво, чем наоборот».
Ольга — его одноклассница. Белокурая, красивая девчонка. Она все время не давала покоя ни себе, ни тем, кто вокруг. И злилась, когда не получала, чего хотела. Вначале Гриша ее избегал, но постоянно с ней сталкивался. По дороге в школу, по дороге из школы, идя в магазин за покупками, когда мама просила, или за газетой. Ольга всегда оказывалась у него на пути. Маленькая стервочка просто забавлялась, проходу не давала. Однажды на улице около поломанной колонки она преградила ему путь:
— Могу поспорить, что ты никогда не целовал девчонку в губы?
— Девчонку? Целовал. Притом не одну. Так что ты со своей подначкой опоздала.
— И сколько же их набралось?
— Не было времени считать.
Руки в боки, вызывающе оглядывая его, она выпалила:
— Если ты целуешься так же слабо, как врешь, мне тебя жаль.
— Хочешь, покажу?
— Да где тебе!
— Так ты хочешь? Да или нет?
— Хочу.
Тут Гриша заколебался, ища лазейку.
— Ну, не здесь же.
— Трус!
— При всех? А как быть с твоим отцом, матерью? Что, если они увидят?
Ольга скривила губы, презрительно вскинула голову и не сказала, а как-то просипела:
— Ты мне противен.
— Дай пройти. — Гриша не осмелился ее отстранить. Он не знал, как ее оттолкнуть, не прикасаясь, как сделать так, чтобы, не дотронувшись, убрать ее с дороги. В глазах у него померкло, поджилки ослабли. Он не понимал, надо ли убежать или остаться, чтобы все это еще продлилось. Ольга, более зрелая, и уж конечно, более решительная, чем он, с оскорбительной жалостью махнула рукой и заключила, смиряясь:
— Ох, как же глупы эти мужики!
Она посторонилась. Он шагнул вперед, она последовала за ним. Молча они пошли вместе. Дойдя до Ольгиного дома, остановились.
— Не очень-то ты вежлив, — проронила она. — Открой мне дверь.
Он повиновался. Она вошла и окликнула его:
— А вторую?
Там была еще одна дверь, выходящая во двор. Гриша открыл и ее.
— Могу поспорить, что ты никогда не глядел женщине прямо в глаза, — усмехнулась Ольга.
Ответить на вызов бедняга не посмел. У него кружилась голова. В ней порхали видения, от которых он никак не мог избавиться: там доктор Мозлик и его мать разговаривали друг с другом, молчали, целовались.
— Оль, ты прости, мне надо домой. Меня ждут.
— Но только с одним условием: посмотри мне в глаза.
Не в силах дальше сопротивляться, он подчинился.
Его тут же словно током ударило, голова закружилась, в улыбке девочки было столько веселого озорства, исходивший от нее зов был так притягателен, что он чуть не потерял равновесие. Дабы устоять на ногах, Гриша крепко уцепился за нее и не отпускал.
— Ну, вот видишь! — со смехом отпрянула она. — Ты прямо упал в мои объятья.
Домой он вернулся, не чуя под собой ног и задыхаясь, словно после хорошей пробежки. Мать спросила, что с ним такое. Гриша, как всегда, ответил уклончиво. К тому же ему нелегко было бы признаться, что какая-то подружка вскружила ему голову. Он сердился на бесстыдницу, что она одержала над ним верх, унизила его. Продолжая на нее злиться, он неотрывно думал только о ней и не сомкнул глаз целую ночь. А потом вторую. И третью.
Поскольку они жили по соседству, то и в школу ходили вместе. Конечно, это получалось как-то ненароком. Великая любовь каждый раз рождается без повода, зато умирает по вполне определенной причине. У Гриши и Ольги все упиралось в их национальность, в разные культурные традиции и в боязнь антисемитизма: ведь она не была еврейкой. Гриша на это не обращал внимания, а вот его мать решила вмешаться:
— Сдается, ты частенько ходишь с Ольгой?
— Что ты имеешь в виду?
— Сам прекрасно понимаешь.
— Нет, не понимаю. Ольга учится со мной в одном классе, я ее вижу так же часто, как и других парней и девчонок.
Мать ушла на кухню, потом вернулась.
— Ольга — не для тебя, а ты — не для нее. Подумай, кто у тебя был отец, а кто у нее. Твой гордился, что стал поэтом, что рожден евреем, а ее родитель — прапраправнук Богдана Хмельницкого, славного тем, что устроил за каких-то три дня тринадцать погромов в девяти местечках. Ты это знал? Об этом подумал?
— Поздравляю, ты много чего знаешь. А происхождение твоего дружка, оно тебе известно так же досконально?
— Если будешь и дальше говорить в таком тоне, то лучше не надо, — оборвала Раиса.
Их отношения с каждым днем портились все больше и больше. Трудно было что-то объяснить, невозможно понять.
— Ну, как хочешь.
Гриша чувствовал себя рядом с ней не в своей тарелке. Прежде всего из-за Мозлика, занявшего отцовское место. Если Раиса и доктор не жили одним хозяйством, то только потому, что Гриша им мешал. Отсюда у него растущее ощущение недолюбленности, чувство, что он тут чужой, нежеланный. В их глазах он стал живым воплощением мертвого поэта, своего отца.
— У тебя что-то скверно на душе? — однажды спросила его Ольга, когда они выходили из школы.
— Да так, есть немного.
— А что такое?
— Ладно, пройдет, — при всем том его ответ прозвучал мрачновато.
Никогда он бы не признался Ольге, что творится между ним и матерью. А потому переменил тему:
— Если твой отец узнает, что мы… скажем, ходим вместе, он тебе так надает по шее…
— Он никогда не посмеет. Это вне закона. Советский закон не шутит с вырожденцами-взрослыми, которые бьют комсомольцев.
— Ну-у, вот антисемитизм тоже запрещен законом, — засомневался Гриша. — И однако… Правда, тут другое. Следует защищать слабые и беззащитные меньшинства, а евреев считают очень сильными, даже всемогущими.
Она прыснула:
— Нет, Гриша, серьезно, все это совершенно не важно. Одобрит ли это отец или нет, его проблема, не наша. А что — твоя национальность? Что ты беспокоишься? Мне нравится, что ты еврей. Если это разозлит отца, тем лучше: будем жить отдельно, как-нибудь справимся. Вот я борюсь за независимость, любя тебя.
Гришино происхождение ее ничуть не волновало. Получив коммунистическое воспитание, она признавала только классовые различия. Человек таких воззрений борется с дискриминацией — это хорошо. И в обществе, и в каждом отдельном человеке он искореняет безграмотность, суеверия, обскурантизм, фанатизм, религиозность — это еще лучше. Он борется с индивидуализмом во имя коллектива — просто прекрасно! В эти лозунги Ольга, как и ее приятели-комсомольцы, верила нерушимо.
— Как ты мне надоел со своим иудейством! — часто взбрыкивала она. — В чем оно выражается, в религии? Насколько я знаю, ты — неверующий. В расе? Ты, слава Богу, не расист. Это какая-то хворь? Ты хорошо себя чувствуешь. Или для тебя это предлог? Может, ты, парень, просто хочешь со мной порвать и ищешь оправдание?
— Что ты, Оля, совсем нет. Ты ошибаешься и по поводу меня, и рассуждая так об иудействе. Тут не повод, Оля, тут другое.
— Вот ты говоришь: «Другое, другое»… Но что? Культура? Ты ее не знаешь. Цивилизация? Ты в ней не жил. Философия? Ты ее не исповедуешь. Родина? Ты не живешь в Израиле.
До чего же Ольга упрямая! Как ей объяснить, что такое еврей?
— Скажем, так: для еврея то, что он еврей, это осознанное призвание, кредо.
— Ну, все это поэзия.
— Допустим, что для еврея быть им — занятие поэтическое.
— А ты что про это знаешь? Ты, случаем, не поэт?
— Я — нет. А вот мой отец был поэтом.
— Может, прочтешь мне какие-нибудь его стихи?
— Нет. Они на идише.
— Так ты бы перевел. Или слабо?
Он снова уступил ей. Однажды майским днем, сидя под деревом, он показал ей сборник Пальтиеля Коссовера. И прочитал:
Во сне я вижу проклятый день, и мне страшно. Вижу огненный закат, и меня душит жажда. Вижу погасшее солнце, и мне больно и холодно. Тогда я благословляю день и зарю превращаю в дар. Ведь я разожгу огонь на солнце искрой, взятой из своей души. (Перевод с идиша.)— Это твой отец написал? — спросила Ольга.
— Да.
— Он что, сумасшедший?
— Может быть.
Слушаю, как ветер подметает проглоченные ночью континенты. Слушаю, как ночь приносит мертворожденных младенцев. Слушаю молитву приговоренного к смерти, который больше не может молиться. Слушаю, как жизнь отступает от умирающего, оставляя его в одиночестве.— Это тоже твой отец? — спросила Ольга после долгого молчания.
— Весь сборник — его.
— Значит, он был такой одинокий и несчастный?
— Он был сумасшедший. И еврей.
Ольга больше ничего не спрашивала. Она взяла его руку и поднесла к губам. Ее жест Гриша никогда не забудет. После того дня она просила ей почитать и другие стихи. Она поняла их красоту. Слушала, закрыв глаза и сжав голову руками. Для каждого стихотворения находила несколько точных слов, полуироничных, полупрочувствованных, и это еще больше сближало ее и Гришу. Однако чтения прервались после того происшествия, что случилось в кабинете доктора Мозлика. Ольга увидела Гришу только две недели спустя, когда он был уже немой. Не зная, в чем дело, она снова попросила его почитать из Пальтиеля Коссовера. Гриша отрицательно помотал головой. Она захотела узнать причину его молчания, а он продолжал мотать головой. И в первый раз у нее на глазах выступили слезы.
— Я этого не заслужила, — произнесла она.
Как ей все объяснить? Как рассказать, что случилось? Гриша мог только трясти головой.
— Хорошо, — отступилась она. — До завтра. Встретимся в классе.
Но он больше не вернулся в школу. Все свободное время он стал проводить у Зупанова, ночного сторожа, испытывавшего странное тяготение к поэзии на языке идиш.
— А Йорам пел. Ты знаешь, почему он пел? — спросила Катя, с трудом выговаривая слова, словно они не слушались ее. — Сейчас объясню. Он пел потому, что его родители петь не могли. Они, видишь ли, прошли через лагеря. Йорам остался их единственным сыном. Им повезло: не пришлось оплакивать его смерть. Они умерли до него. Умерли, зная, что он счастлив. И унесли его счастье с собой.
Она замолчала: ей надо было остановиться, выкинуть Йорама из головы.
— Ну же, Гриша, — попросила она. — Идем со мной. Иди ко мне.
Но Гриша, все еще сражавшийся со своим прошлым, дал ей понять, что не может: не сегодня, нет.
И вдруг у него мелькнула сумасшедшая, бредовая мысль: что, если Катя права? Эта ночь ни на что не похожа, так почему ее не отметить особенным поступком? А если сказать: «Да, Катя, да, давай займемся любовью. Я сделаю тебе ребенка, который будет похож на меня, на моего отца»?
Бедный Йорам. Умер, не оставив наследника. Исчез целый род. «А если я умру, не продолжив рода? Это будет моя смерть, и смерть моего отца, и смерть его отца…»
Катя вмиг угадала, что его настроение изменилось. А она никогда не упускала шанса воспользоваться моментом. И шепнула:
— Иди ко мне.
Как обычно, она увлекла его в свою спальню, всегда неубранную, растянулась на кровати и стала ждать… А Гриша, когда в глазах помутилось от желания, сквозь пелену своего безумия вдруг вместо нее увидел Ольгу. Он знал, что не должен делать того, что случится, но поступал наперекор своей воле, назло всему. Страсть горячила его, глаза Кати были влажны, губы тоже.
— Иди же, — сказала Ольга.
И Гриша подчинился, он не мог иначе. Перед ним была юная девственница его грез, дочь судьи-антисемита, которую он так страстно желал. Вот он лег на обнаженное тело, не видя его, не чувствуя, думая только о той девушке из Краснограда, от которой каждое утро не отрывал взгляда, а сердце рвалось из груди, дыхание спирало, темнело в глазах и закипала кровь. Теперь он не слышит, как под ним удовлетворенно, радостно кудахчет Катя, он ничего не слышит, не отвечает, когда Катя тихо, робко спрашивает, счастлив ли он, нравится ли ему, бывает ли, чтобы в это время он разевал рот, или же то, что он не может выкрикнуть, как ему радостно, мешает почувствовать всю меру счастья? Он входит в нее так, будто его втягивает в себя то самое испепеленное солнце.
Завещание Пальтиеля Коссовера (Продолжение)
Безумные, беспечные годы, когда мир агонизировал, а главное, не желал ни о чем серьезно думать! Шел к концу Золотой век прекрасной и бурной Веймарской республики. Мы были бедны, нам не хватало «яств земных» (если позаимствовать название модного тогда романа), но что с того? Будущее нас манило, оно, мы думали, уже принадлежало нам. Родителям я писал: «Я более, чем когда-либо, убежден, что мы призваны спасти мир». Кто были эти «мы»? Отец мог бы подумать: мы, евреи. Я же считал: мы, молодые идеалисты, революционеры.
Берлин мотало туда-сюда среди слез и гримас, город танцевал на краю пропасти, шарахаясь от избытка удовольствий к избытку бедности, изъеденный бессмысленной гонкой за наслаждениями, не чувствуя за спиной дыхания страшного зверя. Что было худшим бедствием: ослепление свободных людей или слепота фанатиков? Мы отказывались строить планы и смотреть вокруг. Может, Бернард Гауптман потому и покончил с собой?
Инга и я уже жили тогда вместе, но продолжали его навещать. Он был нашим старшим товарищем, тем полюсом, к которому нас притягивало. Знакомые цеплялись за него, мы — тоже. Мы восхищались его незаурядным даром аналитика и его умом. Внешне наши отношения не изменились. Он не питал к нам ни раздражения, ни враждебности, не злился, что я увел у него Ингу, не пенял ей за то, что она от него ушла. На нас он поглядывал довольно благожелательно и чуть насмешливо.
У него, как мы знали, случались новые романы, однако ни одна связь не делала его счастливым. Он все больше рассуждал и меньше развлекался. Курсы лекций, студенты, приятели, публичные выступления, уличные стычки с нацистами — все это без него не обходилось. Он считал долгом принимать участие во всех наших выступлениях, даже самых незначительных, лишь бы было чем заполнить дни: он опасался одиночества.
Признаться, в его присутствии я чувствовал себя не в своей тарелке. Повторяю, он на меня не злился, но ведь я его предал. Сколько Инга ни повторяла, что первый шаг сделала она сама, что вся ответственность — на ней, но я-то считал себя виновным. И чем большую душевную щедрость выказывал Гауптман, тем сильнее это меня смущало, хотя от этого я еще настойчивее искал с ним встреч. Что это, мазохизм? Желание загладить, искупить вину? Я еще не до конца освободился от пуританских побуждений и запретов, от наследия Льянова.
Однако именно Берлин был благословенным местом для разрешения от подобных пут. Столица без конца бурлила и пенилась, напоминая библейские города, почитаемые скопищем пороков. Талмудист во мне краснел и отводил взгляд. Проституция, порнография, разброд в умах и чувствах, сексуальные извращения и много чего еще. Город заголялся, красился, не стесняясь, шел на любые унижения, выдавая дегенеративность за новую идеологию.
В нескольких шагах от кафе «У Блюма», в частном клубе, мужчины и женщины или женщины друг с другом танцевали без одежд. В иных местах принимали наркотики, лупили себя плетьми, ползали в грязи, ничего не стесняясь. Все это мне напоминало нравы сподвижников Шабтая Цви. Тут отвергали все ценности, попирали все табу. Может, люди уже чувствовали, что надвигается гроза? Прежде чем погрузиться в полный мрак, они пожелали выпустить на волю все свои призрачные грезы?
Наша группа держалась в стороне от всего этого. Будучи более дисциплинированными, мы преследовали иные цели. Социальная заданность нас спасала от разврата и бунта. Наш опыт диктовал иное поведение: мы соглашались экспериментировать только с идеями, разоблачать их, но сохранять уважение к тем, кто их защищает. У нас все начиналось и завершалось словом.
Тут обсуждали последнее выступление Тухольского, недавнюю пьесу Брехта, постановки Станиславского и Вахтангова, новую экономическую политику московских властей, то, куда идет революция. Нацисты? О них мы упоминали, как о болезни, неприятной, не слишком опасной и, уж само собой, не смертельной. Мы говорили друг другу: в каждом обществе множество отбросов, в нашем их не меньше. Однажды их вышвырнут на помойку Истории. Угрозы и разглагольствования их смеху подобного фюрера вместе с непристойным бредом какого-нибудь Геббельса или Геринга нас даже не злили. Мы думали: полают, полают и устанут. Это секта маргиналов, заявлял Гауптман. У них нет ни образования, ни поддержки в массах, они не могут влиять на ход событий. Нельзя изменить историю с помощью антисемитских речей, добавлял он. Бороться с ними — это придавать им слишком большое значение, много чести для них. Лучше не считать их своими противниками. Настоящие противники — те, кто к нам ближе. Рабочие-синдикалисты, социалисты, социал-демократы. А нацисты — это только чей-то отвлекающий маневр.
В этом вопросе противоположное мнение отстаивал эссеист по имени фон Трауб, чьей специальностью были Майстер Экхарт и Гегель. Высокий, тощий (как говорится, длинный, словно день голодовки в тюрьме), этот соратник Пауля Хамбургера из Вены своим надтреснутым, срывающимся голосом убеждал нас, что нацизм возвещает закат цивилизации, морали и свободы, что его надо раздавить, пока он еще только зарождается, иначе будет слишком поздно.
Чтобы быть честным, должен признать, что моя позиция делала меня сторонником Гауптмана. Предупреждения фон Трауба уходили в песок. Нацисты для меня оставались подонками общества, негодяями, которым нужно было кого-то ненавидеть, чтобы жить. У нас дома таких называли погромщиками, здесь — нацистами. Все одно и то же. Садисты — да. Тошнотворные субъекты — бесспорно. И жаждавшие большой крови, способные на все. Но ожидать увидеть их у власти? Вот этих самых? Да никогда в жизни! Нельзя и подумать. Это бы значило недооценивать умственные способности немецкого народа, его культуру, немецкий рационализм и здравый смысл, немецкий вклад в духовное развитие человечества.
Факты, казалось, подтверждали нашу правоту. На выборах 1928 года нацистская партия набрала только восемьсот тысяч голосов. Жалкий и утешительный результат. Браво, Веймар. Браво, Германия. Нацистам расквасили морду.
Особенно в Берлине. В противоположность Льянову или Бухаресту, в Берлине, как представлялось, верховодили евреи. Такие, как я, или, вернее, как Гауптман. Газеты и издательства, театры и банки, большие магазины и литературные салоны — все это было их вотчиной. Французские антисемиты, которым евреи чудились везде, были правы… по крайней мере, в том, что касалось Германии. Научная жизнь, медицина, искусство — везде задавали тон евреи.
Какая разница с Льяновом! Там, чтобы жить или выжить, евреям надо было прятаться, равно скрывать и малые, и выдающиеся таланты. Не желая умереть, приходилось прикидываться мертвыми. Еврей-министр, университетский профессор или шеф влиятельной редакции? О таком нельзя было и подумать. Чтобы занять какое-то место в политической жизни или в искусстве, еврей должен был прежде всего отказаться от своих корней, от родни и даже отрицать сам факт своего дурного происхождения. Поступающего в консерваторию или в Академию художеств вынуждали представить свидетельство о крещении. Не то в Берлине. Там евреи уже стали частью пейзажа. Придавали ему цвет и культурную фактуру. Можно было вполне вообразить Берлин без нацистов, а вот без евреев — едва ли.
Это все утверждал Гауптман, а я его поддерживал. Вспоминаю его хладнокровные рассуждения и тот эффект, который они производили на Трауба: друг Пауля Хамбургера начинал вопить, как одержимый. Вспыхивали бурные дискуссии, затрагивавшие все современные темы. Пацифизм или война? Патриотизм или интернационализм? Откуда придет спасение? Официальные коммунисты защищали часто меняющийся курс Москвы, их более осторожные и проницательные друзья поглядывали в сторону Парижа. Гауптман равнялся на Москву. Инга тоже. А я — нет. Не хотел принадлежать ни к какой партии. Коммунизму я симпатизировал из-за Эфраима, а еще из-за Инги. Вот если бы Инга решила агитировать за Мессию, я пошел бы за ней не задумываясь.
Гауптман воплощал типаж верного несгибаемого коммуниста, он знавал Курта Эйснера, Эрнста Толлера времен красной Баварской республики, в создании которой принимал участие. Как он спасся при ее разгроме? Укрылся у рабочих, прятавших его в самые опасные месяцы. «Массы мне доверяли, — часто повторял он, — потому, что я был прав». В это он верил всегда: массы, массы — то была его религия. Он, элегантный интеллектуал, чувствовал себя в полнейшем согласии с некими безличными и аморфными массами, он ловил их зовы и считал, что выполняет свое высшее предназначение, служа им. Когда он произносил слово «массы», его голос становился серьезным и торжественным.
А Инга? Она была столь же ревностная коммунистка, как Гауптман. Готовая пожертвовать собой ради партии и революции. Гауптман еще мог говорить о партии достаточно вольно, а она — никогда.
С ними мы, мои приятели и я, ходили на всякие публичные сборища, где ораторы излагали факты, обучали, обличали, повергали в прах, выдвигали требования и выносили приговоры, как то диктовала злоба дня. Я любил разглядывать толпу, растворяться в ней. Любил доверчивый и собранный вид представителей этих «масс», мне нравился их обычай внимать, подняв кулак вверх, заповедям коммунистического толка. Мне импонировали чувства братства, общности судьбы, которые они испытывали. Одним словом, я им завидовал.
Иногда я спрашивал Ингу, а не вступить ли и мне в партию? Она пока не советовала. Подожди, говорила она. Ты еще не созрел. Я интересовался, сколько же ждать? Еще не время, решительно отрезала она. А когда Инга упрямилась, возражать было бессмысленно.
Быть может, она не ошибалась? Я все еще чувствовал живую связь с родителями, с Льяновом. Я отошел от обрядов религии предков, но мне их не хватало. Случалось, по субботам я напевал какой-нибудь хасидский мотив, а под вечер вспоминал ту или иную старую притчу. По утрам я нередко обращался к кому-нибудь из персонажей святых книг, делясь с ним моими заботами или охватившей меня растерянностью. И от Инги это не укрылось.
Внешне я жил как коммунист, но только внешне. Инга мне об этом часто напоминала.
— Ты — не настоящий коммунист, то есть еще не вполне.
— Это чистая правда. Я слишком много думал о Мессии. Некоторые его ждут. А вот коммунист бежит ему навстречу. Ты помогаешь мне бежать.
От таких слов она выходила из себя. Для нее Мессия был чем-то вроде раввина, а раввинов она презирала почти так же, как кюре.
— Вот видишь, — нервно вскидывалась она, — ты еще не готов.
— Потому что поминаю Мессию? А тебе известно, что существует целая традиция, в которой говорится о непредсказуемом явлении этого посланника свыше. Спаситель возникнет неожиданно в момент, когда его меньше всего ждут.
— Я не люблю ни такого рода сюрпризов, ни таких избавлений от напастей. Коммунизм — это нечто иное. Он учит действовать здесь и сейчас, готовить революционные потрясения, в корне менять жизнь не магическими формулами, но работой и политическими акциями. Тебе предстоит еще многому научиться.
Стараясь ей понравиться, я напряженно работал. Деньги, которые посылал отец, чтобы мне хватило на жизнь и на плату за «обучение», я делил с партией, вернее, с некоторыми из ее членов. А точнее — я помогал продержаться нуждающимся приятелям и товарищам. Если у меня еще что-то оставалось, а это бывало нечасто, я все отдавал Инге, а она передавала Гауптману, который делал взнос в специальную кассу.
Приближались выборы 1932 года. Эта избирательная кампания стала моим личным делом, словно я считал, что от нее зависит мое будущее. Я почти не спал. Писал статьи и выпускал листовки на идише, затем Инга помогала мне переводить их на немецкий. Я бегал с одного собрания на другое, с демонстрации на демонстрацию, я кричал с дорогими сердцу Гауптмана массами, маршировал с ними, дрался ради них, сначала с помощью лозунгов, а потом и кулаками, ходил во главе их шествий с красным флагом в руках, неся его так же трепетно, но решительно, как мой отец в Льянове — священные свитки.
Я ждал решительной победы, Инга — тоже. Как и Гауптман. Между тем Гауптман переменился. Похудел: его пожирал какой-то тайный огонь. Может, он сомневался в результате? Он не жалел себя, как и все мы, но по мере приближения выборов что-то все более и более беспокоило его.
Однажды, когда мы направлялись на одну из демонстраций в предместье, я тревожно спросил его:
— Что с тобой творится, Бернард? Ты явно не в своей тарелке.
— Я устал, вот и все. Заработался.
— Ну, еще несколько дней, и ты сможешь отдохнуть.
— Через несколько дней только и начнется настоящая работа.
— Что ты имеешь в виду, Бернард?
— Мы одержим победу, народ возьмет верх — и вот тут-то нам придется взять на себя ответственность за все это, — улыбаясь, объяснил он.
Если он и сомневался, то лишь в своей готовности принять власть, поскольку был уверен, что массы потребуют от него этого. Мы разделяли его веру в предопределенность исхода. Ведь мы вели искреннюю борьбу ради торжества народа, во имя сражающегося рабочего класса, и наша победа была неизбежна. Сама история хотела этого, а мы покорялись ее велениям.
Конечно, в высших сферах партии обсуждались коалиции и союзы с другими партиями, исключая нацистов. Но для нас все было проще: мы замечали лишь контуры пейзажа, который избиратели нарисуют своими бюллетенями. Бедняки, безработные, люди без пристанища — их считали на миллионы. Они-то не могли нас не избрать: мы говорили от их имени, провозглашали их право на достоинство, сражались, чтобы помочь всем голодающим и жаждущим сочувствия.
Помню, какую речь произнес Гауптман накануне голосования: «Перед тем как опустить бюллетень, задумайся. Остановись, рабочий! И ты, жена рабочего! Просто подумайте. На секунду помедлите и мысленно спросите себя, что вы предпочитаете: стыд и милостыню или добросовестно заработанную плату, ненависть или солидарность? Подари мне эту секунду, товарищ, прежде чем сделать выбор, который определит твое будущее…»
Инга же тогда сказала вот что: «Мои родители богаты, их друзья тоже. Они никогда и мизинцем не пошевелили, чтобы заработать себе на кусок хлеба. На них работали другие. Я ушла от них, а знаете почему? Чтобы порвать цепи зла и помочь выковать рабочее братство… Товарищи, я предпочитаю своим родителям вас…»
А я аплодировал, аплодировал до потери дыхания. Мой немецкий оставлял желать лучшего, я почти им не владел, а потому никогда не брал слова. Тем не менее однажды я все-таки произнес речь, но на идише — перед группой… сионистов. Не знаю, почему эти люди меня освистали: из-за моего языка или политических идей. Они-то ждали выступления по-немецки. Я спасся бегством и выслушал издевательский комментарий Инги.
— Ну… это был настоящий триумф… сионистской идеи!
Пришел день выборов. Проведя бессонную ночь и с самого утра устроившись в кафе «У Блюма», мы чашку за чашкой глотали черный кофе, ожидая первых новостей. Гауптман регулярно уходил туда, где заседала его партия, и возвращался, отрицательно качая головой: слишком рано, чтобы сделать выводы! Тянулись часы. Инге не сиделось на месте, она отправилась за новостями в редакцию «Вельтбюне», где у нее имелся знакомый политкомментатор, — никаких известий. Она забежала в «Романише кафе», что на Будапештштрассе, и вернулась, задыхаясь, совершенно вне себя: первые результаты показывают удивительный рост голосов за нацистов… Гауптман поднял руку, умеряя нашу панику: тот квартал обработан Геббельсом, это ничего еще не доказывает…
Однако после второй бессонной ночи мы уже имели все резоны паниковать: налицо был гигантский всплеск популярности гитлеровцев. Цифры карабкались вверх. Всего за два года их фюрер набрал шесть миллионов голосов.
Инга уже не сдерживалась: всхлипывала, не останавливаясь. Гауптман приобнял ее рукой за плечи — и, странное дело, именно этот жест меня потряс больше, чем слезы моей подруги. Может, он все еще ее любил? Может, мне не надо было их разлучать? Вместе они — чего только не бывает! — одержали бы победу… Ко мне вернулись старые мои льяновские наваждения, ощущение, что это я виноват во всем. К счастью, никто на меня не обращал внимания.
По непонятной мне причине Инга предпочла не возвращаться домой со мною, она уехала отдохнуть к своим родителям, на их виллу под сенью лип.
Таким образом, прощаясь, каждый из нас троих ушел из кафе в одиночестве.
Наша группа больше никогда не обрела былого единства. На следующий день мы возвратились в кафе «У Блюма», вели себя, как обычно, но сердце отныне ко всему этому не лежало. Мы уже ощущали тяготевшее над нами проклятье, предчувствовали, что однажды оно обрушится на каждого из нас и пощады не будет.
Инга от меня съехала. Она заняла одну из комнат в квартире актрисы, игравшей в Театре Рейнхардта. Она меня разлюбила. По крайней мере, именно это пришло мне в голову, я ей так и сказал. Она ограничилась фразой, что наступили времена, когда у нас больше нет права на любовь. Я на это вынужден был ответить:
— Да нам теперь только и остается, что любить друг друга.
Бернард же, совершенно выбитый из колеи, говорил все меньше и меньше. Я его спросил:
— А как же быть с массами? С их мудростью, с их благодарностью… куда все это подевалось? Объясни, как шесть миллионов беднейших из бедных нашли причину проголосовать за еще большую бедность и тягчайший стыд? Объясни, Бернард, почему всякая шелупонь победила приличных и рассудительных людей?
Гауптман посмотрел на меня и промолчал. Ему нечего было ответить, он понимал не больше моего.
Настал вечер сулящего грядущие бедствия Нового года. Приятельница Гауптмана из богатой буржуазной среды предложила нам свой дом, чтобы вместе провести там праздничную ночь. Но собственно, что и как нам было праздновать? Понимали ли мы, что последний раз собираемся вместе? Мы пили, чокались, изображали бурное веселье. Громкий смех, еще более громкие поцелуи, фальшивый задор, бодрые песенки, обещания любви и верности: перед тем как сойти со сцены, актеры хотели доиграть все роли. Кто-то потребовал, чтобы Гауптман произнес тост. Он поднял бокал и глухо возгласил:
— За поражение!
Все ошеломленно застыли, и никто не отозвался. Инга, готовая разрыдаться, умоляюще поглядела на него, ожидая еще какой-нибудь фразы, хотя бы слова надежды. Гауптман улыбнулся ей, потом с той же улыбкой поглядел на каждого из присутствующих и поставил бокал на стол, так к нему и не притронувшись.
В ту же ночь он пустил себе пулю в висок.
Никогда бы не подумал, что однажды я буду счастлив и горд снова считаться подданным его величества государя Великой Румынии. Но это произошло. Впрочем, я, конечно, преувеличиваю. Однако это подданство оказалось до странности полезным. Благодаря румынскому паспорту (все еще действительному, хотя взаимоотношения с армией я еще не уладил) я смог покинуть Третий рейх без затруднений.
Мои немецкие друзья сумели бы отправиться вместе или вслед за мной. На дворе стоял 1934 год, а за границами надзирали так небрежно, что все евреи могли бы уехать из страны: полиция даже тихонько побуждала их к этому.
Сколько раз я пытался уговорить Ингу или Трауба бросить все, уехать и обосноваться в Праге, Вене или Париже, да где угодно… Это вызывало лишь жаркие споры и ни к чему не приводило. Каждый оставался при своем убеждении.
Инга упорно считала, что ее долг — продолжать жить именно в Берлине. Партии требовались все живые силы бойцов и сочувствующих. Нацистский режим долго не продержится, надо оставаться на своих местах и бороться с ним.
Трауб отвечал, что причина поражения чисто мистического свойства. Ибо победа нацистов объясняется не политическими или экономическими обстоятельствами, но причинами сугубо нематериальными. Гитлер воплощает в себе страсть к сильной руке и владычеству, глубоко коренящуюся в немецкой народной душе. Гитлер, вероятно, — это еще не вся Германия, но сейчас вся Германия — это Гитлер. Надо быть слепцом, чтобы этого не видеть. Вывод: нацистский режим надолго. Его хватит на жизнь целого поколения.
Зрящий в корень, ни на что не надеющийся Трауб тем не менее отказывался уезжать. Париж, Вена, Прага? Но его приятели, родные и близкие еще в Берлине. А потом, несмотря на громкие словеса, оскорбления и публичные унижения, отмечавшие начало гитлеровской эры, евреи еще могли жить в своем кругу, как и раньше, если не лучше. Бойкотируемые христианами, они возвратились к собственной сути. В результате — беспрецедентное развитие культурной активности, какого еще не знало немецкое еврейство. Немалое число единоверцев, вынужденных отказаться от всех попыток ассимиляции, стало посещать семинарии и вечерние школы, чтобы понять, кто они такие, — вот вполне достаточная причина, чтобы не уезжать из Германии.
Стоит ли сейчас об этом упоминать? Позже, гораздо позже я узнал, что мой отец Гершон Коссовер, да будет благословенно имя его, столкнулся с той же проблемой в городе Льянове. Друзья предложили ему укрыться в Бухаресте, а оттуда, приплатив, он мог бы добраться до Палестины. Но никак не решался. Он говорил об этом с моей матерью, с дочками, соседями и друзьями… Следует ли оставить общину на произвол судьбы? Или надо остаться и страдать, дожидаясь, что будет? Его долг еврея, его человеческие обязанности требуют чего? Выбрать нечто неопределенное и неизведанное? Мама считала, что следует продать дом, покончить с делами и бежать. Отец упрекал ее, что она думает только о своей семье. Они и остались. Полагаю, вам понятно, что было дальше.
Накануне моего отъезда у нас с Ингой произошел последний разговор. Инга собирала мой чемодан, я же умолял ее заняться своим. У нее не было, на мой взгляд, ни одной стоящей причины задерживаться. Родители? Они уже ищут покупателя на свой большой магазин и роскошные апартаменты. У них остались торговые связи в Англии, и они рассчитывают направиться туда. Ее друзья и товарищи? Кто не убежал и не сидит по тюрьмам, того не видно и не слышно. Партия на распутье, работает спустя рукава или вовсе никак. Может, Инга связана с каким-нибудь подпольем? По крайней мере, она на это намекает:
— У меня здесь есть работенка.
— Для тебя всегда найдется работенка. И здесь, и во Франции. Одна и та же.
— Нет, там все другое… — И она сменила тему.
Не стала уточнять, чем, собственно, будет заниматься, да, впрочем, это и не было нужно. Важно, что я понял намек, хотя и не считал стоящими причины, что ее удерживают.
Нас всех угнетало воспоминание о нашей неудаче. Мы не преуспели ни в чем, ни как бойцы, ни как друзья, ни как личности. После самоубийства Бернарда Гауптмана мы отдалились друг от друга. Ежедневно встречались, но вместе не жили. Нас преследовала тень нашего друга, его улыбка, в которой чувствовалась издевка. Мы избегали об этом говорить, но ничего не менялось: он стоял между нами. Воспоминания о нем мешали нам, как угрызения совести.
Вот и в тот вечер наши мысли возвращались к нему. Зачем ему было убивать себя? Из боязни нового года или из омерзения к прошедшему? Трауб считал, что идея самоубийства искушала Бернарда, причем давно. Гауптман часто цитировал Сенеку и его хвалу добровольному уходу из жизни: мудрый живет не сколько сможет, а сколько должен. Бернард боялся старости, бессилия, разложения. Инга, напротив, заявляла, что поступок Гауптмана адресован человечеству, а не себе самому. Он свел счеты с жизнью, потому что считал, что нас ждут вырождение и смерть человека как вида.
Тут мне померещилась новая причина: Инга хочет остаться в Германии не из-за партии, а из-за Гауптмана. Я прямо так у нее и спросил:
— Может, тебя здесь держит Бернард?
— Не совсем.
— Инга, когда ты говоришь «не совсем», это обычно означает «да».
— А вот сейчас не так. Это может означать «нет».
В первый и последний раз мы заговорили о нашем мертвом друге открыто, честно, пытаясь выяснить, как это связано с нами. Мы что, плохо с ним поступили? Виноваты ли мы в его отчаянии, а значит, и в смерти? Несмотря на утверждения Трауба, самоубийство Гауптмана как-то не вяжется с его воззрениями на человеческий удел, на революционный интеллект, оно несовместимо с жесткой, логичной строгостью его мысли, способной сопротивляться порывам страсти и наваждениям бессознательного. Он так бесстрашно умел не только давать отпор всяческому нытью, но и утилизировать любые пессимистические соображения относительно природы и общества, включая их в фундамент собственной оптимистической системы ценностей! Гауптман самоубийца? На него непохоже. Так что же случилось? Чему приписать этот поступок, опровергающий всю его предыдущую жизнь? Нашей связи и любви? Я был склонен в это поверить, Инга — нет. Она склонялась к тому упрощенному объяснению, что напрашивалось само собой: разочарование выборами, предательство «масс», потеря иллюзий — вот на что он отреагировал столь радикально. Так он хотел сказать немецкому народу: «Вы мне надоели! Решили станцевать с дьяволом? Развлекайтесь дальше без меня!»
Тот вопрос остался открытым, он смущает меня даже теперь, в этой камере, где все кажется более далеким и более близким. А некоторые мертвецы — живее, чем при жизни. Гауптман из таких.
Почему умный, энергичный, творческий человек однажды вечером пускает себе пулю в висок? К чему такой выбор, зачарованность саморазрушительным насилием? К чему такой однозначный и неотвратимый отказ жить? Чтобы не страдать, не унижаться? Чтобы наказать оставшихся в живых? Сделать их виновными в твоей смерти? Почему бы такому человеку, как я, арестованному ни за что, уже не имеющему, что терять, почему бы ему не прельститься этим решением? Между тем я и мысли о таком не допускал. Как это объяснить? Я ведь мог бы, подобно Аттикусу, близкому другу Цицерона, отказаться есть и умереть в одиночестве от голода, обойдясь без помощи палача. Почему я избежал искушения? Потому что у меня есть жена, которая… Нет, не будем говорить о Раисе, гражданин следователь, не она связывает меня с жизнью, а мой сын Гриша. Смогу ли я когда-нибудь его увидеть? Поговорю ли с ним о моем отце, чье имя он носит? Кто это, мой сын или мой родитель, запрещает мне стать собственным палачом? Подчас во время допросов, мягко говоря, тяжелых, мне приходилось желать смерти. Но никогда я не согласился бы сам ее ускорить. Убить себя — это прежде всего — убить. А я даже в подсознании не желал служить смерти.
В том же последнем разговоре между Ингой и мной мы так ни к чему и не пришли. Инга вела себя очень сдержанно, ей, как она сказала, опостылело лузгать слова, будто семечки, которые, стоит за них взяться, оказываются пустой шелухой. Вместо этого она объявила, что намерена провести эту ночь у меня. Я был доволен. Думаю, я не переставал любить ее. Она показалась мне красивее прежнего: меланхоличный настрой и сдержанность делали ее еще соблазнительнее. Я начал раздеваться, она же отвернулась.
— Ты не хочешь?
Нет, она не хотела. Она предпочла вытянуться на кровати в одежде. Что ж, я сделал, как она. В молчании мы созерцали ночную мглу. Казалось, мы не одни: в комнате мерещились еще люди, голоса. Отец просил меня захватить тфилин, мать — позаботиться о здоровье, Эфраим тихо усмехался, Блюм требовал семьдесят марок, каковые я уже три месяца был ему должен, Бернард объяснял мне, что с философской точки зрения история означает движение, а значит… «Значит что?» — переспросил кто-то. Но ответа я не услышал: задремал. А Инга, замерев в неподвижности, всю ночь не смыкала глаз. О чем она думала? Не знаю. И не узнаю никогда. Мой поезд уходил только вечером. Инга, занятая неизвестно чем, предполагаю, каким-то подпольным поручением, решила попрощаться со мной прямо утром. Так было даже лучше. Стоя перед дверью, мы расцеловались. Я снова предложил:
— Поезжай во Францию. Там ты принесешь больше пользы, чем здесь.
Казалось, она не слышала. Я настаивал:
— Если ты перерешишь и все-таки приедешь, то знаешь, как меня найти?
Она смотрела на меня невидящими глазами.
— Инга, ты сможешь узнать?
— Наши товарищи узнают, — бесстрастно прозвучал ее ответ.
Инга принадлежала уже не этому миру, она была ближе к мертвому Бернарду Гауптману, чем ко мне. Повернулась на каблуках и ушла не оглянувшись.
А я, вспоминая ее первый визит в эту самую комнату, ощущал почти физически, как отрывается кусок меня. Хотелось кричать, выть. Побежать за Ингой, заставить ее вернуться, поехать со мной, жить со мной, просто жить. Может, если ее хорошенько встряхнуть, показать, как сильно я ее люблю, она уступит? Но я не мог сдвинуться с места. Кости брошены, отменить ничего нельзя, Инга останется в Берлине, а я нырну в фантастически нереальную отсюда парижскую жизнь. Я уговариваю себя: «Инга еще приедет, ты ее увидишь!..»; рано или поздно они все окажутся там: Траубы, Блюмы, их приятели, либералы и анархисты, евреи и коммунисты… Им станет душно здесь, и они рванут на свободу… Напрасные детские надежды, в глубине души я уже тогда это понимал. Инга останется в Берлине. В Берлине умрет. А я стану жить в иных местах, влюблюсь в другую женщину, но все будет уже не так. Страница переворачивается, Инга. Ты открыла для меня любовь, спасибо тебе. Ты приобщила меня к политической борьбе, спасибо. С тобою связаны моя былая радость и былое страдание, спасибо тебе, Инга.
Последний день в Берлине. Прощальные визиты. Я погашаю свой долг в кафе «У Блюма». Последняя беседа с Траубом, который настаивает, что угостит меня кофе. Последнее письмо родителям. В следующий раз, отец, если Богу угодно, я напишу тебе из Парижа. Конечно, если Ему это угодно. И будь спокоен, отец. Твой сын непременно возьмет с собой филактерии.
Последняя прогулка. Сверкающий апрельский день. Улицы оживлены, на них полно народу. Много коричневых, серых и черных мундиров. Кругом свастики. Веселые лица. Город — в мире с собой. Гитлер во всех витринах — народ им любуется с откровенным тщеславием, с нескрываемой гордостью и любовью. Бедняга Бернард Гауптман: массы иногда делают глупости, но разве из-за этого стоит кончать с собой? Бедняжка Инга: этот народ тебя отверг и унизил, он плюет на тебя и тех, кто тебе дорог, а ты упрямо жаждешь принести себя ему в жертву, неужели ты действительно считаешь, что он этого достоин? Что он достоин тебя?
Вдруг около цирка, откуда ни возьмись, совершенно необычный персонаж: высокомерный еврей. Одет не кричаще, но элегантно, идет прямо, уверенным шагом. Достойный, величавый. Шествует сквозь толпу пешеходов без страха и оглядки. Что заставляет меня думать, что это еврей? Не могу сказать. Но уверен, что так и есть, скорее всего, он родом не отсюда. Персонаж привлекает внимание. Какой-то нацист его заметил, на лице — возмущение сверх всякой меры. Другие останавливаются и следят за ним глазами. Да, видимо, он откуда-то из другой страны или иной эпохи. Может, израильский принц? Или посланец Всевышнего? Борода ухожена, в глазах светится ум, от него веет такой силой, что люди на улице выглядят смущенными. Еще мгновение, и целый квартал будет буквально изничтожен: все только и смотрят что на этого благородного и надменного еврея, который прогуливается по Берлину так, словно в столице не правят нацисты.
Я ловлю себя на том, что уже боюсь за него. Он в опасности и не желает этого замечать. А если какая-нибудь сволочь к нему прицепится? Если толпа окружит его, собьет с ног? Побегу я к нему на помощь? Хочется думать, что да, но я в этом не уверен. В любом случае проблема моя уже лежит в области чистой теории: изумленные люди не двигаются, пропускают его, позволяют ему завернуть за угол. Никто не успел прийти в себя, как он уже исчез. Побежать за ним? К чему? Кроме того, уже поздно. Пора домой. Быстренько, фрау Браун, я тороплюсь. Сколько я вам должен? Почту? Буду вам очень признателен, если вы ее станете пересылать… я пришлю вам адрес, договорились? Заранее спасибо, спасибо за все, и до свидания. Ой, дорогая фрау, не делайте такое лицо, мы однажды еще встретимся, только горы не встречаются, как говорят у нас, а люди… Так, быстро, чемодан. Все положил? Рубашки… книги… Филактерии. Папочка с документами… Паспорт, где мой паспорт? Ужас, я его потерял. Нет, он в кармане. Билет? Так, в паспорте. А паспорт? Вот, у меня в руке. Тихо: я и так в сумасшедшей стране, а еще путаюсь… Скорее, такси. Нет такси — тем хуже, пойду пешком. А вот и такси: «Быстро, на вокзал». — «Какой вокзал?» — «У меня поезд на Париж» — «На Париж? — тянет ошеломленный шофер. — Так вы опоздали. Но, — прибавляет он весело, — подождите годик-другой — и мы все там встретимся!..» Шутка его не смешна. «Ладно, едем!» — говорит он. «Ладно, едем! — говорю я. — Быстрее». Он жмет на газ. Зажигаются фонари. Регулировщики жестикулируют. Витрины блестят. В тюрьмах те, кто пытал, сейчас потягиваются, а те, кого пытали, шепчут: «Это только сон. Дурной сон». Мной овладевает глухое беспокойство: кто придет, кто пришел на вокзал? Инга? Трауб? Бегу к платформе номер 11, поезд еще стоит. Вхожу в вагон, натыкаюсь на бока и локти пассажиров, нахожу свое место, кладу чемодан на скамью, выхожу на перрон, ищу знакомые лица… Никого. Из всех моих друзей, из всех приятелей никто не пришел. Я даже на них чуть-чуть сержусь. Впрочем, я неправ: они боятся, а я вот еду в мир без страха. Увижусь ли с ними снова? Механический голос объявляет: «Осторожно, поезд на Париж отправляется…» Сердце рвется на куски, мне плохо, и я знаю почему: есть минуты, когда человеку известно все. Вот такая минута сейчас у меня, я снова мысленно оглядываю своих товарищей, веселых и грустных, счастливых и несчастных, благоразумных и неуемных, и вижу, что всех их поглотит бушующая стихия огня и крови, а вот я, счастливый дезертир, я останусь жив.
Поезд наконец вырвался из Берлина. Смотрю в ночь, облокотившись на раму окна, не осмеливаясь обернуться. В конце концов усталость берет положенное, и я сажусь на свое место. Человек в углу напротив мне улыбается: это тот самый таинственный принц, которого я еще сегодня утром видел у цирка.
Усталый, обессиленный, я закрываю глаза, но тотчас их открываю, чтобы улыбнуться ему в ответ. Внезапно нападает желание заплакать, оплакать Ингу и ее мрачное будущее, Гауптмана и его похороненные иллюзии, Трауба и его товарищей, Берлин и его евреев. Мне хочется плакать, но этот путешественник сидит и мне улыбается. И вот, удерживая слезы, улыбаясь против всякой охоты, как последний кретин, я покидаю Третий рейх. Слабость? Смехотворная трусость? Я признаю себя виновным, гражданин следователь, признаю себя виновным, что сбежал от берлинских тюрем и тамошней смерти.
Неизданные стихотворения Пальтиеля Коссовера, написанные в тюрьме
ДЕТИ
Дети бедных, бедные дети. Разумные, тихие, прилежные и легкомысленные — всех вас ожидает изгнание. Взрослые вас недостойны, бедняги, еврейские дети.ХЛЕБ
Узник в камере не думает ни о Боге, ни о море, ни о свежести горного воздуха; голодный узник в камере помышляет о хлебе: хлеб — его память, его Всевышний.НОЧЬ
Ни убежища, ни очага, Ни забвения, ни покоя. Скорей западня, мышеловка. И звуки конца всего.ГОРОДА
Островки тьмы, пепел пожарищ. Разгромленные проулки, ослепшие окна, с удьбы вразброс. Города внутри городов, ненависть за чертой ненависти. Все это выстроил Каин для будущих жертв.ПРОХОЖИЕ
На одно лишь мгновение случай их свел, чтобы высвободить их инстинкт охоты на человека.СТЕНЫ
Видимые и невидимые. Даже те, что всех ниже, прячут от нас горизонт. Заменяют его собой. Черные, красные стены, грязные и отталкивающие, даже когда чисты, — сделанные людьми, они живут дольше людей.ДОМА
Подчас разнесенные в клочья, со скорчившимися трупами. Там недоеденный ужин, разбитый шкаф, опрокинутый стол — как это глупо и как уродливо… Ты, человек, возвращайся в свою пещеру и попробуй там выжить.В РАЗОРЕННЫХ УБЕЖИЩАХ
Горе без имени, страх несказанный, лица без выраженья, разбитые пальцы, глаза, побывавшие в преисподней от всех этих сумасшедших, от всех страдальцев надо бежать… И чтоб они убежали тоже.«Кто же ты, друг мой, Зупанов? Откуда пришел? С какой планеты явился, чтобы войти в мою жизнь? Что наделал? К кому ты захаживал, прежде чем получить в удел этот квартал и ночами владеть им? Каких людей ты, друг мой, сторожишь? Какие и чьи секреты ты охраняешь? По чьему приказу? И от кого получил ты эти неизданные стихи Пальтиеля Коссовера? Кто позволил тебе завладеть ими? Ты уверяешь: тот, кто тебе их дал, думал, что таким образом я их увижу? Как же тот неизвестный узнал, что мы сможем встретиться? Ты столько всего мне рассказываешь, Зупанов, зачем? А узнаю ли я однажды, о чем ты умалчиваешь?»
Все больше и больше заинтригованный сторожем, Гриша мысленно задавал ему, так или эдак их переиначивая, одни и те же вопросы. Зупанов должен был знать его отца: может быть, они познакомились в тюрьме? Не имея возможности его спросить, он взглядом вымаливал ответ, надеясь, что сторож поймет. Дошло ли это до Зупанова? Его ответы лишь отчасти проясняли вопросы, интересующие юного посетителя, слишком многое скрывая от его глаз и слуха.
Они встречались в конце недели или по вечерам. Садясь с тетрадками в руках на свою походную кровать или на табурет, сторож играл роль преподавателя: обучал Гришу всему, чего тот не усвоил в школе. Объяснял современную ситуацию: колебания и кувырки советской политики в том, что касалось граждан-евреев, положение в Израиле, проблему эмиграции, а также знакомил с начатками идиша и дал несколько уроков еврейской истории. В принципе он готовил того к великому переселению.
— Меня они не выпустят. А вот тебя — да. Некоторые дети писателей уже вырвались. Придет и твоя очередь. Будь к этому готов.
«Готов к чему?» — спрашивал себя Гриша. Но Зупанов уже говорил о другом, а настаивать на чем-либо тут не имело смысла.
Однажды он очень удивил своего юного протеже:
— У меня для тебя подарок. Поэмы твоего отца. Он написал их в тюрьме.
Обжигающе раскаленные. Гриша представил себе отца, притулившегося в камере и озаряющего ее сумеречный мир пламенем простых, обыденных слов. Слова упали в этот взбесившийся век, затерялись, и освобождение пришло запоздало.
— Вот так и с человеческой жизнью, — подытожил Зупанов. — Предсмертные крики, дружбы, ссоры — все слова. Словами все начинается и кончается.
«Скоро, — подумал Гриша, — очень скоро мне будет известно об отце больше, чем знала мать при его жизни».
— Вот видишь, — подтвердил его мысль Зупанов, — все возможно.
И подмигнул.
Завещание Пальтиеля Коссовера (Продолжение)
Просвещенный Париж, город света? Эх! Вроде бы все так, но… Выйдя из Восточного вокзала дождливым днем, задыхаясь, весь в поту и небритый, я не знал, куда мне податься. Никого из знакомых тут нет. Ни троюродного кузена, промышляющего кожаной галантереей, ни дядюшки в еврейском квартале на рю де Розье. Только один адрес, единственный, который вызубрил наизусть. Там живет Пауль Хамбургер. Сослаться на Трауба.
— Свяжись с ним, — сказал тот. — Как знать? Вдруг ты ему чем-то пригодишься?
Хорошо бы, но не мог же я заявиться к Хамбургеру прямо так, как с неба упасть. С чемоданом в руке и пустым желудком. У меня ведь с самого Берлина крошки во рту не было. Займемся сначала желудком и нервами. А тут еще мой дорожный спутник. Я так его стеснялся, что, даже если бы захотел есть в пути, не показал бы виду.
Мы были одни в купе. Он — у двери, я — у окна. Не понимая, как вести себя в таких случаях, не ведая даже, еврей ли он, я уставился в окно, смотрел на пейзажи, на небо, дома, хижины и телеграфные столбы, чтобы только не заводить с ним беседы. Я был сама осторожность. Мы ведь еще на немецкой земле, а вдруг этот дяденька — шпик, провокатор? На вид непохож, но доносчики и полицейские всегда смахивают на кого-то другого… Нет, самое время заняться собственными мыслями и своей тоской: я еще не кончил про себя упрашивать Ингу. А уже появились новые аргументы, я казался себе таким красноречивым и убедительным как никогда…
Внезапно я обернулся совершенно изумленный: мой сосед обратился ко мне… на идише.
— В этой проклятой стране всегда кажется, что конец света — вот-вот. Вам тоже?
Я ответил на том же языке, но не без нервозности:
— О таких вещах тут не надо бы говорить. Не так громко…
Пропустив мой совет мимо ушей, он продолжил:
— Страх — одна из библейских кар. Страх говорить и слушать, спать и бодрствовать. Вот видите, мы присутствуем при конце света.
Он говорил на чистом литовском идише, довольно мелодичном, что странно звучало при его сипловатом голосе.
— И в то же время я твержу себе, что с тех пор, как мир стал таким, как он есть, всегда рядом может оказаться человек, который оглядывается вокруг и прямо так и объявляет, что это конец. И заметьте, он всегда прав.
Его неосторожность меня заинтриговала и обеспокоила. Я обернулся и посмотрел прямо ему в лицо. В Берлине я его принял бы за главу одного из царственных израильских родов, так была великолепна его манера держаться. Как я уже говорил, одет он был скромно, но элегантно. Пиджак, золотая цепочка. Залысина надо лбом, орлиный нос. Взгляд устремлен куда-то вдаль, в нем — живая мысль. В Белеве, Берлине, Льянове и Бухаресте я навидался евреев, набожных и неверующих, богатых и нищих, доброжелательных и чванных, но этот ни на одного из них не походил. Был совершенно из другого теста, от него исходила таинственная властность, превосходящая возможности любой натуры, не только моей, но и его собственной.
— С кем имею честь? — спросил я.
— О, прошу прощения, я еще не представился. Я преподаватель, зовут меня Давид Абулезия.
Он не выглядел ни профессором, ни испанцем. А такое имя хорошо бы звучало на кастильском, по крайности, на ладино, но только не на идише! Я снова вообразил, что он с какой-то неведомой мне целью рядится в чужую личину.
— Что вы преподаете?
— Историю еврейской поэзии или, если угодно, поэзию еврейской истории.
И он начал рассуждать о поэзии в Библии, у пророков, в мидрашах, в средневековых литаниях, в песнях, сложенных в честь мучеников времен крестовых походов и погромов, о Йегуде Галеви, Шмуэле Ханагиде, Элиэзере ха-Калире, Мордехае-Йосефе ха-Коэне из Авиньона. Он так хорошо знал все это, что я окончательно забыл о подозрительных субъектах в мундирах и темных плащах, сновавших по коридору вагона. Между тем граница приближалась.
— Труды поэта и историка — это одно и то же, — говорил мой спутник. — Оба освещают вершинные явления и удаляют лишнее, оставляя одно слово из десяти, одно событие из ста. Какое различие между поэзией и историей? Скажем так: поэзия — это невидимое измерение истории.
Он так долго распространялся на эту тему, что начал меня раздражать. Между тем мы пересекали варварскую страну, где поэзии и истории евреев что-то постоянно угрожало, норовило пустить их в распыл, а он, прямой и величественный, словно статуя, играл словами, жонглировал мыслями, да еще вдобавок на идише. В конце концов всему же есть границы.
— Давид Абулезия — испанское имя, а где же вы выучили идиш?
У него было простое объяснение: дед и бабка с материнской стороны были русскими евреями. Я спросил: а как с его родней по отцовской линии?
— Танжерские сефарды.
А где он живет и преподает?
— Да везде понемногу. Я уже много лет езжу с места на место. Перемещаюсь по городам и весям, из страны в страну.
И чего же он ищет?
— Не чего, а кого. Кого-то вполне определенного.
— Уж не Мессию ли? — спросил я, чтобы улыбкой разрядить серьезность взятого тона. Но мое легкомыслие ему не понравилось. Он напрягся.
— Почему бы и нет? Почему не его? Он — персона этого мира, молодой человек. Мудрецы-талмудисты полагают, что его следует ожидать на подходах к Риму, но на самом деле он находится среди нас, везде. «Зохар» утверждает, что он ждет, когда его позовут. Ждет, когда его распознают и коронуют. Так знайте же, молодой человек, что Мессия похож на любого из нас, только не на Мессию. Его имя предшествует творению, а значит, и ему самому. История Мессии говорит о поиске. Это повесть об имени, ищущем того сотворенного, которому оно предназначено, или само Творение.
Его разглагольствования уже стали меня раздражать. За кого он меня принимает? Он что, посвященный? Да нет, подумалось, просто сумасшедший. Мы сейчас еще в гитлеровском рейхе, а у него в голове — ничего, кроме мессианских теорий. Да, скорее всего, он не в себе. Но мне не представилось случая дать ему понять, как я раздражен: поезд остановился, мы достигли границы. В голову полезли совсем иные заботы. Вдруг мое имя уже фигурирует в черном списке и меня сейчас арестуют? Ожидание сделалось бесконечной агонией. Полицейские и таможенники щупали мой паспорт, рылись в чемодане. А вот Абулезия их разглядывал с совершенно спокойным видом, почти высокомерно. Может, потому, что у него паспорт был британский? Я не заметил на его лице ни следа тревоги. Немцы вежливо отдали нам честь и вышли. Но тиски во мне разжались только тогда, когда поезд тронулся и пересек границу. Тут я вздохнул с облегчением. И по-новому посмотрел на моего спутника: теперь нам уже ничто не помешает! Однако он меня опередил:
— Я вас, молодой человек, приметил вчера в Берлине, около цирка. Я ждал, что вы пойдете за мной.
«Он точно псих», — вздохнул я про себя. А вслух пробормотал:
— Но… разве я не последовал за вами до этого купе?
— Действительно, — согласился он. — Это налагает на меня некоторые обязательства. Выскажите мне пожелание, все равно какое. Я его выполню.
Ну вот! Все сначала. Только теперь он играет роль не Мессии, а пророка Илии. Сколько их, таких?! На своем веку я уже повстречал немало пророков и мессий… Они мне очень нравились и платили тем же. С самого детства я притягивал дурачков, и меня так же тянуло к ним. Маймонид прав: мир без безумцев не мог бы выжить. Но те, из моего детства, выглядели беднягами, потерянными и не преуспевшими, занятыми поисками корки хлеба или внимательного уха. А тут — сефард-профессор, отправившийся искать Мессию в Германию.
— Ну и каково ваше желание?
— Ладно. Ответьте на один вопрос: чем вы собирались заняться в Берлине?
Он покинул свой угол, устроился поближе ко мне у окна и начал:
— Древние верят, что Мессия придет в тот день, когда человечество будет или целиком виновно, или вовсе невинно. Вот я и приехал в Германию… удостовериться. Оценить, как глубоко провинилась страна.
— И что? — Я усердно подыгрывал, выказывая заинтересованность. — Каковы результаты?
— Мир еще не вполне виновен, но не огорчайтесь, молодой человек, скоро он дойдет до точки, — добавил он с удивившим меня безразличием. — Однако…
— Я слушаю.
— …мне, в свою очередь, тоже хотелось бы задать вам вопрос.
— Прошу вас.
— В вашем чемодане я заметил филактерии. При всем том вы не покрываете голову и не начали утро с молитвы. Разве так поступает еврей?
Дались ему эти филактерии… Но терпеливо отвечаю:
— Я не соблюдаю обрядов.
— Но тогда не понимаю…
Хорошо. Начинаю объяснять. Про Льянов, отца, обещания. Абулезия интересуется моим прошлым. Рассказывает о своем. Учился в знаменитой литовской ешиве, преподавал в Галиции, в Греции, в Сирии, даже в самом Иерусалиме… У него везде учителя, ученики… Слушая его, вспоминаю случай из времен моих занятий с реб Мендлом-Молчальником.
Его молодые преданные, ревностные ученики проникались тайными сокровищами Писания, которые связывают смертное существо с его бессмертной сущностью. Каждое из наших слов эхом отдавалось в Небесном дворце, где Создатель и Его приближенные дополняли повествование о людских страданиях, а каждая минута нашего молчания порождала в высях молчание более совершенного свойства. Однажды, как мне помнится, близко к полуночи, Нахум, старший сын подметальщика в ритуальной купели, попросил у учителя разрешения задать вопрос, а получив его, сказал: «Мы достигли порога знания, рабби, но чем оно нам поможет?» Говоря это, Нахум дрожал, как на ветру лист, готовый оторваться от ветки. Его положение было безвыходно, и он это понимал. И как способ, и как цель, знание в равной мере будило в душе страх. Реб Мендл-Молчальник сжал голову руками, скрыв от нас лицо, и долго оставался недвижим. «Ты хочешь ответа на вопрос, для чего служит познание, — наконец произнес он. — Ну так слушай. И вы все слушайте: оно позволяет понять творение, то есть узнать, как воспользоваться им, воздействовать на него и даже на самого творящего; оно позволяет нам приблизиться одновременно к началу и к концу, служит для пробуждения естества во всем, что существует, и вечного в длящемся…» В первый раз мы видели нашего наставника в состоянии, похожем на транс. Он говорил и говорил… Что знание — это ключ, самый драгоценный из всех, но и самый опасный, потому что открывает две неотличимо похожие двери: одна ведет к истине, а другая во тьму. Нахум закричал: «А если я откажусь от него?» — «Слишком поздно, — отозвался наш наставник, — мы уже перешли порог — с этих пор сомнение не допускается…», и тут все замолкли, охваченные дурными предчувствиями. Никто не осмеливался нарушить молчание. Оно длилось до утренней молитвы… Нет, оно отодвинуло молитву. Этот день мы провели без нее, без пищи и без сна. А вскоре Нахум потерял веру, его брат — жизнь, а я сам почувствовал, что почва уходит у меня из-под ног.
Давид Абулезия все говорил, что касается меня, то перед моим умственным взором маячил реб Мендл-Молчальник, чей взгляд загорался яростью всякий раз, когда смысл текста ускользал, медлил раскрыться перед ним. А еще я видел Эфраима и его политико-религиозные игрушки. И помимо этого — «Зохар» и романы в дешевых обложках, Льянов и Берлин, Бернарда Гауптмана и вот теперь Давида Абулезия… Каждый пытался пробить скорлупу и ускорить события, приготовить людей к пришествию Мессии — или подготовить Мессию к встрече с людьми. Цель же у всех одна, но никто не был способен ее достичь. Неспособен? Инга так не считала. В виновной Германии она олицетворяла спасение. Абулезия говорил, говорил, я же молил Ингу все бросить и приехать ко мне в Париж.
— …и поскольку он отказывается появиться среди нас, — с самым серьезным видом возгласил напоследок мой спутник, — я буду продолжать его преследовать в его земных и небесных владениях.
— Удачи вам на этой стезе! — вежливо откликнулся я.
Между тем в коридоре началось движение. Полусонные пассажиры отправлялись в вагон-ресторан, другие, наполовину проснувшиеся, оттуда возвращались. Мы подъезжали к Парижу. Его предместья довольно мрачно серели под дождем. Слышались веселые возгласы, зевки, люди обменивались адресами. «Скоро прибываем?» — «Скоро». Ноги гудят, голова раскалывается, веки воспалены и не желают открываться. А поезд замедляет ход.
— Не забудьте, молодой человек, — вещает Давид Абулезия, — не забудьте, важно не быть Мессией, но искать его.
— А если я его найду?
— Найдите, а там уж поговорим.
— Втроем?
Мы пожали друг другу руки и вышли из поезда вместе, потом в давке нас развело. Я уже думал, что никогда его не встречу, но и тут ошибся. Когда я принялся разыскивать справочное бюро, то услышал за спиной его голос:
— Париж, молодой человек, это город, где мне кое-что известно. Идите за мной.
Я не мог сдержать улыбки. А вдруг, несмотря ни на что, я столкнулся с пророком Илией? Или с Мессией? Не настоящим, великим и единственным, но кем-то более скромного масштаба: моим персональным? Просвещенный город Париж, проснись. Я привел к тебе Мессию! А он отведет меня в отель.
То была гостиница для бедных, в квартале Республики. Тесная, неприятного вида и запаха, темноватая. Второй этаж, как я узнал несколько позже, предназначался для клиентов особого рода, которые выходили из номеров, низко опустив голову, с виноватым видом.
Преимущества ее, как объяснил мне Давид Абулезия, заключались в дешевизне номеров, да и полиция туда редко заглядывала из боязни наткнуться невзначай на высокопоставленное лицо: министра, промышленника, правительственного чиновника.
Хозяин, пьяница с заплывшей, заспанной физиономией, при первом знакомстве, гримасничая, выпалил из-за конторки:
— А, господин профессор, вот вы и снова с нами. Посмотрим, какой бы номер вам предложить? Ну вот, ваша обычная комната свободна. Что до приятеля вашего…
Моя, на третьем этаже, к несчастью, была занята. В виде исключения, зато временно. И клиент не собирался долго задерживаться.
— Устраивайтесь здесь, — любезно предложил хозяин, — выпейте чашечку кофе. Не успеете с ней покончить, как комната будет свободна. Обещаю!
Вот так я приобщился к парижским гостиничным и туристическим нравам. Такое отсутствие порядка меня шокировало. В Берлине подобное было бы немыслимо.
— Не сидите с таким несчастным видом, — обронил хозяин после двух часов ожидания. — Клиенту там, наверху, вероятно, что-то понадобилось… Поставьте себя на его место…
Я бы и хотел поставить себя, но умирал от усталости. Что делать? Я даже не мог позволить себе такой роскоши, как поворчать, потому что не знал французского. Давид Абулезия, бегло изъяснявшийся на нем, служил мне переводчиком. Наконец сонный голос хозяина возвестил:
— Ну вот, сейчас вы можете подняться в номер.
Чтобы воздать мне за тяготы долгого ожидания, он даже готов был предоставить — разумеется, единожды и в виде исключения — вдобавок и то, что к этому обычно прилагалось, но, увидев, как я зарделся, не стал настаивать.
Я растянулся на кровати и заснул. Давид Абулезия разбудил меня уже днем, предложив пообедать в кошерном ресторане. Он предложил то же самое назавтра, поступил так же днем позже и продолжал это до самого конца своего пребывания в Париже.
Я не знаю, что он поделывал в городе: он уходил рано утром, не сообщая мне, куда направляется и сколько времени его не будет, а возвратившись, стучался ко мне в номер, и мы отправлялись в ресторан. А затем шли к нему побеседовать. Ситуация, сама по себе комичная почти до гротеска: двумя этажами ниже мужчины и женщины торговали собой и сдавали себя внаем, приманивали друг друга, предавались наслаждениям, оттуда доносились сладострастные вопли, взрывы смеха, стоны, тошнотворные запахи, а в это время мой раввин-профессор, маг и искатель приключений, повествовал о своих путешествиях в царство божественного глагола. Двумя этажами ниже мужчины и женщины дарили друг другу простые и доступные наслаждения, сводя понятие счастья на уровень тела, а Давид Абулезия рассуждал о последних временах, о высшем опыте, о подобном взрыву тотальном раскрытии языка у последних пределов бытия. Конец света — это была тема, к которой он маниакально возвращался, его навязчивая идея. Он начинал меня этим по-настоящему злить. Не для того я приехал в Париж, чтобы слушать проповеди об апокалиптическом развитии истории, этого я достаточно натерпелся в Льянове… Но мне не хотелось огорчать его: я уже говорил вам, гражданин следователь, что в нем было что-то такое необычное, благородное, да-да, благородное, несмотря на скандальную обстановку, в которой мы обретались, это требовало от меня некоторой почтительности. И потом, я ему был столь многим обязан!
— Ну как, вы нашли вашего неведомого странника? — спросил я его однажды, чтобы показать, что готов еще побеседовать на эту тему.
— Пока нет.
Но поиски он продолжал. Обходил все рынки, синагоги, отели.
— Видите ли, — объяснил он мне однажды, — тот тоже любит движение, меняет среду и место пребывания.
— А может, он вас специально избегает, бежит от вас? Такое вам в голову не приходило?
— И это тоже вероятно, — раздраженно кивнул он. — Возможно, он меня побаивается. Ведь я-то волен не призывать его, а вот он — отнюдь. Я имею в виду, что он не имеет права не откликнуться на мой зов… Вот послушай, что со мной случилось вчера. Я посетил приют умалишенных в Шарантоне. Мой друг, известный психиатр, показал мне своих больных: в некоторой степени именно из-за него, вернее, из-за них мне следовало в этот раз посетить Париж. Так вот, каждый из них полагает, что он — Мессия… — Здесь Давид Абулезия сделал паузу, чтобы я хорошенько осознал сказанное. — Все. Включая психиатра.
Вот о ком и о чем мы беседовали, сидя в моей или его комнате, я — на кровати, он — на единственном стуле, между тем как внизу под нами люди пытались заклясть тоску и скуку, заполнить одиночество или, как выражаются в этих краях, заниматься любовью, выражение, звучащее так же незамысловато, как «сварить кофе», «приготовить обед» или «сделать уборку».
В первую же неделю моего пребывания во французской столице я отправился на улицу Паради в контору, где приезжие вроде меня могли получить помощь и совет. Там я нашел адрес еврейской ежедневной газетки «Листок», а еще купил «Паризер Хайнт», издание, слог и стиль которого мне понравились, но политическое направление не устроило: на мой вкус, оно оказалось слишком сионистским. Еврейскому шовинизму я предпочитал коммунистический интернационализм. Ну да, влияние Инги оказалось более действенным, нежели призывы реб Мендла-Молчальника. Москвой я бредил сильнее, чем Иерусалимом.
«Общество взаимопомощи», располагавшееся на улице Паради, в основном имело дело с полит-эмигрантами-коммунистами, или симпатизирующими этому направлению умов, либо же теми, кто еще мог таковыми стать… В его комнатах толпились мужчины и женщины всех возрастов, которым нужны были вид на жительство или разрешение работать, а то и разрешение работать, чтобы впоследствии получить вид на жительство. Польские рабочие, русские бакалейщики, торговцы из Румынии, потерянные, запуганные, они напоминали мне жителей Льянова или Белева-Краснограда.
После часа ожидания полноватая женщина с шиньоном и в очках спросила меня, нужны ли мне деньги и документы. За деньгами надо было стучать в дверь «А», за бумагами — в дверь «В». Она по-учительски подняла палец вверх, чтобы все это мне разъяснить, разумеется, на идише, но с французским акцентом.
— Что касается денег, вам нужны документы, доказывающие, что у вас их нет. А относительно документов — требуется то же самое.
— У меня есть и то и другое.
Она даже подскочила на стуле:
— Что?
— У меня есть деньги, чтобы доказать, что они у меня есть, и документы, доказывающие, что у меня есть документы.
— Тогда вы ни в чем не нуждаетесь?
— Ни в чем, мадам. Паспорт у меня в порядке, и мне есть на что жить.
— Но тогда… Зачем вы пришли?
— Встретиться с людьми, которые говорят на моем языке и думают, как я…
Пришибленная моими словами, учительница обмякла и стала казаться еще жирнее: с такой птицей, как я, она еще дел не имела. Пришлось объяснить ей мою ситуацию: я человек пишущий, приехал из Берлина, чувствую, что по убеждениям близок к рабочему классу, хотя к нему не принадлежу, и хотел бы быть полезен… Она выслушала меня очень внимательно, но недоверчиво, потом встала и пошла в другое место (в дверь «С»?). Через минут десять она возвратилась и торжественно произнесла окончательный приговор:
— Товарищ Пинскер вас примет.
Следуя ее указаниям, я поднялся на второй этаж, где пожилой господин без пиджака велел мне пройти в конец коридора и постучать в последнюю сверь справа. Там мне предложили войти. За горой газет и журналов перед высокой пачкой бумаги сидел человек и писал. Он не поднял головы, не только чтобы поздороваться, но даже бросить взгляд. Я приблизился. Все то же. Пишущий выглядел страшно занятым. На счету была каждая секунда. Может, он переписывал наново «Капитал»? Я бесконечно долго стоял и ждал. Откашлялся. Ничего не последовало. Он писал. Казалось, он так и будет строчить до конца своих и моих дней. Я стал терять терпение:
— Мне предложили… встретиться с вами.
Ничего. Все еще ничего. Наверняка он приступил к новой главе, которая революционным образом переменит философский подход к жизни у новых поколений.
— Мне внизу сообщили, что я могу зайти к вам, то есть, хочу сказать, с вами поговорить, — нервно выдавил я из себя.
Поза пишущего не изменилась, но он изволил разжать губы.
— Подождите, — проскрежетал он.
— Ладно.
Я разглядывал его с все возрастающей враждебностью. Да за кого он себя принимает? Еще никогда меня не заставляли так долго ждать стоя. Что он этим хочет доказать? Что в каждой конторе должен быть свой диктатор? Наконец он положил ручку и обратился к нечестивцу, дерзнувшему побеспокоить столь занятого господина в его трудах.
— Слушаю, что вам угодно?
— Сесть.
Жестом правой руки, которую ему пришлось высоко задрать, чтобы возвысить над горою бумажек, он изволил разрешить мне усесться на стул с кучей словарей на нем. Я взгромоздился поверх них.
— Ну, говорите же, — разрешил Пинскер. — Что вы хотите?
— Что-нибудь делать. Желательно что-нибудь полезное.
— А вы кто?
Ну хорошо, Пинскер, скорее всего, не писатель, а полицейский инспектор. Я поспешил представиться.
— Говорите, что вы писатель?
— Я бы хотел писать.
— Что?
Разве я мог знать что? Разве кто-нибудь знает, что он напишет? Сначала пишешь, а потом уже — знаешь.
— Хорошо, отвечать не хотите, тогда другой вопрос: почему вы хотите писать?
Он явно ко мне цепляется, ищет ссоры. Почему, почему я хочу писать… Разве кто-то всегда знает, почему он делает то или это?
— Ну, так?..
Как мог, я замямлил, что весьма сожалею, но… Я не мог ничего объяснить, не обнаружив тем самым свою литературную некомпетентность, а потому стал распространяться относительно своей деятельности в качестве правой руки Эфраима, «работе» в качестве соратника Инги… Тут он меня прервал:
— Вы член партии?
— Нет… — И поторопился добавить: — Но я поэт.
Мои слова его озадачили, он даже забыл затянуться (надо же, у него в зубах тлел окурок!), однако быстро спохватился и захихикал, словно поскреб ржавую железку:
— Теперь все ясно. Все сходится. Я еще не читал сегодняшнюю газету, но уже проголодался. Хорошо, хорошо… Так о чем ваши поэмы, о ком?
Я, заикаясь, что-то залепетал. Я никогда не мог — до сих пор не могу — рассказать, что делаю.
— Покажите! — приказал Пинскер.
— У меня их с собой нет, — виновато промямлил я.
— Тогда почитайте вслух, — изобразив на лице крайнюю степень усталости, разрешил он.
— Я… я не могу.
— Но тогда зачем вы сюда пришли, молодой человек?
Надо же! Дяденька Пинскер, оказывается, умел приходить в ярость, то есть был способен на человеческие чувства. Он не вечно пребывает в состоянии пишущей машинки, эта машинка умеет еще и оскорблять… Я был заинтригован, как завороженный зритель, следил: упадет на пол или не упадет? Конечно, я имею в виду его окурок.
— Вы считаете, что у меня много времени, чтобы тратить его на вас? Почему вас послали ко мне?
Он все еще продолжал выходить из себя. Ударил кулаком по столу, подняв облако пыли.
— Я очень огорчен, мсье Пинскер. Я зря пришел к вам. Зря вам помешал. Я интересую вас меньше, чем самый бессмысленный из ваших журнальчиков. Из тех, что валяются на столе. Я обращусь непосредственно к редактору «Листка». Может, он окажется более любезным?
Я встал. Он тоже. Я был разочарован: мне казалось, что он повыше ростом.
— Вы это серьезно? — спросил он, и даже морщины на его лбу разгладились. — Считаете, что главный редактор будет любезнее?
— Надеюсь.
«Упадет, не упадет?..» — окурок упал. Голова Пинскера откинулась назад, и он возгласил:
— Ну, надейтесь, не теряйте надежды, молодой человек!
— Это будет несложно: кто угодно окажется любезнее вас.
— Кто угодно? А что вы скажете, если я вам сообщу, что главный редактор «Листка» — я?
Он раскатисто захохотал, мне же захотелось провалиться сквозь землю, а то и еще ниже. Тут только он пришел на помощь: пожал мне руку, попросил быстренько сбегать в гостиницу и еще быстрее возвратиться со стихами.
Невероятно, но факт, могу поклясться: они ему понравились и он обещал их опубликовать. И слово сдержал, первое мое стихотворение появилось на следующей неделе, в воскресенье. Оно называлось «Как?». Как сделать, чтобы возвратить голодным гордость за себя, а оскорбленным придать силы? Как говорить о любви тем, кто лишен средств, а сиротам — о счастье? И как воспевать надежду перед лицом молчаливой нищеты? Можно ли за это браться? Спросите это у униженных, обездоленных, они вам покажут как… Но если вы у них не спросите, берегитесь! Ревнивые (сильней, чем античные боги!), требовательные (яростнее пророков!), жесткие и правдивые, как небесные судьи, труженики построят свое царство: для настоящих людей. А ты, бедный игрок в слова, будешь стучать в двери, пока не рехнешься, но никто не подскажет тебе, как их открыть.
Слишком нравоучительное, это стихотворение было плоховато (позже я его не включил в сборник), и я это чувствовал. Пинскер, впрочем, понял это раньше меня и лучше, чем я, но талмудист и мистик во мне его заинтересовал. Теперь он мог объявить просвещенному еврейскому пролетариату: вот Пальтиель Коссовер, еврей по рождению и поэт по призванию, покинул Бога своих предков ради рабочего класса, оставил устаревшую Тору ради коммунистических идеалов, а созерцательностью, достойной белоручки, пожертвовал ради классовой борьбы… Его «шапка» над стихом была на уровне газетки, но меня это не беспокоило: главное, что опубликовали.
Впоследствии я взял за обыкновение вручать Пинскеру по два-три стихотворения в день. Он их держал у себя с недельку, а потом возвращал, прибавив: «Слишком просто», «Слишком сложно», «Слишком личное», «Недостаточно личное», «Слишком лирично», «Слишком сухо». И конечно, их было слишком много. Плохи, однако же, оказались не все. Семь из них я оставил в своем сборнике.
А еще Пинскер посоветовал мне попробовать себя в прозе. Время от времени он принимал у меня к печати какой-нибудь рассказец, коротенькое псевдохасидское рассуждение, иногда даже стих — то были для меня праздничные дни.
Что до Давида Абулезии, он прочитал только первую мою публикацию. Поднял бровь, пошевелил губами и сделался грустен прямо до слез.
— Мы все стучимся в двери, — прокомментировал он прочитанное. — Но одни ли это и те же двери для всех на свете? И потом, молодой человек, кто нас ждет там, с другой стороны, а?
— Раньше мне не терпелось узнать, что делается по ту сторону, а теперь меня без остатка занимает эта.
— Вот как? Печально. Да, Пальтиель, я именно то слово сказал: печально. Поэт, который не заглядывает за стену, как немая птица…
Однажды он объявил мне, что уезжает. Нужно повидать друзей, есть важные дела в Италии, Греции, Палестине.
— Мне бы хотелось оказать тебе какую-нибудь услугу.
— Еще желание? Хотите, чтобы я чего-то пожелал?
— Нет, — дружески улыбаясь, ответил он. — Нечто другое. Хотелось бы, чтобы ты доверил мне свои тфилин. Ты ведь их больше не надеваешь. А я тебе их потом верну. Договорились?
— Нет. Только не это. Филактерии со мной неразлучны. Таково желание моего отца.
— Понимаю, — кивнул таинственный посланец. — И доволен, что ты сказал «нет».
Мы пожали друг другу руки. Губы обжигал вопрос вопросов: увидимся ли мы еще когда-нибудь? Мой друг был в этом уверен. Я — нет. Я покинул тот отель в самый день его отъезда — к огорчению хозяина и нескольких привлекательных созданий, которым нравилось поддразнивать меня на лестнице, — и обосновался у страстной активистки, рекомендованной Пинскером. Вернее, это ей Пинскер меня рекомендовал.
— Она обожает поэтов, — сообщил он мне, пожевывая свой вечный чинарик.
Ее звали Шейна Розенблюм. Вспоминаю прежде всего ее губы. Подрагивающие, полные, всегда готовые проглотить. Руки, лицо, глаза — все это я увидел уже после. После первой ночи.
Странной активисткой была Шейна Розенблюм. В двадцать лет владелица роскошной квартиры на улице Ла Боэси и притом темпераментная, а может, и убежденная коммунистка. У нее жили нелегалы, которых партия к ней направляла, но только те, что проходили ее тщательный отбор. Переступив порог, я был подвергнут обычному для нее допросу с пристрастием.
— Кто вас послал?
— Пинскер.
— У вас нет бумаг, так? Вы здесь нелегально?
— Вовсе нет.
— Но тогда почему Пинскер…
— Потому что, — я сильно покраснел и пробормотал: — потому что я… поэт.
И, следуя инструкциям, данным мне главным редактором, протянул ей номер «Листка» с моим первым стихотворением.
— Ну хорошо, — сказала она. — Располагайтесь в гостиной. Поговорим о том, что вы пишете.
Была ли она иронична? Озлоблена? Мне это было все равно. Во время беседы я видел только ее губы, они очень ритмично открывались и закрывались. Время от времени она проводила по ним языком. Медленно-медленно, словно давая им урок терпения.
— Вы часто стучитесь в двери? — внезапно спросила она, прочитав единственное мое стихотворение.
Ее голос меня смутил: он был чувственный, очень чувственный. Я прочистил горло, но ничего не ответил.
— Глупо стучать, — пояснила она. — Двери существуют для того, чтобы их взламывать.
Загипнотизированный ее губами, я догадался, на что она намекает. Хотелось что-то выдавить из себя: «да» или «нет», «вы совершенно правы, мадемуазель» или «вы ошибаетесь, товарищ», но (чего здесь было больше: недостатка смелости? опыта? воспоминаний об Инге?) ни один звук не вылетел из моего рта.
— Я беру вас, — решила она. — Имеется в виду: как жильца.
Я совершил над собой нечеловеческое насилие и выдавил:
— Но… Это будет сколько в месяц?
— Не забивайте себе голову вопросами квартплаты. Будете платить, сколько сможете: ничто так мне не нравится, как помогать нашим восхитительным еврейским поэтам.
Я хотел возразить: «Восхитительный, я?» — но она уже выпихивала меня за дверь:
— Ступайте, дорогой поэт, не будем терять времени. Возвращайтесь быстрее, я хочу узнать вас поближе. То есть, разумеется, узнать ваши стихи.
Я не заставил просить себя дважды. Мне везло, я вскакивал во все поезда метро, после всех пересадок не потеряв ни секунды. Не успев уйти, я уже возвратился, был помещен в маленькую комнатку, выходящую во двор, а затем усажен на диван в гостиной с тетрадкой стихов. На столике стоял одуряюще пахнувший кофейник. Снаружи было темно. Шейна приготовилась войти в транс.
Пока я читал, мысль моя странствовала где-то возле отца, который как раз в ту минуту, скорее всего, молился в Льянове, и Инги, спешившей куда-то по берлинской улочке. Я ловил неодобрительный взгляд матери и видел покорные глаза моей недавней подруги. Я бормотал сам не знаю что, я был далеко…
— Читайте, — выдохнули жадные губы. — Не останавливайтесь, читайте, читайте…
Эта женщина была обширна и глубока, она звала, манила ее обшарить, съесть целиком. Одна мысль, одна сумасшедшая мысль забилась в мозгу: этот рот раскроется и возникнет тот тайный мир, где я увижу всех своих.
А затем посреди плохого стиха, в центре рушащейся грезы, я поддался головокружению. И мой голос умолк в темноте.
Париж — город встреч, мимолетных и болезненных очарований. Все, кто как-то причастен к романтизму, назначают свидания там (включая и тех, кого романтизм раздражает), все революционеры (включая контрреволюционеров) — тоже. Нигде на планете не говорят о таком множестве разных вещей с такой страстью или искренностью. Бергсон и Бретон, Блюм и Моррас, Дриё и Мальро, Сталин и Троцкий волновали умы. Я проводил вечера в кафе «Шенье» на улице Монмартр с редакторами «Листка» и слушал, как они обсуждали новости политики, поэзии, философии в аспекте коммунистических воззрений. Речь Даладье комментировалась не менее возбужденно, чем последняя критическая статья Давидсона о произведении одного из наших авторов в «Паризер Хайнт».
Я не вмешивался в их споры, предпочитал слушать, узнавать новое, усваивать его. Я чувствовал, что слишком молод, слишком мало знаю и умею, чтобы иметь собственное мнение. Был только один сюжет, по поводу которого я позволял себе высказывать то, что думаю, — это гитлеровская Германия. К несчастью, и здесь экспертов хватало. И все они кричали громче меня.
В конце концов я познакомился с Паулем Хамбургером, и это опять переменило мою жизнь. Хамбургер встретил меня в своем гостиничном номере. Да, он помнил о Траубе. Знал Ингу и поддерживал с ней связь.
— Я рад, что ты пришел. Оставайся со мной, — предложил он. — Мы славно поработаем вместе.
Хамбургер смахивал на директора завода. Люди приходили, задавали ему вопросы и уходили с его инструкциями. Ему передавали записки и послания. Он отвечал какой-нибудь короткой фразой. Все говорили по-немецки. Я — тоже. Самое тесное общение друг с другом. Даже близость.
— А какой работой ты занимаешься?
— Вскоре узнаешь.
— Когда, Пауль?
— Говорю тебе, скоро.
Пауль Хамбургер внешне — гигант. Этакий Абулезия, но крепче и больше. Редкого ума и воспитанности, щедрый, бесстрашный, он все умел делать своими руками и до всего доходил своим умом. Организовывал каналы связи, отбирал эмиссаров, писал памфлеты и пропагандистские пособия, следил за тем, как действует связь между разными подпольными движениями в Германии или как ее еще предстоит наладить. Все знали его, и он знал всех. Хотя Хамбургер был коммунистом, влияние его личности выходило далеко за рамки партии. С ним и для него любили работать, его именем были готовы клясться.
Он тотчас доверил мне рубрику «Поэзия» в разноязыких журналах, которые издавал. Таким образом я приобрел нескольких друзей и немало врагов. Давая оценку тому или иному произведению, я обнаруживал подспудные мотивации некоторых авторов, получал благодаря этому в свои руки малую толику власти, но ее плодами пользовался неохотно: лесть была мне настолько же отвратительна, как и обличения. Но и то и другое оставалось в моем арсенале. Пауль не уставал напоминать: «Мы в состоянии войны. Твои личные чувства и вкусы полезны только в той мере, в какой помогают нам бить нацистов».
Я пользовался его доверием, однако при всем том не был членом партии. На самом деле я уже умолил Пинскера предложить мою кандидатуру в культурную секцию говорящих на идише, но Пауль меня горячо отговаривал, гася мой порыв:
— Что тебе нужно? Членский билет? А что это такое? Кусок бумаги с твоим фото вроде удостоверения личности, которое выдают в полицейском участке. У меня таких дюжина. Меняется имя, а фото везде одно.
— Но ты не понимаешь…
— Не понимаю чего? Твоего желания примкнуть к нам, твоей жажды принадлежать к прекрасному и благородному братству? Это все романтизм, мой бедный Пальтиель. С билетом или без него ты ведь наш, не правда ли?
Это было правдой. Платили мне за работу из секретного партийного фонда, ради партии я трудился, рисковал собой, жил. Даже страдал ради нее: работники реакционного журнала «Паризер Хайнт» никогда не упускали случая всадить в меня отравленную стрелу. Это была настоящая война. Мои писания их злили, мои стихи приводили в ярость. Мы в нашей газетке тоже не оставляли их в покое. Наши публичные стычки были неистовыми и выходили за рамки политических разногласий. Все, к чему призывали они, было злом, все, что предлагали мы, — выше всякой похвалы. Мы защищали истину и справедливость. Они преуспевали во лжи и в идолопоклонстве.
Странно все-таки. Мы были евреями, они тоже. И мы, и они говорили на идише. И те и другие пришли из Восточной Европы. Их и наши родители воспитывались на Торе, и все же… И все же нас разделяла пропасть.
Притом мы боролись с одним и тем же врагом, а грозила нам та же опасность. В глазах фашистов мы все были евреями. Жидами. Ненавидимыми и презираемыми — все. Нас надо было выгнать из страны, вытеснить из общества, выключить из жизни. Мы сопротивлялись, но не вместе. Никак не получалось прийти к согласию, чтобы сообща организовать собрание, встречу, акцию солидарности или протеста. Не получалось объединить усилия, волю. Мы боролись с одним врагом, но порознь, и казалось, сражались друг с другом яростней, чем с немецкими или французскими антисемитами.
Моя статья, появившаяся в конце 1935-го или в начале 1936 года, навлекла на меня целую лавину полных ненависти откликов в «Паризер Хайнт». Я объяснял там, чем мне принципиально не нравится сионизм. Надо выбирать: или вы религиозны и тогда вам запрещено отстраивать заново царство Давида до пришествия Давидова сына. Или вы не религиозны, но в последнем случае еврейский национализм подвергнет смертельной опасности тех иудеев, которых собирается охранять. И я уточнял: еврейское государство в Палестине станет гетто, а мы против гетто, мы сражаемся против стен, дискриминаций, разделений, где бы они ни были. Мы видим в феномене гетто несмываемый порок, пятно стыда, мы выступаем за общество без разделений, а религиозные верования лишь обостряют подозрительность и обозленность между народами. Нам желательно не отделять евреев от остального мира, но интегрировать их в него, сплотить людей в единое целое. Недостаточно освободить еврея, наша цель — освободить человека и покончить с этой проблемой.
Целую неделю сионистский журнал не оставлял на мне живого места. Меня называли пропагандистом на жалованье Москвы, ренегатом, предателем. Самые умеренные ставили мне в упрек мое неведение, чтобы не сказать глупость. Поэты, занимающиеся политикой, в полемическом запале объявил публицист Барух Гроссман, похожи на лунатика, требующего принять его на должность проводника.
Втайне я ликовал. Барух Гроссман признал во мне поэта! Это стоило всех оскорблений в мире. Но при всем том мне приходилось протестовать: почему это следует держать поэтов в стороне от политики? А что вы сделаете с пророками? С Исаией, Иеремией, Аввакумом, Амосом и Осией — ведь они были поэтами? Или нет? А в политику они вмешивались или нет? А как поступить с французскими революционерами 1789 года?
В течение недели весь идишский мир города Парижа буквально кипел. Оба лагеря оспаривали доводы друг друга, извергая такие речевые потоки, каких здешние евреи не видали ни тогда, ни в прошлом, — и все из-за нескольких строчек, подписанных неким Пальтиелем Коссовером. В клубах, кафе, в галантерейных лавках, у портных и гладильщиков только и разговору было что обо мне и о битве двух еврейских изданий. По нашему поводу пускались в мелкие изыскания, нас критиковали и поздравляли, в один день меня признавали победителем, на другой — побежденным, мои акции падали, поднимались и снова обваливались. Можно было подумать, что в мире не происходит ничего важнее этого.
Слабое эхо той полемики достигло и Льянова. В одном из своих, как всегда, кратких, но прочувствованных писем отец мне писал: «…Видимо, в Париже живет человек с таким же именем, как у тебя. Это поэт и писатель, наш ежедневный листок напечатал отрывки из его суждений о нашем народе… Обидно, что он грязнит твое имя и наше тоже. Тебе бы следовало потребовать от газетки, чтобы там разъяснили, кто есть кто…» Письмо кончалось напоминанием, что я обязался надевать тфилин каждое утро.
Из всех отзывов на мою статью только его послание причинило мне боль.
Горькая ирония, признайте это, гражданин следователь: ныне именно «Листок» от меня отрекается, а сионистская пресса берет меня под защиту. Газетные вырезки, что вы мне показывали на прошлой неделе (или в прошлом месяце, а может, — году? Я потерял здесь всякое представление о времени), заставили меня улыбнуться: выходит, Пинскер всегда считал меня агентом-провокатором. Вот почему когда-то он противился моему вступлению в партию. И другой его сотоварищ, Альтер Йозельсон, на страницах той же газетки занимается самокритикой: «Признаюсь, этот змий меня поимел». А в американской газетке еврейских коммунистов некто Швебер обливает меня грязью, тогда как десяток лет назад превозносил до небес. Да, это больно. Мои товарищи, вчерашние закадычные друзья так внезапно решили меня приговорить.
Почему вы подсунули мне эти статьи, гражданин следователь? Чтобы показать, как далеко распространилась весть о моей отверженности? Вам это удалось. Ни один из всех прочих ваших аргументов так меня не опечалил: «Ты что, обвиняемый Коссовер, считаешь, что только я тебя называю предателем? Может, ты ждал, что из Парижа придут свидетельства в твою пользу? Взгляни лучше на эти газетные вырезки. Увидишь, что о тебе думают твои друзья. Это они тебя обвиняют в предательстве, а яда в их речах больше, чем в наших… Взгляни, ну, смотри же, обвиняемый Коссовер. Они вынесли тебе приговор раньше, чем начался суд…»
Это больно. Да, это горько.
Полагаю, вы подсунули мне сионистские статейки из тактических соображений, уж я-то вас знаю. Чтобы потом сказать: «Полюбуйся, обвиняемый Коссовер, кто спешит тебе на помощь. Реакционеры, империалисты, злейшие враги Советской России — и что? Ты упорствуешь, продолжаешь отрицать, что ты их сообщник? Тогда почему они пытаются спасти твою шкуру, объясни-ка?»
Только вы просчитались. Я доволен, слышите? Наконец я заслужил добрые слова от сионистов — сознательных и преданных евреев, настоящих еврейских евреев. Их поддержка придает мне сил. Тут-то ваша хитрость не удалась. Не то, что с «Листком». От той мне стало совсем противно. Как вспомню о ней, меня и теперь тошнит. Чтобы очистить голову от гнили, вспоминаю лицо своего отца. Его голос. Его просьбу о филактериях. Ах да, относительно тфилин. Их-то я забыл, они остались где-то в недрах шкафа, под моими рубашками. У Шейны Розенблюм. Из-за ваших происков я о ней почти забыл. И о ней тоже.
Вы будете смеяться: я с вами говорю, вспоминаю о ней, а вижу только ее губы. И ничего другого. Я просто терял голову от ее рта. Ей достаточно было приоткрыть губы, и мое тело тянулось к ней. Иногда, возвратившись поздно после утомительного трудового дня, полного статей и собраний, я видел Шейну, она спала в своей кровати или в моей, ее рот подрагивал. И тогда, несмотря на усталость и на прошлые бессонные ночи, я склонялся к ней, чтобы ее поцеловать, — и так до утра.
В газете я, случалось, флиртовал с другими девушками, которые мне очень нравились. Вокруг Пауля Хамбургера все время роились прелестные и таинственные создания… Мне вспоминается Лиза… тонкая, похожая на ангела, она отвечала за связь с подпольной группой в Германии. Я ее страстно желал. И она наверняка догадывалась об этом. Помнится мне и Клер, крупная хохотунья, заигрывавшая со всеми вокруг, часто рассказывавшая о каких-то легкомысленных историях, внушая мысль, что она проводит все время в интрижках, и однако… Поговаривали, будто она девственница. Была еще Магдалена, одна из секретарш Пауля. Она переводила его статьи на французский. Когда читала или писала, хмурила брови. Красивой я бы ее не назвал, но мне нравилась ее манера держаться, ее сосредоточенность. Я бы мог завязать несколько легких интрижек, но мне не хватало времени… и смелости. А то немногое, что оставалось, я приберегал для своей квартирной хозяйки. Ритуал никогда не менялся. Она заставляла меня прочитать какое-нибудь стихотворение, закрывала глаза… И я делал то же. В стихах она не понимала ни бельмеса, ну и что? Тем не менее она платила мне авторские.
Любила ли она меня? Возможно. А я? Иногда. Я настоял, что буду платить за квартиру. Впрочем, суммы были чисто символические. Я обращался к ней на «вы», по крайней мере сначала. Она никогда не окликала меня по имени, всегда это были какие-то пришедшие ей на ум прозвища: то «мой поэт», то «мой великий поэт», «А не хочет ли мой милый гений, случаем, поесть?», «А мой великий Рембо не простудится?»
От Пинскера я знал, что у нее было много романов, но она никогда ни о чем таком не упоминала. «Прошлое это прошлое, — говорила она и грозила мне пальцем. — Трогать запрещается».
Что до будущего, Шейна была им заворожена. Бедняжка, она могла бы зарабатывать на жизнь как гадалка. Ее предсказания поражали меня своей точностью. Однажды утром она проснулась и, потягиваясь, объявила: «Чувствую, скоро придется идти на похороны». На той же неделе умерла одна из ее теток. В другой раз: «Скоро попразднуем!» А на следующий день один приятель убежал из немецкой тюрьмы… Понятно, почему я боялся ее обманывать: она бы тотчас угадала.
Предполагаю, что она была мне верна, иначе я бы неминуемо наткнулся в доме на другого поэта. Но таковых не имелось. Иногда я заставал в доме неизвестного визитера, присланного партией, который оставался на ночь или две. Тогда я уступал ему свою комнату и перебирался к Шейне.
«В свет» я выводил ее очень редко, поскольку не располагал средствами. И никогда, ни в коем случае я не позволил бы ей расплатиться при мне в кафе или ресторане. Гордость? Тщеславие? И то и другое разом, прибавьте туда же, если пожелаете, самолюбие и остатки буржуазного воспитания: в Льянове хорошо воспитанный юноша никогда бы не позволил себе поступить на содержание к женщине, даже если бы она была богата и снедаема любовью к еврейской поэзии.
Но однажды я все же пригласил ее пообедать. Перед этим я только что получил и обналичил чек за длинный рассказ, опубликованный в «Листке» и переведенный на французский одним из сотрудников газеты «Сё суар». Первый раз меня напечатали по-французски, и от этого я почти что впал в экстаз. Мы попивали винцо, когда в дверях ресторана проявился Пауль. С Шейной он был знаком, она ему кивнула, пригласив присоединиться к нам. Пауль был моим самым близким другом, но по необъяснимым причинам в его присутствии мне стало не по себе. Осудит ли он меня? Рассердится ли, что у меня роман с богатой женщиной? И что я к ней привязан? Пуританин еще не умер во мне. Я сидел хмурый. Шейна же была в прекрасной форме. Великолепная, привлекательная… Ее звонкий смех притягивал взгляды окружающих. Меня чуть встревожило сомнение: не являются ли она и Пауль… возможно ли это? Но нет! Пауль мне бы сказал. Он был такой: прямой, открытый. Правда — прежде всего, для него она была в том же ряду, что и дружба, он не отделял одну от другой… Он бы усадил меня перед собой в своем кабинете, затворил бы дверь, поглядел бы мне прямо в глаза и произнес: «Послушай, друг мой, я знаю, что ты живешь с Шейной. Это меня не волнует, поскольку не мешает работе. И все же хочу, чтобы ты знал: когда-то мы с Шейной были близки. Хотя все давно прошло…» Вот так бы поступил Пауль Хамбургер. Нет. Ничего меж ними не было… Тогда почему мне не по себе? Меня раздражало как раз то, что я не понимал, что меня коробит. А вот Пауль вел себя вполне естественно. С юмором комментировал всякие слухи, рассказывал о положении дел в Германии: анекдоты, высказывания, сплетни. Был более блестящ и увлекателен, чем всегда. В конце трапезы тактично не стал нас провожать, сослался на дела в квартале, поцеловал Шейну в обе щеки, пожал мне руку и исчез, завернув за угол где-то возле Оперы. Я был ему за это благодарен и снова почувствовал себя счастливым.
Было ли мне вправду так уж хорошо? В этой холодной и голой камере, куда солнечный свет не проникает никогда, даже по высочайшему приказу не смог бы, ответ мне представляется очевидным. Да, я был счастлив. И свободен. К тому же беспечен. Убаюкан любовью и товариществом. Ко всему прочему сознавал свою полезность: имел хорошую работу, сражался за правое дело. Все казалось простым. В больном обществе мы представляем единственный шанс выздоровления. Против снисходительности и покорности судьбе поднимаем знамя восстания. Я знал, куда иду, чего желаю добиться, от кого и какими средствами. Враги тоже мне были известны, и я срывал с них маски. Со мною рядом друзья. Разве это не подлинное счастье? Сегодня я, не колеблясь, говорю «да», даже не определяя его сути. В то время я бы помедлил с ответом. Спросил бы: «Счастье? Да нет, я слишком занят, чтобы думать об этом. Счастье, господа, это для буржуев, у нас, у пролетариев, есть теперь дела и поважней: мы должны победить фашизм».
И однако же, как теперь вспоминаю, у меня случались минуты истинного счастья, осознанные и сполна прочувствованные. Например, посещение одного семейства на севере страны, где тогда полным ходом шла забастовка. Меня принял шахтер, окруженный своими детьми. Семейство печальное, но гордое. Они пригласили меня к себе.
— Нам, правда, нечего вам предложить. У нас ничего нет.
— Ну что вы, — возразил я. — Доброе слово, какая-нибудь история — мне больше ничего не надо. Это появится в газете.
Они переглянулись, потом отец повернулся ко мне — у него было лицо замкнутого человека — и промолвил:
— Обычно мы не говорим о себе. Но вы — наш гость, и мы постараемся оказать вам гостеприимство.
Задаю вопросы, они отвечают. Как живут, как поддерживают друг друга. О болезни матери и ее кончине. Как это объединило горюющих подростков… Слушаю, делаю пометки в блокноте, и мне становится стыдно. Стыдно не испытывать голода, не бастовать. А что, если прямо сейчас сходить к кондитеру? Но боюсь, им станет неудобно. Сделаю это чуть позже.
Кондитер смотрит на меня, широко раскрыв глаза, удивленный столь большим заказом. Говорю, куда доставить купленное.
— Все это? — переспрашивает он.
— Да, все это.
Расплачиваюсь и отправляюсь на вокзал. Поезд через час. Вдруг слышу шаги. Мой шахтер садится около меня на скамейку и начинает:
— Все, что ты сделал, это… как бы сказать… шикарно.
Это его «ты» меня растрогало. Неловкий, как и я, он плохо справлялся с волнением.
— Не знал, — говорит он.
— Чего ты не знал?
— Что Дед Мороз — коммунист.
— Дед Мороз? Я еврей, товарищ. Нашего Деда Мороза зовут пророк Илия, он под видом нищего, кучера, рабочего или пахаря посещает дома, где таким людям готовы оказать гостеприимство.
— Выходит, он — коммунист?
Мы оба хохочем. И это — счастье.
Манифестация в честь Дня Республики на площади Бастилии. Народный фронт сейчас в чести. Леон Блюм и Морис Торез светятся счастьем. Они целуются. Мы вопим о своих надеждах во всю мощь наших легких. С поднятым у головы кулаком я прошествовал перед трибуной, как брат всех тружеников, кипя энтузиазмом, как и они. Шел вместе с товарищами из «Листка» и наших обществ взаимопомощи, мы шагали с высоко поднятой головой, уверенные в собственных силах: мы обязательно победим нацизм. Хоть я и не француз, но что с того? Я — часть мощной толпы, и мы саму историю несем на своих плечах. Впереди нас, и сзади, и вокруг — интеллектуалы и грузчики, виноградари и каменщики, они идут ровным, решительным шагом, они неустрашимы, готовы завоевать всю Землю, а если нужно, то и Солнце. Простите меня, гражданин следователь, из меня рвутся слова, некогда произнесенные Львом Давидовичем: «А если нам скажут, что солнце светит только для буржуазии, ну что ж, товарищи, мы погасим солнце». Нет, Лев Давидович, зачем гасить солнце? Мы повернем его в нашу сторону, это разумнее… Вдруг я вижу в толпе группу сионистов. Их экстремисты близки к социалистам. Ну да, все верно: их газета меня не трогала уже несколько недель. Снова я вспоминаю о пророке Илии: его чудеса, выходит, никогда не кончаются! И я, маршируя, выкрикивая дежурные лозунги, посылаю молчаливую молитву самому политически подкованному, самому воинственному из наших пророков, благодарю его за то, что вмешался в наши дела. А еще я думаю об отце: я благодарен ему, что он научил меня молиться и говорить «спасибо». Если бы он теперь меня признал на фото, напечатанном в какой-нибудь еврейской или румынской газете, то, скорее всего, написал бы письмо, которое порадовало бы меня.
Негласная миссия в Гамбурге: я должен вручить некую сумму денег на нужды группы, занимающейся подготовкой бегства руководителя подпольной организации. Позже я узнаю, что речь шла о депутате Брандберге, друге Розы Люксембург. Три свидания в разных общественных местах: на вокзале, в порту, на остановке трамвая номер три. Опознавательные знаки, пароли. Сначала мной занимается гарсон из кафе, потом кондуктор трамвая. В конце концов я оказываюсь в ресторане, напротив самой обычной домашней хозяйки. Следуя инструкциям, кладу мой номер «Фолькише беобахтер» рядом с собой на скамейку. Деньги — там. Дальнейшее — дело дамы. Она подменяет газету, мы едим, не торопясь, не здороваясь друг с другом: два незнакомых клиента. Она уходит раньше меня. Украдкой слежу за ней глазами. Интересно, увидимся ли мы когда-нибудь еще? Мои собеседники меняются, а вопрос остается все тот же. Вспоминаю об Инге. Она, вероятно, занимается чем-то вроде этого. Сколько времени пройдет, прежде чем ее схватят? Идея: а не съездить ли в Берлин? На один день или на ночь? Сердце бешено колотится. Нет, приказы строги и неизменны. Запрещено встречаться с прежними товарищами, тем самым подвергая их ненужному риску. Я больше никогда не увидел домохозяйку из Гамбурга. Но несколько месяцев спустя встречаю у Пауля болезненного вида сгорбленного человека. Пауль меня представляет: «Это — он». Человек жмет мне руку, долго ее не выпускает из своей ладони, повторяет: «Я обязан вам жизнью, поверьте, обязан жизнью». А у меня только одна мысль: «Вот оно, счастье!» Это когда вам обязаны жизнью.
Ну да, в Париже я был счастлив. В той мере, в какой может быть счастливым еврей-активист и вдобавок поэт.
А еще было путешествие в Палестину. Незабываемый молниеносный нырок. Я прожил его очень напряженно (сказал бы даже: религиозно), от начала до конца. И от начала до конца отец не сводил с меня глаз.
Одним серым дождливым утром Пауль позвал меня в свой кабинет:
— Тебя Святая Земля интересует? Съездить туда не хочешь?
От волнения, причины которого пока и сам не понимаю, я молчу.
— Нам сообщают о серьезных событиях, о бунтах, — говорит Пауль. — Положение сложное, запутанное. Англичане, арабы, евреи… Вокруг них интриги, заговоры; тут все: религия, политика, финансы — клубок неясных обстоятельств. Мы пока ничего не понимаем, а хочется разобраться.
Далее Пауль, положив руку мне на плечо, понижает голос, чтобы речь его звучала мягче:
— Ты ведь постараешься быть на высоте, я имею в виду — сохранишь объективный взгляд на вещи? Не забудешь, что пристрастность опасна, она ослепляет, мешает делать правильные выводы.
Мое лицо то бледнеет, то краснеет: ну да. Я взволнован. Не отрицаю этого.
Службы Пауля занимаются практическими сторонами моего путешествия. Визы. Билеты на пароход. Мое прикрытие: специальный корреспондент очень дорогого журнала. Тема: «Картинки из жизни». Должен тратить, не считая, останавливаться в лучших отелях. При себе у меня будет значительная сумма, которую предстоит вручить некоему человеку в определенном кафе, когда тот представится как «потерявшийся кузен Вольфа».
Путешествие началось ужасно: только мы подняли якорь в Марселе, море словно с цепи сорвалось. Никогда бы не мог вообразить, что такой тяжелый пакетбот стихия может вертеть, точно коробок спичек. Корабль почти одновременно взмывал вверх и падал, с той же стремительностью валился с боку на бок, а я торчал где-то сзади, все время сзади, и меня норовила проглотить чудовищная пасть черной волны. Меня так рвало, что хотелось убежать, покончить с собой, раствориться в этом непроглядном бульоне.
Возвращение солнца и штиль, сменивший бурю, вернули мне вкус к жизни. Очарованный морем, я проводил целые часы на палубе. Мне нравится шелест волн, напоминавший бесконечную песню, люблю я и густую белую пену, приводящую на ум мысли о тщете всякой формы. Мир и глубина — вот чему нет сил сопротивляться. Смотрю и смотрю, пока это не начинает пугать меня самого: столь долгая сосредоточенность подозрительна. Тогда я удаляюсь, чтобы почитать или поговорить с австрийским землепроходцем, ученой француженкой-египтологом или эмиссаром из кибуца. Невероятно, как быстро все забывается: вчера я не помышлял ни о чем, кроме смерти, поскольку страдал, сейчас я размышляю о ней потому, что меня поглотили мир и покой.
Последнюю ночь я не сомкнул глаз. Перевозбужденный, смущенный, с бешено колотящимся сердцем начинающий талмудист из Льянова застыл на палубе, чтобы не пропустить момент появления Земли Обетованной, первый контакт с нею. Впрочем, и пассажиры, и экипаж, все были охвачены тем же нетерпеливым любопытством. Отовсюду до меня доносился чей-нибудь шепот или вздох. Наш пакетбот подплывал к берегу, затаив дыхание.
На восходе я увидел гору Кармель, впечатанную в пламенеющее небо, где глубокую голубизну местами пронизывали пурпурные прожилки. Красота городских строений меня поражала почти до физической боли. Вытаращив глаза, я вглядывался в горизонт, а отцовский голос напоминал: «Вот земля твоих предков, сынок, не думаешь ли ты, что надобно вознести молитву от твоего имени и во имя тех, кто уже не может ничего сказать?» Я спустился в кабину; покорившись воле Гершона Коссовера, его сын надел филактерии, с которыми никогда не расставался.
Хайфа, Тель-Авив, Иерусалим… Воспользовавшись услугами и посредничеством отдела международных отношений Еврейского агентства, я пересек страну, изучая драматическую в своем многообразии сложность ее положения. Мне нравилось беседовать с обитателями социалистических коммун, таких, как Дегания, Эйн-Харод, Гиват-Бренер. Я охотно провел бы там остаток своих дней. Однако там жили сионисты. Меня волновала судьба активистов, таких молодых, красивых, открытых, решительных, готовых к вооруженному сопротивлению в борьбе и с арабами, и с англичанами. Я удивлялся:
— Вас так мало, а вы рассчитываете их всех победить?
— Здесь история значит больше, чем статистика.
— Но это безумие! Чтобы сражаться, вам нужны люди, винтовки… На войну не идут с идеями и словами… Тора — полезная книга, но она не защищает от пуль!
— Вы рассуждаете в политическом аспекте. Если бы мы думали так же, то немедля перестали бы защищаться.
— Да вы просто безумцы!
Однако при всем том мне нравилось их безумие. Напротив, колониальная политика англичан меня возмущала. Настоящие империалисты. Они равно презирали и евреев, и арабов. Их забавляло натравливать одних на других. Что до их двоедушия и страсти к интригам, тут их учить уже было нечему. Их послушать, выходит, что евреи и арабы не могут обойтись без них, если хотят выжить. Уйдут они — и начнется сплошная резня.
В Иерусалиме я прогуливался в кишащих народом узких улочках Старого города, ища какое-нибудь напоминание, знак, свидетельствующий о давних временах. Мне нравились небо над кедрами, неизменные облака над куполами, неподвижные людские тени, подпиравшие стены лачуг и больших магазинов. Я влюбленно разглядывал погонщиков верблюдов и самих горбатых красавцев, отдыхающих у городских ворот. Любил муэдзина, чьи призывы к молитве и вере угасали вдали, а потом внезапно возвращались, будя во мне ностальгию. Но особенно я любил покрытые галькой крутые дорожки, ведшие к Храмовой стене. При последних шагах я уже не шел, а бежал. Там я встречал паломников, нищих, мечтательных мистиков, ищущих озарения. И присоединялся к ним, не ведая зачем. А они меня ни о чем не спрашивали, как и я — их.
Однажды ночью я увидел, как на небе надо мной вырос силуэт, потом некто уселся рядом и поздоровался. В полумраке, серебристом от лунного света, я узнал своего приятеля-сефарда Давида Абулезию. Он мне улыбался или строго оглядывал? Откуда он сюда приехал? Прилетел с неба? Мы пожали друг другу руки, и я, что глупо, чуть не расплакался.
— Ну, это естественно, — сказал Давид Абулезия. — Тут плакать хочется всем. Здесь и сам Всевышний оплакивает руины Своего храма и всего творения.
Мы встали и отправились бродить по окрестностям. Стояла прекрасная теплая погода, ветер поигрывал на склонах гор, шелестел в кронах деревьев и спускался отдохнуть в долину. Какая-то звездочка погасла. За стенами домов мужчины и женщины пытались истолковать смысл собственных встреч, а может, и нашей.
— Ну, что с Мессией? — спросил я у моего спутника. — Вы все еще его преследуете?
— Когда не он меня ищет, то я бегу за ним.
Но это была не единственная причина его визита в Палестину. Он хотел здесь присутствовать во время бунтарских выступлений.
— Мое место среди преследуемых братьев, — пояснил он. — Среди тех, кого толкают в пропасть. Я помешаю им туда упасть, я просто обязан сделать это. И знаю, как тут быть. Я — тайный агент. Составляю мое донесение. Кому? Да вы и сами знаете: Богу. Я спешу поведать Ему мои тревоги, указать, в чем опасность. Моя задача — нажимать на кнопку сирены. Я это делал в Германии, то же предстоит мне и здесь. Я этим занимаюсь везде, где бессмертному народу угрожает смертельная опасность. Ибо, к несчастью, это только начало.
Я содрогнулся:
— Начало чего?
— Не знаю. Быть может, искупления? Бурному расцвету мессианской эры, вероятно, будет предшествовать время необычайного страдания, как предрекают наши посвященные.
— Эти будущие мучения меня устрашают.
— Устрашают? Вы боитесь страданий?
— Страдание должно внушать страх. Но меня пугает еще и то, предвестником чего оно является. Оно нам говорит, что зло играет немалую роль в космической драме последнего искупления…
— И вы, поэт, думаете так же? Вот вопрос: те, кто причиняют страдание, а значит, несправедливость, то есть зло, могут ли они содействовать всеобщему спасению? Разве такое возможно?
Шагая по молчаливому, ушедшему в себя городу, слушая безумные речи моего странного друга, я не мог удержаться от улыбки. Я думал: этот ищущий приключений профессор-мистик, не ведая того, говорит, как истый марксист. Против собственной воли он мыслит как революционер. Пауль вот утверждает, что для спасения мира нужна ампутация. Чтобы осталась цела рука, необходимо отрезать мизинец. Старая метафора. Чем хуже, тем лучше. Чем больше льется крови, тем ближе мир. Но вот я не выношу вида крови. Если для того, чтобы Мессия явился в сиянии незапятнанного совершенства, ему должны предшествовать вопли убиваемых и убивающих народов, — пусть остается там, где был. А вот два моих друга его призывают, каждый со своей стороны. И при этом исходят из взаимно неприемлемых принципов. Бедный Мессия, сколько всего делают ради тебя и от твоего имени, то есть приписывая это тебе самому!
Мы расстались на рассвете. Старый город, распахиваясь, издал странный звук: словно злобно разорвали где-то полотно, укрывавшее большой балаган. Затем наступило долгое молчание, а после раздались иные звуки: хлопанье дверей, скрип железных штор. Топот упрямого мула, не подчинявшегося погонщику. Звяканье ведер разносчика воды. Потянулись запахи овощей и свежей выпечки. Прокрался мимо человек, опасливо жмущийся к стене: возвращающийся домой сторож, злоумышленник? Резкий материнский крик: «Ахмед, ты идешь, наконец?» И ответ ребенка: «Иду, иду».
Я рассчитывал вернуться в Иерусалим, но пришлось изменить планы: я отправился в Яффу, где «потерявшийся кузен Вольфа» сумел меня угадать в переполненном шумном кафе, между тем как я все делал для того, чтобы выглядеть, как турист. Быть может, именно мои старания меня и выдали.
Еще сюрприз: «кузен» оказался кузиной. Темноволосая, спокойная, просто одетая. Круглое лицо, плоский нос, черные, словно эбеновые, глаза. Явно сабра, чьи предки — откуда-то с Востока. Представилась:
— Зови меня Ахува.
Мы проглотили по чашечке крепкого горького кофе и прошлись по рынку — лучший трюк, чтобы оторваться от полицейского, если тому пришло бы в голову невероятное желание за мной проследить. Я напомнил:
— У меня для тебя конверт.
— Не здесь.
Как в романе про мидинеток, она привела меня в подозрительного вида отель, еще более неприглядный, чем тот, в котором жил я, осваивая Париж. Там я нанял комнату на несколько часов. Угодливый портье вручил мне ключ, подмигнув с мерзопакостной усмешкой. Войдя в номер, мы тотчас задернули шторы, а дверь я закрыл на два оборота.
— Вот теперь, товарищ, — сказала Ахува, — показывай, что там есть для меня. — И, дабы придать себе побольше суровости, прищурила глаза. — Ну же, товарищ.
Я вручил ей конверт с деньгами. Она опустила его в карман курточки.
— Посчитай сначала, — велел я.
— Я доверяю.
— Говорю тебе, посчитай.
Она вынула из курточки конверт, вскрыла его и пересчитала содержимое. Поскольку моя миссия закончилась, можно было бы распрощаться, но Ахува отсоветовала.
— Тот тип внизу, — предупредила она. — Что он подумает о тебе? И обо мне? Из простой осторожности нам следует остаться здесь как минимум на час… и сделать вид.
Не предложение ли это? Но она уточнила:
— Поговорим?
Я принялся ее расспрашивать о положении в стране, о компартии, о предстоящих событиях, об отношениях с сионистами, с арабами. Не такая образованная, как Инга, она выражалась яснее и проще, даже примитивней. Вся горела темным таинственным огнем, которому никто и ничто не смогло бы сопротивляться. Помани она хоть мизинцем, я бы забыл о Шейне и Париже, остался бы в Палестине. Я был уже готов порвать с Европой, броситься в новую авантюру, в новую любовь. Моргни она, я бы тут же горячо откликнулся. Но ничего такого не случилось. Наверное, у нее уже был тот, кого она любила. Или же я оказался не в ее вкусе. Она отвечала на мои вопросы, задавала свои, словом, вела себя по-приятельски — и все.
Через час, или два, или три я знал о ней главное. Жажда братства и любовь к справедливости привели ее в кибуц. Но затем под влиянием одного товарища стремление к более обширному братству, более возвышенным идеалам и всеобщей справедливости увело ее из кибуца. Теперь она на постоянной основе осуществляла связь между некоторыми еврейскими и арабскими секциями компартии. Что она думает о тех непростых событиях, что ожидаются в стране? Ахува была настроена скорее оптимистично:
— Англичане сеют ненависть, но почва суха. Ничего не взойдет. В решающий час и евреи, и арабы объединятся под руководством партии, чтобы дать им отпор.
— И еврейская кровь не прольется, Ахува?
— Не прольется. Ни еврейская, ни арабская, кстати, для меня между ними нет разницы.
Могла ли она предвидеть, что десять недель спустя во время кровавых восстаний в Хевроне на нее нападет банда арабских мародеров, вовсе не помышлявших о коммунистических идеалах и о братстве всех людей, и что они изнасилуют ее и убьют?
Но об этом я узнал только много лет спустя. В Советской России я встретил еврейского товарища из Палестины и спросил его, слышал ли он что-нибудь об Ахуве.
Такой он не помнил, но предположил, что у нее было и другое имя. Когда я ему ее описал, он воскликнул:
— Ах вот оно что! Ты говоришь о Ционе, но разве ты не знал, что…
Я не знал. Было много такого, о чем я не знал. Но я понял вот что (и написал об этом отцу): из моего путешествия на Святую Землю я вынес искорку от ее пламени, звезду с ее неба и слезу из ее памяти.
Я не прочитал всех нужных молитв и, разумеется, молился не каждый день, но, несмотря на это, отец мог бы гордиться своим посланцем.
Однако не все было так светло, имелись и облачка. Я на минуту забыл о них, но за все надо ответить. Теперь я могу об этом говорить без страха. Здесь, в этой крепости, что вам служит одновременно и храмом, и алтарем для жертвоприношений, гражданин следователь, я больше ничего не боюсь. Здесь жертвы требуют, чтобы о них была сказана правда. В любом случае речь идет о забытых и таких древних событиях, которые относятся к истории давно минувшей. Да позволено мне будет напомнить, речь пойдет о ваших и о моих предшественниках.
А где в то время были вы? Что делали? Большая парижская пресса много писала о знаменитых процессах, которые шли в Советском Союзе. Она вопила об их скандальности, о попрании правосудия, о грубой, непристойной лжи обвинений… Вот и теперь она что-то такое говорит о суде надо мной.
По просьбе Пинскера (это вас забавляет, да?) я ставил крикунов на место, я строчил одну за другой статьи, где провозглашал, что свято верую в советское правосудие. Я высмеивал возмущение «Паризер Хайнт», вышучивал и разоблачал их морализаторские пассажи: «Итак, вы защищаете своих недавних противников? Вас вдруг стала заботить их судьба, вы льете горькие слезы, ибо лицемерию вашему нет предела, ему подобно разве что ваше ослепление». Да, заварушка была та еще. Находясь в центре схватки, я кричал почти так же громко, как наши враги. А все потому, что, будучи новичком в такого рода делах, я пребывал в уверенности, что все кары заслуженны, тем более что обвиняемые заявляли то же самое. Великие герои революции не будут объявлять себя предателями, если это неправда. Пытки? Да что тут говорить: они не склоняли головы перед царской охранкой, терпели все невзгоды сибирской каторги и бросали вызов царским заплечных дел мастерам. Если б они были невиновны, они и сейчас не сдались бы.
Пауль не разделял моих убеждений. Теперь я могу это сказать, ведь его нет в живых. Пожив здесь, он был лучше осведомлен относительно тайн внутренней жизни СССР — тайн, непостижимых для посторонних. В разговорах с нами, своими сотрудниками, он, конечно, скрывал терзавшие его смятение и недоумение. Но иногда мы что-то подозревали. Мне случалось заставать Пауля в его кабинете, когда он сидел с каким-то опрокинутым лицом, уставясь невидящим взглядом в пространство. Потерянность этого добродушного великана была для меня невыносимой. Я тихо отступал и затворял дверь перед собой.
Но Пауль Хамбургер понимал, что я все подмечаю.
Однажды я застал его дома, в спальне. Пришел случайно, не позвонив, думая, что ежели он занят, то скажет об этом. Он сидел в одиночестве за столом перед бутылкой коньяку.
— Мне что-то гадко, — буркнул он, не глядя на меня.
Я ничего не ответил, не понимая, чего он от меня ждет.
— Мне что-то чудовищно гадко, — повторил он. — А тебе?
— Еще нет. А можно присесть?
— Очень хочется напиться, — настойчиво продолжил он. — А тебе?
— Еще нет.
Его пальцы ласкали бутылку, вертели ее в разные стороны, не открывая.
— Забавно, — устало вздохнул он. — Хочется напиться, а пить не хочется.
— У меня все наоборот: выпить хочется, а напиваться — нет.
Обычно он очень великодушен: смеется моим шуткам, даже если они того не стоят. А тут только пожал плечами.
— Не понимаю, — тихо промолвил он после долгой паузы. — А тебе все понятно?
— Понятно что? — уточнил я, хотя прекрасно знал, на что он намекает.
Но он взглянул на меня внимательно и строго, явно требуя прямого ответа:
— Отвечай: ты понимаешь? Да или нет?
— Думаю, что да. СССР — не рай. Там достаточно порядочных людей и подлецов. Порядочные требуют к себе внимания, с предателями следует расправляться.
— Значит, ты думаешь, что все, кого обвиняют, действительно виноваты? Так? Что все они — подонки, предатели, ничтожества, так?
Его голос уже почти гремел, и мне было не по себе, но я терпеливо отвечал выученный урок:
— А как мне думать иначе? Ведь они же признались.
Пауль взглянул на меня странно: смесь ужаса и снисходительности была в этом взгляде. Таким я его еще не видел.
— Между тобой и мной — большая разница. Ты слишком молод, чтобы понять… Я гораздо тебя старше, а из этого проистекает еще одно, не менее важное различие: не в пример тебе я кое-что знаю.
— Что, собственно?
Его рука потянулась к бутылке, чтобы налить в стакан коньяку, однако на полдороге остановилась.
— Это игра, Пальтиель. Жестокая, ужасная, но прежде всего — игра.
— Ну и что? Это еще одна причина не беспокоиться! Жестокая игра? Значит, скоро она прекратится…
— Но не для приговоренных, Пальтиель. А приговоренных я знаю. И приговоривших — тоже. Я их, понимаешь ли, знаю всех. — Тут он поднялся, сделал несколько шагов, потом схватил бутылку и продолжил: — Самое скверное здесь то, что либо одни, либо другие предали революцию. Любой ответ ужасен. И не оставляет надежды.
Меня гипнотизировала бутылка, которую Пауль вертел в руках, не решаясь откупорить. Он смотрел на нее, но уже не видел того, что в ней налито. Видел же он что-то другое, а что, до меня не доходило.
В этот вечер он говорил более открыто и прямо, чем когда-либо. А я вспомнил, что Шейна наверняка уже волнуется, так как я предупредил ее, что отлучусь всего на часок. Однако сейчас мне не уйти. Это ее насторожит. Она почувствует, догадается, что здесь произошло что-то для меня важное, побудившее задержаться. Но я же не могу покинуть друга, которому именно сегодня захотелось поговорить, открыться. Обычно Пауль никого не пускает в свою личную жизнь. О ней мы, его сотрудники, знаем не больше, чем в тот день, когда впервые повстречали его. Откуда он такой? Где родился? Женат ли? Что его веселит или огорчает? Он — высокопоставленный активист, более или менее открыто связан с общественностью, хотя некоторые свои функции хранит в сугубой тайне — вот и все, что мне известно. Каков он в личной жизни? Есть ли у него слабости? Сейчас он впервые заговорил о сокровенном. И я застыл на стуле, стал совсем маленьким, опасаясь, что он замолчит, когда заметит: я еще здесь, никуда не делся.
Вольф, Петр, Пауль — менялось имя, а вместе с ним — судьба. Вот что я узнал. И у меня перехватило дыхание: выходит, у нас с ним одни корни? Вольф — еврейский подросток из Восточной Галиции, бедность давала силы учиться, бунтарство — осознать себя. Запретные, опасные дружеские связи в Вене, где случайное знакомство заставило его окунуться в бурный и захватывающий мир конспиративных сходок. Он простился с прошлым и былой религиозной истовостью, с песнями в субботние вечера, когда окруженный шестью голодными детьми вдовец славил благосклонное к нему Небо. Простился с хасидским миром, где ученики и их наставники измышляют причины надеяться, верить, напевая молитвы о той же вере… Итак, да здравствует революция — та, что освободит все народы!
Школа переподготовки, нелегальные поездки, специальные стажировки, знакомство с системой тайных операций Коминтерна, затем — работа в так называемом Четвертом управлении Генштаба, то есть в разведке. Став Петром, Вольф оказывается в том главном нервном центре партии, что действует за пределами страны. Революция еще молода и чиста. Как, впрочем, и Петр. Самые невозможные мечтания кажутся выполнимыми, даже общеполезными. Больше не будет ненависти одних наций к другим, угнетения, правящих классов, прибыли, голода, стыда… Жизнь теперь — это дружеский дар, горячий призыв к солидарности… Петр знакомится с татарами, узбеками, влюбляется в белоруску и оставляет ее ради испанки. Вокруг кипит и пенится новый мир, где евреи дружат с неевреями, где каждая культура столь же ценна, как и другие, где все религиозные верования вызывают только смех — такой мир одаривал человека гордостью и силой. Поэтому, когда его в первый раз отправили на Запад, он воспринял это с благодарностью. И вот уже Пауль, посланник революции, отправляется в Германию, он наделен неограниченными правами. Ему позволено разрушить все, чтобы перестроить заново, все упразднить, начать с чистого листа. Ему кажется, что он получил право свергнуть с пьедесталов королей и богов во имя возведения памятников всему человечеству, тому, что пока еще живет в страхе и голодает…
«Вольф», «Петр», «Пауль» — легенда в трех действиях, она повествует о трех последовательных ипостасях одного идеала…
Пока он говорил, речь его все убыстрялась, становилась более резкой. Он почти задыхался. Описывал родную деревню, тамошних ремесленников, своего отца, совершенно беззащитного против нещадно обиравших его жандармов в касках и сапогах. Вспоминал, как он в последний раз праздновал День Всепрощения, как присутствовал на пасхальном седере. С огромным волнением повествовал о встречах с праведниками революции. Тут он, такой обычно ясный и холодноватый, буквально хмелел. У меня на глазах становился пьяным, так и не притронувшись к бутылке.
Более, чем когда-либо, я ощущал, как он мне близок.
— Ты ведь тогда не мог не почувствовать мощного очистительного дыхания мировой революции, — продолжал Пауль. — Это была ее заря. Рождение такого явления, широту которого можно сравнить только с его глубиной. Все приманки капиталистического общества — а для него все, что происходит, лишь игра — у нас считалось особым шиком отправлять на помойку. Награды, титулы, знаки различия — мы на них плевать хотели. Ты мог к любому из вождей прийти запросто. Взять, к примеру, Льва Давидовича: я ходил к нему в Военный комиссариат, минуя его секретаря. Он глядел на меня пронзительно, но дружески и спрашивал: «Товарищ, а ты, случаем, не читал вот этот превосходный роман?» Я цепенел: «Роман? Я? В такое время?» Земля горела под ногами, народные массы приходили в движение, а он хотел, чтобы я поговорил с ним о литературе! Ах, как я был горд! «Вот истинная коммунистическая гуманность, — думал я. — Простой коммунист встречается с одним из пророков, стоящих во главе армии, с одним из главных действующих лиц революции, и о чем они будут разговаривать? О романе, который я не читал по той простой причине, что не мог себе позволить читать какой-либо роман». Я ему так и сказал, а он спросил, какой у меня распорядок дня. Я объяснил: занятия по теории, политическое образование, практическая подготовка, языки, пропаганда… Он не скрывал своего недовольства. «Я должен по этому поводу сказать пару слов ответственным товарищам, — заявил он, качая головой. — Мы начинали наш путь с чтения. Нет никакого резона, чтобы ты действовал по-другому». И тут же он принялся, демонстрируя головокружительный полет мысли, объяснять, каким революционным потенциалом обладает литература, попутно сыпал названиями романов и театральных пьес, в скобках поминая музыку и изобразительное искусство. Самый прекрасный и сжатый из курсов, что я когда-нибудь прослушал… Между тем в это самое время он стоял во главе Красной армии…
Было видно, как много вынес Пауль из той встречи. Я ему позавидовал и чуть не признался в этом, но не успел.
— А знаешь, — продолжил он почти без паузы, — я ведь встречался и с товарищем Сталиным, когда он еще не был нашим вождем и любимым отцом-учителем. Пока что просто комиссаром, одним из многих. Занимался он нацменьшинствами, если я правильно помню, а не теми, у кого я работал, но мы встретились. Даже не знаю почему. Может, потому, что два первых подготовленных мной человека перед своим отъездом были приняты некоторыми из руководителей… Так или иначе, встреча состоялась. Молча попыхивая трубкой, Сталин разглядывал меня. Я стоял, покашливая, потея и стараясь скрыть что-то похожее на тошноту, напавшую на меня от страха. Наконец он заговорил: «Товарищ Петр, как тебя по-настоящему зовут?» Это было испытание, как я догадался: папка с моим делом уже лежала перед ним на бюро. «Вольф Исаакович Гольдштейн, товарищ комиссар», — отрапортовал я, вытянувшись, как телеграфный столб. «Ах да. Ты, Петя, стало быть, Вольф Исаакович… Скажи-ка мне, ты знаешь Библию?» Вопрос меня изумил даже больше даже, чем желание Льва Давидовича узнать, что именно я почитываю. «Нет, товарищ комиссар, мне неинтересно читать Библию, не желаю тратить время на эти байки, с помощью которых богатые норовят угнетать и обманывать бедных». — «Постой-постой, — покачал головой Сталин, выбивая трубку. — Ты ведь еврей, зовут тебя Вольф Исаакович Гольдштейн, и ты никогда не открывал Библию, чтобы почитать ее? Я вот учил ее в семинарии…» — «Ну конечно, товарищ комиссар, я ее открывал. Когда-то давно…» — «Ты открывал Библию, не читая?» — «Да, не читая». Сталин наслаждался моим замешательством. Запутавшись в ответах, я уже не знал, как выйти из положения. «Можно подумать, что тебе боязно признаться, — улыбнулся Сталин, выпуская новый клуб дыма. — Никогда не надо бояться. Не надо страхов при социалистическом режиме, товарищ Вольф Исаакович! Невиновным нечего бояться, разве не так, товарищ?» Это было верно, и как еще верно! В Советском Союзе только преступники, белогвардейцы-убийцы, те, кто с ностальгией вспоминали о белом терроре, испытывали страх, а ни у их жертв, ни у их победителей страха уже не было… Искривление линии, оппозиция, саботаж — эти слова падают, как на плаху топор. Соратники Ленина — изменники родины и революции? Двойные и тройные агенты? Разве это можно постичь? Если это правда — дело плохо. А если неправда — для нас все еще хуже.
Пауль говорил и у меня на глазах превращался в кого-то другого. Он становился Вольфом.
В конце концов не он, а именно я незаметно для себя принялся глушить коньяк рюмку за рюмкой. Я прикончил бутылку и в первый раз в жизни свалился на пол, как последний выпивоха на льяновской ярмарке.
И тут я тоже признаю свою вину, гражданин следователь, в том, что загулял в капиталистическом городе в компании со своим другом, будущим врагом народа, и упал, пьяный, перед ним.
Проходила неделя за неделей, но ни Пауль, ни я по молчаливому уговору не вспоминали об этой ночи. Пауль стал еще более молчаливым: его вызвали в Москву. Тут он не был одинок — Коминтерн отзывал своих агентов сотнями, со всего мира. Никто не догадывался, что это делается, чтобы их ликвидировать. А вот Пауль это предчувствовал. Он мог отказаться, укрыться во Франции у влиятельных друзей, но это было не в его духе. А кроме того, для отвода глаз его вызвали, не требуя незамедлительного возвращения, дали полтора месяца на подготовку. Это его несколько успокоило. Последние недели я с ним практически не разлучался. Он хранил спокойствие, я — тем более. Мне думалось: вот он съездит в Москву, встретится с начальством, получит объяснения и вернется. Тогда что-то пойму и я. Но при всем том где-то в глубине души меня терзал старый вопрос: «А я его еще увижу?»
Мог ли я догадаться, что вскоре после приезда в Союз он попадет в руки ваших людей, гражданин следователь, что его запихнут в тюрьму?.. В какую? Может, в эту самую?
Помню наш последний вечер. Ужин на двоих в одном из бистро Латинского квартала. Мы говорили о том о сем, о незаконченных делах, о контактах, которые следовало возобновить, о немецких товарищах, которых следует спасти, подыскать им убежище понадежнее. Мы как бы подводили итог, полностью довольные друг другом. Я спросил относительно его возвращения во Францию: останется ли он в той же секции? Останусь ли я с ним? Он ответил не сразу. Оглядел зал, бросил взгляд на улицу, проверяя, не наблюдают ли за нами, и почти беззвучно произнес:
— Один совет. Последуй ему и не задавай лишних вопросов.
— Какой совет, Пауль?
— Не жди моего возвращения.
— Что такое? Но…
— Надеюсь, ты понял. Уезжай из Парижа. Займись чем-то другим. Поменяй обстановку, среду.
Я сделал вид, что понимаю, но переспросил:
— Почему ты хочешь, чтобы я уехал? Бросить товарищей? А работу кто за меня будет делать, а?
— Ненавижу повторять. Я тебе дал совет. Если предпочтешь им не воспользоваться, тем хуже для тебя.
— Однако… Куда же мне податься, как ты думаешь?
— Как можно дальше. Так далеко, как сумеешь.
— Но почему, почему, Пауль?
Моя наивность бесила его. Пора бы уже понимать… Он долго внимательно смотрел на меня, решая, можно ли мне доверять, и наконец решился.
— Ты здесь слишком известен, — объяснил он. — Все знают, что мы близки. Что мы друзья.
Как сущий недоумок, я продолжал спорить:
— Ну и что, что друзья? Я горжусь нашей дружбой.
— Не надо так кричать. Сделай милость, последи за собой… Того, что известно мне, тебе лучше не знать. Надеюсь, что и не узнаешь: так для тебя будет лучше. Тебе повезло, ты официально не принадлежишь к тем службам, от которых я послан. Ты свободен в своих передвижениях, можешь уехать куда вздумаешь. Так уноси ноги!
Эти слова камнем упали мне на душу, и все там смешалось: как уехать? Снова? Когда? Чтобы делать — что? Бежать — от кого? А незримый кулак уже сдавил сердце: увижу ли я его снова?
— Ты, скорее всего, ошибаешься, Пауль. Тебе мерещится что-то не то… Переработал… Ты на пределе, я тоже…
Он опустил голову, пряча лицо: не хотел, чтобы я видел его сломленным. Только повторил:
— Следуй моему совету, Пальтиель. — Помолчал. Сглотнул ком в горле и сказал: — Вот что! Поезжай-ка в Испанию! Если смогу, я к тебе присоединюсь при первой же оказии. Там будет драка, не хотелось бы ее пропустить!
Он назвал мне имя связника, который мог помочь записаться в одну из интербригад, а затем перейти границу. Итак, увидимся ли мы? Себе самому я прошептал: если Богу будет угодно.
— О чем ты?
— Что мы еще встретимся.
Пауль помолчал и добавил:
— Если Богу будет угодно.
Вызубренные назубок псевдонимы и пароли — вот то, что мой друг Вольф-Петр-Пауль вместо благословения передал мне как прощальный подарок заодно с несколькими рассказами о своей юности.
«Вот слова…»
— Вот слова, — сказал Зупанов, сморкаясь. — Они не мои, а твои. То есть, я хочу сказать, они принадлежат тебе, они для тебя были написаны. Но как тут не смеяться: слова, вырванные у мертвеца, у самой смерти, чтобы их подарили, передали и удержали в живой памяти, теперь я поручаю немому! Неужели эта комедия никогда не закончится? — Сторож помолчал, потом заговорил снова: — Прочитай эти рассказы, сынок, и ты узнаешь, как жил и умер еврейский поэт и твой отец. Он, видишь ли, непохож на других, твой родитель. С ним трудно было. Особенно вначале, на первых допросах. Он нас так нервировал… Прямо руки опускались.
Ну, я-то — простой служака, понимаешь? Не более того. Стенографист. Записывал. Сидел в своем уголке, смотрел на гражданина следователя, то есть на полковника, одним словом — к черту все эти чины и должности, если они обозначают одного и того же человека. И на обвиняемых я смотрел, хотя они меня не видели.
Я был мебелью. Инструментом. Частью обстановки. И в ней растворялся. Этакий человек-невидимка, от которого ничего не укрывается. Так что когда я тебе говорю, что твой отец был не абы кто, можешь мне поверить, сынок.
Не то чтобы он продержался до конца: тот, кому это удастся, еще не родился. Ну конечно, мы его сломали, как и других до и после него. Но при всем том он был, прости меня за это выражение, редкой птицей, исключением из правила. Он сопротивлялся гораздо дольше, чем положено. Он оказался более стойким, чем самые твердые из политиков. А знаешь почему? Потому что не боялся смерти. Это было как раз то самое, что мы между собой называли «глупым и лицемерным поведением». Ведь все боятся умереть, это я тебе говорю. Люди созданы, чтобы жить, и хотят этого. Но твой отец от них отличался. Ты можешь им гордиться, сынок.
Я еще помню, как вчера, одну ночь… его тогда здорово отметелили. Он уже не держался на ногах. Весь опухший, в синяках и ссадинах… В общем, сам можешь себе представить. Тем не менее он сопротивлялся и не признавал уж не помню какого пункта обвинения. Просто отказывался подписать протокол допроса. Следователь предложил ему папиросу — они все так делают. Твой отец отказался. Все равно ему трудно было бы закурить: у него был не рот, а сплошная рана. Начальник спрашивал подследственного, делая вид, будто разжалобился:
— Почему ты валяешь дурака, Коссовер? Почему упрямишься? Ты же ничего этим не выиграешь! Зачем тебе новые страдания? Объясни мне.
Казалось, ему в самом деле стало любопытно. Твой отец догадался об этом и попытался выпрямиться:
— Хорошо. Я сейчас объясню.
Говорить ему было трудно: слова царапали язык и нёбо, приходилось глотать слюну и кровь.
— Я поэт, гражданин следователь, а еврейскому поэту приходится беречь свое достоинство.
И знаешь, сынок, я долго не мог прийти в себя, услышав эти слова. Впрочем, следователь тоже.
И вот еще что, ты слушаешь? Я стал больше уважать поэтов, а все из-за твоего крепкого папаши. Начал читать его стихи, даже их переписывать, чтобы тебе потом показать. Вот так-то, сынок. Твой родитель открыл для меня поэзию.
До того, видишь ли, у меня не хватало терпения на тех, кто корябает бумагу. «Как можно жить только словами?» — спрашивал я себя. Теперь знаю, что можно.
Другое открытие: из-за твоего отца я начал задавать себе вопросы, которые цеплялись один за другой. Как люди могут проводить всю жизнь, избивая себе подобных? Слыша их испуганные крики и хрипы? Как можно ложиться вечером, вставать утром, зная, что вся жизнь протекает между двумя предсмертными воплями? Ты будешь смеяться, сынок, я работал на следователя, чье ремесло — задавать вопросы, но в конце концов это твой отец научил меня их ставить.
Почему люди причиняют страдания ближнему, ты знаешь? Я видел, как заплечных дел мастера посмеивались от удовольствия, радуясь всякий раз, когда подследственный не мог сдержать стона. И мало того: я наблюдал служак, для которых все это было только работой, тем, что надо делать. Им приказывали бить, ну они и били. Приказывали размазать по стенке, они лупцевали жертву дубинками, чтобы та совсем потеряла разум. Они выполняли свою работу, не больше того. Так им полагалось по должности, им за это платили. И все же, сынок, хоть убей меня, но я больше не понимаю: как можно причинять боль? То есть, хочу сказать: как можно причинять боль тому, кто не может ответить, и притом без причины, я имею в виду — без личной причины? Не знаю. Не знаю, почему некоторые пытаются превозмочь страдания, а другие сразу поднимают руки? Почему одни убивают, а другие позволяют себя убивать? По правде говоря, я никогда не мог понять ни пытающих, ни пытаемых: мне не близки ни те, ни эти. Вот твой отец — другое дело. Я чувствовал, что он мне близок. Я тебе это как-нибудь в другой раз объясню. Но он становился мне близок. И даже, знаешь, он заставлял меня смеяться, это меня-то, который никогда в жизни не смеялся.
Ты меня слушаешь, на меня смотришь и злишься, признайся. Это ты зря. Я никогда не ударил задержанного, я только записывал за ними. И чувствую, что виновен, это нормально. Виновен, что видел зло, что стоял с ним рядом. Конечно, я мог протестовать, уйти в отставку, например, из-за какой-нибудь хвори. Но меня тут же бы ликвидировали: слишком много я знал. А я хотел жить. Всеми ногтями цеплялся. Я такой, сынок, я — как все. Я еще не придумал той штуки, что заменила бы жизнь. Смерти я боюсь, как все на свете.
А в самом начале твой отец (ты мне не поверишь, но это так) выглядел счастливым оттого, что оказался там, нос к носу со следователем, на пороге страдания и смерти. Поэты сделаны из особого теста. Может, они сами желают все испытать и познать?
Так вот, вначале он меня забавлял. Он еще был в полном здравии. С глазами, красными от бессонницы, это да, немного бледный, но и все. Держался прямо, на обычные вопросы отвечал уверенным голосом: имя, отчество, фамилия, профессия. Он забавлял меня, потому что… Вот, послушай: следователь спрашивает его, знает ли он, почему его арестовали. Твой отец отвечает, что знает. Следователь: «И почему же?» Твой отец: «Потому, что я написал стихотворение». Следователь чуть не упал со стула от смеха: ведь твоего отца собирались обвинить в саботаже, в подрывной деятельности, в измене, к его делу намеревались присоединить дела самых известных представителей еврейской литературы, а тут он выскакивает со своим стихотворением. «Где же оно? — интересуется следователь. — Его можно прочесть?» — «Нет, — отвечает твой отец. — Вы не сможете». — «Это почему же?» — «Потому что оно — в моей голове. Только в моей голове…»
Он часто потом возвращался к этим стихам, которые написал «в голове».
Твой папаша был крепкий орешек.
Помню, какой первый вопрос он сам задал следователю: «Где я?» Ты заметил, сынок, не «Почему я тут?». Это как раз спрашивают все задержанные, а где я? Потом он это объяснил: «Некоторых людей можно определить по их поступкам, а меня — по месту, где я нахожусь».
Я поразился, потому что он не мог этого знать: ни один из заключенных не ведал, куда его привезли. В какую тюрьму, в каком квартале. Даже город был им неизвестен.
Их ведь перевозили с завязанными глазами, они не понимали, где находятся, будто слепцы, лишенные привычного жилья.
На самом деле твой отец гнил в старой крепости нашего замечательного городка Краснограда, но это от него скрывали. Иногда ему намекали, что он в Ленинграде, Харькове или даже в Ташкенте. Однажды его сунули в один из крытых грузовиков, так называемый «черный ворон». И катали долгими часами со многими остановками, так что, когда его привезли назад в камеру, твой отец ее не узнал. Иногда следователя замещал другой полковник, выдававший себя за первого. Все эти игры затевались с целью привести заключенного в смятение и, вконец расстроив его разум, заставить относиться к себе с презрением. Я заносил перечни таких мероприятий на бумагу, конечно, того требовало начальство, но это важно было и для твоего отца. Муки голода, бредовые кошмары от жажды, раны памяти — я все это протоколировал. А знаешь, что было самым страшным? Молчание. Об этом и сам твой отец писал. Подожди, где это? Вот, возьми. Видишь?
Испытание молчанием, пытка молчанием. Спрашиваю себя: кто это придумал? Сумасшедший? Поэт безумия как высшего из наказаний?
Ребенком в Белеве, подростком в Льянове я жаждал молчания. Мечтал о нем. Молил Бога, чтобы он прислал мне немого наставника, который приобщил бы меня к высшей правде, к божественном слову — без слов. Я проводил часы рядом с учеником-хасидом из Ворки, где ребе превратил молчание в целую систему: верные последователи стекались в Ворку, чтобы присоединить свои молчания к безмолвию наставника. И позже под началом реб Мендла-Молчальника мы пытались выйти за пределы языка. В полночь, закрыв глаза, с лицом, обращенным к объятому пламенем алтарю Иерусалима, мы вслушивались в песнь его молчания, потому что оно — одновременно небесное и близкое, земное, в нем не умирают ни звуки, ни ушедшие мгновения жизни.
Однако ни один учитель не предупреждал меня, что молчание может быть губительным, может доводить человека до лжи и предательства, ломать его и перетирать в порошок, а не сплавлять разломанное в нем. Никто не предупреждал, что оно способно само стать тюрьмой.
Вы меня научили большему, чем мои наставники, гражданин следователь. В этом изоляторе (название подобрано точно: здесь чувствуешь себя изолированным не только от всего человечества, но и от себя самого) я дошел до тех высот самосознания, к каким уже давно и не стремился.
Поначалу я там хорошо себя чувствовал, мне там нравилось. После криков, побоев и надобности часами стоять молчание кажется убежищем. Оно тебя заботливо принимает, укачивает, обволакивает.
На третьем этаже я, случалось, падал в обморок, чтобы ускользнуть от вопросов, подзуживаний, оскорблений, ругани и уже не чувствовать плевков. Каждая фраза распухала, давила на мозг изнутри черепа, и вскоре это давление становилось нестерпимым. Малейший звук, даже моргание, отзывался во мне, как удар в железный барабан. Я уходил из тела, погружаясь в небытие. Мне казалось, что каждый предмет в этом пространстве движется, танцует в ярмарочном гаме: лампы изрыгают проклятья, перья трещат, занавески мычат, стулья носятся по комнате, словно на тонущем корабле.
Меня перетаскивали, как мешок с ветошью, из коридора в коридор, волочили по лестницам, потом бросали в эту камеру. «А теперь — ни слова, понял?» Последний человеческий голос, его эхо. А затем — ничего. Само время останавливается. Земля не вертится, собаки не лают. Звезды вдалеке гаснут. Человечество замирает навсегда. А там, наверху, неподвижный Бог на троне молчаливо судит умолкнувшее творение.
Когда я пришел в себя, мне на секунду показалось, что всех живущих на земле поразило неведомое проклятье. Они потеряли дар слова. Сторожа в специальных тапочках скользили по коридору. Через окошки и глазки в двери они объяснялись исключительно знаками, приказывая встать, лечь, есть. Дыхание внешнего мира замерло. Мои старые и новые соседи, люди смелые или робкие, перестали скрестись в стенки или глухо стонать. Ничто и нигде не имело голоса. И тогда безраздельно воцарилось отчаяние. Я понял, что молчание здесь стало пыткой более утонченной и жестокой, чем часы допросов.
Молчание воздействует на чувства и нервы, оно выводит их из строя. Опаляет воображение, сжигая образы, ослепляет душу, погружая ее в ночь и смерть. Философы заблуждаются: убивает не слово, а молчание. Оно умерщвляет душевный порыв и страсть, само желание и воспоминание о нем, поглощает все в человеке, воцаряется безраздельно, превращая его в своего раба. Ибо раб молчания — уже не человек.
Однажды (не ведаю, днем ли, ночью?), не выдержав, я заговорил, начал беседовать с самим собой. Мгновение спустя открылась дверь, и надзиратель знаком приказал мне прекратить. Я прошептал: «Не знал, что это запрещено!» Хотя на самом деле я знал, но хотелось услышать, как кто-то произносит эти слова; мной овладело неукротимое желание уловить звук человеческого голоса, не важно чьего: своего или тюремщика… Но надзиратель не поддался на эту уловку. Он наказал меня, привязав к тюфяку толстой веревкой, и его угрожающий указательный палец был красноречив: не начинай все сначала, а то… И вот целый день, и ночь, и еще день я оставался привязанным, а меня душили крики, распиравшие грудь. Однако я начал (сначала не из героизма, а потому, что был уже на грани: молчание грозило меня раздавить) напевать — очень тихо, но все же не совсем беззвучно. Дверь распахнулась совершенно бесшумно, вошел надзиратель, недовольно качая головой, и залепил мне рот пластырем. Если так будет продолжаться, подумал я, Пальтиель Коссовер скоро превратится в мумию. Ну, тем лучше. Воображу, что умер.
Да только в моем воображении мертвые не молчат. Они говорят, они взывают к нам. Убитые евреи из Белева и Льянова, те, кто пали в Испании, мужчины и женщины из забытых или сожженных кладбищ — они молят, поют, жалуются: как им заткнуть рты? Как объяснить им, что из-за них я рискую новыми наказаниями?
Однажды тюремщик застал меня, когда я смотрел на стену, качая головой, — и новая кара: мне дали понять, что говорить со стеной не дозволено, даже мысленно. Я должен был приучить себя к тишине, ненарушаемой изнутри: теперь моя мысль и тело — едины. Никаких диалогов, споров, воспоминаний, брошенных вызовов. Я представлял себя стенающим, смотрел, как все во мне агонизирует, вопит и рыдает: образы перестали превращаться в слова.
Воркский ребе ошибается. Он говорил, что самый пронзительный крик — тот, что сдерживают. Нет: это тот, которого не слышат. Только видят.
По мере того как шло время (а шло ли оно в действительности? И не издает ли оно, протекая, какой-то уловимый ухом звук?), мои страдания становились все нестерпимее. Я не знал, что можно умереть от молчания, как умирают от боли, физических тягот, усталости, голода, болезни и любви. Но тут я понял, для чего Бог создал небо и землю, а потом и человека по Своему подобию, наделив его правом и способностью выражать счастье, тревогу и боль.
Всевышний боялся молчания. Он — тоже.
Однако же, сынок, твой отец преодолел это испытание.
И благодаря гениальной идее, пришедшей в голову следователю, который имел честь быть моим начальником, Пальтиель Коссовер познал некоторое подобие счастья. Глупо, знаю, разве можно быть счастливым в тюрьме? А ты спроси у тех, кто там гниет, и немало окажется таких, кто тебе ответит: где еще человек может жить счастливее, чем в тюрьме?
Таково самое серьезное испытание узника: пытка счастьем. Следователь сумел этим воспользоваться, и твой отец, малыш, попал в западню. Станешь ли ты его из-за этого меньше ценить? Если да, будешь неправ. Великие личности — это все напоказ. Благодаря пытке, возведенной на пьедестал продолжателями самого Владимира Ильича, на протяжении трех десятков революционных лет отшлифованной в ходе практического применения, продуманной философами и учеными, специалистами этого дела, наша система всегда берет верх над теми, кто сопротивляется.
Тамошним умельцам легко удается расколоть бывшего наркома, свергнутого большого начальника, который впал в немилость вождя. Они знают, как преодолеть недоверие политиков, поколебать веру людей религиозных и заставить их всех давать показания. А я их повидал, малыш! Вчера они были знамениты, обладали властью, сегодня они падают на колени, хнычут, повторяют приготовленные для них речи, даже не понимая, что не они сами их сочинили.
Но не твой отец, как я уже говорил. После трех дней и ночей бессонницы, трех ночей или трех месяцев тревожного ожидания следователь подбрасывал ему какую-нибудь фамилию, как наживку, чтобы начать разговор. А твой отец всегда отвечал:
— О ком это вы, гражданин следователь, о живом или о мертвом? Я помню только мертвецов.
И тогда мой начальник, тот еще садист, вынужден был сдерживаться, чтобы не убить его на месте. А твой отец был упрям, как бык, его с места не стронешь! Чтобы не ступить на скользкую дорожку признаний, отстаивая невиновность, он сопротивлялся с самого начала. Допрос тянулся и тянулся. Надеялся ли он спасти свою шкуру? Он был слишком умен и прозорлив, чтобы не понять: с признанием или без его судьба решена. И предстоит встреча с «работником четвертого подвала». Однако он сопротивлялся. Уникальный случай в нашей истории: он один выявлял ошибку в отлаженной пыточной системе, и этот факт от него не ускользал. Чтобы успокоить следователя, которого трясло от злости (а мой бедный начальник был уже близок к нервному истощению), твой отец однажды ему заявил:
— Почему вы так нервничаете, гражданин следователь? Потому что я осмеливаюсь противопоставить свою волю вашей? Но вы уже одержали столько побед! Назовите меня исключением из правил и переверните страницу.
— Не могу.
— Вспомните всех, с кем вы уже справились, и мой случай покажется сущим пустяком.
— Не имею права. Из-за тебя все остальные случаи больше не имеют цены.
И тут под грязной, липкой бородой твоего отца мелькнуло что-то вроде улыбки.
— Это мне напоминает Книгу Эсфири.
— Эсфирь? Кто такая? — встрепенулся следователь, счастливый, что вытянул из подследственного хоть какое-то имя. — Она написала книгу? Где она живет?
— Не туда смотрите, гражданин следователь, Книга Эсфири — это из древней истории.
И он начал нам рассказывать о старом царе, его советнике Амане, о красивой еврейке… Почему Аман так ненавидел Мардохея? Послушай, как объяснял это поэт, твой отец:
— Потому что этот одинокий еврей был единственным, кто отказывался его приветствовать. Аман так прямо и сказал: «Когда я вижу, как он стоит, прямой и надменный, перед его упрямством все почести, что мне оказывают другие, теряют всякую цену».
Тут твой отец прервал свой урок из библейской истории, облизнул губы и завершил:
— Но вы-то, гражданин следователь, вы-то живете не в старинные времена, а сегодня. Воспользуйтесь уроком Амана, которому так не повезло, подумайте о его конце… Но прежде всего подумайте о его победах и оставьте мне мою…
Ты не представляешь, сынок, как он нас злил! Мы готовили материалы для суда, а он нам морочил голову своим Аманом!
Но мой начальник все-таки одержал верх. Я тебе сказал, каким образом, но ты, конечно, подумал, что я преувеличиваю… вышиваю по канве… А я ничего не придумываю, сынок. У меня профессия такая, я весь теперь под нее приспособлен: что ни начну, у меня выходит, как милицейский рапорт. Только факты, и все. Ну, так слушай: следователь призвал себе на помощь его писательский талант… Ты понял, сынок? Сила твоего отца была в его таланте, в том, как он писал. Вот начальнику и удалось превратить его талант в слабость. Был бы твой отец простым рабочим или служащим, он бы не уступил. Впрочем, конечно, его бы и не арестовали… Но все это не помешало тому, что следователь его подловил в конце концов. И хорошо подловил. Перехитрил твоего родителя мой начальник. Однажды ночью после особенно долгого и утомительного допроса он изобразил усталость и обронил:
— Все. Сдаюсь. Ты силен. Сильнее, чем я думал. Ни один из наших приемов ни к чему не привел. Тогда вот что: хочу сделать тебе предложение. Ты писатель? Так пиши! Что угодно и как угодно. Вдобавок — когда угодно. Обещаю больше тебе не надоедать. Не хочешь говорить о живых? Очень хорошо. Будешь писать стихи? Еще лучше. Мне просто нужно чем-то заполнить твое дело. Чтобы я мог сказать вышестоящему начальству: «Видите, он пишет свою исповедь».
Тут он дружески улыбнулся, но твой отец был уже слишком измучен, чтобы что-нибудь понимать. Тогда следователь подсказал:
— На твоем месте я бы написал историю своей жизни. Почему бы и нет, если подумать. Какая удачная мысль для писателя! Я предоставлю тебе время и средства… Какой автор, достойный так называться, откажется от подобного предложения?
Хорошо сыграно, гражданин начальник. Браво! У Пальтиеля Коссовера было слабое место. И его нашли. Твой отец, совершенно сбитый с толку, дал себя провести. Я на него молился, а он повел себя, как тряпичная кукла. Писатель в нем поддался искушению писательства, таинственному зову глагола. Человек хотел быть цельным, несокрушимым, а вот поэт дал слабину.
В камеру принесли карандаш и тетрадки. Да, так и было: прямо на дом. Твой отец, все еще осторожный, опасаясь новой хитрости, не прикасался к ним целую неделю. Но слова просились наружу: те, что еще не родились. И он принялся писать. Сначала один невинный стишок, потом другой. Размышление об одиночестве. Другое — о дружбе. Затем письмо к жене. И послание к сыну. Наконец — дневник, который он назвал: «Мое завещание»… Вот этот, который мы сейчас читаем, сынок. Будь покоен: я его прибрал к рукам (однажды расскажу как и почему, но это уже другая история).
Твой отец все писал, и написанное имело сумасшедший успех: следователь больше ничего другого не читал. Каждый вечер ему приносили исписанные страницы. Он их изучал, словно речь шла об исповеди главных людей века. Делал пометки, сопоставлял имена и даты, давал читать куски то одному, то другому, кому считал уместным, передавал мне, чтобы я относил их в сейфы, на которые никто не может, да и не хочет покуситься.
Вот, например, записи, касающиеся Вольфа-Петра-Пауля, обошли многие службы. Поскольку там упоминался Сталин, дело спешно представили Абакумову, а тот лично переправил его Берии. Тот потребовал дополнительных расследований, а для начала — ареста «за недостаток бдительности» Эрманского, ответственного сотрудника НКВД, работавшего в Париже в тридцатые годы. Ты не можешь себе представить, сынок, какой переполох подняло у нас это грязное дело. Наши органы никак не могли изловить эту скотину Эрманского. Его искали во всем социалистическом лагере, его вызывали, за ним посылали всюду, где он мог оказаться, и каждый день приходилось докладывать разъяренному Абакумову, что Эрманский неуловим. Лишь несколько недель спустя все поняли почему: его уже ликвидировали в Париже из боязни, что кого-нибудь предаст. Исполнителем оказался его помощник, тоже наша фигура. Ну да, мы приглядывали и за наблюдателями. Такое было правило: палачи кончали, как их жертвы, — пулей в затылок. Бессмертных и среди них не было.
Иногда на твоего отца находило вдохновение, и он производил на свет какой-нибудь гимн, который я читал с удовольствием: от стихов в голове появлялись новые мысли. Я не всегда там, в этих стихах, все понимал. Но при всем том они мне нравились. А вот начальника моего очень злили, он начинал брюзжать. Однажды, если хочешь знать правду, во мне все перевернулось. Твой отец написал философскую поэму, я там не понял ни единого слова. Следователь тоже ни бельмеса не разобрал, но автора все-таки поздравил. А твой отец внезапно отвернулся, словно хотел спрятаться.
— Что стряслось?
— Ничего, гражданин следователь.
— Ты захворал?
— Да нет. Только… Мне больно. Я все понимаю… но мне плохо. Мой сын… Мой сын никогда меня не прочтет.
У меня никогда не было сына, но тут я почувствовал, как какая-то железная лапа сжала мне сердце. На глазах выступили слезы (а до того я никогда в жизни не смеялся и не плакал). Вот тогда я и решил заимствовать страничку там, другую — тут и прятать их в своем шкафу, где сам черт не стал бы искать. Я их хранил просто так, на всякий случай.
А начальник мой, вот хитрая бестия, попытался успокоить твоего отца.
— Писатель, — говорил он, — когда пишет, не должен думать о своем читателе. Только об истине. А значит — пиши правду, Пальтиель Коссовер, и однажды твой сын будет тебе благодарен.
Вот так твой отец приобрел по крайней мере двух усидчивых читателей. Мне нравились его истории, а следователь выискивал имена. Перед тем как убирать тетради, я выписывал эти имена, даже завел для них особую картотеку и держал ее всегда наготове: Инга, Пауль, Трауб, Пинскер, потом известные и неизвестные поэты из Советского Союза… все к тому времени бывшие, как и он, в тюрьме.
И значилось в той картотеке имя, приводившее нас прямо в бешенство. Мы всякий раз готовы были завыть, когда наш поэт, родитель твой, его упоминал, причем с наслаждением. Я говорю о том невероятном и невозможном субъекте, который завел обыкновение неожиданно появляться в самых странных местах: на одесском рынке или в парижском борделе. Ты уже понял, о ком я говорю: это Давид Абулезия, если только он сам не выдумал это имя.
Знал бы ты, сынок, сколько агентов мы послали по его следу! Те рыскали недели и месяцы, не находя ничего: ни пылинки. Абакумов собственноручно подписал ордер, где стояло: похитить, привести, представить, чего бы ни стоило… Он, Абакумов, предполагал, что здесь налицо крупная интернациональная агентурная сеть, нити которой держал в руках дружок твоего отца. Что его пособники есть даже в самом Кремле, близко от Самого… Но сколько ни старались наши службы, как ни изощрялись — ноль. Давид Абулезия смеяться хотел над всеми на свете, а над нами здешними — вдвойне.
А ведь знаешь, он устроил так, что оказался рядом с твоим отцом аж в Испании! И гражданская война ему не помешала!
Завещание Пальтиеля Коссовера (Продолжение)
Я давно знаю эти места, небо, крепостные башни, стены в городе, дворики, деревца. Это ощущение будоражило, навевало видения, не отступало.
В одиночку или вместе с приятелями я прогуливался по Барселоне после дней военной подготовки в Альбасете, и весь холмистый городской пейзаж казался мне до удивления знакомым. Когда же я впервые испытал ту смутную ностальгию, по приезде или уезжая? Я слонялся по улочкам, готовый остановиться перед окном и заговорить с женщиной, когда-то мне уже улыбнувшейся: несколько веков назад. Я бродил по кладбищам, моим излюбленным вехам, и разбирал полустертые иудейские надписи, имена, даты рождений и смертей, они напоминали мне о собственном прошлом, о моей истинной жизни.
Жалко, что родителям нельзя написать, где я: мне запрещено им сообщать, что я — в интербригадах. Мои письма я передаю эмиссару, а он увозит их во Францию и отправляет из Парижа. Официально мой адрес — квартира Шейны Розенблюм. И я не могу рассказать отцу об Испании, какая жалость!
В детстве я учил историю испанских евреев: поэтов, философов, ученых, служителей культа во времена их расцвета, а затем и невзгод. Мне нравилось то время. Теперь я вновь обретал Абулафию из Сарагосы с его мессианскими откровениями, Иегуду Галеви с его поэтическим видением мира, Шмуэля ха-Нагида с его окружением, дона Ицхака Абрабанеля с его утверждением веры.
Я видел себя среди моих братьев, когда их принудили к выбору между изгнанием и отречением, я избирал себе место и среди уезжавших, и меж остающихся, принимал их всех: одни делали меня грустным, другие — гордым, и оба ощущения обогащали душу. Я здесь чувствовал себя дома, как в Льянове.
И эта война — ужасная, жестокая, но властно увлекательная — тоже была моей, причем больше, нежели я мог предположить.
Если всякая бойня — безумие, то братоубийственная гражданская война — худшее из всех. Она дальше прочих заходит в жестокости, уродствах и абсурде. Это как человек, с ненавистью истязающий собственную плоть: он убивает себя, чтобы извести врага в самом себе.
Да, я бы очень хотел поговорить со своим отцом. Сказать ему, что еврей во мне имел более старинную и прочную память, чем коммунист. Коммунист перед талмудистом отступал. Во время ночных ожиданий на передовой или в тылу, в часы долгих армейских бдений в Толедо, Кордове, Мадриде или Теруэле я размышлял о еврейских певцах Золотого века чаще, чем о марксистской идеологии. Мое первое стихотворение, родившееся под неспокойным испанским небом, было посвящено Аврааму Абулафии, несчастному псевдомессии, который, не сумев заставить своих собратьев признать его богоподобие, отправился в Рим попытать счастья при папском престоле — замышлял обратить Папу в иудейскую веру: ни больше ни меньше.
Папа Римский? Почему Папа Римский, ответь мне, невинный мечтатель, Бедняжка Авраам, почему? И еще скажи-ка мне, брат: Что, если бы ты преуспел? Предположим, что Папа выступит вместе с Иисусом Навином против Иисуса Христа, значит ли это, что ты победил? Просто в мире окажется на одного иудея больше — и ничего кроме. А этого иудея совсем другой Папа Римский преспокойно пошлет на костер. (Перевод с идиша.)А однажды утром на развалинах кладбища (много серого на грязно-желтом фоне) я увидел могильный камень, надпись на котором заставила меня содрогнуться: «Пальтиель, сын Гершона, рожденный в пятнадцатый день месяца кислева 5218 года возвратился к своим предкам в седьмой день месяца нисана 5278 года»…
Нам, евреям, все кладбища кажутся семейными.
Я напрасно боялся, что Шейна устроит драматическую сцену, когда я ей объявлю, что ухожу на войну. Она не разразилась рыданиями, не стала угрожать самоубийством, не прижала меня к груди, упрашивая остаться. Напротив, она объявила, что горда и восхищена моей решимостью.
— Ты напишешь там стихи! — возбужденно выпалила она. — Потом прочтешь мне их, и мы займемся любовью.
— А если я не вернусь?
— Всегда найдется кто-то, чтобы их мне прочитать… и заняться потом любовью, — смеясь, парировала она, притягивая меня поближе, чтобы я мог полюбоваться ее губами.
Она купила мне рюкзак, нижнее теплое белье, рубашки, носовые платки и (это был ее пунктик) трубку.
— Но я же не курю трубку, Шейна, — воспротивился я.
— Поэт ты или кто? Когда поэты идут на войну, они всегда курят трубку, понятно?
Мы тщательно прорабатываем план, благодаря которому она могла бы отсылать мне письма и переводы моих родителей. Увижу ли я ее снова? «Непременно, Шейна, всенепременно. После войны, после победы». Мы обмениваемся обычными для такого случая пожеланиями и обещаниями — и вот дождливым вечером я оказываюсь на вокзале Аустерлиц.
Прежде чем сесть в «волонтерский поезд», вспоминаю свой отъезд из Берлина: как и там — на платформе никого, кто пожелал бы мне доброго пути.
Купе было набито народом, но я проспал всю ночь. Приехал в Перпиньян. Снова подозрительная гостиница. Видимо, мне суждено никогда не увидеть шикарной обстановки.
Мне не разрешалось выходить, разговаривать с завсегдатаями, привлекать к себе внимание, давать повод кому-нибудь взять меня на заметку.
Забавный сюжет для стихотворения: мои предки бежали из Испании, я в нее возвращаюсь…
Написал письмо отцу, сообщив, что чувствую себя исключительно хорошо. «Как Бог в Париже» — так говорят в Одессе, добавляя, что в самом Париже это звучит иначе: «Как Бог в Одессе».
Проводник появился в гостинице незадолго до полуночи. Его клиентов там набралось человек двадцать, из коих — две медсестры, один американец (он видел мое фото в нью-йоркской коммунистической газетке), а еще немцы, австрийцы, один британский журналист… Среди нас имелись бывшие солдаты, инженеры, специалисты-подрывники. И один поэт.
Проводник ориентировался в Пиренеях, как я — в льяновском садике моего отца. Каждая тропка, ручеек, выступ скалы — ему все это было знакомо и близко. Он точно знал, в какую минуту появятся пограничники и где это будет; казалось, он предугадывает, о чем они собираются говорить и в какую сторону свернут, чтобы облегчиться. За пять минут мы перешли границу. Там за дело взялся другой проводник и сопроводил группу в лагерь у Альбасете, где нас для начала рассортировали по навыкам, желаниям и способностям рекрутов. Мне предстояло начинать с нуля. Профессии у меня не имелось, а как боец я не стоил ломаного гроша. Поэтому меня направили в лагерь «Ленинград» у Барселоны, где учили обращаться с легким стрелковым оружием, бросать гранату так, чтобы тебя не подстрелили, и коммунистической методике ползти под огнем все вперед и вперед, никогда не отступая. Я из кожи вон лез, чтобы Санчес (так меня теперь звали) себя не посрамил, но инструкторы, вскоре выбившись из сил, вынуждены были признать очевидное: я неловок, к бою непригоден и не рожден для этой благородной профессии. Посему меня направили к тем, кто занимался «пропагандой и культурой».
От этого лагеря, как и от всех остальных, что давали мне пристанище во время моего пребывания в Испании, у меня осталось множество хороших и грустных впечатлений. Все там либо воспламеняло меня, либо подавляло. Товарищество, смелость, взаимовыручка этих мужчин и женщин, покинувших свои семейные очаги, чтобы защищать землю свободы, дают мне основание гордиться, что я их знал: об их душевном величии еще не все сказано. Врачи и таксисты, университетские преподаватели и наемные работяги с виноградников, скептически настроенные интеллектуалы и идеалисты-рабочие, романтического склада девушки и серьезные, преданные делу военные — все они приезжали из далеких и близких стран, чтобы помешать Франко растоптать красоту и замарать грязью благородство этого народа, влюбленного в солнце и в самопожертвование. Все, от коммунистов до анархистов, обращались друг к другу на «ты», помогали друг другу, делясь решительно всем. И все пели. У лагерных костров и в сараях, в одиночку и хором, фламенко и русские песни, по-французски, на идише, по-английски, все пьянели от разговоров, забавных баек, от надежды. Казалось, сама история мобилизовала их на борьбу с варварами, все хотели быть сильными и чистыми, как праведники в старину, все желали освятить то дело, во имя которого убивали и умирали, ну да, гражданин следователь, вы слишком молоды, вы не можете знать… В то время еще находилось место надеждам и дружбе.
Однако… оставались еще ужас и тоска — их тут было больше, чем в предыдущих войнах. Эта война замыкала все в кольцо: шла самоубийственная бойня, народ сам себя истреблял. Конечно, существовали принципиальные различия, разные верования, идеалы: наши единомышленники сражались за человеческое достоинство, а их противники — за рабство разума. Но зверства и с одной стороны, и с другой было поровну.
Около Кордовы в деревне, вновь отвоеванной нашими, я видел, что фашисты сделали с пленными: там в Народном доме лежали непристойно обезображенные мертвые тела. Еще долго они мне снились, а когда я был рядом с женщиной, всякое желание пропадало при одном воспоминании об этой сцене. Оскопленные мужчины, женщины со вспоротыми животами, трое бойцов, опущенных в колодец вниз головой с ногами, привязанными к перекладине. Ничего более тошнотворного я в жизни не видал. И никогда еще не испытывал такой ненависти.
Там были люди, закопанные в землю по самые глаза, трое пленных, повешенных на ветви одного платана, были и другие, доведенные до безумия жаждой или болью. Фашисты забавлялись с жертвами, прежде чем их добить. Унизительные, садистские забавы, продолжающие мучения несчастных уже за пределами смерти.
Как хороший пропагандист, я объезжал центурии и бригады, моя ненависть очень распаляла людей. «Наше дело — правое, — восклицал я, — ибо дикость наших врагов заставляет человека стыдиться своей гуманности!»
После таких слов наши лоялисты и сами не проявляли излишнего великодушия. Разрушенные церкви, распятые священники, четвертованные монашки — все это я тоже видел. И никогда не забуду.
Помню церковь в Паломе, где-то на землях Теруэля. Статуя Богородицы на земле, рядом с ней — мертвая молодая женщина с задранной юбкой и раздвинутыми ляжками. Возле нее — другая лежащая статуя. И еще изнасилованная женщина. И так — от входных дверей до алтаря.
При всем том интернациональные волонтеры вели себя с достоинством. Быть может, потому, что в их рядах насчитывалось немало евреев? А евреи, по-видимому, неспособны совершать некоторые безнравственные действия, даже когда речь идет о мести. Так я думал. Вероятно, Штерны, Гроссы, Френкели и Штейны, приехавшие из местечек, разбросанных по Венгрии, Румынии или Польше, показывали пример милосердия в обращении с побежденными. Они никогда не приписывали собственное отвращение к жестокости своему происхождению, скорее — марксистской идеологии. Но я лично уверен в том, что говорю. Я знаю это. Ведь на красных испанцев, тех, кто воевал в так называемой красной милиции, идеология не оказывала никакого действия. При полном моем к ним уважении, гражданин следователь, при всех своих коммунистических достоинствах они позволяли себе те же палаческие выходки, как и их противники. Военно-полевые суды, коллективные приговоры, пытки, склонность к бесчинствам… кровь стынет, как вспомню.
Ну да, гражданин следователь. С обеих сторон исповедовался отвратительный и унижающий человека культ, ему приносили в жертву людей. Боевые кличи отличались друг от друга, но результаты походили. «Воспрянь, Испания!», «Враг не пройдет!» — слова, пропитанные ненавистью, кровью и смертью.
Впрочем, в бою наши товарищи были восхитительны. Геройски вели себя под огнем. Один шел против десяти, с ружьями против пулеметов, с пулеметами против пушек. Они решались на масштабные действия, являли доказательство невероятной смелости. Никакой паники, ни одна позиция не была оставлена без боя, высоты по шесть раз за ночь переходили из рук в руки, наши парни отступали, только если кончались боеприпасы или потери становились невосполнимы. Это я сам видел. Только это я и видел.
Я понимал их храбрость, их великолепное презрение к опасности, но не жестокость. Что же это? Неужели человек способен одновременно на величие и свирепость? Склонен и к Добру, и ко Злу? И к солидарности с ближними, и к мести? Я этого тогда не понимал, да и сейчас не научился. Если я признавал, ненавидя фашистов, что их действия — настоящий террор, то и красной свирепости я принять не мог. Русские товарищи, которых я встречал в Барселоне, меня заверяли: «У нас все происходило иначе. Поскольку белые, наемники Колчака и Врангеля, не смогли навязать нам своих методов. Честь Красной армии осталась незапятнанной…» Но тогда почему в Испании все случилось не так? Наши задачи не были столь возвышенны?
Тогда я не мог понять. Но теперь в камере, куда вы меня заперли, я обо многом передумал. Это выглядит по-идиотски, гражданин следователь, но жестокость в Испании стала мне понятна только сейчас. Она переплетена с еврейской историей. Можете сколько угодно смеяться, но гражданская война связана с историей евреев. Испанцы так злобно убивали друг друга, огнем и мечом пройдясь по стране, именно потому, что в 1492 году они сожгли и изгнали своих евреев. Это выглядит полным идиотизмом, но я убежден: их жестокость к нам обернулась против них самих. Начинаешь с ненависти и преследования других, кончаешь ненавистью и уничтожением себя самого. Костры инквизиции привели к тому, что при воцарении франкистов Испания взорвалась и разрушилась.
Конечно, есть и более рациональное объяснение: всякая война высвобождает сумасшедшие разрушительные силы. Стоит им сорваться с цепи, их невозможно обуздать. Об этом говорит и Талмуд: если ангелу-разрушителю позволить, он станет разить, не выбирая, будет косить и безбожников, и праведников. Во время войны человеческое в людях становится безумным.
Об этом я размышлял в промежутках между атаками и контратаками в Испании, а потом в Советской России. Живые существа превращались в ничто, хрипя, проклиная врага или небеса, а то и все вместе, или же молясь, слезно и бессвязно вспоминая мать, жену, а я говорил себе: это безумие, безумие.
Кто я, романтик или просто придурок? Во время войны смерть всегда наводит меня на мысль о безумии, причем мирообъемлющего свойства. Мужчины и женщины растут, учатся ходить, бегать, говорить, смеяться, воспевать жизнь, обличать зло… Ценой трудов и слез они пытаются защитить жизнь очень хрупкой оградой из счастья, живут внутри нее с чадами и домочадцами, собственными руками строя семейный очаг и мечтая о светлом будущем, конечно не безоблачном: со своими ловушками и скрытыми угрозами… И вдруг некто ими же избранный отдает приказ, и ритм времени изменяется: мановение руки одного человека обращает в ничто века усилий и надежд… Бессмертие бросается в объятия смерти, а мне хочется кричать: но это же безумие, безумие!
Я сопровождаю Карлоса, моего немецко-французско-венгерского друга (здесь его зовут Карлос, как Штерна — Хуан, Фельдмана — артиллерист Гонсалес, а Пальтиеля Коссовера — Санчес; все эти опереточные клички — вероятно, следы того же безумия, если с ними нас посылают в бой, а может, и на смерть?). От кого мы так хотим укрыться? Ангел смерти не дурак, ему плевать на наши игры, он тоже принужден шептать про себя, что все сошли с ума.
Так вот, я сопровождаю Карлоса в Мадрид. Столица осаждена, изувечена, но энтузиазм в ней клокочет. Измученный, но гордый город, как охотничий пес, рвется со сворки. «Но пасаран!» Фашисты не пройдут, рычит Мадрид, зная, что рано или поздно слова уступят напору ружей, рано или поздно этот бело-розово-багровый город будет опрокинут, расстрелян, побежден, поставлен на колени. Так почему же раздается крик «Но пасаран!»? Чтобы придать себе смелости? Почему сотни других городов на всех континентах вторят ему: «Но пасаран!»? Для очистки совести? Я спрашиваю об этом у своего приятеля Карлоса, и он отвечает:
— Да потому что… потому! Да, потому! Просто надо что-то кричать! Если хочешь, чтобы началась драка, прикажи всем закричать!
— Но это безумие, Карлос, просто безумие.
Предпочитаю вопящих психов тем, которые молчат.
— Но ведь я не кричу, Карлос.
— Потому что еще не научился ни кричать, ни воевать.
Несмотря на мои поездки на линию фронта, я не стал понимать войну ни на йоту лучше. Поскольку у меня сильная тахикардия и нестерпимые мигрени, я — хреновый солдат. Ружье в моих руках представляет опасность не для противника, а для меня самого. Если у меня на ремне и болтается револьвер в кожаной кобуре, так это чтобы производить впечатление на бойцов из отрядов милиции, мол, камрад Санчес — это не фитюлька какая-то.
Уличные бои свирепствуют. Эти подонки разъярены, они уже не боятся смерти. Красные тоже пышут яростью и полны решимости. Сталинград до Сталинграда. Каждый дом — крепость, всякий житель — герой. «Салюд!» — бросает нам на ходу капитан лет двадцати, вытирая рот рукой. «Салюд!» — кричит нам девушка, пригибаясь, чтобы не поймать пулю. Университетский городок, до которого рукой подать, походит на кладбище, где привычно пускаются в пляс мертвецы.
— Мне нужен команданте Лонго, — говорит Карлос. — Он должен быть где-то в секторе.
Девушка не знает, молодой капитан ничего не слышал. Нам встречаются комбатанты, либо сами раненые, либо несущие раненых. Спрашиваем у них, не знают ли этого команданте (на самом деле у него, видимо, не такое экзотическое имя: он, скорее всего, Лангер или Лейбиш). Да, некоторые знают, но им неизвестно, где он сейчас. Другие не знают, но думают, что если он команданте, к тому же в этом секторе, то, вероятно, он в убежище, у входа в парк, а пока — «салюд» и удачи!
— Что ж, Карлос, давай добираться до парка.
Пули так и свистят. Сначала бежим, согнувшись, потом уже ползем по мостовой. Ползущие навстречу приветствуют нас: «Салюд, салюд!», мы отвечаем: «Салюд, салюд!» и «Но пасаран!» В конце концов солдат из интербригады приводит нас в убежище под разрушенным четырехэтажным домом окнами в парк к команданте Лонго. Тот, стоя на коленях, изучает карту. Пот стекает ему на затылок. Всклокоченный, усталый, с покрасневшими глазами он выглядит настоящим дикарем.
— Что вам здесь нужно? — гортанным голосом, не поднимая головы, спрашивает он.
— Я должен передать тебе приказы, — отвечает Карлос.
— Так чего ты ждешь? Передавай.
— Не здесь, — уточняет Карлос, многозначительно сверля его взглядом.
— Ты рехнулся? Куда я должен идти? В гостиную?
— Это секретные приказы, — настаивает Карлос.
— Чего же ты от меня хочешь? Чтобы я послал тут всех на улицу проветриться?
Он проводит рукой по лбу, оставив на коже полосу из черного масла.
— Ну хорошо, — раздраженно решает он. — Я понял. Отойдем вон туда, в уголок.
Они уединились в сторонке, но не успел Карлос сообщить приказы, а Лонго их осмыслить, как в ту же секунду там рванул снаряд, и двух прозвищ как не бывало. Салюд, Карлос. Но пасаран, Лонго, Лейбиш или Лангер. «Нет, это чистое безумие», — говорю я себе.
И также «салюд!» — всем не переданным приказам, что так навсегда и остались мне неизвестными. Может, они готовили очень важную для нас операцию, которая обеспечила бы победу? Этого мне не узнать во веки веков. Когда я возвращался на базу, в мозгу гудела одна мысль: «Это безумие, война — безумие, она всех лишает разума».
Особенно в Барселоне…
В Барселоне внутри большой войны разворачивалась другая, малая. Война, скрытая от глаз, отвратительная, тупая, я в этом теперь отдаю себе отчет, хотя тогда не сознавал. Мне было известно, что маленькие вооруженные группы и группки разных движений и фракций, более или менее близких к социализму, анархизму или коммунизму, ревностно подсиживают одна другую, а при случае выступают друг против друга, кого-то при этом убивая, но я не знал, что отстрел ведется не только с бухты-барахты, но и по заведенной системе. Отдельные товарищи, а особенно их предводители растворялись в ночи: уходили с поручениями? Арестовывались людьми НКВД? Сомнение несколько дней витало в воздухе, потом приходило время забыть, перевернуть страницу, заняться другими проблемами, обнаружить новых исчезнувших; потом из «хорошо информированных источников» приходила весть, что действительно первые исчезнувшие еще находятся (или уже нет) в страшных подвалах той или иной тюрьмы, что их подозревают в оппозиционности, в групповщине, одним словом, в чем-то преступном… Надо ли было здесь возмутиться? Но ведь существовали и более насущные приоритеты, прежде всего — война с врагами, фашистами. А посему люди из НКВД занимались чем хотели, в свое удовольствие, не стесняясь, а главное, никого не приводя в стеснение. Их жертвы погибали, часто не ведая почему. А если б узнали, что бы от этого изменилось?
Это было глупо, гражданин следователь, глупо и абсурдно, признайтесь в этом (хотя вы привыкли, что вам признаются другие).
С одной стороны — спаянно, планомерно наступают фашисты, с другой — комбатанты и их союзники все еще разобщены, разбиты на группки, огрызаются друг на друга, всегда готовы пустить в ход ножи.
Первыми попали в оборот троцкисты, они все жили в отеле «Сокол» на улице Лас-Рамблас. Вслед за ними выловили их друзей. Потом взялись за тех, кто ни с кем не дружил: за анархистов. Вы мне скажете: «Политика прежде всего!» Нет, гражданин следователь, прежде всего — победа. И справедливость.
Я вам кажусь наивным? Да, был такой грех. Признаю, не стыдясь. И даже с гордостью. Я доволен, что был на испанской войне. Там я верил. Находился с правильной стороны, сражался за все, что составляет человеческое достоинство. Я сознавал это. Вот почему я принимал без спора казни на рассвете моих друзей троцкистов и анархистов, переступал через это, хотя они были моими друзьями. Надо ли мне теперь себя осудить? Что ж. Тем хуже. Я говорю с собой, когда пишу для вас. И отказываюсь врать себе.
Барселонских анархистов я очень любил. Их смелость, их бравада, абсурдные, но поэтичные лозунги, все это мне было по душе. Я им даже слегка завидовал: почему мне не поется, как им, с той же беззаботностью, с тем же ребячливым энтузиазмом? Однако же в их рядах встречалось мало евреев.
Они были большими детьми, улыбчивыми, все преувеличивающими чудаками перед лицом общества, которое отчитывало их за недостаток логики, нежелание следовать законам и с лицемерным видом перебирать в уме выгодные варианты.
Их идеология не работала без костылей, это правда. Анархия не существует, не может существовать как система, ибо она отрицает будущее, мешая ему рождаться. С установленным порядком можно воевать, лишь противопоставляя ему другой прочный порядок: пустота тут не инструмент, беспорядок — тем более. Понятие хаоса несет в себе свое собственное отрицание. Настоящий анархист должен на более высоком уровне отрицать и самое анархию, становиться антианархистом, а следовательно… Все это не мешало тому, что, когда мы наведывались на улицу Лас-Рамблас или когда выпивали в колоритных барах у парка Монжуик, я любил поболтать с Гарсиа из Теруэля, с Хуаном из Кордовы, с Луисом из Малаги (не знаю, настоящие ли это были имена? Вообще, признает ли анархист те связи и ту ответственность, что связаны с именем?). Когда они слишком повторялись или провозглашали что-то грандиозное, но совершенно бессмысленное, то принимались потом звонко хохотать и хлопать себя по коленкам. Я же, хмельной, как и они, декламировал им (ну да, вы не ослышались) свои мистические стихи, которые рождались и умирали прямо там же за столиком в моем подточенном алкоголем мозгу. Ведь и они были мистиками, хотя сами не смогли бы себе в том признаться. Мистики, которых преследовал миф о конце времен и великом взрыве, они пытались принять в этом участие, достичь небытия и рухнуть в него, оглашая все вокруг громоподобным хохотом… У анархистов и мистиков похожий словарь, известно ли вам это? Они пользуются теми же самыми метафорами. В Талмуде Бог запрещает рабби Ишмаэлю плакать: иначе мир снова погрузится в первичный хаос — разве этот образ и такое душевное движение не опередили анархистскую символику на тысячелетия?
Вспоминаю о Заблотовском, простите, о Хосе, талантливом художнике, полном яростной напористости, который объяснял мне, почему примкнул к их движению:
— Для меня ужасен белый цвет! Всегда хочу, чтобы он взорвался, стал грязью и кровью.
А Симпсон, студент из Ливерпуля, говорил:
— Меня приводит в ужас жизнь, что нам навязывают, земля, которую нам подают, как милостыню, и мир, от которого клонит в сон. Хорошо бы, чтоб все это пожрал и покорежил огромный пожар на страх богам, сотворившим такое. Потому я порвал с прошлым и средой. Здесь я свободен!
Не вздумайте вывести из подобных деклараций, что анархистов привлекала смерть, ее соблазны. Идиотский лозунг «Да здравствует смерть!» был провозглашен не ими, а впавшим в старческую немочь фалангистом, генералом Миланом д’Астреем. Какая бестолочь! Он даже не понял, что надо обладать своеобразным умом и чувством юмора, чтобы выражаться, как отчаявшийся анархист.
Впрочем, д’Астрея, этого осла в позументах, поставил на место Мигель де Унамуно. Я тогда еще не был знаком с его творчеством. Я принялся читать Унамуно после того, что произошло в Саламанкском университете, где тот был ректором. Когда в набитом людьми амфитеатре распаленные фалангисты вопили от воодушевления и восторга перед своим кумиром, повторяя его лозунг «Да здравствует смерть!», старый философ заговорил медленно, строго: «Не могу молчать… Молчанье теперь будет ложью. Я только что слышал мрачный и лишенный смысла крик… Для меня этот парадокс отвратителен…»
Удивительные по смелости и душевному величию слова! Их эхо долго разносилось по всей израненной, кровоточащей Испании. У нас их обсуждали в Народных домах, бессонными ночами в палатках и даже в грузовиках, что отвозили бойцов на фронт. Я в то время мог бы целиком прочитать его речь наизусть: «Этот университет — храм интеллекта, а я его верховный жрец… Вы, генерал д’Астрей, победите, потому что за вами сила, но не убедите…»
То было его последнее публичное выступление: он перестал преподавать и вскоре умер. Однако интерес к творчеству Унамуно вспыхнул снова. Его «Житие Дон Кихота и Санчо» я читал во время сражений за Теруэль, а «О трагическом чувстве жизни» проглотил в 1937-м, во время битвы за Гвадалахару. Помнится, читая, я говорил себе, что автор, скорее всего, был потомком маранов, а его рассуждения об изгнании напомнили мне писания рабби Ицхака Лурии. То трагическое ощущение бытия, каким пронизано его творчество, века тому назад выражали ученики Шаммая и Хиллела, которым было гораздо более желательно, чтобы человек никогда не появился на этой земле. Но «поскольку он уже родился — пусть изучает Тору»… Что вы хотите: все меня приводит к воспоминаниям о еврействе. И потому все мои встречи — со старыми знакомыми.
А хотите еще пример? Дело происходило в 1938 году, еще до большой катастрофы и чуть раньше моей репатриации. Немецкая армия только что вошла в Австрию, встреченная ликующими толпами. Тиски сжимались, тучи копились на горизонте. На континент готовилась сойти та же ночь, что накрыла Испанию. Судьба Испании давала понять, что случится с остальной Европой. Сила одерживала верх над правом, даже божественным. Нацеленному на вас ружью наплевать на общественные ценности. И вот ружье уже целилось во всех европейцев, и те начали понемногу об этом догадываться. Республиканская Испания была потеряна, Европа — тоже. История опрокидывалась в пропасть, где царили стыд и страх.
Мне было муторно, всем остальным тоже. Приближался конец, все катилось к катастрофе и безысходности, еще не обретшим своего названия. Исчез безвозвратно энтузиазм первых дней, когда под знаком солидарности формировались интербригады. Правительства Франции, Великобритании и США бросили Испанию на произвол судьбы, отдав ее в руки палачей. Как если не оправдать, то хотя бы объяснить подобную трусость людей, во всех других отношениях почтенных, честных и политически проницательных? Мы уже не пытались понять это.
Верной оставалась одна лишь Советская Россия. Только она. Это внушало нам гордость и решимость. Однако ставки уже были сделаны. Выиграть мы не могли. Мы еще сражались, но для спасения чести, а не страны.
А к моей тоске примешивались еще и опасения личного свойства. Исчез камрад Берку, венгерский еврей, который меня любил, как брата.
Я обратился к Яше, чтобы попросить его вмешаться. Яша работал на органы безопасности, и это ни для кого не было секретом. В некоторых кругах в нем видели даже своего сильного лидера.
Он жил в отеле «Монополь», переименованном в «Либертад». Меня он встретил сердечно: круглое смеющееся лицо, кудрявые волосы, загорелый — типичный интеллектуал, еврей-коммунист, какими их представляли в тридцатые годы. Чтобы мне было свободнее, он перешел со мной на идиш. О современной ситуации Яша, как мне показалось, судил менее пессимистично, чем остальные. Война в Испании — это только эпизод, убеждал он меня. За ней последуют другие конфликты. Главное — видеть ситуацию в целом. Важно, что Советская Россия выполнила свои обязательства. Труженики, оставшиеся без средств, свободные люди, которых предали, знают, что могут надеяться на нее. Остальное не так уж и существенно, это всего лишь детали, они изменятся и будут забыты. Надо мысленно совершить прыжок. «Через десять лет ты увидишь, что о прошлых мучительных эпизодах нечего и вспоминать…»
Я пощупал мою незажженную трубку (курить я не курил, но любил поигрывать с ней) и внимательно посмотрел на своего влиятельного собеседника. Он засунул правую руку в карман штанов и, пока говорил, шагал по комнате взад и вперед. Останавливался, лишь чтобы послушать меня. Иногда брал сигарету, медленно ее зажигал, с наслаждением затягивался, прикрывал левый глаз и открывал его только на выдохе.
Понимая, что он очень занят, и не желая испытывать его терпение, я уже собрался объяснить ему причину своего визита, но он опередил меня:
— Я знаю. Знаю, почему ты пришел ко мне.
— И что?
— И ничего.
— Как это «ничего»? Послушай, Яша, Берку исчез, и…
— И ничего, повторяю.
— Что это значит, Яша? Ты что, здесь ни при чем?
— Это значит, что тебе бы лучше в это дело не лезть.
— Но Берку — мой приятель, он ни в чем не виноват, и ты это прекрасно знаешь…
В коридоре послышался какой-то звук, и тотчас голос (но не взгляд) Яши стал жестче:
— Будем говорить по-французски, согласен? Вообще-то нам и толковать не о чем. По крайней мере, по этому поводу. Если Берку задержали наши службы, что возможно, но не очевидно, — это их забота. Они знают, что делают, выполняют свой долг — и не более того…
Он подошел к двери, открыл ее: там никого не было.
— Сожалею, — прошептал он на идише, пожимая мне руку. — Твоему другу ничем нельзя помочь… Забудь о нем. — И уже громче добавил по-французски: — Когда будет время, попробуй взглянуть на это с высоты птичьего полета. Мы выиграем, Санчес, выиграем.
За час я постарел на десять лет. Я думал о Берку: он жив еще или нет? Страдает? Какие преступления он должен был совершить, чтобы заслужить участь предателя? Одна мысль заставила меня похолодеть: а где его держат? Может, в подвалах этого же отеля?
Измученный, отчаявшийся, я шел наугад по Лас-Рамблас, сворачивал в какие-то кривые улочки, где несколькими месяцами ранее прогуливался с Берку.
Рожденный в деревне у румынской границы, этот парень начал с того, что взбунтовался против своего родителя. Его отец, богатый торговец, чтобы наказывать сына, нанимал подручного мясника. И каждый раз, когда маленький Берку возвращался из школы и объявлял, что больше не пойдет туда, вызывали этого подручного со своей палкой… «Было больно, — рассказывал Берку. — Я чувствовал себя, как сотня чертей в аду, но прикусывал губы, чтобы этого не показать… И никогда не показывал. А продолжалось это недели и месяцы. Я не знал, кого больше ненавижу: отца, безучастно смотревшего, как меня лупцуют палкой, или его подручного, который готов был мне все кости переломать за несколько грошей… Однажды я встретил одного парня, члена подпольной ячейки, пошел за ним… и, к своему удивлению, увидел, что подручный мясника меня опередил! Он уже был там и держался как главный».
«Вот так, — думал я. — значит, богатым безжалостным торгашам можно чужими руками истязать собственных детей и… готовить освобождение человечества! Можно подставлять спину под наказание во имя своей религии, а потом — во имя коммунизма, можно одновременно быть другом Берку и Яше. Яша… А что бы я сделал на его месте? Он знал Берку. Мы вместе проводили вечера, пели, сравнивали, чьи приключения интереснее. А теперь Берку — его пленник. Или его жертва?»
На рыночной площади я заметил машину с черно-красными полотнищами, хлопавшими на ветру: анархисты собирались на фронт. Антонио с первой машины махнул мне рукой:
— Санчес, Санчес, у тебя такая рожа!
— Я потерял друга. А может — двух.
— Едем с нами, развеешься! — предложил Антонио. — Увидишь такую битву… Идешь?
— Нет, спасибо, это не по мне, ты же знаешь.
На самом деле его предложение меня соблазнило. Но я его отклонил, потому что невольно вспомнил о Яше, который меня упрекал: «Ты не должен ходить с анархистами, нашел с кем связываться!» И все допытывался: «Зачем ты якшаешься с ними? Когда ты познакомился с Антонио? Почему ходишь в гости к нашим врагам?»
— Нет, Антонио, — повторил я. — Не могу…
Трусость? Осторожность? Не надо играть в слова: это была трусость.
И, как результат, еще худшая тоска, чудовищная тощища. Она меня пожирала. Я чувствовал, что не в ладу с самой жизнью, с телом, которое меня привязывало к жизни. В первый раз я пожалел, что приехал в Испанию. Мне лучше было бы остаться во Франции. Или в Палестине. Или в Льянове… Я снова, как во сне, увидел лицо отца. «Будь хорошим евреем, Пальтиель, хорошим евреем, сын…» А был ли я еще таким? Я больше не следую заповедям Торы, нарушаю законы, больше не надеваю филактерии, но… «Что еще за „но“?» Тфилин — в моем рюкзаке. Я таскаю их с места на место. А не надеваю, потому что… потому что я на войне. «Войне за что? За Испанию?» Она и за евреев. За тебя. За всех угнетенных на земле. «Но ты пришел в Испанию, ты сражаешься за Испанию», — упрекает меня отец, впрочем, это уже не отец. А кто? Он возник ниоткуда и вот уже идет рядом, слева от меня, задевая локтем укрепления, нависшие над городом… где-то у нас под ногами…
— Но ты приехал именно в Испанию и сражаешься за нее, — говорит Давид Абулезия на идише своим хриплым голосом. — Имей, по крайней мере, смелость хранить верность своим убеждениям. Настоящего еврея я здесь не вижу: он остался в Льянове, а сюда приехал коммунист без имени и прошлого. Приехал, чтобы стать членом интербригады.
— Однако еврей во мне присоединился к другим здешним евреям, — запротестовал я. — Их немало в наших рядах. Вы их не заметили? Я не покинул евреев, приехав сюда, я их в Испании обрел.
— А что это доказывает? Только одно: что таких, как ты, много. Но сто свечей способны погаснуть так же быстро, как одна-единственная.
Я искоса поглядел на него: неужели это Давид Абулезия? А может, кто-то, на него похожий? И зачем он объявился в Испании? Охотится здесь за Мессией, хотя нам запрещено ступать на эту землю после анафемы, произнесенной вслед за изгнанием в 1492 году? Конечно, речь идет о спасении человеческих жизней… Но затем ли он приехал? Или ему надо вызволить именно меня? Значит ли это, что я в большой опасности?
— А известна ли тебе история моего знаменитого предка, дона Ицхака Абрабанеля? — спросил он спокойным, хорошо поставленным голосом, словно мы находились сейчас где-нибудь в Доме молитвы и учения. — Он занимал пост министра у португальского короля в конце пятнадцатого века. Еврейский философ, к тому же невероятно религиозный, был принят лиссабонским католическим двором! Для этого следовало быть поистине выдающейся личностью. И чтобы страна крайне нуждалась в его услугах. Пришло время испытаний. Поставленный перед выбором: отречение от веры или изгнание, он выбрал изгнание и перебрался в Испанию. Еврей, притом изгнанный, он преуспел и здесь, возвысившись до министра при короле Фердинанде Католическом. Но в тысяча четыреста девяноста втором году перед ним встала та же дилемма: отречься и жить во славе или отправиться в какую-нибудь чужую страну, где он останется верен учению предков. Он выбрал верность предкам и переехал в Венецию, где издал несколько своих мессианских сочинений. А между тем о его весьма благотворной деятельности в Испании и Португалии ты не найдешь ни строки в тамошних исторических трактатах. Его имя сияет только в истории его народа (впрочем, и нашего тоже). Это говорит нам о том, что еврей может занять место во всемирной истории, только сыграв свою роль в еврейской истории. Иначе говоря, если для спасения человечества ты решишь перестать думать о своих собратьях, то не спасешь никого, даже себя самого.
В его хриплом голосе, властно разносившемся в ночи, было что-то такое нереальное и ни с чем не сообразное, что роднило его с тем знаменитым историческим персонажем, который, быть может, некогда попирал ногой ту же землю, и сердце его содрогалось от тех же волнений.
Внезапно наступило молчание. Только что я ощущал его руку на своем плече, и вдруг — ничего. Я не чувствовал даже, рядом ли он или уже далеко.
И тут вдали грянул залп. Потом другой. Два расстрела поутру? Берку? В чьей еще памяти он будет жить? Я спрашивал себя об этом, как будто это имело значение.
Салюд, Давид Абулезия. Салюд, Дон Ицхак Абрабанель. Салюд, Берку. Салюд, Санчес. Пальтиель отделяется от вас. Он оставляет вам свою поэму о Каине и Авеле[1] и их мессианских устремлениях.
Я покидал Барселону, рыдая от ярости.
Как забыть постыдное возвращение волонтеров во Францию? Никто не пришел нас встречать. Ни цветов, ни речей, ни фанфар, ни поцелуев — солдатам, выполнявшим свой интернациональный долг. После пограничников, жандармов и таможенников нас поджидали представители разных отделов префектуры. Только они нами и занимались, вновь погрузив в бюрократическую реальность Третьей республики: бумаги, визы, печати. Мы были не на их стороне, и они относились к нам соответственно.
— Если вы так любили Испанию, нужно было там и оставаться, — однажды пробурчал какой-то сухой, неприятный тип.
А его коллега добавил:
— Ну, теперь они будут разводить свою отраву у нас. У них всегда так: приезжают в страну, отравят там все, что могут, затем отправляются травить в другую.
Отравители — это, разумеется, мы: пять десятков волонтеров из второго или третьего отряда. В последних свободных и несчастных уголках Испании еще идут бои, но интербригады уже расформированы. По приказу из Москвы? Так у нас поговаривали, и я этому верил. Там ничего не начинали и не прекращали делать без приказа сверху, а «верхом» была Москва, где политики с хладнокровием прагматиков занимались тем, что называлось «Салюд, Испания».
Французы обосновались у себя дома, испанцев засунули в полуразрушенные мрачные лагеря для беженцев, а я, все еще благодаря своему румынскому паспорту, смог приехать в Париж.
В коридоре вагона ко мне подошел незнакомец, назвавшийся «мсье Луи». Некоторые ваши друзья, как он намекнул, поручили ему заняться нами, то есть конкретно мной. Доверия он не вызывал: слишком уж выглядел подпольщиком, однако я ему этого не показал. Через какой-нибудь час он разговорился:
— Мы все видим, все знаем. У нас есть свои люди даже в полиции. Вот тип, смотревший твои бумаги, думаешь, он так и пропустил бы тебя без проволочек, если б был не из наших?
Придурок! А если бы я был доносчиком? Дав ему понять, что дико устал и хочу спать, я закрыл глаза, чтобы ничего не видеть и не слышать. А еще — ничего не просить и ни в чем не отказывать. Поезд свистел, пыхтел, останавливался, трогался. Я задремывал, мне что-то мерещилось: оставшись пленником романтической Испании, я бежал из нее, чтобы в нее возвратиться; влюбленный в отчаявшуюся Испанию, я уносил ее с собой, как горсть песка в ладони или мазок пепла на лбу.
За два года Париж не изменился. Есть города, которые становятся сами себе чужими за одну ночь. Не то Париж. Ну, это вопрос честолюбия: в его-то возрасте делают все, чтобы не меняться.
Люди готовились ехать к морю и солнцу. Наступило время оплаченных отпусков. О войне говорили, конечно, но не слишком: мудрость правителей и сила наших армий возьмут верх над происками диктаторов.
Оптимисты заявляли: «К чему Гитлеру воевать с Францией, если она не вмешивается в его дела? Он выиграет и так, без всякой войны». Пессимисты вели речи о том же, но с некоторыми вариациями: зачем, мол, ему ввязываться в войну, которую он и так уже выиграл? Реалисты же только слушали.
Время от времени атмосфера сгущалась, казалось, сонное общество вот-вот встрепенется, осознав опасность, но то были лишь мимолетные вспышки тревоги. Театры объявляли об аншлагах, перед кинотеатрами выстраивались очереди, уличные разносчики сбывали свой товар. Проспекты сияли элегантностью, на улицах царило веселое оживление, витрины радовали глаз: самые читаемые романы, новомодные рецепты тортов… Ворчуны ворчали. Политики произносили речи. Военные красовались в новеньких мундирах. Правые грозили, а левые давали отпор. Женщины веселились напропалую. Апатриды — эти дергались, мечтали о визах в недостижимые райские уголки, где ничто не омрачает зари. Война в Испании не изменила нравов, не повлияла на образ мыслей. Народный фронт уже принадлежал истории. Правые реакционеры плохо скрывали свое торжество: будущее обещало привести их к власти.
Шейна тоже не изменилась, только меня она уже не любила. У нее появился новый жилец: художник, который говорил как поэт, и это делало его достаточно привлекательным в ее глазах, чтобы давать ему приют, обучать манерам, охранять и, как убежденно добавляла она, вдохновлять.
Я на нее совсем не сердился: я вообще ни на кого не сердился. Война и возвращение истощили запас моей злости. На людей я смотрел равнодушно, на себя — как на какого-то иностранца. Я никому больше не принадлежал, ничему не служил.
— Ты злишься на меня? — беспокоилась Шейна.
— Зачем мне это? Мы же взрослые, свободные люди. Ты мне ничего не должна. Ты мне ничего не обещала, я тоже.
На террасе кафе недалеко от ее дома мы поговорили о всяких разностях. Перед этим я позвонил ей, чтобы предупредить о своем возвращении. Она не скрыла некоторого замешательства. Я про себя улыбнулся: она как раз занималась любовью, я ее достаточно знал, чтобы догадаться.
— Что? Кто? А, это ты? Ты здесь? Уже?
— Я перезвоню, — заверил я и положил трубку.
Слово я сдержал, звякнул ей через час.
— Извини, что не вовремя побеспокоил, — начал я, но она рассмеялась:
— Ты вообще-то глуп, но иногда у тебя бывают проблески…
Я не был настроен шутить и перешел к делу:
— Есть для меня почта?
— Письма от отца. Хочешь зайти?
Я предпочел встретиться в кафе. Свидание мы назначили на следующий день. Я нашел ее несколько похудевшей, но весьма оживленной. Она расцеловала меня в обе щеки, пожаловалась на жару и дожди, на международную обстановку и на компартию, где перестали понимать, что она не может принимать больше, чем одного жильца… Но я ее успокоил:
— Не тревожься за меня, я нашел где остановиться.
— Правда? — воскликнула она с явным облегчением.
— Правда.
Это не было правдой, но в благодарность она схватила мою руку и долго жала ее. В другой руке я держал отцовские письма.
— Рассказывай, — приказала она. — Ты должен все мне рассказать.
— Рассказывать нечего, Шейна.
— Нечего? Ты возвращаешься из Испании, прямо с войны — и тебе нечего рассказать?
— Именно так, Шейна, я возвращаюсь из Испании, прямо с войны — и мне нечего рассказать.
Поколебавшись, она решила, что сейчас будет уместно погладить меня по руке.
— А все-таки, мой поэт, ты ведешь себя несерьезно! Ты же сражался, рядом с тобой погибали твои товарищи, ты столько видел! Ты должен рассказать, как там было! Но может, ты писал там стихи? И предпочитаешь вместо рассказа прочесть их мне?
Ее атаку я выдержал с полным спокойствием.
— Когда-нибудь мы поговорим об этом.
— Почему же не сейчас? Потому что я… с кем-то встречаюсь? Ну да. Хочешь узнать, кто это?
— Да, — еще раз соврал я. — Очень интересно.
Она принялась описывать молодого художника, такого талантливого, такого мягкого, такого дикаря… Мы расстались друзьями: будем, мол, позванивать друг другу.
— Обещаешь?
— Обещаю. Клянусь.
Я потом встречал Шейну на сборищах культурной секции партии. Однажды мне показалось, что я узнал ее официального любовника: какой-то товарищ представил мне румынского художника, недавно бежавшего из печально известной крепости где-то в Клуже. Но то был не он.
А вот друзей и коллег из окружения Пауля Хамбургера нигде не было видно. Сам он тоже исчез. Я пытался напасть на след, наводил справки, расспрашивал общих знакомых. И везде мне давали понять, что я хожу по минному полю: видимо, нашему товарищу доверили что-то очень секретное, лучше об этом не спрашивать. Его что, тайно послали в нацистскую Германию? А может, на Восток? В ответ лишь палец у губ и многозначительный взгляд в сторону… Я верил и не верил. Вспоминал свой последний вечер с Паулем, его предчувствия и советы. А также мой последний разговор с Яшей в Барселоне. Но я надеялся. А что еще оставалось? Несмотря ни на что, я уповал: мой друг где-то с важным поручением, а значит, на свободе. А значит, живой.
Правду я узнал позже, гораздо позже. Его арестовали прямо у самолетного трапа, бросили в один из подвалов Лубянки, пытали и убили. Та же участь ожидала всех его сотрудников, тех, кого я тщетно разыскивал в Париже.
Я вот думаю: если б я не попал в Испанию, а последовал за своими друзьями, мне пришлось бы встретиться с вами гораздо раньше, гражданин следователь? Вас бы я избавил от бессонных ночей, мою жену — от многих забот, а сына от безысходности, в которой он сейчас пребывает. Или один из сотрудников ваших «органов» меня быстренько ликвидировал бы прямо здесь.
Странно. Однажды я спросил о Пауле Шейну, и она мне почти предсказала, что со мной произойдет.
— Ты ведь его знаешь, Шейна. Вы были друзьями. Ты общаешься с важными людьми. Тебе что-нибудь известно?
Мы сидели с ней за вечной чашечкой кофе на знакомой скамейке. Шейна озабоченно посмотрела на меня.
— Ты меня беспокоишь, — сказала она.
— Почему? Потому лишь, что не желаю забыть Пауля? Ну что ты хочешь, это мой друг. Он много значил в моей жизни. Если с ним дело плохо, я хотел бы знать. Чем-нибудь помочь. Это ведь нормально? Мне за него страшно, у меня предчувствие… кошмарное предчувствие.
Приоткрыв рот, вся дрожа, Шейна пригнулась ко мне, ее взгляд заволокло дымкой.
— У меня тоже, — прошептала она.
Я встрепенулся:
— Ты тоже… тоже беспокоишься о нем?
— Не о нем, — произнесла она еще тише. — О тебе. — Она осеклась, вскинула голову, но, помолчав, спросила: — Мне продолжать?
— Да.
— Я чувствую, даже вижу мужчину… тебя… В темноте. Одного. Без сил.
— Похоже, ты описываешь тюрьму. Или могилу. А может, то и другое сразу?
Страх исказил ее черты. Она резко встала:
— Все это глупо, сам понимаешь. Я несу чепуху… Но будь осторожен. Пауль вернулся в Россию. Не надо больше думать об этом…
И однако, когда настал час решающего выбора, я под гипнозом опасности или из абсурдного фатализма все же решился обосноваться в Советской России. Несмотря на то что успел побывать в Испании. Или именно поэтому? Потому, что не видел иного выхода? Из-за ухудшения политической обстановки в Европе? Может, коммунист во мне взял верх? Да ведь у меня никого не осталось в Париже, ничто меня здесь не удерживало. Конечно, я мог вернуться в Льянов, где мой отец, дав кому надо «на лапу», уладил бы все с моим уклонением от призыва, подобно тому, как он уже помог мне получить паспорт. Тогда бы я жил в лоне семьи. Отец мне это советовал, мать от меня этого требовала. Еврей во мне стремился последовать их зову, поцеловать их руки, вернуться в свое детство. Однако этот заочный спор выиграл коммунист. Москва обещала будущее, Льянов — прошлое. Пауль и Яша, Инге и Трауб манили меня к неизведанному. А вот родители старались привязать меня к постройке со слишком крепкими, на мой взгляд, основаниями. И все же если бы Ахува-Циона, моя собеседница в течение трех часов на Святой Земле, оказалась рядом, если бы только подала знак с той стороны света, я, думаю, заново начал бы жизнь в Палестине с кем-нибудь вроде нее.
При всем том какой гениальный организатор — случай! Так ли он слеп, как утверждают? Вот история — она не глупа, сказал бы мой друг Бернард Гауптман. Она знает, куда идет сама и ведет нас. А я не знал. Больше не знал.
Но что сделано, то сделано.
Начало 1939 года. Какой-то товарищ, более прозорливый, чем другие, советует мне поменять страну. Мюнхен — только фарс. Гитлер всех перехитрил. Тут сомневаться нечего. Хотя Варшава еще доверяет своим французским протекторам, Прага их уже презирает. Гитлер клянется, что его жажда побед утолена или, по крайней мере, стала умеренной. Впрочем, люди становятся все менее доверчивыми, они ожидают его нападения: куда и как он ударит? Я вижу, как внимательно они читают газеты в автобусах и метро. Гарсоны в кафе безрадостно шутят с клиентами, а те в ответ криво улыбаются. На площади Республики, на больших бульварах, в квартале Сен-Поль, во дворе префектуры — везде, где встречаются эмигранты и беженцы-апатриды, я наталкиваюсь на те же вопросы, угадываю ту же неуверенность. Каким будет завтра? Тревога гложет их, заботы смущают, мой румынский паспорт вызывает их зависть: у меня все-таки есть хоть какие-то права. Меня тут не считают самозванцем, вторгшимся в чужие пределы. Если мне приспичит удирать, вскочу в первый поезд — только меня и видели. Я краснею от неприятного чувства вины. Как же я себя не люблю!
Бесплодное, унизительное состояние. Я ничего не пишу. Мне не хватает Пауля. Испании тоже. И еще чего-то. Живу в замедленном темпе. Мне случается часами сидеть неподвижно в своем крошечном гостиничном номере на улице Риволи и без единой мысли в голове разглядывать грязно-серые стены, пыльные окна. Я ни с кем не разговариваю, и со мной никто не говорит, горничной я дверь не открываю, она думает, что я болен, а я, быть может, и правда болен.
С тех пор как возвратился из Испании, у меня тяжело на сердце. От предчувствий. И я себя не узнаю. Не потому, что война проиграна: поражение на фронте я худо-бедно принимаю. Нет, я чувствую, что переменился. Мое истинное «я» ушло. Оно удаляется под мрачным небом, а я, прикованный к месту, не могу даже за ним побежать, неспособен крикнуть, чтобы оно вернулось или подождало меня. Не в силах ничего ни сказать, ни сделать. Позволяю себе тонуть, уже иду ко дну.
Я встретился с коллегами по газете, которых Шейна, вероятно, предупредила о моем состоянии. Выслушал их рассеянно, им удалось даже не разозлить меня своими советами: надо, мол, видеть вещи такими, как они есть, бороться с трудностями, наконец выйти из этой нервной депрессии, а не то я рискую… Пинскер просил его навестить, но я не пошел. Он написал мне очень дружественное письмо, уверял, что я одаренный писатель, поэт, что у меня есть обязанности по отношению к читателям… Я не ответил.
В его газетку я неделями не заглядывал, как и в издания наших конкурентов-сионистов. Что они могли сообщить такого, чего я не знаю? Что европейские христиане еще не научились относиться к евреям как к равным, если не братьям? Обе редакции по-прежнему яростно поносили друг друга. Комментаторы комментировали, поэты рифмовали, полемисты спорили до хрипоты. Как все это ничтожно!
Пинскер лично обеспокоился меня навестить и подбодрить.
— К чему этот вид заключенного в камере? — вопрошал он. — Так ты понимаешь марксизм? И роль поэта в обществе? Одиночество — удел мещан.
— Я устал, — мирно отговаривался я. — Ничего серьезного. Перетрудился, вот и все.
— Уверен?
— Уверен.
— Пойдем со мной. Займись чем-нибудь в редакции. Это пойдет тебе на пользу.
— Не сейчас. У меня нет сил.
Затем настает очередь Шейны. Она появляется в моем номере, садится на кровать, грудь ее еще пышнее, а губы еще аппетитнее, чем раньше. Моя бывшая подружка мягко, нежно выспрашивает, над чем я работаю, умоляет прочитать ей какой-нибудь сонет, несколько строк, хоть что-нибудь, я должен во имя нашей прежней дружбы, нашей… Отказываюсь. Не лежит у меня к этому душа. Она настаивает, я ее ласково пытаюсь выпроводить. В конце концов Шейна признается: партия нуждается в моих писаниях, вернее, в моей подписи. Отсюда тот интерес, который мои дорогие товарищи проявляют к моему самочувствию.
Оказывается, «Паризер Хайнт» опубликовал открытое письмо к еврейскому поэту Пальтиелю Коссоверу. «Почему он молчит? Да жив ли он еще? Свободен ли? На этот предмет носятся неприятные слушки: уж не стал ли он жертвой недавних чисток? Или же, на что мы от всего сердца надеемся, он среди раскаявшихся?»
— Партии необходимо, чтобы ты ответил, — призналась Шейна. — Скажи этим грязным буржуям, что ты думаешь об их безнравственных интригах. Подтверди, что не порвал с рабочим классом, веришь в революцию и в родину революции…
Шейна умеет хорошо говорить, но в политике ей не хватает красноречия. Раньше ее просьба меня бы рассмешила, теперь — оставила равнодушным. Пусть буржуи, сионисты и капиталисты думают, что хотят, пусть пишут, что считают нужным, только бы оставили меня в покое.
— Шейна, я устал. Скажи им так, чтобы они поняли. Я слишком вымотан для участия в таких играх. Революция, контрреволюция, Троцкий и Сталин, Бухарин и Радек, Пинскер и Швебер мельтешат, как на экране. Тем лучше для них или тем хуже. А я больше не смотрю это кино. Тушу свет. Я уже не двигаюсь и не думаю. Мою мысль клонит в сон, пойми, Шейна! Слова меня теперь не слушаются, они лежат и подняться не в силах. Это бледные трупы. Только Мессия может оживлять мертвых, а я — не Мессия.
Вся в экстазе, с повлажневшими губами, порывисто дыша, как в старые добрые дни, Шейна начинает урчать, мурлычет:
— Ах, как глубоко! Глубоко! По-мужски… напиши все это…
Живет ли она еще с тем художником? Хочет ли вновь заняться нашими любовными утехами? Я у нее не спрашиваю. Какая разница? Пусть уходит, выматывается. Пусть они все уберутся вон. Перестанут действовать на нервы. Мне хочется жить за пределами этой жизни.
Но все не так просто, как выглядит, гражданин следователь. Жизнь вас может снова схватить и уже не выпустить. Вы избегаете людей? Они вас преследуют. Бежите за ними? Они вас сторонятся. Затворившись в четырех стенах, вы думаете, что происходящее снаружи не ваша забота, но всегда сохраняется связь, неверная, перекрученная, трагическая, притом все это обычно зависит не от вас, а от кого-то другого. Два человека, стоящие во главе государств, заключают пакт — и вот инспектор полиции вытаскивает меня из постели для «проверки документов». Я протягиваю ему мой вид на жительство, паспорт со всеми печатями и смирно жду, когда он мне их возвратит, он же приказывает мне одеться и следовать за ним. А документы оставляет при себе. Я бы должен волноваться, протестовать, задавать обычные вопросы, но я остаюсь бесстрастным, бесчувственным, как и он. Что он может мне сделать? Я в порядке. Могу доказать. Во Францию въехал легально, законов не нарушаю, не отягощаю экономику страны, ничего ей не стою, поскольку живу благодаря ежемесячным переводам, которые посылает мой отец.
Наконец, я одеваюсь. Мы спускаемся. У подъезда ждет машина. Через пять минут я уже нахожусь в переполненном зале ожидания, там все взвинчены, стоит сильный шум. Пытаюсь выяснить, что происходит, а мне отвечают: полиция учинила облаву на иностранных коммунистических агентов.
— Почему?
Никто не хочет поверить, что я не в курсе.
— Как? Ты не знаешь, что Россия и Германия подписали пакт, пакт века? Молотов и Риббентроп? Ты не видел газет?
Я говорю:
— Невозможно! Это ложь! Пропаганда! Никогда Россия этого не сделает. Никогда, никогда!
Мне суют под нос заголовки из «Пари суар», из «Пти паризьен», у меня же на все один ответ:
— Никогда.
Мне показывают статью, набранную шрифтом победнее: это уже из партийной коммунистической газеты. Говорят:
— Читай!
Я читаю. Перечитываю. Рядом какой-то товарищ бубнит:
— Может, есть политические, стратегические, дипломатические причины, кто знает? Не стоит делать поспешных выводов.
Теперь я твержу другое слово: «Невероятно, невероятно». И снова начинаю думать. Реагировать. Итак, понадобилось событие общемирового масштаба, чтобы вывести меня из ступора. Я прохаживаюсь между скамейками, ищу знакомые лица и новую информацию.
Что будут делать с иностранцами? Посадят в тюрьму? Вышлют? А с апатридами? С политэмигрантами-немцами? Ну, со мной все просто. Инспектор, который уже ближе к вечеру подвергает меня довольно жесткому допросу, хотя и менее жесткому, чем вы, гражданин следователь, без лишних слов объявляет: меня вышвырнут за пределы французской территории.
— Чтобы я поехал… куда?
— А куда угодно. В Бельгию. В Италию. Или в Германию, — завершает он, неприметно посмеиваясь.
— В Германию? — откровенно смеюсь я.
Но он намекает, что здесь возможна оговорка:
— Разве только…
— Разве только — что? — оживляюсь я.
И получаю ответ: если я согласен вернуться домой, в Румынию, мне дадут сорок восемь часов на сборы. Я, немного придя в себя, начинаю торговаться:
— А почему не семьдесят два часа?
Инспектор соглашается, уточнив:
— Значит, за семьдесят два часа вы должны убраться отсюда. Ясно?
— Яснее некуда.
Из префектуры отправляюсь прямиком к Пинскеру, который сводит меня с кем-то, кто знает кого-то. Наконец, выхожу на товарища, занимающегося случаями вроде моего. Он изучает мои бумаги. Вчитывается, что-то выискивает, и вдруг его физиономия озаряется улыбкой:
— Ты не говорил мне, что родился в Краснограде!
— В Краснограде? Не знаю такого. Я родился в Белеве.
— Но это одно и то же!
— Обстоятельство важное?
— Еще бы: ты родился в Советской России.
— Ну и что? Я — гражданин Румынии.
— Гражданин Румынии, но по происхождению русский… Сколько лет тебе было, когда ты уехал из Краснограда?
— Я был еще маленький.
— Хорошо. Очень хорошо. Итак, ты родился в Белеве, ныне — Краснограде. А теперь город Красноград — часть Советского Союза. Другими словами, ты — советский гражданин. А значит, ты идешь в консульство, и заботы по твоей репатриации берет на себя уже оно.
— Что ты такое говоришь?
Он распаляется, этот товарищ. Он нашел уникальное решение рядовой проблемы. Он очень горд, мой камрад, своей находкой. А я смотрю на него, будто он маг и чародей. Он начинает действовать очень быстро, на мой взгляд, даже слишком: открывает чрезвычайно много дверей за очень малое число секунд. Советский гражданин? Я? А мой румынский паспорт? А моя верность его королевскому величеству? Моя национальность? Мои родители? Ехать в СССР, когда родители — в Румынии? Сколько продлится наша разлука? И надо сориентироваться в целой куче городов, поменявших имена. Надо хорошенько все обдумать, все взвесить, но товарищ не оставляет мне времени. Семьдесят два часа — это очень мало. Он вне себя от возбуждения, не может усидеть на месте.
— Но как же тебе повезло! — ликует он. — Ах, старина, если бы у всех дела так прекрасно складывались, как у тебя…
Мое прошлое ему известно, он в курсе всего: Берлин, Испания, моя культурная деятельность в Париже.
— Все пойдет как по маслу, — заверяет он. — Новый паспорт, билет на поезд или пароход. Пусть эти формальности тебя не волнуют. Консульство обо всем позаботится…
Дальше пошли бурные, лихорадочные дни. На счету была каждая минута.
Получив информацию от «компетентных органов», советское консульство поздравило в моем лице гражданина, которому не терпится обрести свою родину. Я получил документы на русском языке, советы и инструкции, а также билет на пароход. Я должен был сесть на первое же голландское судно, направлявшееся в Одессу. Когда? Через два дня. У меня едва оставалось время, чтобы расцеловать Шейну (встретимся ли мы снова?), написать длинное невразумительное письмо родителям, забежать, задыхаясь, к Пинскеру, который на первой странице своего «Листка» сообщил его читателям знаменательную весть: «Поэт Пальтиель Коссовер, невзирая на лживые обвинения буржуазной прессы, возвращается к себе домой в Советскую Россию, где бок о бок с нашими друзьями будет бороться за мир…» А нужно еще было расплатиться в отеле, в ресторане и с прачкой, купить что-то из одежды и нижнего белья, между тем отпущенный мне срок подошел к концу. И вот я в Бельгии. Потом сразу — в Голландии, в Роттердаме. Порт. Корабль. Меня берут на борт. Офицер сверяется со списком пассажиров, изучает мой румынский паспорт, потом российский, затем указывает мне номер каюты, которую я буду делить с обходительнейшим, нелюбопытным японцем. Я могу вздохнуть. Прощай, изгнание.
В дверь стучат. Появляется матрос: не нужно ли мне чего? Попить? Поесть? Нет, ничего не надо. Я уверен? Я уверен. Он уходит, а у меня странное чувство. Будто он мне сказал далеко не все.
Я его буду часто встречать во время плавания. Он за мной наблюдает. Следит. Вероятно, он принадлежит к органам голландской службы, говорю я себе. Нет: советской. Он дал это понять накануне нашего прихода в Одессу. Подождал, пока я останусь один, чтобы войти. Задал обычный вопрос: не нужно ли мне что? Я ждал, когда же он уйдет, но он, к моему немалому удивлению, медлил. Стоял, уставясь на меня своими темными глазами. Я попросил его сесть, но он остался стоять, не желая выглядеть назойливым. «Ну, как хотите», — был мой ответ. Он начал спрашивать, какие у меня планы. Никаких планов. Где я буду жить? Я не знал. Есть ли у меня знакомые в стране? Да, есть. Я знал немало людей, правда, не ведаю, где они сейчас и каковы их настоящие имена. Пауль, Яша. Матрос интересуется ими и моими с ними отношениями. Я послушно отвечаю, рассказываю, говорю о работе с Паулем, о годах в Испании, о Яше: это кто-то важный, Яша работал… но тут я остановился.
Я и так слишком много чего рассказал. А уверен я, что матрос работает на нас? Что, если он доносит другой стороне? Его французский показался мне неродным. Правда, и мой — тоже не слишком-то родной, но все же… Не немец ли он? Я прикусил язык: море слишком быстро смыло следы моего подпольного опыта. И я замолчал. Матрос (друг? враг?) собрался уходить.
— Один совет, — сказал он, приостановившись на пороге каюты.
— Да?
— Чем меньше вы станете говорить, тем лучше вам там будет.
Нет, он не из гестапо. Нет, он не желает мне зла. Но, уточняет он, лучше не упоминать о бывших знакомых, о случаях из прошлой жизни. В нынешних обстоятельствах прошлое — очень неудобная вещь. Я последовал его советам. На вопросы, которые мне задавали по приезде, я отвечал, что не знаю никого в Советской России: ничьих братьев или друзей. Почему я решил жить здесь? Очень просто: меня выдворили из Франции, и я не знал, куда податься. В Румынию? Там меня считали дезертиром. Моя прямота подействовала лучше страстных объяснений в любви к новому отечеству. Меня поздравляют с прибытием. Меняют на рубли франки и голландские кроны, которые у меня были.
И вот я дома, в стране лишенных отечества. Я вышел из порта и пошел к центру города, преследуемый воспоминаниями о колоритных и притягательных персонажах Исаака Бабеля: о живописной Одессе с ее сентиментальным блатным миром, человеческой реке, которая течет, течет, но не к морю, а к смерти.
Я сел в трамвай и поехал в торговые кварталы. У кондуктора я спросил: «Отель?», но он не понимал французского и ответил по-русски. А русского не понимал уже я, поэтому он перешел на немецкий, и тут мы смогли договориться: «Вон там, за магазином, маленький скверик, за ним — недорогая гостиница».
Хорошо ли я сделал, что приехал? Идя по холодным улицам, оглядывая фасады домов, я повторяю про себя, что отправился по дороге, ведущей в один конец. Возврата нет. Разрыв с прошлой жизнью слишком жесток. Что со мной будет? Я хочу пить и есть… Не знаю, что готовит мне будущее и есть ли у меня таковое. Спрашиваю себя, может ли прошлое, оставленное с той стороны, получить здесь новое продолжение? Вспоминаю о Белеве и детстве. О погроме, о погребе, о страхе и тоске. А еще — о Льянове и тамошних друзьях, об Эфраиме. Представляю, что он очутился там, где хотел, в стране своей мечты. Вижу вновь Ингу и Трауба, они идут рядом со мной по улице. В мозгу вновь проносится вся прошлая жизнь. Как если бы я шагал впереди смерти. Я цепляюсь за прошлое, боюсь, что оно ускользнет, впиваюсь в него, чтобы не сползти куда-то в черную яму, на моих глазах растущую вширь и вглубь, поглощая молчаливых друзей былых лет. Мне уже понятно, что однажды я сам туда соскользну вслед за ними, я упаду, не моя вина, что я тащу этот чемодан. Не моя, что я выбрал эту дорогу, а не другую. Чего здесь больше: случая или фатальности? Все дороги моего прошлого ведут в Одессу. А счастлив ли Бог в Одессе?
Я поставил чемодан на землю. Перевел дух. Гостиница недалеко. Смелее! Чем набит проклятый чемодан, почему он так тяжел? Личные вещи. Несколько прозаических текстов. Филактерии в маленькой синей торбе. Кое-какие стихи. Слова.
В них — вся моя жизнь.
Скорчившаяся, заваленная снегом Москва куталась, чтобы уберечь тепло. Парализованные морозом, большие улицы не пропускали никого, кроме отдельных пешеходов, возвращавшихся с работы. Время от времени проезжали сани, влекомые маленькими сибирскими лошадками. Из своего окна на втором этаже я смотрел на снег, падавший с низкого серого неба.
Я уже жил в Советской России несколько недель, но чувствовал себя на отшибе, словно на полях повести о собственной жизни. Ни одного письма от родителей и друзей. Льянов и Париж принадлежали другому миру.
Выходил я мало. Я населял свою комнату прежними знакомыми. Их мне не хватало. Я не осмеливался в этом никому признаться: ностальгия не входит в число пролетарских добродетелей, ответили бы мне. К тому же вокруг не было никого, кому бы я доверял.
В секцию еврейских писателей я записался по приезде. Там меня встретили дружески. Некоторые мои стихи из «Листка» здесь были известны. Кое-что даже перевели и напечатали в их ежемесячнике. Мне наговорили уйму приятных вещей, задали невероятно много вопросов о таком-то и таком-то. Я отвечал, как мог. Да, Пинскер живет хорошо. Да, Швебер хорошо работает. Да, его хвалы по адресу русской политической системы привлекают внимание читателей… У меня же был всего один вопрос: что я должен делать, чтобы получить работу?
— Подождите, — отвечали мне. — Первое, чему вы должны научиться, это умению ждать. Терпение!
— А я-то думал, что на родине революции люди должны разучиться ждать, — смеясь отвечал я.
В ответ мне сказали, что я напрасно издеваюсь над революцией. Я понял, что дважды повторять такое здесь не будут.
От моего визита в секцию у меня осталось тяжелое впечатление. Издалека я видел великих: Михоэлса, Маркиша, Дер Нистера, я жал руку Кульбаку, Квитко, Гохштейну. Я знал их произведения, и я ими восхищался, более того, я испытывал к ним уважительную нежность: они были старше меня. Но грустно: у них был вид людей в намордниках, пытавшихся это скрыть. Они здоровались, друг другу улыбались, выдавливали несколько слов о том или ином романе или очерке, но сердце у них ко всему этому не лежало.
Тяжелые взгляды из-под набрякших век, долгие паузы, необъяснимо беспокойные движения. Эти писатели и поэты, одни из величайших, боялись звука и света. Я понял чуть позже: то было следствие пакта с Гитлером. В Москве царило странное умонастроение: евреи инстинктивно начали говорить потише, чтобы не быть такими заметными. Они оставались в кулисах, чтобы Молотов не слишком стеснялся. Уход Литвинова из Комиссариата иностранных дел истолковали в нашей секции как предупреждение всем евреям: надо, чтобы в их душе угасла ненависть к нацистам. Дело государственное: дьявол — уже не враг, но союзник. Евреи всех уровней власти как-то вдруг съежились, они не должны были появляться на публике, чтобы не оскорбить тонкого вкуса достойных визитеров из Берлина. Им предписывалось раствориться в темноте, их уже не брали в расчет. Их мнения, опасения, чувства и сама жизнь уже не много весили на исторических весах. Если бы Гитлер потребовал депортации в Сибирь миллиона евреев, его предложение изучили бы с самой серьезной основательностью, и не думаю, чтобы отклонили. В Москве мои старшие товарищи это знали лучше, чем я.
В секции никто об этом не говорил, даже шепотом. В еврейском театре, в ресторане — тем более. По крайней мере, в моем присутствии.
Может, между собой, вдали от посторонних, они еще чувствовали себя свободными. Мне это неизвестно, одно я знаю точно: в их речах не было политики. Они укрывались в распустившейся пышным цветом литературе о колхозах, вспаханных землях и девственных лесах. Я спрашивал одного из них (имя его не открою, гражданин следователь: он еще жив) по поводу этой бессознательной позиции наших известных интеллектуалов.
— В Париже, — напоминал я ему, — мы сражались, мы с утра до вечера обличали нацизм в журналах, в речах — и все это во имя коммунистической революции. А здесь вы молчите! Не понимаю!
Мой собеседник в ужасе прошептал:
— Прошу вас, перемените тему!
— Но почему?
— Вы только что приехали, вы не можете понять.
А его коллега добавил:
— Мы с вами не в ешиве, молодой человек. Здесь Талмуда не изучали. И не всякий имеет право на толкование. Не заставляйте нас выслушивать то, что не следует слышать.
А третий дошел до угрозы:
— Ворчать — это критиковать партию и ее славного вождя. Тут рискуешь дорого заплатить.
И все стали повторять, что я чего-то не понимаю. Они были правы: я не понимал. Я думал об Инге и ее подпольной борьбе, о Пауле и его команде: они старались мобилизовать свободный мир на борьбу против нацизма. Нет, я не понимал, почему вне той территории, что еще не была нацифицированна, только русская пресса не боролась с нацистской чумой. Я заболевал от этого. Однажды, не имея уже сил сдержать свое расстройство, я упомянул об этом при Гранеке, великолепном переводчике Вергилия. Мягкий, собранный, чудовищно робкий (еще больше, нежели я), он даже поднял руку, словно хотел меня оттолкнуть:
— Не надо, молодой человек, не надо.
— Гранек, послушайте меня, мне нужно с кем-то поговорить, иначе я лопну или сойду с ума.
Мы вышли на улицу. Там я признался ему, как я разочарован. Я рассказал о моих годах борьбы против Гитлера и его банды убийц. О Пауле, его моральном авторитете, его блистательном воздействии на интеллектуальную атмосферу Франции. И в довершение признался:
— Тяжело это говорить, дорогой Гранек, но мне было лучше в Париже. Там, по крайней мере, я мог взывать к общественному мнению, бороться!
— Не надо, не надо, — прошептал Гранек, болезненно и боязливо сутулясь.
Теперь Гранека нет в живых, и потому я могу упомянуть об этом разговоре. «Не надо…» Чего было делать не надо? Приезжать в Москву? Открывать душу коллеге? Мобилизованный во флот, он утонул в 1943 году. Ему, по счастью, выпала счастливая героическая смерть. Если бы он остался жив…
— Не надо вспоминать вслух о прошлом, — прошептал Гранек, пока мы медленно шли по улице от клуба. И, видя мое удивление, продолжил: — Вы разве не знаете? Вы действительно не знаете, что здесь происходит вот уже несколько лет? Ваши друзья… их больше нет.
— Вы хотите сказать, что они уехали из страны?
— Да нет же, мой бедный друг, их просто нет. Ни Хамбургера, ни…
Наконец я понял: их уже нет на свете. Жертвы чисток, они исчезли, не оставив следа. Нельзя о них вспоминать. А не то поймут, что ты их любил, а значит — был их сообщником.
Удар был так силен, что я зашатался. Земля уходила из-под ног, небо падало на голову. Мне вспомнилась последняя беседа с Паулем. Подозревал ли он, что его здесь ожидает? Вероятно. Но тогда почему он вернулся? А мне-то, мне что здесь делать? Впрочем, для подобных сожалений уже поздно. Надо было придумать какую-то цель. Подражать другим. Воспевать великолепие сталелитейных заводов, домен и нового человека, который все это создает под мудрым руководством партии, то есть вы понимаете, что я имею в виду.
Я получил скромную должность корректора в государственном издательстве, в отделе публикаций на французском языке. Ленин, Маркс, Энгельс и, разумеется, Сталин. Я читал переводы на французский их трудов и вносил исправления в гранки. Свою работу я делал, как всегда, старательно, но без энтузиазма. А что вы хотите, я же не философ, а поэт. Чтобы читать, не требовалось понимания — и наоборот.
Однажды мне захотелось повидать настоящих евреев. Я пошел в синагогу. Полное фиаско. Испуганные старики недоверчиво пялились на меня. Маленький горбун спросил:
— Что вам здесь нужно?
— Ничего.
— Вы хотите молиться? А где ваши филактерии?
Я ушел, облитый презрением. Униженный. По сути, какое другое слово могло бы описать мое тогдашнее состояние души? Случалось, я предпочитал находиться среди русских, татарских, башкирских или узбекских писателей. Потому что в их устах восхваления лестной для Гитлера политики приводили меня в меньшее отчаянье, чем речи писателей-евреев, следовавших тем же установкам. Поэтому я и в самом деле видел их все реже и реже. Отстранился, чтобы ненароком не вспылить прилюдно и не спровоцировать беду, от которой пострадают «великаны», — невзирая ни на что, я уважал их. Для их и собственного блага следовало держаться поодаль.
Я снял комнату у глухой старухи. Она похвалялась своим изъяном, как преимуществом:
— У меня вы можете храпеть, топать ногами, биться головой о стену — я даже не пошевелюсь.
Трехэтажное здание на улице Комаровского. Тишина компенсировала недостаток удобств. Не было воды, комната не отапливалась, но, закрыв дверь, я мог любоваться деревьями в окне, забывая об окрестной пыли и грязи.
В другом углу этой квартиры жила молодая девушка Анна, она приехала из Тбилиси и была студенткой Института восточных языков. Мы сталкивались на лестнице или в «гостиной», как наша хозяйка называла собственную спальню, и обменивались короткими вежливыми «здравствуйте» и «до свиданья». В других обстоятельствах я попытался бы завязать с Анной роман. Высокая, тонкая, воспитанная, она напоминала романтических дворянок прежней России. Один ее жест, и я бы загорелся, но я был слишком подавлен, чтобы в женском теле видеть источник страсти. Мне не хотелось ни к кому привязываться.
Иногда наша квартирная хозяйка неодобрительно качала иссохшей головой, но я только отворачивался. Она же не унималась:
— Ай, что за поколение! Не может ухватить женщину и… Ты молод, здоров, она молода, не больна, и… ничего? Совсем ничего? Ах, почему мои глаза должны видеть этот стыд! Почему Всеблагой меня так наказывает?
Но у меня душа к этому не лежала. Мы вступали в эпоху, жестокую и трудную не только для евреев, но и для настоящих коммунистов. Я имею в виду мужчин и женщин, для которых этот идеал заслонял повседневные политические расчеты и дипломатические ухищрения. У нас же нигде не было друзей. Ни союзников. Ни опоры. На улице мы жались к стенам.
Однажды мне захотелось почитать что-нибудь, кроме официальных речей. Я отправился в секцию, чтобы полистать коммунистические журналы, публиковавшиеся за рубежом. Я надеялся отыскать там отклик со стороны тех, кто должен, подобно мне, испытывать растерянность и тревогу. Я убеждал себя: «Хотя бы там они свободны говорить правду и, без сомнения, ее говорят». Как же велико было мое разочарование! Еврейские газеты Нью-Йорка и Парижа, выпускаемые еврейскими объединениями компартии, вторили нашей официальной прессе. Это было ужасно, да, ужасно. Я читал комментарии Пинскера, и кровь приливала к лицу. Соглашательский тон аналитических статей Швебера заставлял меня краснеть. Гранек, мой единственный друг, однажды застал меня за таким чтением. На мои глаза наворачивались слезы. Он накрыл мою руку своей.
— Надо запастись терпением, дорогой, — утешал он меня. — Подумай о древних. Приходит ночь? Но за ней будет день. Темнота несет в себе обещанье рассвета.
— Они лгут, милый Гранек, они лгут. Все мы лжем: и здесь, и там.
У меня сердце разрывалось. У него тоже. Знал ли он еврейских редакторов-коммунистов некоммунистического мира? Да, когда-то он с ними встречался, как и Маркиш, Бергельсон, Дер Нистер. Это было в порядке вещей. Ведь еврейская коммунистическая литература — плод узкого кружка людей. Там все ходят ко всем из любви или из осторожности.
Дер Нистер и его роман «Семья Машбер»… Мне хотелось получше узнать этого сдержанного и сурового человека, который распространял учение рабби Нахмана и был его ревностным духовным сыном. Где он сейчас, гражданин следователь? Может, в соседней камере? Скорее всего, его оставили в Москве. Как мне его не хватает. Вспоминаю его медленную походку, его хрупкую фигуру…
Среди еврейских писателей только один поэт, рыжий, нахрапистый карьерист, приводил меня в ярость. Стихи он подписывал как Арке Гелис. Разгуливал в сапогах, в очень теплой и дорогой зимней одежде. Всегда втирался в беседу, когда его никто не приглашал. К нему относились с недоверием: как только он появлялся, начинали говорить тише. Гранек подозревал, что он связан с органами. Я тоже так считаю. Во время войны он носил мундир вашего ведомства. И имел чин майора. А у вас так просто майором не становятся, гражданин следователь.
Этот Гелис имел счастливый и цветущий вид даже в мрачные дни. Чем более мы были подавлены, тем выше он задирал нос. И все призывал нас избавиться от застенчивости, пассивности, а значит, и от скептицизма, а значит…
— Наша политика справедлива и спасительна! — громовым голосом возглашал он, выпятив грудь. — А сверх того высокоморальна, ибо защищает интересы мирового рабочего класса. Ко всему прочему она отдаляет от нас призрак войны. Надо быть идиотом или реакционером, чтобы этого не признавать!
— А как быть с Гитлером? — однажды спросил я его, стараясь сдержать ярость и отвращение. — Что вы сделаете с его ненавистью к нашему народу? И как терпеть те муки, которые переносят коммунисты в его концентрационных лагерях?
Лицо Гелиса стало пунцовым. Он закричал:
— Как вы смеете! Вы приехали с Запада, чтобы нас поучать? Изгнанный, лишенный всего, вы постучались в нашу дверь, мы вас встретили как брата, и вместо благодарности вы саботируете нашу мирную политику? Вам что, нравится война? Гибель нашей молодежи? Без этого вы так и будете томиться неудовлетворенностью?
Все глаза одновременно опустились долу. Над нашей группкой нависла угрожающая тишина. «Я погиб, — видимо, думал каждый из нас. — Я только что подписал себе смертный приговор». Гранек, казалось, вот-вот упадет в обморок. В его глазах я прочитал упрек: «Я же тебя предупреждал, братец». Мне стало совестно и страшно: подставившись, я и его подвергаю опасности. Я уже хотел как-то исправить положение, но Менделевич, знаменитый драматический актер, избавил меня от этого унижения, встав на мою защиту. Его благородный бас загремел:
— Позвольте, товарищ Гелис, вам известно, что Пальтиель Коссовер своими глазами видел, что делают гитлеровцы? Вам известно, что он помогал тем, кого они преследовали? Вам известно, что он боролся с фашизмом в Германии, Франции и Испании? Вам известно, что он поставил на службу нашему народу (я имею в виду еврейский народ) свое перо, свою душу и даже жизнь, повторяю: даже жизнь?
— Но я же совсем не о том, — забормотал Гелис.
Он весь съежился. То уважение, какое Менделевич вызывал у всех еврейских писателей и ученых, его смутило и заставило отступить. Ведь у актера были связи в верхах. Из самого Кремля приходили на спектакли с его участием. А Менделевич, продолжая на него наступать, переспросил уже в полный голос:
— Так вы не о том? И все же считаете, что так должен вести себя коммунист? И ко всему прочему — еврейский поэт? Мы, евреи-коммунисты, привыкли интересоваться судьбой всех страждущих, уважать каждого, присоединившегося к нашей борьбе. Еврей, нечувствительный к страданиям других евреев, похож на коммуниста, равнодушного к страданиям пролетариата, запомните эти слова, молодой человек! — И, обернувшись ко мне, продолжил: — Пойдемте, Коссовер, выпьем по бокалу вина, и вы расскажете мне о том, чего некоторые недостойны слышать.
Мы вышли из секции еврейских писателей. На улице светило июньское солнце, яркое, серебристое, под его лучами забывались зимние холода и туманы. На душе и на сердце у меня стало спокойно, и я почти вприпрыжку шествовал за знаменитым актером. Поздравлял себя в душе за трепку Гелиса и не знал, как мне отблагодарить своего благодетеля: я был способен на все, только бы сделать ему приятное. Он привел меня к себе в квартиру на Октябрьской улице, усадил в своем кабинете, сплошь заставленном книгами, эскизами декораций, набросками сценических костюмов, стал расспрашивать о том, как я жил и работал, что написал… Я отвечал ему без опасений и колебаний. Редко кому я когда-либо был так благодарен…
Гранек потом признался, что был напуган: думал, что, невзирая на вмешательство Менделевича, моя дерзость дорого мне обойдется. Гелис не мог не доложить об инциденте вышестоящему начальству. А так как он оказался совершенно беспомощным после заступничества актера, то должен был в отместку приписать мне все политические прегрешения, за которые обычно арестовывают, хотя бы только для того, чтобы другим было неповадно. Если честно, я и сам готовился к чему-то подобному: по ночам уже прислушивался, не постучат ли в дверь. То, что на дворе стоял июнь, меня даже несколько успокаивало: эдак в тюрьме я бы не рисковал замерзнуть.
Но случилось чудо. Впрочем, предположение о чуде я с извинениями беру назад: просто началась война, пусть она и спасла меня от тюрьмы, но, кроме того, она стоила жизни двадцати миллионам мужчин, женщин и детей, а вдобавок, как стало теперь известно, привела к уничтожению шести миллионов моих единоверцев. Нет, это не чудо.
При всем том я встретил известие о начале военных действий с явным облегчением. И не я один. Слушая речь Молотова, я чувствовал мощное, совершенно неукротимое желание взреветь от радости: ура! Наконец мы дадим бой Гитлеру и его приспешникам! Теперь уже можно выпустить на волю свою слишком долго обуздываемую ненависть к ним ко всем.
Я выбежал из типографии и быстро зашагал в секцию. Задыхаясь, с горящими от возбуждения щеками я присоединился к коллегам, собравшимся в кружок, в центре которого стоял Менделевич. В этот час я хотел очутиться среди своих собратьев, поздравить их, плача от радости и от гордости, расцеловать, смеяться и петь с ними, выпить несколько рюмок вина, сознавая, что этот импровизированный праздник впервые объединит нас всех, хотя надолго останется и нашим последним торжеством. А будут ли другие? Увижу ли я еще когда-либо тех, кто оказался тогда в секции? Кто из нас выживет, кто падет в бою?
И вдруг посреди этого радостного сборища я внезапно застыл, горло у меня перехватило, на память пришли отец с матерью, сестры и их дети. Теперь между ними и мной пролегла кровавая фронтовая полоса, царство смерти, тысячерукой и тысячеглазой. Смерти, что не ведает поражений, даже временно не отступает, и уж точно не знает удержу.
В горле встал ком, я опустил стакан и закрыл глаза.
Вы меня обвиняли в трусости, гражданин следователь. «Евреи — трусы, — говорили вы, — они всегда устраивают так, чтобы другие сражались вместо них». Так вот, это и верно, и неверно. Неверно в том случае, когда касается евреев вообще, и верно, в частности, в моем случае.
Во время войны, гражданин следователь, во время нашей великой всенародной войны я видел столько смелых, решительных, отчаянных евреев, сколько никогда их не собиралось вместе на протяжении нашей многовековой истории. Так, я помню доктора Лебедева, под вражеским огнем перевязывавшего раны бойцов, стоя на коленях, иногда даже на одном колене (столько лежало моливших о помощи солдат, что второе колено некуда было поставить). Я знал лейтенанта Гроссмана, в одиночку уничтожившего одиннадцать танков. А еще одного мужчину… Мужчину? Скорее подростка, почти ребенка, который легко пробирался через ограждения из колючей поволоки, бросал гранаты под гусеницы танков и бронемашин, а потом дожидался, не двигаясь с места, пока они не взлетят на воздух. Они сражались смело, героически, не нанося урона ни русской, ни еврейской чести, вы уж мне поверьте. Говорю это не ради бахвальства, но, напротив, чтобы показать, что я сам — отнюдь не герой. Мою войну я вел не на фронте, как они, а в госпитале.
И на кладбище.
Какая же гадость, эта война. Сколько трупов. Но прежде всего — какой хаос.
За одну ночь, разом, все перевернулось: целая страна уже не знает, куда податься. Полная неразбериха. Больше ничего не найдешь на прежнем месте. Весь государственный аппарат разлажен. Нет слов — только крики и приказы. Вчерашние союзники стали врагами, безжалостными, кровожадными, дикими. А прежние враги, капиталисты-империалисты-колониалисты, превратились в верных союзников, примерных друзей. Вместо того чтобы расширять наши границы, мы скукожились: непобедимая Красная армия все отступала. А человек… что такое человек? Он годится только на то, чтобы убивать и подыхать.
Не хочу вас разочаровывать, а потому не стоит ожидать от меня обычных военных рассказов о тех подвигах, на которые толкают бойца самоотверженность и смелость. Ничего подобного я не совершил, ни одной битвы не выиграл, не спас от уничтожения ни роты, ни взвода. Как и любой другой, я откликнулся на всеобщий призыв и записался добровольцем, как и всякий, я жаждал сражаться, но не более того.
Обманутая, неподготовленная, целиком замороченная страна пережила первый шок, и все бросились на помощь осажденному врагом отечеству. Торжественная, серьезная, исполненная братских чувств речь Сталина (в ней он назвал нас «братьями и сестрами») вызвала необыкновенный душевный подъем. А еврейское меньшинство воспрянуло всемеро сильнее прочих.
Никакая война в истории не вызывала у населения такого единодушного и страстного отклика. Готовые пожертвовать всем, все сделать ради победы над злейшими врагами нашего народа и всего человечества, мы наконец вполне почувствовали, что принадлежим этой стране. Ощутили общность судьбы: то, что испытывали другие, трогало нас за живое. Мы уже не были подданными или винтиками, находящимися в безраздельном распоряжении того или иного товарища или секретариата, но сородичами и братьями. По всем законам, политически, морально и вплоть до мелких повседневных деталей быта, мы были в одной лодке с остальными, питали одинаковую ненависть к солдатам, которые также ненавидели нас. Как и все, мы желали пойти на любые испытания, всем пожертвовать ради победы. Только я ничем не жертвовал: у меня ничего не было.
Как сейчас вижу эту сцену. Каждан, с зажатым в пальцах мундштуком, уже видит себя на передовой, он там — старшина, увлекающий взвод в атаку. Его аж трясет от возбуждения. Кто-то недоумевает:
— Но ведь ты никогда не служил в армии! Не держал в руках оружия!
— Ну и что? — раздраженно вопрошает он, негодуя, что какие-то досадные подробности помешают ему командовать атакой. — Разве смелость и патриотизм не в счет?
Самое забавное, что в тот момент мы все думали, как он. К черту логику, да здравствует вера!
Фелдринк, ероша заросли спутанных волос, декламировал стихи в духе библейских: там Гитлеру, подобно фараону, было предписано утонуть в пролитой им крови. Он уже видел себя выступающим с речью о военной еврейской поэзии или об еврейской поэзии военного времени.
Хмурый, весь подобранный, плотный Моравский пытается не терять головы:
— Мы, конечно, победим, однако…
Кто-то с вызовом перебивает:
— Однако — что?
— Пытаюсь представить, чего это будет нам стоить, — хмуро уточняет он.
Моравскому уже за пятьдесят, он опасается, что его признают негодным для военной службы. Тем хуже: придется утаить свой возраст. Еврейскому поэту вечно необходимо утаивать свой возраст, чтобы казаться моложе или старше.
На следующий день я узнал, что Каждана и Фелдринка взяли в авиационные войска, а Моравского — в пехоту. Что до меня, то после медицинского освидетельствования, впрочем довольно поверхностного, я был признан негодным. Я возмутился:
— Но я же не болен! Никогда в жизни не болел!
— Никогда? — удивился врач. — А когда было последнее обследование?
— Ой, и не вспомню.
— Так вот, теперь я его сделал, и результаты не блестящи. Говорю прямо, нам сейчас темнить не с руки.
— А что не в порядке?
— Сердце.
Я тоже «выкрутился»: сделал вид, что моя медицинская карточка потеряна, и, воспользовавшись ужасающей неразберихой на всех ступенях власти и жизнедеятельности во всех отделах любого наркомата, быстро сменил потертый штатский костюм на не менее поношенную армейскую гимнастерку.
Наконец — впервые с тех пор, как приехал в СССР, — я был счастлив. Ведь все может случиться в жизни поэта, и действительно случается всякое. Я с состраданием представлял себе своих парижских друзей, изнывающих под игом немецкой оккупации: им не выпало такой удачи, как мне.
Только не подумайте, гражданин следователь, что сын Гершона Коссовера, а тем более ученик реб Мендла-Молчальника внезапно преобразился в бесстрашного и неукротимого русского воина, в какого-нибудь казака на лихом коне. Несмотря на шинель и воинскую книжку, я не умножил число сражавшихся с моторизованными немецкими частями. Невзирая на опыт, приобретенный в интербригадах, я натыкался на непреодолимые препятствия. Я был полон решимости, делал искренние попытки, но не смог вписаться в жесткие условия армейской жизни. С моей неспортивностью все обошлось: от этого не умирают. С внезапными побудками и марш-бросками я тоже как-то справлялся. Правда, я кашлял, шла горлом кровь, меня мучили головная боль и бесконечные сердцебиения, однако я не жаловался. Солдат Пальтиель Гершонович Коссовер готовился к войне, не вызывая нареканий начальства.
А вот чего я не мог выносить — вы будете смеяться, — так это армейского жаргона. Я имею в виду не владение языком: с ним я уже достаточно хорошо освоился, чтобы говорить, как любой из моих товарищей. Но вот жаргон! Мне не удавалось к нему приспособиться. Слишком грубый и оскорбительный, слишком примитивный. Я бледнел от усталости, но одновременно краснел от стеснительности, как невинный ученик ешивы, в ярмарочный день невзначай очутившийся на площади среди пьяной швали.
В Испании все было не так. Конечно, и там солдаты не вели себя, как святоши, они сходили с ума от каждой юбки и ругались неистово, изобретая все новую похабщину, будто опасались, что старой им не хватит. Но там я, к счастью, не понимал их речей. Для того чтобы оценить всю их оригинальность, пришлось бы освоить начатки трех десятков древних и новых языков. А тут я все понимал. И помимо сознания и воли мало-помалу сам начал говорить так же, как соседи по казарме, то есть таким же образом, как любой солдат Красной армии.
Наша часть входила в состав 96-й пехотной дивизии, где можно было встретить представителей всех народов СССР: калмыков, узбеков, татар, грузин, украинцев. Их глаза видели и сибирские снега, и украинское солнце, помнили темные воды Волги и Днепра. Высшее командование держало нас в резерве для обороны Москвы, которая ожидалась зимой. Все отказывались в это поверить и, однако, верили. Захватчики продвигались все вперед и вперед, они казались непобедимыми, несокрушимыми, безжалостными, словно всадники Апокалипсиса. Наполеону это уже удалось. Но мы корсиканца вздули и собирались так же, если не еще жестче, поступить с берлинским маньяком. Пусть только попробует, мы ему башку открутим и проволочем по московскому снежку. Надо было проводить одно учение за другим, готовясь к тому решающему дню. Были ли мы действительно к нему готовы? Не думаю. У нас ничего не было, даже ружей. Но что до живой силы, тут наши резервы оставались неисчерпаемыми.
А вот мои личные силы уже подходили к концу.
В начале сентября я стал причиной довольно неудобного, с точки зрения начальства, происшествия во время инспекции генерала Колпакова. В ожидании этого события мы много раз повторяли одни и те же проходы и атаки, многократно впадая в какое-то коллективное безумие, без которого ни одна уважающая себя армия не может функционировать. Лейтенанты орали, сержанты вопили, бедные солдатики бегали туда-сюда, карабкались, падали и вскакивали, отдавали честь, замирали, уставившись в какую-то невидимую точку справа или слева от себя, прямо перед собой, выполняли команду «на пле-чо!», клацали винтовкой, как кнутом, вскидывали ее и прицеливались, кнут щелкал снова — и все сначала. Генерала боялись так, что на время забыли даже о противнике.
И вот великий день настал. Выстроившаяся в каре 96-я дивизия с развевающимися на ветру знаменами четко, как один человек, откликалась на команды полковника — начальника лагеря. Застыв неподвижно, словно бетонная свая, стоял и я. Генерал обходил строй. И вдруг остановился, причем прямо передо мной. Он стал меня разглядывать с головы до пят, будто какое-нибудь экзотическое дерево, упавшее на плац прямо с небес, притом в солдатских штанах и гимнастерке. Окаменев от испуга, я старался смотреть сквозь него, чтобы не показать, как я его боюсь. А чтобы лучше скрыть замешательство, прибег к старому доброму приему: мысленно перенесся куда-нибудь подальше — вот я снова с Ингой в Берлине, с Шейной в Париже, с отцом и матерью в Белеве. И тут отец грустно спросил меня: «Это ты, сынок? Это и вправду ты?» — «Ну я, твой сын. Приглядись получше, может, узнаешь». — «А ты действительно остался моим сыном? Ты выглядишь по-другому. Говоришь, ешь, одеваешься, будто какой-нибудь Иван или Алексей. Не как настоящий еврей». — «Ну что ты, у меня даже тфилин с собой — в торбе на плече, хочешь, сейчас надену?» Он кивает. Я достаю вещмешок, дрожащими руками открываю его, роюсь среди странных вещей, что туда напиханы, ищу торбу для ритуальных свитков и не нахожу. Весь обливаюсь обжигающе холодным потом: куда же я дел свои филактерии? Мне так страшно и стыдно, что уже нет сил держать равновесие: я цепляюсь за отца и растягиваюсь у его ног… то есть падаю, вытянувшись по стойке смирно, как положено по уставу…
Очнулся я уже в госпитале. Какой-то усатый дядька с перекошенной от злости рожей орал у меня над ухом:
— И этот жалкий кретин, эта скотина вздумал сражаться с немцами?
Отвращение душило его, он хрипел, брызжа слюной:
— Куда ты затырил свою медкарту? Спрятал, сукин сын? Вздумал поиграть в героя? От тебя здесь один беспорядок, а тебе наплевать? Из-за тебя мы теряем драгоценное время, а тебе наплевать? Знаешь, как такие штучки теперь называются? Саботаж! А что за это полагается? Пуля!
Он хотел меня отправить куда-нибудь в тыл, в гражданский госпиталь, а потом послать «к домашнему очагу». Прямо так и сказал! Я с ним спорил, грозил покончить с собой:
— У меня нет очага, я не знаю, куда идти, у меня нет никого: я — поэт!
Звучит абсурдно, глупо, смешно, но именно последний аргумент убедил доктора Лебедева, еврея из Витебска, что меня не надо далеко отсылать. Он оставил меня под своим началом и даже объяснил почему:
— Знаешь, один парень, влюбленный в очень красивую девушку, стал ей писать по письму в день… Так вот, она вышла замуж за почтальона.
— Не вижу связи.
Он, похоже, рассердился:
— Не видишь? Ну так я тебе сейчас объясню. Дело в том… в том… А, черт, я рассказал не тот анекдот. — И он расхохотался: — Просто я таких повидал. Ты бы нашел способ вернуться и всем нам жизнь отравить! Нет, раз ты уже здесь, лучше оставить все, как было.
С его легкой руки я и стал санитаром, из тех, что бродят с носилками в поисках раненых.
— Будешь таскать других, пока самого не потащат, — пояснил Лебедев.
Одним словом, так началась и закончилась моя воинская эпопея.
Лебедев был воспитанным и мягким человеком. Когда он вспоминал Витебск, на его морщинистый лоб падала черная прядь, а губы нервически подергивались. Мы прекрасно понимали друг друга, хотя были совсем разными людьми. Он, например, пил, как лошадь, я же только делал вид, что пью. Я часто злился, а он лишь притворялся, что тоже рассержен. Он запрещал мне курить, а мне его махорка нравилась почти так же, как ему самому.
— Черт тебя возьми, — отечески укорял он меня. — Если б ты и так не был болен, тут уже наверняка бы заболел. А если б я не был уверен, что ты скоро сдохнешь, сам бы задушил вот этими руками!
— Как же так, товарищ врач? Вы что, мало больных угробили? Надо еще чуток?
Я знал, как его рассмешить, и он был очень мне благодарен за это. Вот мой вклад в дело войны: я смешил. А в те времена, осенью 1941 года, смех ценился, он тогда был редкостью.
Газеты об этом молчали или упоминали весьма невнятно, но наша армия, застигнутая врасплох немецким ударом, выглядела довольно жалко. Я-то знаю: сам там был. Оборону никто не подготовил, все действовали наобум, почти вслепую. Города и укрепрайоны сдавались без сопротивления: вражеские танки крошили все на своем пути, защитники гибли, как мухи, или сдавались всем скопом. От поступающих раненых и из планов эвакуации, над которыми корпели в наших штабах, медики знали, что происходит. После Киева, Одессы, Харькова подходил черед Москвы.
С каждым днем Лебедев становился все более хмурым. Он знал нечто такое, о чем я не догадывался. Я задавал ему вопросы, но он их жестко отметал. Когда я настаивал, он сердито отворачивался. И все же однажды, сидя в натопленном бараке с бутылкой водки на столе, он заставил меня поклясться, что сохраню все в тайне, и в общих чертах обрисовал положение евреев на захваченных немцами землях. По сообщениям партизан и агентов, заброшенных за линию фронта, можно было судить об их истреблении.
— Не понимаю, не понимаю, — озадаченно твердил он.
— Что тут непонятного, товарищ полковник? Немцы ненавидят евреев, русских и коммунистов. Они достаточно много об этом кричали. А теперь все эти люди в их власти. Вот они их и убивают, это в порядке вещей…
— Но все-таки, все-таки, — повторял Лебедев и пил.
— Вы их не знаете, а я знаю. Они — бесчеловечные варвары. Способные на все ужасное, что можно придумать.
— И все-таки, все-таки, — не унимался Лебедев, совсем меня не слушая.
Он прислушивался к другим голосам, тем, что звучали в его собственной душе.
— Я знаю всех в Витебске. Я там вырос. Я там лечил больных, всех, без различия веры или крови. Почему добрые жители Витебска позволили этим извергам убивать своих соседей-евреев? Они ведь могли их защитить. Спрятать. Но не сделали этого. Сорок лет коммунистического воспитания… Не понимаю, не понимаю.
Между нами была большая разница. Я знавал Берлин, а он считал, что ему все известно о Витебске. Витебск просто пожертвовал теми, кого Берлин приговорил к смерти.
— И все-таки, все-таки, — бормотал Лебедев. — У меня есть друзья, которым я подарил год, два или десять лет жизни.
Успела ли его семья уехать из Витебска? Мне хотелось задать ему этот вопрос, но в конце концов я решил не спрашивать.
Дни и ночи длились, как в нескончаемом сне. По мере того как наши армии отходили, в лагере для подготовки бойцов все жарче кипела жизнь. Вокруг Москвы жители рыли траншеи. Здесь же врачи готовили передвижные госпитали. Если октябрь прошел в атмосфере повышенной тревожности, то в ноябре воцарилось недоверие к слухам. Враг продвигался слишком быстро по слишком многим направлениям одновременно. Боги войны ему благоприятствовали. Спасти нас могло только чудо, но кто, кроме евреев, верит в чудеса? Да и евреи навряд ли теперь в них верили.
Однако же чудо случилось. Оно слишком известно, чтобы мне на нем задерживаться: генерал Мороз перешел в наступление, и все закончилось. Вместо того чтобы принимать солдат, раненных в боях, наш лагерь стал лечить жертв обморожения. Мест не хватало, но мы не жаловались. Напротив, мы поздравляли друг друга с таким везением, словно внезапное необъяснимое падение температуры было подвигом, задуманным и исполненным нашим высшим командованием.
Странное дело: хотя я и был с медицинской точки зрения болен, причем серьезно (все это есть в моем личном деле), внешне на мне это никак не сказывалось. Мое состояние не только не ухудшалось, но я себя чувствовал вполне нормально. Лебедев не скрывал удивления:
— На моих глазах ты помирал, а теперь ходишь бойкий, словно маляр на стройке.
— А почему маляр, товарищ полковник?
— Не знаю. Я одного такого когда-то видел у себя в городе. У него был вид носильщика.
— А почему носильщика, товарищ полковник?
— Не знаю. Потому что… Оставь меня в покое.
Долгие мрачные вечера мы коротали за разговорами, речь шла о евреях, о литературе, философии. Он знал, что я поэт, но я обходил эту тему. Фронту нужны были солдаты, а им — медбратья с носилками, а не поэты. Но однажды ночью, когда царило какое-то особенное молчание, как в первые времена творения, я не мог не процитировать ему несколько стихов о смерти и об умирающих. Они принадлежали не мне, а одному малоизвестному средневековому автору, дону Педро Барсалому, уроженцу Кордовы и другу кастильских евреев. В моем переложении на идиш это выглядело так:
Ах, эти немые и кровожадные умирающие! Они вечно толпятся в памяти ангела, его же и проклиная…— Хорошо читаешь, — одобрительно кивнул Лебедев, вытягивая ноги на кушетке. — Продолжай.
Я прочитал вторую строфу:
Ах, смерть, ты способна гасить горящее пламя, но солнце, молю, не туши, что тебя освещает…В эту ночь Лебедев забыл о бутылке. Прикрыв глаза, он слушал. Ждал продолжения, но я все забыл.
— Читай еще, — попросил он.
Я же рылся в памяти, возносил мольбы своему приятелю сефарду Давиду Абулезия, благодаря которому открыл для себя этого кастильского поэта, но все напрасно. Усталость и давящее напряжение тех дней измотали ум, я жил от радиосводки до радиосводки, от приказа к призыву, из тех, что выдавали на-гора наши политруки. А Лебедев не унимался.
— Ну же! — нетерпеливо подстегивал он. — Ты что, спишь?
И тут я от безвыходности и отчаяния стал импровизировать. Разумеется, не подавая виду. Позднее, когда я открыл ему правду, он очень смеялся.
— А что хуже: приписать себе чужие стихи или чужому — свои?
Я отвечал ему, что поэты и берут, и отдают обеими руками: чем больше получают, тем ревностнее возвращают. Поскольку поэзия…
— Ты мне сейчас прочтешь цикл лекций о поэтическом мастерстве? Нет, так не пойдет, — заявил он, вставая с койки.
— Прошу прощения. Увлекся. Больше не повторится.
— Ну вот, он уже и губы надул! Я тебя обидел?
Я промолчал.
— Если обидел, прими мои извинения. Не знал, что ты такой чувствительный.
— Да нет, просто… — Я запутался, мне никак не удавалось закончить фразу.
Лебедев попытался меня успокоить:
— Все хорошо. Для санитара ты все-таки престранный экземпляр.
— Я еще и престранный тип для поэта, товарищ полковник.
Те ребяческие вирши, что я придумал для него взамен позабытых строф дона Педро Барсалома, вылетели у меня из головы, как и все прочее, что тогда сочинилось. Зима похоронила в снегу мой голос. Я смотрел, как Лебедев отрезает руки и ноги, я склонялся над умирающими, вдыхал запах их ран — и мне нечего было сказать тем, кто будет жить после меня. На моих глазах оборвалось столько жизней, что смерть убила во мне слово. Я слушал голос ветра, прилетевшего из дальних степей и визжавшего, как тысячи животных у ворот бойни. Он заглушал то, что вырывалось из моего рта.
— Лучше пей, — говорил Лебедев. — А то ты уже доходишь.
Мне становилось все хуже и хуже. Однажды голова закружилась так, что я упал в снег, чтобы передохнуть. В грудь вонзились иголки.
— Ничего страшного, — успокоил я Лебедева. — В сердце кольнуло, это нормально. А с вашим сердцем все в порядке, товарищ полковник?
— Выпей-ка лучше, — отозвался он. — В твоем случае без этого нельзя.
Два санитара отнесли меня в госпитальный барак. В бреду я раздваивался: сам становился тем санитаром, что нес меня же на носилках. Я слышал голос, да не один, а целых пять, даже десять. Все они спрашивали, не болит ли у меня то или это. А я отвечал: «Да, очень болит: вот здесь и здесь… Но какая разница, ведь я брежу, брежу, и, сдается, я наконец имею полное право бредить».
Как в волшебной сказке, за мной стали ухаживать медсестры, а я воображал, что они очень красивы, нежны и изысканны. Они помогали мне есть, пить и все такое… Я позволял им обращаться с собой, будто с малым ребенком. Их умелые, точные движения казались мне ласками. Чудилось: достаточно на них посмотреть — и я смогу подняться, пойти за ними… и жить. Я в них влюблялся — во всех вместе и в каждую в отдельности. Наташу я любил за то, что она была крепкая, Полину — за то, что слабенькая, Зину — потому что рыжая, а Галину за то, что она напомнила мне девочку-цыганку из Льянова. Я любил их, потому что был слаб, беззащитен и чувствовал потребность кого-то любить. Но у меня имелись соперники, притом многочисленные. Все мужчины в палате, включая умирающих, начинали чаще дышать, когда появлялась сестра со шприцем или миской супа. Всех этих очаровательных, обволакивавших душу и тело девушек я быстро позабыл. Едва покинул госпитальную палату, они полностью стерлись у меня из памяти. Потому что другая женщина, как говорят в таких случаях, покорила мое сердце. Ее звали Рая, она была лейтенантом в политотделе дивизии. Каждый раз, как она заходила к Лебедеву, на меня наваливался такой страх, что я вздохнуть боялся. Обычно она врывалась, словно вихрь, шла прямо на полковника и требовала показать ей списки больных. Садясь в углу у стола, она казалась значительней всех офицеров, что были старше ее по чину. Меня же, простого солдата, она не удостаивала даже обычно полагающегося приветствия. Почему я в нее влюбился? Вы снова будете смеяться: мне нравились ее мундир, погоны, властность.
Проклиная чертовски свирепую зиму, не ослаблявшую мертвой хватки, и собак-фрицев, которым не сиделось на месте, а также самострелов-дезертиров, уклоняющихся от службы, изобретая всякие там обморожения и болячки, она одним движением скидывала длиннополую шинель, в которую была закутана, нахлобученную на белокурые волосы меховую ушанку, закрывавшую половину лица, и бралась за бумаги, приговаривая: «А теперь посмотрим, что нам покажут». Она говорила по-крестьянски жестко, материлась за пятерых, пила за десятерых. А мне, еще красневшему от малейшей грубости, это нравилось. И Лебедеву тоже, он мне в том признавался. Но я был осмотрителен и скромно держался настороже: не желал выставлять себя на посмешище.
— У, стерва, — ворчал Лебедев. — От нее мужики с ума сходят, она бы и черту вскружила голову, попадись он ей.
Я был уверен, что он с ней спит, как и прочие офицеры. Старшие офицеры постоянно, младшие — от случая к случаю. А нам оставалось сожалеть, что не имеем права никем командовать, даже солдатами чином ниже рядовых, поскольку таковых не бывает.
Абсолютно — до распутства — свободная, она подчиняла каждого своему капризу. Я представлял ее в кровати, в ее ночной «униформе», приказывающей своим любовникам: «Люби меня, если не хочешь проснуться в тюрьме или в Сибири». Я бы и в Сибирь отправился с ней или хотя бы из-за нее. Да здесь и без того было как в Сибири. Мы тонули в снегу, коченели, как во Владивостоке, слезы и плевки застывали на лету.
Весной дивизия получила приказ выдвинуться к линии фронта. Заваленный работой, я не имел времени томиться по Рае: нашему госпиталю было предписано держаться поближе к сражавшимся частям. Враг готовил наступление, а у нас недоумевали, на каком фронте это произойдет. Везде готовились к отражению натиска и к контратакам. Изучали карты, следили за облаками, чистили ружья, смазывали пулеметы. Считали часы и минуты. И вот однажды ночью небо и земля раскололись. Бесчисленные пушки с обеих сторон принялись изрыгать огонь. Померкли закаты и восходы, нигде не осталось ничего, кроме войны. Прорывы обороны и отступления, позиции, переходящие из рук в руки, деревни, по которым мы пробегали взад и вперед, так и не понимая, наступает ли рота или отступает. Среди всего этого я не вылезал из какой-то фантасмагории, не видел уже никого и ничего, кроме раненых, у которых не было сил даже стонать, кроме изуродованных тел, остекленевших глаз, оторванных рук и ног. Под солнцем и дождем, под снарядами, по ручьям и перелескам, в разгар атак и в часы затиший я сновал туда-сюда с носилками, как и мои товарищи-санитары. Мы следовали по пятам за первой волной атакующих или отступающих, перенося неизвестных ребят, которые только что кричали «За родину, за Сталина!», а теперь молили о помощи. Их зовы преследовали меня даже во сне. Случалось просыпаться от крика раненого, чьи руки тянулись ко мне, ко мне одному.
Окруженный мертвецами, с головой погрузившись в царство смерти, я выполнял свой долг с удовлетворением и даже гордостью — чувствами, которых не пытался выразить словами: героем я себя отнюдь не считал, однако подставлял голову под пули так, словно и на свет явился только для того, чтобы бросить им вызов.
Сквозь взрывы гранат и треск пулеметов я чутко распознавал стоны своих изувеченных товарищей, ухитрялся находить их в воронках от снарядов и среди дымящихся развалин. Постепенно я научился подразделять стонущих на серьезно раненных и тех, кто не нуждается в срочной помощи, и ставил предварительный диагноз, даже не осматривая их. Пригибаясь, я бегал по окопам, подбирая сначала офицеров рангом повыше, а затем солдат, пострадавших серьезнее прочих. Я трусил рысцой, метался — и вот теперь, когда вспоминаю войну, на память прежде всего приходит этот бег, постоянный, до потери дыхания. Наклонишься на секунду над убитым бойцом и уже спешишь к следующему, еще живому, но жестоко раненному в глаз, в грудь или в плечо. Задыхающимся голосом по-дружески пробормочешь какие-нибудь лживые утешительные слова… Мол, ничего, не надо волноваться, лучше покрепче уцепись за меня и дай себя потащить, понести или поддержать: «Помощь близко, дружок! В двух шагах отсюда тебя ждут врачи, они тут замечательные, сам убедишься… ну же, дружок, сейчас придем, повезло тебе, ведь мог там загнуться, а теперь с твоей раной управятся, уж мне поверь, она у тебя неопасная, я-то знаю, я в этом понимаю чуток: тебя же так, царапнуло, ты обязательно выберешься…» И раненый, если он был в сознании, сжимал зубы и цеплялся за меня, словно утопающий, изо всех сил. Другие, полумертвые, прерывисто шептали или хрипели что-то невнятное, взывали к маме, к бабушке или к святой матери их Бога. А я их подбадривал, призывал не умолкать, кричать или говорить что угодно, ведь пока они кричали, они были живы, их смерти я боялся, пожалуй, больше, чем собственной. Я бежал туда, где было жарко, бегом возвращался с ранеными, говоря с ними и не давая им умолкать. Они матерились или плакали, кто хныкал, как бессильный старичок, кто скрипел зубами. Над нами свистели пули, от зажигательных бомб вставали стены алого или желтого пламени, люди бросались в рукопашную с криками «Ура!», «За родину!», «За Сталина!», «Ура!» — и падали, скошенные на бегу, не успев ни докричать, ни хоть что-то разглядеть… А дальше уже: «На помощь!», «Сюда! Сюда!» Из всех слов, придуманных богами и людьми, только эти еще имели какой-то смысл. Я и другие санитары с носилками, мы бросались к этим несчастным, чтобы они не попали в когти врага и выжили. Отправляя их в тыл, я чувствовал себя победителем. Спасая незнакомого человека, я заставлял смерть посторониться и хотя бы часок подождать.
Я благодарил Бога за то, что у меня больное сердце. Будь я в добром здравии, то очутился бы среди воюющих бойцов какого-нибудь полка, убивал и под конец меня убили бы тоже. Тем самым я бы раздвигал пределы царства смерти. А вот бегая с носилками, я их сокращал.
При этом полковой хирург Лебедев, усталый, с расширенными от раздражения зрачками, выговаривал мне:
— Ты все никак не уймешься? Считаешь себя бессмертным?
— Только как поэт, товарищ полковник, только в этом качестве! — восклицал я, продолжая свой бег.
— Ты и вправду чокнутый, причем опасно. Думаешь, смерть обходит поэтов стороной?
Я же укладывал принесенных раненых и снова отправлялся на линию огня, а Лебедев опять вставал к операционному столу. Мы оба были чокнутыми. Нас ничего не останавливало. И все же однажды…
Дело было под Смоленском, во время особенно кровавой атаки, стоившей нам четверти боевого состава. Один из немецких солдат, раненный в горло, вцепился мне в сапог, по-немецки умоляя его пристрелить. Я попытался высвободиться, но он меня не отпускал. Я нагнулся к нему: он был бородат, со свирепым оскалом, корчился от боли и вдобавок, как я углядел, ранен еще и в живот. Глаза у него немыслимо побелели, губы раздулись. Он бился в конвульсиях и прерывисто бормотал:
— Сжалься, камрад, убей меня!
А я, поколебавшись какую-то секунду и преодолев отвращение, отвечал на плохом немецком:
— Исключено. Не имею права.
Он повторил свою просьбу уже сквозь слезы, и я, тщательно подбирая слова, постарался успокоить его:
— Потерпи, ты еще поживешь. Вот отнесу своих и приду за тобой.
И я, как последний идиот, сдержал слово. Оставил лежавшего в луже крови фрица, чтобы вынести усатого сержанта, который тер глаза и орал, что ему их выжгло. Тот сержант был крепкий парень и весил целый центнер, но мне каким-то образом удалось его оттащить; я его толкал, тянул, волочил, нес к медпункту, твердя то, что он хотел услышать: глаза пока в порядке, он еще вернется в свою Киргизию, увидит жену и детей… А потом я пошел за немцем. Тащу его к медпункту, укладываю между ранеными, которых медбратья относят в палатку к Лебедеву и его помощникам, а там с бесстрастными лицами их осматривают, ощупывают и кромсают. И вдруг слышу голос, который кажется знакомым, хотя и принадлежит какому-то, пусть недавнему, но уже подзабытому прошлому:
— Солдат! Что ты собираешься делать с этим типом?
Подняв глаза, я встретил холодный, жесткий взгляд лейтенанта Раисы. Она меня не узнала.
— Ну же, отвечай! — прошипела она. — Почему этот чертов фриц здесь?
— Он ранен. В горло и в живот.
— Так пусть сдохнет!
— Ему больно, — пробормотал я, отводя глаза.
— Врачи перегружены, а ты хочешь, чтобы они занимались еще и этими бешеными псами?
Между тем раненый открыл глаза и смотрел на нас; не разбирая слов, он понял, что речь идет о нем, и снова принялся стонать, умоляя прикончить его наконец.
— Вышвырни его отсюда! — приказала она.
Я же, как дурак, продолжал спорить… Всего в нескольких шагах люди гибли сотнями, тысячами, а я упорствовал, стремясь сохранить одну вражескую жизнь. На мое счастье, немец сам оказал мне услугу: через несколько секунд он любезно испустил дух. Риса, одарив меня взглядом, полным отвращения, ушла. Я только вздохнул: надо же, ведь еще недавно я считал ее доброй, мечтал о близости с ней!
Лебедев, которому она сообщила о происшедшем, встал на ее сторону:
— На войне как на войне, дорогой мой поэт. Сантименты — это хорошо для влюбленных, а любовь может сгодиться только для твоих песнопений, мне же со всем этим возиться некогда. Если ты еще не понял, то теперь заруби на носу, нравится тебе это или нет. Жалость, малыш, надо приберечь для своих, наши заботы нужны нашим бойцам. А немцы пусть подыхают! Могли бы не вылезать из своих пивных и не соваться сюда!
Все солдаты нашей дивизии думали, как он, его устами говорила сама Красная армия. Ненависть к захватчикам испытывали все без исключения. Месть — самая жгучая из навязчивых страстей. Никакой пощады эсэсовцам, убийцам стариков и детей, никакой жалости к их наймитам! Естественное чувство для бойцов, уже теснивших захватчиков и находивших в каждом отвоеванном городе виселицы и забитые трупами рвы. Я и сам ощутил эту жажду отмщения, дойдя до Харькова. Если бы мог, я бы перевез развалины этого города в Германию и во все страны мира. Харьковские обугленные липы, иссеченные взрывами, засохшие тополя с повешенными, что болтались на ветвях, — я бы их расставил по всем паркам, во всех городах, уютно обжитых и украшенных.
Промышленные пригороды лежали в развалинах, предместья разграблены, порушено все: дома, магазины, склады, школы, конторы, бараки, где жили заводчане. Нацистская тактика выжженной земли оставила от всего этого только пепел. Сущий ад. Наш сержант, уроженец Харькова, показывал нам город и плакал:
— Вот Сумская улица, когда-то такая богатая была, что дух захватывало! Вот улица Петровского, где жил мой дядя, ректор университета! Вот сквер, мы сюда приходили на демонстрации…
Было похоже на бред: он видел оживленные и шумные улицы там, где царили смерть и разруха.
Наша дивизия расположилась в деревеньке в десяти километрах от города и окопалась там в предвидении немецкого контрнаступления, которое, как мы полагали, не заставит себя ждать. Фронт отходил, однако наш командующий, генерал Колпаков, получил от Ставки разрешение усилить оборону наших позиций, пока не придет подкрепление. Мы получили несколько дней передышки, когда ночью можно было наконец выспаться.
Лебедев расположился в самом Харькове, а я — у деревенской крестьянки. Но я не жаловался: я ел лучше, чем мои начальники. Одетая во все черное бравая бабуся, у которой я жил, относилась ко мне, как к своему сыну, пропавшему без вести во время сдачи города в октябре сорок первого. С ней оставался только умственно отсталый внук. Вечерами я расспрашивал ее о том, как они жили во время оккупации. Она рассказывала, пока не засыпала, а я до утра не смыкал глаз. От сотни тысяч евреев, которые жили, работали, учились и учили в Харькове, почти никого не осталось. Я боялся, что погибшие соплеменники придут навестить меня во сне.
Я ходил по городу в поисках своих родственников. Расспрашивал их старых сослуживцев, партизан, тех, кто прятался по подвалам, агентов безопасности — безрезультатно.
Тогда я один, без спутников, отправился в Дробицкий Яр. Там немцы уничтожили от пятнадцати до двадцати тысяч евреев. Я хотел выплакаться, но слез не было. Слова тоже не шли из горла. Однажды, подумалось мне, я еще прочту над ними кадиш. Но не сейчас. Как-нибудь попозже.
Я приходил туда каждый день, на час, на два. Это место притягивало меня. Там я чувствовал себя среди своих. У себя дома. Но что я мог им сказать? И все же… Чтобы прочитать кадиш, надобно десять человек. Как их собрать? Не попросить ли Лебедева помочь?
— Когда тебе понадобится, помогу, — откликнулся он.
Итак, понял я, это можно сделать. Но когда?
Я побывал всюду, где что-то продавали с рук и покупали. Там стояли люди в лохмотьях… И торговали невесть чем… Пустыми коробками, чинеными-перечинеными вещами, которые вряд ли еще можно носить. Словно в каком-то трагифарсе. Кто-то даже смеялся, и я спрашивал себя, кому тут может быть весело?
Однако настал день, когда мы должны были двинуться дальше. Колпаков приказал выступать в два часа дня. Но противник уже в одиннадцать яростно атаковал нас. Дивизия храбро оборонялась, потеряла несколько танков и вынуждена была отступить: мы могли попасть в окружение. Лебедев спасал свой госпиталь, а про меня забыл. Раненный в голову, я лежал в беспамятстве на дне снарядной воронки. Потом проснулся в каком-то темном и промозглом погребе. Кровь текла у меня из глаз, носа, изо рта. Боль ритмично билась в висках. Запаниковав, я попытался приподняться, сориентироваться, выяснить, куда я попал. А мои товарищи? Где они? Я уловил чье-то дыхание и прошептал: «Кто тут?» По хриплому нечленораздельному звуку, раздавшемуся в ответ, я сообразил, что это несмышленый внук бабуси, у которой я ночевал. Я попросил его подойти, но он не отозвался. А все же оттого, что я не один, стало как-то легче на душе. Потом открылась дверь. Вошла бабушка, опустилась возле меня на колени и едва слышно принялась рассказывать: «Да смилуется над нами Господь. Наши ушли. А те снова взяли деревню. Ну я тебя и отнесла в погреб. Внучок помог. Если бы они нашли тебя там, то сразу бы прикончили. А если тебя здесь найдут, убьют нас всех». До меня ее голос доходил словно издалека, через другие голоса и звуки, и я уже смирился с мыслью, что не увижу великого дня победы, умру, как и те евреи, убитые в Дробицком Яру, и даже не как они, не как еврей, а просто как русский пленный, так что никто не узнает, кто я таков, никто не придет прочесть надо мной кадиш. «Ты уж постарайся быть поосторожней, — упрашивала меня старушка. — Я-то их знаю: они нипочем не уймутся. Будут обыскивать дома, с собаками облазят все развалины, начнут хватать всех подозрительных, платить доносчикам, мне ли их не знать…»
— Так ты будешь поосторожней?
Я не отвечал. Меня мучил один насущнейший вопрос: когда все это случилось? Старуха утолила мое любопытство:
— Сегодня утром. Они напали на нас еще до полудня. Это было, как буря. Теперь все начинается сызнова.
— А Харьков? Кто в Харькове, бабушка?
— Да не знаю, милок, не знаю. Надеюсь, что наши. Ведь Харьков — большой город, нельзя его отдавать. Это не то что наша деревенька, зачем жертвовать молоденькими солдатами ради такой малости? Не возьмут сегодня, отберут завтра. Не веришь?
— Да верю, бабушка, верю. Я тоже так думаю…
На самом деле я так не думал. Я вообще ни о чем не думал, кроме как о смерти.
Старушка протянула мне крынку теплой сладковатой воды. Я отхлебнул несколько глотков. А из ран все шла и шла кровь, жизнь явно угасала, и на сердце наваливалась тяжесть.
— Уж не знаю, как это выходит, — причитала старушка, — но теперь наша деревенька кажется побольше иных городов. Столько крови здесь пролилось! Столько ребят полегло… Пять раз ее захватывали, а потом отбивали. Людей положили страсть сколько. Разве кто будет так драться за какую-то малость?
— Ты права, бабушка, там, наверху, вашу деревню считают стратегически очень важным пунктом, — заверил я, чтобы сделать ей приятное. Однако на самом деле я никогда раньше не слышал названия этого села.
Старушка между тем постановила:
— Останешься здесь. Мы с Митей за тобой присмотрим. Только будь поосторожней. А нам пора уходить. Сосед может зайти. Нужно, чтобы он застал нас в дому.
Я провел в этом подвале трое суток. Я бредил от лихорадки и боли, кусал пальцы, чтобы не стонать. Время от времени ко мне приходил Митя, приносил теплой воды и вареную картофелину, садился рядом и тихо повизгивал, как побитая собака. Был ли он действительно умственно отсталым? Я так не думал. Скорее всего, хитрая бабушка таким образом оставила мальца при себе. Он меня понимал… Вообще, уверен, он много чего понимал. Если я просил его принести мокрое полотенце, он делал вид, что не понял. Но через часок являлась старушка с мокрой тряпицей и протирала мне лицо, приговаривая: «Я вот подумала, что это тебе не повредит». Я ее благодарил, уверял, что если мы выиграем войну, то только благодаря таким людям, как она. Она возражала:
— Не говори глупости, воюют наши солдаты, они сражаются геройски, это ихнее дело, а не старух вроде меня.
Во время моего одинокого лежания у меня появился еще один посетитель: по погребу прогуливался кот. Сначала он побаивался меня, но постепенно убедился, что я не могу двигаться. Я его не гнал, не кидал в него сапогом. Вот тогда он, видимо, сказал себе: «Этот тип прячется, он беглец. Значит, я могу все себе позволить…» Да, по правде говоря, он все себе и позволял: этот местный котище сделался антисемитом. Он то грыз мой сапог, то прыгал мне на живот и спрыгивал оттуда в поисках иной, более заманчивой траектории для нового прыжка. Поганец всячески показывал, что меня презирает. А я его ненавидел. Больше всех на свете. Он об этом догадывался и всячески отравлял мне жизнь. Кусал меня за ухо, прицеливался к моему затылку, потом взялся за лицо. Я с трудом сдерживал слезы, наворачивающиеся от ярости и бессилия.
Я пожаловался старухе:
— Боюсь закрыть глаза: поганый кот, того и гляди, загрызет меня.
— Хочешь, чтобы я его удавила? — спросила она. — А от него, милок, большая польза. Ты ведь у меня не единственный жилец: тут еще мышей и крыс полным-полно.
— Бабушка, он с ума меня сведет! — не унимался я.
В конце концов Митя запер его в сарае. И вовремя: я совсем доходил.
Поэтому когда наши снова взяли деревню и Лебедев меня приметил (на этот раз потому, что в его новом госпитале я сразу оказался на операционном столе), он поначалу решил, что я спятил: я говорил только о котах, я их проклинал, обвинял во всевозможных грехах, называл убийцами, каннибалами, варварами. Мой друг Лебедев, знавший столько всего, так и не смог мне объяснить, почему коты невзлюбили поэтов и евреев.
Меня отвезли в Харьков, а в деревеньку, где был ранен, я вернулся позже, уже после победы. С сжимающимся сердцем постучался в дверь к бабушке Калиновне, спрашивая себя, жива ли она еще? Открыла. Дряхлая, ко всему безразличная. Я обнял ее, всучил юбку, купленную на черном рынке, поцеловал поредевшие седые волосы, синеватые высохшие руки.
— Поплачьте, — уговаривал я ее, — вам полегчает.
Но она лишь трясла головой, слез не было.
— А где Митя? — Я поискал его взглядом. Парня не было ни в комнате, ни на кухне. Старушка все еще мотала головой без слез. — Так где же Митя? — спросил я снова. И тут она перестала сдерживаться — разрыдалась.
Мити уже не было. Отважного маленького немого унесла война. По словам бабушки, сразу после того, как меня увезли, немцы вернулись и стали лютовать куда сильнее, чем раньше. О Мите она говорить не хотела, чтобы не терзать меня ужасами, и, улыбаясь сквозь слезы, завела речь о коте. Мне было грустно смотреть, как она говорит и смеется одновременно. Я предложил пожить вместе с ней неделю или год, но она отказалась. Сказала: «Твое место не здесь», и черты ее заострились, она не желала давать волю чувствам, но мы оба в тот миг подумали о Мите, беззащитной жертве образованных, культурных людей.
В госпитале и в тыловых частях меня продержали до выздоровления. Я успел за это время влюбиться в Татьяну, в Галину и в медсестру, которую все, не знаю почему, называли «Святая». Затем я вернулся в 96-ю дивизию, которую доукомплектовывали перед штурмом Карпат. Явился в свою роту и попытался разыскать военного хирурга Лебедева. Какой-то сержант ответил:
— Такого не знаю.
— Но это главный хирург…
— Сказано тебе: не знаю.
У домика, где остановился командир дивизии, я наткнулся на медбрата, одного из старослужащих.
— Рад тебя видеть, Пальтиель Гершонович! — воскликнул он.
Мы обнялись. А потом он мне рассказал о переменах, происшедших в нашем хозяйстве…
И тут словно какой-то гигантский кулак двинул меня в лицо и ослепил. Мой товарищ мог уже не продолжать: я угадал остальное. Никогда, никогда я не увижу Лебедева. Я был совершенно потерян. Куда податься? Я видел себя одиноким на куче пепла. У ее подножия меня поджидал какой-то старик. Он шептал: «Идем, сынок, идем…»
С тех пор мною овладела подавленность. Скрутила и не отпускала до самой победы. Я так и не воспрянул духом. К живым я не тянулся: одни мертвецы ожидали меня в ближайшем будущем. Только им я еще был нужен, им и служил. Верно, самоотверженно.
Новый главный дивизионный хирург, полковник Зароневский, отказался принять меня под свое начало, и я угодил в похоронную команду. Командовал ею вечно пьяный кавказец Антонов, бравший кого ни попадя. Достаточно было иметь две руки, способные держать лопату.
Я не мог понять, почему Зароневскому я не приглянулся. Может быть, его раздражала моя дружба с его предшественником? Или он считал, что я слишком слаб, чтобы бегать с носилками? А может, что весьма вероятно, он ненавидел евреев? В его глазах все евреи были трусами, хотя наше поведение в бою говорило совсем о другом; как бы то ни было, он предпочитал держать нас на расстоянии, где-нибудь не у дел, чтобы был повод нас презирать.
А я продолжал сражаться. Не за родину: Красная армия ее уже освободила, а ради трупов. Все время дыша трупным смрадом, я никого не видел, кроме них. Всю последнюю зиму и весну я месил слякоть и грязь, бродя по полям и лесам, чтобы доставить мертвецов туда, где им назначен последний приют.
Так я и жил с ними и ради них; копаясь в земле, я перестал видеть небо.
Победоносная Красная армия решительно продвигалась вперед, взламывая вражескую оборону, освобождая деревни и города, сожженные отступающими захватчиками. Немцы бежали, а мы за ними гнались, подобно ангелам Страшного суда. Наши парни отмечали каждую победу выпивкой и песнями, распевая их во всю силу молодых легких, танцуя, как дети, счастливые и гордые новым поворотом судьбы. Я не пел и не танцевал. Признаюсь, что не присоединялся к советским героям, радостно утверждавшим мощь своей победоносной державы. У меня не получалось. Я следовал за ними, любуясь их делами, я молился за них, потому что они били врага, воздавая ему по заслугам, но я оставался со своими мертвецами. Позади наступавших.
Газеты посвящали многие страницы историческим сражениям за Воронеж, Одессу, Киев, Харьков, Умань, Бердичев… Я же помню только обугленные трупы в Воронеже, виселицы в Умани, изувеченные тела в Бердичеве. Да, навидался я трупов… Всех возрастов, всякого обличья, национальности, вероисповедания. Под конец я стал домысливать их прошлую жизнь, выпавшую им на долю судьбу, то последнее, что увидели их глаза перед тем, как закрыться. И пусть мне не говорят, что все мертвецы на одно лицо. Тот, кто такое утверждает, не видел их столько, как я. Или вынужден был отводить глаза. Я-то смотрел прямо на них. Передо мной прошли тысячи неопознанных тел, а я все же их узнавал. Я не знал о них ничего, но догадывался, что при их жизни было для них важнее имени и ремесла. Я это чувствовал, но, вот незадача, не мог сказать словами.
Эти руки, скованные смертью, какую тайну они сжимали в кулаках? А вытянутые руки — к какой справедливости взывали? Один молодой офицер, умирая, плакал от ярости, другой — от жалости, эти пролитые умирающими слезы катились по моим щекам, их глотал я сам. Один старик, казалось, молил меня о чем-то, другой укорял. Все время вслушиваясь в то, о чем они молчали, я уже не слышал звуков жизни. Я сходил с ума.
Хуже всего стало летом 1944 года, когда мы подошли к благословенному и проклятому городу моего детства. Немцы не ослабляли хватки, не оставляли Льянова. Их было оттуда не выбить. Несмотря на неумолчный грохот нашей артиллерии и бомбардировки с воздуха, наши ударные дивизии натыкались на слишком серьезные преграды, не дававшие им возможности прорвать оборону врага. Подходили все новые и новые подкрепления, вводились резервы, наши потери росли. А я после каждой атаки подбирал развороченные человеческие останки, растоптанные, переломанные, всеми покинутые. И мое сердце содрогалось, сжималось. Что сталось с моим отцом, с матерью? Где сестры, их мужья и дети? Живы ли? Признаю ли я их? Ведь наша разлука длилась целых четырнадцать лет. Пять — с последнего полученного письма. Что я им расскажу о себе? Я уже не спал и не ел. Я был так близко от них и так далеко. Мой приятель Илья мне выговаривал: я, мол, совсем на себя плюнул, опустился, смерть для меня теперь — последнее прибежище… Я уверял его, что он не может понять… Да все он понимал, этот Илья: он был евреем. В свои восемнадцать лет он уже много повидал и постиг. В день, когда наши отборные части прорвали оборону и, как хищный зверь, ринулись в Льянов, он был рядом со мной. Глядя в упор налитыми кровью глазами, он пытался меня успокоить. Еще ни одна военная операция не вызывала у меня такого напряжения. Нервы были на пределе, я доводил до изнеможения нашего командира, все время спрашивая:
— Ну как там? Нам пора? Выступаем?
— Еще рано. Бой в самом разгаре. Успокойся.
— Чего ждать? Там люди умирают! Уже полно убитых. А мы все медлим!
— Терпение! — твердил мне Илья. — Я понимаю, что ты чувствуешь, но постарайся успокоиться.
Выбора у меня не было. Наша команда должна была идти в третьей линии. Илья не отходил от меня ни на шаг. Будучи моложе, он считал нужным меня опекать. Да и я нуждался в нем. Не знаю, что бы я делал без него на подходах к Льянову.
Бои еще шли в предместьях. Когда я устремился к своему бывшему дому, Илья следовал за мной по пятам. Солнце уже садилось, над головой мерцало небо в сполохах огня, в этом неверном свете я нашел свою школу, потом маленький рынок, Дом молитвы и учения. С крыш стреляли, солдаты бросали гранаты в погреба и подвалы, но я со всех ног бежал к нашему жилью, туда, где меня ждали родители, их дети, наши общие молитвы… Дома окутывал сумеречный свет. Наконец я подбежал к своему. От волнения не смог открыть дверь. Илья это сделал за меня. И сразу навалилась глухая, мрачная оторопь: это не мой дом. Я кричу: «Есть кто-нибудь?» Мне никто не отвечает. Вбегаю во двор, вижу сарай: все, как было. Оглядываю яблони, сливы: все, как раньше. Но молчание — совсем чужое. И солдат, на которого оно обрушивается, не принадлежит больше этому месту. Возвращаюсь в дом. Вот кухня. Снова кричу: «Есть кто-нибудь?» Илья открывает дверь столовой. Пусто. Входим в родительскую спальню. Пусто. Страх во мне растет, сейчас я взорвусь. Если это мой дом, почему он пуст? Где все? Почему не встречают? В памяти всплывает давнее воспоминание: погром, чердак, погреб… может, они там спрятались? Как раньше? Бегу туда: пусто. Меня ослепляет сумасшедшая мысль: может, дом-то — мой, да я — не тот? Я готов на самом деле в это поверить, но тут Илья находит в детской под кроватью мужчину и женщину. Растерянных, до смерти напуганных. Разве так может быть? Все возможно, если я — не я. Илья их спрашивает по-русски, кто они? Не отвечают. На идише: нет ответа. Он нервничает, они — в панике. Жалуются по-румынски: мол, они не виноваты, ничего не сделали. Никогда не были членами Железной гвардии. Мне хочется их измолотить, но как можно бить двоих испуганных стариков? Спрашиваю, как долго они живут в этом доме.
— Всегда, — отвечает мужчина, но, увидев блеск в моих глазах, спохватывается: — Ах, простите, простите… Господин офицер, вы говорите по-румынски… Этот дом, они его нам распределили…
— Кто «они»? Когда?
Мужчина, заикаясь, бормочет:
— Из муниципалитета.
Я рычу еще громче:
— Когда?
Мужчина с трудом подыскивает слова:
— Когда фашисты у… увезли е… евреев…
Что я почувствовал? Вам не понять. Я не испытывал ни ярости, ни ненависти. Ни жажды крови или желания отомстить. Только тоску. Тяжелую, все обволакивающую. Старинную. Идущую из глуби веков и отрывающую меня от злобы дня текущего. Я был там — и одновременно где-то еще. Одинок — и еще с кем-то. Трезвее, чем когда-либо, и пьянее некуда. Грусть была всеобщей и моей личной: ее пронизывали мои воспоминания, жесты, биение сердца, ток крови. Между миром, жизнью и мною самим громоздилась бесконечная грусть, несказанная, туманная и сбивчивая. Там первый рожденный на земле человек убивал последнего. А я за этим наблюдал, не в силах ему помешать. Вот так же безвольно я глядел, как Илья принялся молча хлестать по щекам старика. Женщина на коленях умоляла его, целовала его штаны, билась лбом об пол. А Илья не унимался. Я смотрел на это, и мне было грустно за него так же, как за своих родных и за себя самого, их оставленного в живых сына. За этот взбесившийся мир, за его Создателя. За мертвых и выживших, оставленных о них вспоминать. Я сказал Илье:
— Оставь их в покое. Это уже не поможет.
Но он продолжал бить старика. Быть может, он меня просто не слышал. Или я ничего не сказал, только хотел. А потому очень тихо добавил:
— Пойдем отсюда.
И дернул его за рукав. Мы вышли на улицу. Там Илья потянулся, глубоко вздохнул и начал материться, почти переходя на крик, проклиная всю гнусность происходящего…
Похоронная команда три дня оставалась в окрестностях города. Жители были приветливы, тепло встречали освободителей. Баловали их изобилием вина и девушек. «Если так будет продолжаться, — шутил Илья, — я уволюсь в запас и останусь здесь».
Между тем приказы генштаба теперь запрещали излишнюю вольность. Ведь Румыния стала не одним из противников, а союзницей, а потому Красная армия обязана была с этим считаться. Отныне нам полагалось проявлять предупредительность, готовность помочь, любезность. С обеих сторон все только и думали, как лучше понять друг друга и помочь, если надо.
Я же ходил по улицам, и прежние мои прогулки, сохранившиеся в памяти, вынуждали меня задавать вопрос: не снится ли мне все происходящее? А может, я брежу? Вот я еще молод, иду в школу, занимаюсь с Эфраимом, я — ученик реб Мендла-Молчальника, вместе с ним мы исследуем закономерности божественного великолепия; вместе мы вслушиваемся в то, о чем говорят древние, описывая свои приключения, но повествуя о наших невзгодах. Я еще не отправился в Германию, не жил во Франции, не ездил в Испанию. И евреев еще никто не уничтожал. А тебя, отец, еще не увозят в наглухо задраенном вагоне, ты не катишь дни и ночи без воздуха и надежды, не умираешь, задохнувшись, стоя, стиснутый телами родственников и соплеменников. Нет, отец, ты не умер так ужасно. Этот кошмар не стоит у меня перед глазами, человечество не кануло в пропасть и не сожгло себе душу.
Я посещал те редкие синагоги, что не были закрыты, и в десятый, в сотый раз выслушивал рассказы о смертоносных днях 1941 года. Об облавах, расстрелах. О поездах, увозящих в лагеря уничтожения. О жителях, повинных в преследованиях. Фашисты разработали целую программу, результатом которой было то, что весь город оказался зрителем. Здесь, под густыми кронами деревьев, прохожие встречались, обменивались приветствиями и пожеланиями приятного аппетита, домохозяйки ходили на базар, обсуждали цены и кулинарные рецепты, влюбленные мирились и ссорились, дети бегали, играли в мяч, смеялись, родители их увещевали, а совсем рядом катились наглухо запечатанные вагоны, двигаясь по кругу, из ниоткуда в никуда, с грузом мертвых и умирающих, ожидая, пока последний из пассажиров перестанет дышать… Прежде я спрашивал: «Но как же это возможно?» Теперь я уже такого вопроса не задавал.
А Илья продолжал крыть всеобщее паскудство. Иногда он сопровождал меня в моих прогулках, тогда мы смахивали на двух солдат, ищущих, где бы поразвлечься, разогреться, вдохнуть запах женщины.
Я забредал на кладбище, слонялся среди белых и серых камней, слегка отклоненных назад, останавливался, чтобы прочитать имя раввина, цадика, благодетеля. Вот могила рабби Яакова. Этот творивший чудеса святой спас свою общину во время волнений семнадцатого века. «Почему, рабби, ты не вступился за общину, где были мои близкие?» — тихим голосом я вел с ним беседу. Упрекал его: «Рабби Яаков, ты ведь мог сотрясать небесные чертоги, а если тебе не хватило силы, почему ты не призвал на помощь тех, у кого ее было вдоволь? Зачем ты не кликнул Баал-Шем-Това и его учеников? Иеремию и его прародителей, от коих и мы ведем род? Ты был здесь, рабби Яаков, и не пожелал спасти своих потомков…» Однажды Илья подошел и спросил:
— Что ты там бормочешь сам с собой?
— Тебе не понять, — ответил я, вспомнив, что этот парень, молодой комсомолец, истовый коммунист, не может думать о каких-то там раввинах, творивших чудеса. Но Илья меня снова удивил:
— Да нет, Пальтиель, я пойму.
Нуда, он смог понять. Все-таки он еврей.
Когда мы с Ильей дошли до кладбища, где погребены все недавно погибшие горожане, он после долгого молчания начал свой бесконечный матерный речитатив, но я жестом велел ему прекратить, он понял, прощаясь, коснулся моей руки и ушел. Я остался один. Вместе с кем? Со сколькими жертвами? Захоронение мне показалось очень узким, слишком узким для такого количества мужчин и женщин. Земля часто норовит обмануть. Живому человеку надобны комнаты, кабинеты в конторах, дворцы, мастерские, лавки; мертвый же довольствуется своим личным пространством, притом небольшим: не шире трещины на поверхности земли.
Внезапно меня охватило безумное желание раскопать ров, найти там своих предков и похоронить их, как подобает, в собственной могиле. Я не поддался ему. Отец по ту сторону смерти не позволял мне этого, он отказывался отделяться от общины. Мне чудилось, я слышу его слова: «Место еврея, живого или мертвого, — среди себе подобных».
Солнце склонялось к закату, тени становились длиннее, ночь объявляла о своем приближении сумерками, полными страхов. Мне надо было уходить. Вспомнилось предание, очень пугавшее меня в раннем детстве: человек заснул на кладбище и провел там ночь, а наутро обнаружили его труп, поскольку мертвецы его не отпустили. Вот и я должен был уйти, а у меня это не получалось. Ноги приросли к земле, я не мог оторвать себя от этих мест. Я хотел уже взмолиться, попросить мертвецов освободить меня, но тут мне послышался знакомый голос:
— А молитву о всех умерших ты не хочешь прочитать?
— Нет, — ответил я.
— Почему же?
— Не могу.
— Не можешь или не хочешь?
— Не могу провозглашать святость Его имени, прославлять Его земные пути, не могу.
Голос удивился:
— Ты что, явился сюда, чтобы кощунствовать?
— Сам не знаю, — отвечал я. — Мне не понять, почему я здесь…
Человек, с которым я говорил, был высокого роста, стройный, у него летящая походка, он очень величествен… Мое сердце готово было выскочить из груди: Давид Абулезия! Нет, что ему здесь делать?! Безумная мысль, и я ее отгоняю. Спрашиваю у него:
— Вы кто?
— Могильщик, — отвечает он.
— Я тоже могильщик.
— Ты принадлежишь к какому-нибудь святому братству? — задает он вопрос.
— Я солдат.
— Что ты делаешь здесь, на моем кладбище?
— Здесь похоронены мои родные.
Могильщик качает головой и произносит ритуальное изречение:
— Бог дал, Бог взял, да будет свято имя Его во веки веков.
В поблескивающих сумерках мы — всего лишь две тени, объединившиеся, чтобы противостоять ночным таинственным кошмарам.
— Мужчин и женщин, с которыми я расстаюсь, — говорит мой собеседник, — я отправляю своими посланниками, велю им: «Идите и, когда предстанете перед небесным судом, скажите там, что Шевах-Могильщик, член святого братства „Ждущих Мессию“, уже теряет терпение — он устал и в печали… Передайте, что жестоко, бесчеловечно жить и умереть в ожидании, жестоко и бесчеловечно отправлять в могилу целое поколение единоверцев…»
Он мне рассказал о тех кровавых событиях, свидетелем которых только и может стать человек его профессии. Ведь именно он принимал состав с мертвыми. Он обмывал изуродованные страданием тела, совершал над ними обряд очищения, он — последний живой человек, проводивший сочувственным взглядом всю мою родню: отца, мать, сестер и их детей. Один из «Ждущих Мессию».
Мне приходит на ум мой друг Эфраим с его мечтами об искуплении. Вспоминается и отец со своими молитвами об Иерусалиме. Реб Мендл-Молчальник и его поиски ключей от рая. И, что совершенно необъяснимо (поскольку он принадлежит другой истории, иным землям), мой собеседник Давид Абулезия — все они тоже предстают перед моим мысленным взором. Я вспомнил рассказы неуловимого странника о его походах, когда этот искатель приключений выслеживал Мессию, словно полицейский сыщик, разыскивающий беглеца.
На прощание Шевах-Могильщик пообещал мне как следует позаботиться о моих родных. Я поблагодарил его. Я знал, что он сделает. И чего сделать не сможет. А потому в душе уносил с собой собственных мертвецов. Их склепом станет сама моя жизнь.
Вернувшись туда, где обретались наши парни, я нашел Илью. Он не спал. Пьяный, лежал на кровати и смотрел в потолок. Я рассказал ему, что со мной случилось этим вечером, прибавив: «Но тебе не понять», однако он, как всякий еврей, меня понимает. Он уже знает, что все мы в этом мире — одна похоронная команда.
Из стихов Пальтиеля Коссовера, написанных в тюрьме
Его нет в Его жестах, в Его деяниях, нет Его ни во вспышках ярости, ни в страстных признаниях, ни в Его плоти, ни в Его времени, но тогда, тогда где же Он? Ночь перед атакой. Неясный ропот разрастается, погромыхивает. Ропот перед криком, раскатывающимся, все сметающим, чтобы потом замереть. Бог перед молитвой. Жесткая тишь, она целится и наносит удар. Наша память — это храмы и колючая поволока, трупы и стены, Иерихон и Варшава: гетто для озаренных знанием, тюремный сумрак, скалы и плети, расстрелы и конвульсии, мертвые дети, дети мертвецов… А ты, в чьей власти время, как можешь не утонуть в безумии тех, кто дает жизнь? Верни же земле, могильщик, грязь и глину небес, прикрой лицо свое, могильщик, и устыди Бога, который тоже сокрыл Свой лик. Покинь своих мертвецов, могильщик, ведь они покинули тебя, зовут тебя лишь живые, потому что боятся. Жизнь — поэма, слишком длинная или не слишком, слишком простая или не слишком. Жизнь — это слишком или не слишком. Жизнь — поэма, слишком грустная или не слишком, слишком ясная, или не слишком. Жизнь — это слишком или не слишком. Жизнь — поэма, причем — неоконченная. (Перевод с идиша.)«Гриша моргал изо всех сил…»
Гриша моргал изо всех сил. Он так старался прогнать сон, что не сразу понял, зачем его разбудили. Извинившись за беспокойство, Иоав вытер губы тыльной стороной ладони и сказал:
— Мне позвонили. Срочное сообщение из Вены. Твоя мать не прилетит этим самолетом.
Казалось, Гриша бесконечно долго находился в каком-то отрешенном состоянии. Будто парализованный. Ничего не чувствовал, не думал. Парил, не касаясь земной тверди, там, где живые и мертвые обитают вперемешку. Очень далеко от Иерусалима.
— Твоя мать больна, — добавил Иоав, словно стараясь его успокоить. И безнадежно махнул рукой. «Какой же я тупой, — подумалось ему. — Мне так и не удается с ним поговорить». Он раздвинул шторы. На востоке темнота отступала перед ярким сиянием, рвущимся снизу, из-за горизонта, скрытого от глаз нависшими над городом куполами и башенками.
— Хочешь, я сварю кофе?
Гриша встряхнулся. Он сам дивился тому, как его опечалила услышанная новость. Последний вечер, проведенный с матерью накануне его отлета в Израиль, причинил ему меньше боли. Между тем именно тогда он предположил, что больше ее не увидит. Почему она рассталась с Красноградом, привычными удобствами, с доктором Мозликом? Однако же она все бросила. Почему? Об этом он собирался спросить прежде всего. Чтобы тем самым подготовить ее к следующим вопросам. Хотя теперь он понимал, что не сможет их задать.
«Какая удача, — подумал Гриша, — что я провел ночь дома». Он чуть не задержался до утра у Кати, но часам к двум почувствовал, что надо возвращаться. Словно уже ожидал какого-то происшествия, сообщения или несчастья.
Одеваясь, он чувствовал себя несчастным. «Она не приедет, — твердил он себе. — Я никогда ее больше не увижу. Так и не узнаю, какую роль она сыграла в жизни отца, а отец — в ее судьбе. Он был слишком скрытным. А она — того пуще. Злоключения, слухи, любовные интрижки, о которых упомянуто в „Завещании“, — все это правда или плоды его фантазий? Никогда я этого не узнаю». Слово «никогда» больно царапнуло его. Почему ему так понадобилось встретиться с нею снова? Потому ли, что он ее не любил, или из-за того, что все еще любил, даже сильнее, чем прежде? Сцены детства и мучительного взросления вновь проносились у него в голове, иногда налагаясь друг на друга. «Ведь ты любила отца, да, ведь ты его любила?» — «Ну конечно же, Гриша, любила». — «Тогда почему у него было разбито сердце?» — «Откуда ты взял, что у него было разбито сердце?» — «Я знаю, я читал его стихи. Там он пишет, что его сердце разбито!» — «Но, милый мой, у поэта всегда сердце разбито». Или вот еще: «Расскажи, как вы встретились?» — «Ну, это было во время войны, не люблю о ней вспоминать». — «А что он там делал?» — «Да воевал, как все». — «А ты что там делала?» — «И я, как все, воевала». — «А как вы впервые встретились? Расскажи об этом!..» Она отказывалась. Он снова и снова возвращался к этой теме — напрасно. Она не могла предвидеть, что однажды он лучше нее будет знать, как они впервые повстречались. Она же не ведала о «Завещании». По совету Зупанова, он об этом ей не сказал.
— Матери твоей я доверяю, — пояснил тот. — Но доктор Мозлик — дело другое. Если он только пронюхает, о чем мы тут говорим, нам несдобровать. Так что будь осторожней, сынок. Ты несешь послание поэта миру. Тут надо держать ухо востро.
Этот разговор случился за неделю до отъезда Гриши. Он как раз только что услышал последние страницы и стихи. Как и раньше, ночной сторож с тетрадками на коленях негромко и монотонно читал, а Гриша накрепко затверживал в памяти каждую фразу вплоть до запятых, так стараясь сосредоточиться, что голова раскалывалась от этих усилий и наплыва собственных мыслей. Он сидел неподвижно, до крайности напряженно, приоткрыв рот, едва дыша, не улыбаясь, с неподвижным застывшим лицом. Жили только глаза, впрочем, он слушал и ими, впечатывая в память каждое слово, интонацию, заминку. Хотелось все запомнить, заложить в себя, ничего не упустив. Никто не умел слушать так, как он. Ни у кого не было такой натренированной памяти. «Какое счастье, что ты немой, — говорил Зупанов, почесывая лысую голову. — Они позволят тебе уехать. Они не подозревают, на что способны немые. А еще они не знают, что могу я: для них стенографист — не живой человек, а одушевленный предмет. Но что поделаешь, сынок, у палачей не хватает воображения. Иначе они занимались бы чем-нибудь другим». И тут Зупанов попросил оказать ему последнюю услугу:
— Расскажи, как ты онемел.
Гриша безнадежно махнул рукой: если бы он мог говорить, он бы не был немым.
— Какой же я дурак! — воскликнул Зупанов.
Он отворил шкафчик, вынул карандаш и тетрадку и протянул своему молодому другу со словами:
— Напиши, — призадумался, улыбнулся и добавил: — Эту тетрадку я приложу к тем, что остались от твоего отца.
И Гриша написал:
«Доктор Мозлик, наверно, работает еще и на органы. Доказать не могу. Просто мне так кажется.
Однажды прихожу домой, а он сидит на диванчике.
Мама стоит рядом и выглядит испуганной: должно быть, он опасный и влиятельный человек. Мне он не нравится. Точнее говоря, он мне очень неприятен.
Но, как видно, мама к нему привязана. Говорит, что он прекрасный врач. Мне это все равно: я не болею. А вот мама прибаливает, она часто ходит к нему. Он живет над нами. Что до меня, даже если бы я должен был через пять минут умереть, то и тогда не обратился бы к нему: я его боюсь.
Однажды все же мне пришлось позвонить в его дверь. Мать плохо себя чувствовала и послала меня за рецептом. Помню, там все было белое: Мозлик, одетый в белый халат, усадил меня на белый стул, сам сел за белый стол — у меня чуть голова не закружилась.
Он выписал рецепт и посмотрел на часы:
— Сейчас аптека закрыта на обед. Пока она не откроется, давай поговорим?
Мне разговаривать с ним не хотелось. Он настаивал, упомянул о том, как больна мама, — его сладковатый голос прямо лип к коже, от него подташнивало. И наконец предложил:
— Расскажи о твоем отце.
— Нет, никогда!
Его интересовал мой отец, а совсем не я. И тут он устроил мне настоящий допрос. Я же замкнулся в молчании. Он очень злился, хотя и не показывал вида. По мне, как отец жил, как умер, какие писал стихи, — его не касалось. Я, правда, знал тогда обо всем этом не так уж и много, но признаться в подобном совсем не желал. Потому что его место в моей памяти, пусть скромное и туманное (фотография, стихи, какая-то легкая душевная теплота), принадлежало только мне и никому другому. Но он упрямо гнул свое. Тут я встал и просто вышел. Быстро побежал в аптеку. На мое счастье, она была открыта.
Вечером он зашел к нам. Посмотрел, как чувствовала себя мать. И снова принялся за свое. Я опять смотался.
Назавтра он явился опять. И так каждый день. Матери стало лучше, но он продолжал заходить по вечерам, сначала осматривал ее, потом брался за меня.
В конце концов я понял: это из-за меня он приходит, не ради матери. С какой целью? Украсть у меня отца! Еще раз похитить: чем чаще он приходил, тем больше я в этом уверялся.
Скорее всего, он принадлежал к той специальной службе, что занимается промывкой некоторых мозгов, стиранием из них памяти, подобно тому, как вытирают тряпкой черную доску в школе. И этот поганец знал свое дело. Подбрасывал мне вопрос, повторял его десятью разными способами, а я после этого чувствовал себя опустошенным. Обобранным.
Например, как в истории с пробкой. Я ее обнаружил в ящике стола, когда мне исполнилось три или четыре года. В ней не было ничего особенного, но я наградил ее прошлым, я убедил себя, что это мой отец положил ее в тот ящик, чтобы я ее однажды там нашел. Я внушил себе, что с нею связан какой-то секрет, который мне надо разгадать. Это глупо, но через пробку шла какая-то особая связь между мною и отцом. Я не говорил о ней ни с кем, даже с матерью. К несчастью, Мозлик увидел, как она выпала из моего кармана. И обо всем догадался. Он взял ее и раскрошил в мелкие кусочки, приговаривая: „Ты видишь? Это же простая пробка“. Каков подлец! Он хотел причинить мне боль, и ему это удалось. Я сам из живого школьника на миг превратился в какую-то раскрошенную пробку. Было так больно, словно зуб вырвали. Всегда больно, когда тайна теряет смысл.
Или история с солнцем. Это тоже секрет, на сей раз настоящий. Помнишь стихотворение моего отца о солнце из пепла? Так вот, с тех пор как я его прочитал, я вижу такое солнце, один я его и вижу, оно не красное, не серебристое, оно непохоже на золотой или бронзовый диск. Надо мной — ком из пепла. Каждый раз, как я вижу пепел в печной топке, там появляется мое пепельное солнце, оно сияет только для меня, даже темной ночью. Мозлик, сам не знаю как, о том догадался. В этом он мастер. Да нет, я потом понял как: отвечая на его вопросы, я избегал слов, имевших отношение к солнцу или пеплу, я их вычеркнул из своего словаря. Я говорил невесть что, иногда совершенно не относящееся к делу, чтобы не ступить на скользкую почву, не упоминать пепельного солнца. Часто отвечал невпопад, уходил в сторону. Пристально и холодно меня изучая, он вывалил на меня кучу слов, казалось бы лишенных связи, чтобы посмотреть, на что я среагирую. В конце концов я выдал себя. И с тех пор я стал жить в мире без солнца.
И вот, оставаясь все время начеку, стараясь не проколоться, я берег свое добро. Но мне слабо было уберечься от его наскоков. Ведь он был профессионалом. Он выуживал из меня слова, фразы, паузы из заминок и умолчаний. Я беднел изо дня в день. Чем больше я говорил, тем меньше существовал. Он лишал меня того, что лежало глубоко, на самом дне души. Я себя просто не узнавал, мое любопытство к новым знаниям угасало, я глупел, думал и чувствовал одно, а поступал по-другому. Казалось, я попал в темный туннель и там задыхаюсь. Я терял всякую надежду, был уже на себя непохож… И тут случилось чудо. Чудо? Может, несчастный случай? Или осознанный поступок? Как знать? Помню только, что в какой-то момент, чувствуя, что он давит на меня сильнее, чем когда-либо, я принялся с силой сжимать челюсти, скрипеть зубами, разжимая рот только для того, чтобы вздохнуть и облизнуть пересохшие губы. И вот в один из таких моментов мои челюсти непроизвольно сомкнулись: в приступе бешенства я себе откусил пол-языка. И тотчас потерял сознание. Вот с тех пор я не могу произнести ни слова.
Бедная моя мать, как всегда, снова доверила меня заботам доктора Мозлика. Она не могла допустить, чтобы единственный сын на всю жизнь оставался немым. „У Гриши главная проблема не с языком, — сказал Мозлик, — а с головой“. С его точки зрения, я сошел с ума. Но это было не так. Могу доказать это тем, что мысленно я разрабатывал планы справедливого возмездия. Хотя что, собственно, они доказывают? Может быть, обратное? Тогда для чего они нужны?
Но при всем том, не будь этого несчастного случая, как я познакомился бы со своим приятелем, ночным сторожем? А без него мне бы, увы, не построить свое воображаемое царство. Только молчание оставалось бы мне. И пепел».
— Твоя мать заболела, — сказал Иоав.
Грише хотелось спросить: «Это серьезно?», но он не мог найти подходящих жестов для такого вопроса. Взял листок бумаги и написал эту фразу. Иоав ответил, что пока ничего не ясно, врачи в сомнении. Просто случился сердечный приступ, и теперь необходима операция.
— К сожалению, ты не сможешь повидать ее немедленно: завтра Йом Кипур, День Искупления, а потому ближайший рейс до Вены не раньше воскресенья.
Гриша мотнул головой: он уже знал из идиша значения некоторых слов и, конечно, праздников. Благодаря Зупанову и отцовским запискам мог тут обойтись и без перевода.
Опять надо было ждать. И молиться, а как же иначе? Да, вечером они с Иоавом отправятся к Стене Плача и примут участие в торжественной церемонии «Коль нидрей». Именно в тот вечер высшие силы вынесут окончательный вердикт. Кому уготовано выздоровление, кому смерть, кого ждет прощение, кого кара. «А как быть мне? — подумал Гриша. — Прежде чем прощать, надо судить, а мне судить не хочется. Я просто хочу знать, как все было».
Город выступал из ночной тьмы. Временами там возникало неожиданное движение, перекрывая шумы арабского базара, долетавшие из-за древних укреплений, разносились звуки шофара, пронзительно кричали малые дети и перекликались их матери. Мужчины приветствовали друг друга словами: «Да унесет проходящий год все напасти, да принесет вам наступающий свои благодеяния!»
«Значит, я никогда ее больше не увижу», — вздохнул Гриша. Откуда эта грусть? Пока он ее дожидался, у него копились планы, прожекты, он собирался найти отгадку всем головоломкам своего прошлого. Ключ к отцовской меланхолии и материнскому молчанию. Скорее всего, она тоже хотела открыть ему какие-то свои тайны, ради этого и порвала наконец с Красноградом, с доктором Мозликом… Кстати, какова его роль в их истории? И видела ли она перед отъездом Зупанова? Передавал ли тот что-либо для Гриши? Теперь никогда уже не узнать. «Все-таки это странно, — думал он. — Я знаю отца лучше, чем моя мать».
Однажды ему вспомнилось, как они долго молчали. Вернувшись из школы, он увидел Раису, которая с очень значительными видом сидела, положив руки на стол, и горестно глядела куда-то в пустоту. Он бросил ранец, подбежал, чтобы ее утешить, сжал ее голову ладошками, и тут ему захотелось так много ей сказать, столько милых и приятных вещей, что он от волнения потерял дар речи.
Раисе не суждено узнать, а теперь особенно, что тогда толкнуло его к ней. Как назвать это чувство, одновременно смущавшее и умиротворявшее, он затруднился бы определить и в ту пору, и теперь. Но помнит, как у него вдруг забилось сердце.
Так же, как сейчас.
Завещание Пальтиеля Коссовера (Продолжение)
Она улыбнулась, и это меня смутило. До того она никогда мне не улыбалась, даже злобно. Может быть, причиной перемен стала победа? Все в Красной армии страшно радовались. Царило всеобщее веселье, офицеры и сержанты ходили под хмельком. Даже у нас в походном госпитале больные, казалось, приободрились. Но я не разделял всеобщей радости.
Меня опять ранило, и я попал в госпиталь под Люблином, до которого дошла наша 96-я дивизия. Этот славный поход дорого ей обошелся, теперь следовало заняться здоровьем уцелевших, а на это требовалось время. Офицеры ворчали. Они мечтали быть среди первых, кому выпадет ступить на немецкую землю, водрузить свои знамена на развалины Берлина. Солдаты тоже рвались в бой, но начальство приказывало потерпеть. Что бы там ни было, главное заключалось в их готовности драться, и они ее уже продемонстрировали.
Моя же война закончилась именно в Люблине. Я выносил молодого солдата из-под огня. Он был красивый и легкий, как младенец. Я ему говорил то, что по привычке повторял всем мертвецам: «Не беспокойся, парень, сейчас прибудем на место». А он, как мне чудилось, возражал: «Мы никогда не дойдем». Советовал мне быть поосторожнее, предупреждал о снайперах и шальных пулях, о минах. Но это легко сказать: остерегаться мин. Можно подумать, на передовой существуют переходы с указателями. Со своим ангелом-хранителем за плечами я шел к цели, оступаясь и покачиваясь… а потом куда-то взлетел. Глаза обжег болезненно ярко-багровый всполох. Когда я открыл их, оказалось, та огненная вспышка швырнула меня в канаву. Мой солдатик уже не был ни молодым, ни даже бойцом: только трупом без головы и ног. Но он спас мне жизнь: меня лишь ранило. Затем операции, провалы из бреда в сон, пробуждения с затуманенными мозгами… тяжелые веки, каждое с десяток тонн…
Фронт уходил вперед, мое тело цеплялось за Люблин, а я — за тело. Меня перевозили из одного госпиталя в другой, для этого иногда имелись свои резоны, а порой и нет. Разные хирурги, молодые и старые, склонялись надо мной и озабоченно качали головами. О моем сердце совсем позабыли, интересовались только поломанными костями. И тоже ободряли меня: «Не волнуйся, солдатик, все будет в порядке».
Словно через влажную марлю, я смотрел, как проходили по палате врачи и медбратья, слышал их голоса, их шепот. Был ли я жив? Если да, то зачем? А ежели мертв, почему рядом со мной нет отца? В одном я был совершенно уверен: могильщики тоже смертны. Эта мысль меня не оставляла. Иногда, чтобы сменить тему, я прикидывал, где это может произойти. В Люблине? В моей голове еще отдавались эхом великие имена, с ним связанные: люблинский раввин Цадок, Ешива здешних мудрецов… Отец страстно желал бы, чтобы я навсегда связал себя с этим местом. Однажды я подозвал Борьку, одесского еврея, служившего здесь санитаром, весьма ушлого и решительного малого, и спросил, не может ли он сослужить мне службу?
— О чем разговор, скажи только, что сделать? Могу отослать тебя в Москву, например. Или устроить хороший закусон. А может, нужна подружка? — Он хохотнул и хлопнул себя по ляжкам.
— Сделай милость, — едва слышно сказал я, — если я умру…
— Да ты совсем спятил! — возмутился он, перестав улыбаться. — С чего тебе умирать, когда ты почти поправился?
— Если я умру, устрой, чтобы меня похоронили на здешнем еврейском кладбище.
— Нет, ты точно рехнулся!
— Ну же, Борька, ты мне обещаешь?
— Обещаю: ежели не прекратишь, засуну тебя в первую же подвернувшуюся канаву.
— Боренька, умоляю, для меня сейчас нет ничего важнее этого!
— Ну тут уж ничего не поделаешь, идиот ты этакий, ты не подохнешь в Люблине. И так слишком много евреев здесь поумирало.
Госпиталь между тем перевели в начальную школу. Там меня снова прооперировали, довольно удачно, и через три месяца перевели в отделение, где лежали шедшие на поправку. Там я, несмотря на слабость, смог участвовать в разговорах больных. Обсуждали стремительное продвижение наших войск, тактику маршала Конева, стратегию Жукова, заключали пари, кто из них первым войдет в Берлин. Было понятно, что войне скоро конец. Некоторые раненые уже подумывали о том, как бы попасть в запасные части: кому охота умереть героем накануне победы?
Раиса часто заходила в госпиталь. Получив капитанский чин, она отлавливала самострелов. У нее на них был наметанный глаз, а пойманных она поносила на чем свет, обзывая тряпками, предателями и трусами. Ее боялись, как бури на море.
Во время своих инспекционных походов она с рассеянным видом останавливалась то там, то здесь, делая вид, что желает вставить словцо. На самом же деле ей хотелось составить собственное мнение о моральном духе подведомственных ей бойцов.
Узнала ли она меня? Похлопав по гипсу, закрывавшему мою грудную клетку, она спросила однажды:
— Когда же ты скинешь его ко всем чертям?
Но смотрела она при этом не на меня, а на мой гипсовый доспех. Я ответил:
— Как бы скоро это ни случилось, боюсь все же опоздать, товарищ капитан.
— Хорошо отвечаешь, солдат, правильно. Но тем не менее поторапливайся, понятно?
На других она покрикивала:
— И вам не стыдно тут разлеживаться? Гнить заживо, словно старые обленившиеся купчихи, когда ваши славные товарищи бьют врага уже за границами СССР?
Иногда она сообщала нам боевые сводки:
— Краков наш, враг выбит из Катовиц, Сосновица взята практически без боя, мы идем на Берлин, а вы здесь только и знаете, что храпите! Вам не стыдно?..
Словно мы в чем-то провинились… Может, она так старалась нас подбодрить? Или выказать свое недовольство? Ведь она была сама не своя от ярости, что столь важные события разворачиваются в такой дали от нее. Люблин-то уже принадлежал прошлому. Газеты сообщали о новых атаках и победах, линия фронта все более отдалялась, а она, капитан, политрук, вынуждена была присматривать за кучкой инвалидов и симулянтов.
Еще немного, и она готова была сделать нас виноватыми в своем невезении: без нас и наших проклятых ранений, без треклятых госпиталей она стояла бы сейчас рядом с маршалом Жуковым или Коневым и партия могла бы ею гордиться. Ее ждали бы заслуженные награды. Получалось, что мы всему виной, и Раиса не скрывала раздражения, которое росло день ото дня. Каждое сражение, всякая победа приносили ей новую горечь.
А с меня сняли гипс только в апреле. Ослабевший, я не вставал с кровати и ждал, когда меня оттуда увезут, но дело почему-то стопорилось. Наконец настал май и с ним — немецкая капитуляция. Наша дивизия должна была пройти парадом по Люблину. Вышло все великолепно. В Москве мы промаршировали бы с триумфом. Ну ладно, я, наверное, преувеличиваю. Но только чтобы стало понятно, что мы чувствовали, когда полки, во всем вычищенном и отдраенном, с офицерами в парадной форме, прошли перед трибуной, где стояло начальство во главе с генералом Колпаковым и его штабом, отдавая честь нашим знаменам.
Даже самые заморенные, полуживые из нас, и те ликовали. Подвыпив, принимались что-то напевать, хлопали в ладоши. Вопили: «Да здравствует товарищ Сталин, да здравствует СССР!» Троекратно хором кричали «Ура!». Люди танцевали в парках, в скверах, на улицах, целовались, незнакомые дарили друг другу подарки, делились недавними приобретениями. В этот счастливейший день нашей жизни мы веселились от всей души, наслаждаясь каждым мгновением, любым воспоминанием и даже боевыми ранениями. Ведь мы победили, мы остались живы — ура и трижды ура! Нам принадлежит будущее, теперь наступит счастье. Грудь аж распирало от гордости: мы свалили такого зверя! Будущие благодарные поколения этого не забудут!
В ту ночь никто не спал.
День или два спустя нам сообщили, что в первых числах июня нас отправят с ближайшим составом домой. Но сначала мы должны предстать перед комиссией для освидетельствования.
И вот однажды утром Раиса появилась в нашей палате с охапкой личных дел под мышкой. От ее холодной улыбки у нас поползли мурашки. Как обычно, она прошла меж кроватями, задерживаясь около какого-нибудь солдата либо сержанта, чтобы его хорошенько пугнуть. Вдруг ее синие глаза уставились на меня, на губах заиграла улыбка, настоящая, по-женски обворожительная. Она спросила:
— Ну что, солдат, хочешь поехать домой?
— Еще бы, товарищ капитан!
— Соскучился по родине, да?
— Ужасно, товарищ капитан!
— Ты откуда?
— Не знаю, товарищ капитан!
— Не знаешь? Но должна же у тебя быть где-то семья, дом?
— У меня никого нет, товарищ капитан!
И тогда она, Раиса, сделала то, чего от нее никак нельзя было ожидать. Она присела ко мне на кровать. Может, я ее заинтересовал? Или вызвал какие-то подозрения? Она расспросила меня о моей армейской службе, о личной жизни. Казалось, она забыла нашу первую стычку, все это было так давно, что… Да нет, она ничего не забыла, просто меня не узнала. Я подумал: не напомнить ли ей? Но промолчал. Раиса мне улыбнулась. Я что-то сказал. Она перестала улыбаться. Что до истории с немецким пленным… Даже если бы я дотащил его до операционного стола, за которым стоял мой друг Лебедев, тому все равно бы не жить. Он бы умер прямо под ножом или после, на дальнем Севере. В любом случае о нем лучше не вспоминать. Война кончена, Германия побеждена, и, что сейчас важнее всего, Раиса мне улыбается. Она-то уже не думает об убитых пленных, а мне с чего о них печалиться? Она — капитан, я — солдат. Остается только говорить: «Так точно!»
Раиса захотела узнать, чем я занимаюсь на гражданке. Служу корректором, сказал я. Она сняла пилотку, и светлые волосы, распустившись, упали на китель. Мне захотелось до них дотронуться, только коснуться, даже не погладить, я знаю, это глупо, но она сама виновата. Я ее раньше ненавидел, она меня презирала. Теперь я переменился. Она — тоже. Теперь мне хочется потрогать ее волосы. Мои приятели смотрели на нас во все глаза, ничего не понимая: Раиса никогда не снисходила до дружеских отношений ни с одним из подчиненных. Они пытаются прислушиваться, но мы говорим очень тихо. Словно исповедуемся друг другу.
— А что делает корректор?
Начинаю объяснять, в чем заключается эта работа, но обрываю себя на полуслове:
— Я еще кое-чем занимаюсь.
Раиса удивленно раскрывает глаза:
— Чем же?
— Я — поэт.
Последние слова я произношу почти беззвучно. Она оживляется:
— Настоящий поэт? Как Исаковский?
— Нет, Исаковский знаменит, его стихи читали даже в окопах. А мои…
— И что же с твоими?
— Мои знаю только я один. Думаю, они не очень хороши…
— Ты мне их почитаешь, правда? Обещаешь?
Я кивнул:
— Обещаю.
— Завтра я за тобой зайду, и мы погуляем по парку.
После чего она тотчас переключилась на других, на Дмитрия, Льва, Алексея. А я уже не слушал, так меня разбирали желание ей понравиться и боязнь показаться смешным.
Конечно, мне не надо было упоминать о своих стихах. Что она знает о поэзии? Что это песни, исполняемые шепотом? Порывы восторга или угрызений, молитвы неверующих? Может ли она оценить их, учитывая, что написаны они на идише? Впрочем, я пытался умерить свои чувства. Напрасно я так себя грызу: она не придет, прогулки не будет, я не выставлю себя перед ней идиотом, декламируя стихи. Я сперва любил Раису, потом считал ее стервой-карьеристкой, затем снова любил, потом… Да пошла она к черту, я уже не питаю к ней ни любви, ни злости. У меня сейчас другие заботы. Что я буду делать в СССР? Где жить? Где работать? Может, мне следует навестить семейство Лебедева в Витебске? Какой же я дурак! В Витебске сейчас больше нет евреев. Хорошо. Отправлюсь куда-нибудь еще. К Мите и его бабушке, например. Куда угодно. Найду где-нибудь местечко, где еврейский поэт сможет жить, обеспокоив как можно меньше людей.
Разумеется, я ошибался. Раиса пришла, как и обещала. Что до моих стихов, она настаивала на том, чтобы их услышать.
Так я стал жертвой собственной поэзии.
Люблин не так пострадал, как большинство крупных городов. Мало разбомбленных домов. Почти нормальная жизнь. Полные соборы. И рестораны. Русские и польские солдаты братаются. Под деревьями парни и девушки заново открывают для. себя радости любви.
Я был еще слаб, ходил с трудом, правой рукой опираясь на Раисино плечо. Иногда, оступаясь, я невзначай касался ее груди, и кровь ударяла мне в голову. Мы шли с частыми остановками, чтобы я мог чуток передохнуть. Наконец я предложил ей сесть на скамейку, она помогла мне на нее опуститься и снова заговорила о стихах.
— Тебе действительно это важно? — спросил я.
— Читай, я отвечу потом, — приказала она.
— Но ведь ты не поймешь…
— Солдат, ты дерзишь.
— Да нет, я только хотел сказать, что тебе будет непонятно, потому что стихи не по-русски. Я пишу на языке идиш.
Она даже не моргнула:
— И что с того? Я понимаю идиш.
Ну да, она выучила этот язык в детстве. Ее дед и бабка говорили с ней именно на нем. Я спросил ее, где они сейчас, но она не отозвалась. Ее глаза потемнели. Помолчав, она только обронила:
— Умерли.
— Когда?
— Не знаю.
— Где?
— В Бердичеве.
Тут я перестал замечать и белизну облаков над головой, и зелень деревьев, и гомон людского потока, мерно текшего к центру Люблина. Я вытащил из кармана несколько листков бумаги и принялся читать. Она меня резко оборвала:
— Хватит. Это тяжело и никуда не годится. А что-нибудь повеселее у тебя есть?
Я отрицательно замотал головой. Нельзя было поддаваться ее настояниям. Она слишком холодна и замкнута, чтобы понимать такую поэзию. Сложив листочки, я убрал их в карман. Раиса злобно отчеканила:
— Поэты обязаны воспевать любовь или родину, либо то и другое вместе. Почему ты не хочешь делать то же, что и все?
Она была в такой ярости, словно своими стихами я хотел обмануть и оскорбить лично ее. Ледяные глаза смотрели с ненавистью. Внезапно она встала со скамейки:
— Надо возвращаться. Сил никаких нет, такое пекло… Устала…
Наперекор расслабляющему зною и притягательности ее сильного тела пытаюсь идти без поддержки. У двери она бросает меня и, ни слова не сказав, уходит. Плетусь к своей кровати, валюсь на нее и, прежде чем уснуть, гоню из головы единственную мысль: у меня нет ни одного шанса состояться как поэт. Как соблазнитель я тоже ничего не стою.
Раиса появилась в тот же день, спустя несколько часов. Выглядела она еще более разъяренной, чем утром. Из плотно сжатых губ доносилось какое-то шипение, и я подумал: «Ни дать ни взять белокурая кобра». Она растолкала меня:
— Просыпайся!
Тру глаза. Говорю ей, что устал от долгой ходьбы.
— Да подымайся же!
Встаю, плетусь вслед за ней, забираюсь в ее машину, которая тотчас срывается с места. Мы едем минут десять, не больше, и перед нами встает Майданек с его вышками и колючей проволокой, застывший в своей всегдашней зловещей угрюмости. Раиса бросает:
— Коль скоро тебя вдохновляют только ужасы, оставайся здесь и жри их, сколько влезет!
Я вылезаю из машины, уверенный, что она последует за мной, но тут она снова выкидывает номер: что-то отрывисто приказывает шоферу, и машина скрывается из глаз, оставив после себя лишь облако пыли, светло-серой, как человеческий пепел.
Когда я проник за ограду Майданека, не могу вам передать, гражданин следователь, что я испытал: распространяться об этом было бы по меньшей мере непристойно. Скажу только вот что: я забыл об усталости, о своих разочарованиях, иллюзиях — обо всем. Я часами ходил там, ходил, пока не опустилась ночь. Обошел все бараки, камеры, потрогал и погладил все камни, поцеловал двери, за которыми целый народ, мой народ, огненным облаком взлетел к небесам. Я, конечно, не собираюсь рассказывать вам о Майданеке, об этом и так написано довольно, пусть слова тех, кто там выжил, останутся живыми и полнозвучными, незачем заглушать их моими. Важно только сказать вот что: мне хотелось бы там обрести покой. Вечный покой. Остаться вместе с теми невидимыми мертвецами, так же, как они, биться головой о стены, о потолок, ловя ртом остатки воздуха, погружаться в их безумие, шепча и крича, молясь и проклиная Бога, твердить себе: «Этого не может быть, они не мертвы, а я не жив…» Никогда я так не желал сойти с ума и кануть в вечность, как в тот вечер в Майданеке.
Скорчившись в крайнем бараке, я позволил сумеркам сгуститься надо мной, прислушиваясь к предсмертным хрипам, крикам ужаса, которые принесла ночь, набросив на них свои темные покровы. Я слышал шепот детей, прижавшихся к матерям, различал их молчание, в котором сквозила вечность, пусть и униженная, умерщвляемая. Клялся себе, что никогда их не покину.
Я там был один, ни разу в жизни я еще не был так одинок. И все же мне слышался голос, который шептал, утешая: «Уходи отсюда, твое место среди живых». И еще я услышал: «Раиса права, тебя слишком притягивает все мрачное». И еще: «Раиса молода и красива, чего медлить? Иди к ней, люби ее». Но я сопротивлялся: «Зачем требовать от меня невозможного? Сейчас не время и не место для этого». Однако голос не унимался: «Ошибаешься, именно здесь и сейчас ты обязан побороть тягу к бездне, что одолевает тебя: ведь именно тут все чернее и бездоннее, чем где бы то ни было».
Я узнал этот голос. Мне хотелось подчиниться его велениям, признать правоту этих слов, но я не мог. Я только что усвоил главнейшую истину: мой внутренний взгляд уловил рисунок самых свирепых конвульсий человеческого бытия, от них невозможно было оторвать глаз, я следил за ними уже вне пределов лагеря и теперешней жизни — уносясь куда-то к небесам, к небесному престолу; именно там я, молчаливый могильщик, обращался к Богу и шептал: «В детстве я верил, так как мне внушали, что это правда, будто нельзя произносить Твое имя или отрицать, что Ты есть, а еще невозможно словами выразить, кто Ты. А теперь я знаю: Ты, Бог моих предков, — не кто иной, как могильщик. Ты отдаешь Свой избранный народ земле, как я погребал подобранных на поле битвы солдат. Твоего народа больше нет, Ты его похоронил. Убили его другие, но именно Ты опустил его в могилу, которой ни увидеть, ни сыскать. Скажи, Ты, по крайней мере, прочитал над ним кадиш? Оплакал ли Ты его гибель?»
Мои слова встречает долгое и суровое, почти сокрушительное молчание. Бог решил мне не отвечать. Зато стал различим хрипловатый голос собеседника моих былых лет: «Друг мой, ты впадаешь в преувеличение, тебя заносит. Бог занят воскрешением, а не могильным ремеслом. Он сохраняет связь между Собой (тобой — тоже) и избранным народом. Тебе этого мало? Я жив, ты жив — этого недостаточно?» — «Нет, недостаточно». — «А чего тебе надо? Ответь, наконец!» — «Искупления, — выдавливаю я из себя и торопливо прибавляю: — Только искупления. Ничего другого, никакой замены, никаких ложных утешений, слышишь? В таком месте я имею право требовать всего и все получить. Так вот: требую искупления». — «И мне надо того же, — грустно признается мой спутник. — И мне тоже. Думаю, и… и Ему тоже».
Весь в лихорадке, почти в бреду, во власти ангелов — прислужников смерти, я добрался до госпиталя. Вытащил тетрадку. И записал то, что видел, для своего отца. Но уже во сне.
Вернувшись в СССР и демобилизовавшись, я снова поступил на службу корректором в Государственное издательство иностранной литературы. Потекли серые однообразные дни и одинокие ночи. Во мне лопнула какая-то пружина, жизнь опротивела, а между тем многие могли бы ей только позавидовать. Как бывший раненый и кавалер ордена Красного Знамени, я пользовался разными и притом весьма полезными привилегиями. Получил возможность садиться в трамвай без очереди, ходить в кино и в зоопарк без билета, покупать некоторые дефицитные продукты. Вновь снял комнатку там же, где жил до войны. В Москве готовился к выходу мой сборник стихов. Маркиш и Дер Нистер его читали и горячо рекомендовали. Посещения Клуба еврейских писателей несколько приободряли меня, и я старался захаживать туда почаще. Присутствовал на собраниях и лекциях, которые устраивал Антифашистский комитет в честь еврейских интеллектуалов, коммунистов и тех, кто, им симпатизируя, приезжал из Европы или США. Слушал выступления романистов и поэтов, которых приглашали в гости по случаю выхода их книг в СССР, любил ходить в театр Михоэлса на спектакль его труппы «Бар-Кохба». Короче, я пытался вынырнуть на поверхность, внушая себе, что убийца не одержал верх и тот могильщик, каким я недавно был, может уйти с кладбища, где еще обитал еврейский народ, даже если все мои близкие уже покинули этот мир. Но чтобы обрести утраченное равновесие, мне представлялось необходимым вновь встретиться с Раисой. Ни больше ни меньше.
Однажды сентябрьским утром по пути на службу я задержался около витрины недалеко от гостиницы «Националь», подумывая о покупке зимнего пальто. Но я все не решался: ведь в качестве покупателя я — мечта любого работника прилавка, мне можно всучить что угодно, я ни слова не скажу против, никогда не торгуюсь, не говорю «нет», даже если предлагаемая одежда мне подходит не более, чем забредшему ненароком ослу парадный мундир. Я все оплачу и заберу, даже зная, что никогда этого не надену.
Я уже собирался пойти дальше, но тут заметил в магазине женщину, что-то объяснявшую продавщицам. После мгновенного замешательства я толкнул дверь.
— Вам что-нибудь нужно, товарищ? — окликнула меня полноватая девушка, но я уже стянул фуражку, расстегнул куртку и направился прямиком к Раисе.
— Ты? Не может быть! — Она горячо стиснула мою руку. — Кто ты теперь, наш замогильный поэт?
Когда она об этом спросила, посетители и сотрудники стали как-то странновато на нас поглядывать, и мы, не желая их смущать, отошли в глубь магазина, чтобы поговорить без помех.
Раиса довольно заметно изменилась. Без мундира она казалась менее женственной, но более чувственной. Светлые волосы забраны в пучок на макушке, жесткие глаза посверкивают — она превратилась в зрелую женщину, и это ей очень шло. Появилась, как теперь говорят, особая повадка, и было заметно, что она притягивает мужские взгляды. Мы договорились о встрече: после закрытия ее заведения мы пообедаем в Клубе писателей, затем пойдем в театр Михоэлса, посмотрим его в роли короля Лира.
— Если надоест смотреть, просто уйдем, — пообещал я.
Возобновленные романы принято бранить, к таким историям многие относятся не лучше, чем к повторно разогретым супам. Быть может, в этом есть резон. Но я разогреваюсь быстро, такова моя природа, тут уж я бессилен. Женщине достаточно склониться ко мне, как кровь у меня вскипает; стоит незнакомке мне улыбнуться — мои щеки вспыхивают, как у школьника, и про себя я наделяю ее всеми возможными добродетелями.
Сознавая свою невзрачность в большом и в малом, я обычно очень признателен женщине, которую это не останавливает; чтобы ее отблагодарить, готов достать для нее луну с неба. Да, так и было! Этот грех я знал за собой аж со времен Льянова и Краснограда. Меня еще не отпускает мое талмудистское прошлое? Согласен, но это сильнее меня. Что до Раисы, я уже при нашей третьей встрече был готов предложить ей выйти за меня. И теперь сказал об этом без всяких обиняков. Это, как мне показалось, ее не удивило.
— А ты уверен, что любишь меня?
— Уверен, Раиса. Есть хотя бы одна вещь, в которой поэт уверен, — это его любовь. А ты? Ты меня любишь? Хоть немножко?
Она ответила странновато:
— Видели бы меня мои родители…
— Твои родители?
Ее лицо затуманилось. Смотрела на меня, а словно не видела. Наконец произнесла:
— Пальтиель Коссовер, поэт и еврей, иногда меня от тебя воротит, но в остальное время ты довольно забавный.
Чтобы доказать, что я ей не безразличен, она три раза подряд побывала со мной в Еврейском театре, где разыгрывалась какая-то очень многословная, зато отменно патриотическая дрянь. Она попросила меня почитать ей мои стихи, новые и те, что уже слышала. С пониманием их прокомментировав, она не уставала, однако, высмеивать мрачный вид, с коим я их читал, и предсказала, что как поэт я обещаю больше, чем как муж. Польщенный ее словами, ошалев от восторга, я теперь жил только ради нее. Раиса никогда не говорила, что любит меня… но ведь при всем том она приняла мое предложение. Мы заполнили целую кучу анкет, затем вместе со свидетелями (с четой Менделевичей) отправились в загс, где какой-то надутый чиновник объявил нас мужем и женой. Вся церемония не продлилась и нескольких минут. «Ах, если бы мои бедные родители видели меня сейчас», — прошептала моя супруга. Я подумал о своих, но промолчал.
Менделевич пригласил нас в ресторан. Раиса со слегка пренебрежительной усмешкой согласилась, а меня охватила грусть, которую мне вряд ли удавалось скрыть. Я все думал о тех, кого не было рядом: об отце, таком великодушном и все понимавшем, о набожной и всегда расположенной помочь ближнему матери, о сестрах, дядьях, учителях и приятелях моих детских лет. Вот если бы свадьбу сыграть в Льянове… Я представлял, как выглядела бы церемония. Красно-синий полог над нашими головами, свечи, раввин, скрипачи, моя заранее подготовленная краткая речь… Здесь же все свелось к обеду в актерском ресторане. Трапеза была обильна, изрядно сдобрена водкой и — один раз погоды не делает, исключение позволительное — крымским шампанским.
Менделевич развлекал нас театральными байками, Раиса хлопала в ладоши. А я про себя все припоминал наши старинные традиции. Жених-сирота должен отправиться на кладбище, чтобы пригласить на свадьбу умерших родителей. Как я мог бы сделать это? Льянов далеко, и в любом случае Раиса меня не поняла бы. Спросила бы: «Тебе нужно кладбище? Но у тебя одно такое уже есть в сердце. Прочитай там молитву, поклонись могилкам, и хватит!»
— Почему ты такой грустный? — встревожилась жена Менделевича.
— Так велит традиция, — ответил за меня ее муж. — Молодожены должны быть печальными в день свадьбы. Они разбивают стакан и мажут лоб пеплом в память о разрушении Храма. Конечно, это тоже театральное действо, но какое трогательное!
— Что такое? — возмутилась его жена. — Пальтиель печален из-за такого далекого прошлого?
— Да нет, — вступила в разговор Раиса. — Он грустит из-за будущего… того, которое ему пока неизвестно.
И тут вдруг я почувствовал, что мы никогда не будем счастливы.
Сегодня, когда я пишу эти строки в месте, где все прошедшее высвечивается четким и ярким светом, я отдаю себе отчет, что Раиса что-то уже подозревала, причем задолго до того, как стал догадываться я. Тогда почему она вышла за меня замуж? С ее привлекательностью, образованностью, партийным прошлым она могла бы выбрать из списка воздыхателей мужа и получше. Но на самом деле, как я понял позже, она воспользовалась мною, чтобы одолеть собственные наваждения.
До войны она ходила в невестах, но ее отец воспротивился: Анатолий не был евреем. Плакала ее мама, сама Раиса ярилась:
— Ну да, он не еврей. Но вот я еврейка, и что мне с того?
— Раиса, ты только вспомни! — молил ее отец.
— О ком? О чем? Оставь меня в покое со своими воспоминаниями! — кричала она. — Я хочу жить по собственному разумению, а не по твоему!
В конце концов она порвала с родителями и поселилась у Анатолия. Война их разлучила. Анатолий погиб под Минском, и боль Раисы обернулась ожесточением. Сначала она ополчилась в душе на родителей, потом — на всех евреев вообще: если бы не они, она вышла бы замуж за своего Анатолия, у них родились бы дети, они пожили бы счастливо… После призыва в армию она яростно не желала иметь дело с евреями, позволяла себе ругать их на все лады, словно мстя таким манером своим родителям. Все изменилось лишь тогда, когда она узнала об истреблении евреев Витебска, о том, что всех членов ее семьи похоронили заживо. После этого ее потянуло к евреям новое чувство: осознание своей вины (а тут и я как раз подвернулся!). Думала ли она, что таким образом смягчит горе мертвых родителей? Понимала ли, что, наказывая себя, она заставит страдать и меня? Однако, прошу прощения, гражданин следователь, пора сменить тему. Моя личная жизнь касается только меня.
День прошел быстро. А вечером мы снова были в театре, где Менделевич играл в пьесе по Шолом-Алейхему. Наш друг и покровитель ухитрился незаметно для публики даже вклинить в реплику роли особое напутствие, которое в тексте не значилось, оно предназначалось лично нам: «Мазл тов!» — это горячее пожелание удачи молодоженам. Нам с Раисой сюрприз очень понравился.
После спектакля мы поднялись к Менделевичу в его актерскую уборную.
Стали рассыпаться в благодарностях, но он со смехом отмахнулся:
— Вы же видели? Никто ничего не заметил. Я могу говорить, что угодно, все проходит… К счастью, Шолом-Алейхем уже не сможет нас услышать.
Потом мы отправились к Раисе. И там, на ее кровати, среди ее вещей, в том месте, где она чувствовала себя дома, я без блеска провел свою первую брачную ночь.
Занятая своими мыслями, Раиса даже не обратила на это внимание. Она задремала, а я остался лежать с открытыми глазами. Строил тысячи проектов, вариантов совместного будущего. Надо было срочно принимать ряд решений. Гальперин, поэт, воспевавший колхозную жизнь, человечек с детским голоском, предложил мне перевести на французский его поэму о войне, но при условии, что я официально вступлю в партию. Я обсудил это с Раисой, которая тоже горячо убеждала меня стать коммунистом. В общем, почему бы и нет? СССР победил Гитлера, заплатив за это дорогой ценой, Красная армия освободила Майданек и Освенцим, надо же показать, что я благодарен за это. К тому же мне на память приходили мои давнишние знакомые: Инге, Трауб, Эфраим… Конечно, были еще и Яша, Пауль Хамбургер, чистки, исчезновения, но в истории человечества столько разных страниц… Итак, я решил вступить в партию.
Мой сборник появился в печати на исходе 1946 года. Встретили его по-разному. Некоторые критики выражали свое восхищение, другие, не разобравшись в сути, разносили его в пух и прах. Впрочем, надо признать, что я все сделал для того, чтобы сбить их с толку.
Томик назывался: «Во сне я видел моего отца», а ни в одном стихотворении об отце не упоминалось. В последний момент я решился убрать некое лирико-мистическое сочинение, в котором описывал особую церемонию: там люди идут по улице вслед за моим отцом. Я спрашиваю его, куда он направляется, но он мне не отвечает, я пропускаю кортеж вперед и следую за ним, чуть отставая; мы идем в молчании, но я слышу, как кто-то внутри меня заговаривает со мной, однако не ведаю, кто это может быть. Голос все говорит, а я понимаю, что мне запрещено узнать, кто он. Передо мной нет никого, я опускаю глаза и вижу маленького мальчика, который растет, вырастает… Он кивает мне, и я его наконец узнаю. Он задает мне вопрос, не произнося ни звука, и теперь я догадываюсь, со мною говорит его молчание. При этом он на меня и не смотрит, но я слышу: «Что ты сотворил со мною?» Вместо ответа я протягиваю ему мой сборник.
Почему я убрал это стихотворение, стоявшее в томике первым? Боялся вызвать растерянность и неприятие у коммунистически настроенных читателей.
Но в общем мне грех было жаловаться. Маркиш организовал вечер в мою честь. Критик из газеты «Известия», приглашенный Менделевичем, посвятил мне столбец, маленький, но хвалебный. Ходил даже слушок, что отчет о вечере и о книжке появится на страницах «Литгазеты». У меня были все основания быть довольным, и я ощущал нечто подобное, насколько мог. У нас появились кое-какие деньги. Государственное издательство иностранной литературы заказало мне перевод Ицика Фефера на французский язык и Золя — на идиш. Готовилось второе издание моего томика, и мне предлагали выпустить новую подборку. Моя статья в «Правде» о поэтических переложениях ленинских высказываний вызвала большой интерес. Короче, я вошел в моду.
В здешней литературе у меня появилось какое-то имя, это льстило. Не только тем, что давало определенные материальные преимущества: более просторную квартиру, лекции и обсуждения книг в Домах культуры, выступления в колхозах, приглашения на официальные обеды и встречи в узком кругу; теперь я обладал и небольшой властью: к моим литературным оценкам прислушивались, я мог выступить за или против того или иного автора либо произведения.
Получив должность главного лектора в отделе издательства иностранной литературы, я составлял рапорты и отчеты для всемогущей идеологической комиссии. Рукописи, проспекты, пробные оттиски, заметки на полях, профессиональные рецензии… Я стал плавать в целом море бумаг. Начальству нравились мои литературные пристрастия, мой политический инстинкт, оно с уважением относилось к моим рекомендациям. Одним словом, я делал за них их работу.
Вне их круга меня ценили не столь высоко. Мне льстили, лгали, сплетали венки, но не любили. Мне завидовали, меня обвиняли в несуществующих грехах. Арке Гелис вел против меня целую кампанию, хотя действовал втихую, не слишком заметно. Он ставил мне в вину религиозное детство. Со своей стороны, я возражал против публикации его совершенно бездарного романа о Гражданской войне. Он привлек себе в поддержку людей, гораздо более влиятельных, чем я, комиссия не согласилась с моими доводами, и его роман был издан с большим шумом.
В свою очередь, мне удалось вмешаться в разбирательство, касавшееся старика Аврума Залмана. Его арестовали за то, что, сильно напившись, он прочитал где-то вслух своего рода скорбную песнь в честь библейского царя Саула, величайшего и благороднейшего из всех, поскольку имел смелость не осуждать своих врагов на смерть. В доносе Арке Гелиса говорилось, что подобные утверждения направлены против нашего бессмертного Иосифа Виссарионовича. Я бросился к самому майору Корязину и выпалил:
— Залман, может, и никудышный партиец, но он великий поэт.
Кажется, этот вопрос был представлен на рассмотрение нашему любимому вождю. И тот сказал, что еще со времен семинарии испытывал особое расположение к несчастному царю Саулу. Поговаривают, что он лично отдал приказ освободить влюбленного в Библию безумца. Поражение Гелиса вызвало у меня новый прилив радости.
— Вот видишь! — ободряла меня Раиса. — Партбилет дает не только материальные преимущества.
Но прежде всего партбилет налагал на своего обладателя многочисленные обязательства. Собрания и встречи, обмены мнениями, лекции и заявления. Надо было слушать, рукоплескать, голосовать. Ничего сложного. Существовала линия партии, и я без труда соглашался с ней: партия всегда оказывалась права. Как и для большинства других, она стала в моих глазах своего рода религиозным орденом. Мне надо было только вспомнить свою юность и подменить партию Небесным Законом или наиболее трудновыполнимыми повелениями Всевышнего — и тотчас становились очевидными все составляющие испытываемого счастья. Я изучал руководящие циркуляры точно таким же манером, каким в былые времена штудировал пассажи заковыристого богословского трактата: то есть в полной уверенности, что там мне откроются последние истины и я найду ответы на все вопросы. Я бы даже сказал, что моя религиозная подготовка помогала мне ориентироваться в извивах новой веры гораздо быстрее, чем настоящим марксистам. Я преуспевал в постижении нового и в исполнительности.
Вот Менделевич, например, хоть и был партийцем, находил мою истовость чрезмерной.
— Не забывай, — сказал он как-то мне, — что ты в первую голову поэт, притом поэт еврейский.
Он не стал добавлять, что партийность здесь — фактор второстепенный, но думал он именно об этом.
А вот Дер Нистер, как мне показалось, имел по моему поводу большие сомнения. Он упрекал меня в оппортунизме. Задетый этим, я искал возможности объяснить ему мою позицию, но случая не представилось, о чем сожалею до сих пор, так как с большим почтением отношусь к нему самому и ко всему, что он после себя оставил. Его мнение обо мне очень меня волновало.
Я часто представляю себе, как бы мы разговаривали с глазу на глаз. Что бы я ему сказал? Может, то, что, потеряв всех родных в поезде-душегубке, где их планомерно довели до мучительной смерти от удушья, я порвал с религией предков, понял, на что способен нацизм, а вдобавок, уцелев, когда столько людей хотели моей смерти, увидев то, что мне открылось в застывших глазах мертвецов, я нашел в коммунистической революции идеал, который мне по душе. Теперь я занимался полезными вещами. В том числе и для еврейского народа. Я состоялся как мужчина и как еврей. Если бы, как в начале тридцатых годов в Германии, партия поставила меня перед выбором: или я прощаюсь с собственным еврейством, или выхожу из ее рядов, это грозило бы мне серьезным душевным разладом. Но теперь, в СССР образца 1947-го, все совершенно не так. Партия создала Антифашистский комитет, учреждены клубы еврейских писателей и актеров, еврейские поэты летают в Америку. Михоэлс считается одним из самых уважаемых советских актеров. Ицик Фефер награжден самыми главными орденами, Маркиш пользуется любовью местной интеллигенции, мои собственные писания появляются в престижных журналах Союза писателей. Значит, совсем не плохо быть одновременно евреем и коммунистом. Вот и в международной политике прогнозы самые многообещающие. Москва защищает дело палестинских евреев и выступает в их поддержку с трибуны ООН. В речах Громыко больше сионизма, чем у самих сионистов. Поговаривают, что мы посылаем оружие подпольной еврейской армии… Так с какой стати мне скрестить руки на груди и оставаться на отшибе?
Вот в чем я постарался бы убедить писателя, которым восхищался. Но мы никогда не встречались без свидетелей. Мне это было неприятно, но он, казалось, избегал меня. Тут уж ничего не поделаешь. К тому же я был слишком загружен. Отвечал за огромный объем работы и еще приходилось расплачиваться за собственную популярность. Я тогда трудился, как каторжник. Писал и диктовал. Готовил второй сборник: эпопею, историю еврейского революционера, который во времена оккупации стал партизаном. Спал я плохо и мало. С самого утра сидел за рабочим столом. Раиса меня поддразнивала:
— Что ты хочешь доказать? Что ты более активный коммунист, нежели я?
Она меня не понимала, не видела, что я стараюсь реализовать все свои возможности. Моя книга отправилась в типографию. Выпустить ее намечали к весне 1949 года. Гальперин, как всегда, исполненный энтузиазма, уже говорил об официальном вечере, в котором примут участие самые видные из еврейских литераторов. Михоэлс был готов предоставить в наше распоряжение свой театр. Согласием Зискинда было заручиться нетрудно. Я протестовал:
— А ты не считаешь, что это немного преждевременно? Сейчас еще зима в разгаре, книга пока не напечатана, надо бы подождать до…
У меня появилось, уже не впервые, некое предчувствие. Я опасался какого-то непредвиденного несчастья. И оно произошло. В Минске Михоэлс стал жертвой таинственного дорожного происшествия: ночью его сбила машина на шоссе. Когда я узнал об этом, сидя у себя в кабинете, на ум странным образом пришла цитата из Талмуда: «Смерть праведного указывает, что род людской стоит на пороге великих искуплений». Я побежал в Еврейский театр. Там уже теснилась толпа: знакомые, близкие, совсем неизвестные люди. Некоторые всхлипывали, другие, как громом пораженные, сжимали зубы, будто в камере смертников.
Все чувствовали: что-то надвигается. После похорон — торжественных, волнующих, незабываемых — пущенная в ход машина начала набирать обороты. События следовали одно за другим в ускоряющемся темпе: роспуск Антифашистского комитета, закрытие Еврейского театра, исчезновение то одной, то другой фамилии в прессе… Затем началась кампания против сионистов и космополитов. Мои друзья стали избегать многолюдных собраний. Любые приглашения куда бы то ни было прекратились. Все свободное время я проводил дома, с Раисой. Пытался вместе с ней проанализировать ситуацию, но она всячески уклонялась от таких разговоров. Я часто спрашивал:
— Что ты думаешь относительно всего этого?
— Замолчи, — звучало в ответ. — У тебя есть своя работа, у меня — своя. Остальное — не наша забота.
В ее голосе снова появились командные нотки.
Однажды по дороге в типографию я встретил на улице Гальперина. От всей его медленно бредущей, сгорбленной фигуры веяло безысходностью. Когда я вошел в здание типографии, рабочие с перепуганными лицами стали подавать мне знаки, что лучше бы оттуда уйти. Я обратился к старине Мейлеху Геллеру, человеку, наперекор всему еще бодрому, с вопросом:
— Что тут у вас происходит?
Вместо ответа он только кивнул на дверь, за которой сидели наборщики.
Открыв ее, я увидел десяток молчаливых милиционеров и людей в штатском с каменными лицами. Они вскрывали ящики с приготовленными к работе рукописями, все печатное засовывали в мешки, молотками разбивали уже готовые свинцовые формы (и те, что уже были приготовлены для моего сборника!), притом без всяких объяснений, не показывая ордеров, позволявших им так поступать. Все это очень напоминало погром. Когда он закончился, они так же молча ушли и унесли типографские матрицы.
Я застыл, не понимая, что делать: мешала дурнота, покалывания в груди, напоминавшие, что я все-таки сердечник. Я проглотил, не запивая, какие-то порошки. Боль поутихла, но дурнота осталась: я едва не потерял сознание. Сел. Рабочие смотрели на меня, ожидая объяснения. Но что я мог им сказать? Ведь все рукописи уже прошли цензуру и были одобрены к печати соответствующими компетентными органами, почему же милиция саботирует наложенные резолюции? Кое-как преодолев дурноту, я побежал в свой кабинет и стал звонить ответственному за партийную культработу. Его не было на месте. И заместителя тоже не было. У секретарши оказались какие-то дела, приятель, редактор в «Известиях», отсутствовал, до майора Корязина тоже не достучаться, а его адъютант был не в курсе.
Этак недолго и свихнуться. В моей голове не укладывалось, как партия могла вот так запросто обречь на вымирание целую культуру, уничтожить всю еврейскую литературу, включая даже переводы с русского? Третий том полного собрания сочинений Ленина? Дифирамбы Иосифу Виссарионовичу — сочинение молодого Грабодкина? Их-то зачем выкидывать? Как это понимать? Можно бороться с вредными личностями, с подрывными идеями, с отклонениями от линии партии, просочившимися в статью… Все это в порядке вещей, так ведется идеологическая борьба. Но уничтожить целый язык? С какой целью? Где причина таких гонений? Нет, ничего, совершенно ничего не понятно.
Конечно, я пытался рассуждать: может, партия не в курсе? А если там обо всем знают, но их логика мне непонятна, это еще не значит, что она ошибочна и не имеет веских оснований. Ведь партию следует принимать, как она есть. Обсуждать ее — значит выказывать сомнения, то есть отклоняться от ее линии, судить, опровергать. Вера — это же всегда вера, сомнение под запретом. Я повторял самому себе все эти доводы, а что-то во мне говорило: ну вот, начинается второй в моей жизни погром.
Я вернулся домой раньше обычного. Раиса тоже. У меня на сердце лежала тяжесть. И жена выглядела неважно. Все-таки между нами было какое-никакое взаимопонимание. Я рассказал ей, как прошел день. Она задумалась, потом произнесла:
— Все это гораздо серьезнее, чем ты думаешь.
— Объясни, что происходит.
— Не могу. Тебе достаточно знать, что никто шутить не намерен. Я ведь в партию вступила раньше тебя и, если не забыл, занималась там вещами вполне ответственными… Мои источники заслуживают доверия…
Она казалась мрачной, до крайности подавленной. Никогда еще я не видел ее в таком состоянии.
— Что ты собираешься делать? — спросил я.
Она ответила самым решительным тоном:
— Надо уехать.
— Ты серьезно? Нам обоим, тебе и мне, бросить здесь свою работу и убежать только потому, что нам что-то почудилось?
Она жестко расставила все по местам:
— Спорить не о чем. Не мешай мне делать то, что я считаю нужным. Тут сейчас все может случиться. Лучше переждать в сторонке. В тридцатые годы удалось уцелеть прежде всего тем, кто жил вдали от Москвы и больших городов.
С души воротило от страха и боли, но моя любовь к Раисе взяла верх, а уж ее-то я любил! Ее спокойная сила, рассудительность, решительность, смелость все так же пленяли меня, как и на заре нашего союза. Может, и опасность, что надвинулась вплотную, тому содействовала? Как бы то ни было, она нас объединила.
— Послушай, — предложила Раиса, — ты ведь болен, сходи-ка к врачу. Попроси у него длительный отпуск по болезни. Жена будет тебя сопровождать.
— Куда же мы направимся?
Широко распахнув глаза, она задумалась. Она часто так делала, и мне это нравилось.
— Поедем в Красноград. Там горы, это далеко, городишко маленький. То, что нам надо.
Не понимаю как, но она оказалась в моих объятиях, не знаю почему, но она ответила на мои поцелуи.
События того дня меня совершенно оглушили. Я перестал что-либо соображать. Рейд милиции, безответные телефонные звонки, реакция Раисы — что все это могло значить? Пройти всю войну (ту самую!) — и теперь вот так перетрусить? Удариться в бегство?
Мы отправились спать без ужина, укрылись в постели, как в окопе. И Раиса снова меня удивила. Не ожидая моего первого движения, сама прижалась ко мне, была нежна и взяла инициативу на себя. Быть может, она уже предчувствовала нашу разлуку? Она стискивала меня в объятьях, и я познал наслаждение, родственное боли и головокружению.
Возвращение в Красноград обошлось без осложнений. С медицинской справкой в кармане я получил все необходимые разрешения. К счастью, наша бюрократия гораздо менее успешна в своих действиях, нежели ей приписывают. Нетрудно оказалось и отыскать жилье: после массовых арестов его было хоть отбавляй.
Рассказывать, как я снова обрел город своего детства, означало бы вернуться памятью в те годы, а я уже это делал. Но теперь я чувствовал себя здесь чужим. Неужели изменились улицы, дома, парки? Я их не узнавал. Вот и дом моего отца мне больше не принадлежал, впрочем, он и раньше не был по-настоящему моим. Отныне я предпочитал с ним не встречаться. Поток времени унес отчий дом. И смыл город моего детства. Белев был далеко, а Красноград — это совсем другое, он был чужд моим давним ушедшим дням.
Официально будучи болен, я не мог подыскивать себе службу. А вот Раиса могла. Ее зарплата помогала нам сводить концы с концами несколько месяцев. Но не больше, ибо она была беременна.
Говоря начистоту, я пытался убедить ее сделать аборт. «Разве теперь время давать кому-то жизнь? Кто знает, где я окажусь завтра? А вдруг обоих арестуют? Но даже если нас не тронут, ты веришь, что этому миру нужен еще один еврей?»
Она же стояла на своем. Ей нужен был этот ребенок, и все мои доводы она пропускала мимо ушей. Я теперь отдавал себе отчет, что почти не знаю свою жену: мне известны только те эпизоды и обстоятельства ее жизни, что связаны со мной. А как же детство в Витебске, родители, друзья? Я множил вопросы, но они оставались без ответов. От ее умолчаний на душе становилось еще тяжелее.
Между тем мы теперь уже каждую ночь ждали стука в дверь. Как когда-то, во время войны в Испании и в России на фронте, я ожидал той пули, что адресована лично мне. Но разница все-таки существовала: и раньше, и теперь я чувствовал себя в опасности, но не ощущал за собой вины, однако прежде никто и не пытался меня обвинить, не готовил западни, а сейчас… Сейчас я жил под негласным подозрением, вел себя, будто виновный. Заложив руки за спину, я ходил взад-вперед по комнате. Как приговоренный.
По ночам я прислушивался к звукам на улице, на лестнице, у меня перехватывало дыхание. Разбудить Раису? Но шаги удалялись. До новой тревоги.
Раиса перестала работать за месяц до родов. Женщина, сдававшая нам комнату, глядя, как моя жена поднимается или спускается по лестнице, бормотала: «Бедняжка!» Позже, когда ей на глаза попадались мы оба с младенцем, она твердила себе под нос то же слово, только во множественном числе.
В комнате я созерцал свое дитя, мальчика, носившего имя Гершон, некогда принадлежавшее моему отцу, и мое сердце таяло. Я отвечал за его будущее, хотя представлял его отнюдь не безоблачным и полным тоски. Буду ли я еще здесь, когда придет час учить его ходить, как мой отец учил меня? Кто обучит его первым словам и песенкам, назовет имена птиц и цветов? Кто убережет его от дурного глаза? Я гладил его маленькую, еще безволосую головку, целовал во влажный лоб и шептал: «Пусть Всевышний будет с тобой, сын мой, пусть Он останется с тобой, отец мой».
Я разыскал (не буду говорить, ни где, ни как) моэля, который обрезал моего сына. Читая вслух молитву о сем знамении завета между нами и Богом, я прослезился. Сын, которого я держал на руках, смотрел на меня в молчании, а я, тоже молча, желал ему познать радость. Когда моэль произнес имя моего отца, я заплакал.
С Раисой я об этом не советовался. Опасался взрыва ярости, но и на этот раз она меня удивила. Ее синие глаза потеплели.
— Он будет страдать, — сказала она, покачав чуть заметно головой, — конечно, будет. Этого не избежать. Но по крайней мере, ему станет понятно, за что.
Однако же петля затягивалась. Из Москвы долетали тревожные вести: Маркиш и Бергельсон, Дер Нистер и Квитко были арестованы. Менделевича уложила в постель эмболия. Я сел в поезд и приехал отдать ему последнюю дань почтения. Но никого из общих знакомых около него не застал. Старик Аврум Залман попал в психбольницу. Вдруг начал вопить в ресторане, что он — двоюродный брат царя Давида: «Саул, убей меня, убей!..»
Чувствую, скоро мой черед. Тюрьма, безумие, смерть. Расставание. Гляжу на сына, и мне кажется, что он улыбается. А я улыбаюсь ему.
Не понимаю, почему я пока на свободе. Насколько я знаю, за мной наблюдали, следили. Зачем же теперь мне еще позволяют побыть мужем, отцом, добровольным изгнанником, а не заставляют разделить судьбу моих собратьев?
Поскольку я все время ожидал, когда случится несчастье, я был готов сам его спровоцировать. А что будет, если я приду в милицию? Скажу: «Вот доказательства моей вины, арестуйте меня».
Я перестал понимать, что мне следует делать. Боязнь тюрьмы представлялась более ужасной, чем сама тюремная камера. Оставаясь наедине с Гришей (это уменьшительное имя у него появилось с самого дня его рождения), я рассказывал ему истории на идише, пел те колыбельные, что любила напевать моя мама. Раиса снова пошла на работу, а я занялся младенцем. Открывая вечером дверь и видя меня, она вздыхала с облегчением: за мной еще не пришли. Мы просчитали все варианты: если меня арестуют днем, когда Раиса на работе, до ее прихода Гришей займется женщина, которая сдает нам комнату.
Казалось, жена была менее встревожена, чем я. Она заставляла себя сохранять спокойствие, но я чувствовал, что силы ее на исходе. Раиса лучше меня представляла беды, что нас подстерегают. И улыбалась, только играя с Гришей. На меня она посматривала лишь затем, чтобы я хоть ненадолго оторвал взгляд от сына. В его глазах, как когда-то в отцовских, я искал укрытия от всех напастей.
Чтобы чем-то заполнить время, я, сторожа Гришин сон, перечитывал и переписывал заметки, стихотворения, отдельные высказывания. Переставлял книги, перекладывал одежду. В глубине одного из ящиков снова нашел свои филактерии. И, прикоснувшись к ним, содрогнулся. «Ах, если бы они могли говорить!» — подумалось мне. Через секунду я извлек их из торбочки, не понимая сам зачем, прикоснулся к ним губами, надел на лоб и на левую руку, как делал в льяновском Доме молитвы и учения. Память жестов целиком вернулась ко мне.
Все это выглядит глупо, но я сразу почувствовал себя лучше. Прежде чем их снять, я наклонился над колыбелькой. Мой сын спал, однако же я был уверен, что через сомкнутые веки он видел меня.
За ужином я рассказал об этом Раисе, и в моем голосе прозвучала пренебрежительная ирония по отношению к самому себе:
— Видишь, старею, снова впадаю в религиозность.
Но она взглянула мне прямо в лицо своими огромными глазами и спокойно отозвалась:
— А знаешь, те, кто не потерял веру, держатся тверже и лучше переносят испытания.
Я уставился на нее, не осмеливаясь вникнуть в сказанное: я не ослышался? Она призывает меня вернуться к вере? И тогда я спросил:
— Знаешь историю рабби Шнеура-Залмана из Ляд?
— Ты шутишь? Эти персоны скорее по твоей части.
— Так вот, в тюрьме его посетил прокурор — рабби внушал властям такое почтение, что поговаривали даже, будто то был не прокурор, а сам царь. Слухи тогда ходили разные, в общем, его собирались выпустить на свободу. Так вот, хасидское предание утверждает, что, принимая столь высокопоставленных визитеров, рабби надевал на себя филактерии.
— Что ж, попробуй и ты завести такую привычку, — улыбнулась Раиса, делая вид, что рассказанная история ее позабавила. — Хотелось бы, чтобы тебе это помогло.
На следующий день, все еще притворяясь, будто не всерьез, я снова надел филактерии. И прежде чем их снять, дождался, пока Гриша проснулся. Он подергал за кожаные ремешки, и это доставило мне большую радость. Вечером мы, как обычно, легли спать, сперва уложив и укачав сына. Я напевал ему всеми забытые песенки, чтобы он скорее заснул. Он требовал еще и еще. А ночь для меня настала беспокойная. Во сне я бежал изо всех сил, чтобы спасти маленькую белокурую девочку, которая тонула, но одновременно та же девочка собиралась упасть с высокой башни. Когда перед рассветом я проснулся, сердце бешено колотилось. И тут раздался негромкий стук во входную дверь.
В единый миг я подумал о своем отце и сынишке. Одна мысль облекла их обоих: отчаянно захотелось их защитить. Сердце разрывалось оттого, что я не смог помочь ни тому, ни другому. Жизнь потратил зря. И еще страшило: когда они оба примутся меня судить, что я смогу ответить в свое оправдание?
В тюрьме я только однажды поддался панике. И совсем не под пыткой. Как выяснилось, я неплохо переношу удары, даже очень болезненные. От боли страдает только тело, но это не я. Я — вне тела. И слезы из глаз текли, конечно, но они принадлежали не мне. Я видел оливковые пальмы, миндальные деревья, а не тех, кто меня пытал. Я слушал слова своих наставников, а не ваши речи, гражданин следователь. Давид Абулезия докладывал мне о результатах своих мессианских трудов, Эфраим развлекал приключениями подпольщика. Инга разгуливала по берлинским улицам, я тайно следовал за ней, чтобы уберечь от врагов. Ахува привносила в мои дни красоту еврейской женщины с Востока. Все они необычайно мне помогли. Уберегли от соблазна поддаться, покориться.
Пытавшие мучили мое тело, но воображение оставалось свободным. Я выл, орал, но ничего, потребного им, не говорил. А вот моральные пытки оказались страшней. Мне твердили, что я — враг всего справедливого и чистого, что мои божества — прислужники демонов, что моя любовь к еврейской культуре — лишь маска, под которой скрывается презрение к человеку, а мой идеализм лжив и лицемерен. Мне вколачивали в голову, что добро — это зло, что зло — это добро. Что свою жизнь я подчинил одной цели: предательству. Мне давали читать чужие признания, меня сводили с их авторами, жалкими, раздавленными свидетелями, которые губили себя и других, подтверждая навязанные обвинения. А все инсинуации, все подозрения, связанные со мной и Паулем Хамбургером, с нашей «подрывной» работой? А также с Яшей, с его и Пауля друзьями, которых теперь называли сообщниками? И значит, я был знаком только с предателями, доносчиками, тайными врагами. И в партию вступил лишь затем, чтобы вести внутри нее подрывную деятельность, дать агентам империализма возможность проникнуть в ее тайное тайных. И в Берлин я ездил, чтобы выдать наших людей гестапо, а в Испанию — чтобы помогать троцкистам. Как-то раз мне предложили облегчить свою участь, переложив вину на Бергельсона и Дер Нистера. Порой меня одолевала слабость, и я чувствовал, что могу сломаться. И тогда во сне ко мне приходил отец и спасал меня. Что до моего сына…
Меня привели туда, где мы снимали жилье, чтобы в моем присутствии произвести обыск. Поднимаясь по лестнице в наручниках, я внутренне готовился к этому испытанию. Задыхаясь, я жаждал лишь одного: поскорее умереть. Подобно романтически настроенному школьнику, молил мое больное сердце разорваться. Перед собственной дверью меня затрясло от страха. Когда втолкнули в комнату, электрическая лампочка, хотя и слабая, совершенно меня ослепила. Раиса, впервые на моей памяти, а может, и впервые в жизни, испуганная или растерянная, попятилась, чтобы нас пропустить.
Гриша, сидевший на полу, казалось, ничего не понимал. Он не узнал этого бородатого сутулого человека, который сжимал челюсти, глотал слюну, скрипел зубами, как убогий старикашка.
К счастью, я слышу голос, которого не различает никто. Он шепчет мне на ухо, велит повернуть голову, я послушно следую его указаниям. Требует, чтобы я улыбался, и я улыбаюсь, хочет, чтобы сделал беззаботное лицо, — и я повинуюсь: на моих губах глупая ухмылка. Благодаря ей я контролирую каждый мускул, мое лицо не дергается в нервном тике. «То, что ты отсюда унесешь, — говорит мне Давид Абулезия, — это образы, ты будешь видеть их потом, они останутся с тобой. Следи за своим лицом. Будь на высоте, друг поэт». — «Стараюсь», — киваю я ему. Гриша наблюдает за мной, Раиса — тоже, на меня смотрят охранники, а я болтаю с Давидом Абулезия о наших встречах во Франции, в Италии, в Палестине.
Оказавшись снова в камере, падаю на койку, разбитый до предела. Наконец-то я в одиночестве. Как ребенок, хотя в детстве я вовсе не был таким покинутым сиротой. Оплакиваю гибель отца, жизнь сына, свою собственную, ее скорый конец. Кто станет моим могильщиком? Мой путь заканчивается совершенно бессмысленно. Меня страшит не смерть, а невозможность придать хоть какой-то смысл своему прошлому. К тому же мне пока не дадут умереть: еще не время. Если бы ангел смерти приближался, я бы почувствовал его дыхание. Уловил бы черный свет его бесчисленных глаз. Мне сорок два года, есть еще столько такого, чего я не знаю. И того, что снаружи, за этими стенами, и даже того, что вокруг меня. Сколько весит пыль, какова тяжесть света? Пока я не кончил эту исповедь, мне нечего бояться, я понимаю. Осталось описать допросы. И объяснить самому себе, почему я когда-то сделал тот или иной выбор. Который час? Поздно. Пора прекратить писать. И говорить вслух. Тем более что я не совсем один: кто-то за мной наблюдает, улыбаясь. Напротив, под окном, что выходит во двор, он сидит, сцепив руки под коленями. Это Давид Абулезия? Или мой отец? Кто так мечтательно на меня глядит? И как ему удалось сюда войти? Впрочем, меня уже ничто не удивляет. Я нахожу его присутствие совершенно естественным. Я его принимаю. А если надзиратель откроет глазок и нас накажет? Я отметаю это предположение: он ничего лишнего не увидит. И это тоже, я считаю, в порядке вещей. Как например, необходимость говорить вслух. До сих пор я был так зажат, теперь мне надо открыться. И последнее тоже вполне нормально.
А если рядом враг, доносчик, притаившийся под знакомой личиной? Но я исполнен доверия, хотя могу и ошибаться. Я бы должен сейчас чего-то не понимать, однако все понимаю. Мне ясно, что Давид Абулезия или мой отец (интересно, кто же все-таки из них?) пришел издалека, очень издалека (может, из другого мира?), чтобы составить мне компанию. Что его присутствие означает нечто принципиально важное, сверхъестественное, то, что должно бы внушать мне страх, но я не испытываю никакого беспокойства. Только сильную, но умиротворяющую грусть. Так творение приемлет своего творца.
Я пока не умру, час не пришел, но и жить не буду. Не увижу облаков, что проплывают над головой, не почувствую щекой свежесть ветра. Никогда не улыбнусь сыну. И однако, я не чувствую никакой горечи, сожаления, ни на кого не сержусь. Странное состояние: я сострадаю всем. Словно я болен, умираю. Я уважаю все живое, что вижу, мне горько смотреть, как ими где-то там движет радость или грусть: они все в равной мере вызывают у меня сострадание. Ведь они все смертны, а ведут себя так, будто это неправда. Мне бы хотелось подбодрить, помочь, спасти их. Я был бы не против рассказать им, как я жил.
Мой сокамерник поднимается и прислоняется к грязной, влажной стене камеры. А я остаюсь на корточках. Продолжаю с ним говорить, хотя понимаю, что это бесполезно: он заранее знает, что я собираюсь ему сообщить. И все же я с ним говорю, ведь позже я не смогу этого сделать. Если я сейчас умолкну, никто не узнает, что я видел и слышал, никто не прочтет того, что я напишу прямо сейчас.
Странно: я не думаю о смерти, но она уже незримо проникает в меня. Вижу ангела, он весь испещрен множеством глаз, он моргает своими бесчисленными веками, и камеру затопляет тьма… Завтра я постараюсь все это понять.
Завтра я снова примусь за мое письмо к Грише. Там надо многое уточнить, я составлю настоящее завещание, где опыт прошлого станет знаком будущего.
Я ему скажу то, чего никогда еще никому не говорил.
А именно…
«Я помню эту ночь лучше всех прочих…»
Я помню эту ночь лучше всех прочих, тех, что я провел, подбирая и записывая все, сказанное им. Поскольку я уже привык к твоему сумасшедшему отцу. Мне его теперь сильно бы не хватало. Его голоса, манеры хмурить брови, его вздохов, похожих на короткие затяжки курильщика, и того, как он заполнял множество страниц своей неудобочитаемой писаниной. Что мне было после всего этого делать? Твой отец-идиот стал частью моего существования. Пока я читал его россказни, я с ним сжился. С нетерпением дожидался финала некоторых глав, чтобы понять мое собственное будущее. И вдруг — бац!
Твой отец не знал, что живет последнюю ночь. Не мог догадаться. Да и никто, в том числе следователь, о том ведать не ведал. Сам товарищ полковник был очень удивлен, как и все остальные, когда раздался звонок из Москвы. Одной четкой фразой Абакумов передал приказ, не подлежавший обсуждению: «Еврейский поэт Пальтиель Гершонович Коссовер должен быть казнен до рассвета». В моем присутствии следователь пытался настаивать, говоря, что дело еще не готово: обвиняемый сам составляет свои показания, уже признал себя виновным в некоторых преступлениях… Уже дал нам несколько концов, за которые только потянуть, и… Нельзя ли подождать недельку-другую? «Нет!» — сухо сказал Абакумов. «Но следствие еще не закончено, даже по административной части…» — «Сказано: до рассвета».
И трубку с той стороны повесили.
Мы не знали, но подобный же приказ получили в Москве, Харькове, Киеве и Ленинграде те, кто пытался выбить признания у Бергельсона, Квитко, Маркиша, Фефера — у всех еврейских писателей, поэтов и артистов, арестованных в СССР.
Так Сталину захотелось. В припадке безумия, чтобы не умереть раньше них, он повелел всех их казнить одинаковым образом и в один и тот же час.
Я тебе расскажу, как прошла эта ночь, сынок. А потом расскажешь и ты. Конечно, ты немой. Ну и что же? Достаточно наполнить смыслом, звуком твое молчание. Поскольку они не смогут заставить тебя заговорить, ты — идеальный посланник. Как когда-то им был я. Тебя, как и меня, никто не заподозрит. Нельзя подозревать ручку, стол, лампу. Никого не волнует стенографист. Всех допрашивавших потом ликвидировали. А про нас забыли. Никто не подозревает, что мы тоже живые. Что у нас есть память, чувства, собственная жизнь, с угрызениями, планами. И в тебе не разглядят носителя знания о жизни, теперь моей и твоей одновременно. Нашей жизни.
Так вот, сначала ты будешь читать и перечитывать его записи, постараешься все запомнить, а позже, далеко от этой земли, ты в свою очередь сделаешься стенографистом, заговоришь от имени убитого отца.
Я принял это решение еще до того, как встретил тебя, сынок. Я так решил одной августовской ночью в 1952 году. Тебе еще и четырех не стукнуло, ты спал в комнате матери, не зная, что ты уже сирота.
А мне в ту ночь не сиделось на месте. Я так редко делаю, но тогда я вышел прогуляться. Красноград ночью — это не райское место. Улочки пусты, огни не горят. Та же тюрьма, только рангом повыше — с невидимыми тюремщиками за темными фасадами. Каждое окошко — это глазок. Каждый стон, крик подавляется: заключенные задерживают дыхание, как в утро казни.
Я болтался по парку, подходил к реке, что пересекает Ореховую улицу, замирал, прислушивался. В этот день вода очень шумела. Это глупо, но я в конце концов вызвал подозрения у милиции.
Один сержант мне прямо сказал: «Тут не место для бродяг и лентяев вроде тебя. А ну, иди домой. Быстро! Иначе угодишь за решетку!» Он нервничал. А я ничего не сделал, чтобы его успокоить. Вот он и начал снова: «Ты что, язык проглотил? А ну, марш домой!» Очень разозлился. Тогда медленно, не торопясь, смакуя каждую секунду, переполняющую его яростью, я достаю удостоверение и показываю его. Этого было достаточно: до него сразу дошло. Он вытянулся по стойке «смирно», забубнил что-то в свое оправдание, и все так тупо, просто блевать хочется: «Слушаюсь!», «Да я ж не понял, кто…», «Не мог знать, что…» Я ушел, не дослушав. А он все плелся следом до самого кинотеатра на центральной площади и что-то бормотал. Все они жалкие и достойны только смеха, но я не смеюсь: я все еще не научился. Вот мрачное обстоятельство, которое снова сближает меня с твоим отцом: у бедняги жизнь была отнюдь не сахар. Не знаю, удалось ли ему когда-либо повеселиться от души, захохотать во весь голос. Однако же странно: жизнь его я знаю, а главное в ней от меня ускользает. А именно: научился ли он-то сам смеяться? Если бы можно было, я бы в ту ночь заскочил к нему, нанес, так сказать, неожиданный визит. Спросил бы: «Послушай-ка, дорогой поэт, тебя завтра утром расстреляют, говорю тебе это, чтобы ты был готов. Иван, „сотрудник четвертого подвала“, уже предупрежден. А вот один вопросик можно или тебе сейчас совсем не до того? Он мне давно не дает покоя. Это о тебе: ты когда-нибудь смеялся? То есть по-настоящему: чтобы все хохотало, и душа, и тело? Чтобы до слез? В твоих исповедях про это ни строчки. А последнее может означать, что ты не говоришь, потому что никогда не смеялся, или это для тебя так просто, что ты не счел нужным об этом упоминать. Мне бы хотелось знать наверняка».
Противная мыслишка, не правда ли? И я снова отправился шататься по городу. Потому что… Ну, ты понимаешь…
А тут подул теплый ветерок, листья на деревьях зашелестели. Я задрожал (я вообще мерзляк, да и то, что я увижу твоего отца в последний раз, мне не в радость). Знал ли твой родитель, что я присутствовал на допросах? Что я читал его Завещание? Что я знаю, кого он любил, с кем боролся, в ком сомневался? Что я вообще существую на свете?
Ко мне подошел второй милиционер, но первый враз призвал его к порядку. Этот первый теперь так и таскался по пятам, следил, чтоб со мной ничего не случилось. Мне бы пойти соснуть, но все равно глаз не сомкну, уж я себя знаю. Боюсь, боюсь… ну, ты понимаешь. Я рухнул на скамейку, обвел взглядом Красноград и попробовал увидеть его глазами твоего отца. А потом глазами ангела смерти, которого твой отец так хорошо описал. Вот завтра умрет человек…
Уже сегодня, уже скоро. Сердце бьется быстрее. Ему тяжело, поскольку, нравится ли это или нет мужчинам и женщинам Краснограда, — у стенографистов тоже есть сердце, и мое готово лопнуть от напора крови. Твой родитель, сынок, будет мне стоить целых месяцев без сна, я это уже тогда чувствовал. Ну да, я его любил, сынок, из-за него я и тебя тоже люблю. Если я и решился изменить твою жизнь, то потому, что он изменил мою. И самое смешное, что он даже не узнал об этом.
Ах, сынок, уж я-то не забуду той ночи. Заря, как всегда здесь в августе, зажигает все небо, ее лучи скользят по крышам и кронам деревьев. А в горах, напротив, еще окопалась темнота. Мне хотелось взмолиться: «Освободи ее, бог горы, пошли к нам, задержи солнце, возьми его в заложники, возврати нам ночь, сделай так, чтобы она снова наползла на наш мрачный город, чтобы тьма задержалась на денек, на один еще день сохранила одну жизнь»[2]. Ведь пока стоит ночь, «сотрудник четвертого подвала» ничего не сделает еврейскому поэту, который (в конце концов как ни глупо, но все так) ни на что больше не годен, это тебе известно.
А тюрьма спокойна. Но она уже проснулась. Ну да! Ведь заключенные — люди особого толка. Они все знают. Еще Иван из подвала не получил никаких распоряжений, а они уже догадываются. Вот и в то утро все встали до побудки. Неужто в честь твоего отца? Знают ли они, что пришел именно его черед? Нет, они просто почуяли смерть, им ведомо, что она близко. Это она пробудила их от сна. Сама смерть, а не Иван. Он-то еще не пришел на работу, да и мой начальник тоже. Пока слишком рано. Сумасшедшая надежда шелохнулась в душе: а вдруг они и не придут? Никогда не придут? Попадут под какую-нибудь машину, например? Меня снедает беспокойство, мне чудится, будто я занимаю слишком много места… как бы от самого-то себя избавиться? Умереть прежде, чем увидеть, как убивают. И вот я уже брежу, выдумываю себе мученическую судьбу, хотя где уж мне… Да вот и начальник объявился. Насупленный, в себе неуверенный. Неспокойный. Следователь, а не в своей тарелке. Может, у него тоже гадко на душе? Такого не бывает. Он просто раздосадован. Ему так хотелось довести расследование до конца, а теперь помешали. Позволить литератору выразить себя, поэту вспомнить свою жизнь — эту идею он придумал и считает гениальной. И вот все насмарку. А это неправильно, непрофессионально. Если бы его кто спросил, он бы так и ответил. Конечно, он не мог угадать, откуда такой ветер подул. Не знал, что Пальтиель Коссовер — всего лишь один из многих. И что расстреляют всех. Знал бы, что приказ спущен с такого верху, так не стал бы обсуждать его, даже обдумывать. Никому бы не показал, что раздражен. А сейчас он раскрывает папку, листает ее, подписывает какие-то бумаги. Надо соблюсти последние формальности, а то как же! Он-то не согласен, но дело готово. По его мнению, еврейский поэт Пальтиель Коссовер — давно не жилец. А недалек час, когда другой следователь, сидя на его месте, будет заполнять такие же бумажки в деле своего предшественника. Но пока вот этот, не отрывая пера от бумаги, меня переспрашивает:
— Ну как? Хочешь спуститься в подвал вместе с Иваном?
— Да, товарищ начальник.
— Что это на тебя нашло?
— Да так, пустяк.
— Пустяк не пустяк, а все же?
— Ну, просто я никогда не видел сотрудника четвертого подвала в деле.
— Ты что, тронутый, товарищ Зупанов?
— Нет, просто любопытный, товарищ начальник.
Он пожимает плечами и продолжает свою работу, уже забыв обо мне. А мне не сидится на месте, приходится сделать над собой усилие, чтобы не слезть с привычной табуретки, откуда я наблюдал, как твой отец вел свой заранее проигранный бой. И еще я искоса посматриваю в сторону своего сейфика: писания любимого поэта все еще там, под моей бдительной охраной, чтобы сохраниться для вечности. Ну да, для бессмертия, я тебе, дорогуша-поэт, лично его обещаю. И себе обещаю тоже. Однако надо же дать ему это понять — каким-нибудь подмигиванием, особым жестом, да вот каким? Нет, плохая идея. Слишком жестокая. Зачем его предупреждать, что сейчас ему каюк? Как только я дам ему понять, что занят его Завещанием, он тотчас догадается: ежели я пошел на такой риск — Иван уже где-то недалеко. А кстати, вот и он. Вошел без стука. Жмет руку начальнику, бросает рассеянный взгляд и в мою сторону. В хорошо прилаженной форме. Как влитой. Он вообще собой недурен. Но мне он кажется уродливым, отталкивающим. Делаю вид, что работаю, но на самом деле я ничем не занят. Слишком хорошо знаю суть, чтобы фиксировать всякую ежедневную деловую белиберду. Иван вынимает свой наган, проверяет, все ли в порядке. Он толковый работник, Иван, всегда очень тщательно готовится к заданию. Удовлетворенно засовывает наган в кобуру, висящую на поясе под курткой. Мой начальник поднимает голову, открывает рот, закрывает, снова открывает — знак, что напряжен и озабочен. Иван подсказывает понимающе:
— Пора?
— Давай, — кивает начальник, и тут я поднимаюсь одновременно с ним.
Иван поворачивается ко мне:
— А ты куда? Есть же правила…
— Любопытство заело, — отвечает за меня следователь. — Хочет однажды поприсутствовать при конце, чтобы знать, как это бывает.
— Ну, каждому свои забавы, — бурчит Иван, явно недовольный. — Что ж, пойдем.
Машинально взглядываю на настенные часы, давно остановившиеся, и на свои наручные: всегда хочется все важное закрепить во времени. Как сейчас помню: посмотрел, который час, но запомнить не удалось. Совершенно выветрилось из головы. Странный просчет памяти. Зато все остальное помню отчетливо. Утренний свет уже синел, начальник то и дело облизывал губы, а у меня началась ужасная резь в желудке.
Мы шли гуськом за Иваном в полном молчании. И вот спустились в подземный лабиринт одиночек и изоляторов. Зеленоватые лампочки свисают с потолка, коридоры пусты. Иван останавливается перед камерой и делает нам знак не шуметь. Такова процедура: дверь открывают тихо, к приговоренному приходят во время сна, сообщают, что предстоит еще допрос, и дальше — никаких проблем. Секрет успеха в неожиданности и быстроте действий. Но твой отец, сынок, встречает нас стоя, словно уже ждал. Его спокойствие впечатляет. Лицо в шрамах, одежда в лохмотьях, но вид вполне благородный. Ну не глупо ли? На какое-то самое краткое мгновенье он нас подавляет, словно он здесь главный, так что мы даже робеем. И он первым начинает говорить:
— Я тут, гражданин следователь, работал целую ночь.
— Очень хорошо, — отвечает тот, — думаю, с этим все в порядке. Прочту сегодня же…
Повисает пауза. Мой начальник не знает, что делать. Обычно приговоренного отводят в четвертый подвал, сотрудник стреляет ему в затылок и уходит. Тихо, неприметно. А вот для твоего отца программу изменили. Приговор нужно было привести в исполнение прямо в его камере.
— Я пришел просмотреть вместе с тобой тот эпизод, что ты называешь «Погром в типографии».
Это говорит мой начальник. Он раскладывает на кровати несколько листков бумаги, а твой отец наклоняется над ними, чтобы их перечитать. На какое-то мгновение его взгляд встречается с моим. Он видит меня впервые. Меня охватывает страх: «Сейчас он примет меня за Ивана!» Тороплюсь исправить возможное недоразумение. Представляюсь:
— Зупанов, стенографист.
Видно, что твой отец сразу успокоился: если присутствует стенографист, значит, речь идет действительно о дополнении материалов допроса. Внезапно за моей спиной он различает Ивана. Ему, похоже, хочется узнать, кто это, но он подавляет любопытство. Иван молча выдерживает его взгляд.
— Ну хорошо, — начинает твой отец. — Посмотрим, о чем тут речь.
Он начинает читать, мой начальник делает вид, что его слушает. Я же, сам не знаю почему, вспоминаю своего деда по материнской линии. Мне было три или четыре года, когда он привел меня впервые в синагогу. Там был какой-то праздник: люди, казалось, сосредоточенно слушали, внимая чьему-то далекому голосу. А чей призыв мы все четверо слышим сейчас? В ужасе я вижу, как Иван вынимает свой наган и тянет меня за рукав, чтобы занять мое место за спиной приговоренного. Мне вдруг захотелось взвыть, чтобы привлечь внимание твоего отца. Пальтиель Коссовер имеет право покинуть этот гадский мир, как человек, обернувшись лицом к убийце, чтобы плюнуть смерти в харю, если ему так захочется. Но губы у меня остаются сжаты. Подобно твоему отцу, умеющему прогонять ненужную мысль, приказываю ей: «Убирайся, вон отсюда!» И она, сучка, мне подчиняется. Убегает в кабинет, рыться в тайных ящичках, где лежат тетрадки, а другие пока не там, но ждут своей очереди, это уж моя забота — собрать их вместе. Придет день, он придет, мой дорогой еврейский поэт, еще никем не убитый, когда твои искорки вспыхнут высоким пламенем и дадут начало пожару. В этот день я посмеюсь! И твой сын однажды увидит тебя во сне!
А кретины-судьи и недоумки-палачи не заметят ничего! Им кажется, что сейчас они покончат с этим еврейским поэтом, одним из многих, и уничтожат все, им написанное. Им сдается, что они вольны управлять временем, как людьми! Пишут же они на папках: «Хранить вечно». Но вечность плюет на них, и я вместе с ней. Я им покажу, чего они стоят, когда мнят, будто в их власти устранить кого-то навечно и без следа. Я, такой, как есть, покажу им, какова их цена!
Иван же тем временем удобно расположился позади своей жертвы. Я вижу, как он медленно поднимает руку. Дуло нагана едва чиркает по волосам на затылке твоего отца. У меня в глазах мутнеет. В горле встает ком: ангел-истребитель — вовсе не многоглазое чудовище, что грезилось поэту, а прилично одетый человек с наганом в руке. Внезапно твой отец прерывает молчание и очень тихо говорит:
— Вы понимаете, язык народа — это его память, а его память — это…
Раздается глухой звук выстрела, меня бьет электрический разряд. Поэт оседает и медленно, изящно скользит вниз, склонив голову набок, словно зачарованный какой-то мечтой. Иван машет рукой: кончено. Начальник и палач обмениваются дежурными служебными замечаниями, что, мол, труп следует сжечь, все личные вещи — тоже, всякие поганые религиозные причиндалы — вместе с прочим. Одним словом, сжечь все. Стереть из памяти. Из всех списков и приказов. Пока они разговаривают, я вглядываюсь в лицо поэта и обещаю ему отомстить за него; за этим подонком-Иваном последнего слова не будет: он рассчитывает утаить твою смерть, уничтожив следы, как его начальник упразднил твою жизнь. Но я — на посту. Эти недоумки забыли про меня. Я — идеальный свидетель, поскольку невидимо присутствовал при всем их паскудстве. Я все слышал, все понял, все расставил по местам! Представь, какую рожу скорчат эти кретины в тот день, когда песнь твоего отца разыщет их во всех уголках земного шара! И в тот день я буду хохотать, отхохочусь за все годы, когда бился головой о стену, пытаясь заставить себя смеяться. Спасибо, поэт. Спасибо, брат. Я тебя покидаю, но ты остаешься со мной навсегда.
Возвратившись в кабинет, я слышу, как начальник коротко докладывает: «Ваш приказ был выполнен сегодня в пять часов тридцать четыре минуты утра». Он отдает распоряжения, которые полагаются в таких случаях. И велит принести себе чаю и хлеба с маслом. У меня странное чувство: сердце разбито, но я знаю, что теперь буду смеяться. Да я уже смеюсь, пока беззвучно. И если начальник ничего не замечает, то потому, что у него в мозгу пробка. У них у всех головы запечатаны на веки вечные.
Глупее не придумаешь, и несправедливее вдобавок. Но только мертвецы, мертвые поэты заставят таких, как я — и всех прочих тоже, — наконец рассмеяться.
Я говорю это себе. И повторяю твоему отцу. При всем том он уже ушел из жизни, и ни один могильщик не предаст его земле. Ибо земля эта и небо над ней прокляты. Ну и что с того? Я буду носить его в своей душе, этого большого ребенка, твоего отца. День буду носить, год, десять лет, ведь надо, чтобы и я услышал, как он смеется. Вот почему я пересадил в тебя его память и свою собственную, сынок, тоже. Так надо, парень, пойми, так надо. Иначе такое случится…
Примечания
1
Эта поэма осталась ненайденной.
(обратно)2
В книге закрывающие кавычки отсутствуют — прим. верстальщика.
(обратно)


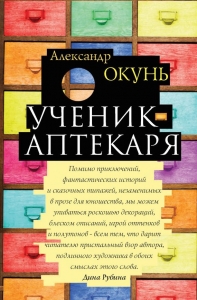




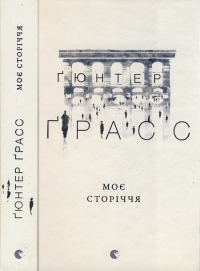
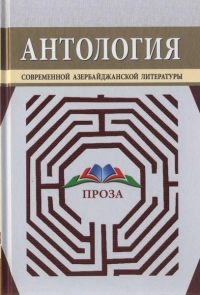

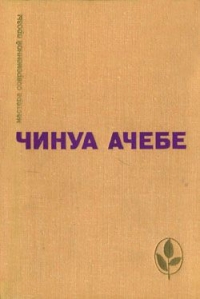

Комментарии к книге «Завещание убитого еврейского поэта», Эли Визель
Всего 0 комментариев