Вячеслав Ефимович Малежик Портреты и прочие художества
От автора
…Я думаю, мои рассказы и размышления имеют некоторый журналистский оттенок, пусть это вас не смущает. Я столько раз давал интервью, что поневоле сбиваюсь на этот стиль. Кого-то из героев своих «портретов» я называю своими именами, кого-то вымышленными. Мои близкие наверняка их узнают. Что-то я недосказал, что-то придумал. Но это мои портреты, а если вы посчитаете нужным, то «нарисуйте» моих героев сами, только не подрисовывайте на моих картинах усы и не делайте им «силиконовой пластики».
Зачем я этим занимался, то есть зачем я работал летописцем Нестором? Вы знаете, после того как я подержал в руках свою первую книгу, я «заболел», и захотелось еще… Чего еще? Да того самого… Кайфа от того, что в руках держишь результат своего труда. Хотите сказать, что Интернет сожрет «книгу». Может быть, но с этой, мне кажется, я еще успел, а там поживем – увидим.
Колобок
Не наскрести по сусекам стихов, Чтоб из них смастерить Колобок. Не успел совершить я грехов, Чтоб начать вакханалию строк, Что опишут, как я, ты и мы Оттянулись, проснулись… Зачем Мне по книжке разгадывать сны, Будто нету праведных тем? Смастерю, что не знаю и сам, Компоненты, что надо, не вру. Все, что вспомню, вам я раздам, Честнослово, my darling, it’s true.Отец
Как ни отмахивался я от написания мемуаров, все-таки неправильно будет не сказать ничего о моих родителях, о тех людях, которые произвели меня и привели в этот мир. Отец мой, Ефим Иванович Малежик, «упертый хохол», как его величала моя матушка, если он чем-то, по ее разумению, провинился, появился в Москве в тридцать втором году, стало быть, 17–18 лет от роду. Как он сам рассказывал, бежал в Москву от голода с Украины, от голода, который разыгрался то ли от повсеместной коллективизации, то ли… ладно, пусть об этом историки рассуждают, «взрывая» архивы и пользуясь оценками свидетелей и очевидцев.
– Я приехал и пришел в Москву в одной галоше, добираясь до столицы около месяца, – рассказывал отец.
Почему в одной? Где потерял вторую? Почему эту уцелевшую не выкинул? Этих вопросов у меня никогда не возникало во время рассказа отца. Думаю, природная бережливость не позволила выкинуть уцелевшую правую галошу, а может, так было теплее…
– А потом, когда я приехал в Москву, то поступил на курсы, обучавшие парней шоферскому делу. Ночевал под лавкой на Киевском вокзале.
– А на что жил?
– Да на что придется… Кому-то чемодан поможешь поднести, вечером что-то разгрузить… А что я еще умел? Так и выучился… И вот сорок лет за баранкой. Поэтому учись, сынок, учись.
Вопрос, а не подворовывал ли ты, я ни разу не задал, да и не приходил он мне в голову. Отец закончил полтора класса сельской школы в Белоусовке, что в Полтавской области, а затем до самого побега в Москву жил обычной жизнью деревенского мальчишки, пасшего скот и помогавшего на огороде, косившего траву и так, «принеси-подай», когда дед Иван Семенович что-то делал по хозяйству. Так вот, я думаю, крестьянское и христианское воспитание сидело в моем отце так глубоко, что вряд ли он мог что-то стянуть. Хотя, кто без греха? Кстати, он не курил.
– Однажды отец, – рассказывал он мне, – почуял запах табака от меня. Дальше он принес махорки и заставил меня докуриться до такого состояния, что меня стало рвать. После этого желания курить у меня уже не было.
А автомобиль отец любил и вообще был работящим и хозяйственным мужчиной. Деньги давались тяжело и «пахал» Ефим Иванович, как раб на галерах, особенно в первые годы, когда он трудился на грузовых машинах и на каких-то посыпалках-поливалках. Я, как водится, будучи совсем ребенком, в своих играх подражал ему, и моей любимой игрушкой была маленькая машинка без кузова. Вместо кузова я приделал два спичечных коробка (ну, та часть, в которой лежали спички, другая часть, где была поверхность для высекания огня, мне была не нужна). Короче, я один коробок вставлял под углом в другой и затем это сооружение ставил на платформу моего грузовика-калеки. Воображения моего хватало, чтобы представить, что я работаю на посыпалке. И я весь день рычал и издавал звуки, довольно похожие на газующую и выжимающую сцепление автомашину. Хотел ли я стать шофером? Да нет, наверное… Я и не думал тогда, кем я хотел бы быть.
Папа меня любил, хотя разговаривали мы с ним редко. Может, он уставал, а может, стеснялся своего русского языка… Как я сейчас понимаю, это был даже не суржик, а вообще, какой-то свой язык, в котором упрямо жили свои словечки – настойчиво торчит в памяти «часнык». Но он меня баловал, и я знал это и пользовался. Если мать упиралась и не выполняла мою просьбу (а я в достижении цели был занудливо упрям), то мой посыл менял направление, и отец не выдерживал моей ноющей интонации и говорил:
– Пущай, Нина, купи малому эту игрушку.
И Нина покупала, бормоча, что нельзя так баловать детей. Игрушкой я играл от силы час-полтора, а потом она на веки вечные убиралась под кровать, а я возвращался к своей любимой машинке-посыпалке.
Вообще отец меня не наказывал. Хотя был строгий, но то ли так меня любил, то ли еще почему, но выволочек от отца я не помню. И ремнем или (чем еще?) мокрым полотенцем, например, никто меня не колотил. Хотя один раз я получил не ремнем, а резиновой полоской. Отец подшивал валенки и сидел на табурете. Я играл рядом на полу, мне было лет пять. Около табурета валялись дратва, валенок, шило, клубок ниток и воск. Отец нагнулся, и его пятая точка аппетитно (наверное, этот термин больше подходит для описания эротических чувств, но тем не менее именно аппетитно) обрисовалась его брюками. Не знаю, какой черт рулил моей рукой, но я со всей силы всадил шило… Удар резиновой заготовкой был практически моментальным. Было очень больно, уже на моей заднице была полоса, но я не пикнул, и потом мы минут пятнадцать просили друг у друга прощенья.
Нужно сказать, что ранний побег отца из Белоусовки в Москву не позволил ему освоить многих деревенских профессий, например: отбить косу и покосить по утренней росе траву, это – нет… Да и поймать, оседлать или запрячь в телегу лошадь – это опять не про него. Кстати, я тоже этих деревенских навыков не освоил. Но нужно отдать Ефиму Ивановичу должное, работы он не чурался, и весь отпуск чего-то там прибивал, красил, перекрывал крышу, заготавливал дрова на зиму. Так что бабка Евденя была затем довольна. Но когда все нормально, то так и надо, а когда что-то происходит не так, то это оставляет след в памяти.
Дрова в той, считай, послевоенной деревне чаще всего заготавливались из валежника, который каким-либо образом доставлялся из леса. А в тот раз, выполняя задание любимой тещи по заготовке дров, отец приметил здоровенный сухой сук на ветле, которая стояла недалеко от дома. И я, возвращаясь домой с пруда, увидел почти хрестоматийную картину – мой папаша на дереве, на высоте четырех метров от земли, пилит сук, на котором сидит.
– Папа, что ты делаешь?
Ответа я не услышал, потому что треск дерева, грохот от его падения и от падения моего отца заглушили ненормативную лексику, которая, впрочем, не была для меня новинкой. Отец пару недель хромал, ссадина на локте не заживала тоже какое-то время, но когда мы распилили, раскололи и сложили в дровницу эту отцову добычу, бабушка, пожурив, сказала ему:
– Ты уж лучше побереги себя…
– Да ладно тебе, ма…
Не знаю, почему бабушка в конце августа решила зарезать нашего борова (обычно свинью кормили до ноября). Может, хотела перед школой нас побаловать. Она спросила отца:
– Ну что, хохол, свинью зарезать сможешь?
– А чего там сложного? – ответил отец.
– А ты когда-нибудь колол поросенка?
– А чего трудного? Нож под лопатку – и готово… Ты мне его подержишь, ма?
И они отправились «на дело». Пошли и мы: я, сестра и два наших двоюродных брата. Боров обитал в загоне скотного двора, основную часть которого занимала корова. Все зрители, пройдя по стеночке, чтобы не вляпаться, заняли места в «партере».
Бабушка и «палач» зашли в загон к поросенку. Что мы чувствовали? Да скорее всего любопытство – с поросенком мы почти не общались и, когда оказывались на «дворе», ни разу не смогли поймать его взгляда. Борька был не любознателен, а может, скромен и глаз своих на нас не поднимал. И вот все готово: бабушка дала ему хлебушка с солью и чесала его за ухом. Борька блаженно закрыл глаза, а отец коварно прицелился… Отзвучала барабанная дробь, зрители замерли, и отец нанес кинжальный удар… Но отсутствие опыта, отсутствие целкости, секундное волнение… Не знаю, что, но удар пришелся не под лопатку, а в нее самою… Мне кажется, что я услышал звук от соприкосновения ножа и кости. Борька завизжал от боли и от людского коварства и, сметая бабушку и отца, вырвался из загона на территорию нашей коровы Дочки и, как дрессированная лошадь, начал наматывать по хлеву круги.
– Ну, сделай же что-нибудь! – закричала теща, бабушка и кормилица нашего Борьки, да и наша кормилица.
Отец отложил нож и со всей решимостью вышел на поединок. Поросенок, поднимая на поворотах море брызг, пролетел мимо отца. А когда он мимо нашего «пикадора» пролетел во второй раз, отец, неожиданно для нас всех, а может, и для самого себя, бросился, как футбольный вратарь, в ноги к прорвавшемуся нападающему. Нет, даже не так… Американский футбол – игрок нападающей команды ушел в отрыв, и сейчас ему удастся приземлить мяч в зачетном поле, и тогда игрок защищающейся команды в отчаянном броске под ноги атакующему пытается спасти положение. Но наш боров оказался проворнее Ефим Ивановича и, прорвав оборону противника, вырвался на волю. А отец смешно растянулся в этом… ну, в этом, чем еще поля удобряют. Но смеяться было некогда, да и нельзя – влетело бы… И вот боров, истекая кровью, отрывается от своих палачей, стремясь уйти на оперативный простор. Я до этого никогда не видел, как мой отец бегает, – ну не занимались мы вместе спортом, а всякие там «Папа, мама и я – это дружная семья» еще не придумали.
И вот отец бежит за Борькой, за ним целая вереница ребят и девочек. Я думаю, что если бы сняли фильм по этому непридуманному сценарию, успех был бы не меньшим, чем у фильма «Пес Барбос и необыкновенный кросс». Почему-то запомнилось, что отец бежал прихрамывая. Может, это была свежая травма после его героического броска, не знаю… Но Борька, который тоже не занимался спортом, а еще лишенный органов, отвечающих за мужественность и спортивный дух, вскоре выдохся. И мы его настигли, и отец обнял его, а мы какую-то веревку привязали к шее «смертника» и привели его к дому.
– Не, ма, не буду я его резать, ну его к черту.
И Борька пошел к себе «на место», а отец пошел на пруд отстирывать себя и свои впечатления. И поросенку была дарована жизнь – как в средние века, казнь дважды не совершали.
А поздней осенью бабушка позвала деда Игната, который был специалистом в этой области. Он пришел со своим инструментом, и к зиме бабушка в очередной раз заготовила солонины.
Юхим – так называли отца все наши украинские гости, иногда приезжавшие в Москву, привозя традиционное сало и колбасу, кендюх и что-то там еще – сейчас и не вспомню. Но, наверное, Юхим звучало в Москве чужеродно, и даже Ефим почему-то не прижилось. Звали отца во дворе, да и в Занино, Юркой или Юрий Иванович, а я, стало быть, был Вячеслав Юрьевич. Я тоже не спорил. Мне вообще не нравилось Ефимович, а еще больше не нравилась моя фамилия – Малежик. И я мечтал, что когда доживу до совершеннолетия, возьму фамилию Силаев – такую фамилию носила моя матушка по первому мужу, а дед по материнской линии был Петров. Но когда я вырос, то мне уже нравилось быть Малежиком, да и Ефимович не ломало.
А отец Ефимом стал снова, когда устроился работать шофером в шведское посольство. УПДК – Управление по обслуживанию дипломатического корпуса – ныне очень престижное место работы, куда можно попасть по большому блату. Как мог туда попасть мой отец, мужик без образования, беспартийный? А так и попал, потому что был без образования и беспартийный. Установка была такая – ну, не мог партийный и образованный прислуживать «проклятым капиталистам». Короче, не было бы счастья, да… И я помню, как мать заполняла анкету – отец не отважился это делать сам, как они шепотом, чтобы не слышали соседи, обсуждали перспективы будущей работы. Вообще всеобщая шпиономания, а может, только в наших Лесных переулках, была стилем жизни.
Долгое время никому не рассказывалось, что Юрка поменял работу и что зарплата стала более-менее… А может, и правильно – никто не сплетничал и не завидовал. Лишь лет через пять отец отважился приехать на обед в наш двор на «вольво» своего «хозяина», как он называл своего шефа.
Про работу он никогда ни мне, ни друзьям, ни родственникам не рассказывал, как-то хитро уходил от разговора. Это потом я понял, что он «ходил» под тремя начальствами. УПДК, КГБ и непосредственно шведы. Этакий тройной агент. Как уж он крутился, Бог знает. Видно, правильно говорят – где хохол прошел, еврею делать нечего. И только уже на пенсии, под большим секретом он мне рассказал о двух «шпионских» операциях, но это не мой секрет и пересказывать вам его не буду.
Праздники. Мы, дети, ждали их с нетерпением. Что-то вкусное, может, мы в гости, может, они к нам, а потом вечером на улицу Горького. Праздничная толпа, лампочки зажигаются и гаснут и, наконец, здание телеграфа, традиционно ярче всего украшенное этим световым пиршеством. Открыв рот, мы смотрели, как светом рисовались плотины гидроэлектростанций, и вода падала вниз, как чудо-трактор пахал социалистические поля. И дети, сидя на плечах родителей, восторженно размахивали флажками и крутили игрушку «уйди-уйди», по громкости и противности звука сопоставимую, может, с вувузелой, что дудела на чемпионате мира по футболу в ЮАР.
И, наконец, салют. Конечно, нынешние фейерверки несравненно лучше, но тот, почти религиозный восторг, что испытывали и дети, и взрослые, невозможно описать. А толпа есть толпа, и однажды, когда мне было четыре года, мы попали в передрягу. Количество людей зашкаливало все пределы. Я был на плечах у отца, мама крепко держала сестру за руку, и мы молча шли с Красной площади домой. По сосредоточенному лицу отца я понимал, что что-то не то. Через много лет папа сказал, что он больше всего боялся споткнуться и упасть. Больше до салюта мы не доходили и после телеграфа возвращались домой.
Толпа… Опять непонятно, зачем, хотя как я могу, шестилетний, судить о чувствах взрослых. Смерть Сталина. Помню объявление по радио, помню (а я уже умел читать) сообщение в газете «Правда», помню, как мы с мамой пошли на площадь Белорусского вокзала. Угол Бутырского вала и Лесной, мы стоим и вдруг со всех сторон раздались гудки заводов и фабрик и многие в толпе заплакали. Мама заплакала тоже.
– Мама, почему ты плачешь?
– Жалко дедушку.
Я не понял, дедушку Сталина или ее папу, но не отважился спросить.
И в нашем дворе люди стали собираться в Колонный зал, поклониться телу вождя. Пошли и мы. Двое взрослых и двое детей, пешком пошли в сторону центра. Дошли до Пушкинской площади, а потом повернули в Козицкий переулок. Толпа прибывала, и где-то в середине Козицкого дорогу нам перегородили автомобили с солдатами.
– Не надо туда ходить…
– Мы хотим Сталина посмотреть, – сказал я.
– Вот здесь проходной двор и, пока не поздно, уходите.
И родители послушались солдат и проходными дворами выскочили на бульвар. Никто еще не предполагал, какая давка будет и в Козицком и дальше и сколько жизней будет положено на алтарь похорон вождя в тот день. А пока мы шутили:
– Слава, а ты помнишь, как два года назад после посещения мавзолея ты спросил часового: «Мы посмотрели дедушку Ленина, а где нам посмотреть теперь дедушку Сталина?»
– Помню… А почему он тогда мне ничего не ответил?
– Но он же – часовой, – отвечала мама, – и должен молчать, охранять свой пост.
Сейчас я взрослый, но боязнь толпы все равно сидит во мне, и, по возможности, я стараюсь избегать ее. Ты перестаешь быть хозяином своей судьбы и оказываешься во власти стихии. О двух событиях, связанных с людской давкой, хочу вам поведать.
Мне двенадцать лет. Стадион «Динамо». Наши играют с тбилисцами. Я прорвался без билета на стадион. Аншлаг, и сразу же после окончания игры я рванул к выходу. Меня, маленького пацана, зажали здоровые мужики, и я только чудом выскочил из этой мясорубки и уже на трибуне дождался, когда очередь рассосется.
Вторая, уже смешная история. Опять футбол. В перерыве игры решил сходить в туалет. А на стадионе туалет устроен так, что входишь в одни двери, а выходишь в другие. Наверное, это сделано, чтобы увеличить пропускную способность специально отведенного места. Ну так вот. Уважаемая публика протащила меня через богоугодное заведение, не позволив приблизиться к «родникам». Я вылетел наружу, не справив нужду и потеряв все пуговицы на моих плаще и брюках. Возвращаясь домой, придерживал штаны руками.
Своего деда, отца моего отца, я видел дважды. Мне было лет пять, когда Иван Семенович приехал в Москву. Он был пострижен под ноль и имел пятидневную щетину. Говорил по-русски нездорово, и я не всегда его понимал. Он был ко мне добр, и до сих пор я помню, как сидел у него на коленях. А еще мы ходили в фотоателье, и нас усаживали для группового фото, потом детям, мне и сестре, сказали, что сейчас вылетит птичка, и эта фотография до сих пор стоит у нас на даче. Дедушка, красивые мама и папа и маленькие сестра и я.
Фантазии и возможности отца были скромнее, чем у меня, когда я встречаю своих гостей, нынче. Поэтому запомнилось, как мы с дедом ходили на Красную площадь и как отец меня пугал, перенеся через парапет набережной Москвы-реки, что, дескать, отпустит… Я от страха даже не мог реветь, а дед строго говорил:
– Прекрати, Юхим!
Дед маялся от безделья и хватался за любую работу. И однажды моя сестрица попросила его наточить коньки. Иван Семенович добросовестно отнесся к поручению и наточил на бруске их так, что ими можно было разделывать мясо, шинковать салаты, но только не кататься на катке. Ему никто не объяснил технологию заточки коньков.
Много лет спустя, уже будучи студентом, я посетил Белоусовку. С отцом и мамой мы жили в доме деда. В доме, где родились мой отец и две его сестры – Мария и Параска.
– Ох, диду, у тебе, Славику, дуже лукавый, – сказала одна из соседок старшего из живущих на тот момент Малежиков.
А отец для меня в той поездке открылся… Ищу слово, чтобы объяснить, как именно открылся, и понимаю, что он для меня просто открылся. Я увидел, как он умеет дружить, как умеет любить, как умеет петь и выпивать. А дед? А дед был строг, смотрел, чтобы был порядок и чтобы помнили, что он еще главный в доме.
Сейчас вспомнил еще… Где-то зимой, перед нашим приездом, дедушка написал письмо, в котором просил прислать ему каких-то дефицитных таблеток от давления. Мы подняли на ноги всех своих знакомых, и таблетки в каких-то почти промышленных количествах были отправлены в Белоусовку. Дед, наверное, считал, что чем больше их съешь, тем лучше. Он их ел горстями.
– Ивановна, все-таки горилка – лучшее лекарство.
– Почему, папа?
– Ну как же? Выпью я этих лекарств ваших и дуже погано себя чувствую, а потом горилочки выпьешь – и опять орел.
– Так вы небось высокое давление делали низким? И ноги, поди, мерзли?
– Да ничего не мерзло… Горилка не позволяла, – отвечал дед, не чувствуя иронии мамы.
Два события запомнились особо. Запомнилось, как отец вместе с дядей Иваном и всеми своими сверстниками после застолья вышли во двор и запели. Я, к этому времени закончивший музыкалку, могу заверить, что это было впечатляюще. Я не думал, что вне стен всяких там консерваторий люди поют так – на голоса, стройно, чувствуя партнера и, несомненно, получая удовольствие от процесса.
И второй эпизод. Я иду по Белоусовке… Кстати, Белоусовка – родина великого украинского философа Сковороды. Ну так вот… Иду по селу и слышу хоровое песнопение, думая, что это включили радиоточку. Но вдруг из-за поворота появляется грузовик, в кузове которого сидят бабы с граблями и вилами и поют хором песню.
Знаете, прошло много лет, да я могу посчитать сколько… двадцать пять. И мне почему-то стала сниться Белоусовка, где я был до этого один раз и всего десять дней. Деда уже к тому моменту не было в живых. Не знаю, то ли это зов предков и крови, то ли воспоминания из той первой поездки… Но что-то волшебное в этих сновидениях было. И я съездил в Белоусовку из Киева во время своих очередных гастролей.
– Ой, Славику, який же ты сивый… – сказала титка Мария мне, когда я вышел из автомобиля, – и как же ты похож на Юхима.
И я понял, что «сивый» – это седой. А сивый мерин – тот, что борозды не испортит.
Мне стало приятно, что я похож на отца. Он был красивым мужчиной, красивым человеком. Упертым хохлом и нежным отцом, обязательным и надежным. А как его любили женщины… Сейчас я понимаю, что матушка ругалась на него и обзывала хохлом, дураком упертым, потому что любила его и ревновала. Сейчас я понимаю, что тетя Нина из двора искала пути, как подъехать к батяне, когда говорила:
– Славка, а когда мамка уедет в деревню?
– Скоро…
– А отец в Москве останется?
Сейчас я понимаю цену комплиментам, которые просила передать через меня тетя Полина.
– Передай отцу, что он самый красивый и что, если надо что…
Но я ничего не передавал и жил, окруженный любовью матери, сестры и, конечно же, «упертого хохла» – отца.
Но вернусь чуть-чуть назад.
Заболел дед. И прислали телеграмму, чтобы Юхим приезжал прощаться. И отец поехал… А Иван Семенович взял и выздоровел. По дороге со станции отец зашел поздороваться с сестрой Марией, не зайдя вначале в дом деда, своего отца. И дед его не впустил в дом, и две недели Ефим Иванович жил у сестры, и только перед отъездом в Москву он был помилован. Иван Семенович допустил до себя моего отца.
Когда я женился на своей жене Татьяне, с которой мы, слава Богу, живем уже больше тридцати пяти лет, я не пришел к своему отцу за благословлением. Если честно, то я и не знал, что, по обычаям, надо спросить его волю… Он обиделся, хотя сам же меня этим правилам и не выучил. Он долго дулся… Но время вылечило эту его боль… И сейчас, обнаруживая в себе самодурство и упрямство, я вспоминаю Ефима Ивановича и Иван Семеновича, и мне становится легче, и я пытаюсь найти контакт со своими детьми.
– Детки, если уж я совсем засамодурю, вы вспомните – я ж тож хохол упертый… Да и вы тож… Отож!!!
Письмо к другу
Вновь приходит смерть, чтоб свести с ума Тех, кто ей пока не приглянулся… Н. СоболеваЗнаешь, Леха, ты в общем-то нечестно поступил, свалив от нас на тот свет и оставив нам кучу дел, которые без тебя будет ох как трудно разгрести. Не по-товарищески это, не по-пацански… Ты, которого я считал старшим братом, хотя ты был моложе меня почти на пятнадцать лет, так подвел нас. Ты – наша надежда и опора, и вот тебя нет. Ты был у нас ВСЕГДА, и мы не представляли, что это вот так может кончиться в один миг. Почему? Чувство ответственности было твоим вторым Я. Как так произошло? Да Бог его знает…
Впрочем, я и сам кое о чем догадываюсь. Все-таки ты, так рано потеряв отца, почти мальчишкой взвалил на себя этот громадный груз ответственности за себя, за маму, Валентину Петровну, за Аньку, за женщин, которых любил ты и которые любили тебя и которых приучил к тому, что мужчина берет на себя решение проблем. И ты решал их, эти проблемы. Сначала свои, а затем и проблемы друзей и даже проблемы тех, кто к тебе обращался. Правда, профессия у тебя такая – Доктор!!!
И ты, следуя клятве Гиппократа, стремился не только не навредить, но и старался помочь. И часто не нужны тебе были скальпель, нашатырь и далее по списку… Тебе хватало простого слова, участия, готовности примчаться в любой конец страны, чтобы спасти… Таких людей мало, если они вообще есть. А как ты умел любить!!! Леха, я поставил в конце предложения не вопросительный, а три восклицательных знака. Ты любил и не ждал за это расплаты, ты любил, потому что это был твой образ жизни.
Леха, если бы ты видел, а я думаю, что все-таки видел… Так вот, если бы ты видел, сколько людей пришло тебя проводить в последний путь, ты бы понял, как оценили твой труд и как тебя любили и любят. Знаешь, в слово «труд» я вложил и понятие любовь. Говорят, что любовь – это Бог. И я ставлю знак равенства, ну хорошо, знак тождества между тобой и любовью. Я слышу, как ты говоришь: «Прекрати, не богохульствуй». Но я надеюсь, что моей рукой водит вдохновение… Ну, хорошо… Господи, прости, что я так высоко поднял своего друга Гераськина Алексея Вячеславовича и за то, что помянул Имя Твое, Господи, всуе…
Так вот, я продолжаю. Твоему успеху, прости, Леха, опять какое-то дурацкое словечко выскочило… Хорошо, признанию, оценке твоего труда я немного завидовал. Извини, заговариваюсь… Но я пытаюсь быть честным… Ладно, лучше продолжу о тебе, о живом… Леха, знаешь, наверное, фраза «Что Бог ни делает, все к лучшему», применима и к твоему уходу от нас. Я уверен, что все задумались о тленности бытия и все, вспомнив о тебе, захотели быть лучше. Но трудно быть таким, как ты… Где взять столько энергии, чтобы сгенерировать (от слова «генератор») столько любви, сколько было у тебя? И ты ее не раздавал маленькими порциями, а наливал по полной, а если надо, то еще наливал добавки.
И это ты (!) сделал как-то так, что твоя баня на даче стала клубом, куда приходили разные люди со своими грехами и болячками, и ты их лечил как психотерапевт, как пастырь. Наверное, не зря обряд крещения связан с водой, не зря у мусульман происходит ритуальное омовение… Вот так и твоя баня, даже не так – Твоя Баня исцеляла, и начало скольких благородных дел было положено в Бане у Лехи. Помнишь, как ты и Батура (как ты там, на небесах, еще не встретился с ним?) придумали вместе со мной провести концерт в Тучкове, чтобы помочь строительству Тучковской церкви? Помнишь, как я предложил зрителям жертвовать деньги и складывать в чехол от гитары? Был аншлаг, я помню, что из этой акции получился не просто концерт, где спели я, Володя Батура и прочитал молитву отец Сергий, а получился концерт-исповедь. И зрители пожертвовали деньги, положив их в гитарный чехол. Их там оказалось даже больше, чем выручено было от продажи билетов.
А тот же Батура, пусть пухом земля ему будет, этот сорви голова Батура в очередной раз бьется на автомобиле. Леха, и ты, как медсестра на войне, вытаскиваешь его из Рузской больницы, где Володю было некому, да и нечем спасать, и, подняв на уши всех знакомых, переводишь его в Голицыно, в первоклассный военный госпиталь. Вовку спасают, и ты, именно ты, подарил ему еще несколько лет жизни. Интересная штука – жизнь.
Сколько раз ты меня просил:
– Слава, привези к нам на дачу, ко мне в баню Михаила Исаевича Танича.
– Леша, да он устал от подобных предложений.
– А ты все-таки привези.
И я уже договорился с дядей Мишей, как ты его называл, и он почему-то дал добро, чтобы приехать. Леха, но вот ведь жизнь… Ты с ним познакомился без моих рекомендаций. Это справедливо, скажи, что ты с ним с живым разговаривал позже, чем я? Справедливо, я тебя спрашиваю? Наверное, все-таки справедливо… Ты хотел с ним познакомиться так сильно, что Бог отправил тебя к нему, больному, делать уколы. Кстати, у вас там, на небесах, собирается неплохая компания… Но, извини, я думаю, ты нас поймешь, мы с ребятами еще покоптим на земле. У нас у всех еще остались неразрешенные пока проблемы.
А ты видел сколько слез было? Знаешь, я первый раз плакал по ком-то после смерти своего отца. Даже уход своей матери я пережил легче. Я думаю, ты видел, что я спел твои любимые «Лето нашей любви» и «Яблоки падают», когда мы поминали тебя на девятый день. Знаешь, не было ощущения, что я делаю что-то не так. А когда я запел песню «Отцу», то не мог отделаться от чувства, что пою о тебе. Помнишь строки:
Как тебе на небе живется? Кто твои друзья? С кем тебе там пьется-поется?Знаешь, я с трудом их, эти строки, спел, я с большим трудом удержал слезы. Прости, Леха. Твоей мамы уже не было. Ее отвезли домой, а мы что? Слезы очищают.
Ты знаешь, когда я приезжаю на дачу, автоматически всплывает вопрос: «Интересно, Леха приехал?»
Мы – все ребята – даже устроили один раз баню по твоим рецептам, но, наверное, это была уже другая баня. А так, мы тебя помним, хотя «опустела без тебя земля». Не грусти там без нас, парняга (как тебя называл мой тесть). Хотел написать, растопи для нас печку, но потом пришла мысль, что печка эта в аду, а ты, я уверен, находишься в раю. Короче, подожди нас, дружочек, а мы постараемся свои грехи замолить или отработать – и прямиком к тебе. А свидимся, нет ли – решать не нам.
За сим до свидания, дорогой, Алексей Вячеславович.
* * *
Ты не дождался «конца света», Ты устроил для нас его сам, Как нам жить без тебя – нет ответа, Без тебя суета и хлам. Без тебя нам не в радость дача, Без тебя черно-белый свет. Ты был друг мой, моя удача, Только жив я, тебя-то нет. Ты лечил нам и душу, и тело… Расскажи, как теперь без тебя? А душа моя не отболела, Ну, а песни со мною скорбят. Видно, на небесах тоже трудно, Ведь такие, как ты, – дефицит. Без тебя будут грустными будни, А что мы так грустим, Бог простит. Потерпи, Алексей, чуточек, Мы к тебе прилетим, не вру. Закупи нам пивка пару бочек, Мы подрулим однажды к утру.Смогул
Я умер за всех, кого убили, Не научившись жить среди живых. А. СмогулI
Апрель 1971 года. МГУ, столовая № 8, что расположена в парке на территории университета. Вот уже пару лет в помещении общепита по выходным дням администрация ВУЗа вместе с комсомольскими властями устраивает здесь вечеринки для студентов на которые приглашаются известные, во всяком случае в молодежной среде Москвы, бит-группы, а также в рубрике «встреча с интересными людьми» не менее популярные молодые поэты и барды. Этакое пиршество гитарной музыки. Обычно жанры выступающих не смешивают, и вообще-то миролюбивый антагонизм поклонников тех или иных музыкальных течений не выплескивается наружу. Эти посиделки пользуются большой популярностью в Москве и являются предметом обсуждений у «продвинутой молодежи» того времени. Всеми правдами и неправдами парни и девушки стремятся попасть на очередной сейшен. Некоторым везет, а большинство (молчаливое большинство) остаются в парке у стеклянных дверей столовки.
Мы – ансамбль «Мозаика», как большую честь оказываем друзьям или случайным знакомым, набирая группу парней, которые помогут нам перетащить аппаратуру с химфака МГУ в «восьмую». Аппаратура – это пара больших красных самодельных звуковых колонок, тяжеленный пульт, барабаны, микрофонные стойки. Если удавалось, то мы ловили какую-либо автомашину, чаще всего автобус, а нет, то короткими перебежками все это доставляли на руках. Но никто из наших биндюжников не был в обиде, потому что мы и сами – Слава Кеслер, я, Шура Жестырев, Юра Чепыжев – участвовали в процессе доставки аппаратуры к месту выступления, тщательно стараясь не кантовать при переноске.
Выступление в университетском кафе было в формате концерт-танцы, и поэтому это действо продолжалось часа четыре. Причем, повышая градус вечеринки, в конце мероприятия мы играли в основном рок-н-роллы, которые мы со Славой Кеслером голосили в верхнем регистре. Это уже было не пение, а практически крик. Фраза «этот вой у них песней зовется» сейчас легко трактуется именно как агонизируемое пение в последней части университетского пати. А тогда…
А тогда мы, возвращаясь домой, по дороге к метро друг другу отваливали комплименты: что я хриплю, как Литл Ричард, а Кеслер в «Bad boy» спел перед проигрышем интереснее, чем Джон Леннон. А до этого по знакомому маршруту мы доставляли аппаратуру назад на нашу базу – химфак МГУ. Мы не боялись что кто-то, сняв девчонку, исчезнет и не поможет. Во-первых, лишаться нашей благосклонности никто из ребят-добровольцев не желал, а во вторых – общение с музыкантами накоротке добавляло парню авторитета в глазах девчонки. Правда, была опасность, что на нее кто-то положит глаз из музыкантов, но то ли мы были увлечены своим рок-н-роллом, то ли понятие дружбы… В общем, ни трагедий, ни комедий Шекспира не возникало…
А утром горло не пело, да и не говорило, но было убеждение, что к выступлению все пройдет. И все проходило. И мы снова пели, и снова был рок-н-ролл на грани срыва. Любопытно, что из-за проблем с голосом я ни разу не сорвал выступлений во времена самодеятельного музицирования. Более того, я нарастил мышцы на своих вокальных связках и до сих пор использую свои вокально-стеклорезные способности на концертах и записях.
Мой дружок Юрий Валов творчески подошел к моему опыту. Когда он решил развить свой голос и стать не только лидер-гитаристом, но и певцом, он каким-то образом притащил в свою квартиру, которая была чем-то средним между складом и ночлежкой, телефонную будку. Затем он задрапировал эту будку одеялами, подушками и чем-то еще звуконепроницаемым. Короче, получил «музыкальную шкатулку» из фильма про резидента. Помните, как героя М. Ножкина пытали? Так вот, Валов забирался в эту будку и орал в ней что было мочи, как в лесу. И что? Добился успехов… Во всяком случае, хит «Голубых гитар» «Ветер северный» ему удался. Ну так вот…
Апрель 1971-го… В этот раз устроители отошли от своей традиции и смешали жанры. В первом отделении концерта в столовой № 8 пел какой-то бард, а во втором, плавно переходящем в танцы, играли мы. Будучи поклонниками и потребителями зарубежной музыки, мы не очень-то вслушивались в то, о чем и как поет этот парень в свитере, с умеренно длинными волосами и в очках с очень приличными линзами. Я сейчас думаю – насколько же мы были зациклены на своих особах, что, даже когда парень зацепил нас во время своего выступления, мы не поинтересовались, как его зовут. Уже потом, через много лет я его вычислил, а тогда… Правда, он тоже смутно представлял, кто после него будет играть. Я думаю, что он просто ушел и не слушал нас…
А мы? Мы сидели в зале, трепались и ждали, когда этот очкарик закончит мучить, как нам казалось, зрителей и уступит место нам. Но потом произошло то, что заставило нас включить свое внимание. Парень у микрофона закончил песнопение и сказал, что он почитает импровизации. Я, как, впрочем, и ребята, сталкивались с этим только в классической литературе. Мы были переполнены иронией и считали, что дуриловка по отношению к нам уж точно не пройдет. По радио, в газетах пусть, а так… не-е-е. А в это время зрители давали на сцену записки (мы-то понимали, что специально заготовленные). Но нас-то не обдурить.
В записках были темы для будущего стихотворения либо анкетные данные автора записки. И «наш бард» читал, рифмуя и раскрывая тему. И тогда я решил его срезать. Мы пели еще в составе ансамбля «Ребята» песню на стихи Андрея Сайчука «Марш». И вот я процитировал эту песню и послал на сцену записку с началом будущего стихотворения.
Четко и гулко движется полк, Катится ряд за рядом, Человек человеку – волк — Ружья, готовые рявкнуть.Мы снисходительно ждали. И вот, поправляя на носу очки, импровизатор читает мою записку. Короткая пауза, но никакого замешательства на лице. И он продолжил… Продолжил стихотворение, по-своему раскрывая тему. Но это было здорово. Мы были ошарашены. Сейчас я жалею, что не записал импровизацию. Но, во-первых, я не ожидал от него такой прыти, а во-вторых, у меня не было бумаги и ручки, да и не обладаю я скорописью. Для красного словца можно было бы сейчас досочинить это четверостишье, превратив его в нечто монументальное, но не буду… Случай этот отпечатался в памяти и до поры до времени пребывал в ней, заполняя один из файлов.
II
Февраль 1983-го… Нет, все-таки 84-го, потому что Никита, мой старший, осенью пойдет в первый класс вместе с двумя Машками, дочерьми двух героев следующего эпизода моего рассказа. В это время я вел планомерную осаду радио и телевидения, вернее редакторов, формировавших музыкальные программы. Ваня Денежкин – клавишник ансамбля «Пламя», где я тогда служил, пообещал меня свести с Ирой Масловой.
Ирен работала на телевидении в отделе, освещавшем дела в нашей славной Советской армии. В программе, которую мастерила Маслова, появлялись артисты, рассказывавшие о своих взаимоотношениях с армией, а затем что-то пели, читали, юморили… Я начал мечтать о съемках. Вскоре Иван дал мне телефон Иры и сказал, что она не против познакомиться с артистом, который еще и придумывает песни.
– Только, знаешь, Ирка любит мужиков, так что ты уж… – напутствовал меня Денежкин.
Сказать, что я безумно целомудренен, пожалуй, нельзя, но, с другой стороны, разбрасываться организмом просто так не хотелось. Я заблудился в своих рассуждениях – буду плох как мужик – плохо; хорош – как соскочить? Но «взялся за грудь – говори что-нибудь». И я позвонил Ирине Сергеевне. Оказалось, что она живет по соседству. Свидание у нее дома было назначено на завтра. У меня был подарок – канистра разливного вина из Молдавии, и я с гитарой, канистрой и букетом цветов отправился покорять судьбу. Но, к счастью, профессию жиголо осваивать не пришлось.
Когда я вошел в квартиру Ирен, там сидел какой-то мужик. Судя по всему, они неторопливо допивали бутылку вина, и мое появление с канистрой было как нельзя кстати. Ирина Сергеевна была хороша собой. Статная, высокая, длинноногая, в какой-то кофтюле, которая очень складно сидела на ней так, что одновременно закрывала ее немаленькую грудь и в то же время давала понять, что под ней, ну под кофтюлей, есть кое-что. Я даже чуть расстроился, что не смогу проверить стойкость своих бастионов из-за гостя.
– Тургенев, – представился «мой соперник», похожий одновременно на итальянского актера Тото и на Шурика из «знатоков» в исполнении Леонида Каневского. – Владимир, – через паузу добавил он.
– Полина Виардо, – молвил я, – Вячеслав!
Прелюдия была закончена, и мы приступили к дегустации содержимого канистры. Все-таки вино способствует установлению контактов. Через час мы были уже закадычными друзьями, нашли кучу общих знакомых. Наконец, меня попросили спеть. Я вытащил гитару из чехла, а Маслова и Тургенев стали редакционным советом. Неспешно потягивая вино, они молча курили и слушали мои песни.
– Не, это не Смогул, – со значением говорил Тургеша.
– Ну почему Смогул? В этой песне есть свой шарм и не нужно ему быть похожим на Смогула.
Я не решался спросить, «а что или кто такое Смогул». Поскольку диалог Ирины Сергеевны и ее гостя даже не позволял проявить некомпетентность мою в этом вопросе.
– А вот эту песню я, пожалуй, поставил бы в один ряд с лучшими образчиками творчества Смогула, – вынес свой вердикт Тургеша, со значением гася сигарету в пепельнице.
– Наверное, ты прав… Поступим так. Послезавтра ты, Слава, придешь в Таманскую дивизию и споешь для солдат маленький концерт. Мы его подснимем, затем я тебе задам несколько вопросов – ты на них ответишь, и мы все это смонтируем. Понял?
– Понял!
– Наливай!
Так началась наша дружба с Иркой Масловой и Володей Тургеневым. Вскоре мы дружили семьями. Оказалось, что осенью наши дети должны пойти в первый класс. И две Машки и Никита вместе учились в сорок первой школе, а мы до сих пор не теряем друг друга из виду, хотя и разъехались в разные концы Москвы.
Квартира Тургенева была своеобразным клубом, где постоянно что-то отмечали и засиживались за полночь. Я уже стал там своим и даже имел репертуар, который костяк гостей тургеневской квартиры мог подпеть.
Кстати, идея альбома «Любимые песни нашей компании» возникла в этой квартире. Было желание сделать на записи этакое псевдозастолье с хорошим несрепетированным песнопением при минимальном аккомпанементе. Хотелось записать Наши песни. Но я решил еще парочку подсочинить, в итоге завелся и записал пластинку новых песен. А название осталось.
Время от времени возникала волна – приедет сегодня Смогул или нет. И он долго не ехал. Я был заинтригован и вот… Во время одной вечеринки где-то в полвторого ночи раздался телефонный звонок.
– Сейчас приедет Смогул, – молвил хозяин квартиры.
Через полчаса в квартиру вошел среднего роста лысый дядька в костюме и, что меня удивило-рассмешило-умилило, в щегольски повязанном шейном платке. Под одной рукой у него была зачехленная гитара, под другой – деваха, которую я не сразу разглядел, так как ее длинные волосы закрывали лицо, а еще потому, что наш новый герой с ней непрерывно целовался взасос. Тактичная публика долго не могла оторвать Александра (так звали нашего барда) от приятного дела. Наконец он откашлялся, попросил налить, а затем начал петь. Играл он на гитаре с семиструнным строем. Сразу стало ясно, что он большой поэт, хотя музыка, сопровождавшая его стихоизложения, была, скажем так, необязательная – можно спеть так, а можно и эдак. Он пел что-то про романтику, про Сибирь и что его никто не поймет, если не жрал собаку в походе, собаку, которая до этого смотрела на тебя доверчивыми глазами. Воздействие от его пения было мощное, но после четвертой песни захотелось либо напиться, либо рвануть на свежий воздух. Но Смогул (как я потом выяснил, это был его псевдоним, обозначавший что-то из казахского фольклора) закончил свой песенный сет, взял под мышку гитару и Людмилу и, не переставая целоваться, ушел в ночь.
III
Оказалось, что мы со Смогулом соседи. Иногда мы встречались, а потом все чаще начали заходить друг к другу в гости. Как порядочный мужчина, поцеловав женщину, он женился на Людмиле. Выяснилось, что он совсем не ходок, а с Людмилой у него, я думаю, был какой-то гормональный всплеск, поэтому они и устроили у Тургеневых эротик-шоу. Мы стали друзьями, но иногда Александр злоупотреблял дружбой.
Это были уже неспокойные годы с бандитским флером. И когда среди ночи раздавался звонок в дверь квартиры, причем настойчивый звонок, открывать не хотелось. Тем более что глазок на двери не позволял увидеть, кто звонит за второй дверью у лифта. В конце концов воля собиралась в кулак и открывалась сначала одна дверь в предбанник, а потом вторая. За ней, как правило, стоял выпивший Смогул.
– Старичок, извини, я поистратился… Дай денег заплатить за такси.
Проклятия были бессмысленны, урок все равно не усваивался, и вскоре история повторялась снова.
Но он писал, писал здорово, и, конечно же, я, да и моя жена, прощали его. Он почти не видел, поэтому получал какие-то деньги за инвалидность по зрению, еще что-то зарабатывал на концертах бардов. И тогда я решил его подбить к соавторству. Но он был беден и горд. Мои сребреники его не прельстили. И я, как опытный змей-искуситель, решил действовать через Еву. Уговорил Людмилу собрать мне подборку его стихов, и она повелась. Я прочитал все, что она мне принесла. Из двух различных коротких стихотворений я собрал песню «Пора прощания» и придумал к ней мелодию. Потом была «Улочки-переулочки». Я нагло дописал припев в эту уже готовую песню и спел по-своему. Наконец однажды вечером я позвал Сашка на кухню чего-то там продегустировать. Во время винопития я спел ему две песни.
– Старичок, а так тоже может быть. А то, что ты придумал:
Эти улочки-переулочки На краю родной земли, Эти улочки-переулочки Мы любили, как могли.– кайф. Песня по-другому зазвучала, стала объемней. Спасибо, старичок.
Я был польщен.
Как водится, сообщество КСП (клуб самодеятельной песни) поначалу не простило Смогулу ренегатства, а уж когда мы договорились, что он будет принимать участие в моих концертах, его заклеймили как христопродавца. А Сашок расцвел. У него появился достаток, правда, любовь к выпивке… Ну, что ж, боролись как могли.
– Саша, ты, если выпьешь, не показывайся при коллективе мне на глаза (а я тогда гастролировал с группой «Саквояж»), потому что я, как шеф, должен буду принимать меры. Ты где-нибудь отсидись, а если что, то зрители не заметят, что ты не вышел на сцену.
Но он, как назло, выпив, появлялся передо мной, с трудом удерживая равновесие.
– Славок, я готов сегодня спеть на три песни больше. Ты не смотри, что я чуть-чуть дал винца.
– Твою мать, Саша.
Но я старался смотреть на это философски и даже извлекал из этого пользу. Однажды Смогул похвастался, что умеет читать импровизации. Это замечание всколыхнуло мои воспоминания, и я выяснил, что когда-то в столовой № 8… И с тех пор иногда в девять утра в моей квартире раздавался звонок. Это был мой соавтор.
– Я пришел почитать тебе импровизации… У тебя есть что-нибудь?
У меня, как правило, было… К десяти-пол-одиннадцатому бутылка убиралась со стола. А Санек читал… И однажды я решил, что не надо просто нагревать воздух, и придумал, как направить его энергию в мирных целях. Я начал придумывать темы для импровизации, а он тут же их воплощал в стихотворные строки. Так появились песни «Украденное счастье», «Больше, чем любовь», «Я, он, она и „Beatles“». Причем этот метод сочинения со Смогулом был единственно действенным. Я придумывал тему, а он… Так однажды (в этот раз не было спиртного) я повез его домой, и мы застряли в пробке у спорткомплекса «Олимпийский».
– Саша, смотри, автомобильная пробка; пробка в бутылке; женщину, если она глупая, называют пробка…
Через десять минут песня «Пробка» была готова.
Со временем Саша поумерил пыл по отношению к спиртному. Он как артист был нарасхват. И здесь сказались не только его музыкально-поэтические дарования. Просто его инвалидность по зрению позволяла администраторам как-то хитро оформлять документы, убегая от налогов. А мы дружили, и я его все больше узнавал.
IV
Это впоследствии с Масловой, Тургеневым, да и с самим Смогулом выяснили мы истоки неистощимой тяги Шурика к вранью. Как веселые байки, пересказывали его истории о том, как он воевал во Вьетнаме, как потерял ногу и теперь вынужден ходить на протезе. Обычно его зрителем и слушателем была какая-то восторженная дамочка из его почитателей. Причем она была в нашей компании «на новеньких» и поэтому попадалась на удочку достаточно легко.
– У меня вместо левой ноги протез. Смотри, – говорил Смогул и стучал по ноге.
Звук от удара кулаком по кости ноги, одетой в джинсы, был глуховат, но сказать, что это не деревяшка, собеседница нашего героя не могла. И он в ее глазах становился героем, а когда еще доверительно сообщал, что во Вьетнаме готовил спецназ, то Джеймс Бонд рядом с ним становился заурядным мальчишкой. Дама плыла, Смогул с «чувством глубокого удовлетворения» мужественно закуривал очередную сигарету.
Какой спецназ, какой Вьетнам-Афганистан-Ангола? Саша Смогул – смешной, далекий от спорта, полуслепой еврейский мальчик, зачем ему это было надо? А вот надо… И он снова расставлял сети, как паук, поджидая очередную жертву…
V
И однажды, понятное дело, на первом этапе нашего с ним знакомства, он, не обращая внимания, что я не пылкая воздыхательница, закинул свои сети в безграничные воды моей души. И, что интересно, сети могли прийти с богатым уловом… А дело было так.
В Раменках, где мы жили, в начале лета проводится плановый ремонт – профилактика системы водоснабжения наших домов. Неудобства жизни без горячей воды относительные, так как на улице тепло, даже жарко, и нет проблем принять холодный душ. Но все равно хочется в баню, где горячей воды в достатке.
Известность и, как одна из ее отличительных черт – узнаваемость, имеет, как и любое явление, две стороны. С одной… А с другой – ты становишься экспонатом, и тебя разглядывают, щупают, пробуют на вкус. Сначала это нравится, а потом ты понимаешь, что без этого внимания твоя жизнь будет ну, никак не хуже, чем под микроскопом.
И тут мне Смогул и предлагает:
– Старичок, а не сходить ли нам в баню? Как ты смотришь на то, чтобы нам погреть свои старые ревматические кости?
– В баню-то, конечно, хорошо. А это что, частная баня?
– Зачем частная? Усачевские бани, классный пар, там у меня банщик знакомый, так что пиво, лучшие веники – все для нас.
– Да нет, Саш, я не буду чувствовать себя комфортно.
– Да кому ты нужен? Пошли-пошли!
И мы пошли. Был будничный день, утро, народу не так много. Мы разделись и вошли в помывочное отделение. Еще не найдя себе место, не найдя себе шайку для мытья, мы со Смогулом шли, обозревая «поле сражения». И тут сзади нас я слышу мужской диалог:
– Смотри, Малежик…
– Ну и х…й с ним!
Произошло то, чего я подсознательно ожидал. Я проверил, все ли действительно со мной. Инспекция подтвердила, что все на месте, и я решительно потянулся к выходу. Смогул, слышавший все это, не удерживал меня. И я, не дойдя даже до душа, покинул Усачевские.
Но соавтор был упрям в достижении поставленной цели.
– Старичок, в Очаковских банях есть отдельные кабинеты, я должен тебя попарить, тем более это рядом с домом. Собирайся.
И мы отправились теперь уже в Очаковские бани. По дороге Санек поведал о том, как пять лет отучился в строительном институте, потом, как служил в Анголе в спецназе.
– Там-то я и потерял зрение. Вернувшись, работал около десяти лет прорабом на стройке.
Я все это слушал, лишь изредка задавал уточняющие вопросы. Мы пришли в баню, начали раздеваться – и тут на теле своего соавтора я обнаружил татуировки. Это не были тату начала двадцать первого века, но и не были рисунками на теле, похожими на воровские знаки отличия. Чуть выше запястья на левой руке был выколот большой нож, с которого стекали капли крови. А на груди был вытатуирован холм не холм, бугор не бугор, на котором стоял крест.
– Саша, а где это ты наколки сделал?
– А ты ничего не знаешь?
– Нет…
– Я срок мотал… Десять лет.
– За что?
– Ну, ты понимаешь, я на стройке прорабом работал… Так вот, там у меня под началом много всякого сброда было. А один каменщик, только что отмотав срок, откинулся и работал всего еще вторую неделю. И, представляешь, приходит он ко мне и говорит:
– Отпусти меня, начальник, мне надо…
– Доделай задание и уходи, – отвечаю я.
– Ах ты, жидовская морда, да я тебя.
А у меня лопата была, старичок, заточена как бритва. Я как дал!!! И разрубил его от плеча до яиц.
Я невольно вдавился в спинку дивана, на котором сидел, и натянул на себя простыню. Смогул потягивал пиво и, блестя очками, смотрел на меня, оценивая произведенное впечатление. Пауза длилась минут, да каких минут, секунд пятнадцать, а потом я начал соображать. Соображать и считать…
– Стой, пять лет института, пять Ангола и стройка, десять лет тюрьмы. Не сходится.
– А ты не считай. Все это х…ня.
Но он был и, к счастью, есть несомненно талантлив. Его пронзительные, неожиданные стихи, порой парадоксальные, порой грубо-лиричные, застревали в душе, заставляли перечитывать их и вчитываться.
Наверное, как утверждала его очередная жена Людмила, я в коктейль его стиха добавлял немного солнца своей музыкой и исполнением, снимая тяжесть безысходки от размышлизмов Смогула. Может быть… Во всяком случае, я думаю, мы были два полюса в нашем творчестве, которые обеспечивали движуху в наших совместных песнях.
VI
Сейчас Смогул живет на две страны. Он как еврей получил официальную возможность жить в Германии.
– Старичок, это Наша (с интонацией героя Павла Кадочникова из «Подвига разведчика») самая главная победа в Великой Отечественной, – говорил Смогул, намекая на чувство вины немецкого народа перед евреями за все Освенцимы, Бухенвальды и Варшавские гетто.
В Германии он получает какое-то пособие от правительства, жилье. Читает в учебных заведениях, где учат русский язык, о русской формальной и неформальной поэзии, поет концерты для русско-немецкой эмиграции. Он горд, что, будучи практически инвалидом, зарабатывает деньги, позволяющие ему чувствовать себя полноценным мужчиной. В России он считает себя «широко известным в узких кругах» литератором.
– Ты не обращал внимания, что все великие русские поэты евреи? Я, Женя Рейн…
Ответа от меня он, как правило, не ждал.
Мы с удовольствием встречаемся, пьем чай (спиртное ни-ни), сплетничаем, рассказываем друг другу, какие мы великие, и что молодое поколение… Расстаемся, перезваниваемся, читаем и поем друг другу по телефону новые песни, лишь изредка их критикуя. Очень редко пишем совместные песни. Схема все та же. Я даю задание, чтобы через пару часов получить стихи, на которые я придумываю музыку. Однажды я попросил его:
– Саш! Мне заказали песню, чтобы в ней герой объяснялся в любви. Но для органики (певец, для которого пишется песня, нетрадиционной ориентации), надо написать так, чтобы благочестивая публика не понимала, что мужчина объясняется в любви мужчине. Надо, чтобы все думали, что этот песняк для женщины.
Через пару часов он позвонил и продиктовал:
Я вас люблю Так откровенно …Получился приличный романс. Но тот, кому он предназначался для исполнения, не «услышал» его, и с тех пор я его часто пою в своих концертах с неизменным успехом.
* * *
Ты придумывал сказки, Иногда ты их издавал, Ну, а врал ты так классно, Что девчонок разил наповал. Ты скакал на коне, Расправлялся с лихими коммандос И во время рассказа жил, как во сне, Получая заслуженно гранды, Что вручали в Кремле по весне. Ты летал на ядре, Опускался в пучины морские. И девчонки сдавались тебе на заре, Отложив все заботы мирские, Не боясь, что в аду им гореть. Ты артист, ты – поэт, ты – барон, ты – пижон. И у ног твоих тлеет Европа. Ты – садист, мазохист, женский стон, странный сон. И в волненьи безудержный шепот. А когда я однажды спрошу у тебя: – Что ты врешь? И зачем тебе это? Ты ответишь, в раздумье усы теребя: – Это промысел мой — превращать зиму в лето.Секс, наркотики, рок-н-ролл
Эта формула, по которой, как нам, поклонникам по эту сторону «железного занавеса», казалось, жили музыканты волшебной страны Рок-н-ролл. Сейчас-то мы понимаем, что зачастую многое из того, что мы находили (я имею в виду информацию) в польском журнале «Панорама» или в югославском «Свет социализма», в музыкальной передаче ВВС или «Голоса Америки», не соответствовало действительности. Там, у них, понятие «пиар» уже стояло в полный рост. Тем не менее мы проглатывали сообщения о том, что Мик Джаггер и Кит Ричардс арестованы то ли за хранение, то ли за употребление; Джим Моррисон, Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс отошли в мир иной после передоза, а Брайан Джонс утонул то ли после очередного наркотического триппа, то ли… В общем, никто точно не знает.
У нас это тоже в те еще советские времена было. Мне рассказывали… Но сам я ни разу не попробовал, да и, если честно, ни разу не видел, как тяжелые наркотики при мне принимают. Правда, один раз был шанс. Мы с моим дружком Володей Буре опоздали буквально на минуту, а то бы… Это был 1967-й год, и наша группа «Ребята» играла на танцах в школе на проспекте Вернадского. Володя, впоследствии лучший пловец страны, рекордсмен Европы, только что вернулся из загранки. В новой замшевой куртке, в фирменных джинсах, в замшевых же ботинках. Он сильно выделялся из толпы танцующих. Объявили перерыв, и мы с Буре отправились в туалет. Зачем? Да за тем… Когда мы в него вошли, сзади кто-то резко закрыл дверь на швабру. Мы не успели ни испугаться, ни понять что-либо… Брюки расстегнуть мы не успели тоже. Вдруг из-за перегородки у окна выходит парень с грязным шприцем в руках. Он долго вглядывается в мою физиономию и потом заплетающимся языком говорит:
– Это ты? Вы так классно поете и играете, а у меня (показывает на шприц) больше ничего нет. Извини…
Мы с Володей, забыв, зачем пришли в туалет, еще полминуты потоптались и вышли. Так вот это был единственный раз, когда я увидел шприц, который предназначался не для взятия крови на анализ.
А так я видел, как курили траву и мои коллеги музыканты, и просто знакомые с круизного корабля, когда мы были на экскурсии в Амстердаме. Да, наверное, когда я ушел из инженеров в артисты, я не проделал до конца путь из «ботана» до «богемы». Но жил я не в безвоздушном пространстве, и поэтому все-таки смешные события с этой самой составляющей случались.
Алма-Ата, 1988 год. Вместе с «Саквояжем» участвуем в больших гастролях по Средней Азии. Я свой сет отработал, на сцене Ю. Антонов. Стою, слушаю мастера. Ко мне подходит крупный милицейский чин, думаю, не ниже полковника. Признание с его стороны в любви, а затем предложение угостить меня такой «травкой», которой мне еще не доводилось пробовать. Я отвечаю, что это будет чистая правда, потому что я и сигарет-то никогда не курил. Он посмотрел на меня, как на больного ребенка, и отошел. Восток – дело тонкое.
Последний концерт ВИА «Веселые ребята» в Душанбе окончен, и нас всех приглашают на торжественный ужин, приуроченный к успешному окончанию гастролей. Средняя Азия, традиционный плов… Учтивые хозяева очень часто справляются, нравится ли нам угощение, и особенно интересуются вкусовыми качествами плова. Всем весело, настроение боевое, все смеются даже над не очень смешными анекдотами и артистическими историями. Закончилось застолье. Расходились довольные друг другом. И только в аэропорту кто-то из работников душанбинской филармонии проболтался о том, что в плов была добавлена та самая конопля. Не буду распространяться и умничать, рассказывая, что конопляное масло… а марихуана используется… Даже если кто-то обвинит нас в аморалке, то за давностью лет этот грех спишем…
Концерт вместе с группой польских артистов в Калининграде, что на Балтике. Перед выступлением всем коллективом отправляемся на Куржскую косу – уникальное место, заповедник на берегу Калининградского побережья. Длинная, почти на 100 километров песчаная полоса, аж до Клайпеды, поросшая хвойным лесом. Ширина косы от 800 метров до 5 километров. Нас привозят в дикое местечко, где кроме необорудованных песчаных пляжей ничего нет. Мы купаемся, загораем, играем в волейбол. Короче, замечательно отдыхаем. Одно плохо, я получаю солнечный удар и чувствую это, когда уже пою на сцене стадиона.
Мой концерт тогда был построен таким образом: первая часть программы – это я с гитарой развлекаю публику. Потом примерно полчаса «Саквояж» и польская певица Ева Чижевска сменяют меня на сцене. А затем снова я, но уже с «Саквояжем», играю получасовую программу хитов, и с высоко поднятыми головами под бурные аплодисменты благодарной публики… Ну, вы понимаете… В этот раз все пошло по-другому. Солнышко так мне «вскружило» голову, что меня начало на сцене подташнивать. Во время поклона я попросил вызвать «скорую». Уходя со сцены, шепнул ребятам, чтобы они держались сколько смогут.
Приехала «скорая». Врач померила мне давление и вколола в вену какое-то лекарство. Я решил, что спою со сцены песню «Острова», объясню зрителям ситуацию и приглашу на завтра с сегодняшними билетами досмотреть концерт. Вышел на сцену, начал петь песню и вдруг на словах «Острова, где-то ждут нас острова», я почувствовал какой-то неимоверный прилив сил. Я допел не только эту песню, но и все остальные запланированные. Успех был бешеный, мне казалось, что я никогда так не пел. Врачи «скорой» досмотрели концерт до конца, одновременно страхуя меня. Потом после концерта я допытывался, что это было за лекарство, на котором я работал значительно лучше, чем на АИ-95. Доктора врачебную тайну мне не открыли. Вот что значит клятва Гиппократа.
Алкоголь, наверное, можно приравнять к наркотикам. Но и с ним у меня долгое время отношения не складывались. Начинал я, как и все. Но однажды, а это было в десятом классе, после дня рождения своего одноклассника я почувствовал себя нехорошо. После этого я специально ходил в Ленинскую библиотеку, проштудировал всю литературу, касающуюся алкоголя и наркотиков, замучил себя до смерти и завязал на долгие годы. «Ботан» в полный рост. Хотя выпивающие граждане меня окружали постоянно, я был достаточно целомудренен годов этак до тридцати двух, когда моя жена объяснила мне, что я себя лишаю определенного удовольствия в жизни. А фраза, что вино – это кровь Христова, была достаточно сильным аргументом, чтобы я перешел в состояние «могу». Два забавных случая, связанные с моим умеренно-неумеренным потреблением алкоголя.
То, что вокруг меня выпивают, волей-неволей заинтересовало меня, и однажды я решил испытать, что же чувствует человек перебравший. Почувствуйте разницу – «человек разумный» и «человек перебравший». И вот я, следуя заветам своих великих соотечественников, которые прививали себе холеру и описывали, что они чувствуют, в один прекрасный вечер закупил в магазине большую бутылку 0,7 л вина под названием «Рубин». Затем была закуплена большая плитка шоколада. И я отправился домой ставить эксперимент. В два приема я съел вино и шоколад примерно за семь минут. Дальше я пошел в комнату, включил телевизор и лег на диван. Диктор объявил, что матч между командами ЧССР и СССР на звание чемпиона мира по хоккею начался. Дальше я лежал на диване, вступал в переговоры с унитазом, отвечал на вопросы отца, вернувшегося с работы. Причем мое реноме непьющего человека было столь высоко, что отец ничего не заподозрил. Наверное, в своих ответах я был убедителен. Магнитофонная пленка о беседе с отцом и воспоминания о матче, который я слушал «широко открытыми глазами», оказались пустыми. Практически ничего не отпечаталось. Возвращение в реальность произошло со словами диктора: «Итак, игра закончилась со счетом 4: 1 в пользу советских хоккеистов». Какие сделал выводы? Думаю, убедился, что выпивка в одиночку – это болезнь под названием алкоголизм, а возлияние в хорошей компании – это как хорошая приправа для дружеского застолья.
У меня есть добрые друзья в США. Причем это американцы – двое из которых по-настоящему влюблены в Россию, в ее культуру и традиции. И вот в 91-м команда из двух американских супружеских пар высадилась в Москве, и я решил приложить все силы, чтобы влюбить их в нашу страну. Еще в аэропорту Джеф, а именно он был «повернут» на нашей стране, сообщил, что перевел на английский все мои песни, которые я ему переслал, и даже срифмовал их. А еще мне было объявлено, что посещение России не будет иметь завершенный вид, если он не выпьет «на троих». Не знаю, откуда он эту информацию зацепил, может, из фильма «Кавказская пленница», но он знал, что пароль для поиска компании – три пальца, делающие соответствующие движения. Отклик – те же движения будущего компаньона, теми же тремя пальцами. Джеф несколько раз напоминал мне о своем желании распить горячительное в компании со мной и еще одним незнакомцем. И вот я созрел для этой акции. Наш поход на рынок – четыре ярко одетых американца и мы с женой – тоже пара, на которую обращали внимание жители города. Я вообще производил впечатление человека, который выпрыгнул из телевизора. И спектакль начался. Должен заметить, что у меня на Черемушкинском рынке, где разыгрались эти события, был приятель, который торговал медом. Звали его Юра. Я попросил жену сделать отвлекающий маневр, а сам быстро рванул к Юре.
– Юра, помоги, друг.
– Что сделать?
– Надо сыграть спектакль «На троих», с пальцами, со всеми делами. Поможешь?
– Конечно.
– Держи деньги. У тебя есть кто-нибудь, кто сгоняет в магазин?
– Найдем…
И вот перед ошарашенной публикой популярный артист и высокий ярко одетый иностранец в возрасте идут между торговыми рядами, делая известные движения пальцами, сопровождая это в высшей степени независимым выражением лица.
– Джеф, смотри, – сказал я и указал на Юру, который тоже шевелил тремя пальцами.
Мы подошли к продавцу. Короткие переговоры увенчались успехом. Я достал деньги, Юра добавил свою пайку и какой-то его подмастерье рванул за спиртным. Было лето, жара, начало девяностых, в магазинах полное отсутствие присутствия. Вино было в бутылке 0,7, по-моему, даже без этикетки, но, «если я чего решил, то выпью…» Короче, Юра взял стакан, а по регламенту пить надо было в подъезде из одного стакана, и мы отправились в соседний дом.
Противное, теплое, липкое сладкое вино было выпито, причем попутно я Джефа научил, как надо закусывать «мануфактурой» (занюхивать рукавом). Джеф был в восторге – он прикоснулся к истокам культуры и традиций великой России. А я почувствовал себя гостеприимным хозяином.
Рок-н-ролл… Я за долгие годы жизни (помните Станиславского «Моя жизнь в искусстве»), скажем так, в развлекательном виде музыки ни разу не услышал определения, что же такое рок-н-ролл… Наиболее мудрые, те, которых величают патриархами, говорят, что это образ жизни. И дабы не оставить формулу «Секс, наркотики, рок-н-ролл» без одной из составляющих, расскажу еще одну историю, которую с большими допущениями можно использовать для раскрытия нашей формулы. Ну да, так мы жили, да таков был образ нашей жизни, а рок-н-ролл это или нет – судите сами… Барабан и бас были синтетическими, но драйва все равно было в достатке.
В 1979 году, вернувшись вместе с «Пламенем» из поездки на Мадагаскар, я привез с собой сорок незадекларированных долларов. Покупая себе кассетник, я жене ничего не успел приобрести. И вот эти доллары жгли мою душу и карман. И подоспела поездка в ГДР. Решено было там истратить мое валютное богатство. Но доллары незадекларированы, как их провезти мимо таможенников. Расширенный семейный совет, в который был включен Володя Буре, решил, что я проколюсь на границе – не гожусь в несгибаемые разведчики.
– Да они тебя на раз раскусят; они же блестящие психологи, – сказал Буре.
– Что делать?
– Это ты уже сам решай.
Бессонная ночь, и я иду к отцу за советом. Кто не знает, скажу, что за эти несчастные доллары я мог стать невыездным на всю жизнь. И мы стали с отцом искать, где спрятать валюту. И нашли… Я снял струны на гитаре, затем разобрал звукосниматель, и в паз для съемника мы спрятали крепко спрессованные американские рубли. Потом звукосниматель и струны были водворены на место. Комар носа не подточит… если даже решат искать деньги в тайнике, поезд придется задержать минимум на час.
– И все равно, – сказала жена, осмотрев нашу работу, – лучше напейся пьяным, чтобы ты ничего не смог сказать лишнего. Это будет твоя двойная защита.
И вот я в поезде «Москва-Вюнсдорф». В этот вечер наш барабанщик Витя Дегтярев справлял день рождения и проставлялся. Я понял, что мне не надо решать гамлетовский вопрос «Пить или не пить?». Пить!!! И я неожиданно для всех потребовал налить себе полный стакан водки. Никто от меня такой прыти не ожидал, и все с интересом уставились на Малежика. Очень артистично, оттопырив в сторону мизинец, я съел содержимое стакана и промокнул салфеткой губы. Я не задыхался, не требовал срочно что-нибудь закусить… Нет, выдержав паузу в 10–15 минут, я ушел в купе и забрался на верхнюю полку. Я был уверен, что действия алкоголя хватит до границы. И артист уснул. Но организм, приняв небывалый объем алкоголя, отказался жить по моим правилам. Думаю, часа через полтора, алкоголь настойчиво вместе с дегтяревской капуздочкой и колбаской решили вернуться назад и что-то там высказать мне и нашему барабанщику. Я понял, что «не дотяну» до туалета и в качестве гигиенических салфеток стал использовать свое белье, носки и прочее… Потом я это все сгреб в кучу и пошел в туалет стирать в холодной воде. От водно-постирочных работ я протрезвел окончательно и бесповоротно. Зеленый от волнения я встретил погранцов. Когда они вошли, я не мог ничего сказать. За меня отвечала Ира Шачнева. Спасибо ей, ей-богу…
– Что, перебрал, гитарист? – спросил солдатик.
– Чуток, – это Ирина.
– Ну ты уж не увлекайся, поспи… – Был приговор бдительных часовых границы, вошедших в положение мужчин.
Но это еще не все… Потому что провезти деньги – это полдела. И в городе Карл-Маркс-Штадт мы с Ириной решили осуществить поход в интершоп за джинсами.
– Значит так, Малежик, ты свой мохеровый шарф сними, потому что все советские в мохере.
– Хорошо.
– Я первая беру на себя функции проводника к интершопу, а потом уж ты…
И мы пошли… Сначала Ирка повела нашу компанию контрабандистов-валютчиков, а потом я должен был уточнить нашу дислокацию и определить «направление главного удара». И я начал искать «языка», чтоб, пленив его, узнать азимут нашего движения. Я долго вглядывался в лица, в походку, в манеру одеваться прохожих. Я пытался найти человека, который говорит по-английски. Немецкого, кроме «гутен таг», я не знал. И наконец, я его вычленил из толпы, решительно подошел к нему и спросил:
– Sorry. Where is intershop? (Извините, где находится интершоп?)
– Чего-чего? – был ответ мне.
Надо бы еще про секс… А чего про него писать? Секс он и есть секс. Про него говорят, когда его нет. Поговорим поэтому потом, пока лучше им заниматься.
О строительных работах на дороге в ад
Мы сидели с Александром в одном из спортбаров города Сочи и неспешно вели беседу, потягивая пиво и изредка бросая взгляд на телевизионный экран. Там был перерыв матча команд, борющихся за европейские кубки. В эфире были «Новости»… В разделе «Спорт» диктор начал рассказывать о параолимпийском движении, о том, какое важное значение… о том, что лидеры нашего государства внимательно отслеживают… В общем, фразы, которые стали повседневными и перестали волновать…
– А ты знаешь, Путин мне предлагал быть одним из координаторов Параолимпийских игр в Поляне?
Саша – красивый, с лицом голливудского актера парень (а для меня все, кто моложе сорока пяти являются молодыми людьми), был прикован к инвалидной коляске. Но он был человеком, который не потерял ни себя, ни любовь окружающих к себе. Более того, то, как он боролся и жил со своим недугом, вызывало всеобщее уважение к нему, а то, как любила и млела его жена Наташа, – тема для отдельного рассказа. Успешный бизнесмен, Кулибин, в руках которого все горело, был стопроцентным мужиком, знающим, где и как заработать деньги и как эти деньги потратить, чтобы они принесли радость самому себе и близким. Потеря возможности самостоятельно передвигаться, хотя он сумел сделать все, чтобы своими проблемами не загружать близких, – результат глупого (а бывают умные?) несчастного случая. Саша решил подремонтировать автомобиль, влез под него, предварительно поддомкратив. Машина сорвалась с домкрата и придавила Александра, серьезно повредив позвоночник. Никакие врачи ни в России, ни в Германии, ни в Израиле не смогли ему помочь. Помогли близкие – любимая женушка, дети, друзья.
– У меня не было времени жалеть себя. Я работал, слава Богу, голова и руки не пострадали, компьютер – величайшее достижение человечества. Правда, пришлось сделать специальные съезды, чтобы выезжать из дома, а потом возвращаться в него. Но это мелочи. Знаешь, вот эти соревнования параолимпийцев – это не только для них самих. Это же пример для тысяч людей, теряющих ориентиры в жизни после травмы, после потери близких. Помнишь, в школе мы проходили «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, о Маресьеве, летчике, который потерял ступни и тем не менее сумел победить недуг и себя, да и окружающих его людей, и сумел сесть за штурвал самолета и взлететь в небо. А «Как закалялась сталь» Н. Островского? Сейчас эти книги проходят в школе?
– Думаю, что нет… – ответил я.
– Жаль… Так вот параолимпизм заменяет эти книги, дает людям надежду и наглядно показывает, что можно!!!
– Ты знаешь, здесь нужно говорить о комплексе проблем. Победа, человека, попавшего в беду, обусловлена не только его силой воли и усердием, с которым он борется с бедой.
– Несомненно.
– Причем часто окружающие, относящиеся к человеку, потерявшему какие-то функции организма, как к равному, делают значительно больше, чем врачи.
– А потом ты не забывай, что это люди напоминают, что ты не такой, как все. Ну, конечно, я и сам вижу, что все передвигаются без инвалидной коляски… Вот в книгах пишут, что человечество с течением времени потеряло способность общаться телепатически. И что? Да ничего, потому что эту способность потеряли все. Я, конечно, не призываю всех пересесть на инвалидные коляски… – сказал Саша и закурил.
– А помнишь у Чайковского в опере «Иоланта» принцесса была незрячая, и никто из окружающих не имел права ей об этом сказать? И до поры до времени она была вполне счастлива, – и я продолжил:
– У меня был в Гагре друг, к сожалению, он ушел из жизни… Его звали Миха. Обеспеченная армянская семья. В трехлетнем возрасте он переболел полиомиелитом, и нижние конечности перестали развиваться. С детства Миха стал неходячим парнем. Не знаю, как его воспитывали в семье. Думаю, что любили, но не жалели по каждому пустяку. А вот друзья, не знаю, как это осмысление пришло им в голову, вели себя в высшей степени правильно – с педагогической точки зрения. Они обращались с Михой, как с равным, наливали ему, брали с собой кататься на лодке, могли послать его, если он был неправ. Даже если снимали девчонок, то с расчетом, чтобы одна из дамочек была с ним. В итоге Миха, кстати, прозвище у него было – Костыль – и он знал это и не смущался, поступил в юридический, закончил его и успешно работал в юридической конторе. Для ребят он был третейским судьей, и, если были спорные моменты, шли в дом к Михе. Его вердикт не оспаривался.
– Ты знаешь, когда еще не было границ, у меня были интересы в Абхазии, и я сталкивался с ним. У него еще младший в команде КВН Еревана был.
– Да… Ты представляешь, он женился на профессорской дочке. Они родили троих детей. Были вполне счастливы, да еще Сусанна его ревновала, если он задерживался по делам службы.
– Слава, ты меня обижаешь… Это я про женщин.
– Извини, Саш, сейчас я это воспринимаю вполне адекватно. А тогда это сильно удивляло.
– Да таких примеров тысячи… И до поры до времени я тоже воспринимал людей с определенными отклонениями, как какую-то единую «массу» (мне, в силу своих проблем, возможно, допустить такое бестактное сравнение), не вникая в индивидуальные особенности. И желание пожалеть их бежало впереди меня.
– Да, это так, к сожалению, мы часто занимаемся благотворительностью, да что там, просто лезем с ней в душу к человеку, не понимая, что своей жалостью оскорбляем.
– Ну да, благими намерениями…
– У меня была очень поучительная история, которая открыла мне глаза на многие аспекты взаимоотношений людей.
Городок N-ск. Очередной концерт. Хороший прием зрителей. А после концерта мне передают конверт со стихами местного поэта. Это для меня уже достаточно привычная практика. И я забираю стихи, пообещав в гостинице посмотреть их. В номере я вскрыл конверт. Прочитав стихи, я отметил, что это неплохо, даже хорошо. Я взял гитару и практически с листа спел эти строчки. Жена, которая была со мной в этой поездке, отметила, что песня складная получилась, и попросила запомнить ее и не дорабатывать, чтобы не испортить. Я согласился и, обнаружив на листке со стихотворением телефон и имя автора, позвонил ему. На другом конце телефона ответил не очень внятный голос автора текста. Я пригласил его на завтрашний концерт. Он согласился… То, как он произносил слова, меня смутило, но я решил, что, может, он… В общем, неважно, что я решил. На следующий день во время концерта, я взял бумажку с текстом, прикрепил ее к стойке микрофона и, сказав какие-то дежурные слова, что это мой подарок и что песня написана на стихи жителя города N-ск, спел песню. После аплодисментов я решил зрительный зал познакомить с автором текста.
– В нашем зале находится…
Когда я закончил представление автора, я попросил его встать. Через небольшую паузу автора подняли на руках. Он был неходячим. После концерта мы познакомились. Обычно в прессе пишут в таких случаях, что из этических соображений имя героя изменено. Я тоже назову его вымышленным именем. Пусть его зовут Петр. Мы поулыбались друг другу, я похвалил его поэтический дар и обещал помочь, чем смогу. Утром мы улетели в Москву.
Действительно, мои друзья оценили его стихи, а песню я регулярно пел в своих концертах. Но что такое один концерт по сравнению с телевизионной передачей – укус комара. А в это время приятельница нашей семьи Ира Маслова делала на одном из центральных телеканалов программу «Белая ворона». Она и ее редакторы разыскивали странных, не от мира сего людей, без которых наша жизнь была бы пресной. И тогда я ей поведал про Петра из города N-ска.
– Так это мой персонаж! Тащи его ко мне.
– В этом вся проблема. Сам он не долетит, а сопровождение, да и билеты для Петра и его помощников будут стоить денег.
– Да, проблема, – молвила Ирка, – я утону в бумажках, которые нужно написать и подписать. Давай я сниму тебя, и ты расскажешь о Петре и споешь вашу песню.
– Договорились.
Я снялся в «Белой вороне». Видели все. Тогда не было такого количества каналов, да и имя мое весило. Кроме того, я был не просто певцом, а почти репортером. Могу засвидетельствовать, что подача материала была такова, что через год на гастролях в Израиле ко мне после очередного концерта подошла женщина со своим сынком-подростком, у которого были проблемы со зрением, и благодарила нас за то, что после передачи у ее ребенка появились ориентиры в жизни и он стал бороться.
А Петр вскоре на волне своего успеха сделал музыкально-поэтическую композицию вместе со своим приятелем, который придумал музычку (да-да, именно музычку) к его стихам и иногда пел эти песни под собственный аккомпанемент. Петр находился рядом в инвалидном кресле и меладикламировал под гитарные переборы своего соавтора. Плохая дикция Петра не улучшала восприятия записи на VHS. Петр меня просто обязал, позвонив по телефону, чтобы я все это показал редактуре телевидения. Я пообещал это сделать… И пошел к редактору «Шире круг» Ольге Молчановой.
– Оля, я все понимаю, но может быть…
– Даже, если, любя тебя, я бы пропустила эту пленку в эфир, начальство все это зарубит на корню. Эта так слабо…
– Я понимаю.
– Да ничего ты не понимаешь. Телевидение – это прежде всего идеологическая машина. Сейчас в стране жрать нечего, людей анекдотами и веселухой пытаются отвлечь от быта… А ты хочешь загнать зрителей туда, откуда они не смогут выбраться.
– А может, если они увидят, что кому-то хуже, чем им, люди расправят плечи?
– Ага, расправят… Если бы еще это было качественно. А то это самодеятельность детского сада.
– Но стихи-то неплохие…
– Отдельно, да. Но ты предлагаешь… В общем, все, закончили.
И мы закончили. Но Петр отнюдь не закончил. И его упертость еще сожрет много моих нервов. «Не делай добра, не получишь зла…»
Прошла пара месяцев. Звонок из N-ска.
– Слава, привет. Вы мне должны помочь.
– Что за проблема?
– Жизнь меня пошерстила, теперь я должен пошерстить ее. Вы должны прислать мне приглашение от «Театра песни Пугачевой», что она вызывает меня в Москву на конкурс.
– А какое отношение я имею к театру Пугачевой?! И потом, я ни о каком конкурсе не слышал.
– Да нет… Мне просто нужно письмо на бланке с печатью, чтобы меня послали в Москву и спонсоры оплатили мои расходы на перелет и проживание в гостинице.
– А моего имени тебе не хватит? Я придумаю что-нибудь.
– Я жду.
И я начал думать. Всемирный, вернее всепланетарный поэтический конгресс, на котором выступит всеми любимый поэт из N-ска, по-моему, звучал солидно. Кроме того, я понимал, что Петр уже достал своих богатеев, и они готовы его отправить хоть на Луну, лишь бы была возможность отчитаться. Да, еще можно и грехи замолить, совершив благое дело.
Я уже не помню, где взял бланк, но письмо было написано. Печать, что-то фиолетовое с надписью типа «уплачено», поставлена. И письмо было отправлено. Я победно отчитался по телефону, что все сделано, как просили. Самое удивительное, что бумага сослужила свою службу. В начале апреля Петр позвонил, что едет ставить на уши Москву. Я спросил, зачем в апреле, приезжай на майские праздники, вероятность поймать заинтересованные лица гораздо большая.
– Нет, Света Копылова может принять меня в апреле.
Я не знал, кто такая Копылова, и не догадывался еще, что она впоследствии станет одним из самых любимых моих соавторов, поэтому возмутился.
– А что, ты считаешь, что Копылова круче меня?
Петр растерялся и сказал, что приедет на майские. А у меня на майские были заделаны гастроли в Карловы Вары, поэтому я должен был вернуться в Москву 3 мая. Но, как порядочный человек, я узнал, что в варьете «Тройка», что в гостиничном комплексе «Орленок», будет сниматься праздничное шоу с участием целого ряда известных исполнителей. Я съездил в «Орленок» и за 25% от стоимости сумел забронировать номера Петру и его свите. Рассудил так, что удобно жить и «шерстить» Москву в одном месте. Обо всем этом я и доложил в N-ск.
Весенние Карловы Вары… Цветущий и благоухающий город, упоительный воздух, пиво, которое можно пить бесконечно, не уговаривая себя остановиться, нарядная толпа, в которой русская речь так же естественна, как и чешская; знакомые, которых встречаешь почему-то только за границей, и, конечно, удивительная легкость в душе, когда не нужно решать вопросов бытия. Инерции этого ощущения обычно хватало на несколько дней московской жизни. В этот раз, дабы не смазывать своих курортных ощущений, я хотел всплыть на поверхность через день после возвращения домой. Я знал, что Петр прилетел, но он же не один прилетел – с ним еще двое… Но блажен, кто верует. Автоответчик на моем московском телефоне под завязку был забит воплями Петра.
– Вячеслав, вы где? Я уже второй день в Москве!!!
И мне стало стыдно. Стыдно, что я здоров, стыдно, что я достаточно успешен, стыдно, что вернулся из Карловых Вар, обпившись лечебной минеральной водой. И я позвонил ему в гостиницу, а затем поехал туда, чтобы провести самодеятельную экскурсию по Москве. Но, оказывается, я нарушил планы делегации из города N-ска. Они собрались посетить Свету Копылову. Я спросил:
– Были вчера на съемке в «Тройке»?
– Да, были.
– Показали какие-то стихи кому-нибудь?
– Нет, а как мы без вас?
Я понял, что процесс «шерстения» столицы не обойдется без моего участия. Посмотрев на неубедительное лицо сопровождающего и его спутницы, я понял, что эти ребята рассматривают поездку в Москву, как возможность «на шару» оторваться и как на неожиданно свалившееся приключение. Я тяжело вздохнул, но подумал, что волшебные ароматы Карловых Вар вернуть в душе не удастся.
– Хорошо, вечером встречаемся, чтобы пойти на съемку.
Встретились, пошли… Я попросил у Петра тексты, к предполагаемым в будущем шлягерам. Их было около десяти. Песни о любви поэту явно не дались. Во всяком случае, наша песня о доме, где описывались обычные человеческие ценности, та, которую мы совместно придумали полгода назад, была явно удачнее. Не знаю, почему, вернее, догадываюсь, почему так получилось. Скорее всего истории и чувства, которые Петр еще не испытал, получились на бумаге слащавыми и фальшивыми – этакие сладенькие сопельки. Я попытался робко это объяснить Петру, но он меня не услышал. Мы пришли за кулисы. И Петр заявил мне, что хочет прочитать перед камерами стихи о Москве. Пообещав попробовать решить этот вопрос с редакторами, я удалился в артистическую.
– Вячеслав, мы готовы это прочитать сами, – сказали ведущие, – но пойдет ли это в эфир, решаем не мы.
Вернувшись к Петру и его спутникам, я рассказал о результатах своего похода.
– Нет, читать буду только я, – был ответ молодого поэта.
Я развел руками… Дальше, поразмыслив, кому бы показать стихи N-ского поэта, которые могут стать основой для будущей песни, выбрал две жертвы – Михаила Шуфутинского и Людмилу Рюмину. Не помню, что я плел, но экземпляры стихов были оставлены в двух грим-уборных. На душе было тоскливо и было какое-то ощущение неправильности того, что я делаю. Скорее, следуя внутреннему импульсу, чем разуму, я вернулся в комнату к Шуфутинскому:
– Миша, извини, я переложил свои проблемы на твои плечи, не бери в голову, я сам разберусь во всем… Еще раз, извини…
К Рюминой я не успел подойти с извинениями, и она уже сердобольно объясняла Петру, почему эта песня ей не подходит. Первая попытка «пошерстить» Москву провалилась. Оказывается, Москва не только слезам не верит, но и не любит, когда ее против шерсти… Мы разошлись по домам.
На следующий день у меня были какие-то дела, и я отпросился у Петра и его секьюрити до послезавтра. Но как я был наивен! Вечером, когда я вернулся домой, то обнаружил n-чан в своей квартире в полном составе. Жена мрачно блеснула глазами и отправилась в спальню. Как выяснилось, Москва и в этот день не сдалась на милость победителям, хотя, может, она, то есть Москва, и не знала, что ее победили. Я чувствовал себя неуютно от этого «бессмысленного» упорства столицы. Что-то похожее на то, будто бы я для дорогого гостя пригласил девушек, которые по законам гостеприимства должны ублажать его, а они… Как-то не так провел я политработу на ниве творчества.
– Вячеслав, вот вы говорили, что вам понравилось одно из присланных мной стихотворений и что вы написали новую песню.
– Да, – ответил я, судорожно вспоминая, где же лежит стопка стихов Петра. Слава Богу, вспомнил. Я вытащил из ящика стола стихи, взял гитару и с ходу с листа придумал и спел одно из стихотворений. Что получилось, я не помню, но помню впечатление и почти «ритуальный танец» Петра в инвалидной коляске. Он был в восторге и рассуждал о месте нашей песни в грядущем хит-параде.
– Слава, заканчивайте, Пете надо спать. Он прилетел с востока и там сейчас глубокая ночь, – был тактичный приговор моей жены.
Я немного покочевряжился и вызвал такси, пообещав завтра устроить экскурсию по Москве.
Меня откровенно начали напрягать мои миссионерские обязанности, но я понимал, что вляпался, и не знал, как мне выкарабкаться из этой истории, сохранив лицо.
Ночью, часа через два – два с половиной раздались телефонные звонки, и автоответчик голосом Петра начал требовать, чтобы я снял трубку.
– Я умираю, Вячеслав, помогите мне, – взывал автоответчик.
– Лежи, – молвила жена, – и не снимай трубку. Если ты ее снимешь, то рванешь его спасать… У него есть этот парень с девушкой, они для этого и приехали…
Я послушал женщину и делать наоборот не стал.
В 17.00 следующего дня я в автомобиле ждал своих сиятельных гостей, чтобы покатать их по столице. Москва тогда еще не была знакома с пробками, и мы поехали.
– Хотите ли вы попасть на Ваганьковское кладбище и поклониться Игорю Талькову, Владимиру Высоцкому, Андрею Миронову?
Ответ был положительным. Но когда мы подъехали к воротам Ваганьковского, последние посетители покидали кладбище, и туда никого не пускали. Я подошел к пьяненькому охраннику, дал ему денег, и он согласился пустить нас и даже, узнав меня, обещал показать еще что-нибудь интересное. Во время экскурсии, а Петра его сопровождающий вез на коляске, охранник проникся к нашей компании и хотел вернуть мне деньги. После небольшого препирательства решили деньги отдать Петру.
– А хотите я вас отведу к могиле Есенина?
– Конечно, хотим.
– Только там до сих пор после закрытия кладбища тусуются бомжи. Представляете, до сих пор люди на могилке оставляют водку, закуску, и даже лафитники там есть…
Мы подошли к могиле Есенина. Встали, помолчали… И вдруг, наверное, поняв, что мы не из милиции, из-за кустов, из-за соседних памятников вышло несколько человек: мужчины и женщины. Не очень трезвые, но в сознании, колоритно одетые и совершенно неагрессивные… Они узнали меня и спросили, кто со мной… Я рассказал, что это Петр – поэт из города N-ска.
– Почему вы здесь? – спросил я.
– А где нам быть? А потом здесь можно что-то съесть и выпить. Знаешь, на Ваганькове, рядом с Сережей мы себя еще чувствуем людьми.
И вдруг этот человек начал читать стихи Есенина. И, читая, он преобразился, и мы забыли, что это бомж, что этот бич (бывший интеллигентный человек), и в конце стихотворения зааплодировали. Наш чтец скромно поклонился. Затем он взял бутылку водки на могилке, разлил по посуде и предложил выпить.
Я отказался, сославшись, что за рулем. Остальные, не помню пил ли Петр, пригубили за Сережу.
– А Петр нам может что-то прочитать?
– Хорошо, – сказал он.
Он начал читать. От волнения он заикался, и у него появился нервный тик на лице. Я уже отошел от чтения бомжа и наблюдал за происходящим взглядом постороннего. Это была нереальная сцена, которая украсила бы фильмы Хичкока. Наконец наш импровизированный концерт окончился.
– Ну что, по коням?
И мы отправились в путь, поблагодарив обитателей кладбища за неординарное приключение. Следующим пунктом моей экскурсионной программы была смотровая площадка на Ленинских горах.
Страшный дождь с грозой обрушился на Москву и на мою машину, когда мы добрались до места. Я плел что-то про удивительные виды, которые открываются… А дождь не унимался.
– Вячеслав, завтра мы должны собрать творческую интеллигенцию страны, и я им почитаю свои стихи.
От неожиданности я растерялся, а потом, даже помня о проблемах здоровья Петра, вскипел:
– Откуда это, интересно, я смогу собрать творческую интеллигенцию? Завтра, если хочешь, смогу тебе устроить встречу со своим соавтором А. Смогулом.
– Хорошо, завтра со Смогулом, а потом с интеллигенцией.
Я выиграл время…
– Договорились, сейчас звоню Смогулу, – сказал я и набрал номер Александра.
В двух словах я объяснил ему ситуацию, и мой друг неожиданно резко ответил:
– Славóк, знаешь, я этих Ломоносовых, которые с рыбным обозом приходили покорять Москву, сколько видел?
– Он способный…
– А я неспособный? Я вообще светоч грез твоих…
– У него проблемы со здоровьем…
– А ты помнишь, что я инвалид первой группы по зрению? У него есть кто-то в Москве?
– Есть, Света Копылова.
– Кто это?
– Актриса Театра Маяковского и поэтесса.
– Пусть она его усыновит… А ты забей на это. Я тебя не узнаю… Короче, завтра пусть он мне звонит, и я ему, как инвалид инвалиду, все объясню. – Под аккомпанемент дождя Смогул поставил точку, вернее, даже тройной восклицательный знак.
Я отвез гостей в гостиницу и взял очередной тайм-аут, так как назавтра должна была состояться встреча двух поэтов, двух гениев, двух современников.
Что они уж там решали, как объяснялись, ни Петр, ни Смогул мне не поведали. Единственная фраза Смогула была: «Он все понял».
А я в этот день встретился со своим соседом по даче Казбеком. Он был моложе меня, но мудрость, а может, он просто другие книжки читал, подкупала меня в нем с первого дня знакомства. Он ингуш и мусульманин по вероисповеданию. На вопрос Казбека, почему я такой загруженный, я поведал свою историю про «шерстение» Москвы и пожаловался, что дискомфорт в душе полный.
– А знаешь, почему?
– Почему?
– Потому что ты со своей дурацкой благотворительностью подменяешь Бога.
– Не понял…
– А что тут не понять? Понимаешь, его проблемы со здоровьем – это его наказание за грехи в прошлой жизни, и он в это свое пришествие должен их отработать, а ты все время пытаешься облегчить его существование и поэтому Аллах тебя все время «бьет по рукам». Общайся с ним как с нормальным человеком, забудь, что он инвалид. Ты же своему Смогулу не засыпаешь все лужи, когда он к нам приезжает на дачу, и помогаешь ему эту лужу обойти, когда он тебя попросит. Вот у вас в христианстве милостыню дают, кто просит, помогите, ради Христа…
И мне полегчало… И не мучил я больше песнями на стихи Петра редакторов и зрителей. А песня про «дом» до сих пор у меня в репертуаре, и я ее иногда пою в концерте.
Когда я Смогулу прочитал эту главу и сказал, что получилось окончание в главе про него такое же, как в главе и про Петра, Саша сказал:
– А чего? Ты же действительно поешь, а не показываешь фокусы, а песня про «дом» и вправду неплохая.
– А может быть, зря его мы тогда так?
– Да нет, он бы приехал к тебе и стал бы с вами жить. Танька была бы счастлива. И запомни, Слава, инвалидность не орден Ленина и не нужно на ней всю жизнь ездить.
Охота
– Вчера я наткнулась на одну передачу про охоту… Про охоту где-то в экваториальной, а может быть, даже Южной Африке, – сменила тему нашего разговора хорошенькая подруга моего сына… Разговора, который к этому моменту начал изрядно буксовать. – Представляете, очень благообразный дядечка с седой бородой, с отточенными манерами и явно уверенный в себе утверждал, что охота на редких, порой даже вымирающих животных, которую он называл трофейной, есть благо.
– Для кого? – спросил я.
– Вы будете смеяться… Для этих самых вымирающих животных.
– Как это?
– А вот так это…
– Объясни, почему…
– А потому, что на отстрел редкого животного надо купить лицензию, которая стоит очень больших денег, и деньги эти потом идут на сохранение этого вида.
– Бей своих, чтоб чужие боялись?
– Ну да, что-то в этом роде.
– А ты говоришь – баранина!
Этот разговор застрял у меня в памяти, и я задумался, почему же я не стал охотником, при всем том, что мужики весной и осенью сбиваются в стаи и отправляются на охоту. Действительно, почему? Вроде все вокруг охотники, и отрыв от семьи в компанию сугубо мужскую выглядит довольно привлекательно. Потом древний инстинкт добытчика, который восходит к забиванию мамонта камнями всей первобытно-общинной стаей. Думаю, что все помнят эти картинки из «Истории древнего мира»? А кайф принести кусок мяса, которым семья будет кормиться пару недель! Ну да, сейчас со мной делятся друзья, и время от времени на столе бывают котлеты с добавлением лосятины или кабанятины. И порой я слышу брюзжание жены с кухни, когда она ощипывает и потрошит дикую утку, «в которой и есть-то нечего». Но это сейчас, когда обзаводиться новыми привычками не резон. А тогда…
Что, не было вокруг меня охотников? Да, были… Больше того, матушка, не знаю, почему, в детстве, когда я уже научился читать, подсовывала мне книжки про всякие путешествия и открытия и про природу. И если книги про Амундсена, Нансена и Пржевальского, прочитав, я сдавал в библиотеку, то книга Виталия Бианки «Лесная газета» была собственной и практически настольной. И вот в этой книге я прочитал очень много информации о животных и рыбах «родного края». А еще в ней была рубрика, которая называлась записки (может, спутаю имя) Сысой Сысоича, старого охотника. И вот этот самый Сысой уложил в еще незашлакованный мой мозг сведения, как подбираться к глухарю, чтобы он тебя не услышал до рокового выстрела. И как нужно замереть, когда ария этой голосистой красивой птицы прекратится. И как должна вести себя в этот момент твоя собака. В. Бианки повествовал, как можно дурить мужскую особь утки, то есть селезня, выдувая из специально сделанной или купленной свиристелки любовную песнь утки-самки. И как мужики, то есть селезни, ведутся на это и в итоге попадают на стол в качестве, понятно каком. Ну, много еще каких советов, чтобы выследить, подстрелить, а потом и уестествить. В общем Сысой Сысоевич информировал меня. А я, раз был информирован, значит, был вооружен. Конечно, я и не задумывался в то время о моральных сторонах охоты и о том, что во время оной происходило отнятие чьей-то жизни. Тем более что газеты, бывшие рупором нашей партии и правительства, призывали истреблять, к примеру, волков, так как те уменьшают колхозное стадо и поголовье зайцев в лесу. Правда, потом передовые технологии выращивания злаков и прочих агрокультур, потребовали удобрять поля разными химическими удобрениями. Удобрили… И потравили зайцев. Волкам жрать стало некого, и волки подохли. А заодно удобрения попали вместе с дождями в ручьи и реки – сдохла и рыба. Но я не об этом…
Охота… Первый муж моей сестры Слава Фраучи, который научил меня игре на гитаре, был еще и страстным охотником. И вскоре после женитьбы он приехал в Занино отдохнуть, покупаться, походить за грибами и уже в конце августа поохотиться. У него был охотничий билет и все-все-все, чтобы отправиться пострелять тетеревов. Не было у моего шурина только охотничьей собаки.
– Слава, пойдешь со мной на охоту?
– А как?
– У меня нет собаки, ты будешь гонять по кустам и клеверному полю и поднимать, как борзая, тетеревов, а я их буду отстреливать.
Я мечтал стать охотником, но понимал, что без процесса ученичества осилить это мне не удастся. Какое-то время придется побыть подмастерьем. Тем более что первые опыты ловли рыбы и в Вашане, и в Большой Луке были таковы, что собирал рыбу, пойманную мужиками. И лишь потом мне рассказали, как это делать, и позволили бок о бок с ними заняться рыбалкой.
Мне было пятнадцать лет, и я согласился, выторговав себе право на пару выстрелов. Моя мама, узнав куда два Славика – старший и маленький – отправляются, запричитала, пытаясь меня остановить.
– Нина Ивановна, вы не беспокойтесь, часа через четыре мы вернемся, надеюсь, кого-нибудь подстрелим.
– Главное друг друга не подстрелите.
Материнское сердце… Мама, наверное, чувствовала, что с оружием лучше не шутить. А мы и не шутили. В тот раз все обошлось.
В качестве собаки я был хорош. Я поднял на крыло пять птиц, изрядно поцарапавшись и устав лазить по кустам и оврагам. Два тетерева и голубь были нашей добычей. Я заслужил поощрение.
– Ну что, в консервную банку стрельнешь? – спросил мастер.
– Давай в грача?
– Давай.
Мне зарядили ружье, предварительно объяснив, как целиться и как плавно нажимать на курок. Грача я подстрелил.
– Я хочу забрать его домой. Этой мой первый трофей.
– Только я его готовить не буду.
– Я бабушку попрошу…
– Только я и есть его не буду.
– Почему?
– Ну, я же охотник со стажем. Извини.
– Извиняю. Спасибо за выстрел.
– Тебе понравилось?
– Не знаю… Я же его не выслеживал, просто грохнул.
– Ты – молодец. Правильно относишься к охоте. Из тебя может получиться хороший охотник.
Дома Слава приготовил дичь в чугунке в печке со сливками. Было очень вкусно.
– Маленький, а ты лапшицу с грачом-то будешь есть? – спросила бабушка.
– Конечно, – ответил я.
– А то я все утро щипала его.
Мне налили суп. Все отказались есть, кроме мамы. Я похлебал бульончика чуть-чуть, пару раз ткнул вилкой в мясо. Мое лицо, видно, не выражало восторга, и бабушка сказала:
– Ладно, чего уже там, не ешь – я его поросенку отдам.
А осенью Вячеслав Рудольфович отправился на охоту со своими друзьями охотниками. Поехали вроде как на барсуков, в общем какое-то браконьерство. И на охоте погиб один из парней… Был выстрел на шорох.
Через два месяца был суд. Мой шурин сильно переживал и уже после вынесения приговора его товарищу он как-то серьезно поговорил со мной и убедил меня не брать в руки оружие и не становиться охотником. В это же время из Занино пришла весть, что мой друг-одногодка Витя Сульков погиб в результате выстрела в голову из охотничьего ружья. Взрослые мужики возвращались с охоты и решили пошутить – прицелились из ружья, а оно было заряжено. В голове Вити было двадцать дробинок, и, как нынче говорят, ранение было не совместимо с жизнью.
Да, знать, моя мать не зря волновалась, когда мы отправлялись на охоту. Материнское сердце не обманешь.
И я перестал даже думать об охоте и по возможности не брал в руки оружие. Не совсем, конечно… Всякие нормативы ГТО, стрельба в тире при сдаче нормативов – да, а так… Причем часто, когда бывали гастроли в частях нашей армии, меня, да и моих коллег, пытались «угостить» возможностью пострелять. Я отказывался… А когда я узнал слово «пацифист», то под свои действия я подвел еще и теоретическую базу. А пострелять предлагали из пистолетов, винтовок и автоматов. Да что там… В Афганистане предлагали произвести с вертолета запуск НУРСа (неуправляемый реактивный снаряд). Отказался. А однажды ко мне подошел со словами благодарности майор:
– Хочешь бахнуть из «Града»?
– Куда?
– Да по кишлаку…
– Там же люди…
– Да это – душманы.
– Не, не буду.
– Хорошо, тогда по зеленке…
– А в чем кайф-то?
– Ну, во-первых, по ощущению, по грохоту, как запуск спутника… А во-вторых, стоимость одного выстрела – «Жигули».
– Нет-нет… Уволь…
– А зря.
Может, и зря – ведь это как, наверное, «Жигули» просадить в казино. Правда, там есть шанс выиграть. А здесь?
Но война – это охота на людей и большая вероятность погибнуть самому. А новые технологии охоты двадцать первого века…
После шефского концерта на Камчатке для военных мне и нашей команде дали возможность слетать на вертолете в Долину гейзеров. Но погодные условия были таковы, что мы полетели в сторону Охотского моря. Была осень, и лососевые, по-моему, кета, шли на нерест. И я попросился в кабину пилота посмотреть вниз в надежде увидеть медведей, ловящих рыбу. Но мишки почему-то нам не попадались. И вот мы обнаружили трех красавцев – оленей.
– Хочешь я тебе покажу, как охотятся с вертолета и почему это считается браконьерством? – спросил меня пилот.
– Покажи.
Летчик спустился на высоту 10–15 метров над землей, зависнув над этими животными. Испуганные грохотом движков вертолета олени побежали по долине между сопками. Вертолет, не отпуская их из виду, летел и громыхал над ними. После трех или четырех кругов красивые животные, выбившись из сил, обреченно встали внизу под нами.
– Смотри, мы сейчас можем спуститься еще ниже и просто расстрелять их в упор.
– Да, – развел я руками.
Еще одна поездка в Татарию. Очень приятные гостеприимные хозяева, и мы отправляемся на дачу, в заповедные места. То ли это были плавни, то ли приток Камы. В общем, много воды, добраться можно только на лодке. Угощают какой-то экзотически чистой едой и питьем. Масло, сбитое вручную, мед, судаки, стерлядь копченая и икра стерляжья. Короче, гастрономический разврат. И я, дабы показать себя, с одной стороны, благодарным гостем, а с другой – бывалым путешественником, отведывавшим и не такое, вдруг рассказываю:
– А знаете, меня однажды угостили очень вкусным, черного цвета отварным мясом, предложив отгадать, что за дичь, которую подали на стол.
– И чье это мясо было?
– Бобра.
– О, так мы тебе это устроим.
– Как это?
– Сегодня ночью ты с нами идешь на отстрел бобра.
– Я не стреляю.
– А тебе и не надо, будешь держать прожектор.
– Но бобер же в «Красной книге», – с надеждой проскулил я.
– Мы знаем… Но их из-за этого запрета на отстрел здесь столько развелось, что они в эту «Красную книгу» уже не помещаются.
И вечером меня повезли на охоту. Вскоре по характерному плеску воды, мы поняли, что это где-то рядом. Я посветил в сторону звука. Мы увидели бобра. Раздалось два выстрела… Зверь нырнул и ушел в камыши.
– Я его достал, сейчас он вынырнет, и я его возьму.
У меня почему-то возникла ассоциация с маленьким ребенком, на которого идет охота. И я начал симулировать болезнь.
– Ребята, что-то башка раскалывается, надо капотена сожрать, а то сдохну.
Хозяева были тактичны, либо я был хорош как артист… Меня отвезли в коттедж, пообещав взять бобра без меня.
На следующий день снова было застолье. Меня спросили, когда подавать бобра. Я что-то плел про то, что не смешиваю мясную пищу и молочную и что бобра лучше потом. И как-то все это сошло на тормозах на нет. И я не узнал того ли бобра добили или нового и тешил себя обманом, что никакого бобра не было вообще.
Знаете, я не буду заниматься морализаторством и выносить свой вердикт охоте, тем более что иногда тех, кто слишком зарывается, Бог наказывает, – помните падение вертолета в Иркутской области, когда начальство охотилось с борта на туров, тоже, кстати, запрещенных к отстрелу. Но я надеюсь на нормальное регламентирование охоты, если уж без нее никак нельзя, тем более что сам переходить в вегетарианцы пока не собираюсь. И никакой Пол Маккартни мне не указ.
Как я не стал заслуженным артистом Чечено-Ингушетии
Это было, по-моему, году в 1985-м. Я к тому времени уже приобрел кое-какую известность в стране, и меня и зрители, и административные работники выделяли из состава нашего ансамбля. Благодаря нескольким телетрансляциям песня «200 лет» стала всенародным шлягером, и я редко, но все же отрывался на телевизионные съемки.
Конечно же, это не добавляло радости моему руководству, так как в репертуаре ВИА «Пламя» мои песни несли определенную нагрузку, и моему шефу приходилось что-то менять в привычном течении концерта. Но первый удар был им пропущен, и я старался развить свой успех, хотя уйти из ансамбля, хлопнув дверью, я был не готов.
Съемки и вообще любые акции вне «Пламени» вносили в мою жизнь определенный, как сказали бы сейчас, экстрим. Я, как пацан, мечтал о свободном полете, но было страшно оттолкнуться от гнезда и полететь. Честно говоря, когда я возвращался в родные пенаты со съемок, то мне давали понять, что я такой же, как все, и мое место у… И нужно сказать, что в этом промежуточном состоянии я пробыл около года.
Первый мой магнитофонный альбом «Саквояж» разошелся по стране с умеренным успехом, и «купцы» продавали его как группу «Саквояж». Наверное, так было выгоднее. Никто из слушателей не связывал мое имя с песней «200 лет». И, несмотря на бешеную популярность песни, мое имя было в тени. Во всяком случае, никто не шел на концерты «Пламени» услышать и увидеть того парня, который… Хотя, может, я и ошибаюсь. Но для того, чтобы сварить суп, нужно его варить, а еще нужно время. Не помню, мог ли я сказать о себе тогдашнем, что умел ждать. Скорее я жил по принципу – сделай все, что от тебя зависит, и вручи свою судьбу провидению. В принципе я не сильно рисковал. Если бы моя самостоятельная инициатива не принесла успеха, то работа в Росконцерте от меня никуда бы не делась.
Так вот… Это была поездка на Северный Кавказ. Город Грозный, гостеприимная публика, успех наших концертов, и никто не думает о том, что случится здесь через некоторое время. Кавказское гостеприимство… Невольно собираю информацию о том, что Ю. Антонов с ансамблем «Аэробус» работает от Грозного и легендарный администратор Мусса сделал для него звание и очень выгодные финансовые условия для работы. Волей-неволей приходят мысли, а что, если вдруг… И ближе к окончанию наших концертов в столице Чечено-Ингушетии ко мне подходит администратор местной филармонии и сообщает, что директор приглашает меня к себе на дачу в горы. Я даю согласие, но прошу разрешения, чтобы мне было комфортнее, взять с собой в гости своего товарища Валеру Белянина.
Мы, естественно, прихватили гитары и после окончания концерта на автомобиле поехали ночью куда-то в горное ущелье. Хваленое кавказское гостеприимство в полный рост – с тостами за гостей и за родителей, за успехи в работе и за каждого отдельного участника застолья. Но что поразило… За столом были одни мужчины, а женщины появлялись только для того, чтобы сменить посуду и принести с кухни очередное кушанье. Фраза «… а женщины на кухне» до этого вечера мною воспринималась как своего рода анекдот. Я не задумывался, что это многовековые устои. Наступило время спеть, и мы с Валерой что-то довольно складно спели. Во время нашего пения я заметил, что дверь на кухню была приоткрыта, и в эту щель я увидел, как женщины слушают московских артистов. Все-таки в меня в советское время крепко вбили понятия интернационалиста…
Когда же мне дали слово, была мысль поднять тост за милых дам. Но, подумав, я сказал, что негоже приходить в дом со своим уставом, но тем не менее, пользуясь правом гостя, я бы хотел пару песен спеть для женщин, которые нас так вкусно накормили. Мужчины с некоторой неохотой позвали женщин в наш зал, а может быть, и с охотой, потому что это я нарушил традицию, а им было в самом деле приятно, что для их женщин специально пели. Мне кажется, что никогда ни до, ни после этого случая, я не видел более благодарных слушательниц.
В конце нашего застолья меня отозвали на разговор и действительно сделали достойное предложение. Я попросил время на обдумывание ситуации, но жизнь дальше так закрутилась, что ни я, ни представители Грозного уже к этому разговору не возвращались.
Верка
Нам живется весело и сладко. Это только слухи, а на деле, Мы в плену дешевого достатка, А душой и сердцем оскудели. М. ЖуркинI
В нашем доме она появилась неожиданно. Однажды ее привел с собой мой приятель Андрей, с которым нас связывала работа над одним творческим проектом. Андрей был талантлив, искрил идеями, и его приходилось постоянно заземлять и приземлять, поскольку зачастую в своих фантазиях он опережал время, а что еще страшнее – меня. Я, наверное, его ревновал, так как звание «короля дворников» ускользало из моих рук. До появления Андрея я безраздельно царствовал в нашем окружении и был самым, как бы сейчас сказали, креативным персонажем. Но, собственно, я увлекся Андреем, хотя собираюсь вам рассказать о его жене. А Андрей на первых порах был не более чем средой обитания нашей героини, которая была одновременно этакой чеховской Душечкой, а с другой стороны стойким оловянным солдатиком. Так вот однажды Андрюха пришел к нам в дом не один, а со спутницей.
– Знакомьтесь, это моя жена Вера, – представил он ее нам.
Она была хороша собой – тонкие черты лица, копна вьющихся черных, как смоль, волос, отсутствие прически можно было трактовать и как дизайнерский изыск высокого полета. Стройная фигура, упакованная в тертые джинсы и какую-то кофтюлю, которые не подчеркивали ее природные качества, а скорее как бы смазывали их. И вообще Верка тех дней скорее стеснялась своей внешности, чем несла ее. Знаете, это было похоже на поведение девочки-подростка, у которой появились грудь и разные там отличия, именуемые в учебниках вторичными половыми признаками. И вот девочка, стесняясь собственной красоты, начинает сутулиться. Чаще всего это вскоре проходит. У Верки… Она (а мы, несмотря на разные перипетии нашей жизни, не теряем друг друга из виду уже скоро тридцать лет), как мне кажется, отражала в себе образ той женщины, которую хотел видеть ее спутник на данном этапе жизни.
Верка вошла в квартиру и практически поселилась в ней. Она стала своей – легкой, отзывчивой, умеющей бескорыстно любить, со своими вечными проблемами, которые решались ею вместе с моей женой или на нашем расширенном семейном совете, в который включался и я. При всем при этом Верка умудрялась никого не загружать собой. Даже когда ей было порой тяжело, она не делала нас заложниками совести.
Я уже говорил о Душечке, и, естественно, основные проблемы возникали у нее с Андреем. Как он умудрялся так ее тиранить, для меня оставалось загадкой. Очень мягкий, интеллигентный, предупредительный парень, правда, на целую эпоху моложе меня, приходил к нам в дом, как будто согласовывая свой график посещений с Веркой. Чаще всего он приходил один, и мы запирались на кухне решать свои вселенские проблемы.
Андрюха как-то экстремально отмазывался от армии и, как следствие, крепко подсел на стакан и что-то там нарушил в обмене веществ. И пристрастие к алкоголю явилось, как я думаю, основной причиной их постоянных разборок. Ничего не помогало. Верка выплакивалась на плече моей жены, иногда приходил я, пытаясь утешить, а заодно и оправдать Андрея. Причем я видел, как она отчаянно ищет возможность простить его в очередной раз после последней свары.
Часто Верка приходила к нам со своей маленькой дочкой Катенькой, которую они произвели с Андрюхой, еще будучи студентами историко-архивного института. Если Дрюня, так мы звали Андрея, бывал чрезмерно агрессивен, то Верка оставалась у нас ночевать.
Когда-то познакомившись с Андреем на каком-то сейшене, мы оказались неожиданно для самих себя соседями. Наши окна выходили в один двор и смотрели друг на друга. Так вот Андрей часто, чтобы вернуть беглянку домой, звонил к нам в квартиру, требовал к телефону Верку и сообщал ей, что он стоит в проеме окна. И если она тотчас же не вернется, он сделает шаг во двор. Двенадцатый этаж – это не шутки… Верка собирала свои манатки и бежала домой. Вскоре это стало повторяться с удручающим постоянством. Мои попытки поговорить с Андреем по-мужски оканчивались фразой: «Не лезь в мою жизнь». Андрюхина болезнь прогрессировала, Верка все более сутулилась.
И однажды они с Катенькой ушли… Ушли к ее родителям, а Андрей… Ну что, Андрей? Пил. Я попытался поставить на кон нашу дружбу. Если ты, то я… И ничего… Я очень хорошо помню его пьяный взгляд, когда он провожал меня за дверь. «Когда-нибудь я буду говорить себе, что я что-то не доделал в этой жизни для Андрея», – мысль, которая застряла у меня в лифте в подъезде его дома…
Я улетел на юг. У меня была какая-то работа, которую летом я обычно совмещал с отдыхом. 19 августа я вернулся домой. Раздался телефонный звонок, я снял трубку.
– Здравствуйте, я мама Андрея. Он вас очень любил, но пять дней назад его не стало. Мы его уже похоронили.
– Что случилось?
– Никто ничего не знает… Его нашли мертвым под окнами его квартиры. Может, бандиты, может, самоубийство, может, еще что? Не нужно никаких слов, помяните Андрея. До свидания.
Я позвонил Верке. Она сказала, что знает о трагедии, но что сообщили ей об этом уже после похорон.
– Ни я, ни Катенька не простились с Андреем. Когда ты его видел последний раз?
– Два месяца назад…
– Он что-нибудь говорил обо мне?
– Говорил… Но больше говорил о себе, что он всем еще докажет и что ты еще пожалеешь.
– О чем пожалею? Да я и так все время жалею… Ты помнишь, как он меня, да, наверное, всех нас пугал своими походами на подоконник?
– Как это забыть?
– Наверное, накликал беду.
– А помнишь его любимую песенку?
Звонко лопнуло стекло, Кто-то выпрыгнул в окно, Не считая этажи. Надоело дяде жить. Что такое, шум и гам, Ох, попал в гражданочку! В путь-дорогу к праотцам Веселее парочкой. Будут дядю хоронить, Будут плакать, но хулить: – Кто же это, дядя, Прыгает, не глядя?Милиция, как обычно, работала ни шатко ни валко, да я еще думаю, что высокопоставленный папенька Андрея не захотел поднимать шум вокруг этого дела. Это могло бросить тень на его карьеру. Выгоднее было, чтобы Андрюха ушел в результате несчастного случая.
II
Верка застыла в оцепенении. Ее спасали всем миром. Все ее друзья и друзья Андрея, все наши друзья, которые ее полюбили, а не полюбить ее было невозможно, старались отвлечь от дурных мыслей, старались полностью занять ее время, чтобы некогда было оставаться наедине со своими проблемами. И она выстояла. Стойкий оловянный солдатик, она снова начала улыбаться. Катенька стала для нее «светом в оконце». А вскоре она начала выходить в «свет». Ее младшая сестра Татка – хорошенькая, умненькая, общительная, из той категории женщин, что имеют море поклонников, несмотря на то, что не дотягивают до признанных красавиц, начала выводить Верку в люди, в московскую «Рок-лабораторию», на концерты и на выставки.
Поклонником Татки был Александр Липницкий – бас-гитарист группы «Звуки Му», и Наталья приобщила Верку сначала к московскому рок-н-роллу, а потом перезнакомила со многими персонажами, постоянно тусовавшимися на концертах, проводимых под афишей «Рок-лаборатории». И Верка ожила. У нее появились воздыхатели. А один, его звали Валера, даже предпочел ее – Верку, покинув отряд ухажеров младшей сестры.
Что все-таки делает любовь с женщинами, даже если любит не она, а ее! Верка расцвела. После яркого и талантливого Андрея Валера выглядел приземленно. Но не мне судить о мужской привлекательности. Я думаю, в нем были стержень, заряженность на успех. А что еще нужно? Но ведь женщин не поймешь? А еще у Валеры была лысина, которой он стеснялся. Тогда еще не было принято брить голову, потеряв волосы на макушке или на лбу. Валеру это тяготило. Но отсутствие волос не мешало его успехам в бизнесе. Он успешно провел операцию с покупкой компьютеров в США и продажей в России. Быстренько стал миллионером и решил отправиться в United States, предварительно позвав с собой Верку и Катеньку.
Красивая, с горящими глазами Верка появилась в нашей квартире и сообщила новость о себе и о Валере. Она была вся в сомнениях, говорила, что по-прежнему любит Андрея. Мы долго ее убеждали, что Андрея не вернешь, что крепкое мужское плечо, что неизвестно, что лучше – когда ты любишь или когда тебя… Короче, Верка решилась. Она отбыла в США с Катюхой. Постоянные звонки из Нью-Йорка, а они поселились на Манхэттене, голос уверенной в себе женщины давал нам ощущение, что Верка счастлива.
А вскоре мы с женой отправились в Америку, в Сиэтл, к нашим друзьям. И решили заскочить к Валере с Веркой. Нас встретили в аэропорту Кеннеди на дорогом автомобиле и привезли в шикарный (ну, может, по нашим меркам) дом со швейцарами и охраной. Нас поселили в квартире на 10 этаже, а «молодые» обжили апартаменты на 29-м. Вид ночного Манхэттена был потрясающим. Верка сполна отдавала «долги» (я имею в виду моральные) моей жене за бесконечные ночные разговоры об Андрее и «что делать». Они с утра до вечера пропадали по каким-то парикмахерским, салонам красоты и шопингам. Кстати, Верка стала красоткой. Написал «красотка» и понял, что она действительно стала похожа на Джулию Робертс. Короче, «бабы наши» загуляли. Богемные заведения по вечерам, а потом взахлеб – рассказ о том, как они попали в гей-клуб и как там people не мог понять, что они делают в этом заведении.
– А я им тут и говорю…
В общем, чума. А я проводил время со своим друганом Сашей Тарелкиным, который меня знакомил с рок-н-ролльным Нью-Йорком. «Hard-rock cafе», стадион «Shea», где пели битлы. Для меня прикоснуться к этому было в высшей степени интересно. А когда выпадало время поболтать с Валерой, мы вели обстоятельные разговоры о бизнесе.
– А как ты зарабатываешь здесь деньги?
– Я думаю…
– О чем?
– Я хочу найти возможность зарабатывать 1000% от вложения.
– С ума сошел? Весь мир счастлив, если есть 8%.
– Америка – страна сумасшедших возможностей.
Потом Валера рассказал о своем сотрудничестве с фирмой «Белый ветер», торгующей электроникой. Я предложил придумать какой-нибудь рекламный ход. Через некоторое время придумал ход, с использованием скрытой рекламы. Дескать, в песне, где фраза «Белый ветер» является шлягвортом, в песне о любви никто не обратит внимания, что публике навязывается торговый знак. Позвонили в Москву, объяснили, что сочинение песни, снятие клипа, размещение этого клипа на телевидении обойдется значительно дешевле, чем реклама самого торгового знака. Идея понравилась. Дали добро на сочинение песни, и на следующий день я спел Валере.
Белый ветер унес, Мои песни унес, Одинокий, как пес.Но, наверное, бизнес – это не мое. Когда я вернулся в Москву и позвонил в «Белый ветер», мне сказали, что их шефа застрелили.
III
Судьба вновь отвела меня от бизнеса, хотя я-то собирался в этом самом «Белом ветре» заняться своим делом – что-то придумывать и петь. Ну да ладно…
Верка… Мы улетели из Америки в Москву с ощущением, что у нее-то все надежно и стабильно и что Бог наградил ее красивой и счастливой жизнью. Но, видно, судьба сама выбирает, куда ей идти и когда свернуть с, казалось бы, безоблачной дороги. Формула о том, что в жизни за черной полосой следует белая, верна, наверное, для кого-то, но только не для нашей Верки. Цветовая гамма ее полос настолько разнопланова, что зачастую было трудно определить – что сейчас – полоса удачи или наоборот.
В следующий перезвон с Нью-Йорком мы узнаем, что Валера, Верка и Катя съехали со знакомой нам квартиры и поселились то ли в Супертрампе, то ли в Эмпайр-Стэйт-Билдинг… Короче, супердом, суперсоседи, суперсчастье и не знаем, чего еще хотеть. «Соседи – Мадонна и Майкл Джексон, правда, мы – значительно ниже, но все равно в одном доме», – кричала, захлебываясь от эмоций, Верка в свой американский телефон. А мы… А что мы? Мы радовались и боялись. Рассказывали о Веркиной саге друзьям и даже немножко завидовали ее безбашенному счастью.
– Как жаль, что мы не сгоняли в Атлантик-Сити. Это – класс, это – класс, класс… – кричала Верка.
– В следующий раз обязательно смотаемся туда с ночевкой.
Атлантик-Сити… Не знаю, как бы сложились мои взаимоотношения с «одноруким бандитом» и рулеткой. Скорее всего, никак. По отношению к игре я вел себя как конченый зануда – дав однажды зарок не играть, не играл. Хотя была ситуация, когда мне вместе с гонораром за выступление в казино дали еще стопку фишек стоимостью 200 долларов. Обменять на деньги их было нельзя (наверное, казино хотело меня завлечь игрой), и я решился. Поставил все на красное. Рулетка завращалась и одновременно задрожали ноги. Я проиграл… Но успел понять, что я – «заводной Парамоша» и лучше мне не начинать, и я до сих пор «не начинаю».
А ребята – Верка и Валера, судя по всему, зачастили в казино. Наверное, Валера стал игроманом… Я с тех пор его не видел… Короче, он спустил все деньги, что были у него. Об этом я узнал после долгого разговора моей жены с нашей американкой, причем она в основном молчала и слушала непрерывный монолог Верки.
Валера потерял все, они съехали из своих супер-пуперов, и он решил еще раз рискнуть, но на этот раз в бизнесе. Был взят кредит в банке, на него что-то было приобретено. При транспортировке в Россию товар застрял на какие-то веки вечные на таможне, приобрел некондиционный вид, и продать в России с прибылью его не удалось. Да что там с прибылью, вообще не удалось продать. Валера попал… И он ударился в бега. Его из виду потеряли все, в том числе и Верка.
IV
И она снова выстояла. Не знаю, была ли у нее кубышка с деньгами, как она жила в это время – тайна за семью печатями. Она очень не любила об этом периоде жизни рассказывать, и поэтому сложно даже приблизительно определить цвет этой полосы ее жизни.
Прошло, уж и не помню, сколько времени. Ну, наверное, и не так много. Снова звонок из Нью-Йорка, и в телефонной трубке, которую держала моя жена, слышно:
– Класс, ну просто класс, ты не представляешь… ты не представляешь… я его так люблю, и он… У меня ничего подобного никогда не было. Красавец, потомок царской семьи… Я так счастлива.
Когда разговор с Америкой был окончен, я узнал, что Верка снова влюбилась. Влюбилась, как никогда, как в никого, про такую любовь надо снимать кино. Он – каких-то голубых кровей, умница, красавец, Катьку любит и в постели хорош, как… ну, «сама понимаешь»… Мы сели за стол, открыли бутылочку вина и выпили за нашу удивительную подружку, за этого непутевого стойкого оловянного солдатика.
Самая яркая, отражающая все цвета радуги, полоса жизни Верки, может быть, самая безрассудная и самая счастливая, длилась около трех месяцев. Именно за это время испарились все сбережения и нашей Джульетты, и нашего вельможного Ромео. И тогда выяснилось, что они оба пустые и поставили на кон своей любви все свои наличные и безналичные. Любил ли он ее? Может, и любил, а может, был альфонсом, которого подвело чутье. Мы убедили убитую горем Верку, что он любил, но, что он не может, что он понимает, что она дорогая женщина и что она не для него…
Но, что самое удивительное, наша любимая подруга не озлобилась, она не закрыла створки своей души и вскоре, высушив «безутешные слезы», продолжила свой дрейф по жизни.
V
Татка, младшая сестра нашей героини (это, если кто забыл), тем временем успешно вышла замуж за «горячего финского парня» с каким-то итальянским именем и итальянской же внешностью. Звали его Марко. Он с любовью и удовольствием жил и имел с Россией не только бизнес-связи, но и вполне ментально мог сойти за русского. Правда, общение с ним было на английском языке, а так и выпить, и закусить, и спеть…
И вот, в эту трудную для Верки годину, Татка и Марко убедили ее, что уже пора становиться взрослой и пора принимать решения, соотнося их с жизненными реалиями. И пришло решение… Нашли Верке не очень молодого, не очень красивого, не очень… Ну, в общем, некласнного «финика», который был сражен небесной красотой нашей несравненной… Ярви, так звали этого специалиста по электронике, истекал всевозможными соками от вожделения и предвкушения. Телефон Марко через раз принимал звонки от Ярви с вопросом – ну, когда?
В общем, Верка сдалась. Стала законной женой, гражданкой суверенной Финляндии. Как безработной, а может, еще за какие заслуги, ей на карту переводилась определенная, порядка 1000 долларов, сумма. Катя училась в школе. И за все за это надо было жить с нелюбимым.
И она жила, чертыхаясь, ненавидя себя, но жила. Динамо-машина работала на полную катушку, но все уловки когда-либо кончаются, и однажды войска Ярви прорвали «линию Мажино» Верки, и она беспорядочно бежала с поля боя, вернее с супружеского ложа. Бежала, но не сдалась противнику.
– Таня, я не могу.
– Вера…
– Ну, ты же баба. Ну не могу, пойми…
– И что?
– А я знаю?
Вот такой содержательный диалог по телефону. Бедный Ярви. А Верка, как оказалось, могет не только в «горящую избу».
VI
Следующее всплытие подводной лодки под названием «Верка» из пучин жизни произошло в Канаде. Замечательный город Ванкувер. Отличная экология, неторопливое течение жизни, что «нужно еще человеку для того, чтобы…». И снова неземная любовь… Она вместе с Чаком летит в Москву.
– Давайте поужинаем, я так соскучилась. Слава, может, что-нибудь споет? Чак так любит рок-н-ролл.
– Нет, Катя уже взрослая, знает четыре языка. Служит в фирме, сейчас в командировке в Австралии.
Мы встретились. Отужинали в каком-то ресторане и поехали к нам домой. Женщины сплетничали о детях и подружках, а мы вели с Чаком неспешную беседу о рок-н-ролле. Потом открыли бутылку вискаря. Пили, как водится, за любовь, за женщин, за детей. Верка, которая, как я уже говорил, отражала в себе «сегодняшнего» мужчину, была спокойна и уравновешенна.
– Ну, спой чего-нибудь из старенького.
Я спел пару песен времен моего сотрудничества и Веркиного супружества с Андреем. Верка заметно взгрустнула, но это могла быть грусть и не по Андрею, а по тем нашим бесшабашным годам в Раменках.
Грусти было в меру. Чак высказался в том смысле, что, оказывается, и в России умеют петь и играть. Я сделал соответствующее выражение лица.
– А как насчет травы? – спросил Чак.
– Да никак. Я и сигареты не умею курить.
– И что, мы не выкурим по палочке веселящего табака?
– Чак, – с укором сказала Верка, – в этом доме нет, а дальше…
Чак сказал, что мы ничего не понимаем в жизни. Марихуана… И последовала длинная лекция о том, что конопля, скорее, полезна, а правители…
Мы провожали их, затаив дыхание, боясь спугнуть Веркино счастье, да нет, скорее спокойствие и некоторую уверенность, как говорили большевики, в завтрашнем дне.
* * *
Прошло четыре года.
– Верка летит в Москву. Да, с Чаком. Что у тебя завтра? – спросила жена у меня по телефону.
Песенка для Верки
Ты по жизни, как мотылек, Все летала куда-то, порхала, А удары судьбы все не впрок, Ты их просто не замечала. Города, континенты, быт, суета — Все за борт, что еще по сюжету — Шут, король, нега и маята? На вопросы опять нет ответа. Что за сладкий полет, Еще пара глотков, А потом можно и приземлиться… Я люблю тебя, милая, И нет больше слов. Боже, как на тебя можно злиться?.. Жизнь не жизнь, а сериал, Что в прайм-тайм дурит головы обывателю. И тебя я всегда принимал, Как ты есть… Это так увлекательно.ПятьдесятлетбезЛенинаполенинскомупутивск
Когда я говорю о том, что никогда не был диссидентом, это не значит, что мне в той, да и в нынешней жизни все нравилось и нравится. Просто я считаю, что для артиста, да и для автора, не обязательно с красным (или другого какого цвета) флагом вести на баррикаду революционные массы. Оружие артиста бывает значительно более эффективным, если он в художественных образах отразил ситуацию. Хотя если совсем откровенно, то, наверное, система идеологической обработки функционировала настолько четко, что какие-то сомнения о правильности курса партии стали появляться довольно поздно.
Может быть, ареал моего проживания был не тот. Ну не тот, и все… Не обсуждали ни дома, ни у соседей политическое устройство в стране. Боялись? Думаю, что и боялись… Во всяком случае, моя мать, которая проводила моего деда Ивана Матвеевича в тюрьму, была напугана на всю жизнь. И даже когда во времена перестройки я позволял со сцены «политические вольности», а матушка, находясь в зале, слышала это, у нее надолго портилось настроение. Наверное, я не там родился и жил… Когда эта жизнь протекала у Белорусского вокзала, то все помыслы наши и соседей были, как дожить до следующей зарплаты. Переехали на Юго-Запад – и опять поначалу все как прежде. А потом отец купил «Ригонду» – проигрыватель и приемник. Для меня это была новая игрушка, и я начал путешествия по радиоволнам. Нашел «Радио Люксембург» – пиратскую радиостанцию, которая вещала с борта какого-то судна и была вне цензуры и прочего. Увлекся бит-музыкой и, пытаясь расширить свой кругозор, начал искать музыкальные передачи на русском языке. Через некоторое время я уже знал, во сколько и на каких волнах «Би-Би-Си» и «Голос Америки», не говоря уж о всяких там «Свободах», вещали свои музыкальные хит-парады.
Естественно, слушая музыкальные передачи, я захватывал и политические комментарии. Ну, они-то и «отравили» мое сознание. Я умничал в школе, а затем в институте задавал каверзные вопросы, рисуясь перед мальчишками и девочками. Чувствовал себя героем…
Должен заметить, что за все это свободомыслие меня ни разу не водили к директору школы и не вызывали родителей. Это в школе… А в институте мне терпеливо, в который раз, растолковывали основы марксизма-ленинизма. Идеологические взбучки я получал за длинные волосы – меня вызывали к руководству спецкафедры, и полковник пытался мне втолковать, что с моими локонами нельзя успешно строить коммунизм. Я нагло ссылался на образы Карла Маркса и Фридриха Энгельса, напоминая, что им длинные волосы и бороды не помешали заложить основы…
В бешенстве меня выгоняли в коридор, и я, чувствуя себя героем, шел на «плешку» МИИТа – место, где собиралась продвинутая часть студентов нашего института.
А в школе Марья Ивановна, наверное, боялась получить от директора нагоняй за то, что не может справиться с учеником, терпеливо пыталась меня вернуть в учение Маркса-Ленина, которое «всесильно, потому что верно». В конце концов историчка поставила мне «четверки» по общественно-политическим наукам, и я в итоге не получил медали за учебу в школе. А не получив медаль, вынужден был сдавать вступительные экзамены в институт на общих основаниях. Вот так-то…
И все-таки никому из нашего окружения не приходило в голову подвергнуть сомнению существующий строй. И если фигура Сталина была подвергнута «справедливой критике», то Ленин был неприкасаем, и часто мы рассуждали, что было бы, если бы он не ушел из жизни в двадцать четвертом.
Но семена иронии по отношению к власти, к построению коммунизма дали всходы, и когда наступил 1970 год, год столетия со дня рождения В. И. Ленина, мне уже многое «остоюбилеело». Масса анекдотов на эту тему успешно высмеивала «всенародный подъем, который охватил прогрессивную часть человечества». Думаю, что и сейчас смог бы вспомнить кучу анекдотов на эту тему – от водки «Ленин в разливе» до трех спальной кровати «Ленин с нами». Самое интересное, что передовой авангард нашего комсомола – секретари горкомов и обкомов, с которыми нас, музыкантов, популярных в Москве и области, постоянно сталкивала жизнь, были первыми и главными потребителями как анекдотов, так и «чуждой советской молодежи музыки». Мы вместе с ними пили и пели, травили анекдоты и – «о, ужас!», – даже иногда критиковали партию и правительство во главе…
Нас никто, я имею в виду группы «Ребята» и «Мозаика», никуда не вызывал и не «ставил на вид». Более того, мы были передовым классом советской молодежи. Нас отправляли в ЧССР и Болгарию, где мы играли песни из репертуара «The Beatles» и «Deep Purple». Коллеги из стран социализма нам страшно завидовали и с тоской вспоминали, что «болгарский слон» – «младший брат советского слона, а СССР – родина слонов». Ребятам из Софии и Праги не разрешали петь по-английски. Налицо была политика двойных стандартов, но мы об этом не думали – нам было в кайф играть на хорошем аппарате и в кайф просто жить.
А затем был 1973-й, я пришел в «Веселые ребята», чтобы на «бескрайних рубежах нашей необъятной Родины нести знамя вокально-инструментального искусства». Я повзрослел, многое понял, а что не понял, то мне объяснили. Но времени диссиденствовать, а тем более протестовать, не было. Была интенсивная пахота под названием «гастроли». Успех, девчонки, новые города занимали свободное время, и эмоции выплескивались чаще в сторону «аморалки», чем сублимировались в прозрение и понимание «политической ситуации».
Хотя…
Однажды в городе Тернополе, куда мы прибыли спеть песни из нашего репертуара, в коллективе появилась «запрещенная литература». Это был роман А. Солженицына «В круге первом». Причем книжку нам дали (кому конкретно, я сейчас и не вспомню) на одни сутки. 1973 год, Солженицын…
Если застукают – статья… В лучшем случае выгонят из Москонцерта и из комсомола. Все это понимают, и тем не менее всем страшно интересно, и всем хочется узнать, про что это… Решили – чтобы всем познакомиться с романом, надо устроить чтение романа вслух по очереди. «Конспиративная квартира» была выбрана – номер кого-то из музыкантов, затоварились кофе и сигаретами и начались «литературные чтения»… Наверное, мы даже не думали, что совместное чтение потянет на больший срок, чем индивидуальное с фонариком под одеялом. Мы просто хотели узнать, про что это… А вообще-то все это было похоже на революционный кружок, где осталось бы произнести, что «промедление смерти подобно…» Но никто не настучал… Как мы после такой бессонной ночи отработали три концерта, история умалчивает. Потом был «Доктор Живаго». Я был потрясен Пастернаком, буквально очарован поэзией его прозы. Интересно, что потом, когда я читал этот роман, купив его в свободной продаже, испытать те прежние чувства мне не удалось. Запретный плод?..
Мы колесили по стране, развлекая зрителей на концертах и самих себя после концертов. Что-то вроде устной газеты затеял в «Веселых» Гена Макеев. Вернее, это была даже не целая газета, а аналог 16-й полосы «Литературки». Мы придумывали разные анекдоты и фразы, соревнуясь друг с другом. Запомнилось заметка Макеева следующего содержания:
«На 105% выполнил план Новотрубинский завод ядохимикатов. „Больше яда Родине“ – под таким лозунгом трудятся новотрубинцы».
Однажды Гена предложил провести конкурс на лучшее название советского города и деревни. В числе соискателей были города Встречноплановск, Соцсоревнованиеград, в честь завершающего года пятилетки – Завершаловск. В итоге Макеев победил в номинации города – ПятьдесятлетбезЛенинаполенинскомупутивск. Моя деревня Пролетариивсехстрансоединяловка была первой в этой номинации, а еще (я чуть-чуть похвалюсь) я придумал название города-курорта – Ленинские Грязи.
Афганская мозаика
Немного страшно начинать эту главу. Цензор, который во мне сидит, проснулся и протирает глаза. Вот он идет в мою сторону, заходит со спины, вот он заглядывает через плечо, пытаясь прочитать, что я там начал писать.
– Да нет, я ничего, вы, господин цензор, не подумайте плохого. Все, что могло бы порушить нерушимую советско-афганскую дружбу, где мы, то есть советский народ, под художественным мудрым руководством КПСС выполняли свой интернациональный долг…
Да что я, право? Сейчас время станцевать любимый танец триумфатора-диссидента… Не буду… Хотя совсем без политики обойтись нельзя. И для того чтобы вы поняли, что было да как, скажу, что диссидент во мне в то время присутствовал.
С долей ехидства слушал я интервью И. Кобзона. Его слова о том, что он в Афган ездит за очищением своей души, вызывали во мне изрядный скепсис. И если во второй раз в 1986 году я летел в Афган вместе с ВИА «Пламя» стреляным (в прямом и переносном смысле) воробьем, то в 1982-м, готовясь к первой поездке на войну, я был переполнен разнообразными чувствами. С одной стороны, как пацифист я не одобрял милитаристскую политику по отношению к нашему южному соседу. Слова о том, что мы отодвигали врага от нашей границы, вызывали вполне ироничную реакцию – говорите, говорите, это ваша работа. С другой стороны, гибнут наши ребята, и все знакомые, имеющие парней призывного возраста, трясутся, как бы сына не забрали в Афган.
С одной стороны, мы понимали, что едем петь для ребят, которые ничем не виноваты, что выполняют пресловутый интернациональный долг, и мы можем облегчить их жизнь, а с другой – мы едем на войну, и могут и нас подстрелить вполне реально. Но в это почему-то до конца не верилось, и все были заняты бизнес-проблемами, что везти с собой и что покупать там, чтобы что-то заработать, успешно это продав в СССР.
Признаюсь, что летел в «командировку» с чувством тревоги. Трудно сказать, как чувствовали себя коллеги, никто трусости не показывал, состояние благодушия примерно такое, как перед поездкой в группу советских войск в ГДР или Польшу.
Август 1982 года. Летим в Кабул прямым рейсом. Мы, тысячу раз летавшие, при подлете к Кабулу вдруг увидели, что от нашего лайнера, по-моему, это был ТУ-154, стали отлетать тепловые ракеты. Нам никто не объяснил, что это за «салют». Наверное, чтобы мы не волновались. Но это уже была война, и тепловые ракеты были предназначены для дезориентации ракет противника. Сейчас это знают все. Тогда же… Состояние благодушия не пропадало первые пять дней. Все мы рвались в город, в торговые ряды, чтобы заняться нашим мелким бизнесом. Нас как-то тактично не пускали, чаще всего, лишая свободного времени. Один раз мне сделали замечание, что не следует в майке с голыми руками ездить даже на комсомольско-партийные мероприятия. Все-таки мусульманской мир. Короче, с утра до вечера мы пели, нас принимали какие-то высокие военные и гражданские чины. Сгонять в город ну никакой возможности.
Первые концерты… А пели мы их по три в день и еще ночью после застолья до утра. И вдруг понимаешь, что в твоем репертуаре настоящее, а что есть халтура… Песни, которые в СССР воспринимались как агитка, перед солдатами, которые часто после концерта шли в бой, преображались в Песню с большой буквы. Это, например, касалось «Песни о Родине» С. Туликова. И как тяжело было смотреть в глаза парней, которые должны были после концерта идти на операцию в Пандшерское ущелье. Ты поешь: «Не надо печалиться, вся жизнь впереди». Поешь и вглядываешься, кого же не пощадит смерть? Думаю, что ребята об этом не заморачивались, хотя…
Попробую, не систематизируя свои впечатления, рассказать, что помнится. Прочитав эти записи, может быть, вы поймете, почему я согласился со своим старшим коллегой И. Кобзоном, что после Афгана с тебя сдирается многолетняя короста нашей «мирной» жизни и почему в твою душу возвращаются понятия «патриотизм, дружба, любовь» в исконном значении этих слов.
I
Мы на вертолете с ансамблем и сопровождающими нас военными возвращались в Кабул, сели на аэродром афганского городка Газни. Нужно сказать, что все аэродромы в Афганистане, во всяком случае, те, что я видел, располагались в ущельях. Вокруг аэродрома в засаде были наши солдаты, чтобы душманы не могли близко подойти к нашим боевым машинам. Техника посадки и взлета самолетов была такова, что самолет и вертолет, взлетая, крутились вокруг аэродрома, не покидая пространства, безопасность которого обеспечивали наши солдаты. И только набрав высоту порядка 5000 метров, высоту, на которой «стингеры» (переносные ракетные установки) уже не могли их достать, самолеты летели выполнять свои задания. Поэтому взлет происходил очень долго, зато посадка!!! Это песня! Знаете, когда летишь на гражданском самолете, то любое изменение режима работы двигателя воспринимается с тревогой. Здесь же, летчик бросает машину в пике, кишки и все внутренности взлетают в организме куда-то к горлу (я думаю, что состояние похоже на невесомость в космосе), и ничего. Понимаешь, что это для твоей же безопасности.
Вернусь в Газни. Мы вышли из вертолета, и у трапа нас встретили два солдатика. Они не произнесли ни слова. Просто смотрели на нас, ребят, которые прилетели из Союза. Из Союза, где остались все близкие, где другая жизнь, где Родина. У нас не было запланировано там никаких выступлений. Я вернулся в салон вертолета, взял гитару и мы начали петь. Потом начались анекдоты, потом подтянулись другие участники ансамбля. Подтянулись к месту импровизированного концерта еще солдаты. Я вернулся в вертолет. Вдруг началась стрельба…
– Интересно, это от восторга стреляют или хотят нас попугать, чтобы мы не задерживались в Газни? – пошутил я.
– Быстро улетаем, а то нас подобьют, – был вердикт командира вертушки.
Ребята мигом вернулись, и мы взлетели.
– Да, хорошей мишенью мы были вместе с вами и с вашим концертом, – подвел итог нашей общественной работы руководитель поездки.
Мы вернулись в Кабул, и последний концерт был у нас в этот день в авторемонтном полку. Концерт закончился, и встал вопрос, где ночевать… В гостинице, до которой нужно успеть доехать до комендантского часа, или в полку? Если бы знать, какие опасности таит езда в преддверии времени часа Х, даже в сопровождении БТР и нескольких автоматчиков, ответ был бы однозначным в пользу ночевки в полку. Но мы были еще нестреляными, боязнь показаться перетрусившими тоже мешала принять правильное решение. И мы поехали в Кабул.
У нас проводником, или сопровождающим, был капитан с Западной Украины. Ему до дембеля оставалось 10 дней, и он очень боялся (и не стеснялся об этом говорить), что в эти последние дни его подстрелят. Юра, так его звали, вошел в наш пазик и сразу лег на пол, обрадовав нас фразой, что сегодня мы попадем в передрягу. Наш худрук сел впереди, и его забаррикадировали басовой колонкой. Я сидел у прохода рядом с нашим конферансье Мишей Ереминым. Все затихли… И в этой зловещей тишине наша колонна тронулась в путь. Я обратил внимание, что мой сосед интуитивно пытается вписаться в проекцию латунной перегородки, на которой крепятся стекла в автобусе. Я хотел пошутить над Мишей, но поймал себя на том, что пытаюсь хэбэшную панамку покрепче натянуть себе на голову.
Прошло минут пять томительного ожидания, а потом началось… Мы услышали звук автоматной очереди и увидели трассу пуль, которые прошли перед носом автобуса. Солдаты, сопровождающие нас, выбив окна, открыли ответный огонь. Кто-то скомандовал: «Ложись!» Мы повалились в проход автобуса, где уже лежал наш капитан. Колонна двигалась со скоростью 20 километров в час, наверное, из соображений безопасности. Водитель наш, который продолжал сидеть за рулем и вести автобус, включил (по ошибке или от волнения) освещение в салоне и никак не мог его отключить. Самое интересное, страх сразу не накрыл, и все воспринималось как кино.
Отлично помню, как мы с Виктором Аникиенко накрыли собой Ирину Шачневу и как я спрашивал у нее, не дует ли ей снизу. Березин, которого зажала басовая колонка, не мог упасть к нам на дно автобуса. Серега проклинал бас, басиста и рок-н-ролл и говорил, как хорошо ездить на гастроли с певицей, поющей под рояль. Наверное, ответный огонь из нашего автобуса не дал возможности душманам вести прицельную стрельбу. Мы уцелели…
Утром в нашем автобусе мы нашли всего пару пулевых отверстий, а ночью, когда страх догнал, спасались от него водочкой. И уже никто не думал, сколько можно выручить на бутылку. Вопрос стоял так – жить или…
II
Или… Вариантов было много, и ни один не устраивал. Мы спели порядка восьми концертов в госпиталях. В госпиталях, где висят памятки «Осторожно! Холера», «Гепатит» и т. п. На концерт приходили как зацепившие какую-то заразу, так и легко– и тяжелораненые. Один раз в простыне принесли бойца, который потерял обе ноги. Его глаза кричали, как глаза пойманной птицы. Я этот взгляд никогда не забуду. А нам нужно было петь, и мы пели. Думаю, что пели, корректируя репертуар. Становились ли мы сильнее? Не знаю. Но то, что начали объемнее понимать жизнь, – да.
Попав в передрягу, возвращаясь из авторемонтного полка, мы почувствовали себя понюхавшими пороха солдатами. Гордились, что никто из артистов, побывавших до нас в Афгане, не рассказывал ни о чем подобном. Мы гордились собой, хотя гордиться было, собственно, нечем. У нас появилось ощущение, что мы попали на войну и мы с большей остротой воспринимали истории из уст ребят, которые ходили на боевые операции и которые теряли своих товарищей.
Меня поразили две истории, услышанные во время наших застолий. Первая даже не об «интернационализме», а просто о человеческих ценностях, которые вдруг обретают на войне какой-то новый смысл. Рассказ был о парнях, что после боя вернулись за телами двух своих товарищей, оставшихся лежать на ничейной территории. Вернулись, понимая, что рискуют своей жизнью. Вернулись, чтобы душманы не надругались над телами. Они их вытащили, но не досчитались еще двоих. Причем в составе этой группы были и русские, и латыши, и армяне, и казахи. Вот так…
Вторая история о том, как война ломает людей. В один из дней нам показали, что умеют парни из группы быстрого реагирования, в общем, спецназ. В дальнейшем в России я много раз видел подобные шоу, когда ладонью ломают доски, когда об голову разбивают кирпичи. Думаю, что мы видели одно из первых подобных выступлений. Оно произвело впечатление. Потом я разговорился с командиром этого полка. Кстати, в Афгане я совершенно не увидел дедовщины. Отношения между командирами и подчиненными были в высшей степени уважительными. Ощущение того, что завтра в бою придется сражаться бок о бок, очень сильно повышало градус взаимного доверия, доверия к человеку, который, возможно, завтра прикроет тебя. И вот такое экспресс-интервью с полковником, командовавшим этими ребятами:
– Какая выучка у парней!
– Да, они все время в движении, как ртуть. Поэтому потери в этом полку минимальны. Даже с оружием против них, безоружных, мало шансов на победу.
– А что их ждет на гражданке?
– К сожалению, 80% вернувшихся домой не находят себя в мирной жизни. Большинство из них в итоге оказываются в тюрьме.
– Почему?
– Начитают пить, потому что не вписываются в мирную жизнь, а стало быть, неадекватно воспринимают действительность. Очень часто, оказавшись в каком-либо клубе, выпив, не успев включить голову, часто, на уровне инстинкта, вырубают «мирных» жителей, которые и не думали проявлять агрессию по отношению к ним.
III
Еще одна встреча, которая потом переросла в дружбу. Женя Крылов, летчик, который был пилотом Бабрака Кармаля – лидера того еще Афганистана.
– Я ждал в каждом полете, что меня собьют, либо взорвут самолет, предварительно заминировав его. Поэтому пью, чтобы не дрожали руки, – сказал мне однажды Крылов.
Познакомились с ним на посиделках в офицерском модуле. Женя был под впечатлением от моих песнопений и в директивной форме сказал, что я сегодня сплю у него. Пошли в его комнату. Командир заявил, что завтра в шесть утра он покажет мне Кабул из кабины самолета. Я, как мог, отбивался от этой идеи, настаивал, что он устал. Но упертость Жени не знала пределов. Сказав: «Утро вечера мудренее», я начал раздеваться. Вдруг мой новый друг достал пистолет, снял его с предохранителя и протянул мне. Я, как Кислярский из «12 стульев», сказал:
– Не надо парабеллума.
– Надо.
– Зачем?
– Пойми, это оружие для того, чтобы застрелиться, если будут брать в плен.
– А-а-а.
И грустно взглянув на Женю, я положил пистолет под подушку. Слава Богу, утром Женя не проснулся к началу экскурсии, и я в итоге сэкономил немного авиационного керосина.
Но с этого дня Женя курировал меня, пока я был в Кабуле.
Однажды, уже в Москве, когда я, как герой на отдыхе, рассказывал о том, как мы попали в засаду после концерта в автополку, Женя вдруг сказал, что опасность этого обстрела, по сравнению с тем, как мы ездили в гости к командиру «Каскада» Михаилу Филипповичу после концерта в советском посольстве в Кабуле, – ничего. Солдаты «Каскада» охраняли наше посольство, поэтому Михаил Филиппович был большим засекреченным чином.
Дело было так… Отпели мы концерт, откушали яств посольских. Побеседовали с послом и его женой (ну, очень хотелось назвать ее послихой), приятной женщиной. Рассказали нам, как они, в общем, мирные жители, переживают регулярные нападения боевиков. Выяснилось, что все женщины и дети во время боя отсиживались в туалете!!! Три фундаментальные стены защищали их от прямого попадания.
А потом Михал Филиппыч пригласил нас – Женю Крылова, Лешу Шачнева, Витю Аникиенко и меня – к себе в гости. Я думаю, что инициатором этой вечеринки был Женя. И мы за 15 минут до комендантского часа рванули на виллу Михал Филиппыча. Где-то в полукилометре шел бой, но спокойствие двух командиров производило нужное впечатление. Мы беззаботно травили анекдоты. И, не испытывая никакого страха, приехали к месту жительства Миши. Вилла была большая, об одиннадцати комнатах. Женя повел меня на экскурсию. Он хотел меня «убить», пусть не утренним видом Кабула, так виллой командира «Каскада». «Тайным оружием» Жени было посещение санузла. Мы были на войне дней пять и еще не успели отвыкнуть от теплых клозетов. Женя же, когда мы вошли в совмещенный санузел, замер, ожидая от меня восторгов. Наверное, я бы ему подыграл, но я не понял, как я должен себя вести около унитаза.
Женя не получил ожидаемой порции восторга, и мы вернулись к столу, где Витя Аникиенко уже пел что-то не из «Пламени». Пока мы пели, Женя и Михаил Филиппович куда-то все время уходили. Леха пошутил, что решают, кто побежит за добавкой.
И только в Москве через несколько лет летчик Крылов рассказал, какой опасности мы подвергались, согласившись поехать на эту виллу.
– Мы чудом проскочили на автомобиле, и счастье, что нас не подбили. А уходили на вилле мы с Мишей решать, как быть в ситуации нападения душманов на виллу, если стрелков трое, включая жену Михаила Филипповича, а оружия еще меньше. И здесь пронесло, эта самая с косой не заинтересовалась нами – таков был рассказ Крылова.
IV
Вот интересно работает память… Слово «пронесло» навело на другой пласт воспоминаний. Перед поездкой в Афган нас собрали всех, рассказали о трудностях, не помню, делали нам прививки или нет, но на полном серьезе посоветовали, чтобы мы ничего не ели вне солдатской столовой, не пили некипяченой воды и даже (!) после каждой чистки зубов выпивали граммов 50 водки. Этот наказ мы выполняли с особым усердием, и все равно никто не избежал проблем с желудком и всякими там кишечниками.
Туалет был любимым казенным домом артистов во время гастролей в «дружественном» Афганистане. И я, конечно… А что, я хуже всех, что ли? Кто помнит армию, тот знает, а кто не знает, скажу, что по уставу, принятому в войсках, в туалете одно отверстие предназначалось на 16 человек. Почему-то все, кто изучал устав воинской службы, этот пункт запоминали в первую очередь. Ну так вот… В 180-м полку, где мы базировались в Кабуле, тот полк, что квартировался недалеко от дворца Амина, было много очков, вернее, отверстий для того, чтобы их хватило на всех военнослужащих. Понятное дело, никаких перегородок, а тем более дверей…
И наступила очередь артиста Малежика мучиться животом. И ночью по зову организма я отправился в богоугодное отхожее место. Тихая афганская ночь, одинокий достаточно яркий фонарь освещает артиста, репетирующего пантомиму «горный орел». Внутренний монолог артиста, звучащий за кадром: «Какая досада! Нет сил уйти… Боже мой, какой яркий фонарь… Как, должно быть, меня хорошо видно с этой горы… Какая цель для снайпера… Бог мой, нет сил никуда уйти… Господи, как же не хочется умирать в этой отхожей яме, если меня подстрелят». И такая грусть-тоска, что еще никто толком не услышал мои песни. Слава Богу, опять пронесло… На этот раз и в прямом, и переносном смысле.
V
Но смех смехом, а во второй поездке я зацепил болячку, от которой не мог избавиться десять месяцев. Не буду жаловаться, но два с половиной месяца, что я провел в больнице после командировки в Афганистан, я рассматриваю, как продолжение афганской истории, только смешное. Поэтому расскажу, что произошло во время моей болячки.
Мы возвращались в Москву через Ташкент. Я уже прыгал на одной ноге, так как другая была разбита в суставе. Я передвигался, сильно прихрамывая, в одном ботинке, так как во второй нога не влезла. С трудом я забрался на второй этаж в гостинице. У меня поднялась температура, и я остался в номере смотреть телевизор. Пугачева и Кузьмин пели «Две звезды» – шикарно. Красивые влюбленные артисты, отменная песня. Весь наш коллектив гуляет, радуясь, что вернулись домой. Заглянул Валера Белянин.
– Как ты?
– Не здóрово… Валера, возьми две пятнашки, позвони мне домой, чтобы Татьяна меня встретила. Мне проблемно дойти до телефона.
– Хорошо.
Далее события развивались так. Валера успел сказать по телефону: «Таня, у Славы нога…» Телефон проглотил монету. Валера не перезвонил, и моя жена всю ночь гадала, что же с моей ногой. Ранили… Ампутировали…
Утром Татьяна увидела, как с ташкентского самолета меня несут на носилках. Не самые приятные минуты она пережила. Хотя кое-как я еще передвигался сам. С сердца камень упал. Но радость была преждевременной. Врачи так и не определили, что было со мной. Диагноз при выписке был смешной – «Предположительно синдром Рейтера, несмотря на то, что основные признаки отсутствуют». Каково?
Первый и пока единственный мой длительный поход в больницу. Где-то через неделю уже, кажется, что весь мир болен. Свет в окошке – друзья, которые вереницей посещали меня. Жена, которая каждый день с кастрюлями приходила ко мне, как на полевой стан. Врачи не знают от чего меня лечить и всерьез говорят, что надо его, меня значит, отправить снова в Афган. Там быстрее поставят на ноги… Ну и, конечно, чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира я посмотрел от корки до корки…
А еще мне пришлось поработать медбратом. В нашей палате было четыре человека. Один из них – дядя Леша – был бывшим летчиком. Ему было чуть-чуть за шестьдесят, но у него была сломана шейка бедра, и он был прикован к постели. Нянечки нас не сильно баловали своим вниманием, и дядя Леша, увидев, что я передвигаюсь еще самостоятельно, решил меня использовать в качестве сиделки. И примерно раз в час меня призывали передвинуть ногу, которая затекала. Я понимал, что в состоянии дяди Леши трудно было заниматься гигиеной. Но меня от всех этих запахов подташнивало, и я усердно «воротил нос». Да еще…
Дядя Леша был неходящим и пользовался «уткой», которая стояла у кровати, и он мог дотянуться до нее сам. Прошло дня три-четыре. Моя болезнь успешно боролась с моей способностью ходить: суставы на ногах и уже на руках были разбиты артритом или как там еще… Я с ужасом ждал, что парализует руки, и я не смогу играть на гитаре. До туалета я добирался сам, но уже на костылях. И вот ночью я проснулся от матюгов дяди Леши, который никак не мог достать «утку», потому что в ней застряла ножка стула. Судя по всему, у дяди Леши катастрофически не было времени разобраться в ситуации или по привычке призвать на помощь меня, тем более что я к тому времени тоже был инвалид. Короче, палата превратилась в газовую камеру. Я незаметно докостылял до дверей и вышел в коридор. Нашел нянечку, объяснил ситуацию. Нянечка категорично сказала, что никуда она не пойдет – ей денег никто не платит, и пусть «летчик» ждет прихода жены. Я решил пожить в эмиграции и не возвращаться на Родину – в палату. Вечером пришла жена дяди Леши, но и у меня был час приемов. Решил вернуться глубокой ночью, когда все уснут. Ночью тихо, насколько это возможно в моей ситуации, я пробрался в палату и услышал ворчание дяди Леши.
– Где этот школьник шляется? Нога затекла, а он…
VI
За пять дней до нашего второго пришествия в Афган в 1986 году вышел приказ министра обороны СССР о том, что летать на вертолетах без парашютов нельзя. И вот перед посадкой в вертушку, а мы летели из Кабула в Баграм, на нас надели парашюты. Всем не хватило, Ю. Петерсон остался без парашюта. До этого летали, и ничего, а тут у всех есть парашют, а у Петра нет. Обидно, да? Вернее, тревожно. Не успокаивает даже то, что никому не объяснили, как ими пользоваться, если что… И вообще тяжелая штука – килограммов пятнадцать. Любопытно, что когда мы надели на себя эти рюкзаки, чем был действительно для нас парашют, появилось ощущение – сегодня точно подобьют. И, когда мы в очередной раз приземлились, было чувство, что полетали мы не по полной программе.
Итак, полет из Кабула в Баграм. Мы в первый раз с парашютами на плечах взлетели. В салоне только грохот от движков. Вдруг заглянул один из команды вертолета.
– Ну как, боитесь? – с чувством гордости, что он не боится, а мы, такие знаменитые, трясемся от страха.
– Конечно, боимся. Хотя бы объяснили, за что дергать, чтобы парашют раскрылся.
– Ребята, а зачем вам? Если подобьют, а вы выпрыгнете и откроете парашют, то вертолет накроет купол сверху и все равно разобьетесь. А если улетите на парашюте, то попадете к душманам и вам отрежут бейцы.
К чувству страха добавилась щемящая тоска между ног…
VII
Как анекдот, обычно рассказывают о женщинах, которые служили и жили бок о бок с вольнонаемными и солдатами. Их было немного… Соотношение, наверное, десять к одному, вернее к одной, а может, и еще более крутое, в пользу мужчин. Судить о том, почему женщины рванули на войну, не буду, хотя проблема «лучшей доли», «женской доли» лежит на поверхности. Кто-то безжалостно называл их «чекистками», намекая на то, что благосклонности от этих женщин можно добиться, только усердно подмаслив эти взаимоотношения чеками какого-то внешэкономбанка. Не буду морализаторствовать на эту тему, но хочу привести слова одного офицера. Он сказал примерно следующее:
– Когда вернешься со спецзадания, уставший, но живой, когда вместе с грязью снимаешь эту самую усталость, женщина, которая просто что-то там шустрит на кухне, шинкуя жрачку, снимает бóльшую часть стресса, и ты готов отдать ей не только чеки, но и все, что у тебя есть в это время, лишь бы она была рядом. О постели мысли чаще всего даже не приходят.
Не знаю, создавались ли там семьи, все-таки война, но что женщины тоже воевали – это точно.
VIII
Когда-то я присутствовал на открытом партийном собрании Москонцерта, посвященном приближающемуся Дню Победы. После долгих занудных разговоров о том, что надо крепить, помнить и непрерывно улучшать, слово взял один из пожилых работников. Он сказал примерно следующее:
– Да, две недели, может месяц, война была трагедией, сильнейшим испытанием и все такое. А потом люди привыкли жить в новых условиях, правда, любовь уже была Любовь, геройство – Геройство. А подлость или неправедные дела? Как написать, ведь меньше чем маленькая буква в правописании нет. Чтобы понять, как мы жили, надо умножить или разделить явление на коэффициент войны.
Да, наверное, война проявляет лучшие и худшие стороны человека. Но как же не хочется все-таки умножать и делить нашу нормальную человеческую жизнь и как же хочется, чтобы наши дети не вспоминали об этом коэффициенте.
* * *
Бросили артистов на войну Дух солдатам боевой поднимать. По привычке я подстроил струну, Но гитара отказалась воевать. Объяснял ей ситуацию, Толковал про дислокацию, Дескать, песен пару сбацаем И вернемся домой. Не могла взять в толк гитара, За кого мы там воюем. Ну, а если ты решил так, старый, Хорошо же, я поеду с тобой. В полный голос звучала гитара, Пела так, как нигде – никогда, А потом мы на пару устало Засыпали, не комфорт – ерунда. И под песню мальчишки домой возвращались, И под песню они забывали Пандшер, Чтоб на духов пойти с окрепнувшим духом, Коли хочешь вернуться и выжить, так верь. И вот эта вот вера Их сердца наполняла, Помогая без меры Любить и скучать, Помогала мальчишкам, Понюхавшим жизни, Разобраться в себе, Встать и стать. И вернувшись домой, Справил новые струны гитаре И на память убрал Тот аккорд, что вдали от Москвы воевал. Что-то понял я в жизни, Что-то понял я в песне, А аккорд, словно пленка, Это все записал.С первым апреля
Все больше, все больше Я жизнь понимаю, Все меньше я знаю о ней. Ю. РемесникМой любимый, несравненный, светлый Юрий Петрович Ремесник, человек, поразивший меня своей формулировкой отказа переехать жить в Москву. Кто не знает, скажу, Ю. П. Ремесник – поэт и мой главный соавтор, человек, написавший около восьмидесяти текстов песен, за которые нам не стыдно, человек, который в значительной степени сформировал и меня, и моего зрителя. Ну так вот… Едва ли не в первый год нашего сотрудничества я предложил Петровичу перебраться в Москву, где было бы легче заработать с его поэтическим талантом, нежели в его родном Азове.
– Приезжай, я познакомлю тебя с нужными людьми, и ты не затеряешься, поверь мне.
– Спасибо. Но я не перееду к вам. Я боюсь оторваться от родной земли, от могил своих предков, от своих друзей, в конце концов.
И знаете, я ему поверил и не стал иронизировать над его текстом, который в моих устах прозвучал бы чрезмерно пафосно. И он продолжал жить на Дону, продолжал сочинять стихи и присылать их в толстых конвертах мне в Москву. И песни, особенно на первом этапе, у нас пеклись, как пирожки. А многие из них уходили и в народ: «Мадам», «Попутчица», «Все-таки ты права», «Емеля». Петровича знали и любили в городе, да и вообще на Дону. Каждый год в октябре мы устраивали в Азове концерты, и, наверное, целую неделю мой драгоценный друг был главным ньюсмейкером города. Телевидение, радио, газеты становились в очередь, чтобы взять у Юрия Петровича интервью. То, что известность штука опасная, говорилось много раз. И, наверное, внимание, которое ему оказывалось, подсаживало Петровича, как наркота.
А потом я улетал, жизнь входила в обычное русло, и были, я в этом почти уверен, ломки – естественно, психологического свойства.
То, что телевидение и радио переключались на сводки с полей и на криминальную хронику, забывая нашего поэта, приводило его к определенному дискомфорту. И нужно было определенное время, чтобы снова попасть в свою колею.
– Ты знаешь, – говорил Юрий Петрович, – я целый год вспоминаю потом наш концерт, как мы его готовили, о чем с тобой болтали, как реагировали на наши новые песни азовчане. А мои поездки к тебе в Москву – это вообще целая одиссея. Так что ты не обижайся, если чего-то приукрашиваю в своих воспоминаниях и рассказах.
– Петрович, да ты что?! Я счастлив быть рядом с тобой, и то, что я для тебя делаю, – ничто по сравнению с тем, чего ты заслуживаешь.
Но поездки мои были в Азов, да и в Ростов, нечасты, а в Москву Петрович приезжал примерно раз в год.
– Ты знаешь, я же учился в Москве… я неплохо ее знаю, люблю Подмосковье… Но, не поверишь, я устаю от подмосковных лесов. Да, красиво, но мне не хватает простора, не хватает воздуха, я себя чувствую здесь, как в тесной одежде.
– А я вот в вашей степи скучаю. Час едешь – степь, два – степь, три – ничего не меняется. В душе какая-то оскомина от этого дурацкого постоянства.
– Оскомина… это хорошо… Знаешь, оскомина бывает от кислых яблок. Степь, как яблоко… Любопытный образ.
– Вы все о своем, господин поэт?
– Почему о своем? О нашем…
И мы снова писали… Обсуждали дела на нашей эстраде и, чего греха таить, порой довольно нелицеприятно отзывались об отдельных «мастерах искусств».
Мы снова расставались, чтобы перезваниваться. Наверное, если через сто – сто пятьдесят лет решат опубликовать нашу переписку, то будут только письма поэта Ю. Ремесника в Москву. Ответ я не писал и перезванивал. Если придумывалась новая песня, то пел ее по телефону. Я знал, что мой соавтор любил эти телефонные концерты, и они, однозначно, поднимали ему настроение.
О существовании поэта-песенника Ю. Ремесника уже знали любители музыки, во всяком случае, мои поклонники. Несколько раз его показали по федеральным каналам телевидения, а однажды, во время его очередного приезда в Москву, мы были на эфире набирающего обороты «Авторадио». Ведущей программы была известная редактор Диана Берлин. Она рассказала радиослушателям эфира о гостях передачи, акцентировав внимание на «нашем госте из города Азов, удивительном человеке и поэте Юрии Ремеснике». Слушателям предложили послушать несколько придуманных нами песен, а еще рассказали, что «наш гость» работает крановщиком на Азовском металлургическом комбинате и что в настоящее время он холост. Что тут началось…
Передача была в формате общения со слушателями по телефону, и телефон раскалился до бела. Соискательницы руки Юрия Петровича, забыв, что обычно мужчина первым предлагает руку и сердце, перебивая и отталкивая друг друга, рассказывали о своих физических и моральных достоинствах, соблазняли его трехкомнатными квартирами в Москве, уже взрослой и самостоятельной дочерью, и поэт отбивался с трудом и неожиданно для очередной дамы аргументировал отказ тем, что ему надо вставить зубы… Но та готова была ждать и помочь с дантистом.
Выдать замуж, вернее, составить ему партию не удалось. Он прирос всем своим нутром к Азову, к Дону, к казачеству. А может, он все делал правильно. Среда его обитания, да и способ его существования в этой среде говорил за то, что это не сиюминутное решение. Деньги к нему не прилипали. Если вдруг появлялась какая-то сумма, которая была выше его обычной номинальной, то она испарялась с какой-то удивительной скоростью. Родственники, друзья и просто «хорошие мужики» так же быстро исчезали, как и появлялись. И снова медленное течение жизни с частыми омутами и заводями, где вода – что, я? – жизнь могла зацвести.
Мое пятидесятилетие. Собираю на концерт всех, ну почти всех своих друзей. Кто-то выходит на сцену и участвует, кто-то смотрит на все происходящее из зрительного зала. Петрович как любимый соавтор, как действительно замечательный поэт, выходит на сцену. Его встречают бурными аплодисментами, как автора «Мадам» и «Лета нашей любви». Он читает два своих стихотворения и, очаровав окончательно публику, уходит за кулисы. Артисты, приятно удивленные поэтом из Азова, угощают его наперебой в артистическом буфете. Никто из них не отказывает в такой малости, как «сфотографироваться на память». Я уже не помню, что за аппарат был у Петровича. Но вся пленка или, как сейчас бы сказали, память, была забита под завязку. Лолита и Катя Семенова, Алена Апина и Ирина Шачнева, Алексей Глызин, Саша Иванов, Евгений Ловчев… Петрович улетел домой… Но…
Но после банкета произошла смешная история. Мне на концерте подарили петуха живого, красивого, знаете, такого «быка-производителя». Чтобы его как-то транспортировать, посадили в коробку от телевизора «Sharp», предварительно проделав в ней отверстия, чтобы подарок, т. е. петух, не прокис. Все это было доставлено ко мне домой и оставлено в комнате, где уложили моего соавтора. И под утро разыгрались в нашей квартире кинематографические страсти. Сначала мои впечатления… Сплю, и снится мне сон: деревня, детство, раннее утро, я, потягиваясь, выхожу на крыльцо… По всей деревне поют петухи, но неестественно громко и почему-то это пение смешивается с автомобильным шумом Ленинского проспекта. Я просыпаюсь и понимаю, что инстинкт есть инстинкт, и петух не может не выполнять функцию будильника. Я с негодованием отогнал мысль, что же теперь делать с «животным» и отправился на кухню. На кухне сидел «величайший поэт современности» и пытался привести себя в порядок с помощью крепкого чая.
– Может, что-нибудь покрепче?
– Да нет, что ты? Я и так запуган до смерти.
– Чем?
– Представляешь, этот гад…
– Который?
– Да петух… Я сплю и вдруг слышу что-то скребется: хр… хр… Думаю, померещилось. Потом снова… Ну все, говорю себе, приехали… Белочка… А нечего с артистами горькую жрать. Окончательно проснулся, сосредоточился и понимаю, что звук реальный. Мыши? Нет, для мышей звук слишком громкий. Встал с кровати, включил свет, пошел на звук. Вижу коробку из-под «Sharp’a» и из нее идет этот звук. Представляешь, петух лапой скребет стенку и пытается выбраться наружу.
– Представляю, чего ж не представить…
Так мы и не поспали в то утро, которое было для нас ночью. А петуха мы отвезли на дачу и отдали в соседнюю деревню знакомым. Наш был лучшим. Он отбил всех кур у прежнего производителя и с удовольствием топтал их. Соперник захирел, перестал петь песни, к курам его не подпускали, и в итоге «из него получился прелестный бульон, из него получился прелестный бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бульон», – как пелось в одной из песен на слова М. Журкина.
Если кто забыл, напомню, что после всех этих приключений во время всенародного празднования моего дня рождения, Ю. П. Ремесник отбыл домой, загруженный фотографиями, впечатлениями и бутербродами на дорогу. Наши перезвоны по прибытии его в Азов подтверждали его боевое настроение. Он был любим, востребован и взахлеб рассказывал, как все это было и что жаль, что «этот кусок, наверное, вырежут». Но все проходит, и вселенская популярность Петровича пошла на убыль. Я это почувствовал, по его интонациям, по тому, как иногда он переводил разговор на другую тему. А потом, где-то в середине марта, Юрий Петрович перестал выходить на связь. Я начал беспокоиться и стал обдумывать «комплекс мероприятий по обнаружению соавтора». И вдруг звонок из Азова.
– Слава, здравствуйте, это Голованев, отдел культуры города Азова.
– Слушаю…
– Когда же, наконец, встречать дорогих гостей?
– Каких гостей?
– Ну как? Петрович сказал, что он со всеми договорился и что мы, отдел культуры, в общем вся администрация города, повторим ваш юбилейный концерт в Азове. И еще он сказал, что Киркоров прилетит в день концерта из Ялты прямо к началу…
– А я когда прилечу?
– Вот это я и хотел узнать.
– Я об этом тоже ничего не знаю, но если Петрович сказал, то я готов… Кстати, а где он?
– Не знаю… Никто не знает… Нигде его нет. Весь город, вернее, те, кому он обещал посодействовать, его ищут. Что делать?
– Дайте мне время подумать и сделать пару звонков…
– Хорошо, перезвоню.
Я был в растерянности и не представлял, где искать Петровича. Я понимал, что визитка начальника Ростовского УВД мало чем поможет. Лететь в Ростов? И что?.. Вот именно. И тогда, как в кино, раздался звонок. Я снял трубку – это был Петрович.
– Слава, выручай. Я вляпался в историю и не знаю, что делать.
– Рассказывай.
– А что рассказывать? Сначала я в Азове всем поведал историю моего успеха в Москве. Фотографии были железобетонным аргументом. Потом, наверное, как артист, чувствуя успех, начал фантазировать…
– Привирать.
– Ну да, привирать. И дошел до того, что сказал, что все ребята, ну, с которыми я…
– Выпивал за мое здоровье?
– Ну да, за твое… Так вот, я сказал, что они готовы бесплатно приехать в Азов и спеть этот концерт для меня. В общем, кошмар.
– А дальше?
– А что дальше? Перешел на нелегальное положение, прячусь… Стыдно. Бить, думаю, не будут, но мне же в этом городе жить.
– Да, история…
– Ты-то хоть меня пойми.
– Я-то понимаю, смех берет. Смех… Петрович, есть идея. А что, если нам, вернее, тебе, в День смеха, первого апреля, объявить, что это была шутка. Тебя люди любят, а значит, простят.
– Я не смогу, меня убьют.
– Тогда я смогу.
И в тот же день я признался Голованеву, что Петрович затеял мистификацию.
– Ну, я ему дам, – был приговор начальника всей культуры.
– Только попробуй. Ты же в глазах людей будешь выглядеть непрофессионалом. Ты представляешь размах денег, на которые ты бы попал, если бы этот концерт и вправду состоялся. Да у вас в городе номеров нужного класса во всех гостиницах не набралось бы, чтобы удовлетворить запросы звезд. Так что, уважаемый господин Голованев, считайте, что великое массовое представление под названием «Несостоявшийся концерт» впервые произошло в городе Азове. Да здравствует Юрий Ремесник – автор, режиссер и жертва этого спектакля. Отнесись к этому с юмором и считай, что ты был одним из участников этого шоу в Международный день смеха.
– Наверное, ты прав. Ну, Петрович…
И наш герой всплыл в городе, как мы, подумав, решили, первого апреля. И все смеялись, хлопали его по плечу, поздравляли…
– Жаль, что не увидели такой концерт.
– Да нужна вам эта фанера? – успокаивал Петрович азовчан.
– Ну почему фанера?
– Да, это я так…
– Малежик-то хоть прилетит?
– Прилетит в ноябре, уже на мой день рождения.
* * *
Когда за жизнь придется отвечать, Ты вспомни песни, что с тобой мы написали. И верю, в небесах их может кто-то знать, Ведь вдохновенье нам зачем-то посылали. И вспомни изумительный полет, Что совершал по воле Бога, И как душа в тот миг поет, И то была твоя дорога. И как потом уже стихи, Окрепнув, в песне прорастали, Фальшивой не было строки. И эхо откликалось в дальней дали. И эти песни пели за столом, Их пели в радости и в грусти. И слушал, притаившись под окном, Усталый мент, надеясь, что отпустит. А что, Петрович, ведь не зря Семнадцатого ноль второго в девяностом Судьба связала нас? Не зря… Мы жили честно, емко, просто.Джаз импосибл
Мысль о том, что решение всех проблем надо искать в детстве, стала настолько расхожей, что ее можно сравнить разве что с «водой, в которую не дано войти дважды». Но от этого смысл, заложенный в нее, не стал неверным. Я попытался поэкспериментировать и перевернуть ее, т. е. фразу… Получилось, что детство нужно искать в своих проблемах. Чушь какая-то. В воспоминаниях детство – это яркое, красочное кино, где я в главной роли, а то, что интерьер, вернее декорации, напоминают трущобы «мексиканских кварталов», не меняет сути. Сюжет динамичен, все герои первого и второго планов добры ко мне, а злодеи живут в сказках и книжках, читаемых мне мамой. Мое счастливое детство проходило в этом ареале, а другой жизни я и не видел. И слава Богу. Я был любим, считал себя центром вселенной, мне постоянно рассказывали, какой я способный мальчик, и сомнений на этот счет у меня не возникало.
Но безграничная родительская любовь взрастила в социально неблагополучном районе маменькиного сынка с неразвившейся иммунной системой. Я говорю о психологическом здоровье. И в двадцать лет, нет, скорее все-таки в восемнадцать, моя психика хватала любую простуду, и болезнь протекала достаточно тяжело. Но постепенно я покрывался сначала пушком, затем перьями, а потом, вырвавшись из родительского гнезда, я начал совершать полеты, все чаще улетая достаточно далеко от дома.
Хотя, увидев мир, я многое понял и запомнил, тем не менее знания породили не только радость, но и, как водится, печали. Я осознал, что расслоение людей по уровню благосостояния, по уровню среды, где ты родился и вырос, существует не только в учебниках и книжках, но и в жизни. И если материальные блага – это вещь наживная, то среда обитания впитывается в человека с детством и потом очень трудно, если вообще возможно, эти пробелы, связанные со средой, в себе искоренить.
Наверное, это похоже на изучение языка в раннем детстве и в зрелом возрасте. Вроде говоришь все правильно, но акцент остается. И вот этот самый акцент глубоко засел в моем организме. Боязнь сказать, что я чего-то не знаю, что не умею пользоваться вилкой и ножом, приводила мою душу в дикое смятение. Однажды, а это было уже в «Веселых ребятах», я пару-тройку дней зализывал раны, когда надо мной пошутили, что я не знаю, что такое Эдипов комплекс.
Может быть, пошутили и по-доброму, но часто в те годы, да и значительно позднее, я был мелочно обидчив, хотя к тому времени мой социальный, да и материальный статус был достаточно высок. Во всех разговорах, если они не касались каких-то, по моему мнению, «элитарных» тем, я бывал убедителен и снискал себе репутацию мудрого человека, который может дать аргументированный совет. Но как только…
Правда, вскоре я прочитал книги, которые нужно было прочитать, прослушал музыку, которую нужно было послушать, сходил на Таганку и в «Современник» и разучил движения губами (надувая их и выдвигая вперед), когда речь заходила о джазе и о А. Вертинском. Я стал своим – ценителем.
Однажды у меня был долгий обстоятельный разговор с Алексеем Козловым. Это были времена самодеятельности… Я поведал Леше, что мы в «Мозаике» добились того, что теперь поем только свои песни. Леша сказал, что это неправильно. Почему? Да потому, сказал он, что 95% зрителей ни черта не понимают в искусстве и, в частности, в музыке, а общественное мнение формируют 3% снобов, которые тоже не понимают, но могут громко и безапелляционно судить обо всем и вся. Ну а 2% понимают, но остаются при своем мнении и никому его не навязывают. Так вот эти 3% снобов надо «накормить», если хочешь быть успешным. А для этого надо петь «фирму», которая априори, по их мнению, хороша.
Короче, когда я не мог сформировать собственное суждение о том или ином произведении искусства, будь то живопись, музыка, балет, кино, меня охватывала паника, и я с нетерпением ждал вердикта кого-нибудь из «авторитетов», чтобы потом чаще согласиться или, не согласившись, попытаться оппонировать, но не очень настойчиво. Правда, с годами я нахватался нужных фраз и мог стойко плавать в волнах той или ной искусствоведческой беседы.
Особой осторожностью мои мнения отличались при оценке авангарда. Ну не мог я отделаться от ощущения, что меня дурят. Не мог, и все. И не нравилось мне ощущение, что меня держат за лоха. Но однажды моя приятельница Ира Гущева подсказала алгоритм оценки, в том числе и авангардного искусства. «Откинь свои знания, – говорила она, – и воспринимай все, как ребенок: нравится – не нравится».
И вдруг стало легко и понятно. И не надо было в филигранных пассажах Моцарта слышать звонкое журчание ручейка, не надо было перерывать кучу литературы, чтобы понять, что хотел сказать Пикассо в своей «Гернике». Я научился ходить.
А что же джаз? Умные передачи по TV и радио, журнальные статьи прозомбировали меня должным образом. И я точно знал, что джаз – это (далее перечисление в превосходной степени разных оттенков восторга) музыка. Но мне не нравилось ее слушать, как бы нынче сказали, она не вставляла… Я силился ее полюбить. «Impossible, Rayka», не получалось. Наедине с собой я говорил: «Почему я должен любить, как этот пианист или саксофонист гоняет гаммы?» Хотя, когда Л. Армстронг или Э. Фитцджеральд опускались до хитов, тем более если пелось «Can’t buy me love» или что-то еще из битлов, то я отдавал должное.
Хочу заметить, что, пожалуй, все мои оценки касались записей. В концерте, где эта музыка возникала и была как бы продолжением атмосферы зала, я заводился и говорил себе «да» чаще, чем «ну не знаю». Более того, на фестивале джаза в Праге в 1971 году, куда я попал по стечению обстоятельств, я услышал американских музыкантов (судя по всему, они собрались вместе съездить в Европу, и это была разовая акция). Я был в полном восторге и единственный раз на концерте кричал, как в состоянии оргазма. Ни один рок-исполнитель подобной реакции у меня не вызвал. Бывало, я плакал, даже не один раз, на концерте П. Маккартни, но кричать от восторга?! Состав был в пражской «Люцерне» звездный: Дизи Гиллестпи (труба), Сонни Стит (саксофон), Телониус Монк (рояль), Кай Видинг (контрабас), единственный белый Маккибн (тромбон) и, наконец, за барабанами был Арт Блэйки. Для поклонников джаза – это иконы.
И тем не менее, отведав натурального продукта, я не смог слушать джаз в консервированном виде. Я не испытывал восторга от прослушивания с коллегами-музыкантами очередной джазовой или джаз-роковой пластинки. А потом, читая «антологию „The Beatles“», я наткнулся на высказывания сначала Джона, а потом Пола, что они никогда не любили джаз. Как же мне стало легко! И я стал довольно спокойно говорить о том, что мне не нравится джаз. Конечно, если хороший, то… А так… Но воспоминания о Праге, а также музицирование с блестящими музыкантами С. Шитовым (кларнет), В. Козодовым (виолончель) и А. Королевым (скрипка), когда мы позволяли себе оставлять место для импровизации, смущало мою душу. И сегодня я думаю, что джаз хорош тем, что он отражает состояние музыкантов, их взаимоотношения, умение выслушать друг друга. И часто умение поймать состояние зрителя. Потом, во время прослушивания записи, когда ты знаешь, куда пойдет «беседа» скрипача и кларнетиста, это уже не так интересно, а во время процесса – восторг. По ленинскому определению, искусство – отражение нашей жизни в художественных образах. А как было бы здорово, если бы мы, то есть наша жизнь, отражали искусство, в частности джаз, чтобы мы импровизировали, слушали друг друга, давали бы время высказаться и в конце успешного дела ставили бы восклицательный знак, закончив вместе.
Possible, Rayka, possible!
* * *
Я боялся попасть на прием к королеве, Этикет был у нас не в ходу, Чтоб обедать с ножом, с вилкой в левой, Чтоб болтать по-английски – Oh, yes, а do… Ну не приняты были в Лесных переулках Камамбер, арманьяк, дижестив… И за счастье по праздникам ливера с булкой Получи, а еще не проси. И во двор с пацанами по крышам сараев От темна до темна, кто не с нами – тот враг. И сбивались порой в бандитские стаи, Забывая, что жизнь не игра. А потом исчезали надолго ребята, Возвращаясь в наколках во двор, И мы слушали их, мечтая украдкой Повторить их судьбу, хотя бы на спор. Но минула меня лихая судьбина, Был обычный я – Славка и баянист, И у жизни я выиграл свой поединок — Целы пальцы, душа, по понятиям чист. Ну, а если однажды возьмет королева И меня до себя пригласит, Я схожу, не трепать же ей нервы, И спою… С королевами я не речист.Непотопляемый
Прожив изрядную часть жизни, я выяснил для себя, что мне не нравится, когда кто-то мной командует, а еще больше не нравится командовать самому. Поэтому когда сейчас я анализирую свой социальный статус, то с гордостью замечаю, что решил практически нерешаемую задачу – сумел найти возможность не быть для кого-то подчиненным, но при этом избавлен от проблемы кем-то руководить. И решения, которые принято называть судьбоносными, мне не приходится принимать. И хотя на меня порой пытались взвалить ответственность за судьбу тех или иных граждан, мне как-то тактично удавалось объяснить, что моя сила в чем-то другом. Вот так… В общем, сейчас если я и создаю рабочие места, то делаю это отнюдь не часто. Как при этом поживает мое эго? Да регулярно (цитирую пошлый анекдот). Эго кормится какими-то другими отдельно взятыми победами, на ниве творчества к примеру. Да мало ли способов накормить свое тщеславие. А вот в мазохизме замечен не был и поэтому умудрился ни к кому не пойти в услужение. Наверное, моя известность и социальный статус позволили мне держать дистанцию и сберечь лицо, в том числе и творческое.
Но, как и любое правило, это тоже имеет исключение. Встречались на моем пути персонажи, которые меня порабощали. Нечасто, но встречались, и приходилось порой прилагать определенные усилия, чтобы вырваться из клетки, в которую меня засаживал более сильный «эгоист». Одну из таких историй я и хочу вам рассказать.
Он был единственным сыном какого-то супер-пупер-засекреченного разведчика, который резиденствовал вместе с женой в Америках, в самых что ни на есть Штатах. А сын ихний, Слава Порфирьев, взрослел, мужал и знакомился с жизнью как таковой в шикарной папенько-маменькиной квартире на Садовом кольце, рядом с посольством пресловутой Америки. Я думаю, никому не надо объяснять, что такое была квартира в советские времена для молодого парня. Это статус, это возможности, это последнее твое слово при решении вопроса – где и во сколько на праздники, это – возможность привести девчонку, хотя в этом деле Славик был, пожалуй, скорее робок, чем успешен. Но все равно – великосветский салон «За полночь» работал регулярно. А порою там зависали и не на одни сутки. Наверное, от резидента шли суровые депеши домой в Москву, наверное, были звонки с просьбами учиться. Но никакая виртуальная беседа не заменит общения отца с сыном, когда она продолжается изо дня в день.
Короче, Слава научился выпивать, и особенно это хорошо у него получалось, когда угощали. Буду справедливым и скажу, что он закончил ВГИК и был подающим надежды. Не знаю, участвовал ли папенька в трудоустройстве нашего героя на телевидение или нет. Это и не важно… С его фамилией не нужно было и рекомендаций – все бы сделали, чтобы не связываться. Но повторюсь, Слава был небесталанным парнем. На телевидении ходили легенды о том, как классно снимает он музыкальные программы, и о том, как папа в очередной раз спас его от тюрьмы.
Однажды после окончания очередной съемки в Кишиневе, он вылетел в Тбилиси делать для ТВ новый фильм о музыкальном народном творчестве Грузии. Что такое Молдавия в советское время, объяснять, я думаю, не стоит. Республика, где вина было больше, чем воды. Естественно, Слава был упакован вином под завязку. Две канистры, одна с «Рошу де Пуркарь», вторая – с «Негру де Пуркарь» позволили начать праздник еще в аэропорту Кишинева. Угощались все, до кого можно было дойти в салоне самолета. Сначала стюардессы «с пониманием» относились к съемочной группе из Москвы, но потом… Примерно через час после взлета Славины познания в географии и в ходовых качествах ТУ-154 привели его к мысли, что лайнер находится в зоне сочинского аэропорта. Слава решил, что это судьба, – надо приземлиться и искупаться в Черном море. Он решительно двинулся в кабину пилотов с требованием посадить самолет сейчас же. В отличие от террористов конца ХХ – начала ХХI века в руке у него был не пистолет, а стакан с вином. Славу забрали в кутузку, но через два дня освободили. «Непотопляемый» – то ли с восхищением, то ли с удивлением, а может, с завистью говорили о его приключениях на ТВ.
Так вот, Слава Порфирьев был, если вы не забыли, о чем я говорил в начале своего повествования, тем самым человеком, которому я не мог сказать «нет» и который фактически вил из меня веревки. Я сейчас не помню, как мы с ним познакомились. Думаю, что он позвонил мне с редакционным заданием обсудить со мной, а по возможности, и задействовать меня в одной из съемок телепередачи. Мы встретились, и первым, что он мне сказал, было:
– Мне не нравится, как ты поешь, у тебя для этого нет никаких данных, но у тебя есть мелодический дар. Я тебя раскручу…
Честно говоря, к тому времени я, наоборот, уже привык к комплиментам, которые отпускали по поводу моего голоса и умения доносить текст песни. Но в этот раз у меня язык будто прилип к небу, и я не посмел… Да-да, не посмел возразить и сказал:
– Хорошо, и что от меня требуется?
– Вот тебе два текста, один Н. Денисова «Картина любви» для Паши Смеяна и Ветлицкой, а второй С. Кирсанова «Зеркала». Сочини песню, споет Ирина Понаровская.
– Хорошо, я попробую.
Я сделал эти песни. Причем, сначала была песня для Смеяна и Наташи Ветлицкой. Нужно сказать, что для меня это была шикарная работа. Песня была лейтмотивом передачи. Слава был по отношению ко мне корректен, и то, что обещал, – делал. Кстати, впоследствии на инструментальную фонограмму «Картины любви» я сделал наложение, и сейчас эта песня скорее ассоциируется со мной. А тогда…
– Я думаю сделать программу «Зеркала» в стиле барокко. Хочу, чтобы сыграли музыканты симфонического оркестра. Мне песня нужна в понедельник.
– Я не успею, я уезжаю в Киев, – пытался возразить я.
– У тебя три дня.
Не имея никакого опыта в оркестровке, тем не менее я в Киеве со струнным квартетом записал инструментальную фонограмму. Но была маленькая лажа – Понаровской не было в Москве.
– Хорошо, пой сам… Но все равно поешь ты плохо!
Таков был вердикт Порфирьева. Я поглубже засунул свое самолюбие и спел «Зеркала», а потом и снялся с ними в программе. Судя по тому, как радостно при встрече со мной Слава потирал руки, программы начальству понравились. И он все чаще стал меня называть своим талисманом. И подоспела следующая съемка. Я, честно говоря, еще не догадывался о степени зависимости моего режиссера от алкоголя, и, когда он приехал ко мне домой обсудить очередной сценарий, спокойно отреагировал на фразу:
– Водка есть?
– Конечно, есть.
– А что-нибудь к водочке?
– Найдем.
Должен сказать, что в этот период я холостяковал, так как моя жена с сыном отдыхали на море. Поэтому мужская компания, водка, гитара, стопка писчей бумаги, естественно, стопка для водки и вдохновение.
Я вспомнил песню «Последний трамвай», и вокруг этого трамвая мы накрутили сценарий.
– Ай да Слава, ай да сукин сын, – кричал и топал ногами Порфирьев, восхищаясь то ли мной, то ли собой.
Бедные соседи внизу… Хорошо, они иногда тоже выпивали и гуляли, поэтому к шуму из нашей квартиры относились с пониманием. И все равно я никак не мог дождаться конца работы над сценарием.
Кто меня знает, тот помнит, что я в основном делаю вид, что пью. Практически к трем часам ночи бутылка была пуста. В Славе булькало граммов четыреста пятьдесят. Вдруг он взял телефон и начал набирать номер.
– Куда? Поздно… Давай завтра.
– Сегодня… Все надо делать сегодня…
Во время зуммеров мне было приказано взять гитару… Еще он успел объяснить, что это его единственная и роковáя любовь.
– Раз рóковая любовь, мне петь рок-н-ролл? – тупо спросил я.
– Ты будешь петь то, что я скажу…
Наконец трубку на том конце сняли. Как я потом узнал, это была замужняя женщина, известная актриса, причем Слава любил ее платонически и этим в своих глазах поднимал себя на необозримую высоту. Был короткий разговор, потом фраза:
– Он сейчас тебе споет… «Расставайтесь, любя», пожалуйста, – это уже мне.
Я спел балладу… Самое интересное, что ни меня, ни художественного руководителя «телемоста» не послали. Я извинился и пожелал даме спокойной ночи.
– Я тебе этого никогда не забуду. Спасибо.
Мы сняли трамвайные страсти, и я улетел в Гагру к семье. В конце августа вернулись из отпуска в Москву, с ансамблем «Пламя» через пару дней я улетел в Сочи. Десятого или одиннадцатого сентября я был снова дома. Воссоединение семьи… Потом жена ушла по делам, и практически сразу раздался телефонный звонок. Это был Порфирьев.
– Приезжай на Киевский. Если не приедешь, я сдохну.
– Что с тобой?
– Приезжай, при встрече все расскажу…
Около главного входа в Киевский вокзал на парапете сидел Слава… Сказать, что он пьян, – не сказать ничего. В те годы, может быть, только фотографии Маккартни на альбоме «Let it be» говорили, что трехдневная щетина может выглядеть стильно. Обычно подобная небритость утверждала, что человек либо бомж, либо пьет который день.
Слава взял меня за руки. Его руки были холодные, как лед.
– У тебя деньги есть?
– Есть.
– Если я сейчас не выпью, то мне будет кирдык.
– Что случилось?
– В Феодосии есть доктор… Довженко… Короче, он меня закодировал, загипнотизировал… В общем, снял со стакана. Но при этом я год должен был не пить. После съемки «Трамвая» я с мамой летал в Феодосию, и он меня… А я… В общем, я сорвался.
– И что теперь?
– Если я не выпью, то… Ты помнишь как Высоцкий? Даль?
– Хорошо, давай я подниму в Москве всех своих знакомых…
– Меня раскодировать может только Довженко, поэтому ничего не делай. Сейчас пошли, здесь есть пивная. Мы дадим пивка, а потом поедем к тебе… У тебя водка есть?
– Думаю, есть…
– Ну, вот, пошли.
Мы пошли, он пил и рассказывал мне, как мы будем добираться до Феодосии. И я, словно загипнотизированный его волей, не мог сказать ни слова против.
После второй кружки руки у него согрелись, и мы поехали ко мне домой.
Все происходило (благо жена отлучилась по делам), в тех же декорациях, что и летом. Слава напивался в ускоренном режиме. Я же пытался дозвониться до его отца, ну, помните, резидента-суперагента, который вернулся в Москву? Я однажды имел с ним, то есть с отцом, беседу, и он слезно просил, если Слава… то… И он моментально приедет. Слава напивался, а телефон молчал, как партизан.
– Да прекрати, они на даче.
Потом ему было плохо, и харчи с водкой не захотели оставаться в организме телевизионного режиссера. Что-то у них там произошло, и они вернулись на белый свет высказать свое недовольство Славе. А я? А я с тряпкой пытался привести ковер в исходный вид. Желание лететь к доктору Довженко, чтобы познакомиться на опыте Славы с его замечательной методикой, становилось все меньше.
Вскоре пришла жена. Она в своей пламенной речи пыталась найти аргументы, чтобы я понял, что не я ставлю на кон дружбу мужскую… Я вяло сопротивлялся.
Наконец я дозвонился до квартиры на Садовом.
– Он с вами напился, вот вы с ним сами и разбирайтесь, – был ответ несгибаемого разведчика.
Почва окончательно ушла из-под моих ног.
Пришел отец, уже мой отец.
– Как мне быть?
– Он тебе друг?
– Друг.
– Тогда ты должен с ним ехать.
Пути к отступлению были отрезаны. Я пошел на кухню и объявил жене, что еду с Порфирьевым в Феодосию. Татьяна молча достала сумку и начала собирать меня в поездку на море, откуда я только что вернулся. Я деловито взял паспорт, деньги. Режиссер играл роль человека, с трудом возвращающегося в жизнь.
– Наверное, ему надо в душ, а потом сменить одежду? – спросила Татьяна.
Я молча кивнул головой.
После душа Слава потребовал себе сменную одежду, потому что поездка отнимет не один день. Я открыл шкаф и предложил ему примерить что-либо из моего гардероба, сообразуясь с погодой в Москве и на Черном море. Выбор пал на мои парадно-выходные одежки, которые я купил в нечастых загранкомандировках.
– Ну что ж… Раз решили, тогда вперед, ребята, – были слова жены.
Мы вышли из дома и поймали такси до Курского. Лететь самолетом Слава отказался, мотивируя это тем, что он в «черном списке» во Внуково. У меня была надежда привезти его домой и сдать с рук на руки родителям, проявив при личном общении необходимую твердость. Но все напрасно… Даже в пьяном состоянии мой пациент контролировал ситуацию и просыпался в тот момент, когда я пытался повернуть машину в сторону его дома. В конце концов я махнул рукой, и мы прибыли на Курский. Старый вокзал был значительно многолюднее нынешнего. С него уходили поезда в Крым, на Кавказ, Украину, короче, все южное направление охватывали трассы Курского. Мы почему-то взяли два купейных билета до Харькова. Мне объяснили, что мы протусуемся там с утра до вечера, а к ночи ближе улетим в Керчь. Я не очень понял глубину стратегической мысли Славы, но пока я еще не аккумулировал силы для возражений и поэтому смиренно воспринял судьбу. Мы сели в купе… У меня с собой было. Мои знания в наркологии были не столь глубоки, чтобы вывести клиента из состояния алкогольного недоумения, но я знал, чем грозит для организма алкоголика невозможность опохмелиться.
Не помню точно (но, кажется, это была супружеская пара), кто были нашими соседями. Помню, что мы были на верхних полках. Я, конечно же, на спал. Я не врач и не могу утверждать, что это была белая горячка, но что сон алкоголика тревожен и краток, могу засвидетельствовать. Я смотрел на своего редактора-режиссера-сценариста-друга с вниманием матери, смотрящей на своего первенца. И когда Славе что-то снилось (врачи утверждают, что это какие-то чудища), я его моментально будил, дабы не нарушить сон соседей снизу. Бессонная ночь, и вот мы подъезжаем к вокзалу старой столицы Украины городу Харькову.
Выйдя на перрон, Порфирьев скомандовал:
– Пошли!
– Куда?
– Пошли, пошли…
И мы пошли. У меня создалось впечатление, что Вячеслав Порфирьев ходил по этому маршруту сотни раз и водил по этим тропам многочисленные экскурсии. Мы, не делая ни одного лишнего телодвижения, точно попадали из одного питейного заведения в другое. Обитатели, а создавалось впечатление, что посетители этих пивнушек, рюмочных, кафе «Напитки» жили там постоянно. Так вот эти обитатели могли бы без грима сыграть героев Гюго из «Чрева Парижа» или «Отверженных». Я же невыпивающий и еще в не очень мятом костюме выгодно оттенял наших новых знакомых, с которыми мы решали и судьбы мира в том числе.
Я наелся приключением досыта и решил взять инициативу в свои руки.
– Тебя ждут в Феодосии?
– А я знаю?
– Давай позвоним и сообщим, что ты едешь.
– Позвони им, вот телефон, и скажи, что ты Порфирьев.
Я дозвонился до Довженко… Вы, надеюсь, не забыли, кто был папа у Славы. Я от имени Порфирьева сообщил, что сорвался и что еду в Феодосию. Мне ответили, что я все делаю правильно, и посоветовали опохмеляться не слишком интенсивно. Я почувствовал себя больным, который сорвался, и это состояние мне не понравилось.
Потом был мой звонок в Москву жене. Разговор был краток.
– Ты где?
– В Харькове, еду в Крым.
– Ну и дурак.
Я это уже и сам понимал, но бросать дело на полпути… Как? И тут я решил, что хватит идти на поводу, пусть даже у самого распрекрасного режиссера.
– Так, сейчас мы идем в магазин, покупаем бутылку водки, что-нибудь пожрать, затем на вокзале я беру билеты до Симферополя. Мы экономим время, деньги, и не нужно ночью в сезон решать проблему ночлега на Черноморском побережье, пусть и в не очень раскрученном для отдыха городе Керчь.
Напор, с каким я произнес свой монолог, был впечатляющ. Мы купили все, что наметили, и поехали в Симферополь. Правда, пришлось сделать одну пересадку в Джанкое. Но ждать поезда Львов-Симферополь пришлось всего лишь час. Ночь прошла обычно: Слава доблестно сражался во сне с чертями (сон его опять был тревожен), а я по заведенной традиции охранял покой соседей по купе.
Симферополь нас встретил солнечной, еще летней погодой. Без душа, без зубной щетки я начал испытывать определенный дискомфорт.
Но мозги работали четко… У меня до отлета из Москвы на гастроли с ВИА «Пламя» оставалось два дня, и я понимал, что времени у меня в обрез. Поэтому я решил сдать Славу в лечебницу с рук на руки и тут же возвращаться в Москву.
Билетов до Москвы не было, но я об этом пока и не думал. Мы купили автобусные билеты до Феодосии, а я еще сразу билет назад в Симферополь. По дороге до Феодосии я задремал, а когда просыпался, то видел, что Слава потягивает спиртное, спрятанное во внутреннем кармане, через трубочку.
Наконец Феодосия. Вскоре нашли нужную улицу и клинику. У входа довольно большая толпа людей, почему-то разбитая на тройки-четверки. Собственно, это были господа больные, которые безошибочно угадывались по тревожному, бегающему взгляду, и сопровождающие их лица. Я понял, что прорваться к Довженко не сможем… Вспомнил заветный телефончик… Позвонил. За Славой вышли. Я дал ему денег. Он отдал мне какую-то «Seiko», чтобы не пропить.
– Часы отдашь мне, когда я вернусь и верну тебе долги и твою одежду.
– Договорились.
У меня до отправки автобуса оставалось около полутора часов. Я рванул на море. Удивил отдыхающих своим костюмом и тем, что не обращал внимания на загорающих. В белом белье нырнул в воду, смыв с себя ужас последних трех дней, я рванул на вокзал.
В Симферополе, в аэропорту прорваться к какой-либо кассе не удалось. Заветный телефончик свое действие на аэропорт не распространял. Конец сезона, 14 сентября… Взял такси, поехал в филармонию. Меня узнали, спросили, почему небрит и почему вообще в таком виде и какими ветрами. Рассказал. Сказали, что смогут отправить на дополнительном поезде, который самый медленный в мире.
– Попробуй прорваться к начальнику вокзала, объясни… Он мужик, может быть, поймет.
Начальник не понял. На мои аргументы, что, дескать, я спел «200 лет», а сюда приехал, дабы доставить друга в наркологическую клинику, начальник, посмотрев в мои безумные глаза, сказал:
– Тебя самого надо в наркологическую – подлечить.
Короче, уехал я на дополнительном, к вылету «Пламени» в Тюмень опоздал и самостоятельно догонял их на маршруте.
Через пару месяцев я услышал, что Слава вернулся в Москву. Он мне не звонил, я не звонил тоже. Зато позвонил его отец и спросил, не пора ли отдать «Seiko», которые… После этих слов у меня было ощущение человека, укравшего что-то и пойманного за руку. Звонок был в 23.15. В 23.50 я вручил отцу часы. Он что-то говорил о том, чтобы я зашел, что-то про чай, что-то про дружбу…
Это была моя первая и последняя встреча с отцом «непотопляемого». А со Славой мы где-то пару раз пересекались, беседа не задалась, а потом он ушел из жизни. Говорят, алкоголь сыграл в этом деле не последнюю роль.
Как фанера над Парижем
Стало хорошим тоном ругать использование фонограммы в концертах. Я имею в виду фонограмму, под которую певец или вокальный коллектив имитируют пение. Можно найти какое-то оправдание использования «фанеры» во время телевизионных съемок. Но во время концерта… Хотя и здесь найдется тысяча причин, которые делают ну никак невозможным пение перед уважаемой публикой и чаще всего, конечно же, это делается для комфорта самой же публики. Ха, ха, ха…
Я не буду эту тему поднимать в десятитысячный раз и попробую припомнить необычные ситуации, которые случались во время концертов. Я был либо свидетелем этого, либо это будет информация из первых рук. Хотя сказать, что героиней во всех моих маленьких историях будет фонограмма, будет не совсем точно, но с определенной долей условности то, что я собираюсь описать, в какой-то степени можно приравнять к использованию фонограммы.
Сначала похвастаюсь… Где-то в 1984 году я задружился с «Московским комсомольцем». Не помню, как это началось, но достаточно часто я выезжал на мероприятия «Московского комсомольца» по линии общества «Знание». Паша Гусев, Юра Когтев, покойный Саша Аронов, Игорь Иртеньев… Мы садились в автобус и ехали куда-то «ставить» лекцию-концерт. Тогда я еще не понимал, что такое пиар, и ездил, дабы наработать определенные концертные приемы для самостоятельных выступлений на сцене. И действительно, опыт появился, и я уже знал, какая песня произведет на зрителя впечатление, и поэтому в зависимости от публики, да и от своих желаний мог менять программу своего получасового песнопения.
Мы подружились, и ребята, в силу своих возможностей, пытались помочь мне. И вот однажды Юра Когтев, а он был главным на музыкальной полосе газеты (тогда она имела название 33⅓, а не «Звуковая дорожка»), заговорил о концерте итальянского певца Клаудио Вилла, который он посмотрел днем ранее. К. Вилла приехал в Москву без своего бэнда и пел под инструментальную фонограмму. «Давай и ты споешь под минус один, – сказал Юра. – Ты будешь первым, а мы об этом напишем статью. Это так интересно. Научно-технический прогресс и искусство, а?!» Не знаю, что, но что-то, скорее всего нежелание делать фонограмму (а тогда это было и трудоемко, и дорого, а главное – еще непонятно где), заставило меня отказаться от затеи стать первым фонограммным певцом. Так я в тот раз сумел не поддаться соблазну…
А задолго до этого события, в 1978 году, я участвовал в дуриловке зрителя, но не используя фонограмму. То, о чем я хочу вам рассказать, по своей сути было очень похоже на фонограммное «пение», с той лишь разницей, что я открывал рот не под звучащий «playback», а под пение другого певца, который пел за меня за кулисами. Дело было так.
Наш худрук И. Гранов, а я тогда служил в ансамбле «Голубые гитары», придумал вместе с А. Хайтом, А. Левенбуком и Л. Дербеневым и воплотил на сцене музыкальный спектакль «Красная Шапочка, Серый Волк и „Голубые гитары“». В этой постановке мне досталась роль Серого Волка. Об успехе или неуспехе «Красной Шапочки» говорить не буду, но события сложились так, что я написал заявление об уходе из ансамбля и мне его подписали. Но между мной и Грановым была договоренность, что я буду работать в коллективе (а гастроли были расписаны на несколько месяцев вперед) до тех пор, пока вместо меня не введут замену.
По-моему, этого парня, который пришел вместо меня, звали Чайка, но не Виктор. Потом он тоже не закрепился в «Голубых гитарах», и его сменил, уже надолго, Игорь Офицеров.
Короче, вместо меня начали вводить этого самого Чайку. Но сначала не было костюма, потом он еще не знал мотивчики и тексты. А когда по бумажке новый Серый Волк мог уже петь все партии, то он не мог выйти на сцену из-за незнания мизансцен. Да еще… Мой сменщик, имел классическое вокальное образование, а весь спектакль делался под меня, с моим дворово-рок-н-ролльным образованием. В общем, трудно было парню…
Я, естественно, ехидничал по поводу трудностей новичка, но жизнь мне сполна отплатила за черноморскую Чайку. Гранов распорядился, что пора нового артиста вводить, хотя бы частично. Поэтому изображать любовь на сцене с Красной Шапочкой и защищать ее от хулиганов на сцене буду я, а петь за кулисами за меня будет дублер. Чем не фанера? Но фанера – это счастье, потому что записывал ее ты сам, и все нюансы, паузы и акценты тебе известны. А тут ты вдруг поешь в классической манере и пытаешься чувствовать, как тот парень за кулисами. Нервотрепка редкая. Эти дни, пока не сшили новый волчий костюм (кстати, Чайка в волчьей шкуре), я получил самую большую порцию отрицательных эмоций на сцене.
Когда я был Серым Волком № 1, была еще одна забавная ситуация с использованием микрофона за кулисами. В спектакле был такой персонаж – Черт. Играл его Слава Кузин. И вот однажды Кузьма заболел. Гранов, дабы не срывать концерты, назначил закулисным Чертом Виктора Рафаэлова. Нужно сказать, что Игорь Яковлевич очень трепетно относился к своему детищу и, во всяком случае, первые спектакли, от звонка до звонка находился за кулисами и пел за всех партии. Грохот на сцене не позволял слышать, что и как там поет шеф, но было видно, как он очень активно артикулирует ртом всю партитуру спектакля. Был второй или третий за день спектакль, спектакль, который уже был обкатан, и поэтому степень собранности артистов была не такой, как на премьере. Кузин и Рафаэлов опаздывают на свой выход… Гранов за кулисами, не видя того, что Черта нет на сцене, понимает, что микрофон, в который должен петь Рафаэлов, лежит, ожидая артиста, решает спасти ситуацию. Он хватает микрофон и начинает петь…
Представляете, какое счастье у музыкантов, услышать своего худрука. Дальше И. Я. понимает, что на сцене нет Черта, воровато бросает петь. В этот момент за кулисы и на сцену вылетают Кузин и Рафаэлов. В состоянии нервного напряжения больной Кузин и его дублер Рафаэлов начинают петь вдвоем. Потом, понимая свою ошибку, вдвоем же одновременно бросают петь. Не помню, как реагировали зрители, но после концерта было собрание, были заявления по собственному желанию без даты и «дыни» Кузину и Рафаэлову от шефа.
В этом же спектакле у меня был еще дуэт с Бабушкой, которую играл наш директор Владимир Петрович Колобов. Колобок – замечательный дядька, балагур, шутник, правда, не очень любил, когда подшучивали над ним. Когда-то Владимир Петрович был барабанщиком, но со временем переквалифицировался в директора ансамбля. Выходил он на сцену, играл как барабанщик, для того чтобы получать вокально-инструментальную ставку, так как административная должность оплачивалась на порядок хуже. Так вот, в нашем с ним дуэте (Серого Волка и Бабушки) за Владимира Петровича пел Паша Бабаков. Мой последний концерт в «Голубых гитарах», последний, а значит, «зеленый». Я договариваюсь с нашим звукорежиссером Валерой Приказчиковым, чтобы он на дуэте Пашин микрофон отключил, а Колобка, наоборот, вывел. После этого я подошел к Бабушке и сказал, что, для того чтобы зрителю не пришла в голову мысль, что поет не он, надо петь по-настоящему, с оттенками. И свершилось… Володя, бедный, не сразу понял, что поет он и звучит он, а когда понял… Что поняли зрители, я уже не помню. А меня уволить было уже нельзя – я был уже уволен.
И все-таки пронести себя целомудренным через все концерты не удалось. Невинность, как водится, я потерял в Сочи. По-моему, Сочи для этого и придуман. Я прилетел в Сочи из Риги, где днем ранее бахнул длинный и очень эмоциональный концерт.
Голос безвозвратно был потерян. Я говорю Саше Иратову, своему директору, чтобы меня вычеркнули из концерта – петь не могу и с «фанерой» проблемы: дескать, во-первых, у меня нет профессиональной фонограммы, а во-вторых, недавно был «Прожектор перестройки» и там гневно клеймили фонограммщиков. Но мои аргументы на организаторов не подействовали: ты один из тех, кого зрители пришли послушать. Потом это стадион, и никто ничего не поймет, а есть еще ложь во спасение.
– Хорошо, – ответил я, – но у меня все мои песни на разных компакт-кассетах. Свести их на одну не успеем. Хорошо, я согласен, если за пультом будет сидеть Иратов, за пультом будут два магнитофона, а на сцене будет стоять группа, так как на пленке есть инструментальное и вокальное сопровождение.
Конечно, условия были приняты. Иратов важно сел за пульт. У него были два магнитофона, чтобы вовремя включать нужную фонограмму.
Песня «Острова» – все хорошо, аплодисменты. Я даю Саше знак, чтобы он включал вторую песню, которая была на втором магнитофоне. Он с чувством собственного достоинства дает мне отмашку, включает второй магнитофон, забывая отключить первый. На зрителей обрушиваются два инструментальных вступления одновременно. Никто ничего еще не успел понять, а я уже дурным голосом закричал: «Стоп!!! Вот сейчас вы видели, как под фонограмму снимаются телевизионные передачи. Вчера в Риге я потерял голос и поэтому хочу вас спросить, как мне быть – петь живьем, но вы мне прощаете „петухов“ или продолжим имитировать ТВ-шоу». Естественно все закричали, что давай живьем. И я запел. Не знаю, как, не знаю, почему, но я спел «Черный рынок» и даже взял в конце ля. Потом в состоянии аффекта я спел еще пару песен и, получив свою порцию аплодисментов, ушел в подтрибунные помещения.
«Как ты посмел рассказать о фонограмме? Как теперь выходить следующим артистам? Ты о них совсем не думаешь? Ты их подставил!» – таков был монолог директора концерта.
«А они меня не подставляют, когда поют под „фанеру?“» – ответил я.
Ну, а что сейчас? Сейчас, по-моему, процесс зашел так далеко, что стал системным. Наверное, использование фонограммы, чтобы дурить публику, не было первым в ряду, как сейчас говорят, всероссийского обмана, но от этого не становится легче. Генномодифицированные продукты, договорные матчи в спорте, допинг, дуриловка на тотализаторе и так далее. Грустно… Хорошо, если у тебя есть возможность лечиться у семейного доктора. В общем, зарабатывая фонограммные деньги, мы едим фонограммные продукты и получаем разнообразные фонограммные услуги. Короче – круговорот фонограммы в природе.
Еще раз про любовь
Пусть говорят, что мы не воевали, А наши раны никогда не заживали. И каждый раз, когда меняется погода, Так ноют раны моего народа… А. ИошпеСлово антисемит я понял, вернее, мне объяснили, что это такое, довольно поздно – наверное, в классе девятом-десятом. Я не уверен, что осознание пришло с улицы. Скорее всего, я споткнулся об это слово, читая какую-то газетную статью. И пошло-поехало… Все чаще вокруг меня начали обсуждаться национальные вопросы, все чаще я слышал, что если бы… то было бы… И до сих пор эти проблемы обсуждаются в среде моего обитания, не сказать, чтобы часто, но разговоры возникают. Сказать, что я однозначно интернационалист, с молоком матери впитавший идеи Маркса-Ленина… Таки, нет… У меня к людям разных национальностей и разного цвета кожи, в частности к евреям, достаточно ровное отношение: кого-то люблю, если он мне симпатичен, кого-то нет – и так бывает.
Сейчас, углубляясь в историю моего отношения к проблеме, вспоминаю, что в детстве на бытовом уровне пресловутый антисемитизм существовал. Помню ситуации, когда еще в пятилетнем возрасте, короче до школы, в драке тебе разбивали нос, и ты, размазывая кровь, сопли и слезы по лицу, покидал поле сражения, бормоча своему обидчику, обычно русской национальности: «Еврей, еврей…»
Кто такой еврей и с чем его едят? Не знали, да и взрослые нам не объясняли. Знали, что обувь чистят и дворы метут татары, а евреи… Потом были анекдоты – анекдоты про грузин, про трех пузатых немцев и про евреев. Утверждают, что анекдоты очень точно отражают суть народа. Тех анекдотов я не помню, а может, после 1937 года их боялись рассказывать. С другой стороны, старый анекдот.
Вопрос: – Почему закрыли армянское радио?
Ответ: – Умер тот еврей, что его выдумывал.
К чему это я? А к тому, что, наверное, евреи не стали бы о себе дурного сочинять. Но есть другая фраза, что самые большие антисемиты – это евреи. И другая – ради красного словца не жалею и отца. А в школе – в общеобразовательной, да и в музыкальной – ни я, ни мои друзья не задавались вопросом, что бы могло значить отчество моего нового дружка. Отчеством друзей не интересовались и в гости друг к другу ходили редко. Не знаю, как в других семьях, а моя мама строго-настрого наказала мне, чтобы я не ходил к друзьям домой и тем более не садился за стол, потому что все жили бедно и каждый лишний рот – это была проблема. И мы гоняли в футбол и по крышам дотемна, и уважение завоевывалось умением бегать, прыгать, хорониться или пройти по карнизу дома, который еще не снесли. Может быть, если бы меня в музыкалке отдали на струнное отделение, то… Но я учился на народном…
Вспомнил, что моя матушка, будучи учительницей по профессии, подрабатывала репетиторством. И у нее был ученик – еврейский мальчик Миша Бикерман. Он ходил к нам домой, и я невольно участвовал в этих уроках. Мише было семь лет, а мне пять. Мамин ученик усваивал уроки школьной программы с трудом, с пятого-шестого раза. Горе – еврейский мальчик-двоечник, почти столь же редкое явление, как еврей-пьяница. Так вот вместе с Мишей школьную программу на два года раньше, чем надо, усваивал и я. А через два года, когда я пошел в школу, то все схватывал на лету…
Израильские агрессоры никоим образом у меня не ассоциировались с Гутерманом и Литвиной из нашего класса. И я осуждал союз Израиля, Англии и Франции не потому, что был за арабов, просто я тогда еще не понимал, что такое идеологическая обработка трудящихся. И поэтому, когда с мамой слушали очередные новости по радио, я вслед за ней повторял: «Господи, лишь бы не было войны». Тогда еще я не понимал, что война была Вчера – ну что такое десять лет назад, – это я о войне с фашистами.
Не знаю, может быть, жители наших трущоб в Лесных переулках, не читали нужных книжек, не рассказывали умных анекдотов, а может быть, просто я еще не дорос… Ведь Майн Рид и Александр Беляев с Фенимором Купером не заселяли страницы своих книг скачущими на конях и взлетающими в космические дали и опускающимися в морские пучины Соломонами и Моше, Сарами и Руфинами. В них были Зуриты и Гутиэре, Верная Рука и Виннету.
Но, взрослея, я все чаще сталкивался с обсуждением еврейского вопроса в СССР. То в передаче «Голоса Америки», то друзья на кухне… А потом пришло пресловутое умение читать между строк. Сказать, что я был всегда солидарен с «протестующим меньшинством», было бы некорректно, но у меня появился фактический материал, и мои аналитические способности позволяли раскладывать факты по полочкам. Получающаяся картина мне не всегда нравилась. Но страстное увлечение музыкой отвлекло меня от поиска политического гуру. Я пел – это нравилось мне, это нравилось моим слушателям. Я был сыт своей музыкой. А сытый голодного не разумеет.
Но самое забавное, что меня часто принимали за еврея. Помню, я долгое время в начале 70-х, когда началась довольно сильная волна отъездов евреев из СССР, обсуждал со своими новыми знакомыми еврейской национальности вопрос – «Уезжать или не уезжать?». Я изрекал что-то умное, цитировал анекдот, что здесь плохо и там плохо, но дорога через Вену. После этих разговоров я вырастал в своих глазах. А однажды я спросил маму девочки, с которой у нас были интенсивные перегладушки:
– А почему вы у меня спрашиваете совета?
– А ты разве не наш?
Пришлось объяснить, что наш или не наш имеет, как минимум, два аспекта.
– Если про национальность, то во мне совсем нет еврейской крови.
– Странно…
Наверное, действительно странно, потому что вскоре у меня произошел забавный эпизод. После одного из моих выступлений ко мне подходит зритель с очень характерной внешностью и опять же с присущим детям Сиона акцентом спрашивает:
– Малежик, а кто вы по национальности?
– Украинец…
– Вы – украинец? А как ваше отчество?
– Ефимович…
– О, Фима Малежик… Он мне рассказывает…
– Вы сильно удивитесь, что отца моего звали Ефим Иванович, а деда Иван Семенович… А может, Иван Самуилович?
Зритель в растерянности отошел.
Наступила перестройка… В конце 80-х – начале 90-х был массовый отъезд моих знакомых. Я был музыкантом, и среди моих коллег бытовало мнение, что надо уезжать не для себя, а хотя бы ради детей. Помню концерт популярного московского конферансье Володи Халемского. Он попросил спеть для него в Подольске – у меня было имя, мы собрали аншлаг. Потом прощались, выпивая за тех, кто уезжает, и за тех, кто остается. Было грустно… Уезжали талантливые хорошие ребята.
Кто-то из них, обладая недюжинной хваткой, сумел зацепиться за жизнь там, кто-то потерялся. М. Шуфутинскому и Л. Успенской нужно было уехать из страны, чтобы потом ее завоевать. Судьбы…
А я в 1990 году был приглашен с концертами в Израиль. Было безумно интересно… Каждый день образ Израиля менялся. Удивительно маленькая, ну как Московская область, страна расположена в пяти климатических поясах. Люди, населяющие страну, настолько разные, что диву даешься. Выходец из Европы и из Африки, белый и черный, и тот и другой евреи. И, может быть, правильно, что основной признак того, что ты еврей, – вера. Но…
Но очень провинциально. Это даже не Тернополь, а предместье Тернополя. Особенно это касается культуры. Ориентир – доказать тем, кто остался в СССР, что мы, эмигрировавшие, достигли благополучия и сделали правильный выбор. Правда, иногда это соревнование мне напоминает бесконечную борьбу России с Соединенными Штатами. Как в том, так и в другом случае оппонентов не очень беспокоили успехи израильтян и русских «Эллочек-людоедок».
Меня, как артиста, принимали широко и по-российски гостеприимно. Наша менеджер Шема Принц и ее муж Володя были щедры и открыты. С удовольствием показывали свой Израиль и были счастливы, если мы восхищались. А это чувство часто посещало нас. Шема и Володя были владельцами магазина русской книги «Книжная лавка», и этот магазин был центром жизни русской эмиграции. Мы вдоволь поболтали и попили чаев с В. Никулиным, М. Козаковым, Л. Каневским, В. Халемским. Заскакивали на огонек известные репортеры и телеведущие – А. Левинсон с женой, которая работала на русскоязычном телевидении под Сашиной фамилией. Красавица Рижская, по-моему, ее звали Валерия, не раз встречала нас с Шемой на пороге «Книжной лавки». Да и русские (по гражданству) актеры знали, что найдут здесь приют и тепло. Незабываемый вечер мы провели в доме Шемы с Александром Абдуловым, Таней Васильевой и Георгием Мартиросяном. Кстати, уровень литературы на прилавке «лавки» был удивительно хорош. А люди, приходившие в этот дом, объяснялись на блестящем русском языке.
Но русский язык и «Русский театр» были в Израиле клоном, особенно театр, и поэтому большинство людей, в том числе и актеров, считали, что следующим поколением израильтян он не будет востребован.
И многие стали возвращаться: Михаил Козаков, Макс Леонидов, да и Леонид Каневский все чаще стали бывать в России. И это нормально…
Многие стали жить на две страны. Больше скажу, кто-то стал даже более русским, уехав из СССР. Саша Лерман и Юра Валов, живя в Америке, значительно больше времени отдавали церкви, чем до отъезда. Вернулись в Россию мой соавтор С. Таск, композиторы А. Днепров, С. Дьячков. Почему-то им там не писалось… Но это трагедия не только отдельно взятых людей, которые не хотели жить по тем правилам, что им предлагали, но и трагедия страны, из которой эти люди уезжали. А мы недочитали, недослушали, недосмотрели…
Почему так произошло, почему ни одной песни не написал в Израиле С. Дьячков, почему не состоялся там как творческая личность М. Леонидов, а его жена русская девочка Наташа Селезнева стала звездой израильской сцены? Я не буду обобщать и делать выводы, скорое всего, в каждом случае свои причины, и как здорово, что сейчас есть возможность Артисту самому решать свою судьбу. Во всяком случае, я так надеюсь.
Меня эту главу сподвигла написать Алла Иошпе. Алла Иошпе – певица, но в этот раз я ее для себя открыл в большей степени как литератора – автора замечательных стихов и прозы. Она рассказала свою судьбу в книге, которую написала. Все вроде бы обычно, ничего, казалось бы, нового я не узнал. И вот поди же ты… Зацепила… И в очередной раз убеждаешься, что жизнь – лучший сценарист. Думаешь, ну за что одной женщине, одной семье столько испытаний? Но нам не узнать промысел Божий и, может быть, не было бы этих стихов и этих строчек в ее книге, если бы… А петь она умела всегда.
А, собственно, о чем я? Да все о том же. О любви… О любви к человеку, а не к национальности, о любви к его таланту и доброте, о любви и уважении – прежде всего об уважении к самому себе, так как, уважая себя, ты не сделаешь ничего такого, что отзовется болью в другом.
Американец
I
Давно прошли те времена, когда любой житель страны обетованной под названием Соединенные Штаты Америки был для меня, да чего греха таить, и для многих моих сограждан неким небожителем, человеком высшего устройства, высшего интеллекта, ну и далее по списку. Причем это осознание пришло не сразу, но пришло. После пары посещений Нью-Йорка, Сиэтла и Лос-Анджелеса я стал понимать, что они все разные: кто-то похож на нас, кто-то является нашим антиподом.
Хотя прослеживались общие закономерности в их поведении и характерах. Причем часто, если их поведение и поступки явно не согласовывались с нашей оценкой этого же события, то легче всего удавалось признать их «козлами» и недоумками, не особенно вникая в мотивацию поступков «америкосов». Тщеславие, собственное тщеславие раздувалось до непомерных размеров, и ты лишний раз убеждался «в преимуществах социалистического типа хозяйствования».
Потом пришло осмысление, что алгоритм их поведения обусловлен их жизнью – их привычками, их религией, их уровнем достатка, их средствами массовой информации, которые обрабатывали, подтачивали, делали стандартными, желательно президентопослушными господами. И вот уже почти в каждом дворике развевается флаг США, почти все умиляются до слез при виде изображения Микки-Мауса, все с чадами и домочадцами отправляются на стадион посмотреть и поболеть за местную бейсбольную команду, пожевать «хрустиков», попить пива и потрепаться с соседями, повернувшись спиной к полю.
Да и чего там смотреть? Ничего не происходит – вяло ходят белые и черные спортсмены с палками, т. е. с битами. Кидают мячик размером с теннисный. Мячик такой маленький и его так сильно швыряют, что с трибуны ничего не видно. И вот это действо совершенно не отвлекает от поглощения пива, сосисок и от пустого трепа. Если пива или компонентов к пиву не хватило, посылается гонец, который через пару-тройку минут возвращается, загруженный под завязку, и праздник продолжается. Это броуновское движение происходит до момента, когда игрок с битой в руках не попадет по мячу… Тогда все с единым воплем вскакивают и с интересом смотрят – поймает мяч, не поймает один из игроков противоборствующей команды, в то время как игроки команды противника несутся, чтобы занять очередной «дом», а затем и «базу», принося своей «dream-team» заветные очки. Забег окончен, все успокоились, трапеза продолжается. Это спорт № 1 в США и играют в бейсбол ну еще в пяти, от силы семи странах, типа Японии и соседнего Пуэрто-Рико. Но зато у них свой путь и своя непохожесть… Ну что тут скажешь? А что сказать – нет у них своего Достоевского, а если бы был, то и не надо бы было играть в бейсбол. Но не суди и не судим будешь.
И все равно рок-н-ролл родился и вырос в Америке, и мечта прикоснуться к первоисточнику, постоять рядышком, а если еще и посвященнодействовать… Короче, когда очень хочется, то тебе дается шанс. О чем я? Да все о том же – о музыке, о рок-н-ролле. Ну очень хотелось повариться в этом котле, хотелось окунуться в этот рассол, настоянный настоящими мастерами рок-н-ролла и блюза…
И вот однажды, это было зимой 1995–1996 годов, из Америки позвонил Юрий Валов. Он уехал из России (тогда СССР) в 1975 году, как думалось, навсегда. Но перестройка, осуществленная М. Горбачевым и его правительством, открыла границы, и не только Валов стал путешествовать в Россию и обратно, но и все, у кого были желание и деньги, стали летать и ездить разнообразными маршрутами.
Мы с Юрой последний раз перед этим созвоном встречались в Нью-Йорке, где он жил на 187-й авеню или street (не помню, а разбираться не хочется), снимая квартиру на пару с Сергеем Дюжиковым, гитаристом, с которым меня связывали давнишняя дружба и совместная работа в «Саквояже». Но жить по соседству с какими-то островитянами им надоело, и они рванули в Калифорнию, где всегда лето и лишь иногда «бабье лето». Оттуда-то и раздался звонок Валова:
– Привет!
– Здорово!
– Ты как?
– Да вот мы с Серегой обитаем где-то между Эл-Эйем и Сан-Диего.
– Что делаете?
– Да всякое. Из постоянной работы играем в бэнде «Street dogs» вместе с одним богатым мэном, два раза в неделю, и он нам платит за это по полторы штуки баков.
– А кто он?
– Да вице-президент «Bank of America». Судя по всему, его личный психотерапевт посоветовал ему играть рок-н-ролл пару раз в неделю для relax-а. Вот он нас и собрал.
– А откуда вы его знаете?
– Да мы в хиппистские времена…
– Кто мы?
– Ну я, Лерман, Валера Сейнтский… Помнишь нашу группу «Саша и Юра»?
– А то!
– Ну так вот мы с ним тусовались во Фриско, он был клевый парень, а потом он как-то там удачно женился и пошел в гору. От нас он отошел, наш тогдашний образ жизни – трава, телки и прочее – мешал его карьере. А сейчас мы нашлись и играем вместе.
– Только с ним? – спросил я.
– Да нет… Валера еще работает в студии. Ник, а его зовут Николас Бинкли, поставил туда аппарат. Серега играет в трех разных местах с разными бэндами, я занимаюсь компьютерной графикой.
– А ваш Ник играть и петь умеет?
– Голос есть… Он еще песни сочиняет, кстати, неплохие тексты получаются, и голос – такой жирный баритон. Правда, долю часто теряет, когда играет, но мы его ловим.
– Ну и?
– Раз в сезон он, чтобы почувствовать себя артистом, снимает клуб, приглашает друзей и подчиненных, накрывает им столы. Дальше он им поет, они едят и слушают и благодарно аплодируют. Еще он сделал лейбл…
– Что он сделал? – решил уточнить я.
– Ну фирму, которая выпускает пластинки.
– И кого он выпустил?
– Ну, из известных у вас Джона Фогерти.
– Из «Криденс»?
– Да, из «Криденс», но без «Криденс».
– С какими людьми ты общаешься!!!
– Так вот. Ник где-то прочитал, что в России проводится в Питере фестиваль «Белые ночи». Можешь ли ты его туда запихнуть?
– Не знаю. А зачем ему это?
– Да ему не хватает «гербов на его карте». Он готов проплатить переезд всем нам, а ты представляешь, как хочется прилететь в Россию нам на шару. Готов оплатить съемочную группу, жилье, питание за возможность отыграть тридцатиминутный сет на Дворцовой площади.
– Хорошо, я узнаю.
И я узнал. Узнал и дозвонился до Владимира Киселева, который был художественным руководителем этого проекта.
– Пусть прилетает, пусть поет – все равно мы не знаем, чем забивать дневную программу. Если он за все платит, то я готов даже ему налить за свои деньги, – таков был ответ Киселева.
Но «Street dogs» не прилетели в Россию. У С. Дюжикова были какие-то проблемы с документами, и он побоялся, что, въехав в страну, он не сможет вернуться назад в США. Ник не прилетел в Питер, но, будучи благодарным человеком, он предложил мне прилететь в Калифорнию, познакомиться, записаться… Он даже предложил мне сессионных музыкантов, которые были у него на зарплате – не были, не знаю, но я за их работу из своего кармана не платил. И почему-то сказал, что готов оплатить половину дороги. Я долго ломал голову, почему половину, а не всю или вообще не платить за дорогу. Ответа не нашел. И решил, что черт этих банкиров разберет… Наверное, деньги счет любят, поэтому он и миллионер. Кстати, я спросил об этом Валова потом.
– Не бери в голову. Нам их не понять…
– В смысле?
– Они ментально другие. Ну зачем, к примеру, ему и его жене, которая в разы богаче его, вырезать какие-то объявы о разных акциях в газетах. Представляешь, собрав 137 таких тикетов, они получают скидку 75 центов за тонну товара.
– Круто!
– Вообще он странный парень… Ко мне матушка прилетала. Он долго ее зазывал в гости. Она все это время для него вязала шарф. Наконец, время свидания было назначено. Мама испекла для Ника, Дайаны и детей пирог, и мы поехали. Ник нас встречал в кроссовках, шортах и майке. Пригласил в гостиную и попросил подождать его, так как у него в это время была пробежка. Мама со своим пирогом и я уселись в кресло и стали ждать. Через 45 минут Ник, не заходя в гостиную, проследовал в душ, а потом сказал, что после физкультуры он должен поспать. Еще через час счастливый, отдохнувший банкир вышел из опочивальни и с удовольствием принял дары московской гостьи. Беседа со мной как с переводчиком продолжалась пять минут, а потом лидер «Street dogs» отбыл в банк решать насущные проблемы. А ты хочешь его понять! Но все равно он – добрый малый.
И мы с женой прилетели в Эл-Эй. Я, чтобы записать альбом с самыми что ни на есть американскими музыкантами, а Таня, чтобы оттянуться на берегу Тихого океана. Нас встречал Юра Валов. Он рассекал дороги Калифорнии на японском автомобиле, купленным за 800 долларов у прошлого хозяина. У этого хозяина, судя по всему, был пес, и он прогрыз обшивку сиденья рядом с водителем. Из кресла торчала вата, пепельница была полна окурков и пепла, и по этим признакам его, то есть автомобиль, пора было менять. Собственно, бывший владелец его и сменил. Но у Валова он еще как передвигался, и на нем даже встречали звезд российского розлива.
Мы доехали до дома Ника, и он, разместив нас в отдельном блоке для гостей, показал холодильник, со словами:
– Help yourself.
Я понял, что он рекомендовал нам не стесняться и пользоваться яствами из холодильника по мере нужды. Я ответил: «Yes», но преодолеть табу и влезть в чужой холодильник мы с женой так и не смогли.
Кстати, то, что мы ездили с Валовым на его автомобиле с видимым удовольствием, никак не согласовывалось у Бинкли с представлениями, как должны вести себя звезды. Никаких тебе эскортов мотоциклистов, никаких телохранителей… Странно… И только когда я взял гитару и спел, Ника отпустило. Ведь черт поймет этих русских, да и американских тоже.
Но я занимался делом. Музыканты, с которыми мне посчастливилось работать, были хороши. Барабанщик от Боба Дилана, басист, переигравший со всеми по обе стороны океана, клавишник – саунд-продюсер Оззи Осборна. Все складывалось. Самое удивительное, что мои новые друзья меня воспринимали, как босса, и ловили каждое движение моих губ. Единственный русский – Сергей Дюжиков. Блестящий гитарист да еще дружок, какой я для него босс? Но это мелочи. Потихоньку я с себя сдирал коросту лживых представлений о том, как надо, и мой организм задышал истиной.
Мое умение придумывать песни и петь, позволило мне на равных разговаривать со своими новыми партнерами. Название пластинки я придумал «Однажды в Америке», но Валов убедил меня назвать ее «В Новом Свете» – так более емко. А потом Валов нарисовал оформление альбома в виде письма от Меня Тебе. В общем, какая-то «From me to you» получилась. Кто не знает, это название песни «The Beatles».
Обычно наши сессии звукозаписи проходили с утра, и вторая часть дня посвящалась купанию, экскурсиям и общению. Татьяна подружилась в Дайаной, и они методично прочесывали магазины от Лос-Анджелеса до Сан-Диего. Иногда забирали нас с Ником, и мы знакомились с мексиканской и китайско-японской кухней. Были в ресторанчике, хозяин которого придумал коктейль «Маргарита». Но «Маргарита» нью-йоркского, да и московского разлива почему-то произвели в свое время значительно большее впечатление (и соль-то была не такой, и ледяная шуба некачественная, а уж текила – «Люлек, не доливают»).
Иногда мы оставались с Ником вдвоем дома или в его машине. Мечтали и придумывали совместные планы. Однажды вечером я придумал русский текст (музыку и английский текст сочинил Ник) для пары куплетов песни «О дружбе водки и скотча». И впоследствии мы этот song записали с Ником на пару вместе со «Street dogs». Получилось неплохо. И мой американец послал дубль Биллу Клинтону, известному в США президенту и саксофонисту.
В свободное от посещений Овального кабинета время Билл ознакомился с нашим творением и дал сиятельное указание своим службам написать нам письмо, в котором отмечался неоценимый вклад Ника и меня в развитие и укрепление… Мы это письмо получили, Ник его поместил в рамку и повесил где-то на стене в своем кабинете, а я время от времени натыкаюсь на него среди своих архивных бумажек.
К Клинтону отношение у меня противоречивое: со знаком «+», когда вижу его на концерте «Stones», большущий «-», когда вспоминаю бомбардировки в Белграде и Сараево. По поводу Левински не определился, во всяком случае, у Кеннеди «секретарши» были более привлекательными, но на вкус и цвет…
После моих друзей Олсонов и Смитов из Сиэтла, которых я считал по своей бесшабашности почти русскими, Николас Бинкли был более приземленным, более материальным. Его компьютерное мышление иногда ставило меня в тупик, и тогда я приходил к выводу, что мир многообразен, и не надо судить о других людях по своим меркам. Думаю, что и я удивлял его в принятии каких-то решений. Хотя умение выслушать собеседника и пропустить его боль через себя, вообще свойственное русским, удивляло Ника и импонировало ему. Он меня называл часто «special man», хотя ничего особенного я не делал. И мы шли друг к другу навстречу, впитывая в себя что-то лучшее, что в нас самих было. Я учился профессии, учился умению быть рациональным. Ник с нами становился все более душевным и тянулся к русским. Русский бэнд – и вообще русские – привносили в его душу не только релакс, но и душевную теплоту.
Однажды мы с Ником возвращались в его дом, и он притормозил около торгового центра. Мы остановились и начали ждать. Я сначала не понял, что… Мы заказали кофе и сидели в машине – трепались, потягивая напиток из разовой посуды.
– Чего ждем? – спросил я.
– Через двадцать минут будет снижение цен.
– И…
– И тогда мы пойдем и купим хлеб.
– И насколько же хлеб подешевеет?
– На пятнадцать центов.
Я остолбенел – миллионер, богатый, умный, красивый мужик, сидит в автомобиле и ждет понижения цен. Честно говоря, раньше я не задумывался, как должны жить миллионеры, а в окрестностях моего жилья таковые не наблюдались. А тут выясняется, что ничто человеческое им не чуждо. Причем, наблюдая сборы тикетов Дайаной и ожидание понижения на 15 центов цены хлеба, я понял, что ничто человеческое находится в запущенной форме.
– Ник, маленькая арифметическая задача. Твоя зарплата N долларов, вы же в неделю ее исчисляете? Так вот – в день ты зарабатываешь N/7, в час, а у тебя восьмичасовой рабочий день получается (N/7/8). Стало быть, минута твоя стоит (N/7)/8/60. Теперь подставь вместо N свою зарплату, выраженную в долларах, и ты узнаешь, сколько будет стоить твой хлеб. Из той цены вычти скидку, и ты поймешь, на сколько тебя обдурили, потому что…
– Да я понял, но я никогда так не считал.
– Но ты меня все равно не слушай, потому что это рационализм по-русски.
II
Мы улетели в Москву, а через полгода у меня был юбилей, страшно подумать – 50 лет! И я пригласил Ника прилететь и спеть со мной в концертном зале «Россия». И Ник засобирался. Правда, до его приезда в Москву я пару раз слетал в Эл-Эй, записал со «Street dogs» нашу с ним песню, а во второй приезд свою пластинку «Музей воспоминаний». Ежевечерние прогулки мои с Юрием Валовым нас настолько сблизили, что мне стало грустно с ним расставаться.
И мы с Юрой пошли к Нику и убедили его, что Валова надо заранее командировать в Москву, чтобы он все подготовил к приезду группы товарищей из Америки во главе с лидером «Street dogs». Помимо музыкантов, летели еще операторы. Надеюсь, вы, читатели, не забыли, с чего началась наша дружба.
И Ник согласился, и Юра Валов прилетел в Москву на полтора месяца раньше, чем вся группа русских американцев и американских американцев. А за это время Юра в Москве не терял времени зря, и у него в жизни произошло событие, ради которого все это стоило пройти, и не один раз. Юра (я не помню, участвовал ли я в розыске его Наташки или нет), назначил свидание своей возлюбленной времен их совместной учебы на юрфаке МГУ. Так случилось, что они встретились, и, оказывается, их чувства не заржавели. Наташа в это время была свободна от семейных уз, да и Юрины браки в Америке считать успешными не приходилось. Правда, Наташа к этому времени была генерал-майор конституционной службы, а Юра – музыкант «Street dogs». Классный мужик и специалист еще в разных отраслях «народного» американского хозяйства. И они нашли друг друга, поженились, обвенчались и живут в нашей стране вполне счастливо.
Но до этого был юбилейный концерт, и вот вся команда в Москве. До этого Ник был в нашей столице в 1968, но это не в счет. А в этот раз он вдруг понял, что можно не разъезжать на лимузине с кучей body-guard-ов и при этом быть узнаваемым артистом.
Масштаб Концертного зала «Россия» и репетиционного в студии на улице Качалова пришиб моего американца. Он испугался и предложил снять «Noviy Мir» под фонограмму. Стоило больших усилий – моих и Валова, Дюжикова и моей жены, чтобы переубедить Ника. И мы спели живьем, и был успех.
А я лишь изредка мог вырваться из-за подготовки к концерту, чтобы показать Нику «мою Москву». Валов пытался меня убедить, чтобы я не платил за американцев в ресторане, так как Ник не привык к этому, и что он плохо чувствует себя, если за него кто-то рассчитывается. Но в «Царской охоте» и «Шинке» я не заметил ухудшения состояния здоровья миллионера-музыканта, когда я принимал счет к оплате.
Вскоре после положенных банкетов и прочей подобной ерунды, мы с Танюхой решили всех пригласить на дачу. Был конец февраля. Дача, водка, русская закуска, баня – этот ассортимент мероприятий не обсуждался. Проблема была такова – будет ли традиционная русская забава – купание в снегу после бани или нет. Противопоказание – корочка льда, которой покрывался снег после воздействия яркого, уже почти весеннего солнца в течение дня.
И мы с женой, тяжело вздохнув, сказали: «Надо так надо». И была баня, и рюмка водки перед броском в снег, и были наши (наши с Татьяной, потому что мы были этакими «ледоколами») поцарапанные льдом тушки. Все была счастливы.
Но часто беда ходит рядышком. Аманда – режиссер фильма о «великом американском певце и банкире» – однажды не вернулась в дом после очередной снежной ванны. Ее отсутствие обнаружили минут через десять. Когда, не найдя ее в доме, я выглянул в окно, то увидел американскую девушку в сугробе. Она продолжала обтирать себя снегом, бессмысленно глядя перед собой. Ее сходство с Русалочкой из Копенгагена усиливалось тем, что Аманда от холода почти окаменела, хотя русалкиного хвоста, прикрепленного к организму американки, я не обнаружил.
Потом ее привели в дом, отпаивали водкой, а мужчины на пальцах решали вопрос, кому растирать эту не лишенную привлекательных выпуклостей американку. Ю. П. Ремесник отказался участвовать в отборе, а мы… Правда, потом пришла моя жена и разогнала нашу кают-компанию, взяв на себя обязанности массажиста. Аманда была спасена и даже не простудилась.
III
Отчалив в свой штат Калифорния, Н. Бинкли начал мечтать о новой возможности приехать в Рашку, правда, с условием – помузицировать для отзывчивого русского зрителя. И я придумал, что во время так называемых Игр юношества в Москве появление моего друга в столице не испортит атмосферу «всеобщего единения» спортсменов и жителей столицы. В этот раз Ник прилетел один без сопровождающих музыкантов. Правда, с ним был его сын Байрон. Байрона я доверил своему старшему – Никите, и они зажигали с ним по полной программе. Правда, до конца Никита установку родителей не выполнил – лишить Байрона невинности московским красавицам не удалось. Зато удалось сохранить в тайне его миллионерское происхождение, и никто из опасных хищников на него не спикировал.
А мы с Ником спели пару раз для спортсменов, затем для американских служащих посольства США в России. И был еще один концерт, концерт в больнице, которая специализируется на лечении детишек, больных ДЦП и вообще с проблемами опорно-двигательной системы. Я шефствовал над этой больницей около семи лет и пел даже не для детей, а скорее для их родителей, сопровождавших своих деток в этой клинике.
Концерт удался – дети, их родители и медицинский персонал нас тепло приняли, а затем пригласили в кабинет главного врача. Во время застолья Ник так расчувствовался, что объявил, что найдет способ, как перевести деньги для этой больницы. На что потом, возвращаясь в отель, я сказал Нику:
– Не надо посылать чистые деньги, уйдут в никуда, и детям ничего не достанется. Давай лучше кресла-каталки, специальное оборудование, короче, я узнаю, что им нужно, и мы с тобой свяжемся, и ты это приобретешь для больницы.
Через три месяца Ник позвонил и сказал, что он нашел пути, как провести все это через налоговые службы.
– По факсу напиши, что нужно… – кричал Ник.
И я пошел в знакомую больницу и рассказал об инициативе Н. Бинкли. Но ни в первый раз, ни в несколько последующих моих приходов результата я не добился. Никто с Америкой не связывался. Как там было, утверждать не буду, но, наверное, необходимость решать проблемы с таможней, подписывать кучу бумаг и отсутствие возможности кое-что урвать для себя привели к тому, к чему привели. Больше того, однажды некий сиятельный господин сказал:
– Пусть он лучше моей дочери купит машину, а у нас и так все есть.
Инициатива оказалась в очередной раз наказуемой – больница не получила оборудования. Я, разозлившись, испортил отношения с главврачом, дети и их родители потеряли возможность слышать мой ежегодный концерт, так как я перестал им петь. А Ник?.. Ник, я думаю, еще раз заблудился в «загадочной русской душе».
IV
Жизнь продолжалась. Я гастролировал, записывался, в общем, функционировал в своем обычном режиме. Валов, перебравшись в Москву и создав семью с Натальей, реже нуждался во мне и наших многочасовых разговорах, и слава Богу… Ник в своих Америках как-то трудился, и мы лишь изредка перезванивались, приурочивая звонки к праздникам. В кино этот период был бы заменен фразой – прошло восемь лет. Да, да, восемь лет, когда ничего экстраординарного не происходило, что поменяло бы уровень наших отношений. Даже мои и валовские приезды в Эл-Эй и приезды Ника, а также его детей в Москву не оставляли заметного следа.
А через восемь лет ушла из жизни Дайана – жена Ника. Он позвонил в Москву и сказал, что ему плохо.
Мы пригласили его в гости, и он, как мне показалось, с радостью принял приглашение. Мы с Валовым выработали «комплекс мероприятий» по возвращению нашего калифорнийского дружка к жизни. В этой программе «музицирование» рассматривалось, как мощный психотерапевтический инструмент воздействия на Ника. В этот раз Ник остановился у меня. Никаких «Метрополей» и «Националей». Совместные застолья и бесконечные беседы, в основном о Дайане, о том, как у них все было. Я в сотый раз слушал его рассказ, как они на островах встречали рассвет и как она его вдохновляла, как она умела слушать и о том, что он «до сих пор не понимает, почему она выбрала его».
Валов не всегда присутствовал при наших беседах, и моего английского не всегда хватало, чтобы понять детали рассказа Ника. Но я, как преданный пес, смотрел в глаза моего американского друга и искренне переживал его трагедию. А ему и не надо было, чтобы я понимал, главное, что я слушал. И Ник пошел на поправку. Я это заметил, когда он начал улыбаться, а потом и вовсе вспомнил «старые времена» и попросил меня рассказать анекдот.
– Я так люблю русские анекдоты.
Валов прокомментировал улучшение состояния здоровья нашего банкира так:
– Знаешь, их пресловутое «keep on smiling» (держи улыбку) приводит к тому, что они эту улыбку приклеивают к своему лицу, плотно закрыв все двери и окна в свою душу. Разговор по душам – это типично русское изобретение. Ты своей внимательностью и куском души, который отдал Нику, больше сделал, чем все антидепрессанты, прописанные ему «чудо-докторами». Живя в Силиконовой долине, сам поневоле становишься компьютером.
– А я кто? Наверное, арифмометр?
– Нет, арифмометр я, а ты счеты, нет, даже счетные палочки.
И Ник улетел в Америку, чтобы вернуться в Москву на мой очередной юбилей и, как водится, на сопровождающий это событие концерт. Репетиции мои с московскими музыкантами проходили в ДК какой-то закрытой военной организации, где надо было предъявлять паспорта. В общем, режим… Американцам вход туда был запрещен, и мы решили сыграть нашу старую добрую песню «Новый мир» и классическую «Johnny be good». На коленках и акустических гитарах мы вспоминали, что пели и играли, и успокоились.
А еще Ник затеял фильм о начале русского рок-н-ролла, о том, что он раскачивал «лодку большевизма». Валера Сейнтский, ну, тот, который из «Street dogs», тянул Ника и съемочную бригаду в Ригу. Именно там, твердил Валера, который был родом из Риги, произошло землетрясение, вызвавшее цунами рок-н-ролла, смывшего деспотию большевизма. Стас Намин, оказавшийся в нужном месте в нужное время, убеждал Ника, что кремлевский рок был зачат в недрах его группы «Цветы».
– А как же «Дон-река»? – спрашивал Стаса Ник.
– Какая еще «река»? – возмущался Стас, – не знаю никакой «Дон-реки».
– Как? Ну, такая красивая песня Славы.
– Ник, слушай «Цветы», и ты найдешь ответы на все вопросы.
А я был занят подготовкой концерта, и мне не было дела – зачислят ли меня в патриархи рок-н-ролла и буду ли я одним из тех, кто закладывал «мину замедленного действия» под основы основ.
Вообще-то, если так делаются все исторические исследования, то грустно, господа. Но, как говаривал Наполеон, историю пишут победители. А я, видно, воевал на другой войне, хотя, скорее, проповедовал пацифизм, граничащий с пофигизмом.
И был концерт, и опять хороший успех группы, состоящей из русских и американских товарищей. И мы спели любимую Ником и совершенно не известную Стасу Намину песню «Дон-река».
Ник улетел в Лос-Анджелес, переполненный впечатлениями, подарками и записями с интервью патриархов отечественного рока. Фильм до сих пор дорабатывается. А выйдет ли? Узнает ли передовая общественность, как все было на самом деле, или будет беспомощно плутать в диких зарослях первобытного русского рок-н-ролла, царапая душу и память?
А Ник? А Ник влюбился в молодую женщину, родом с Ямайки. Вроде как счастлив, и, судя по всему, проблема русского рок-н-ролла его волнует, но не так чтобы часто. Недавно пришла традиционная рождественская фотка со всей семьей Ника. На ней старший Бинкли со своей ямайчанкой (как словечко?), дети с бой– и герл-френдами и дочка его новой жены – хорошенькая, как пели «Rolling Stones», этакая «Brown Shuger». Все улыбаются, все счастливы, конец фильма. «Keep on smiling»? Ну, что ж…
О, счастье жить в эпоху матриархата
Старая формула, что мужчина – главнокомандующий в семье, не стареет, хотя у этой формулы – куча нюансов. Начнем с того, что жизнь под пятой – не самый худший метод существования… И вот я уже слышу гул протестующего мужского коллектива. Конечно, здорово рулить, конечно, здорово решать судьбы мира, но, Боже мой, как трудоемко и как морально тяжело. Ты берешь на себя ответственность, что решишь проблему, а потом тебя же еще и пилят за то, что что-то не так. А так, сидишь под каблуком, защищенный этим самым каблуком от всех житейских бурь, и не загружаешь себя мыслями о том, что они думают и как собираются выползать из ситуации, которая с точки зрения мироздания не стоит и выеденного яйца. И никто-то тебя не достает, что проблема не решается, и никто-то тебя не ругает, что надо что-то придумать и не сидеть сложа руки. Правда, надо иметь определенную силу воли, чтобы доказать, что ты ни на что не годен.
А что таких не любят женщины, так это брехня. Во-первых, статистически их, женщин, больше, а во-вторых, они, то есть женщины, надеются, что они, именно они, сумеют перевоспитать эту «размазню», и под их влиянием… И тут им надо чуть-чуть подыграть… И женщины, уверенные в себе и своем предназначении, расколятся, но попытаются сделать из тебя «настоящего мужчину». А тебе останется только делать те телодвижения, которых от тебя ждут. И ты славно плывешь по течению, а твоя «избранница» успешно тебя прикрывает на всяких водоворотах и перекатах жизни. Самое смешное, что она же тебя и защищает, пытаясь убедить окружающих в том, что ты не пустоцвет и не трутень, скорее самец-производитель и защитник.
И вот уже наступили пожилые годы, а ты все еще не пробовал совершить даже учебный полет, покинув родное гнездо. Самка-женщина успешно заменила самку-мать, и ты неспешно открываешь рот, куда тебе приносят пищу. И ты еще брезгливо морщишься, что сегодня что-то не очень вкусно. А она извиняется и обещает исправиться. Она, та, которая могла бы тебя послать куда подальше и свить себе гнездо с другой, более достойной птицей, она, твоя любимая, грозится принести что-нибудь повкусней и спрашивает, не дует ли и не заливает ли дождь под каблук.
И вот уже зрелость… Да, какая там зрелость? Старость… И ты обижаешься, что дети не выполняют, по отношению к тебе свой сыновний долг. И опять можно заявить, что жучки-паучки не столь аппетитны, а НТВ не всю матку-правду режет о жизни соседнего гнезда. И вот уже дети в лепешку разбиваются, реставрируя твой любимый, но чуточку стоптавшийся каблук, под которым ты так комфортно устроился.
– Ты знаешь, папа, почему-то такие набойки на каблуки, которые были в ваше время, не выпускают. Что делать?
– А ты по заграницам пошустрил?
– Да, нет, дорогой, пра-пра-пра…
– А ты пошустри, не ленись. Мы в ваше время…
И идет неспешная подкаблучная жизнь, и, не покладая рук, пашут те, кто эту жизнь делает такой комфортной и непыльной. И гордятся эти умники, что они не под каблуком, и падают от усталости, взваливая на себя «ответственности» всего мира и становясь «заложниками своей совести» и неправильно понятого ими смысла жизни.
И все вокруг удивляются, как можно вот так всю жизнь прожить и ни разу не принять ни одного решения?! Да я б на его месте…
А ты был на его месте? Может, оказавшись на его месте, ты бы не делал таких широковещательных заявлений? И, может быть, тогда бы ты организовал конкурс на лучшего подкаблучника планеты? Кого бы назвали победителем? Да того, у кого морда самая гладкая и довольная, и не сверялся бы ты с мнением его жены, потому что она все равно бы сказала, что мой-то – самый большой УРОД.
Севера
I
Раздумывая над первой фразой своего повествования, вспомнил слово «житница». Когда слышишь его, на ум приходит Кубань с ее обильными урожаями сельскохозяйственной продукции, с ее «кубанскими казаками» и красивым талантливым народом. Но в последнее время произошла определенная переформатизация жизни, и все чаще отдаешь себе отчет, что качество нашей жизни зависит отнюдь не от того, сколько мы продадим за границу хлеба и пеньки, а от того, сколько стоит баррель нефти и почем на рынке (далее называется единица измерения газа) голубое топливо. И пусть все твердят, что мы однобоко развиваемся, что, дескать, не сильны мы в выпуске высокотехнологичной продукции. Пусть…
Газ, нефть, алюминий, в общем, сырье, позволили нам, я имею в виду страну, выстоять. Знаете, мы вынырнули, перехватили дыхание, чуть отдохнули и можем снова нырнуть, чтобы попробовать отремонтировать корабль под названием «Россия».
Я уже слышу крики оппонентов (если, конечно, они станут читать эту книжку), но эти крики будут уже после ее выхода в свет, а пока я могу спокойно, без атмосферы телевизионных ток-шоу, когда все кричат одновременно, продолжить свои дилетантские рассуждения.
Так вот, «житницей» нашей, по моему разумению, стали севера. Севера, где добывается львиная доля газа и нефти; севера, где быт и жизненные условия значительно улучшились, и, благодаря «мудрой и дальновидной политике» (как определение?) генералитета, многие города стали не только привлекательными для жизни, но и своего рода «мекками» культурной и спортивной жизни.
Я не называю имен, дабы меня не обвинили в желании выслужиться, а с другой стороны, мои взаимоотношения с начальством давно устаканились, и ни мне, ни им не нужно лишних реверансов.
Написал «устаканились», и вдруг открылся смысл этого слова. Да, выпивали и пели в неформальной обстановке, иногда эти посиделки превращались в концерт, иногда в клуб любителей футбола. Мои известность и возраст были определенным гарантом уважения ко мне. А кроме того, те ребята, те молодые генералы газовых скважин, рулили газовыми, а не денежными потоками, и поэтому, зная, что такое «профессия», с должным вниманием и пиететом относились к моему нефонограммному пению, порой по-детски радуясь, что сегодняшняя вечеринка вылилась в неожиданный концерт, который не имел и не будет иметь аналогов.
Да, наверное, я могу себя назвать этаким «коррумпированным» артистом, который летал на Север Тюменской области чаще, чем мой среднестатистический коллега. Мне не стыдно, я ни разу не схалтурил и готов отчитаться перед собой (про небеса говорить не буду) за каждый свой приезд.
II
Первая поездка в те края была с ансамблем «Пламя». Мы прилетели в Сургут в 1984 году в июне. Сургут был всесоюзной комсомольской стройкой, и поэтому, чтобы поднять трудовой дух молодых ребят, строивших этот впоследствии один из центров нашей энергетики, мы должны были дать за три дня тринадцать концертов в городе. Мы практически из аэропорта поехали в концертный зал, и пять раз в этот день поднимали занавес к началу очередного концерта.
Обед и ужин нам доставляли за кулисы, а к вечеру отвезли в гостиницу, чтобы завтра «поставить» еще пять концертов.
Одно из этих представлений (а в эти дни в Сургуте был День города) было где-то на пленэре, на территории местного водохранилища. Сцена была установлена на дебаркадере, а публика живописно расположилась по берегам этого рукотворного озера. Буфет работал, зрители (а был жаркий солнечный день) слушали и танцевали на берегу.
Вода в водохранилище была теплая, и часть публики с пивом в бутылках и кружках плескалась рядом со «сценой». День города удался на славу. Мы так же, как и комсомольцы, ударно трудились во имя Сургута и страны.
А на следующий день комсомольцы, которым лучше всего везде и всегда удавались пикники и застолья, решили отметить наш «беспримерный» труд выездом на природу. Зафрахтовали теплоход (прогулочный «трамвайчик»), и к девяти утра было назначено отплытие экскурсионной посудины от причала.
Хочу отметить, что трудовой порыв молодежи партией и правительством оценивался прилично. Средняя зарплата была 900-1000 рублей, в то время как на Большой земле – около 200. Но вот беда – купить на эти деньги в магазинах было практически нечего. На прилавках продуктового были хлеб, водка и зеленые томаты в трехлитровых банках. А с другой стороны, чего еще надо? И…
И в девять часов группа артистов прибыла на причал, чтобы рвануть «вдоль да по речке». В гостинице остался гитарист Юра Редько, сказавший, что он хочет выспаться. Мы зашли на борт и были поражены изобилием продуктов и выпивки. Колбаса такая-сякая, сыры, свежие помидоры и огурцы, ящик водки и два ящика вина. Даже по московским меркам это выглядело «коммунизмом», построенным на одном, отдельно взятом корабле. Напомню, что был 1984 год, и «холодная война» с загнивающим Западом подточила силы страны «развитого социализма».
Экскурсия называлась «Северная рыбалка», и поэтому удочки и прочие прибамбасы для рыбной ловли стояли аккуратненько в углу. Но самое удивительное, что рыба уже была поймана. Муксуны, нельмы и щокуры «спали» в трех ведрах, готовые превратиться в строганину и уху. Тогда еще я не знал вкуса этой восхитительной северной рыбы, а сейчас могу засвидетельствовать, что она для меня предпочтительней любых осетровых.
И рыбалка плавно перетекла сначала в выпивку, а затем просто в банальную пьянку. Не выпивали двое: Ирина Шачнева и я. Ира не пила, в силу своей принадлежности к женскому полу, а я, наверное, потому, что дурак был. Поэтому сегодня я работаю летописцем и описываю этот концерт, который отчетливо стоит в моей памяти. Но концерт был в 15.00, а пока что на борту трамвайчика и на берегу островка, куда мы причалили, градус «утренника» повышался.
Комсомольские лидеры, как, собственно, и должно быть, задавали тон веселью. «Перерывчик небольшой» был не только между первой и второй, но и между любой предыдущей и последующей. Комсомольцы парами (мужская и женская особь) время от времени отлучались в зеленые заросли. И почему-то фраза «мальчики налево, девочки направо» не звучала из их уст.
Покушался ли передовой отряд девушек города Сургута на целомудрие московских музыкантов, не помню. А если и покушался, то обиженных после поездки обнаружено не было. Вопрос – как этот авангард молодежи может успешно руководить строительством города-сказки – не разу не возник.
Усталые, но счастливые… нет… усталые и пьяные – мы возвратились в Сургут. В три часа – первый из трех концертов. Хорошо, что с нами были комсомольские начальники города, и жаловаться на ненадлежащий вид артистов было некому (я имею в виду наиболее бдительную часть горожан), а если кто и написал «куда следует», письма были перехвачены. А Интернет еще уверенной поступью не шел по планете. Но это я опережаю события.
Концерт ВИА «Пламя» начинался обычно с десятиминутного монолога нашего конферансье Михаила Еремина. В это время опаздывающая публика занимала свои места, музыканты подтягивались к сцене, подстраивая инструменты и поправляя костюмы. Закончив пролог, Михаил представлял нас, и мы начинали свой концерт песней С. Березина «Найди свою песню».
В этот раз к началу представления в кулисах стояли барабанщик Виктор Дегтярев, саксофонист Игорь Никитин и два безгитарных певца – Валера Белянин и я. Я пришел посмотреть, как будет выглядеть на сцене Еремин. Миша впервые перебрал, и было страшно интересно. Действительность превзошла ожидания… Миша Еремин, глядя себе под ноги, нетвердой походкой направился к микрофону. Из ВИП-сектора в первом ряду наши новые комсомольские друзья, обозначая степень знакомства с артистом и, вообще, приветствуя начало концерта, нестройно закричали: «Миша, давай!!!»
Миша готов был дать, но не получалось. Он, словно матрос Железняк, схватил микрофон, как гранату, стоя на широко расставленных ногах и уставился в пол сцены… Пауза затягивалась.
– Миша, давай!
Конферансье благодарно поднял руку, одновременно успокаивая аудиторию. Он упрямо смотрел в пол.
– Миша, смотри в зал, – крикнул я ему из-за кулис.
Миша взглянул в зал и, как девушка, снова стыдливо опустил глаза, рассматривая что-то на полу. Уже потом он мне поведал, что, когда он смотрел в зал, все зрители, лампочки, ну все, все, все переворачивалось вверх тормашками. Интересно, а что такое тормашки? Но об этом потом. И тогда он, дабы не упасть, опускал глаза в пол. Это продолжалось секунд 15–20, но показалось, что пролетела вечность. Наконец, Еремин, собрав остаток сил, схватившись за микрофонную стойку двумя руками, произнес фразу, которой не было в сценарии:
– Вы думаете, я пьян? Нет… Это у меня роль такая… А сейчас для вас поет ансамбль «Пламя».
И он, не исполнив роль регулировщика автомобильного движения на перекрестке, когда жестами приглашается на сцену артист, повернулся и нетвердой походкой пошел за кулисы.
И на сцену вышли четыре артиста, которые оказались в кулисах и у которых, по счастью, были застегнуты штаны и рубахи. Малежик, Дегтярев, Белянин и Никитин почти выбежали на сцену, ощущая себя спасителями концерта. «Найди свою песню» начиналась с четырехтактового вступления, ударник Виктор начал концерт: – у-ча-у-у-ча; у-ча-у-у-ча… Из инструменталистов на сцене был Игорь Никитин – саксофонист, и очень смешно выглядело, когда он играл на слабую долю а-а-а-а.
И мы с Валерой Беляниным бросились к микрофонам. Я запел первый куплет, Валера – второй… Понимая, что надо что-то делать, я перепрыгнул во второй куплет, Валера синхронно – в первый. Наши вытаращенные глаза не уменьшались в размерах. Публика съежилась, не понимая, что же происходит, не отдавая себе отчет, что этот концерт можно поместить в Книгу рекордов Гиннесса, если только правильно составить заявку.
А в ВИП-зоне начались танцы. К концу песни подтянулись остальные артисты, и вторая песня уже звучала в полном составе. Но количество не улучшило качества. Звучали мы ох, как нестройно. И тогда я предложил артистам перейти в контратаку. Диверсионная тактика певцов-одиночек сработала. Две мои песни-соло, две песни-соло, исполненные Юрием Петерсоном, вернули интерес публики к концерту. Но потом вышел Витя Аникиенко и заблудился в своей гитаре. Он останавливался во время пения:
– Щас… не тот аккорд…
Этот ужас продолжался около часа. Почему публика нас не освистала? Не знаю. Может, было осознание того, что подобного концерта никто и никогда не видел? А может быть, не могли поверить в сюрреализм происходящего. Через час алкогольные пары́ начали испаряться из организма коллектива, и румянец стал появляться на его лице. А Миша Еремин ушел в лес зализывать раны и явился к третьему концерту уже во вполне адекватном состоянии.
Лет через семь я попал в Сургут со своей сольной программой. Поинтересовался, помнит ли кто о том фантастическом концерте «Пламени». Лишь один человек сказал, что ему что-то, кто-то, а так… А так жизнь продолжалась и не до доперестроечных дел было людям.
III
Длительное турне в 1991 году по Тюменской области. Последний город в графике гастролей – Надым. Назначено четыре концерта, и сил осталось только на то, чтобы четырежды выйти на сцену «Прометея» и ярко поставить точку «Провинциалкой» в конце тяжелого трудового дня. Но утром меня разбудили и сказали, что в 11.00 состоится пятый концерт. Так что… Так что я быстро принял душ, что-то проглотил и пошел «ставить» концерт. Постановка шла достаточно успешно. И силы к пятому концерту еще были. Это представление начиналось в час ночи. Не знаю, повышали ли производительность труда мои концерты, надеюсь, что да, так как я работал без поблажек себе любимому.
Но это был последний концерт в гастролях. Последний – значит «зеленый», когда можно, даже нужно разыгрывать актеров на сцене. И я стал, вернее пал, жертвой розыгрыша. Обычно на сцене у меня стоит стакан чая, и я время от времени прихлебываю его. На этот раз мне вынесли (как вы догадались?) вместо чая стакан коньяка. И я, не сообразив, что произошло, одним глотком отхлебнул полстакана. И меня понесло… Отвечая на какую-то записку, я долго путался в сложноподчиненных предложениях, и тогда пришла новая записка: «Вячеслав, вы лихо делаете из воздуха деньги».
Я обиделся и после этого, не произнося ни единого слова между песнями, пел два часа, не отрываясь от микрофона. А в конце была «Провинциалка», и зрители не отпускали меня, забыв, что уже глубокая ночь.
IV
Фраза о том, что друзья приобретаются в детстве, – правильная. Но, может быть, это исключение, у меня было несколько знакомств в уже длинной моей жизни, когда, казалось, обычное знакомство перерастало в дружбу. Павел Рубенович Тополян – один из таких моих знакомцев. Познакомились мы с ним после одного из моих концертов в Новороссийске. Кто-то из высокопоставленных господ попросил Пашу сделать мое пребывание на Черноморском побережье более комфортным, и Паша откликнулся – мы переехали в очень уютный коттедж на самом берегу моря. В гостинице нас ждал шикарный ужин из только что отловленной и приготовленной камбалы. Все наши желания (я имею в виду нашу группу) ловились на лету. Поехать, выпить, съесть, искупаться и еще целый ряд глаголов отражали наши желания и поступки. Он был по-кавказски щедр, по-армянски умен и предусмотрителен, а я был не жаден в песнях и анекдотах, которые пелись и рассказывались после очередного представления.
Во время застолья у нас началось соревнование, которое, к сожалению, не входит в олимпийскую программу, когда мы писали друг другу посвящения на салфетках в ресторане. Паша сохранил эти салфетки, и недавно мы перечитывали эти нехитрые стишки.
Название главы «Строки на салфетках» пришло в голову, когда я писал главу для своей первой книги, как воспоминание об этих днях. И мы подружились… Стали ездить друг к другу в гости. Наши жены нашли много тем для разговоров и свободных денег для совместного шопинга.
А летом была свадьба у старшего сына Тополянов – Рубена. Армяно-греческая свадьба (невеста была гречанка) – это не два в одном. Это две свадьбы – сначала для близких жениха, а потом для близких невесты. На армянское торжество не прилетел из Еревана какой-то важный гость, который к тому же должен был быть тамадой. Паша подошел ко мне и попросил:
– Выручай, ты же вел «Шире круг», у тебя есть авторитет, нужная интонация.
– Да, но я же не знаю традиций, не знаю имен и отчеств гостей.
– Я буду рядом.
И меня назначили тамадой. Помимо всего прочего, это было в высшей степени увлекательно. Мне кажется, я справился. А через два часа приехал тот самый родственник, который должен был вести стол, и я под аплодисменты присутствующих сдал свои обязанности. Мне было приятно.
А в конце лета Паша позвонил мне и предложил полететь на Север на День газовика. Тогда еще не было и мыслей, что газ станет основой нашей жизни. Мы полетели в Надым. Наша артистическая группа была весьма именита: Людмила Зыкина, Ия Саввина, Ангелина Вовк. Я вдруг понял, что, кроме музыкантов, с Людмилой Зыкиной никого из мужчин не было.
И был концерт, и было славное застолье в гостинице «Северянка». И был концерт после концерта. Я познакомился с замечательными ребятами: Леней Чугуновым, Володей Ковальчуком, Толей Рыбчуковым. Мужчины, которые прошли весь процесс добычи газа от «А» до «Я» и знали, откуда растут ноги в этом производстве.
А назавтра была экскурсия, опять же на корабле, куда-то к полярному кругу, за грибами и на шашлык. Все ушли в лес, а я попросил у Паши Тополяна лист бумаги и ручку, и, пока все собирали грибы, я придумал песню «Надым».
Вернувшись на кораблик, не отведав шашлыка, раньше всех, я взял гитару и смастерил песню. И мы возвращаемся… Я прошу внимания, беру гитару и по бумажке начинаю петь свой новый песняк. А. Ч. Чугунов – красавец-мужчина, который мог бы сыграть «Крепкого орешка» русского разлива, в конце первого запева начал хлюпать носом. Ангелина Вовк, очаровательная сентиментальная Лина, сразу же начала плакать; Людмила Георгиевна пыталась построить второй голос в припеве. Во втором куплете раскололся Паша, но я тем не менее продолжал петь. Леня сломался на припеве, а потом уже, глядя на нас, заплакала Людмила Георгиевна. Песня закончилась, и великая певица попросила, утирая слезы платочком, спеть еще раз. Я ничего не вру и, думаю, что и Леонид Семенович, и Тополян, и Ангелина подтвердят мои слова. Ни одна, как нынче бы сказали, презентация песни у меня не проходила с подобным успехом.
На следующий день я полетел на концерт в Пангоды, поселок в 100–120 километрах от Надыма. После успеха песни уже в концертном зале Надыма я не сомневался, что сорву овации в Пангодах. Но как я ошибался. Вечером был ужин, переходящий в банные процедуры.
– Почему меня так сдержанно приняли с песней «Надым»?
– Понимаешь, – ответил Сережа Фесенко, главный инженер Пангод, – газ добываем мы, здесь, а в Надыме сидят чиновники. Помнишь песню «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Рассею ответчик, а он спал с чужою женой»? Так вот мы – это «батальонный разведчик». Напиши что-нибудь про нас. Пангоды в переводе с языка коми – это поселок Медвежий.
Вернувшись в Москву, я рассказал эту историю А. Смогулу, и мы написали песню «Медвежий угол».
И еще… В той бане меня попросили оставить автограф на стене. Дали маркер. Я написал четверостишье. На следующий год я снова был в Пангодах и снова в этой бане. Еще один автограф на стене. Прошло семь лет. И снова Пангоды, и снова приглашают в Нашу баню, а пар там был отменный. Приезжаем. В бане сделали ремонт: новая плитка, новые светильники и мебель. А мои автографы заламинированы и остались в первозданном виде на стене. Подобная акция для меня покруче, чем закладка звезды около чего-нибудь.
А потом, уже где-то зимой, позвонил Чугунов и попросил выручить его и компанию.
– Прилетай!
– Что случилось?
– Да проблема с наличностью, нечем платить рабочим. Нужно снять напряжение. Мы оплатим твои концерты, дадим тебе вертолет, и ты с доставкой на дом привезешь свои песни ребятам.
– Идет…
Это была интересная поездка. Сказать, что я почувствовал себя газовиком, было бы нечестно, но петь приходилось, как у костра, часто без аппаратуры, часто среди кастрюль и тарелок в пищеблоке. Приходило сравнение с поездкой в Афган. Расскажу три запомнившихся случая.
На улице минус 48 градусов, вертолет не заводится, так как дикий холод. Вылетаем к вечеру. Поселок Яр-Сале ждет. После встречи везут обедать-ужинать, потому что потом сразу же концерт. И за столом мне поведали, что нам готовили встречу по северному сценарию. После выхода из вертолета около трапа должны были перерезать горло оленю и мне дать выпить кружку горячей крови. Я потом думал, как бы я поступил… Думаю, выпил бы, дабы не обижать людей, которые хотели меня познакомить с местными традициями. К счастью, наш вертолет не завелся, и олень остался жить. Так и жил дальше, не подозревая, чем он мне и вертолету обязан.
Перелет на том же вертолете на полуостров Ямал, курс на Харасавей. Вертолет занял свой воздушный коридор, а я – уже привычное место рядом с пилотом. Мы уже подружились, мы уже на «ты», он заглядывает ко мне на концерт, а я неспешно осваиваю специальность штурмана. Внизу бескрайняя тундра, очень похожая отсутствием деревьев на степь. В тундре показались яранги (это такое жилище местных жителей, занимающихся оленеводством).
– Представляешь, Вячеслав, к первому сентября детей комяков (дурацкий термин, я скажу) привозят в школу в более-менее крупный поселок, чтобы они постигали науки. А они сбегают!
– Куда?
– Да в тундру. Их потом всем миром ловят, снова везут в школу, а они снова сбегают к родителям.
– А ты ничего не путаешь?
– Чего путать? Так и есть.
– Слушай, Серега, а что если на экскурсию в ярангу?
– Да нет проблем.
Вертолет пошел на посадку и метрах в 24, ну максимально в 25 от жилища мы приземлились. Нас встретила молодая женщина, одетая в национальные одежды (я думаю, что подобный наряд был более функционально приспособлен для жизни в этой местности). Возле ее ног путались двое маленьких детей, похожих на «нанайских мальчиков» из знаменитого циркового номера. Мы поздоровались, я, как Миклухо-Маклай, подарил аборигенке свой CD, не очень понимая, где она будет слушать мои искрометные песни. Неожиданно она меня узнала, и я понял, что плоды «цивилизации» дошли до Крайнего Севера. Нас пригласили зайти внутрь жилища. Теплое, светлое помещение, в центре которого было кострище, обогревающее ярангу, и на котором готовилась пища. Вверху этого конусообразного дома было отверстие, служившее вытяжкой. На стенах и на полу лежали и висели оленьи шкуры, создававшие определенный интерьер и уют. Времени было немного, мы спешили на концерт, поэтому, обменявшись общими фразами, стали собираться. Да, забыл… В центре яранги (не понятно как укрепленная) висела люлька с еще одним младенцем. На вопрос «где отец семейства?» ответили, что «в тундре с оленями».
Переварив эту информацию, наш вертолет взмыл (а? слово-то какое!) в небеса и взял курс на Харасавей. Кстати, в Гагре, где я многократно отдыхал, в местном ресторанчике видел устройство, подобное кострищу в яранге с отверстием – дымоходом высоко под крышей. В центре был разведен огонь, а высоко над ним крепились и коптились куски мяса. Единство мира и культурного пространства, однако…
Примерно через час лета мы вошли в зону действия диспетчеров поселка Ахтарка. Напомню, я опять сидел на месте второго пилота в шлемофоне. И дальше состоялся диалог первого пилота и диспетчера, вернее диспетчерши (не знаю, правильно ли так сказать по-русски?).
– Куда летим?
– На Харасавей.
– Кого везете?
– Да артиста одного… Малежиком зовут.
– Ой, я никогда не разговаривала ни с одним артистом. Он где у вас, в салоне?
– Да нет, рядом сидит.
– А можно?..
– Все можно, – включился я в разговор.
– Это вы?
– Да, мы…
– Я никогда…
– Вы знаете, я тоже никогда не пел ни для кого, находясь в небе.
– Ой, вы для меня споете?
– Ага, без фонограммы.
– Ой, я на седьмом небе!
– А я тогда на каком? Я выше вас…
И я запел в микрофон, встроенный в шлем. Я спел «Провинциалку», потом «Мадам». Были слова признательности, мы попрощались… Прошло месяца два или три. Концерт мой в Сочи, и вдруг на сцену поднимается женщина с громадным букетом цветов.
– Спасибо, Вячеслав. Я диспетчер с Севера. Помните, вы мне еще пели по радио?
– Конечно, помню. Знаете, я не каждый день пою в небесах.
– Вы не представляете… Вы сделали меня счастливой на полмесяца. Спасибо вам еще раз.
Как иногда мало нужно, чтобы человек почувствовал себя счастливым.
А тогда мы прилетели на Ямал. Харасавей. Полярная ночь, шум газокачалок, скрип шагов газовиков, возвращающихся со смены… И все это освещено колеблющимся светом сжигаемого попутного газа. Картина нереальная, будто из фильма о космической одиссее. Мы в гостинице, через три часа концерт. Кто-то робко стучит в дверь.
– Зайдите.
Заходит молодой лейтенантик и, переминаясь с ноги на ногу, обращается ко мне.
– Вячеслав, не могли бы вы перед концертом нашим солдатикам что-нибудь рассказать, петь не надо. Мы здесь самая северная часть в России. Мы связисты.
– Могли бы… Но я пою лучше, чем говорю. Может, лучше спеть?
– О, это было бы замечательно. Мы об этом даже не могли и мечтать.
И я отправился с этим молодым лейтенантиком в их часть.
– Где петь?
– Да в ленинской комнате.
Входим в помещение ленинской комнаты, и как будто в школе при встрече директора, двадцать совсем еще мальчишек, безусых, худеньких, с чистыми подшитыми белыми воротничками, дружно встали за своими партами. Я обомлел. Вид этих мальчишек, которых хотелось спрятать за пазуху и защитить, обогреть, никак не ассоциировался у меня с понятием «защитник Родины». Дома у меня остался такой же старший Никита. Ну как можно этих пацанов бросать на растерзание матерым убийцам, головорезам в Афган, в Чечню, да куда угодно?!! Минуты две-три я собирался с мыслями, чтобы что-то сказать, спеть. Что говорил, не помню, думаю, про ответственность лидеров государства, что-нибудь про мудрую политику, которая не допустит нового кровопролития. Говорил и не верил самому себе… А из головы не выходила мысль: «Так вот как выглядит „пушечное мясо“. Да и на Севере оно в холоде лучше сохраняется».
V
Наша страна столь велика, что ее граница по Северу тянется не одну тысячу километров. А если учесть, что наши территории почти примыкают к Северному полюсу, то, наверное, половина линии, которая отвечает за широту на северах, наша.
И такая, блин, жалость, что Аляску отдали Америкосам за фунт изюму. И в Анкоридж уже не слетаешь Попеть в преддверии выборов в Думу. И Шпицберген живет по норвежским законам, И треску ловят там, чтоб кому-то на стол. Уголек там рубают, но эти вот тонны Стоят, словно из злата, такой вот прикол.У меня стишки сейчас родились.
Да, примерно такие мысли у меня были, особенно про Аляску, когда мы вместе с женой и четой Олсонов, наших друзей из Америки, отправились в круиз из Сиэтла на Аляску. Корабль был из серии суперлайнеров, каюта с отдельным балконом соответствующего уровня. Все устраивало. Но было чертовски обидно, а мы добрались до места первой стоянки, ну зачем мы вот так с Аляской, и почему ихние гидропланы пролетают, как стрекозы, мимо нашего лайнера? Чистая акватория, прозрачный воздух, ну зачем?.. А потом приходит осмысление – вспоминаешь наш Петропавловск-Камчатский, порт какой-нибудь Кеми со скелетами ржавых остовов кораблей, и уже не ищешь человека, который ответит на твой вопрос. Чистенько, аккуратненько, все регламентировано – хочешь охотиться – плати за лицензию, и вперед. Рыбалка на лосося? Достаешь кредитную карту – и решаешь вопросы. Круиз рекламировался, как путешествие в Русскую Америку. Да, исследователь и первопроходец Баранов, да, русские аргонавты… Но все же туристы ехали посмотреть на китов в их брачный период, и это зрелище стоило и денег, и времени.
А Русская Америка? Забавно… Город Кетчукан, где расположена главная православная церковь этого штата, ничего близкого к русским, вернее к российским православным храмам, я не обнаружил – ни в архитектурном облике, ни во внутреннем убранстве. Деревянная церковь, но не та, что на Ладоге и Кижах, а скорее кирха по внешнему облику. Когда входишь – первая неожиданность: с тебя взимают плату за вход – недорого, но все же. Это даже скорее не церковь, так как я не увидел алтаря, даже красного угла я не сумел обнаружить, но, может, это говорит мое дилетантство. Хотя…
Я надеялся найти в этой церкви людей, говорящих на чистом русском языке, не засоренном жаргонизмами и англиканизмами. Ух, словечки употребляю… Но не тут то было… Оглядев помещение церкви, которое было похоже на зал в галерее, где выставлены иконы, я обнаружил батюшку. Обратившись к нему по-русски, я понял, что ответа не дождусь ни на стерильном, ни на вульгарном русском языке. Мы плавно перешли на английский.
– Здравствуйте, мой отец!
– Здравствуйте.
– Я из России, и мне интересно…
– Слушаю вас!
– Кто прихожане в вашем приходе и говорит ли кто из священнослужителей по-русски?
– Нет, русскоговорящих священников у нас нет, да и прихожан русских тоже нет.
– А кто же ваши прихожане?
– В основном индейцы, немного японцев и корейцев и три семьи греков.
Русская церковь, «путешествие в Русскую Америку» – бизнес, и ничего личного.
Попытка найти что-то русское, что меня бы удивило, была безуспешна. Фрайерский набор товаров, которые оптом скупались в России у тех же дилеров, что поставляли сувениры на Ленинские горы и другие Places of interest: Палех, ложки, матрешки и почему-то полный набор песен Н. Кадышевой (лихо работают ее службы!). Отправился в ближайший магазин и разговорился с местными продавцами.
– Как живете?
– Да неплохо, пока сезон, пока приходят океанские лайнеры, жизнь кипит: работают рестораны, кафе, магазины. Все крутится вокруг туризма.
– А как долго?
– Примерно с 1 мая до 15 октября.
– А что потом?
– Что потом? Последний корабль уплывает, все закрывается, и жизнь замирает.
– А что делают люди?
– Пьют.
– Все?
– Все… Ну, может, дети ходят в школу и не пьют. Мы же Русская Америка.
Я сделал вид, что не понял шутку, и не рассмеялся.
VI
А вообще на Северах, может, действительно не хватает гормона радости. Выпивают. А может, это проявление гостеприимства? Вот в таком застолье в поселке Баренцбург, что на архипелаге Шпицберген, в застолье, которое плавно перешло в игру на бильярде, я познакомился с одним из своих самых надежных друзей – Олегом Мнацаканяном. Он был невысокий, с животиком и усами, веселый дядька, удивительно похожий на «тирана» Иракского народа Саддама Хусейна. Мы оказались с ним в одной команде и благодаря его умению (в мою задачу входило не делать подставок) выставили несколько пар. А игроки – они же участники конференции, они же просто гости шахты, которая отмечала юбилей.
Мы прилетели из Москвы на Ту-154, и среди нас были члены правительства, «знатные» шахтеры, нефтяники и газовики, и даже священники. Олег, как потом выяснилось, был генеральным директором «Арктикморнефтегазразведки» и, судя по разным косвенным признакам, был в авторитете в «высших эшелонах власти». Шахты на Шпицбергене – в Баренцбурге, да и Пирамида, были убыточными, но их поддерживало государство, так как по условиям договора, заключенного еще в царское время, эта земля наша до тех пор, пока на шахтах добывается уголь. И если наша шахта перестанет функционировать, то территорию выкупят, к примеру, США и построят рядом с Россией либо станцию слежения, либо ракет навтыкают (Шпицберген – свободный архипелаг, находящийся под юрисдикцией Норвегии).
А вот в «столице» Шпицбергена Баренцбурге живет 1000 человек, из них 700 мужчин и 300 женщин. Их забрасывают на остров в начале сентября, и год они живут и работают там до следующей смены. Баренцбург – резервация «совка» – на 1000 человек построен концертный зал, рассчитанный на 700 зрителей, громадный бассейн, школа и детский сад, в которых учились и проводили время около десяти мальчиков и девочек. Пили? Не знаю, наверное, пили. А что касается аморалки, то эта проблема стояла в полный рост.
– Слушай, а у вас при таком соотношении мужчин и женщин до дуэлей дело не доходит? – спросил я одного из своих новых знакомых.
– До дуэлей нет, но бабы творят здесь черт те чего. Приезжают с одним мужиком. Потом от него уходят к другому. Потом возвращаются, и мужики это все глотают.
– Да… А чем тут занимаются зимой?
– А ты знаешь, что у нас средняя зимняя температура минус 5 градусов?
– Нет, не знаю. А летняя?
– Плюс 3 градуса. Так вот, ты про досуг? Ну, у нас тут с этим вольготно. Знаешь, какой у нас бассейн? А спортзал? Завтра в концерте с тобой будет наша самодеятельность. Ты послушай.
И я послушал… И был приятно удивлен. А потом удивлен был, когда разговорился с конферансье концерта, который со своей семьей – женой и ребенком восьмую зимовку проводил на архипелаге.
– Куда нам возвращаться? Кто нас там ждет? А здесь у нас есть жилье, работа, а телевизор и здесь принимает пару программ.
И у нас были застолья и экскурсии. Осознание того, что через два дня домой, позволяло взахлеб восхищаться удивительными видами. И не успели мы, экскурсанты, «поехать крышей» от полярного дня, как поехали в аэропорт, и наш Ту взял курс на Москву. Мы с Мнацаканяном весь полет проторчали в секции, где располагались стюардессы. Он включил микрофон, и я с гитарой горланил песни, а весь лайнер дружно мне подпевал.
И мы с Олегом уже не расставались. Я его чаще встречал в Москве и Мурманске, чем многих своих друзей. И тогда я придумал термин «коррумпированный артист». Мы не жалели друг для друга ни чувств, ни эмоций. Я пел всегда столько, сколько он слушал, а он выпивал за меня столько, сколько было сил. А удар он умел держать.
Незаметно пролетели пять лет, и мы снова летим на юбилей – уже n + 5 лет шахте на Шпицбергене. Мы прилетаем в аэропорт, где принимали большие лайнеры, и дальше мы должны были лететь на вертолете до Баренцбурга. Вертушка, как челнок, должна была тремя рейсами отправить нас к месту назначения. Но почему-то… Вообще, я знаю, почему все решили полететь третьим рейсом. Все объяснялось просто: магазины продавали, и в частности спиртное, за «смешные» цены, и все решили зависнуть до вечера на территории суверенной Норвегии.
Я, моя жена, Олег и Андрей Бобров, пресс-секретарь «Арктикморнефтегазразведки» зашли в местный шоп, не супер, а просто шоп. Я обнаружил залежи «кальвадоса», и мы почувствовали себя героями «Трех товарищей» Э. – М. Ремарка. На капоте машины, которую мы зафрахтовали, устроили столик – нарезали колбаску, сыр, хлеб, разлили волшебный напиток. Застолье удалось. Жаль, укрепить дружбу русского и норвежского народов не получилось – наш шофер отказался наотрез составить нам компанию. Ну и пусть, сейчас, небось, жалеет… А мы, закончив трапезу, пошли грузиться на борт вертолета.
Я так никогда не летал. Вместо восемнадцати в воздушное судно набилось сорок восемь пассажиров.
– А мы взлетим? – спросил я летчика.
– Взлетим, не впервой. У вертушки тройной запас прочности.
– Что вы говорите? Самолеты падают.
На другой день мы летали на ледник и на шахту-город Пирамиду. Единственная в мире шахта, где уголь добывают не под землей, а на горе. Потом был, как у импрессионистов, «Завтрак на траве», хотя, может, это была и не трава, а карликовые березки, и посещение Дома-музея русского первопроходца И. Русанова. Мне там удались стихи, которые я написал в «Книгу отзывов», а жена их сфотографировала, чтобы не переписывать, и мы их уже с фотографии снимали, как музыканты свою партию в оркестровке. Город Пирамида оставил двоякое ощущение. С одной стороны, добротные здания для жилья, библиотека, музей, а с другой – пустой город. Город, в котором никто не живет, так как закрыли шахту. А посередине по улице течет бурная река, прорвавшая дамбу. Что-то там сейчас?
Мы вернулись в Москву, и вскоре Олег, обычно веселый и оптимистичный, все чаще стал уходить в свои мысли. На вопрос «что случилось?», отвечал:
– Все в порядке, я сам разберусь.
У меня вышла пластинка «Здравствуй», которую я посвятил своим друзьям из Мурманска. Это были все друзья моего стойкого армянского товарища, они стали и моими друзьями.
Я знаю, Олег ее часто слушал, и я понимал, что слова «ты решительно шел на „вы“, презирая борьбу под ковром», попали в цель и помогают ему бороться. Но он никого не грузил – ни жену, ни друзей. Веселый и жизнерадостный, лишь иногда мог улететь в свои мысли. И он придумал еще одну поездку. Поездку на остров Колгуев, что чуть южнее архипелага Новая Земля. И мы – я, Серега Шитов, Витя Козодов – полетели на Колгуев спеть ребятам, которые вахтовым методом добывали нефть. Конечно, Колгуев не Шпицберген, такой красоты, таких гор, ледников и моря нет, но зато это практически птичий базар. Утки, гуси, лебеди и еще какие-то водоплавающие и перелетные птицы прилетают туда выводить и выращивать птенцов, чтобы к осени снова лететь на юг. Борьба за существование идет непрерывная. Альбатросы пикируют на гусят, гусаки вступают за детенышей в бой. В общем, парк Юрского периода.
– Вы что хотите съесть? – спросил меня начальник экспедиции Саша Мирошниченко. – Пить нельзя – у нас сухой закон, но если вы…
– Нельзя так нельзя. А съесть? Может, как Паниковский, мы закажем гуся?
– Нам запретили отстреливать птиц – птичий грипп… – сказал он и после паузы: – Слава, но если они сюда долетели, то значит, они здоровы?
– И я говорю…
Концерт прошел успешно, ужин успешно, а на следующий день мы улетели в Мурманск, а затем в Москву.
А Олега Самвеловича «сожрали»… Как говорят, «питерские». Все это было похоже на рейдерский захват. И нет больше во главе «Арктикморнефтегазразведки» веселого, доброго человека и отличного, как утверждают все специалисты, руководителя. Я не буду влезать в это дело, чтобы не грузить вас, мои дорогие читатели, а главное, чтобы не навредить своему другу, который не сломался, несмотря на все сложности и наезды. Он по-прежнему излучает энергию, освещая нам жизнь.
– Слава, меня ведь согнуть нельзя, а если я сломаюсь, то тогда кирдык. Вот так. Вот такой мой Север, который я люблю и который отвечает мне взаимностью.
А недавно затонула платформа, принадлежащая «Арктикморнефтегазразведке», в Охотском море. Олег сказал, что он плакал, когда ему сообщили об этом, а газеты написали о вопиющем непрофессионализме руководства компании.
* * *
Песни петь до утра полярною ночью Дело хитрое, хоть водки вагон. А весною ночи короче, И шикарно звучит «Rolling Stones». «Satisfaction» получишь ты полный, Коль всю ночь ты со мной просидишь, Ну а утром обещано, помню, Двадцать восемь, плюс-минус один. А потом ты на вахту газ добывать, Я в Москву в Домодедово рейсом. Ты работать, я отдыхать, Будут песни мои, словно добрые вести, А увидимся снова – как знать.Первый день войны
14 августа 1994 года мы с женой проснулись в деревне Эста-Садок (вторая бригада). Так мудрено называлось поселение на левом берегу Мзымты, напротив Красной Поляны. Тогда это местечко еще не облюбовала зимняя Олимпиада и, несмотря на относительную близость города Сочи (каких-то 50 км по узкой горной дороге), оно было достаточно глухим и незатоптанным. Как рассказывали немногочисленным экскурсантам, когда-то при царе-батюшке, а может, даже при царице-матушке, трудолюбивым эстонцам предложили это место в долине Кавказских гор для обживания. И неторопливые прибалты выкорчевали лес, построили дома и посадили сады. Эстонские Сады – так стоит расшифровывать название трех деревень в окрестностях Красной Поляны. А, кроме того, занялись переселенцы земледелием и скотоводством. До «радостного» события – выбора Сочи местом проведения Олимпиады 2014 было еще далеко. Светловолосые крестьяне обживались настолько успешно, что не тяготились своим расставанием с исторической Родиной. Тем более никто не мешал им сохранять свою культуру и язык. Более того, во времена «парада суверенитетов» (это уже постсоветские времена) эстонцы Поляны и Эста-Садка попробовали добиться автономии. Но инициативу быстро затоптали, и школы, с преподаванием на эстонском языке не состоялось. Русские по численности были в этих краях третьими, а второе место уверенно держали греки. Армяне и традиционные кавказские народности были этакими вкраплениями в национальной палитре Поляны.
Очень интересно в этих местах выращивали свиней и коз. Если коровы каждую ночь ночевали в хозяйском хлеву, то свинья с выводком поросят по весне уходила в окрестный лес, полный желудей, каштанов и прочего корма. И по осени свиноматка приводила свой выводок в дом к хозяевам, повышая показатели по экологически чистому мясу отдельно взятых хозяйств.
Козлят обычно, во всяком случае я это видел, пасла обученная собака без пастуха, и точно так же все лето процесс нагуливания мяса и молока шел без участия человека. И вот этот налаженный механизм был разрушен указом функционеров от спорта в преддверии зимней Олимпиады 2014. За-пре-тить! И, как в печально памятные советские времена, все поголовье свиней, коров и коз было пущено под нож, и в Сочи и Адлере резко в те дни упала цена на парное мясо.
А в то утро мы проснулись, ничего подобного не подозревая, охваченные заботой, как нам развлечься и красиво показать страну нашим американским друзьям Джефу и Шерон Смитам. Эта американская пара во второй раз приехала к нам в Россию в гости.
Мы с Татьяной неспешно вели беседу, ожидая подъема американцев.
– Представляешь, я вчера имел интересный разговор с Габо… Еще в Гагре.
– Это кто такой?
– Ну, брат Одиссея… такой, с пузом, он еще с нами постоянно в футбол ходит играть.
– Ну…
– Он мне сказал такую фразу: «Славик, ты не представляешь, как меня достали эти курортники?»
– Габо, ты дурак? – ответил я. – Ведь если сейчас будет война и перекроют границы, то Гагре наступит кирдык без туристов.
– Ты что? Да мы на одних мандаринах станем миллионерами.
– Ну, с этими деньгами…
– В долларах, Славик, в долларах.
– Он на тебя не обиделся? – спросила жена.
– За что?
– Ну, за дурака.
– Да нет… Во-первых, я старше, а во-вторых, я этим его не собирался обидеть.
– Да…
– Вот тебе и да.
– Он не видел мандариновых садов в Израиле.
– Думаю, и в Марокко тоже не видел.
– Ладно, время покажет.
Брякнув эту фразу, я никак не предполагал, что шоу, срежиссированное Временем, начнется с минуты на минуту. А пока мы позавтракали. Потом двумя машинами с американцами и нашими гостеприимными родственниками Валей – сестрой Татьяны и ее мужем Эльдаром поехали в горы погулять и пообедать в горном ресторанчике. Сумасшедший вид, который открывался с террасы этого заведения, стоил очень дорого, но не дороже денег, и поэтому мы гуляли и любовались природой, не заморачиваясь на стоимости нашего обеда. Я вообще чувствовал себя этаким «грузином» из анекдота, который решил спустить на друзей полугодовой заработок.
Американцы окунулись в кавказское застолье еще в Гагре, куда мы прилетели после кратковременного пребывания в Москве и экскурсий по Золотому кольцу. Они была в полном восторге. Вкусная еда и вино, в частности, сплачивают, и оно лилось полноводной рекой. Красное сменяло белое, а потом приносилось еще красное по белому или белое по красному. Это когда из красного винограда делают белое, скорее, розовое вино. Перечень блюд, которые сменялись в непрерывном празднике в Гаграх, можно прочитать в меню среднего грузинского ресторана в Москве.
Были ли когда американцы, не наши Джеф и Шерон, а вообще американцы в Гагре? Наверное, были, но в районе Базара американцев в обозримом прошлом не помнили. Это были первые граждане из дружественной на тот час Америки.
А за столом наших друзей не знали, как и чем удивить. А они не успевали удивляться, так как фестиваль жрачки был калейдоскопическим. Джеф и Шерон не успевали переваривать впечатления и кушанья, хотя вино очень способствовало этому процессу. А я успешно работал переводчиком, впрочем, эти обязанности я делил с Джефом, он прилично понимал и говорил по-русски. Но чаще рот его был занят яствами, и тогда толмачом работал певец Малежик.
– За этим столом выпивали и произносили тосты Евгений Евтушенко и Лева Яшин. Евтушенко даже поэму о вине написал после нашего застолья. Я хочу попросить сказать несколько слов нашего гостя из Америки, – произнес Эльдар, выполнявший роль тамады за столом.
И Джеф благодарил перестройку и «лично Славу» за то, что стерлись границы и есть возможность…
Как водится, набрались… Джеф долго разговаривал с нашим другом Гоги, решая судьбы мира. До нас иногда долетали фразы, начинавшиеся с «мистер Гоги» и «дядюшка Джепсон», почему «Джепсон», не знаю, но, наверное, Гоги так больше нравилось.
Но вернусь в четырнадцатое августа… И вот мы в симпатичном ресторане, что на одной из вершин, окружающих Красную Поляну. Этот ресторанчик расположен в деревянной гостинице, где, как говорят, останавливается Алла Пугачева во время своих гастролей. Сюда добраться сложно, поэтому здесь спокойно и никто не достает. С террасы открывается шикарный вид на горы, покрытые почти девственным лесом. Удивительно прозрачный воздух, почти как на картинах Рокуэлла Кента, позволяет видеть до самого горизонта. Бинокль, который мы предусмотрительно взяли в собой, позволяет разглядеть даже кур, гуляющих около усадеб, обитателей Поляны и Эста-Садка.
– А ты знаешь, что Дудаев со своей свитой приезжал в первую бригаду Эста-Садка? – спросил Эльдар меня.
– Зачем?..
– А там около школы растет дерево, которое отмечено в истории чеченского народа.
– И чем все это закончилось?
– Пока ничем, но они сказали, что исторически эта земля чеченская, и они еще вернутся.
– Да… С этой «исторической землей» вы все тут передеретесь. Мы, когда ездили с Джефом и Шерон на озеро Рица, встретили в местном ресторанчике абхаза, и он мне сказал, что они выгонят грузин из Гагры и вообще из Абхазии.
– Да они не посмеют… Что они умеют делать? Да они…
– А ты думаешь, когда драка начинается, то только и размышляешь о гносеологических основах мироздания?
– Да, ты прав.
Мы отобедали и спустились в деревню. Вечером нас ждали отварной козленок и двадцать литров вина. Зелень, сыр, хлеб – это не в счет… Мужчины пошли отдыхать, а женщины – на кухню. Кавказ… Мы с Джефом договорились, что будем следовать традициям и поэтому мужчины за столом, а женщины на кухне. Ну, а если война…
И война началась… Кто принес эту новость, я не помню, потому что принесли ее в разгар застолья. Нас за столом было шесть мужиков: Джеф, Эльдар, я и трое парней из Гагры – Петя, Гоги и Тимур. Женщины не успевали приносить нам отварное мясо молодого козленка… Мясо и вино поглощалось с отменной скоростью. Женщинам, наверное, на кухне тоже доставалось, но 20 литров вина улетели незаметно, а пьяным никто не был. Одна незадача – Джеф умудрился сломать зуб, разрывая очередной кусок мяса каким-то первобытно-людоедским способом. И когда наша компания решала, где этот зуб реставрировать – в Гагре, Москве или в Сиэтле, пришла информационная новость, что грузинские самолеты из пулеметов расстреляли пляж в Леселидзе.
– Да брехня все это. Мы проезжали через Леселидзе около четырех часов, все тихо…
– Да что они идиоты, что ли? На бреющем полете по своим!
– Да нет, это какая-то утка. Телевизионщики совсем оборзели…
И мы продолжали выпивать, хотя уже в каждом прилично булькало.
Около десяти вечера банкет как-то сам по себе завял, и мужская компания разделилась на две части. Одна группа во главе с Эльдаром пошла на Мзымту купаться в горной реке, а вторая – я и Джеф – пошла в соседний дом, в соседний сад к Вальдику – молдаванскому эстонцу или эстонскому молдаванцу.
У Вальдемара была в саду построена баня, баня по-черному. Лучшего пара, а я по этому делу не то что специалист, но опытный экскурсант, я не встречал. Ароматный, чистый, легкий, вообще чума, а не пар. Причем горная речка, ну хорошо, горный ручей, был заправлен в трубу, и ты, вылетая из бани, попадал в объятия ледяной реки. Какие спа-процедуры, какие Сандуны?! Не знаю, жива ли эта баня сейчас, а может, по ней проложили трассу биатлона? Будет жаль…
А тогда… Джеф, как он мне признался, ни разу не парился не только в русской, но даже в финской бане. И вот мы пошли. Разделись в предбаннике, а Джеф – высокий америкос, наверное, 187 см его рост, причем его организм обладал странными свойствами – солнце не оставляло на нем загара. Он после четырех-пяти часов лежания на пляже становился, как поросенок, розовым, а наутро снова, как снег белый.
– Я – Большая Белая Кита, – называл себя мой американский друг.
И мы разделись, я надел Джефу на голову шапку-ушанку размера на три меньше, чем его голова. Вид довольно забавный, но без компании долго смеяться не будешь, и мы пошли париться.
Джефу понравились процедуры. Баня – ручей – баня – стакан чая – снова баня…
И мы вышли в яблоневый сад, чтобы отдохнуть и, как водится, поболтать о жизни. Ночь в горах в августе – это что-то восхитительное. Небо, как будто накрыло тебя, звезды, вот они, рядом, только протяни руку. Луна, как будто в театральной декорации, светит, освещая серебряным светом горы, сад, речку, яблони. Тяжелые созревшие яблоки висят, как елочные игрушки и где-то там наверху начинают путаться со звездами. Шум реки, превращенный в рукотворный водопад, смешивается со стрекотом цикад и криками ночных птиц. И оглушающий аромат кавказской ночи…
Джеф, голый Джеф, Большая Белая Кита в шапке-ушанке, смешно топорщащейся на затылке, с яблоком в руке, удивительно похожий на Фавна и Вакха одновременно, с хрустом отгрызая яблоко, молвил, да-да, именно молвил, сидя на траве под яблоней:
– Слава, спасибо. Никакое туристическое агентство не смогло бы мне организовать подобный отдых, подобную экскурсионную программу. Но войну можно было бы не развязывать, это лишнее.
А на следующий день мы возвращались в Гагру. И во всех кафе в Адлере и Веселом, что на границе с Грузией, да и просто на улицах, стояли мужчины и женщины и обсуждали, «что произошло» и «что-то будет». У нас не было с собой вещей и документов, и на границе были проблемы, да еще на наших руках были два американца. И мы остались в Веселом, а Эльдар и Гоги рванули в Гагру. Так случилось, что на 15 августа у нас четверых были билеты в Москву. К счастью, проблем в этот раз у Эльдара и Гоги не было, и к самолету вещи и документы были доставлены. Мы улетели, а 14 августа стало водоразделом, днем, который разделил историю двух народов – да почему только двух – нашу историю надвое – до войны и сейчас.
У меня есть старая песня о любви, о любви случившейся в Гагре. Там есть строчки:
Гул самолета – и я оглянулся И словно в кино, Август нахлынул, август вернулся Все было давно.И почему-то все время встает в памяти август 1994-го, когда я слушаю эту песню.
«Расставайтесь, любя»
Кризис среднего возраста… Ветеран, старожил, патриарх… Сколько разных слов, которые обозначают, что человек прожил определенный временной отрезок и что он должен определиться, как жить дальше, чтобы чувствовать себя комфортно и чтобы комфортно чувствовали себя люди, куда уйти и вообще уходить ли? Красивая мечта всех актеров – умереть на сцене… Но это решает Всевышний, а ты, если и продолжаешь лицедействовать и выходить на «спортивную арену», отдавая все свои силы, и тогда…
Впрочем, не надо кликать беду и рассуждать о том, что Господь забирает к себе лучших или тех, кто уже выполнил на Земле свою миссию. Рубеж сорокалетия, который забрал Пушкина и Лермонтова, Высоцкого и Леннона, давно пройден, и, для успокоения совести, есть Бернард Шоу и Гете, Маккартни и Толстой. И тем не менее, когда эти 40 были у меня, я не без доли кокетства утверждал, что песня «Расставайтесь, любя» не только о любви, но и о том, что сцену надо покидать на взлете:
Я люблю тебя, милая, как никогда. Значит, время расстаться уже наступило.Эх, если бы я написал сиквел «Расставайтесь, любя II», то, наверное, сознался бы в том, что упрашивал бы любимую еще об одном глоточке любовного зелья, валялся бы в ногах, мечтая о новом свидании, целуя следы любимой на мокром асфальте. Слава Богу, что вторая серия не сложилась, и, может быть, кто-то цитирует эту песню, принимая ответственные решения.
Кстати, эта песня на стихи Павла Хмары была написана еще в застойные времена, и мой друг Павел Феликсович – редактор шестнадцатой (юмор и сатира) полосы «Литературной газеты» написал этот стих, ставший впоследствии песней, как пародию на стихи В. Тушновой «Не отрекаются, любя». И во время исполнения этой пародии на выступлении Паши зритель надрывал животики от смеха. А я, как зануда, исполнил эту песню без всякой иронии, и она вдруг стала песней-позицией. Вот такие метаморфозы…
Короче, с какого-то момента я начал вглядываться в судьбы своих старших коллег и примерять их поступки на себя. Спортсмены для анализа моих проблем не подходили, ну да, кто-то уходил в тренеры, но спортсменов тысячи, тренеров – единицы. Хотя мысль умереть в своих учениках иногда приходила в голову. Но отсутствие функциональных знаний и непонимание, как научить тому, что чувствуешь интуитивно, останавливало. А еще уверенность, что, если буду учительствовать, напложу множество клонов имени себя. Перспектива сия меня явно не увлекала. С другой стороны, несколько приемов, которые бы помогли становлению молодого, вернее, начинающего артиста, я изобрел для себя. Но для данного обучения хватит, пожалуй, одного полуторачасового мастер-класса.
«Расставайтесь, любя». Легко сказать. А потом что? Грядки на даче? Мемуары? Грустно, Шура… Прощальный тур, чтобы впоследствии тебя уговорили вернуться? Ну, эту карту уже разыграли, а повторяться пошло. Да, потом все эти затеи хороши, если дружен со СМИ, а когда появляешься на радио раз в год, о каком туре может идти речь? Пилите, Шура, пилите… Пилю. Попробовать не врать самому себе?.. Это – дело.
Поздно ночью по ТВ концерт из Букингемского дворца для королевы. Элита мирового рок-н-ролла на сцене. Элтон Джон, Род Стюарт, Клиф Ричард, один из братьев Вильямс из «Бич Бойз», Пол Маккартни, Джо Кокер. Смотрю не столько, чтобы послушать живой концерт, сколько на то, как кто из моих кумиров решает проблему возраста, и занимает ли она его. Клиф Ричард – масса пластических операций делают его похожим на целлулоидную обезьянку. Род Стюарт с торчащими сорняками волос… По-моему, не хватило сил отказаться от имиджа плейбоя, образа, созданного много лет назад. Состарившийся юноша…
Ну что же… Вильямс без «Бич Бойз» не убеждает, и сейчас даже не вспомню, как он выглядел. Элтон Джон? Ну его прибабахи, пожалуй, не для меня. Зал встает – на сцене Пол Маккартни. Его седина приобрела коричневый оттенок. Не осуждаю его. Меня тоже окружавшие женщины убеждали закрашивать седину. Закрашивал. Становился похожим на пожилого мужчину, поменявшего сексуальную ориентацию. Пол был покрашен тактичнее, но… А затем вышел (а может, перед Маккартни, не суть важно) Джо Кокер. Неаккуратно причесанный, с рубахой, небрежно заправленной в брюки. Запел. И на третьем такте снял все вопросы о влиянии имиджа на успех артиста. Хотя, возможно, отсутствие имиджа и есть самый ярко выраженный имидж. Вот такие наблюдения.
А вскоре со мной произошел знаковый случай, который окончательно расставил для меня все по своим местам.
Я со своей семьей отдыхал в одном из санаториев Большого Сочи. И за день до окончания нашего отдыха на берегу моря меня находит один из администраторов сочинского концертного зала в парке им. Фрунзе. Находит и предлагает послезавтра организовать концерт на этой площадке. На мой вопрос – когда же он собирается и, главное, как продать билеты на концерт, он мне отвечает, что расходов никаких, и все, что соберем, – наше. Если же будет совсем плохо, то концерт отменим. Никаких штрафных санкций. Я дал добро, заявив, что еду в горы, в Красную Поляну. Пообещал позвонить с утра в день концерта. Красная Поляна еще не была столицей зимней Олимпиады, и связь с Сочи осуществлялась из телефона-автомата, стоявшего на соседней улице и соединявшего без какого-либо жетона или монеты. Утром в назначенный день я набрал номер моего организатора и, пока шло соединение, я в трубке (а телефон вдруг стал выполнять функции радиоприемника) услышал родной голос моего соавтора Александра Смогула, отвечавшего на вопросы корреспондента «Радио России». Он сказал примерно следующее:
– Пока у тебя есть хоть один читатель или хотя бы один слушатель, то ты обязан писать стихи и выходить на сцену…
На том конце подняли трубку и поздоровались, я ответил:
– Я даже не спрашиваю, сколько продано билетов, я буду петь, встречай меня.
И все-таки я сочинил «Расставайтесь, любя II».
Расставаться, любя, Чтоб искать новых встреч, Теребя незажившие раны. Расставаться, любя, И бессвязная речь, Что прощаться с тобою нам рано. Расставаться, любя, По живому ножом, Не давая опомниться сердцу. Расставаться, любя, Чтоб сейчас, не потом Оставляя открытую дверцу. Были и боли, Шрамы на сердце, На перемотку кино. Главные роли С солью и перцем И растревоженным сном. Расставаться, любя, Чтоб себя обмануть Бесполезной кровавой победой. Расставаться, любя, И расстроить струну, Называя любовь полным бредом. Расставаться, любя, И опять ты – герой, Можно выпить за дружбу мужскую. Расставаться, любя, А в душе лютый зной — Я тоскую, тоскую, тоскую.Еда
Почему-то запомнилась фраза Кисы Воробьянинова из «12 стульев», когда он размышляет о том, что голос любимой женщины с годами не меняется, несмотря на все метаморфозы внешности его обладательницы. У меня подобные открытия были связаны с запахами, а также со вкусом той или иной еды, когда всплывали время, место и герои «давно минувших дней».
Однажды во время концерта ко мне на сцену поднялась девушка с букетом цветов. Я наклонился к ней, чтобы дежурно поцеловать в щеку, и вдруг меня обдало ароматом ее духов, ее самой…
Я не занимался ни в тот момент, ни позже, после концерта, анализом составляющих запаха, но у меня сразу же возникла картина: Черное море, Джемете, пляж и, конечно, девушка, с которой у нас тогда был красивый роман. И, наверное, я мог бы в те годы взять ее след и, как преданный пес, отыскать и спасти мою избранницу. Причем сказать, что П. Зюскинд списал героя своего «Парфюмера» с меня, было бы неправдой, потому что, когда жена нынче, демонстрируя свои новые духи, спрашивает:
– Ну, как?
– Да неплохо, очень свежий весенний запах, он будет хорош в твоей коллекции, – блею я.
– Какой свежий? Он, наоборот, очень терпкий.
– Дорогая, извини, у меня сегодня нос заложило.
И вот те на… А в тот раз отчетливые видения, аромат моря, аромат девушки. А может, все это я в тот момент придумал? Ну а если и придумал, то все равно я совершил удивительное путешествие во времени, и спасибо той зрительнице за ее букет и незабываемый аромат.
Как ни крути, память хранит какие-то звуки, вкусы, ощущения от прикосновений, полученные и запомнившиеся в момент первого впечатления от них. Потом были другие, но они были не столь ярки, как первые, и поэтому не оставляли такого следа. А если были яркими, то находили себе место на соответствующей полочке в моем компьютере. И комплекс воздействия на органы моих чувств включал ЭВМ моей башки, и, проведя соответствующей анализ, мозг выдавал соответствующий ответ.
Однажды зимой, находясь на море в районе Анапы, я никак не мог понять, почему не получаю положительного ответа при идентификации «море не море». Чего-то мне не хватало… Причем температуру воздуха и воды я исключил из своего анализа. И я понял… Не было слышно привычного летнего стрекота цикад, без которого для меня не существовало ощущения Черноморского побережья.
Слуховые, зрительные, осязательные ассоциации, конечно же, меняются. И возраст не является лучшим хранителем способностей их улавливать. Со вкусовыми дело обстоит несколько иначе. Мой друг Ю. Валов часто говорит фразу: «Как я могу объяснить человеку вкус соленых огурцов, если он их ни разу не пробовал». И слово «пробовал» в этой фразе для меня ключевое. Мои сверстники и я родились вскоре после окончания войны. Голод 1947 года, о нем написано-переписано, а я в этот год родился. Как меня кормили тогда, сейчас трудно судить, но я думаю, как младшему в семье, мне что-то там подбрасывалось. А еще, и это я отлично помню, мне вменялось в обязанность выпить ложку рыбьего жира. Это отвратительный напиток, но, говорят, что он всех моих сверстников спас от рахита. Говоря «отвратительный напиток», я имею в виду его вкус. Сейчас слышал, что его прописывают дистрофичным детям, но они его принимают в капсулах и поэтому даже не представляют тошнотворный вкус этой маслянистой жидкости (читай определение про «вкус соленых огурцов»).
Жил я, если кто помнит ранние произведения писателя В. Малежика, полгода в Москве, полгода в деревне Занино. В деревне было, конечно, сытнее: корова, солонина, с июня в лесу грибы-ягоды, рыбалка. В июле появлялись огурцы, а в начале августа – картошка. А мед прошлогодний и этого года, когда из медогонки тебе наливают тарелку свежего гречишного или липового, кружка молока и кусок только что испеченного кисло-сладкого заварного хлеба! Ничего более восхитительного по вкусовым эмоциям я не ел.
И сейчас бы рванул в любой далекий ресторан, чтобы окунуться в ту вкусовую гамму. Какие фондю, какие там пармезан и паста?! Смыв с рук верхний слой пыли и грязи и не заморачиваясь, что не отмыл цыпки, вытирая рукавом или тыльной стороной ладони нос, садился я за стол, и бабушка наливала из махотки кружку холодного, только что из колодезя, молока. И, заталкивая в рот эту немыслимую вкуснотищу, помогая себе пальцами, в три глотка проглатывал молоко, хлеб, мед, а потом еще картошку с пенкой, «как ты любишь». И летел во двор с куском хлеба, на котором были соль с подсолнечным маслом и зеленый лук. И тебя ждали ребята:
– Сорок восемь – половину просим, – кричали ребята и получали свою заслуженную половину, но мог и я, опередив дружков крикнуть:
– Сорок один – ем один.
И не было в этом жадности, а была всего лишь игра. И мы шли на пруд или на канаву. Канава – это была лесополоса вокруг деревни Занино, она отделяла барскую усадьбу от остальной деревни, и там у нас были излюбленные места для игры в войну и пряталки, в казаки-разбойники и в ножички. А еще мы шли в лес и в поле и собирали какие-то корешки и стебельки – жевали их и, думаю, как собаки, уходящие во время болезни в лес, улучшали свой иммунитет.
Что греха таить: гнезда птиц мы, правда, не разоряли, но влезть в гнездо диких пчел и шмелей – милое дело. Вкусно? Да… И опасно, особенно если это «кувшин» шершней. И тогда наперегонки в речку, кто быстрее – или ты нырнешь с головой под воду или тебя покусают и потом дня три ходить с опухшей мордой, так как лицом это назвать сложно.
Сейчас маленькая заметочка-рецепт, которая может быть использована в какой-либо кулинарной программе ТВ. Лет в одиннадцать меня стали отпускать ночью в кино. А поскольку в нашей деревне этих фильмов не крутили, мы шли в соседние деревни за 3–5 километров от Занино. Возвращались домой под утро, в полтретьего-три. Я ложился спать, а в полшестого бабушка меня будила то ли на ранний завтрак, то ли на поздний ужин. Назовем это «ночное». Из печки доставалась алюминиевая миска с моей любимой «картошкой с корочкой», наливалась кружка молока, я брал свою персональную ложку со свастикой на черенке, которую во время войны бабушке подарил какой-то солдат. Трофейная ложка. И я приступал к трапезе. Съедалось, причем с неизменным удовольствием, все, и я снова отходил ко сну, чтобы уже проснуться часов в 10–11.
Так вот он, рецепт приготовления «картошки с корочкой»:
1. В печке готовится картошка в «мундире», если это молодая картошка, то еще лучше.
2. Картошка чистится, режется и солится по вкусу.
3. Затем в чугунок или в горшочек (в моем случае, это была алюминиевая миска) добавляется топленое масло, бьется домашнее яйцо и можно добавить еще сливок.
4. Все это накрывается чем-то, чтобы не попали угольки и ставится в печку. Через час «картошечка с корочкой» золотого цвета, необыкновенно вкусная, готова.
Ни в каких микроволновках, ни в каких духовках наших «чудо-квартир» не получалось подобного блюда. Может, картошка пошла не та, а это весомый аргумент, может, жар, который в печке обладает какими-то специфическими свойствами, но факт остается фактом. И вдруг пару лет назад в ресторане горнолыжного курорта в Шамони мы с женой отведали «картофель по-домашнему». И я вспомнил вкус из своего детства. Мы расспросили ресторатора «как это» и «что это». И он нам поведал свой рецепт, но в Шамони добавили в картофель еще сыр. В русской деревне сыр не делали и дальше простокваши и творога молоко не преобразовывали. Хотя масло сливочное иногда зимой, когда не было большого количества детей, гостивших в деревне, сбивали.
Однажды Слава Тягунов, а нас было четыре Славки, я был Славка Евденин (в честь моей бабушки Евгении Никитичны), а он был Арсюхин или Арсик (в честь своего деда)… так вот Арсик меня подбил, а он был отменный хулиган, драчун и заводила, после очередного кино залезть в колхозный колодец. Добычей были сливки, которые бы мы сняли из фляг с вечерним удоем… И если сметана иногда доставалась, в частности и мне, за столом как соус к картошке или овощам, то сливки – это было заветное лакомство.
И мы полезли в маленький домик, где был колодец и в нем шесть фляг, готовых с утра быть отправленными на молокозавод. У нас было в руках по поллитровой банке, и мы треснули от жадности по три до краев наполненных, наверное, 30-процентными сливками, баночки. Было ли вкусно? Не помню… Помню, что, когда мы вышли на «волю», небо было в алмазах – чуть кружилась голова и в глазах мерцали какие-то звездочки. Печень не взорвалась, ненависти к сливкам с тех пор я не испытываю, но употребляю их умеренно, добавляя в кофе и чай. Приятно, что жадность фрайера в тот раз не сгубила.
Первый раз мясо, парное мясо, я попробовал в 1961 году, стало быть, мне было уже четырнадцать лет. Это произошло, благодаря «горе-реформе» Н. С. Хрущева, когда решили, что ни к чему держать скотину в частных хозяйствах, а молоком и мясом страну обеспечат колхозные животноводческие фермы. И домашний скот пустили под нож, и в магазинах появилось парное, то есть свежее мясо, причем его было изобилие, и оно упало в цене. Это произошло тогда, когда ценообразованием занималось государство, а не рынок. Я был поражен его вкусом, но «праздник жизни» продолжался недолго, и скоро магазины вернулись к торговле мороженым мясом.
Если быть корректным, то годом ранее в том же Занино я присутствовал при процессе умерщвления свиньи, обработки ее и разделки. Но она была убита и приготовлена для свадьбы, которая должна была состояться через два дня. Я уверен, что меня как гармониста пригласили бы на праздник и я бы лишился «невинности» (я имею в виду по отношению к мясу), отведав свежатины, но я уехал домой в Москву, и гастрономическое пиршество прошло без меня. Мне и пацанам, которые крутились вокруг костра, где обрабатывалась шкура убиенной хрюшки, достались уши и хвост. Но это был скорее аттракцион, чем еда. Ну, и слава богу, не подсели на натурпродукт, а то…
А то в деревне Занино была птицеферма, где выращивали кур. Они неслись, мясо куда-то сдавалось. Но не про это будет мой рассказ. Где-то в начале мая в деревне сдохла лошадь… Председатель колхоза, будучи рачительным хозяином, решил, что не надо ее, то есть лошадь, хоронить на погосте, как делалось обычно в аналогичных ситуациях. Председатель принял поистине революционное решение в куроводстве. Он приказал отвезти труп лошади на птицеферму и подвесить ее в курятнике. И что вы думаете? Птицы, как пираньи склевали дохлого коня за полторы недели. Не знаю, дефицит каких веществ они сумели в себе закрыть, но то, что птицы стали агрессивными, – это могу подтвердить, как на духу. Оставив от коняки обглоданный скелет (кстати, его можно было тоже продать или перемолоть на костную муку, просто председатель не догадался), куры стали хищниками. Они начали нападать друг на друга и в кровь клевать туловища, хохолки и прочее. Особенно доставалось той части, которая называется гузка. Все куры ходили с голыми попами и безумно напоминали павианов. К июню (а в конце мая я как раз приехал) двенадцать петухов из этой стаи приобрели все качества бойцовых и гонялись за нами, пацанами, с желанием попробовать «человечины». Так что, может, и хорошо, что я долгое время не ел мяса. Раннее превращение меня в мачо не порадовало бы, я думаю, моих родителей.
Праздники… Советские праздники в Москве и престольные в деревне. В Москве покупалась какая-то колбаса, сыр, делался холодец, резались помидоры, соленые огурцы. Взрослые пили водку и вино, а нам покупалась сладкая газированная вода. Но я не любил помидоры и холодец, и мой выбор был весьма ограничен. Поэтому мой праздник, моя обжираловка, мой обжорный ряд был на площади Белорусского вокзала, где я проедал и пропивал 10 рублей (это еще дореформенными деньгами), которые мне выдавали 1 мая и 7 ноября. Пирожки с мясом и повидлом, мороженое, на десерт леденцы и еще 1 рубль на билет в кино. Восторг!
Первый раз, когда я себя, да и родители тоже, не ограничивал в жрачке, был на Украине в Полтавской области на родине моего отца. Борщи, жареные, пареные куры, сало и колбасы, вареная кукуруза, вареники всех видов, гречневая каша со шкварками. Не знаю, может, свежесть продукта была такова, но я ел все – уминал за обе щеки. Причем московские аналоги подобных кушаний не вызывали у меня восторга и поэтому их уже сто лет не готовили. Последнюю жареную, ну вкуснющую курицу мы съели в поезде, возвращаясь в Москву. Было начало осени, было много фруктов и овощей, поэтому переход на столичный режим питания произошел плавно.
Институт. Три пары, между второй и третьей двадцатиминутный перерыв, и надо успеть прорваться в буфет, отстоять очередь, купить и съесть хоть что-то. Все это делалось в экспресс-режиме, и, наверное, с тех пор я не умею есть медленно. Фраза: «тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу», не про меня. Я получаю удовольствие, проглатывая съестное, как удав. Мне говорили, что это вредно, что это некрасиво, – не помогает. А может, я боялся и боюсь, что отнимут? Надо еще разок прошерстить свое детство. Слышал, что все проблемы оттуда. А потом были ВИА и гастроли. Питание исключительно в ресторанах. Но антрекоты и лангеты не отличались изысканностью. Нас называли кандидатами в язвенники… Чтобы не травиться, мы отказались от рубленого мяса и всяких там солянок, считая, что повара эти блюда могут делать из некондиционных продуктов.
Иногда мы ездили заграницу. Если эта заграница была с суточными, то об этом писано-переписано: суп-письмо, кипятильники, плитки, колбаса и консервы. А если принимающая сторона нас кормила, то тогда шанс вкусно поесть и пьяно попить увеличивался. И, возвращаясь в Москву, мы взахлеб рассказывали о невиданных рыбах и тушах диких зверей на вертеле; о громадных креветках и рыбе, которую мы ели практически сырой. Вот…
Но поездки были нечасты, а желание вкусно поесть никуда не улетучивалось. Грех чревоугодия охватывал артиста, как только появлялась возможность «хорошо посидеть». И это чаще всего происходило, если мы в еще «пламеневские» времена выезжали «культурно» обслуживать наших солдат за границу.
Германия, Чехословакия, Венгрия, Польша. Командиры частей, как будто соревнуясь друг с другом, накрывали столы, которые раньше виделись только в кино, да и то зачастую в бутафорском исполнении. После подобных гастролей мы привозили по 6–8 кг лишнего веса и некоторое время обносили свое туловище подальше от зеркала.
А в одну из поездок на Дальний Восток мы на Сахалине застали период, когда кета шла на нерест. И нам устроили «рыбный день». Давнишняя мечта многих советских трудящихся – поесть икру ложкой – свершилась. Но икра – это было самое простое… Меня поразило рагу из животиков (теши) кеты. Потом мне кто-то объяснил, что сало самое вкусное тоже из животиков. Больше скажу – умеренный животик не портит и женщину, но об этом после…
И наступила перестройка, а мы неожиданно для себя влетели в капитализм, и все можно найти, все можно попробовать, лишь бы были деньги, а они были, ну хотя бы для того, чтобы во время путешествия познакомиться с национальной кухней. И я, да и моя жена, с которой мы все чаще стали путешествовать вместе, не отказывали себе в удовольствии полакомиться национальными изысками.
Иногда нравилось, иногда мы не въезжали во вкус новых блюд. Во всяком случае, ошеломлений, открытий не было. Хотя запомнились рыба Севера, кухня Азербайджана. Запомнилась вечеринка в Кишиневе, когда меня накормили ягненком, вынутым из чрева матери. Наверное, это был ягненок, шкура которого пошла на изготовление меха каракульча. Вкусно.
Африка, Кения, Найроби… Нас, как туристов, отвели в ресторан, где подали ассорти из африканских животных. Там были и жираф, и зебра, и даже крокодил. Мясо крокодила, кстати, было похоже на жирную курицу. Вот видишь?
Однажды я, Татьяна и наш старший – Никита, а это было в дни, когда рухнул СССР, попали в Нью-Йорк. Мы остановились в съемной квартире у Валова. Там в этот момент обитала его мама, по соседству обосновался С. Дюжиков со своей женой. И в один из вечеров мы решили, вспомнив Аверченко и Гиляровского, устроить русский ужин в Нью-Йорке. Закупили водки, картошки, а за разными деликатесами рванули на Брайтон.
– Клара, сколько стоит языковая колбаса? – спрашивала одна продавщица другую в продмаге, характерно грассируя «Р».
– Три рубля 25 центов.
И мы закупили: икры, селедки-залом, рыбцов, всяких колбас, солений. И ужин удался, особенно это будет понятно, если вспомнить пустые московские прилавки того времени.
И сейчас, подводя итог своему гастрономическому экскурсу, скажу, что люблю простую, грубую пищу без особых изысков: картошка, но желательно своя, без нитратов; соленья, мясо нежирное (свинина уже не греет), рыба, лучше речная дикая. Всякую норвежскую семгу из ихних рыбных свинарников ни-ни.
Да ладно уж…
Я начинал эту главу с цитирования классики. И закончу ею же. Курт Воннегут… «Завтрак для чемпионов». Вторая половина ХХI века. Семья смотрит порнофильм. Начинается фильм со сцены, где главный герой ест грушу… Спелую грушу… По его лицу течет сок перезревшего фрукта, герой его вытирает и снова вгрызается в податливое лоно перезревшего плода. На фоне этих кадров идут титры. А затем начинается сам фильм, во время которого целая семья уестествила первое, второе и компот.
Когда я сейчас описывал свои воспоминания о романе Воннегута у меня обильно выделялась слюна. Меня сей факт порадовал.
Мряка
Туман на Которском заливе в Черногории. Облака, заглядывающие к тебе в окно, дождь, занудливо твердящий, что счастье прошло, а солнце, неожиданно прорвавшееся сквозь тучи, требующее не верить дождю, это лишь временное послабление. И ты, сидящий за столом и пишущий и не успевающий за скачущей мыслью, злишься, что не освоил компьютер и прочие прибамбасы современной техники, гонишься за своими рассуждениями, боясь сломать себе шею. И в тысячный раз твердишь себе, что мудрость Проведения рулит тобой и не надо ругаться на плохую погоду. И пускай я не достучусь до своего читателя, читай – слушателя, но те дни, что я под аккомпанемент дождя писал свои «нетленные» строки, я не забуду. Это было что-то… И я боялся, что кончится паста в моей ручке, а я так и не успел купить себе запасную. И опять захватывает дух от того, что мне диктует Провидение, и я стараюсь не спугнуть эту минутку, эту вдохновенную возможность побыть не собой, а… Да отстаньте вы, в самом деле…
* * *
Дождь мешает валяться на пляже, Дождь меня принуждает писать — Иногда пью восторг, иногда просто лажа На бумагу ложится, противно читать. И пишу, словно Нестор, свои летописи. Все, как было, пишу, что-то, правда, забыл. И порой над тетрадкой вселенские выси Тянут снова в полет, чтоб движок не остыл. А зачем я пишу? Честно? Я и не знаю, Что-то тянет к тетрадке, разберусь я к утру. И летает фантазья от края до края. И вот этот полет мне по нутру.Художества
Я часто свои поступки сверял с житием битлов. И, чего греха таить, радовался, когда вектор моего движения совпадал с их развитием. Приятно, что и у них были проблемы с приобретением инструментов и оборудования для выступления на сцене. Даже нам порой было легче. Самодеятельность, развивавшаяся в МИИТе и МГУ, могла снабдить студентов, которые хотели культурно проводить досуг, и гитарами, и какими-то там усилками и барабанами. Но вот беда – гитары не играли, усилки фонили, а, кроме того, если бы мы играли на этом оборудовании, мы бы становились управляемыми. И поэтому все музыканты, которые чего-то добились, ну хотя бы в масштабах Москвы, играли на своем оборудовании.
Сначала это были какие-то усилители типа УМ-50, КИНАП, которые использовались для озвучивания кинозалов. Микрофоны выкупались, я думаю, за бутылку (я в этих операциях не участвовал), в трамвайно-троллейбусных депо. МД-44, МД-45… Посмотрите старые фотографии времен 67–70 годов, маленькие аппараты, умещающиеся в ладонь певца, это те самые микрофоны, которых так не хватало водителям трамваев, троллейбусов и автобусов. А все почему? Мощное развитие вокально-инструментального жанра требовало своих жертвоприношений. Вместо микрофонных стоек использовались пюпитры, а ремни для гитар – это были поводки для собак и патронташи для охотничьего ружья.
– Какой у тебя стильный ремень, – удивился как-то мой сын Иван, наткнувшись на такой ремень-патронташ.
А вот ударные у нас были из ДК МГУ. Причем, установка серьезная «Premier». На переднем пластике большого барабана моя сестра начертала по нашей просьбе «Ребята», и сходство с битлами еще больше увеличилось. У нас было трое поющих: лидер-вокалист и вообще наш лидер басист Коля Воробьев, потом я и поющий барабанщик Саша Жестырев. Второй гитарист Саша Каретников, а сначала Серега Карякин были непоющими, да и гитаристами они были средними. Мы их пригласили временно заменить Юрия Валова – нашего лидер-гитариста, ушедшего в «Скифы», чтобы найти потом хорошего певца и гитариста. В итоге правило, что нет ничего более постоянного, чем временная замена, сработало. Я как-то справлялся с ролью певца и соло-гитариста, а Карета прирос к нам, и мы уже не искали никого ему в замену. Трехголосье у нас было по тем меркам очень приличное и, помимо одноголосых песен битлов, мы могли грянуть какую-нибудь «This boy», «Here, there and everywhere» или «Michelle», а также потихоньку стали в репертуар подпускать песни, которые придумывали сами.
Поездка «The Beatles» в Гамбург, когда они на протяжении нескольких месяцев по 6–7 часов каждый день играли на танцах в ночных клубах Риппербана. Там родился знаменитый звук битлов, там они сыгрались, там они сделали очередной шаг к всемирной популярности.
И в 1967 году мы тоже отправляемся играть, мы едем в спортлагерь МГУ в Джемете, что рядом с Анапой. Мы играли для студентов, и вскоре весть о том, что кто-то в Джемете лихо играет рок-н-ролл, расходится по Краснодарскому краю. И уже на наши выступления приезжает публика аж из Краснодара, Ростова и Новороссийска.
Моя будущая жена, которая в те годы проводила лето в пионерском лагере «Металлург», что был тоже в Джемете, рассказывала, что они с мальчишками и девчонками мечтали сорваться на танцы в спортлагерь МГУ. Мы имели успех, и в свободное от танцев в нашем лагере время нас пригласили играть, уже за деньги, на танцах в Анапе. И там мы впервые столкнулись с интригами, что царят в артистическом мире. Штатный оркестр из 14 человек, я даже запомнил фамилию руководителя – Вепринский, обеспокоенный нашими успехами и тем, что мы его зрителей перетащили к себе, настрочил письмо в Краснодарский обком, что, дескать, мы разлагаем и что уводим людей не в ту сторону. И приезжала комиссия, и мы играли для нее «Фонари» Жана Татляна и «Satisfaction» в ритме вальса, и дядька в тенниске и сандалиях рассказывал, что и как нам надо петь и играть…
Но наш коммерческий успех был настолько заметен, что местные директора все спускали на тормозах, и мы играли «свои буги-вуги» и прочую «волосатую музыку».
Замечу, что Воробьев и я знали так много песен на русском языке, что обмануть комиссию нам не составляло труда, а все эти рок-н-роллы в стиле «краковяка» были из серии «артисты шутят». И мы тоже сыгрались, и в Москве наши песни отлетали от зубов. Нас пригласили в Джемете еще и следующим летом. А когда «Ребята» развалились, профком МГУ попросил меня собрать команду, чтобы «культурно обслужить». Я и Шура Жестырев поехали на юг вместе с группой «Скифы», где играли Дюжиков, Валов, Дегтярев и Коротин. И я не буду занудничать и заниматься анализом творчества, рассказывать, как первый раз услышал Джимми Хендрикса, записи которого привез с собой Дюжиков, и как он мне сначала не понравился, и как потом я его «догнал». Не буду рассказывать, что «Скифы», как и два года назад «Ребята», иногда не доходили до пляжа неделями, потому что еще и днем репетировали. И не до девчонок нам было… От этого рождались слухи, но в те годы секс-информация была не столь распространена, как в нынешнее время, и поэтому…
В этой и в следующих главах я хочу в некой калейдоскопической форме вспомнить то, что было, и пусть это похоже иногда на анекдот, я вспоминаю…
I
Спортлагерь МГУ в Джемете – это территория практически на берегу Черного моря, отделенная от воды дюнами. Песок, песок, песок… Песок на пляже, песок в лагере, в палатках, где мы спим, в волосах, на зубах и в разных там интимных местах. Это мое первое посещение моря, первый отрыв от родителей, первые самостоятельные решения. И юг поразил…
Кто был в Анапе, в Джемете, в Витязеве, знают, что море у берега мелкое, и нужно пройти метров сто, чтобы появилась возможность поплавать. И вот первое мое соприкосновение с водой. Я не представлял, до этого купаясь в прудах и речках Подмосковья, что вода может быть такой чистой. Солнце, преломляясь в мелких волнах, создает на дне рисунок, похожий на кафельный пол. Восторг… Люди, загорелые и молочно-белые, как я, ходят по этой воде, как катера, рассекая неглубокую воду джеметинского пляжа. В это можно не поверить, но в свое первое купание, я увидел дельфина, который плавал между нами, как домашняя собака. Впоследствии я много раз видел дельфинов в природной среде обитания, но чтобы так близко…
Второе ошеломление – божьи коровки. На отдыхающих с неба пикировали стада этих «симпатичных» и, как я думал до этого раза, безобидных насекомых. Они садились на тебя и тут же начинали жрать. Я никогда не думал, что эти твари могут быть такими кровожадными. Приходилось нырять, чтобы как-то от них спастись. Эта атака продолжалась пару дней. Все кусты на дюнах были покрыты этими вампирами, которые забыли, что они, именно они, должны «принести нам хлеба – черного и белого, только не горелого». Зеленые кусты были словно обрызганы кровью.
А произошло вот что… Местные виноградари, или как их еще назвать, решили побороться с тлей, пожирающей виноградники, используя передовую технологию. Где-то там, в каких-то секретных лабораториях вырастили стада божьих коровок, специально не кормили их, и вот они-то, десантировавшись на тлю и будучи голодными, должны были ее, тлю то есть, извести под корень. Но во время операции, когда «коровок» с самолета, типа «кукурузник», забрасывали в тыл врага, подул порывистый шквальный ветер, и «десантуру» отнесло в море. И мало того, что их не кормили перед операцией, так они еще и два дня голодные скитались по бескрайним просторам акватории Прианапья. Короче, обозленные на весь мир, эти милые симпатичные борцы за урожай, которым терять уже было нечего, по ошибке чуть не сожрали меня.
И вот студенческая здравница в Джемете. Сколько же можно было бы присвоить звезд по нынешней системе оценки отелей спортлагерю МГУ? Да думаю – минус одна звезда. Воды не то что горячей, холодной в достатке не было. В рукомойнике – да, лицо, руки, подмышки, ноги – не помню, а тушку, однозначно, нет. Вода – дефицит, и помывочные работы, то есть процедуры, два раза в неделю по два часа. А зачем? Море же есть, там воды хоть залейся.
Туалет… Ну, это отдельная история. Туалет стоял на отшибе территории лагеря, который являл собой палаточный городок, в котором была тройка стационарных строений – столовая; сарай, где мы жили, как в общаге, там же располагался склад, которым командовал Захарыч, колоритный мужик лет сорока, и домик, где квартировался начальник лагеря, там же были медпункт и радиоузел. А туалет, как в армии, с возможностью принять до 10–15 посетителей одновременно. Отделение для девочек и для мальчиков. Заведение было покрашено в белый цвет, наверное, из санитарно-гигиенических соображений, и поэтому с чьей-то легкой руки его переименовали в «Белый дом», в честь знаменитого здания в Вашингтоне, где обитает американский президент.
Процедура, посещения «Белого дома» называлась сходить к Джонсону. Кто не в курсе, Линдон Джонсон сменил Джона Кеннеди на посту президента США.
Мы жили коммуной – группа, поклонники, друзья, примкнувшие к нам девушки. В отличие от армии, где во главе угла стоял устав внутренней службы, у нас был свой конституционный порядок и была строгая регламентация дум, чаяний и волеизъявлений членов нашей организации. Особенно это касалось посещений мистера президента. Чтобы не отвлекать дядюшку Джонсона мелочными просьбами, мы составляли петиции и прошения. Их старались начертать, желательно, на мягкой или на хорошо разминаемой бумаге. Замечу, туалетной бумаги в те годы практически не знали.
Посещение президентского дворца осуществлялось обычно группой, желательно, не менее четырех разнополых особей. Причем это осуществлялось с песнями и танцами. Юноша и девушка, предварительно скатав петицию в трубочку, брались с двух концов за нее руками и, танцуя, отправлялись в «Белый дом». Танец происходил под музыку, обычно звучащую в лагере через радиоточку. Если репродуктор молчал, то посетителям вменялось песнопение и танец. Подойдя к дверям дворца, бумага делилась надвое и оставлялась в «Белом доме», для рассмотрения президента. После возвращения в коммуну «ходоки» отчитывались перед электоратом о результатах своего похода. Ощущения, впечатления подытоживались, и в конце недели проводилось собрание, на котором отчитывались докладчики и строились планы на будущее.
Скоро демократический образ нашей жизни в этом «тревожном» мире был принят и в «других странах», и мы даже под председательством мистера Джонсона проводили уже расширенные саммиты в «Белом доме».
* * *
– Ты гонишь? – спросила меня жена, когда я прочитал этот отрывок.
– Не веришь? Спроси у Кареты… Была еще идея создать пионерскую организацию, уже разрабатывали устав. Там уже было несколько пунктов – пионер не боится волков; для пионера жизнь копейка… Но, не набралось нужного количества членов для будущей организации и поэтому провести учредительное собрание не удалось.
II
Степень нашей загруженности в Джемете была довольно высока, так как, кроме танцевальной программы, нам приходилось еще готовить концерты самодеятельности на вечерах открытия и закрытия каждой смены спортлагеря. Чаще всего участники будущего концерта пели какую-то известную песню или исполняли танец, и мы аккуратненько аккомпанировали, не сильно загружая себя творческими поисками.
А в тот раз… Инициатива исходила от меня. Как это часто бывает, я, неожиданно даже для самого себя, с прямотой и нахальностью пятилетнего ребенка набросился на очень яркую с необычной, нерусской внешностью девушку, которая скромно слушала нашу репетицию, не вмешиваясь в ее процесс. Она была одета в сарафан и какие-то шлепки. Иссиня-черные волосы, густые и какие-то непокорные, казалось, были разбросаны по плечам в результате взрыва. Глаза, ну, как вам сказать… Помните мультфильм «Корова и Крокодил»? Так вот у нее глаза были, как у героини этого мультика. Какие-то нереальные и влажные. Сарафан скрывал-открывал ее достоинства в той мере, чтобы они оставались загадкой, но влекли к себе, как загадка. Что-то я запутался. Вообще она была такая Шахерезада Ивановна. И, наверное, оттого, что я запутался, и оттого, что у меня заглючил мой компьютер, тот еще, образца 1968 года, компьютер, я выпалил:
– А ты кто?
– В смысле?
– Ну, как тебя зовут? Русская ты студентка, нерусская?
– Зовут меня София. Я – русская студентка, просто мои предки ассирийцы.
– О, – простонал я. – А тут чего ты делаешь?
– То же, что и все, – отдыхаю.
– Ассирийка, так ты, наверное, и танец живота могешь? – брякнул я. Гитара в руках делала меня отчаянно смелым.
– Могу, я думаю… Только где мы костюм для этого достанем?
– Чего проще… Каким он должен быть, из студентов мало кто знает, – не унимался я, – купальник же у тебя есть, а это главная часть костюма. Ща, я сгоняю на кухню и достану там или в медпункте какой-нибудь марли или бинтов. Мы тебя задрапируем и вечером – вперед.
Напор мой был настолько силен, что София, не успев что-либо понять, согласилась. И закипело дело. Соньке и ее подругам дали пару часов на подготовку костюма, а мы решили что-либо придумать по части музыки.
Воробьева не было, не помню, почему, и мы, подумав, решили, что коль шоу костюмированное будет, то неплохо и нам внести какой-то вклад в это дело. Жестырев достал литавровые палочки и на томах начал играть какие-то восточные ритмы. Я взял бас-гитару и начал без затей дергать одну струну, не утруждая себя архитектурными изысками. Каретников нашел отвертку и начал ею водить по грифу гитары, извлекая звуки, похожие на звуки слайд-гитары и ситара одновременно. Колорит, восточный колорит, получился. А вскоре пришла София. Она скинула халатик, и мы обомлели. Молодое воображение нарисовало, да чего там нарисовало, там и рисовать ничего не надо было. Ну, хороша, ну просто хороша. А Воробьева все не было…
– Оденься, – скомандовал я.
– А танец?
– Мы верим, что все будет классно… Оденься, чтобы никто не увидел, пусть это будет сюрприз для всех ребят.
– А что, если я из полотенца сооружу Шурику…
– Какому?
– Ну, вашему барабанщику, чалму или тюрбан.
И она как-то хитро намотала ему на голову полотенце, и наш Шурик, у которого в тот момент на лице была заметная борода, превратился в Синдбада-Морехода.
А Воробьев так и не пришел на репетицию.
И вечером концерт. Мы играем какие-то рок-н-роллы, поем, как говорили многие, двусмысленную песню, «Встань поутру», мною придуманную как гимн спортлагерю «Джемете». Потом были какие-то песни под гитару. И наконец наша бомба – София с танцем живота. Куда смотрели идеологические власти МГУ, почему была пропущена эта аморалка, но что было, то было. И София стояла где-то рядом с нами в своем халатике. Жестырев снял футболку и надел свой тюрбан. Мы с Каретой оголили свои туловища.
– Пойду покурю, сколько ваш живот будет длиться? – спросил Воробьев.
– Да минуты четыре. Может, останешься, посмотришь?..
– Не, лучше покурю.
Воробьев ушел, и Сонька скинула халатик и выпорхнула, хотя при ее формах слово «выпорхнула» не отражает точно процесс появления нашей восточной красавицы на сцене.
Обычно территория танцплощадки была заполнена танцующими, а сейчас никто не танцевал, и все, спрессованные, стояли вокруг нашего импровизированного театра… А еще концерт открытия, короче, переаншлаг. Публика, нужно заметить, была крепко подогрета разливным рислингом, что можно было практически за бесценок приобрести у Хоттабыча, армянина, который торговал домашним вином у себя в доме сразу за забором спортлагеря. Причем торговал круглосуточно. София вылетела на сцену, и зрители взвыли от восторга. Причем окрас этого вопля был осязаемо мужской. Почему полураздетая, нет, полуодетая, нет, все-таки полураздетая женщина оказала такое влияние на полупьяных, нет, полутрезвых, нет, все же нетрезвых самцов, я не знаю. Буквально в двухстах метрах на пляже в еще более открытой одежде ходит, лежит, плавает толпа женщин – смотри не хочу, и никто не орет от восторга. А тут… Может то, что она была одна, а смотрели все? Фрейд, где ты?
И начался танец. Сказать, что это был выстроенный танец с завязкой, кульминацией и развязкой – не скажу. Были движения в стиле Бори Моисеева, но и мы елозили по грифам и томам довольно сумбурно. Но Сонька, сама Сонька было хороша!
– Ну, как живот? Шура, ты у нас главный ценитель…
– Коля, я сидел сзади и поэтому живота не видел, но ж… скажу я тебе – три октавы.
Октава – интервал в музыке в шесть тонов, например до-до. На рояле этот интервал берется обычно большим пальцем и мизинцем. А в нашей компании октава – это еще мера длины, как локоть, например. Что интересно, это мера длины не зарегистрирована в палате мер и весов в Париже.
И Коля увидел Софью в красоте ее успеха. Увидел, влюбился и бурно ухаживал, и какое-то время она была его любимой наложницей.
III
Все его называли Захарыч, и я ни разу не слышал его полного имени, да, честно говоря, никого это и не интересовало. Он охотно откликался на свое отчество и никогда не качал права – дескать, я старше, а ты пацан. Был он лысым (как в те времена говорили, подстрижен под Котовского), в общем-то незлопамятным, добрым дядькой. Судя по всему, он был из бывших спортсменов и работал в МГУ на кафедре физкультуры. Как я сейчас понимаю, он был в Джемете по хозяйственной части и первым приезжал и последним уезжал из спортлагеря. Как Мойдодыр командовал полотенцами и мочалками, так Захарыч верховодил матрасами, подушками, одеялами. Это была валюта Захарыча, это были ключи Захарыча к сердцам чаровниц, прибывающих в Джемете. Уж не знаю, устраивал ли он дефицит на рынке постельных принадлежностей, но около входа на склад-опочивальню Захарыча постоянно тусовалась пара-тройка девчонок вполне кондиционного вида. Одеяла и подушки не были конвертируемой валютой, и в очередной раз жертва ускользала из ловушек, расставленных Захарычем. И он безобидно, но достаточно настойчиво завидовал нашему успеху у девчонок. Как я не знал его имени, так он не знал ни фамилии, ни имени, ни тем более моего отчества, и величал меня не иначе как Артист.
– Здорово, Артист.
– Здорово.
– Ну, что, опять к вам в сарай очередь девчонок?
– Да какая очередь, всего-то три…
– Учти, Артист, не будешь делиться, придется сообщить в деканат о твоем моральном разложении.
– Да я не разлагаюсь, наоборот, крепчаю. Смотри, как я накачался.
– Ты не переводи стрелки… Я же тоже еще интересуюсь.
– Хорошо, я попробую договориться.
Я не договаривался, и снова он меня пугал, и снова я не пугался.
А однажды ко мне подошла одна из наших чемпионок, отдыхавшая в Джемете, и пожаловалась, что Захарыч перешел к активным действиям.
– И он не только меня достал. Еще пара девчонок на него мне жаловались, – подвела итог Лариса. Ну а потом продолжила: – Слушай, а может его проучим?
– Да нет, лучше разыграем. Он же в конце концов мужик, и, по определению, должен ухаживать, – ответил я.
– Тебе хорошо, ты – парень, а мне-то противно, я, конечно, могу его просто отлупить, я же…
– Да, ты же… Знаешь, давай все-таки разыграем, а там, как покатит.
И я в качестве ахейца, дары приносящего, явился к Захарычу.
– Захарыч, я договорился.
– О чем?
– Ну, ты меня просил подогнать тебе девчонок, вот я с одной договорился. Сегодня вечером, после ужина жди… Только ты уж бутылочку, закусь, ну, сам понимаешь…
– Все будет в лучшем виде. Я твой должник.
«Какая же я сволочь», – думал я, отправляясь к Ларисе.
– Ну, к кому он еще прикапывался?
– Лучше скажи, к кому он не прикапывался, – ответила Лариса.
– Класс… Одну из своих подружек отправляй к Захарычу от моего имени. Ее там ждет бутылочка вина, скромная, но добротная закуска, пять матрасов, а подушек, сколько она захочет. Кстати, она у тебя не Принцесса на горошине?
– Да, конечно, принцесса… Наша, классная девчонка-гандболистка.
– То есть удар с правой…
– Нет, с левой, она – левша!
– Ну, вот и ладушки… А через пятнадцать минут запускаем тебя, и ты устраиваешь сцену ревности. Он же тебя, небось, к себе тоже зазывал?
– А то?..
– Вот ты и созрела.
И был водевиль, и была сцена ревности, и погоня за Захарычем вокруг стола, и крепкие удары по спине и по шее двух рассвирепевших фурий. И были угрозы расцарапать лицо в кровь.
И Захарыч присмирел и даже не пытался составить логическую цепочку Артист-Захарыч-студентка-красавица-ревнивая олимпийская чемпионка. Хотя иногда он как-то странно поглядывал в мою сторону. А я тогда чувствовал себя провокатором, сдавшим Захарыча «бабскому гестапо»!
Но старая истина, что «на каждый товар есть свой покупатель», сработала и в этот раз. Через некоторое время мы заметили, что наш сосед по сараю Захарыч закрывает дверь в свои апартаменты, и долгое время сквозь дырки в стене проглядывал свет из покоев нашего ловеласа, и иногда слышались сдержанный женский смех и другие характерные звуки.
Не зря же говорят, что лысые – отменные любовники.
IV
Как грустно, что мы с развитием демократии и всего остального, что с этим связано, в частности с развитием рынка, теряем очень многие вещи, которые не только радовали нас, а зачастую позволяли гордиться собой как нацией, но, кроме того, эти «вещи» зачастую являлись для многих смыслом жизни и средством все той же жизни. Это касается и науки, и искусства, и спорта. Сейчас я хочу перейти к воспоминаниям о вине, об анапском вине, которое я любил и которое потихоньку исчезает с наших столов.
Мы играли в Джемете, и как я уже рассказывал, на наши танцули собирались ребята и девчонки со всего окрестного побережья. Со многими из них мы подружились. Мы выросли, они выросли… Я стал тем, кем стал, а ребята из Джемете и Анапы выучились, и многие из них стали заниматься виноделием, которое было одним из основных производств на побережье. Начальство винзаводов в Джемете, Витязево, Анапе на Высоком берегу, в станице Анапской с уважением относилось ко мне, да и я не скупердяйничал и находил время, уже будучи известным музыкантом, каждый год петь для своих друзей этакие концерты-посиделки. Застолье с дегустацией продукции винзавода обычно заканчивало нашу культурную программу. Ассортимент вин в первые мои экскурсии-концерты состоял примерно из 15 сортов вин, и мы начинали познание изделий бога Бахуса с белых сухих – рислинг, шардоне, а потом, увеличивая крепость, доходили до «Улыбки», «Черных глаз» и, конечно, фантастического хереса. Причем должен заметить, что за «особые заслуги перед винзаводом» на Высоком берегу Володя Тарабрин, замдиректора винзавода, предложил назвать бочку с хересом, который был мне особенно люб, «бочкой имени Малежика». Последний херес из той бочки мы с женой тайком «под одеялом», ни с кем не делясь (нам не нужны были досужие похвалы вину, мы и так все знали), приканчивали этой зимой.
А тогда, каждый год, приезжая на гастроли в Анапу, я завлекал трех-четырех человек из особо отличившихся на дегустацию. Но вот беда, ассортимент становился все более скудным. Завод на Высоком берегу, да и все другие, которые я нахально называл «мои», не выдерживал конкуренции на рынке. И его продали каким-то ростовским бизнесменам. Те обещали продолжить винопроизводство… Но о чем вы говорите?! Около семи гектаров земли в центре Анапы – какое вино? Конечно же, там построят гостиницы или торговые центры. Кстати, судьба виноградников примерно та же, что и винзавода. Помните, как в начале нулевых в 35-градусные морозы вымерзли виноградники по всему побережью?
– Люба, – я обратился к своей любимой подруге, которая была ведущим технологом на винзаводе в станице Анапской, – а сколько виноградники будут восстанавливаться после таких холодов?
– А кто их собирается восстанавливать?
– Как кто?
– Ты что? Продать землю под коттеджи и махом заработать деньги. А вино… О, это длительный процесс. Так что…
Так что осталось виноделие на Черноморском побережье, но не в Анапе. Фаногория, где-то еще в Темрюке, в Новороссийске, в Мысхако… Но там друзей у меня нет, хотя, наверное, можно было бы познакомиться.
А я помню, как в первый приезд в Анапе было несколько дегустационных залов, стояли бочки (такие в Москве использовались для продажи кваса, в которых был рислинг в розлив за 20 копеек стакан. И ничего… Экологически чистый продукт не бил так по шарам, как впоследствии портвейн «777» или водка. Дешевые овощи и фрукты без нитратов – как закусь. Хватит брюзжать…
Тем не менее вернусь во времена спортлагеря МГУ в Джемете. 1969 год. Я и Саша Жестырев вместе со «Скифами» играли танцы в лагере, и, как водится, мы не были обделены вниманием, в том числе и девичьим. Как-то так случилось, что девочка Оля, местная красавица-школьница пятнадцати лет от роду, все чаще оказывалась около микрофонов во время вечерних песнопений наших двух коллективов. Обычно «Скифы», игравшие агрессивный рок-н-ролл а-ля «Rolling Stones», Chuck Berry и даже Jimmy Hendrix, заканчивали наши представления. А мы с Жестыревым отвечали за лирический блок, хотя и не без рок-н-ролла. Вместе с нами играли Сережа Дюжиков и басист Витя Дегтярев.
И вскоре я обратил внимание на Олю. Она невысокая, 162 см роста, но при этом, как это часто бывает с девочками на юге, хорошо сложена. Наверное, мои мужские ахи и охи, почмокивания и закатывание глаз сказали бы больше, чем попытка литературно описать ее достоинства, но могу сказать, что талия и грудь у нашей школьницы приковывали к себе внимание. По каким-то не выясненным причинам, было видно – она о своей привлекательности знала. Кто-то из наших на нее спикировал, и на следующий день Ольга уже загорала с нами на пляже. Для прояснения ситуации замечу, что ко мне из Геленджика приехала девушка Таня, с которой у нас был бурный роман, и я не крутил башкой по сторонам. Вечером Дюжиков отвел меня в сторону и сообщил:
– Собрание коллектива постановило…
– Чего вы там решили?
– Ольга открылась… Она по уши влюблена в тебя…
– А я причем?
– Ты при том… Она в тебя влюблена и мечтает с тобой…
– Ты что, дурак? Ей пятнадцать лет, а потом у меня же Таня.
– Да нет, она мечтает с тобой погулять, просто погулять…
– Ты думаешь, ее влюбленность от этого уменьшится?
– Ты не понимаешь ситуацию… Ее отец работает на винзаводе в Джемете, и она за прогулку с тобой готова принести нам вина с завода. А с Танькой я договорился.
– О чем?
– Ну об энтом… о самом… Она тоже хорошее вино любит.
– А я-то не пью.
– А тебя никто и не заставляет.
И чувство солидарности музыкантского братства победило. Я дал добро на свидание. А Дюжиков с Дегтяревым на следующий день куда-то пошли и притащили три трехлитровых баллона вина, помидоров и винограда.
Вино было отменное. Мы тогда еще не понимали, что стаканами десертные вина не пьют, а если мне не изменяет память, только один баллон был с сухим вином, а остальное вино было сладенькое. Эта операция повторялась несколько раз, и были среди ассортимента такие экзотические вина, как «Красностоп», «Мускат гамбургский». Вообще-то могу чего-то перепутать, если не забуду, надо будет позвонить и уточнить названия.
И я ходил на свидания после отбоя. Чего я ей там плел на дюнах, не помню, но что даже за плечи не обнял – точно. Стихи и песни вскружили голову девушке, хотя она, наверное, задавалась вопросом: «А чего он, в натуре?» Хотя «в натуре» это из более позднего лексикона. А тогда Таня, ну та, которая из Москвы в Анапу через Геленджик, подружилась с Ольгой, и они еще долгое время переписывались. Самое интересное, что Ольга всплыла где-то на Байконуре через 20 лет, где она с мужем и двумя детьми работала в проекте, связанном с «Бураном». Мы радостно встретились и до сих пор общаемся довольно тесно. Моя жена Татьяна нашла в ее лице тоже хорошую подружку.
А вино без меры сослужило дурную службу ребятам. В день отъезда запасы вина в баллонах еще не истощились, и ребята, с утра съев их, пошли прощаться с морем. Прощались с морем, спутали общественный пляж с нудистским и устроили филиал Греческих Олимпийских игр. Напомню, атлеты в Древней Греции соревновались без спортивных костюмов. В итоге в МГУ пошла телега об аморальном поведении музыкантов. Были нервы, самобичевание, но все как-то в Москве забылось, и санкций не было.
И еще про анапское вино. На ТВЦ была передача «Острова В. Малежика», где я рассказывал о людях, повлиявших на меня и сформировавших меня. И я предложил сделать передачу об анапском вине. Написал сценарий… Было три истории, каждая из которых могла стать основой для фильма. Первая – история любви одного из виноделов Анапы к приме театра оперетты в Краснодаре. Влюбленный винодел создал чудесное вино, которое назвал «Улыбка», а художник, оформлявший этикетку для бутылки, нарисовал возлюбленную винодела. Наверняка многие помнят и это вино, и этот торговый знак. К тому же в тот момент героиня той истории была жива, и можно было сделать с ней интервью.
Вторая история касалась времен Великой Отечественной войны, когда немцы атаковали Черноморское побережье близ Новороссийска. Горком партии Анапы приказал вылить из бочек вино, чтобы оно не досталось врагу. И по улицам Анапы текли реки вина, и жители города, оставшиеся в нем, стояли на тротуарах и плакали, глядя на вино, которое было результатом их труда и смыслом жизни.
А третья история о русском моряке, выкравшем во время экскурсии на винзавод на Португальском острове Мадейра и сумевшем вывезти на ватке в пробирке культуру хереса. И я написал с Ю. Ремесником для этого фильма песню «Изабелла», где героиня песни Изабелла сравнивается с одноименным вином. Все говорило, что фильм получится классным, но не срослось. На телевидении решили, что это реклама для винзавода, и он должен платить. Допускаю, что мелькала мысль, будто я-то получил, но не хочу делиться. Честно, я чист, хотя борзыми щенками, т. е. вином, мне выдавали… Наливали в изрядных, почти в промышленных объемах. И я обиделся и ушел с ТВЦ, а слово «острова» где-то мелькает в названиях передач до сих пор.
Уйти-то ушел, но не успокоился. Вспомнив свои наработки по «скрытой рекламе» (еще во времена «Белого ветра»), я решил попробовать снять клип к готовой и в общем-то неплохой песне «Изабелла». Познакомившись в аэропорту Анапы с кем-то из начальства «Фаногорийских вин», рассказал идею, что, дескать, делаем клип и песню о любви и вино рекламируется двадцать пятым кадром. Взяли неделю на раздумье. Вино, напомню, и песня «Изабелла»… Через неделю отказ, причем мотивировка совершенно неожиданная.
– Понимаешь, Слава, вино «Изабелла», кроме нас, выпускают еще и Молдавия, и Грузия, и в Крыму его тоже делают, а клип оплачивать будем одни мы?
Я развел руками, извинившись за отнятое от процесса виноделия и виночерпия время. В качестве компенсации мне презентовали несколько образцов «ихней продукции».
А песня живет, ее узнают и встречают аплодисментами с первых аккордов.
V
Хорошо ли мы тогда пели и играли? Да, наверное, и нет, и да одновременно. Записей с той поры сохранилось немного. То, что с моим участием мы сделали на радио с группой «Мозаика»? Ну да, песни вроде как ничего, но отделаться от ощущения, что мы поем и одновременно салютуем кораблям, проплывающим мимо под предводительством Мальчиша-Кибальчиша, не могу. Робко, аккуятненько… А что вы хотите? Нельзя это, нельзя то, а потом времени для записи – всего два часа, а хочется записать больше. Никакого отрыва, никакого куража…
Да, это касается не только нас. Вспомните мультфильм «Фильм, фильм, фильм!» Уж как Юра Айзеншпис распространялся, что это прорыв в рок-музыке его группы «Сокол». И что? Да ничего… «Сокола» играют довольно банально, а Леня Бергер и Валя Витебский из группы «Орфей» накладывают вокал на отдельную дорожку. Певец Юра Ермаков – лидер группы «Сокол» слишком фальшиво пел, поэтому на записи этакая сборная СССР по биг-биту. А Шпиц все это дело организовал. Как мы играли и пели в то время, судите по записям Градского и «Скоморохов» для фильма «Романс о влюбленных», отдавая себе отчет, что Александр был признанный лидер московского рок-н-ролла… Инструментальная игра «Скифов», записанная в фильме «Еще раз про любовь», даст вам представление, как звучали лидеры новой музыки в инструментальном изложении. Потом будет «Жил-был я…» Градского и «Любимая, спи…» Бергера на пластинке Тухманова, но это будет потом, а потом, как известно, суп с котом… Но, проведя анализ указанной мной музыкальной литературы, хочу отметить, что все эти записи весьма малое представление вам дадут о том, что было… Был кураж, была бешеная энергетическая составляющая, была обратная связь с залом и одновременный оргазм участников этого действа, и поэтому записи, о которых я упоминал, дадут вам представление о любимом процессе примерно такое же, как пылкое описание «этого» с использованием терминов «тычинка» и «пестик».
И мы пели… И ощущение праздника ни на секунду не прерывалось. Если кто забыл, мы все еще в Анапе и Джемете. Каждодневные выступления приучили к успеху, и мы уже снисходительно подписываем открытки и диктуем слова песен на русском языке, которые мы иногда поем, отложив на потом рок-н-ролл. Особым успехом пользуются «Наташка» и «Прощай, любовь». Наверное, я мог бы посудиться с Демисом Руссосом касательно авторских прав его песни «Good bye, my love, good bye», но я в те годы был великодушен.
Мы «не опускались» до уровня ресторанных музыкантов и не брали деньги за песни, которые заказывали зрители. Но, видно, мало предлагали… Однажды ко мне подошел, я думаю, грузин и, положив 15 рублей, попросил:
– Славик, десять минут, очень прошу, не играйте ничего, мне надо в туалет… Не хочу, чтобы кто-то танцевал с моей девушкой.
– Нет проблем, – ответил я и улегся на сцене диктовать слова «Прощай, любовь».
Вскоре он вернулся.
– Славик, держи, дорогой, еще, пожалуйста «Girl», – и с этими словами положил 25 рублей.
Эти деньги не были лишними в нашем котле и не оскорбили ни меня, ни Жестырева, ни «Скифов».
А потом нас пригласили спеть два концерта на старой еще арене Зеленого театра в Анапе. Нам посулили 300 рублей за концерт. Кто помнит те годы и те деньги, поймет, что это было за предложение. Сказка… Сейчас думаю, как они там убегали от налогов, кому проплачивали, что отстегивали… Не знаю… Хотя мы чего-то подписывали, и билеты продавались. Два концерта – один из которых прошел без проблем, и нам заплатили все сполна, а второй… А на втором что-то… Как потом нам объяснял наш техник Витя Кеда, что-то было с конденсатором, и он накрылся, и все второе отделение из колонок вместо пения и гитарного звука шел постоянный хрип. Зрители кричали, обращаясь в основном к Валову:
– Халтура…
– Бородатый обманщик, верни наши деньги.
В конце концов этот ужас кончился, и администрация парка, где был Зеленый театр, нас оштрафовала, срезав половину стоимости второго концерта. Мы были счастливы, а сейчас я вспоминаю, что деньги зрителям никто не возвращал. Вот так…
Но… Но мы были счастливы. Четыреста пятьдесят рублей. Мы закупили два ящика шампанского и еще три бутылки, чтобы сразу отметить. Решили вечером после отбоя устроить на дюнах пир горой с привлечением всех желающих. А пока три бутылки шампанского и чебуреки, чтобы отметить яркое событие – небывалый коммерческий успех концерта «Встань поутру». И принесли шампанское и чебуреки.
– Слава, а ты что, и сейчас с нами не выпьешь? – спросил Дюжиков.
– Не, успех надо обмыть, – вторил Валов.
– Старичок, не динамь нас, – это уже Дегтярев.
И я согласился, и взял рюмку… Да-да, рюмку, а не бокал, и мне ее наполнили шампанским. Я был решительным, я тоже хотел чувствовать себя мужчиной и работником. Махнув рюмочку шампусика, я решил зажевать ее чебуреком. Практически сразу понял, что что-то не то в этом чебуреке. Надо бы, наверное, рвануть куда-нибудь до ветра, но я побоялся, что меня назовут «слабаком», который даже рюмку(!) шампанского… Короче, я переборол себя, переборол организм и сохранил содержимое у себя в желудке.
А вечером чебурек победил меня. Почему плохо было мене одному, я не знаю. Может, какой-то конкретный кусок рубленого мяса сразил артиста, а может, мало водки или другого спиртного было во мне, чтобы нейтрализовать неприятеля, но факт остается фактом, когда весь коллектив и передовая часть интеллигенции лагеря рванула на дюны уестествлять шампанское, я приступил к медицинским процедурам. Олег, а так звали моего нового друга-врача, промывал мой желудок, кишечник и мозги часа два с половиной. Вода с марганцовкой изливалась из меня, как из унитаза. В промежутках между процедурами я стонал, проклиная себя и пищевую промышленность Анапы. Олег был смиренен. Он отгонял от меня наиболее активных, желающих поучаствовать студентов и еще успевал читать мне лекции, что нельзя в общепите есть жрачку из рубленого мяса, особенно на юге.
А коллектив карнавалил. Шампанское под виноград и шоколадку, песни и танцы под переносной магнитофон… Праздник набирал обороты. И когда мы с Олегом подтянулись, а не подтянуться мы не могли, уже вставал вопрос «не сгонять ли за добавкой к Хоттабычу».
И кто-то крикнул, наверное, провокатор:
– Мальчики налево, девочки направо.
Если вы думаете, что после этого все рванули справлять малую нужду, вы ошибаетесь. Все разделились и все (о, ужас!) разделись. Разделись догола… И вся эта толпа мальчишек и девчонок, только подумайте, в большинстве своем студентов МГУ, рванула в море.
Звучала музыка… По морю рыскали прожектора Анапской пограничной заставы (ну как же, рядом Турция!) и на мелководье джеметинского пляжа этакие содом и гоморра в одном флаконе. Но никто не переступал черту… Купание было исключительно целомудренным. Я думаю, кто-то из свидетелей этого праздника жизни потом проведет первую дискотеку – музыка, полумрак, летающий луч прожектора.
А я, может, обессиленный от водно-марганцовых процедур, может, не дойдя до общей точки кипения, был, как дурак, одетый и в удивлении пытался сориентироваться.
– Слава, это ты? – услышал я голос одного из наших.
– Я.
– Помоги.
– Что случилось?
– Она «умерла»…
– Как?
– Вот так, выпила лишку и «умерла». Надо ее вытащить на берег и сделать искусственное дыхание. Ты за что понесешь?
На руках нашего… ну, в общем нашего музыканта покоилась девушка, ну, так, с недурными физическими данными. До этого я как-то не мог сосредоточиться, что вокруг меня резвятся молодые обнаженные женские особи, а тут… Конечно, их было много, а тут была одна. Ну, Фрейд, погоди! Мы на пальцах кинули, и мне досталось нести девушку за ноги. Она была не тяжела, но от этого не становилось легче. Хорошо, что я не успел присоединиться к компании и был одет, а то, дон Диего, могло бы неудобно получиться (это я анекдот цитирую). Мы вытащили ее на берег, подскочили ее подружки, и вожделение прошло.
– А ты чего одетый? – спросила одна из девчонок.
– Да меня тошнит.
– А-а-а-а, – сказала понимающе она.
Кода
У музыкантов есть такое понятие – важно как начать и как закончить пьесу. Что там будет внутри, не стоит заморачиваться. Опять же набившая оскомину цитата из Штирлица, что запоминается последняя фраза. Так вот на записи часто используют прием, когда не хочется ставить восклицательный знак, – постепенное затихание фонограммы. А в партитуре пишут – fade away.
И, подумав, я решил отказаться от всяких «продолжение следует» и скромно себя и вас спросить:
– А не замахнуться ли мне на любимого нашего Вильяма Шекспира?
– Слава, ну ты и сказочник! У тебя деревянная нога, как у Смогула, еще не выросла? – спросила жена.
– Растет…
Стихи
И прочее…
Я листал свою жизнь, тусклый свет ночника Позволял прочитать между строчек — Даты, страны, друзья, ночь, гитара, река, Дым костра, ну и прочее, прочее, прочее. Я не мог оторваться, не было сил, Написал впопыхах мелким почерком. Видно, бурно я жил, видно, сильно спешил, И кого-то любил, ну и прочее, прочее, прочее. Да, любил я, пожалуй, как не любить, А любил я всегда, что есть мочи. Иногда и меня могли попросить, Чтоб остался, и прочее, прочее, прочее. А моя королева из прачек была, И мы долгую жизнь проживаем, а впрочем, Я любил, был любим, дети, дом, все дела И, конечно же, прочее, прочее, прочее. Я судьбу продолжаю писать каждый день, И любимый мой знак – многоточие. Не копаю я грядок, о возрасте думать мне лень, Я люблю вас и прочее, прочее, прочее.Про кота, про любовь и про ценности вечные…
На окошке лежит и дрыхнет наш кот, И его не терзают мысли о вечном. Ну, а я не спеша продолжаю полет И считаю те вехи, где путь мой отмечен. Ни забот, ни тревог, бедный ласковый кот, За тебя мы решили вопрос о потомстве. И на крыше весной наш кот не поет, И пожрать нет нужды доставать по знакомству. И не мучит вопрос – есть ли жизнь или нет За последним пределом, ах, бросьте, Коль с косою к вам в гости баба придет, Что сказать ей в приветственном тосте? И поэтому жить и любовь всем дарить, И не думать о дне роковом. Прожит день, значит, скоро весна, И тебя ждут друзья за столом. И решил ты проблемы свои и друзей: Смерти нет, а придет – не узнаешь. Солнце всходит, вина всем налей За любовь, и бессмертным ты станешь. Да, я – врун, да болтун, ловелас, фантазер, Я до края налил всем наркотика жизни. На окошке наш кот свои глазки протер, И зачем мы ему колокольца отгрызли?Нам не узнать про промысел Божий
Нам не узнать про промысел Божий, Наверное, так лучше… И никто предсказать не сможет, Что будет завтра, душу не мучай. Но на Бога надейся, А сам не плошай И на небо ближайшим рейсом Душу не провожай. Ведь столько дел и столько забот, Что снова кругом голова, И высокий души полет Ты закончи, мой друг, сперва. И никто не споет твои песни лучше, Чем ты, и знаешь ведь сам, Что разгонишь песнями тучи И отыщешь дорогу в храм. И не куксись, мой друг, не надо, За базар ты ответишь всегда, А уныние, как и пустая бравада, Смертный грех… Да, да, да.Алтай – раскосые глаза
Я в любимой искал, я в любимой искал свою Шамбалу, Словно Рерих, открыл на Алтае начало начал. Ну, а вечером я зажигал до утра свою рампу И спектакль о любви наш с тобой начинал. Славно Рерих, писал на Алтае рассветы-закаты. Заблудившись, в тебе пропадал-погибал, Но себя не терял, хотя многократно Я в тебе умирал, а потом воскресал. Алтай – раскосые глаза, Где встречаются Бия с Катунью. Алтай снился в сказочных снах В прошлой жизни, счастливой весною. Все пройдет, все пройдет, как минувшее лето, Дай нам, Бог, дай нам, Бог, вернуться сюда. На прощанье ты мне улыбнулась, а это примета, Что мы счастье найдем, а беда – не беда.Достучаться до небес
Я достучался до небес, Хотя был в общем-то застенчив. И было времени в обрез, Но где-то там я был отмечен. И вот теперь не знаю, как, не знаю, где На связь выходит Дежурный ангел, и к среде Он новый стих пришлет мне вроде. Дрожит душа, дрожит рука, Писатель, твою мать, умора, И вновь ложится в масть строка, И лунный свет ласкает шторы. И я кричу: «Ах, сукин сын, Поэт, творец и просто гений!» А на столе мой чай остыл… Не важно, что не платят денег. За этот труд, за этот миг, Ведь вдохновение не купишь. Полет, а это, черт возьми, Не просто так, не с маслом кукиш. И я, дыханье затаив, Боюсь спугнуть свою удачу. Забыл гитару, и она Висит в углу и тихо плачет.Сын снимает кино
Сын снимает кино О себе, мечтая о славе, Ну, а я забываюсь растерянным сном, А советы давать я не вправе. Он не хочет идти по лыжне Вслед за мною, что ж, с Богом. Он не знает, наверное, обычно к весне Стает снег и раскиснет дорога. Ну так что ж, по болотам, коли герой, Ты пройдешь, не боись, свет мой Ваня. А пока что, тебе наказ мой простой — Отдохни, если очень устанешь. И я тоже когда-то плутал по лесам, По болотам, по жизни, по годам. И я верил, как ты, пророческим снам, Не искал я комфортного брода. И сушило одежду мне солнце, а дождь Грязь смывал, хоть ко мне и не липнет, И не ставили часто за жизнь мою грош, А она продолжалась в hard-rock-овом ритме. Слушать Бога в себе и услышать его. Вот и ты, видно, слушаешь Бога. Сын снимает кино, он по жизни бегом, Не судите его очень строго.Заложник совести
Бросать слова на ветер, ну а дождь Смывает след в израненной душе, А дружба побоку, несчастный грош Поможет в день рожденья провести фуршет. Заложник совести… И где же тот ломбард, Что в долларах ее вам оценил? Какая проза, разлюбезный бард, Я понимаю, больше нету сил. Против течения грести и день за днем Насмешки слышать за своей спиной, И предложения – ты заходи, нальем. И сил сопротивляться нет порой. Что ж, по течению легко – кури бамбук И песенки какие нужно пой. Никто не скажет, что отбился ты от рук, И будут гимны в честь тебя всеместно над рекой. Но водопад, пороги, Страшный суд, Где сам себя намерен ты судить. Вот то-то и оно, а легкий блуд Себе прощу, могу и вас простить.Баллада о либидо и о проблемах его отсутствия
Заскочило либидо ко мне вечерком Посидеть, поболтать, почаевничать. Предложил ему текилу и ром. Вот такой я, чего уж нам скромничать. Только либидо меня не поймет: – Алкоголь хорошо, но где милая? Я чуток подожду, а там снова в полет. Видно, стрельнуло нынче мимо я. – Подожди, погоди, хочешь видик включу? Порно к чаю, что может быть лучше? – Милый, если так, то к врачу Обратись и не мучайся. Улетело к себе мое либидо, жаль… Не маячит снова надежда. Ты пришла… Не спеша пьешь на кухне свой чай, Умножая мои неудачи и беды. – Где ты шлялась опять? И зачем мне теперь Твои бедра и грудь, и все прочее? Между ног тишина и верь, и не верь Мне не надо терпеть, что есть мочи. И не будет поллюций, забыт и оргазм. Я о нем только в книжках читаю, Ну, а ты вновь красотка, вот те раз, Честно, слов я просто не знаю.Дрозду
Я вынырнул, Нахлебавшись воды, Нахлебавшись тоски И неверья в спасенье. Я вынырнул, Потому что есть ты. Ты – мой свет и любовь, И надежда и вера В выздоровленье. Ради этого стоило мне утонуть, Ради этого стоило годы скитаться, И несчастия надо было хлебнуть, Чтоб вернуться, Чтоб жить, Чтоб с тобою остаться. Дописать свою повесть — Писать не диктант, А писать сочиненье На вольную тему. Пусть ошибки, невзгоды, Но все это сам. И успеть до звонка — Такая проблема.Колыбельная для внучки Дрозда
Тебе имя Алиса родители дали, Когда ты появилась на свет, А Настасьей уже при крещеньи назвали, Пожелав, пожелав долгих лет. А для нас ты всегда просто внученька. В куклы с жизнью ты будешь играть, А потом ты возьмешь ручку в рученьки Буквы-цифры учиться писать.Припев:
Анастасия-Алиса, Твои слезы-капризы Мы готовы терпеть (2 раза), Твои бабка и дед. Анастасия-Алиса, Твои шутки-капризы, Пусть пройдет много лет, Мы готовы терпеть, Твои бабка и дед. А потом будут ночи – свиданья, Поцелуи и первый букет. Можем мы предсказать все заранее, Жизнь познавшие бабка и дед. Хватит сил нам на радость, а горести Пусть обходят тебя стороной. Счастья двери однажды откроются — Дед да бабка, всегда мы с тобой.Новогодние размышления
Привычной стала ночь на Новый год, Привычной суета и поздравлений лента, И лужи, превратившиеся в лед, И речь очередного президента. И Дед Мороз привычный фейерверк зажжет, Чуть не спалив костюм свой клевый, И размышленья, что же теперь нас ждет, Секреты жизни нам откроют снова. Потом похмелье, утро, суета, Отъезд-приезд, и надо веселиться, А за окошком лепота Взирала на помятые, мля, лица. И новый год пошел вперед, И первый зубик мальчик точит, И все равно – мы счастье влет Подстрелим… Новый год пророчит.Потому что я верю
Завтра снова в поход: Севера, белый день и торосы, А родной ледокол — Снова наш отчий дом. Слово «надо» и прочь, Слово «надо» и прочь все вопросы, Все сомненья остались Для нас за бортом. Я назначу свиданье тебе Поздним вечером, А на Крайнем на Севере, Это конец октября, Ты дождешься меня Свято верю я, Потому что я верю в любовь И в тебя. Словно в детской считалке, Где были мы, не расскажем, Просто верьте, так надо, В корабль и в меня. И любовью своей Льды я вновь растоплю, и награда — Твоя верность в походе Хранит, как броня.Моя Муза – Герой Советского Союза
Что-то располнела моя Муза И на лире не играет. Стороной обходит дачу в Рузе И в Москве меня не посещает. Может, ветренна, а может, обленилась, Может, спуталась с кем, кто моложе? Как стихи писать теперь для милой? И с утра тоска вселенска гложет… Может, милую увлечь бутылкой? Быть как все, без всяких экзерсисов… Но ведь я привык, чтоб было пылко, Как в раю, чтоб сладко пели птицы. А для этого завлечь бы Музу, Чтобы заскочила вечерочком, А пока от борта в лузу Я забью шара и ставлю точку. Белые метели в путь собрались. Вновь зима, замерзнут чувства, реки. Старая струна от лиры завалялась, Надо на гитару натянуть от грифа к деке.Наедине с судьбой
Вот и все… Кончилось лето, И пора возвращаться домой. За всю ночь не нашел я ответа, Все вопросы остались со мной. Не успев дочитать нашу сказку, По-английски покинул твой дом. На палитре засохшие краски, Подсмотревшие счастье тайком. Наедине с судьбой, Наедине с тоской Бокал вина – собеседник мой. Время расплавится, Горечь останется, Просто так ничего не случается. Вот и все… Я испугался, А решение было за мной. Наш кроссворд на троих не решался, Буду жить, опаленный молвой. И не надо искать новой встречи: Не смогу победить я себя. И бредут вдаль, ссутуливши плечи, Мои сны о тебе без тебя.Я сублимирую любовь
Я сублимирую любовь Вот в эти строки, что весною Ложатся спешно вновь и вновь, На Музу гнать, нет-нет, не стоит. Средь бела дня, не позвонив, Пришла ко мне, чтобы остаться. И вот пишу, совсем забыв, Что не хотел я за перо сегодня браться. И я ревную, где же ночь Ты проведешь, моя беглянка? – Мой милый, знаешь, я не прочь С тобой побыть… – Ну, что же, ладно. – Любви восторги будем пить, Читать стихи и песни слушать… Ну, да, я ветренна, прости, Но я твои глаза и уши. Но я – твоя душа, пойми, Полет над миром, над собою… И это – я, с собой возьми Перо, бумагу, остальное. На месте купишь, в небесах Тебе не надо, ведь недолог Полет твой и, увы и ах, Сгоришь ты, как гремучий порох. Поэтому живи, не трусь, А если спросит кто, ответь им: – Пишу я про любовь и грусть, А лето с Музою мы встретим.Только в это мне не верится
Как-то складно строчки Ложатся на бумагу. На деревьях почки, За крыльцо ни шагу. Вася-Василечек ждет на сеновале, Катя-Катерина, разве вы не знали, Что весною ранней расцветают чувства, Что весною парни, чтоб им было пусто? И нельзя перечить Маме и природе. Зябко стынут плечи, Хоть и жарко вроде. Вася-Василечек, потерпи немного, Катя-Катерина, он уж у порога, Ведь весною ранней расцветают чувства, Ведь весною парни, чтоб им было пусто. Ах, весна, весна, весна – затейница Все пройдет, пройдет, все перемелется, Зарастет в саду тропинка И закончится пластинка, Только в это мне не верится.Я не вспомню свои прежние жизни
Я не вспомню свои прежние жизни, Где Наш свет был Тот свет, И закладкой в моем дневнике прошлогодние листья, А ответа как не было, так и нет. И приходится верить на слово тому, кто оттуда вернулся, А зачем, почему и за что – ответ не найти. Ну, а жизнь, словно сон, где я не проснулся, И живу, словно призрак, где путаю Я и Ты. А зачем это знать? От знаний лихие печали… Ну, узнал, отгадал, а дальше-то что? Все короче деньки, наверное, устали, Ну, а ночь для раздумий – самое то. И гоняешь всю ночь свои мысли по кругу, И все чаще склоняешься – жить, чтобы жить, И терпимей становишься утром к жене, к детям и к другу, И не хочешь уже для себя чуток утаить.Гора Мармолада
Мармеладный Король и не знал о горе Мармолада, Что царит над всем миром, – Доломиты внизу. Ну, а мы на подъемник и вверх, покорим Мармоладу и ладно. И не льем от тоски понапрасну слезу. Жаль, Никиты нет с нами – на недельку в Италии, Жаль, что он не узнал Мармоладии вкус, И Татьяна не кажет осиную талию, Ну, а мне остается горнолыжный спеть блюз.Затянуло наш пруд…
Затянуло наш пруд глупой ряской, Камыши зашумели в ночи, А ты мне подарила запретные ласки, О которых даже память молчит. Правда, помню свое исступленье, И как ты все пыталась не закричать. И бесстыдно луна укрывала нас тенью, Позволяя роман нам с тобой дочитать. Помню это мозгами, жалко, чувства заснули. Говорят, это возраст, так тому, видно, быть. Камыши вновь шумят, у окошка на стуле, Свет луны, как когда-то, из прошлого нить.На берегу Томи
На берегу Томи, Где о любви поет Митяев, Где кедры мерили века, Там по весне слетались стаи, И о тебе моя строка. Где люди в гости, как и прежде, Заходят просто, без звонка, Куда я прилетел с надеждой, Что ждет меня твоя рука…И все…
Бескрылые песни паслись на лужайке, Привычно клевали зерно. Друг другу кудахтали старые байки Про женщин, футбол и вино. Осеннее небо звало в путь-дорогу, На юг, где все время весна. Бескрылые песни мечтали напрасно Снести золотое яйцо. А Курочка Ряба была птицей красной, Плевать, что рябое лицо, Яичко снесла и спела так страстно… И ВСЕ!!!Предисловие
У меня есть устоявшаяся привычка читать газеты, просматривать журналы и книги, начиная с последней страницы. Предисловие, написанное другим автором, я чаще всего пропускаю, и лишь прочитав книгу и составив о ней собственное мнение, возвращаюсь к началу и знакомлюсь с оценкой авторитетного читателя, который хотел предварить мое прочтение. Иначе… Иначе, зная мнение критика, я не столько читаю и наслаждаюсь, сколько полемизирую и привожу в заочном споре аргументацию «за» и «против».
Книга, которую вы держите в руках, задумывалась как сборник рассказов и зарисовок, которые можно читать не в строгой последовательности, а как придется, часто даже ориентируясь на название главы.
А что меня заставило поставить главу «Предисловие» в конец книги? Отчасти, конечно, оригинальничанье – знаете, в квартире моего сына Никиты висят часы, в которых стрелки передвигаются непривычно – против часовой стрелки. Внимание привлекает? Да. Но потом понимаешь, что неудобно, хотя это условно, когда-то договорились… И с правосторонним движением автомобилей во многих странах договорились тоже, а Англия и Япония или какой-то Тринидад и Тобаго ездят по-левостроннему, и ничего. Арабы пишут справа налево, и привыкли. Мой младший сын Иван – левша, так он еще до школы буквы писал в зеркальном отражении и пытался читать справа налево. Так однажды, ему было 5 лет, он меня спросил, когда мы стояли в машине на светофоре:
– Папа, что такое ИБЛО?
– Где ты это прочитал?
Он мне показал на рекламу, оказалось – «ОЛБИ».
Поэтому, думая, как начать книгу, я исходил из того, что кто-то рванет ее просматривать с оглавления и увидит предисловие в конце книги. Его это заинтересует, и он начнет читать мое творение с «Предисловия». А если нет, то вернется к началу, где прочтет, что…





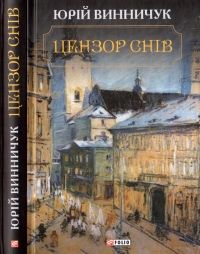







Комментарии к книге «Портреты и прочие художества», Вячеслав Ефимович Малежик
Всего 0 комментариев